В. Коротич Лицо ненависти
Несколько вступительных слов
Снег в Нью-Йорке выпал двенадцатого декабря. Первый нью-йоркский снегопад пришелся на день отлета советских делегаций с заканчивающейся сессии ООН, и белый город, белая взлетная полоса, белые самолеты соединялись в картину начинающейся чужой зимы, из которой надо улетать в собственную.
Мы стояли под холодным ветром на обмерзшем бетоне. Американские власти прервали воздушное сообщение между нашими странами; аэрофлотовскому самолету разрешили прилететь за делегацией, но входить в здание аэровокзала советским людям не разрешили. Все наши чемоданы и сумки были выставлены в снег, черная с подпалинами полицейская овчарка обнюхивала наше имущество: кто-то позвонил в службу безопасности, сообщив, что в багаж советского самолета хотят заложить ящичек со взрывчаткой. Собачка, чей нюх был тренирован на динамит, искала ящичек. Снег набивался овчарке в ноздри, в такую погоду не хотят работать даже ищейки; овчарка вертела мордой и грустно разглядывала людей, которым у нее в стране не нашлось места даже в огромных залах аэропорта имени Кеннеди.
Мы ожидали решений, относящихся к воображаемой бомбе и вполне реальному отлету домой. Я мерз, вспоминая свой первый американский снег этого года: увидел я его месяц назад в городке Лоуренс, в штате Канзас, куда местный университет пригласил меня для чтения лекций.
…Утром на сухих листьях под окнами искрился иней. Шла середина ноября; улетая из Нью-Йорка на запад, я не взял с собой теплых вещей: на берегах Атлантики температура была много выше нуля. Когда я ощутил холодный канзасский ветер, первой мыслью было — спрятаться, запереться в теплой гостиничной комнате, включить кондиционер и отсидеться, переждать первый мороз. Но утром позвонили по телефону, и я понял, что придется выйти на улицу. «Сегодня воскресенье, — говорил мой давний приятель, американец, местный славист. — И даже тебе, известному безбожнику, полезно будет поглядеть, как мы будем молиться. У нас тут на весь университетский городок одна церковь — ты сходи, там тепло…»
Я послушался и пошел.
В круглом зале с колоннами, подпирающими прозрачный свод потолка, стояли скамьи с пюпитрами.
— Помолимся, — сказал человек в зеленой одежде, стоявший в центре зала. — Я помолчу, а вы, каждый про себя, помолитесь — каждый тому, во что верит…
Два гитариста позади человека в зеленом заиграли нечто приятное, и те, кто хотел, запели под эту музыку. Слева от меня маленькая девочка избавилась от маминого присмотра и быстро-быстро поползла между рядами кресел в направлении, ведомом ей одной.
— Давайте подумаем о войне, — сказал человек в зеленом, преодолевая голосом гитарные переборы. — Давайте подумаем о войне, потому что нам надо не только молиться, но и действовать. Война превратит всю эту красоту в пепел: и музыку, и детей, и нас с вами. Мы должны сделать все, чтобы войны не было.
Собравшиеся опять молча задумались о своем под неумолкающие гитары.
— Пожмите руки друг другу, — сказал человек в зеленом. — Поглядите друг другу в глаза и пожмите руки в знак того, что вы желаете мира…
Я пожал руку огромному бородачу справа от себя, затем — мужчине и женщине, стоявшим прямо передо мной. Затем — маленькой девочке, которая уже приползла обратно и глядела на меня снизу, от ножек соседней скамьи. Никто не знал, откуда я, и тем более наша общность была естественной. Мы молчали, глядя на пюпитры перед собой, и мне давно уже, при всем моем атеизме, не было так хорошо.
Собравшиеся не производили впечатления толпы, охваченной чисто религиозными восторгами. Впрочем, они не знали, что через два дня в Чикаго на конференции американских епископов со многими оговорками, но тоже скажут о необходимости бороться за мир, о том, что президент или кто угодно, разжигающий военный психоз, неугоден не только собственным избирателям, но также и богу, в частности их американскому богу, которого никак не могут радовать безработица и смятение души великого народа Америки…
Хорошо, что я пришел сюда, в маленький Лоуренс, расположенный в самом центре Штатов, в один из самых авторитетных американских университетов, находящихся здесь. Я не был в этом городе шесть лет — и хорошо было увидеть, что он разросся за это время, студентов в нем стало больше; так называемая Аудитория Смит, где я начал воскресный день, забывая о холоде и первом своем американском снеге, тоже была построена год назад. Вчера я читал стихи в университете; мы допоздна рассуждали о поэзии и о том, насколько советским людям и американцам необходимо лучше знать друг друга.
Давайте считать, что с этого и начинается моя книга. Не с воспоминания об отлете и о собаке, вынюхивающей динамит, а о степном городке, куда меня пригласили для дискуссий и разговоров о сотрудничестве. Даже не с воспоминания о самом городке, а о немыслимом начале дня в этом странном зале, где молились за мир.
Книга, которую вы начали читать, да начнется со слов надежды, с уверенности в том, что народы наши никогда не столкнутся на поле боя. Не могу придумать лучшего начала для книги, которая писалась в сегодняшнем Нью-Йорке. Да будет мир — рукопожатия знакомых и незнакомых американцев согрели мне пальцы, в которых держу авторучку.
Я много раз уже возвращался к мысли о том, как начну эту книгу. Уже написал почти все, а вступления не было: я все думал, как объяснить себе и вам — и надо ли объяснять? — саму композицию книги, то, почему столько разноплановых материалов сплетается в ней воедино. Книга писалась три месяца — ровно столько, сколько был я на этот раз в Соединенных Штатах, преимущественно в Нью-Йорке; хотелось, чтобы страницы возникали по горячим следам событий и одновременно с ними. После глав будут идти подборки выдержек из американской, преимущественно нью-йоркской, прессы — все это за тот же период, когда я писал книгу; время должно было застыть в своей очерченности, в твердых рамках реальных событий. Книга написана в стране и о стране, где я бывал много раз, где у меня много друзей, которых я от души люблю; книга написана во время, когда страна эта очень тяжело заболела и не могла отдышаться, когда людей пытались испачкать ненавистью, — многих удалось измарать.
Это было страшно. Мне никогда еще с такой отчетливостью не удавалось прослеживать разрушительное влияние ненависти на страну. Ненависть самоубийственна — я всегда это знал, но сейчас в Америке особенно четко понял, насколько это верно.
Если книга, которую вы начали читать, заслуживает того, чтобы пережить события, о которых она написана, то залог тому — лишь в грустной истине, что ненависть бывает долговечна и поучительная самоубийственность ее для иных государств и людей подтверждается снова и снова.
В том же Лоуренсе, будто желая отрезвить меня от доброго приема и добрых лиц вокруг, некто, гостивший там и, судя по табличке на груди, профессор Принстонского университета Герман Ермолаев, сказал мне: «Разрядки вам хочется?! Не дождетесь!» — и я увидел побелевшие от ненависти глаза человека, который, наверное, убил бы меня, будь его воля. Не знаю, кто он и как попал в Америку, но капля нынешней ненависти — и от него, это я ощутил…
Ненависть познается исподволь, не сразу, она — как застывающая смола пушкинского дерева анчар, губительная для окружающих, но вызревшая в том же мире, что и вся остальная жизнь. Это непросто. Диалектика.
Я и сам не сразу в это поверил. Даже когда читал и слушал людей, с чьим мнением охотно считаюсь, тоже не сразу и не безоговорочно приходил к выводу, что ненависть может так основательно перепахать столь многие души и ослепить стольких людей. Впечатления складывались постепенно; ощущая направление изменений чужой жизни, я одновременно понимал, что далеко не все приемлют эти изменения безоговорочно.
Все непросто
«Ты не узнаешь мою страну, — писал приятель из Чикаго, узнав, что я собираюсь в Америку. — Наверное, и я стал другим. Все изменяется, и мне очень хотелось бы ошибиться, когда я думаю, что страна моя с каждым днем становится злее. Мне трудно все объяснить; иногда я думаю, что не надо объяснять все, нельзя быть человеком, который хочет растолковать себе и другим, почему у него именно такой, а не другой телефонный номер. Но все-таки что-то происходит с Америкой, и я пытаюсь понять, что именно».
В этот раз мне не доведется быть в Чикаго: диапазон моих странствий — в радиусе двадцати пяти миль от колонны на нью-йоркской площади Колумба. Поскольку я прилетел на сессию ООН в составе делегации Украинской ССР, есть множество ограничений и правил, распространяющихся по этому случаю на меня. Если я (как это прежде случалось) захочу выехать из Нью-Йорка, то смогу сделать это лишь по специальному разрешению, предварительно объявив полиции, куда следую, по каким шоссе, где буду останавливаться, куда лечу, через какие аэропорты, как надолго и с какой целью…
Итак, в основном Нью-Йорк. Это очень много. Беспредельный во многих отношениях город; целый мир, куда можно легко окунаться и откуда не всегда просто выныривать. Я расскажу обо всем, что здесь произойдет со мной; буду вводить (я предупреждал) в рассказ выдержки из газет и журналов: хочется, чтобы у вас было ощущение истинности, даже документальности рассказанного. Буду приводить имена, даты, названия улиц и домов — все, как есть в действительности. Потому что мне давно уже кажется: реальная жизнь интереснее всех выдумок, и тезис Маяковского о необходимости остановиться на всем скаку фантазий, чтобы отпить «из реки по имени Факт», ничуть не устарел.
…Раз в неделю по телевидению в Нью-Йорке показывают необыкновенно интересные передачи: «Это невероятно» и «Хотите верьте, хотите нет». Рассказывают о событиях совершенно неимоверных, но тем не менее происшедших на самом деле. В начале октября зрителям представляли парашютиста, совершившего поразительный по смелости прыжок. Два спортивных самолета шли параллельными курсами. Из одного на маленьком парашютике выбросили большой парашют, уложенный в ранце. Из второго самолета, что-то в уме просчитав, выпрыгнул человек без парашюта — просто парень в комбинезоне. Он догнал в воздухе свой парашют, который был не так уж и рядом — все-таки два разных самолета, — пристегнулся к нему, открыл и приземлился.
Практически многое в здешней жизни выглядит похоже: где-то летит твой парашют, и где-то летишь ты. За считанные секунды надо сориентироваться, иначе вы оба хлопнетесь об землю и уйдете в нее. Страх при этом постоянен, но его тоже нельзя выказывать; кроме тех случаев, когда окажется, что парашюта нет. Тогда уже все равно…
Я хочу разговаривать в этой книге с вами, с самим собою и с теми, кто ждал меня дома и кому я писал письма.
Письмо (1)
Милая моя, в этой книге непременно должны быть мои письма к тебе. Когда я уезжал в Америку, ты сказала, что там страшно. У меня никогда раньше не бывало страха перед поездкой за океан — никогда прежде, но в этот раз я начал очень быстро понимать, что в стране многое не так, как прежде. Когда ты говорила о страхе, то, верно, вспоминала услышанное, прочитанное в письмах из-за океана, даже понятое сквозь строки. Письма теперь идут дольше, потому что прямого воздушного сообщения между Соединенными Штатами и нашей страной нет уже несколько лет: господин Американский президент запретили… Сразу же можно отчетливо ощутить, насколько добавилось ненависти в Америке; ненависть эта настолько активна, что отчетливо ощущается даже на огромном расстоянии от американских городов и людей.
Ты знаешь, я всегда заинтересованно всматривался в то, что зовется американским духом — даже в самом схематичном, самом упрощенном восприятии его, — будто беседовал с ковбоем с рекламы сигарет «Мальборо». Но за многие годы у нас с тобой появилось немало приятелей и просто хороших знакомых в Америке — врачей, писателей, архитекторов, — я узнал в этой стране немало умных людей, дружбой с которыми вполне можно гордиться. Люди менялись, менялись фермы и города. Меня в Америке обласкивали и грабили, всякое бывало, но ни ты, ни я никогда не боялись этой страны. Когда ты, прощаясь, сказала: «Там страшно», — я подумал, что пройти бы лучше мимо этого страха; вдруг повезет?
А вместо этого я окунулся в страх. Вначале в чужой. Америка никогда не была особенно доброй, но такой злой она тоже не была никогда.
Существует старая и великая мудрость: что народ, угнетающий другие народы, свободным быть не может. Чуть перефразируя этот тезис, можно сказать, что народ, от имени которого пытаются подчинить мир силой и страхом, сам будет изнемогать от ужаса и насилия.
Я — об Америке. Могу так уверенно об этом писать, потому что люди этой страны разнообразны, но в той или иной степени страх уродует их всех. Даже тех, кто создает атмосферу страха (классический пример — в самой же американской истории: бывший министр обороны Джеймс Форрестол выпрыгнул в окно из своего кабинета и погиб с воплем: «Русские идут!» Может быть, пример этот несколько упрощенный, но по смыслу он точен).
Когда я приехал в Америку, сразу же, как делал это прежде, позвонил своим друзьям в разные города и услышал странные голоса в телефоне. Голоса были напряжены, и я перезвонил одним знакомым из уличного таксофона (в Америке это можно — была бы мелочь в кармане), потому что они явно намекнули на то, что видят уши, торчащие из моей телефонной трубки. Конечно же телефонные разговоры можно подслушивать с двух сторон, но собеседники мои явно боялись, что подслушивают именно меня, потому что раскрепостились в разговоре по таксофону и сказали, что после моего последнего пребывания в Америке к ним приходили («Оттуда… Ты сам знаешь, откуда — такая серая мышка с большими ушами и красными глазками»), а теперь, незадолго до моего телефонного звонка, пришли снова. («Нас могут наказать за тебя, а ты знаешь, как теперь с работой в Америке… В наших отношениях ничего не меняется, поверь, но страшно».) Слово «страх» возникало чаще, чем прежде, и в этом тоже была примета обновившихся американских времен; боялся не я: нетрудно было ощутить, что американцев государственно заставляют меня бояться, испытывать страх передо мной в связи с тем, что я советский.
В газете «Нью-Йорк пост» за 9 октября 1982 года карикатурка: два динозавра, забившиеся в пещеру на берегу. Один динозавр грустно говорит другому: «Все равно нас объявят советскими подводными лодками…» И вправду, около двух недель подряд здесь оживленно писали, что у северных берегов Европы окружена и блокирована советская подводная лодка: вот-вот ее подымут — и тогда… Комментаторы, озаботив свои красивые личики, обсуждали с телеэкранов действия водолазов, ищущих оную лодку, и взрывы глубинных бомб, на лодку обрушенных. По мере того как история с лодкой оказывалась все более недвусмысленной брехней, она перекочевывала все глубже в де-
бри газетных полос, и сообщения о ней набирались все более мелкими шрифтами. В конце концов где-то проскользнуло сообщение, что никаких лодок не было в помине. Но провокационный шум запомнился, а опровержения, честно говоря, я так и не сыскал, хотя знал, что оно где-то в глубинах страниц спрятано.
Дело привычное, но в такой концентрации провокационные публикации еще никогда, думаю, не сбивались на американской бумаге, никогда еще антисоветские утки не летали столь плотными стаями. Доведя свой комплекс государственного достоинства до состояния самодовольства, огромная часть американской пропагандистской машины даже не предполагает наличия достоинства и гордости у других. Это ведь тоже от страха — желание приказывать всем и одновременно подозревать всех в недружелюбии и зловредности.
Я устал от нелепого прилежания, с которым киносыщики вот уже который день преследуют на экране моего телевизора «советского шпиона Карлу» (да-да, так его зовут в фильме «Люди Смайли», и тип этот ужасно зловредный; я сам бы с удовольствием такого поймал и сдал ближайшему полисмену). Но дело ведь не в «шпионе Карле» — дело в том, чтобы его бармалейская репутация проецировалась на меня, превращалась в активную ненависть ко мне и моей стране. Для этого многое доводится до полной глупости: когда у советского человека в фильме «Из России с любовью» спрашивают, верно ли идут часы у него, человек этот орет в ответ: «Советские часы всегда идут правильно!» (Кстати, в этом же старом боевике времен Джеймса Бонда на одной стороне двери, ведущей в советское консульство, написано «Пихать», а с другой — «Тащить» — так сказать, для удобства посетителей.)
К этому я буду еще возвращаться не раз: наглая антисоветчина самых разных уровней кружится, насыщая собой воздух, как стая таежного гнуса. Так быть не должно, не может; и так оно продолжается практически без перерывов с конца 1917 года. Иногда становится совсем невмоготу, как сейчас. Стена ненависти, которую умелые и старательные мастера хотят выстроить между нашими народами, бесчеловечна. Она губительна для самих Соединенных Штатов — повторяю это, как заклинание; то, что происходит сейчас в США и в Нью-Йорке, похоже на истерику перед большой бедой. Когда их били во Вьетнаме; когда Белый дом попался на политической уголовщине в гостинице «Уотергейт» и Никсон вынужден был уйти в отставку; когда осложнились отношения с арабским миром, — Америка терпела моральные поражения одно за другим. Их теперешний президент вознамерился отыграться на нас; в его актерстве, которое и в лучшие времена не светилось профессиональным блеском, проглядывает старательность провинциального комика, вознамерившегося сыграть роль короля. Он, похоже, искренне верит и хочет убедить заодно Соединенные Штаты, что не любить их и не принимать их политику безоговорочно может лишь агент иностранной державы либо человек умственно недоразвитый. Повторяются слова о возможности нацеленного на нас «первого удара», о вынесении средств этого удара поближе к советским границам, в Европу, людям внушают, что страна, живущая не так, как Соединенные Штаты, опасна для них каждым днем своего существования, а Советский Союз смертельно опасен с самого своего первого дня. В США уже не имеют работы двенадцать миллионов человек, цены стали высокими, как никогда в истории Штатов. Они и это стараются свалить на нас. Многим здесь вовсе не хотелось бы разрядки в отношениях с нами, многим желательна ситуация, в которой мир с Советским Союзом совершенно немыслим. Когда в конце ноября в местной прессе подряд появилось несколько статей о том, что разрядка в советско-американских отношениях возможна и что вице-президент США Джордж Буш был принят руководителями Советской страны, «Нью-Йорк пост», самая массовая из здешних газет, вынесла сообщение об этом на первую полосу, снабдив его крупно набранной иронической шапкой: «Злейшие друзья». И тем не менее здесь я вклею первую вырезку из американской прессы — мне хочется начать именно с такой вырезки из лоуренсской газеты «Кензан» за 12 ноября: «Около 300 человек собрались в аудитории „Вудрафф“ Канзасского университета для разговора на одну из важнейших на свете тем — о гонке ядерных вооружений. Собрание началось в 11 часов 11 числа 11 месяца года. Эти цифры были признаны достойными внимания, потому что договор, завершивший первую мировую войну, был подписан в 11 часов 11 ноября 1918 года. Выступивший профессор Пекалкевич сказал: „Это ошибка — называть ядерные боеголовки оружием. Оружие применяется для того, чтобы выиграть войну. А в случае ядерной войны победителей не будет. Ядерное оружие — средство массового самоубийства; война с его применением“ пре'длится около получаса и уничтожит не меньше двухсот миллионов американских и советских граждан, сделав 55 миллионов жертв второй мировой войны маловпечатляющими в сопоставлении»… Выступивший затем профессор Пеламбо сказал, что надо проявлять еще больше активности в борьбе против гонки ядерных вооружений и проводить больше митингов, подобных этому.
Как видишь, в Америке еще достаточно разных мнений. Я буду составлять эту книгу из писем к тебе, вырезок из газет и журналов, преимущественно нью-йоркских, преимущественно не очень к нам расположенных, и из рассказа о том, что происходило со мной в Нью-Йорке. Все, что я пишу, — правда; повторяю: все имена настоящие, кроме тех случаев, где меня просили чуть изменить имя или ситуацию, оставив узнаваемым сам смысл события. Но это редко, как правило, та самая «река по имени Факт» казалась и кажется мне более убедительной, чем все искусственные каналы и водоемы.
Итак, я начинаю рассказ и завершаю первое письмо к тебе, в котором привел первую цитату из американской прессы.
Глава 1
Американские мужчины все больше заботятся о себе. По их же отечественной статистике очень многие пользуются после бритья не просто привычным одеколоном «Олд спайс», а двадцатидолларовыми тюбиками дорогого биокрема, посещают косметические салоны и следят за своими талиями не менее пристально, чем их собственные жены. Во всяком случае, с начала восьмидесятых годов мужской косметики продают не менее чем на полтора миллиарда долларов ежегодно, и фирмы надеются довести эту цифру до 2-х миллиардов.
В то же самое время в одном только Нью-Йорке несколько миллионов людей косметикой не интересуются, поскольку у них нет туалетных столиков и денег на биокремы. И спален у них нет. И ванных комнат. Вспоминаю об этом всегда, видя на Второй, Третьей и Пятой авеню молчаливых мужчин с десятилитровыми бутылями. В эту посуду собираются пожертвования для бездомных. Более сорока тысяч человек, которым совершенно некуда приклонить голову, слоняются по Нью-Йорку, восемьдесят тысяч психически больных рассеяны в городе вне лечебниц. Недавно я провел интервью с одной из бездомных: она говорит, что вот уже в течение нескольких лет видит в снах кровать, постель, простыни с подушками — все то, к чему так давно не прикасалась. В конце этой главы я переведу для вас несколько заметок и объявлений, потому что коренные ньюйоркцы лучше знают свои проблемы, и мой комментарий конечно же должен соприкасаться с тем, что сами американцы думают о себе.
Кстати, у меня появилось время делать вырезки и переводить их для вас, потому что я заболел. Наверное, это был так называемый адаптационный синдром — болезнь приспособления к новой среде и новым условиям жизни. Внешне все выглядело как сильная простуда, но на самом деле я приспосабливался жить в Нью-Йорке, занимая свое место где-то между его полюсами, потому что дорогой косметикой после бритья я не пользовался и «кадиллак» с шофером в ливрее к моему подъезду не подавали; но в то же время поселился я во вполне приличном районе — на 64-й улице между Второй и Третьей авеню в хорошей двухкомнатной квартире с аккуратной американской кухней, где газовая плита умеет зажигаться без спичек, лишь поверни краник, а входная дверь открывается прямо в комнату, без прихожей, как в большинстве американских квартир.
Я ощутил, что заболеваю, и решил сосредоточиться на чтении газет и чем-нибудь полегче, потому что все написанное о здоровье и способах его сохранить стало казаться мне необычайно важным. Конечно же мы рабы обстоятельств; то, что обстоятельства первых дней пребывания в Нью-Йорке во многом обозначили и остальные мои дни в этом городе, было, наверное, предопределено: очень уж все естественно складывалось.
Мысль о каких лекарствах первой посетила меня? Ни о каких. Получив когда-то медицинское образование и немного потрудившись врачом, я хорошо усвоил, насколько побочное действие иных медикаментов может быть значительнее, чем их же положительный эффект.
Так что я забросил в чемодан пакет с антибиотиками, вскипятил чайник, открыл банку с медом и включил телевизор. Как раз передавали, что решено ужесточить все виды наказаний за вождение автомобилей в нетрезвом виде и насколько алкоголь вреден для всех клеток и систем человеческого организма. Напомнили, что американцы стали пить чуть меньше: из каждых ста долларов они расходуют на спиртное всего два с половиной, примерно в пять-шесть раз меньше, чем на свои автомобили и все связанное с ними, в три раза меньше, чем на одежду и украшения. И все-таки большинство несчастных случаев в этой стране вызывается пьянством. Согласно журналу «Ньюсуик», в прошлом году автомобили, где за рулем сидели пьяные водители, убили 26 300 человек (для сравнения: в морях и реках Америки за то же время утонуло около 7000 человек, погибло в пожарах — 5500, было застрелено 1800, в авиационных катастрофах разбилось 1200). Короче говоря, внимательно выслушав речи о всей отвратительности пьянства и согласившись с ними, осудив в душе любимца здешних интеллектуалов телекомментатора Джонни Карсона, которого только что арестовали в Калифорнии и лишили водительских прав за то, что он был нетрезв за рулем, я вспомнил, что у меня нет с собой ни автомобиля, ни прав для автовождения. А еще я вспомнил, что одним из древнейших славянских методов избавления от простуды всегда считалась чарка вина.
Система первого удара по моей болезни, таким образом, застенчиво определилась.
А если совсем серьезно, то не раз я встречал за рубежом наших людей, которых дома силком не затянешь за праздничные столы, где пьют, я сам из таких, но за границей они позволяли себе раз-другой выпить в кругу соотечественников или друзей. Меняется ритм жизни, распорядок времени и само время (восемь поясных часов разницы между Нью-Йорком и Москвой очень ощущаются, особенно вначале); я решил, что моя американская простуда, моя заокеанская болезнь адаптации содрогнется и капитулирует от встречи с украинской горилкой.
Это и вправду забавная тема для размышлений о том, как, с кем и что именно мы пьем вдалеке от дома. Я сейчас ухожу от своего — чисто медицинского — случая и возвращаюсь к разговору о культуре общения, о самом общении, которое за рубежом становится иногда главным смыслом поездки сюда. Короче говоря, пьяницы всегда выродочны и отвратительны; нетрезвый водитель — убийца, но без алкоголя и людей, знающих, как с ним обращаться, на свете было бы гораздо скучнее.
Американские «парти» — вечеринки с вином, пивом и несколькими бутылками чего-нибудь покрепче — сводятся к тому, что с пластмассовым или стеклянным стаканчиком в руке ты переходишь от одной группы собравшихся к другой и разговариваешь о делах очень важных, но таких, о которых в другой форме рассуждать вот так просто было бы нелегко.
Мне приходилось видеть, как делают вино у нас в Крыму, на Одесщине и в Грузии, на западе США, — свидетельствую, что занятие это может быть незаконным или законным, но оно неизменно трудоемко, и человек, производящий спиртные напитки, всегда — труженик. А вот человек, оные напитки распивающий, не всегда поддерживает красивую репутацию умных застолий; многие справедливо считают, что он позорит не только дрожащие руки, разливающие содержимое из бутылки, но и руки труженика, наливающие в бутылку. Во всяком случае, несчастные жены пьяниц обычно с большим энтузиазмом ругают виноделов, чем виночерпиев.
Чего я не понимал никогда, это людей, напивающихся в одиночестве, чокающихся с зеркалом, наслаждающихся самим состоянием опьянения и потерей способности четко мыслить.
В любом путешествии рано или поздно настает такая пора, когда ты начинаешь активно мыслить на тему о том, почему, собственно, я здесь, а не у себя дома. Путешествие может быть удачным и неудачным, интересным и скучнейшим, но мысль о своей стране и о людях, оставшихся позади, отделенных от тебя так, что их нельзя видеть по первому желанию, становится время от времени мучительной. А тут еще и простуда…
Я решил обзвонить знакомых. Затем подумал, что, если они заразятся и тоже начнут чихать, жаловаться на головную боль, я себе не прощу. Вот и получилось, что среди чужих, безразличных стен, стульев, кровати, которые ко мне еще не привыкли, я решил немедленно выздороветь и приступил к избавлению от простуды при помощи горилки с перцем.
Бутылка с аппетитным алым перчиком на этикетке стояла у меня в дверце необъятного холодильника фирмы «Дженерал электрик», и то, что поиск ее труда не составил, тоже подталкивало на путь наименьшего сопротивления мужественным методам терапии. Короче говоря, я решился без большого внутреннего протеста и начал прикидывать, чего нарежу в тарелку на закуску, потому что каждое лекарство принимается до, после или во время еды. Целебное средство, избранное мной, надлежало употреблять под жареное мясо, сальце, кусочек селедки или в крайнем случае под огурец.
Ничего достойного моего «лекарства» в холодильнике не было. Я решил сбегать на угол Второй авеню и 64-й улицы, где магазин «А. и П.» (так и не знаю, что это значит) продавал множество вкусных вещей, несомненно усиливающих лечебное действие горилки с перцем.
Одеваться было мучительно. Поясница болела, и эта боль заполняла ноги, даже туфли, которые не хотели на меня обуваться, а затем не желали зашнуровываться. Если бы все это было дома! Тогда я никуда бы не шел и наверняка ничего бы не пил. А здесь — и пойду, и выпью! Многие свои поступки я совершаю на одном упрямстве, на твердой убежденности, что, раз решил, надо выполнять.
Я отправился в «А. и П.», а через двадцать минут возвратился оттуда с баночкой маринованных огурцов и пластмассовой прозрачной коробкой с переложенными луком серебристыми ломтиками селедки. Игра стоила свеч: единственное, чего я боялся, это воспаления легких, потому что не бывает селедки, которая достойна пневмонии. С этой мыслью я отпер дверь своего номера и увидел, что в комнате убирают. Времена суток спутались в моем простуженном воображении, и я забыл, что еще продолжается рабочий день и такая уборка вполне в порядке вещей.
Когда я вошел, женщина в синем форменном платье с названием гостиницы, выстроченным на груди, и с белой табличкой, где было написано ее собственное имя «Мария», выключила пылесос и заизвинялась на каком-то немыслимом наречии, которое, видимо, казалось ей английским языком, но на самом деле явно не было им. На столике-каталке рядом с женщиной лежали стопками полотенца, стояли банки с моющими растворами: судя по всему, она только начинала свою работу, а в мои планы никак не входило дожидаться, пока она закончит ее. «Простуда», — сказал я и для убедительности покашлял, поводил ладонью вокруг своей головы и вдруг вполне натурально, непринужденно чихнул и захлебнулся в лающем кашле. Болезнь брала свое, и я готов был улечься даже в неприбранную постель, потому что стоять было трудно. Мне хотелось разуться, но не умею и не люблю переобуваться при незнакомых женщинах, даже если это гостиничные уборщицы.
Женщина, видимо, ощутила мое состояние, потому что засуетилась, выволакивая из спаленки гору несвежих полотенец и вбегая туда с новыми. Она уже собралась уйти, но вдруг решилась дать мне совет. Я мог бы догадаться, что это произойдет: женщина обязана отреагировать на то, что мужчина болен. Материнский инстинкт плюс вежливость, плюс еще многое; если женщина принципиально не замечает страдающих людей вокруг себя — что-то с ней не в порядке. Мужчины менее отзывчивы.
— Пить «Будвайзер», — сказала женщина на своем загадочном языке, указывая на рекламу пивной фирмы с обложки журнала, распластанного по письменному столу.
— Пиво? — удивился я.
— О, пиво, пиво! Полстакана. — Женщина обрадовалась, что я ей подсказал позабытое слово. — Очень горячее. Сразу. Можно и не «Будвайзер». Другое пиво.
— Может быть, водку?
— Водка нет, — сказала она. — Горячее пиво. Полстакана. И ванна вот до сих пор, ниже коленей. Много соли сыпать ванну.
— У меня нет соли. У меня селедка, — попытался пошутить я, ощущая, как между лопатками медленно сползает по спине холодная струйка пота, и понимая, что ничего хорошего это мне не сулит.
Женщина молчала.
— У меня нет соли, — повторил я. — Спасибо. Нет у меня соли, я уж так.
— Я принесу вам соль, — взглянула женщина на меня. — Банку. В Америке болеть очень дорого. Очень-очень дорого здесь болеть.
— У вас, наверное, много детей? — попробовал я перевести разговор на другую тему.
— Сейчас принесу все, — сказала женщина, уходя. Мне показалось, что, когда она поворачивалась, чтобы выкатить из комнаты пылесос и столик с растворами, порошками и полотенцами, по лицу женщины текли слезы. Знаете, бывает такой бесшумный плач — слезы мгновенно заливают все лицо. Вы никогда не обращали на это внимания? В тот миг я был не в состоянии реагировать на что бы то ни было. Начинался жар, и я уже почти забыл, что приобрел огурчики и селедку к горилке. Пить совершенно не хотелось, но я все-таки открыл холодильник и извлек оттуда заветный сосуд с красным перчиком на этикетке. В Нью-Йорке такие не продаются; здесь полно китайской водки «Великая стена», польской «Выборовой», шведской «Абсолют» и финской «Финляндия», которую готовят исключительно на воде арктических ледников. Здесь полно наших «Московской» и «Столичной», мексиканской текилы, которую гонят из кактусов, джина всех сортов, который пахнет можжевельником, и ста тысяч разновидностей виски, которое получают из чего угодно. Здесь есть великое множество псевдорусских водок, объединенных именами производителей — от Смирнова и Попова до некоего Флейшмана, который тоже выдает себя за бывшего поставщика двора его императорского величества. Есть джин «Козак», водки «Николай» и «Гусар», «Большой», «Пушкин» и «Майор». Есть даже водки «Комиссар» и «Самовар», а вот «с перцем» у них нет. Слабо. Кишка тонка. Я свернул бутылке золотистую шапочку, вскрыл пластмассовую коробку с переложенными луком кусками селедки и потянулся за стаканом.
Нью-Йорк за моим окном дышал еще тяжелее меня, вопил своими автомобилями, грохотал и пел, как обычно. Нью-Йорк был у меня в телевизоре и, кажется, своими микробами — у меня в легких. Надо было нам как-то ужиться на эти три месяца, но вначале я должен был выздороветь.
Пресса
Из газеты «Ауа таун»,
3 октября 1982 г.
«Ежегодно свыше 20 миллионов бездомных животных собирают в приемники. Ассоциация опеки над животными сумела подыскать жилье для 14 000 осиротевших животных, включая 8600 собак. Но приютить необходимо большее количество. В октябре объявляется общенациональный месячник „Приюти собачку“. Все прививки мы обеспечим бесплатно».
Из газеты «Нью-Йорк таймс»,
19 октября 1982 г.
«В прошлом месяце количество бездомных в городе превысило 36 000 человек. Четыре года назад в городе было только 1800 коек для бездомных людей, сегодня мы располагаем 4350 койками. Этого мало».
Из газеты «Нью-Йорк таймс»,
24 октября 1982 г.
«Можно арендовать целые этажи в доме № 350 по Парк авеню (между 51-й и 52-й улицами), можно снять и квартиры, расположенные на нескольких уровнях, все на ваш выбор. Это хорошее вложение капитала».
Из газеты «Русский голос»,
18 ноября 1982 г.
«Было около семи часов вечера, когда, надев простую куртку и джинсы, я пришла в ночлежку. Служительница заявила, что меня повезут в ночлежный дом в Квинсе, а пока я должна принять душ.
В обшарпанном маленьком коридорчике я стала ожидать своей очереди. Наконец служительница отвела меня в комнату, где сразу ударил в нос запах немытых тел и застоявшегося табачного дыма. Бросив мне полотенце, уже много раз бывшее в употреблении, она указала на дверь душевой и предупредила: „Закрой дверь на задвижку“. Душевая была мрачная, с многочисленными дырами в стене, поломанными крючками для одежды, куском грязного мыла и лужами воды на полу. Бумажных салфеток не было, зато жуки и тараканы ползали всюду.
Помещение, куда нас ввели, напоминало больничную палату тюремного госпиталя: в длинном зале рядами стояли железные кровати. Меня подвели к одной из них, покрытой пожелтевшей простыней, в изголовье валялась подушка без наволочки, вся в пятнах. Многие спали, укрывшись с головой простынями, и только одна, в углу, включила свое радио.
Всю ночь я так и не уснула.
В 5 часов 45 минут утра служительница включила свет. „Время вставать!“ — крикнула она, и женщины послушно начали подниматься».
Глава 1 (окончание)
Я даже не заметил, как прошло время — почти полчаса-с той поры, как я свернул головку холодной бутылке с перцем. А на часы я взглянул лишь потому, что в дверь постучали. «Ну вот, — сказал я сам себе, — едва ушла одна собеседница с пылесосом, как еще кому-то я вдруг понадобился». Но за дверью стояла все та же горничная в синем платье с гостиничной нашивкой и табличкой «Мария» на груди.
— Я вам соль принесла, — сказала она на своем вроде английском языке. — Обещала и принесла. Сделайте, пожалуйста, ванну для ног, и все пройдет.
— Входите, — сказал я, хоть на самом деле мне было не до нее: водка еще не подействовала, а зловредные вирусы с микробами действовали полным ходом. — Большое спасибо.
Не переступая порога, женщина протянула мне круглую синюю картонную банку поваренной соли с алюминиевой заслоночкой на крышке. Она поглядела на меня и мимо меня, вначале, видимо, машинально, а затем потому, что увидела початую бутылку, обращенную этикеткой ко входу.
— Откуда это у вас? — спросила женщина не на иностранном, а на самом что ни есть украинском языке и вошла в комнату.
Она устремилась мимо меня к бутылке, где покачивалась красноватая поверхность едва початой горилки, подошла к столу и, не прикасаясь, внимательно разглядела этикетку.
— Это вы здесь купили? — спросила женщина, с трудом выстраивая английские слова в связный ряд.
— Нет, не здесь, — сказал я по-украински. — Лекарства надо привозить из дому. Вы же сами сказали, что болеть в Америке дорого стоит.
Женщина ничего не ответила. Она отошла от стола, медленно подняла на меня взгляд и уже куда увереннее и независимее спросила:
— Вы здесь постоянно живете или приехали? — В Америку все приехали.
— Вы понимаете, о чем я спросила.
В голове у меня со звоном постукивали простудные молоточки; я понимал, что если после выпитой водки займусь разговорами с незнакомой мне Марией, которую полчаса назад увидел впервые в жизни, то ничего хорошего из этого не получится.
— Милая Мария, — сказал я по-украински, — у меня, вероятно, грипп. Это очень неприятная болезнь, и я не хочу, чтобы вы ею заразились. У вас, наверное, дети есть, и…
Женщина заплакала. Я убедился, что, когда в прошлый раз выходила из номера, она тоже плакала; слезы текли по лицу неудержимо, но женщина даже не всхлипывала. Ситуация становилась довольно нелепой. Раскрасневшийся, попахивающий водкой мужчина, початая бутылка на столе, плачущая женщина рядом — лучше не придумаешь.
— У меня сейчас нет детей, — сказала Мария, и голос у нее был спокойный, ровный, хоть лицо оставалось мокрым, а слезы продолжали струиться. — Я пойду приготовлю ванну для вас, вы же на ногах не стоите, — сказала она и ушла в ванную комнату.
Она хозяйничала там шумно и уверенно, совсем не как служанка; я понимал, что в моем положении остается лишь подчиниться любому распоряжению, отдаваемому деятельным человеком, который знает, что я болен.
Все было странно.
И то, что я захворал, и то, что у меня в номере убирала именно эта женщина, и то, что она сейчас сыпала соль в воду, готовя для меня ножную ванну.
— Мария, — позвал я, — откуда вы взялись?
— Не бойтесь, — сказала она рассудительно и взглянула прямо на меня, отряхивая мокрые руки. — Я уже уволилась из гостиницы. Вернее, меня уволили. Но в том, что я готовлю для вас ванну, ничего странного нет. Странно, что мы с вами разговариваем по-украински, ничего друг о друге не зная.
— Почему? Дома я постоянно разговариваю по-своему и не всегда ведаю с кем.
— А где дом ваш? — спросила она.
— В Киеве, — ответил я и понял, что она ждала этого ответа и побаивалась его, потому что у нее-то дома там не было.
Я хотел еще о чем-то спросить, но сказал совсем другое, потому что устал разговаривать и размышлять, да и происходило все как-то странно.
— Уважаемая Мария, — буркнул я, — вы, если хотите, разговаривайте со мной отсюда. А еще лучше — приходите завтра. Мне надо лечиться. Спасибо вам.
— Завтра я уеду, — сказала женщина, — и мы не увидимся больше.
Я прикрыл за собой дверь, сел возле ванны на эмалированный табурет и снял носки. Брюки я снимать не решался: все-таки в номере находилась малознакомая дама. Засучив штанины, я обнажил голени, погрузив их в воду. Наступили мгновения блаженства. Эх, если бы еще я был один, так бы и рухнул в ванну и лежал в ней, пока все микробы не перетонули бы вместе с вирусами. Я лизнул себе пальцы: вода была соленая и горячая. Где-то в стороне от меня разговаривала женщина — далеко-далеко, по-украински, сквозь мои простуды и плеск соленой воды.
— Я уже тут не работаю, — сказала Мария. — Поэтому ничего не боюсь. Вчера я сняла простыни с постели у одного жильца, забрала все его грязные полотенца и не сменила ничего, все оставила в центре комнаты. Голова у меня такая сейчас. Вот и все. Я уже не работаю: здесь чуть что — разговор короткий и жаловаться некому. Да и сын мой неведомо где. Сын мой ушел к сестре, у меня здесь сестра, которая нас к себе вызвала. Сестра работает сторожихой при маленьком эмигрантском кладбище, и нам было вначале хорошо у нее, она и вызвала нас, чтобы не было ей одиноко. Я с Прикарпатья, мы там с моим сыном Володькой жили. Володькин отец оставил нас, когда сын был еще совсем маленький, и Вова его не помнит. Сама не знаю, почему я сюда приехала. Я не могу здесь. Как-то в присутствии сестры я заговорила о том, что хорошо бы возвратиться в Карпаты, а сестра сказала, что я могу возвращаться куда хочу, а Володьку она мне не отдаст…
Сквозь мою затуманенную жаром память вспоминалось, что я читал о чем-то таком. О том, что мальчику было не то десять, не то двенадцать лет и ему подарили велосипед. Кажется, мальчика звали Уолтером, и в здешних газетах писали, что он избрал свободу. Еще я тогда подумал: «Случись такое с американским ребенком, придержи мы такое дитя у себя в стране, завтра бы три американских флота с атомными авианосцами плавали у советских берегов и радио захлебывалось бы от угроз в наш адрес».
— Как его зовут теперь? — громко спросил я из ванной.
— Уолтер, — сказала женщина. Значит, я правильно вспомнил.
— А что ваша сестра с ним делает?
— Об этом я и хотела просить, — сказала мне незнакомая женщина по имени Мария. — Мне некого просить больше. У меня в Нью-Йорке есть мужчина, но я уже просила его. Сходите, пожалуйста, на это кладбище, вам будет интересно. Пожалуйста, сходите туда. Зайдете в сторожку, такой домик напротив входа на кладбище, спросите Марту. Она разрешает посетителям ходить, разглядывать памятники, даже денег не берет, это считается чем-то вроде рекламы. Спросите Марту, только не говорите, от кого вы. Просто, мол, слышали, и все тут. Я вас очень прошу… Я здесь вам на столе, на газете, которую вы читали, напишу адрес. Очень прошу вас…
— Ладно, — сказал я. — Спасибо за все. Но теперь идите. Мне надо отдохнуть. Позвоните мне на той неделе.
Женщина ничего не ответила, но я ощущал, что она еще там, в комнате. Затем хлопнула дверь номера.
Я осторожно вынул ноги из остывающей воды, вытер их полотенцем и надел шерстяные носки, которые мне именно для таких случаев дала в дорогу жена. Дошел до постели и рухнул в нее, одновременно провалившись в мягкие матрацы и в сон, такой же обволакивающий и приятный.
Письмо 2
Милая моя, здесь уже осень. Метеорологи обещают лютую зиму, и небо над Нью-Йорком такое прозрачное и холодное, что понимаешь — зима у порога. Этот город разделен сотнями демаркационных линий, он расчленен и разобщен, но все-таки это один из самых «интересных» городов на свете. Город, в котором множество стереотипов и в то же время центр по воспитанию индивидуалистов. Даже парты в школах — у каждого своя, и дети могут расставлять их как кому угодно, хоть спиной к доске. Когда-то я прочел в здешнем еженедельнике и запомнил очерк о детях сотрудников американского посольства в Москве: те по нескольку лет учились в советских школах и возвращались домой, по определению автора статьи, «травмированные коллективизмом». Поучившись у нас, дети и дома хотели иначе сидеть в классах, иначе дружить со своими сверстниками: они уже привыкли жить по-другому, а в Америке пришлось переучиваться. Это иной мир, в нем другие правила, и согласно им вырастают другие люди. Рыба плавает, птица летает, олень бегает — все передвигаются, каждый в собственной среде, и перенесение из одного мира в другой всегда травматично.
Кстати, правила и условия жизни в другом мире и другом обществе зачастую подразумевают и характер одежды, не только особенности поведения и отношения к окружающим. Листая нью-йоркские журналы и выбирая из них информацию о здешних людях, я в летнем номере «Нью-суик» натолкнулся на яркое цветное фото манекенщиц, одетых в куртки, комбинезоны и платья самых изысканных силуэтов. Рядом шел текст: «На иных из американских улиц изысканные джинсы, портфель, изготовленный по заказу, и портативный магнитофон фирмы „Сони“ еще не свидетельствуют о том, что вы модно выглядите. Можно предполагать, что скоро многие оденутся в симпатичные пуленепробиваемые одежды по моде „сейфмен“ („человек в безопасности“), чтобы защититься от насилия. Впрочем, против нового направления в моде возражает полиция больших городов, опасающаяся, что новые средства самозащиты улетучатся к преступникам. Соответствующие
предложения были внесены в Конгресс, который и решит вопрос о порядке торговли пуленепробиваемыми одеждами. Но если поставить пуленепробиваемые жилеты вне закона, может статься, что носить их будут исключительно люди, стоящие вне закона.
В 1974 году корпорация Дюпон изобрела стойкий к прокалываниям материал для автомобильных покрышек, названный кевларом. Легкий синтетик нельзя было пробить ни гвоздем, ни пулей… В скором времени вся полиция страны надела нижнее белье из кевлара. Джеральд Форд после попытки покушения на него надел кевларовый жилет. В газетах пишут, что супруга президента Рейгана приобрела нижнюю сорочку из кевлара. Многие владельцы лавок по продаже спиртного и таксисты стали носить новые жилеты на работу. Нью-йоркская фирма „ЕМДО“ пустила новую линию для пошива пуленепробиваемых спортивных костюмов, туристских курток и жилетов серого и пастельных тонов…»
Видишь, как у них с этим: когда-то фабриканты тканей, не находившие им сбыта, подкупали дома мод, положив начало массовому выпуску макси-юбок; низкорослый император первым ввел моду на мужскую обувь с высокими каблуками. Неужели дойдет когда-нибудь до того, что по Нью-Йорку надо будет передвигаться перебежками, в пуленепроницаемой оболочке? Не хотелось бы…
Ну ладно, я теперь о другом. Хоть весь разговор вкладывается в информацию о том, что в Нью-Йорке и в Америке люди спят, одеваются, живут, работают, как кто сумел устроиться и как кто считает необходимым. И едят они тоже так.
Ты так часто спрашиваешь у меня в письмах, как я питаюсь, что лучше уж напишу тебе об этом с подробностями. Не о ресторанах, конечно, и не о меню, это я так, к слову: нет у меня командировочных денег на то, чтобы ежедневно в ресторанах питаться. Иногда — раз в неделю — позволяю себе это, иногда знакомые американцы приглашают, так что и в ресторанах бываю, хоть посещения заведений американского общепита далеко не всегда гарантируют, что там всегда особенно вкусно: надо очень хорошо знать, куда ходить, что заказывать и когда. Единственно, за чем здесь в еде подчеркнуто следят, что всегда оглашают и пишут на видных местах, — это сроки годности пищевого продукта, его химический состав и калорийность. С самых первых дней пребывания в Нью-Йорке, с первых своих сосисок и с первой баночки с селедкой, купленной в день простуды, я был обречен узнать, сколько съедаю зараз белков, жиров, углеводов и когда все эти замечательные продукты протухнут. Меня предупреждали, где еда натуральная, а где над ней потрудились химики, от чего я поправлюсь, а от чего нет. На некоторых продуктах (как на огурчиках, купленных мной для первой закуски) стояла отметка, что они кошерные, то есть одобрены еврейским раввином. Короче говоря, пишут на пакетах и на банках немало; я же особенно внимательно перечитывал этикетки с ценой, потому что хорошая еда дорожает изо дня в день. У меня осталась упаковка от ветчины, купленной в украинском мясном магазине у некоего Коровицкого, — за три месяца продукты подорожали весьма заметно…
Перед одними стоит проблема здоровой пищи, перед другими — пищи дешевой, а перед третьими — где бы поесть хоть чего-нибудь. Понимаешь, мы с тобой если и видели голодных людей, если сами бывали страшно голодными, то давно, в детстве, даже призабыли, как это бывает. Поэтому когда здесь я встречаю человека, который мучительно хочет есть и больше ничего не хочет, мне и жалко этого человека, и зло меня берет, потому что вокруг очень много еды, которая портится и не распродается вовремя, но очень редко становится — назовем это своим именем — милостыней, протянутой страждущему. Если уж мы с тобой голодали, то вместе со всей страной, и от этого было не то чтобы легче, но понятнее. Здесь голодают по-другому, на фоне сто раз описанных у нас ярких витрин, и к этому невозможно привыкнуть.
Я нарочно прерываю рассказ о том, как болел и как выздоравливал: все это я расскажу дальше; мне кажется, что именно в начале книги нужна глава о хлебе насущном — столько с ним связано.
Ладно, давай я расскажу тебе, как питается человек моих материальных возможностей — по-американски это средний уровень жизни. Итак, о еде и питье.
Ты знаешь, что уж здесь пьют, невзирая ни на какие предупреждения, в течение целого дня и в неограниченных количествах, — так это кофе. Есть даже такое типично американское мероприятие, как «кофибрейк» — перерыв на кофе, существующий в большинстве учреждений вполне легально. Не итальянцы и не бразильцы, не жители Аддис-Абебы, Сухуми, Батуми или Парижа, а именно американцы хлещут кофе в количествах, рекордных для человечества и порой немыслимых с точки зрения медицины; но — тем не менее… В любом уважающем себя учреждении и даже во многих магазинах, в самолетах и на колонках бензозаправки вам предложат кофе прямо с порога и при этом спросят лишь о том, будете вы пить со сливками или без них, с сахаром или без сахара. Считается, что в таких подробностях колебания вкуса допустимы, но в принципе без кофе жизнь невозможна. Стенд с банками зерен и растворимых порошков кофе разного качества занимает в продуктовых лавках очень видное место; иногда там же пишут: «По вашей просьбе мы можем немедленно приготовить горячий кофе». Кстати, одна из самых высоких в Нью-Йорке репутаций — у кофе, который подается в ООН. Кофеварки в многочисленных пеших переходах организации, делегатские кафе разного ранга — независимо от того, подается напиток в фарфоровой чашке или пластмассовом стаканчике, он душист и хорош. Попытки заказать чай во многих случаях (кроме китайских ресторанчиков, где кофе, как правило, бойкотируют) вызывают не то чтобы растерянность, но род презрительного удивления — так у нас поглядели бы на человека, заказывающего в пивном баре бутылку минеральной воды. Кстати, кофе в Америке заодно является и едва ли не самым дешевым напитком: кока-кола, пепси, различные лимонады стоят дороже.
Когда в обеденный перерыв я возвращаюсь по Лексингтон авеню к себе в жилье, вдоль фасада строящегося дома всегда чинно сидят рабочие в синих касках. Сидят они прямо на тротуаре, привалившись спинами к ограждению; возле каждого стоит пластмассовый кубок с кофе этак граммов на четыреста — и так ежедневно.
Но не питьем единым… Поесть в Нью-Йорке можно круглосуточно, но поесть вкусно и дешево — далеко не всегда. Дешевле всего и с удовольствием можно пообедать в столовой советской миссии при ООН. За ту цену, которую в городе приходится платить уличному продавцу самых дешевых жареных сосисок и кофе, там предлагают обед из трех блюд. Правда, жареных сосисок в советской миссии не готовят, а это еще один американский кулинарный аттракцион, возведенный до уровня национальной символики. В нью-йоркских анналах отмечено, что 11 июня 1939 года президент Рузвельт угостил британского короля и его супругу жареными сосисками, легализовав это кушанье, так сказать, на высочайшем уровне. С тех пор дымок вокруг бродвейских жаровен с «горячими собаками» (так зовут это кушанье даже в меню) выглядит как фимиам американской кухне, главным достоинством которой прежде всего считается быстрота приготовления и питательность блюд (чаще всего быстрота, доведенная до молниеносности, питательность, доведенная до формул). Американцы сами не скрывают, что никогда не придавали великого значения вкусовым достоинствам своей пищи; для гурманов открыты китайские (подешевле) и европейские (подороже) ресторации. Средний американец питается бутербродами, где в пять-шесть слоев уложены котлеты, кружочки лука, помидоры, огурцы, озера кетчупа и россыпи соли. Производство таких бутербродов — отрасль промышленности, не менее серьезная, чем автомобильная.
Этой осенью американская пресса живо обсуждала войну котлетных и сосисочных императоров (в основном котлетных), представляющих три гигантских концерна: «Макдоналд», «Венди» и «Берджер Кинг». Беспрерывно выясняется, в чьих котлетах больше мяса и какого именно; знаменитые спортсмены смачно чавкают с телевизионных экранов, объясняя свою мощь исключительно воздействием котлет одной из конкурирующих фирм. На улицах раздают листовки, призывающие любить такие, а не другие котлеты. Единственно, о чем реклама умалчивает, так это о том, что такая дешевая и массовая еда далеко не самая полезная и потреблять ее лучше от случая к случаю. К тому же макдоналдовские харчевни приваживают обитателей нью-йоркского дна, которым и поесть больше негде, и деваться некуда. Лучшего из возможных соседств они не гарантируют, потому и репутация у котлетных заведений не самая благополучная и люди не любят снимать квартиры по соседству с «Берджер Кинг», «Венди» или «Макдоналдом».
Но реклама об этом умалчивает, предпочитая показывать чемпионов по боксу, запихивающих бутерброды в искалеченные рты и повизгивающих при этом от удовольствия.
Если не обращать внимания на все рекламные переборы, то можно сразу же заметить, что индустрия человеческой кормежки доведена в своей стандартизации до предела. Редко в каком не то чтобы кафе, но и ресторане вам предлагают роскошное меню на шести страницах; здесь считают, что это не нужно. Зато нужно, чтобы еще при виде вывески человек уже знал, на что он может рассчитывать. В упомянутых котлетных концернах подают только котлеты в бутербродах трех-четырех видов, прохладительные напитки и кофе. Это все. Есть заведения вроде «Говарда Джонсона», где к вашим услугам множество сортов мороженого, но котлет там и не просите. Есть кафе с пищей только из морских рыб, а есть только молочные. Есть мексиканские заведения «Тако», где подают что-то вроде наших налистников с двумя-тремя фаршами — и больше ничего. Существуют греческие ресторанчики, очень дешевые, где подают или сувлаки, этакие блинчики с наперченным мясным фаршем, или бифштексы с салатными листьями в качестве гарнира: все это очень вкусно и готовится довольно быстро. В итальянских забегаловках вывески одинаковы: «Пиццерия» — везде подают пиццу, огромные пироги с мясным и овощным фаршем, усыпанные сыром и густо политые кетчупом. Все это жарится у вас на глазах, потный повар старается, и вы сами можете определить, готова ваша порция или еще нет.
Зато в итальянский ресторан «Мамма», расположенный на 48-й улице, я без колебаний пошел бы хоть сейчас. До чего изобретательно умеют там готовить: с маслом, сыром — множество разновидностей макарон и лапши, но как это вкусно подают, да с какими соусами! Приезжие итальянцы свидетельствуют, что у себя дома они не всегда могут найти национальный ресторан такого класса. Впрочем, итальянцы развернули сеть своих тратторий и ресторанов еще в начале века, а вот выходцы с Украины только завоевывают «место под солнцем». Но работают колбасные заведения, есть уже и вареничные (фирма «Чимо» выпускает вареники в свежезамороженном виде и широко внедряет их в торговую сеть). Неподалеку от моего жилья светился бар «Русский мишка»; на тех же пятидесятых улицах, но выше, к Центральному парку, работает дорогой и знаменитый ресторан «Русский чай».
В центре Нью-Йорка, где огромная часть продуктового бизнеса принадлежит сионистским организациям и синие шестиконечные звезды начертаны на витринах множества продуктовых лавок в знак того, что есть специальный отдел пищи для правоверных иудеев и пищу эту одобрил раввин, на тротуарах продают пастрами. Это очень жирная копченая говядина, переложенная специальными травами и поджаренная в белой булке, — тоже весьма популярное и понятное уже по самому названию кушанье. Я уже писал тебе, что в Нью-Йорке надо уметь читать и понимать названия, дабы точно определить свое место за столиком или стойкой. Увидев вывеску, в меню иногда можно и не заглядывать. Мы с писателем Стадом Теркелом из Чикаго искали в центре Нью-Йорка, где бы поесть, и вдруг он увидел вывеску «Дядюшка Таи». «Это хороший таиландский ресторанчик, — обрадовался Стад. — Здесь интересно готовят курятину…», хоть именно в этом ресторане мой спутник не бывал сроду. В Вашингтоне я увидел вывеску «Трейдер Викс» и сразу понял, что ходить туда не следует, потому что там подают блюда дорогие и до того экзотические, что есть интересно, но не всегда вкусно; в Нью-Йорке я однажды рискнул…
Впрочем, дегустируя пищу в разных районах города, на риск приходится идти нередко, потому что наши европейские привычки жителя средней полосы или даже знатока закавказских субтропиков и среднеазиатских базаров почти никак не спасают, к примеру, на фруктовом базаре в пуэрто-риканском районе. Горками лежат плоды авокадо, любимые фрукты здешних гурманов, обтянутые темно-зеленой кожицей, похожие то ли на маленькие дыни, то ли на груши-переростки. Лежат папайи, как яйца неведомых птиц, приторные на вкус, душистые, сочные; листья папайи продаются отдельно: в них заворачиваются куски мяса, чтобы стали нежнее. Продаются плоды манго, источающие скипидарный запах мандарины разных размеров, оранжевая айва и длинные коричневые корни растения кассава, которые тоже как-то используются в латиноамериканской кухне…
Но, повторяю, повседневно и массово американцы питаются очень скромно. По утрам — кашка с молоком или яйца (сейчас яиц едят меньше из-за антисклерозной агитации, борьбы против холестерина). Завтрак сугубо научен; мне никто не говорил: «Попробуйте, это вкусно»; мне напоминали забытые в раннем детстве поучения о пользе каши.
Кроме того, во многих ресторанах вам позволят взглянуть, как готовится еда для вас, и проведут на кухню: у «Макдоналда» или в «Берджер Кинг» — прямо за стойкой, где вы ожидаете своей порции, у вас на глазах. Американская любовь к технологическому процессу и рекламе, желание показать, «как это делается», неистребимы; на стройках прорубают квадратные смотровые окошечки в ограждении, дабы вы могли заглядывать; у Форда устраивают экскурсии на конвейер: в ресторанах распахивают дверь в кухню; в любовных повестях репортажи ведутся прямо из спальни. И, поскольку мы говорим о еде, пусть вас не удивляет дышащая жаром печь прямо в зале, пылающая плита с колесиками на улице, спиртовка, похожая на довоенный примус, и сковорода на вашем ресторанном столе. Опять же и здесь свои символика, порядок и система условных знаков. Если, например, столы покрыты красными или белыми скатертями, если салфетки матерчатые да еще и свернуты в трубку — не с вашими капиталами туда соваться. Откровенность там не только в распахнутой кухне, но и в кожаных обложках меню, в надменности официантов, мгновенно узнающих, сколько у вас денег в кармане. Так что не всякая откровенность радует; читать все эти системы знаков следует порой и для того, чтобы не рисковать, а то ведь сварят вам в укропной воде и разделают при вас омара, а окажется, что. за него нечем платить…
Кулинарный процесс скрыт лишь в китайских ресторанах; там все не так: улыбчивые официанты подают жареных муравьев, коржики с запеченными предсказаниями судьбы и вовсе уж непонятные смеси соевого соуса с мясом свиным, утиным и с грибами, выращенными неведомо где…
Это рассказ о городе и стране, где можно хорошо поесть, но где едят досыта далеко не все. Несколько десятков миллионов (сегодня считается, что около тридцати) граждан США ложатся спать натощак. Я рассказывал уже об этом, но нам всегда было странно знать, что — как же так? — хлеба в закромах достаточно, но делят его так, что всегда кому-то не достается. Ты знаешь, я никогда не видел в Нью-Йорке (хоть населения здесь в три-четыре раза больше, чем в Киеве) надкушенной и брошенной под ноги булочки. В этом тоже отношение не только к пище, но и к жизни, к образу жизни, к надежности жизни, к труду и к его плодам, а также к деньгам, которые достаются очень непросто.
Что еще сказать? Американцы, повторяю, относятся к еде с уважением — это важно запомнить. В ресторанах пьют относительно немного, спиртное официант приносит не бутылками, а рюмками, к тому же часто со льдом, водой и прочими разбавителями. Во многих ресторанах все недоеденное можно забрать с собой — и это тоже принадлежит к правилам хорошего тона, потому что вы за все уплатили, а деньги на дороге не валяются. Если вам после еды очень уж надо выпить или посидеть за кофе, то из ресторана зачастую идут в бар, но это бывает реже: гораздо популярнее посиделки домашние со множеством початых бутылок, у которых головки свинчиваются от случая к случаю. (Тоже, кстати, отличие: у нас многие считают, что к столу надо подавать бутылки неоткупоренные, новые, американцы же видят некий шик в том, чтобы выставить пять-шесть бутылок, распитых до половины, и рассказывать, с какими хорошими людьми довелось пить из того или иного сосуда.)
Это еще одна тема. Кроме кофе, американцы поглощают огромное количество жидкостей разного рода, начиная с простой воды. В ресторане вам прежде всего подают воду; в залах заседаний ООН перед каждой делегацией стоит поднос со стаканами и графин, где в воде плавают кусочки льда. К письму я прилагаю отрывки из здешней статейки о кока-коле, там информация достаточно полная; ведь реклама напитков рушится на меня водопадом (кокападом? пепсипадом?); на всех стенах и во всех печатных изданиях, с телеэкранов, из радиоприемников круглосуточно побулькивает, искрится, всплескивает, льется вода, шипят газированные напитки, взрываются банки с пивом, булькает и растекается молоко. Кажется, что всего этого до отвала, но при обилии еды и питья в продаже они дорожают изо дня в день. После этого письма я переведу для тебя еще несколько вырезок из прессы, которые дополнят картину; мне очень важно, как сами американцы оценивают свой голод и свою сытость, — у них любят писать про такое. Мне по всей моей сегодняшней работе, по кругу нью-йоркских знакомств с голодающими людьми видеться не пришлось. Вернее, я видел их, роющихся в отбросах у продуктовых лавок, стоящих в очереди за миской супа у благотворительных столовок Армии спасения. Видел, но не говорил ни с кем; понимаю, что не прав, но вот совестно мне было подойти к такому голодному и начать с ним беседу о жизни. Так что уж извини: я приложу вырезки из самых популярных американских изданий, переведу их — так ты мне скорее поверишь. Здесь упомяну лишь об одном признаке того, что в Америке стало похуже с едой, вернее о том, что будущее страны тоже оказалось задетым сегодняшними проблемами: ничто на этом свете не существует само по себе. С этого года рационы для детей, питающихся в школьных столовых, а таких большинство, резко уменьшены. Теперь американскому школьнику на обед полагается котлета весом около 40 граммов, один кусочек белого хлеба, шесть (считают!) кружочков жареного картофеля, девять (тоже считают!) виноградин и около 150 граммов молока. С одной стороны, дети уже в начале жизни приучаются ценить каждый глоток, но с другой — глотков этих явно недостает. В газетах часто напоминают о диккенсовских героях и знаменитых сценах раздачи еды в приюте, где обитал Оливер Твист (до этого в Америке не дошло, но давно здесь не говорили о еде столь серьезно.)
Когда 16 октября в Организации Объединенных Наций отметили Всемирный день продовольствия и выступавшие один за другим говорили, насколько это серьезная проблема — накормить человечество, разговор шел обо всем мире, в том числе и об Америке. Кусок хлеба становится залогом выживания, делается средством торгового шантажа или объектом спекуляции; проблемы питания очень тесно связываются с проблемами морали — об этом говорили многие из ораторов. Во всех школах Соединенных Штатов был проведен специальный день продовольствия (не знаю, правильно ли, что мы не проводим с детьми таких занятий, — меньше бы мальчишки в футбол булочками играли). Америка очень серьезно размышляет сегодня о своем хлебе насущном.
Срок пособий по безработице сократили до 26 недель, а безработных все больше, — что им есть после?
Урезаются так называемые «пищевые марки» — форма помощи малоимущим: в стране все меньше можно рассчитывать на какую бы то ни было помощь — это ведь тоже форма ожесточения; они налагали эмбарго на нас, но внутри Америки эмбарго на все эти пищевые поставки куда более жестко. Еду надо ценить, у себя дома мы порой беззаботны, и за куском хлеба наклоняется далеко не каждый; привыкли, что хлеб есть и хлеб будет, — страна такая. Американец знает, что он съест лишь тот хлеб, который сможет купить, за который заплатит сам, из своего кармана. Это особая психология — отношение к тарелке и тому, что в нее положено.
Кстати, о тарелках. Супруга президента, Ненси Рейган, заказала для Белого дома сервиз за двести девять тысяч долларов. Как ты понимаешь, у нее на столе было что расставить и прежде; президент Джонсон и его воспреемники заполняли правительственные буфеты самой роскошной посудой вот уже лет пятнадцать подряд. Но я же писал тебе: здесь каждый должен есть из своей тарелки — это уже целая философия. Как говаривали французы: «Такова жизнь!»
Пресса (2)
Из газеты «Нью-Йорк таймс»,
24 сентября 1982 г.
«Около 138 тысяч людей получают „продуктовые марки“ в Нью-Йорке, но на 1 октября подали заявления о такой помощи около миллиона человек…»
«Мы зовем те места, где можно получить хоть какую-нибудь еду, продовольственными банками, но они переживают банкротство по нескольку раз в месяц…», — говорит доктор Дехавенон, медик-антрополог. Его исследование голода в восточном Гарлеме показало, что в пять раз за год возросло число людей, нуждающихся в продуктовой помощи от благотворительных организаций. Для многих бесплатная раздача супа является единственной их горячей пищей за день.
«Я начала приходить сюда около месяца назад и прихожу сюда по крайней мере трижды в неделю теперь, — говорит миссис Террелл, которая потеряла свою работу больничной санитарки в начале этого года. — До этого случалось, я целыми днями ничего не ела, и порой дела шли так плохо, что я выбирала между голоданием и тем, чтобы решиться на кражу. Я вижу, сколько людей вокруг роются в мусорных кучах, чтобы найти там еду…»
Из «Хроники „ЮНЕСКО“»
«По данным ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН), из 122 миллионов людей, которые родились в 1979 году, в Международный год ребенка, каждого десятого уже нет в живых. Причиной смерти 12 миллионов маленьких граждан планеты стали голод, нищета, кровавые репрессии.
По данным американской организации „Женщины, боритесь за мир“, в Соединенных Штатах Америки 25 миллионов детей хронически недоедают».
Из газеты «Дейли ньюс»,
27 октября 1982 г.
«Только один процент американцев пьет кофе черным; кофе пьют за завтраком, за беседой, во время бритья и смазывая лицо кремом…
В среднем 12,4 минуты занимает у американца распивание чашки кофе. Первую чашку за день 76,8 процента опрошенных выпивают за завтраком в кухне или в столовой. 9,9 процента опрошенных пьют первый кофе в постели, 6,2 процента — в ванной комнате.
Большинство из опрошенных выпили первый кофе до 14-летнего возраста».
Из журнала «Ньюсуик»,
10 мая 1982 г.
«В течение года среднестатистический американец выпивает 40 галлонов прохладительных напитков. Люди возрастной группы 45–55 лет выпивают больше, чем молодежь 12–18 лет пила в 1955 году.
В американской армии опросили 650 военнослужащих и выявили, что 85 из них никогда не были у зубного врача, 21 никогда не пил молока, но только один не пробовал кока-колы. Фирма израсходовала в прошлом году на рекламу только в США — более чем по 400 долларов на каждый американский дом…»
Из газеты «Ауа таун»,
21 ноября 1982 г.
«По новому проекту добровольцы будут собирать в Нью-Йорке пищу из общественных кухонь, ресторанов и других мест, где она может за ненадобностью выбрасываться. Эта добавочная еда будет использоваться для питания тех, кому нечего есть. „У нас все больше голодных людей“, — сказал представитель Комитета общественных проблем…»
Глава 2
В таких городах, как Москва, Лондон или Нью-Йорк, ощущение промежуточности этих пунктов на твоем пути возникает не сразу. Погружаясь в отлаженность огромного мегаполиса, в механизм, где сплюсованы многие годы, многие миллионы людей и неисчислимое множество сбывшихся и несбывшихся человеческих планов, ловлю себя на ощущении, что вот и я приехал, вот и я здесь. Муравейник всасывает меня, и независимо от того, дружелюбен ли он, как в Москве, безразличен ли, как в Нью-Йорке, или насторожен по отношению к тебе, как в Лондоне, ты все-таки попадаешь в чужие ритм и даже скорость, покачиваясь в толпе, будто рыба в косяке других рыб.
В Нью-Йорке я очень быстро привыкаю к тому, что весь этот город разгорожен и границ в нем больше, чем было в их легендарные времена гражданской войны в Одессе, где границы обозначались бечевками, расчерчивающими улицы. У меня в Нью-Йорке появляются собственные границы; их бережет вооруженный портье дома, где я живу, строгие охранники ООН, в признак квалификации которых входит умение запомнить каждого делегата в лицо и через неделю после начала сессии здороваться с каждым. В советское представительство при ООН я прохожу, минуя американскую, а затем и нашу охрану, и для американцев бывает странно, что я не хочу всякий раз подчеркивать и очерчивать такие ясные круги своей обособленности.
Как-то меня попросили прочесть лекцию в американском университете и спросили, сколько денег возьму я за часовое выступление. Я застеснялся, а затем назвал какую-то смехотворно малую сумму. Знающие люди сказали, что я был не прав. Следовало запросить не меньше тысячи; дать мне столько — вряд ли дали бы, но зауважали б…
Чужие классификации бывают странны, но, прибывая в такой город, как Нью-Йорк, не следует и мечтать, что этому монастырю немедленно понравится не его собственный, а твой устав. Основательность нью-йоркских критериев и оценок устоялась во времени, и здесь очень непросто привыкать к безжалостности этих оценок и считаться с критериями. Но тем не менее ощущение того, что ты в этом городе наделен собственным местом, с самого начала добавляет уверенности. Другое дело, что тебе еще придется в этом городе пересечь немало границ и всякий раз у тебя отчетливо спросят, кто ты такой и откуда. Привратник в богатом доме положит руку на револьвер и, не сводя с тебя взгляда, осведомится в квартире, которую ты назвал, ожидают ли тебя там. А чернокожий мальчишка в Гарлеме прицелится в тебя помидором и, может быть, даже попадет с первого раза, потому что негритянский район Нью-Йорка не получал еще твоих верительных грамот и тебя там не ждали. …Ну ладно, это еще предстоит выяснить, где меня ждали в этом городе. Проснувшись утром, я почувствовал, что болезни мои утонули в соленой ванне и улетели с нью-йоркским дымом, решил не занимать себя вечными проблемами прямо с утра и даже не включил телевизионных последних известий, которые с шести утра начиная по нескольким телевизионным каналам идут почти беспрерывно. Мои недуги, все проблемы моих акклиматизаций ощущались разве что в тяжести, налившейся в виски и стучащей молоточками. Я встал, приказав себе не капризничать, а браться за дело.
Подошел к окну, приоткрыл жалюзи, выглянул и ничего не увидел. Сквозь узенькие щелочки между планками жалюзи нельзя было даже определить, пасмурно на улице или солнечно, дождь там или жара. Тогда я доверился электронному циферблату и, нажимая кнопки, узнал, что сегодня третье число, восемь часов шесть минут утра и мне давно уже пора привести себя в рабочее состояние. Быстро растворил ложку кофейного порошка в чашке с горячей водой и получил напиток, условно приравниваемый к кофе; сжевал ломоть хлеба с сосиской и этим завершил процесс, именуемый холостяцким завтраком. Быстро сложил в мойку всю использованную посуду, залил ее горячей водой, всыпал немного стирального порошка и вышел из кухоньки. Когда я щелкнул в комнате выключателями, мрак властно выполз из углов и только в узких щелочках жалюзи поблескивал дневной свет.
Свет на улице был ярок, но странен. Узкая полоса солнца была обрамлена двумя черными асфальтовыми дорожками; автомобили — я внимательно проследил, как колеса сминают сигаретную пачку, — ехали по солнечной полосе, а люди вышагивали в тени.
— Послушайте, — раздался голос сзади, — я мог видеть вас в телевизоре?
— Могли, — ответил я почти машинально и, даже оборачиваясь, увидел вопрошающего не сразу. — Но это не здесь…
— Так я же знаю, раз спрашиваю, да еще по-русски. Я могу и по-украински спросить, — произнес голос очень спокойно. — Второй день гляжу на вас и сначала подумал, что вы были у меня участковым врачом, а затем уже вспомнил, что вы часто выступали по телевизору…
Человек в белом переднике, совсем еще не старый, но седой, восходил ко мне по ступенькам, идущим к двери, расположенной ниже уровня тротуара.
— Сегодня будет хорошая погода, — сказал человек.
Я поднял лицо вверх и увидел небо. Черные зеркальные стены небоскребов почти сходились вверху, поэтому небо было очень маленьким — светлая полоса над головами.
— Здесь мало неба. Меньше, чем у нас, — сказал человек, приближаясь ко мне вплотную. — Меня зовут Семен Кац. Очень простое имя и простая фамилия. Я уже год как развожу по утрам хлеб в эти дома. А дома я был парикмахером. Где вы стриглись? У вас всегда была хорошая прическа, когда вы разговаривали по телевизору…
Я провел ладонью по собственной макушке и удивился, что кто-то мог запомнить, как она бывала причесана. Тем более что сейчас голова ныла, непривычная ко всему, происходящему с ней.
— Почему бы вам со мной не побеседовать? Вы же сначала писатель, а потом все остальное. У вас программа на телевидении. Вы должны разговаривать со зрителями и читателями.
— Вы что-нибудь любите, Семен? — спросил я у своего собеседника.
— Вы про это? — спросил Кац и показал мне на привязанную к столбу картонку со знаками, повторяемыми в Нью-Йорке очень часто: «ILNY». Только вместо буквы L в центре формулы — карточное сердце — червовый туз алого цвета.
— А что это такое?
— Будто вы не знаете! Это символ веры, это гимн, это формула. Это значит: «Я люблю Нью-Йорк».
— И вы любите?
— Если честно, то здесь можно привыкнуть. Но если совсем честно, я уехал бы домой прямо сейчас. От ихних «кадиллаков» и револьверов, от ихнего молока и газет по пятьсот страниц в воскресенье, от ихнего телевизора и от ихней любви.
— И от любви?
— И от любви. Вот мы с вами стоим, а на такие темы надо разговаривать сидя. Это серьезная тема. Хотите кофе?
У меня с утра было немного свободного времени, но я не очень люблю, когда внезапная встреча разрастается и создает непредсказуемые ситуации. Мы с моим собеседником переглянулись, и я задумался.
— Как хотите, — сказал Семен Кац. — Конечно, я не навязываюсь…
Когда мы зашли за углом в итальянскую кофейню, мой спутник по-английски поздоровался с кассиром, сидевшим над блюдом с фирменными книжечками спичек в душистыми палочками для ковыряния в зубах.
— Ты не представляешь, кого я тебе привел! — сказал Кац. — И я тебе этого никогда не скажу, потому что тебе этого нельзя знать.
Человек за кассой не проявил к нам никакого интереса: к нему и не такие ходили. А кого может привести разносчик хлеба и молока? Водителя фургона?
— Когда вы приедете в Киев, — сказал мне Кац, уже сидя за столиком, — никому про меня не рассказывайте. Ладно?
Я пообещал и даже изменил сейчас его фамилию, хотя имя оставил настоящее.
— Все это похоже на то, будто человек едет задним ходом в закрытом автомобиле. Все возвращается, как в кино, и снова проходит, но в обратном порядке. Вы не пробовали?
Кац взял фаянсовый молочник с подноса и долил сливок в чашки мне и себе; поставил молочник, взглянул на меня и продолжил:
— Я же к вам подошел не только потому, что смотрел ваши передачи в Киеве. А когда вы спросили о любви, я сразу решил пригласить вас на кофе. Потому что мне пятьдесят три года, я еще не старый мужчина, и у меня есть кое-что для разговора с вами. Вы знаете о чем? О том, что мне очень понравилась здесь одна женщина. Женщина эта убирала у вас в номере, и вы ее знаете. Ее зовут Мария, она вам для ног приготовила горячую ванну с солью: она мне рассказывала. Мария одинокая, как я, и я спросил, не хочет ли она выйти за меня замуж. У нее сын, и ей трудно одной. Так Мария повела меня к своей сестре Марте, и мы по душам с той поговорили, что мальчику будет лучше, если он вернется домой и с ним приедет не одна мама, а двое родителей. Я хотел бы вам рассказать, как было потом. Вы знаете, как было?
Я не знал.
Мне показалось, что я дома, где каждый писатель зачастую живет в тени своих общественных функций: выбивает для кого-то квартиры, устраивает детей в садик, выясняет подробности чьего-то героического прошлого. Невозможно представить, чтобы нью-йоркский житель поймал американского писателя за пуговицу на улице и начал рассказывать тому про свою жизнь. У нас это в порядке вещей, и мой разговор за кофе был обычен для Москвы, Киева, Одессы или Тбилиси. Но почему здесь?
Семен Кац позванивал белой ложечкой о белую стенку своей кофейной чашки.
— Хотите выпить? — кивнул он в сторону человека за кассой. — В этой стране подают выпивку до одиннадцати утра, после семи вечера и когда угодно.
— Нет, не хочу, — сказал я.
— Тогда дослушайте. Хоть мне это не очень приятно рассказывать. У меня ведь с Марией все было хорошо. Мы с вами люди взрослые, и я могу вам сказать. Вы понимаете? Мария помогла мне устроиться разносчиком именно здесь — у нее свои знакомства в гостинице, — и мы с ней чувствовали себя спокойно. Пока не пошли к ее сестре и не рассказали той. Кстати, мальчику Володе было с нами совсем неплохо: он улыбался и рассказывал мне про школу и про друзей, оставшихся дома. Я его не поощрял к таким рассказам, чтобы не травмировать. Я нашел ему здесь школу и уже договорился, что его примут туда, когда мы отправились к Марте. Знаете, что сказала Марта?
Чувствовалось, что мой собеседник никак не может перейти порожек и рассказать мне о том, что волновало его больше всего. Я не торопил. Глядел на белую ложечку и на белые пальцы взволнованного человека напротив и ждал.
— Так вот, Марта сказала, что я иудей и нечего мне соваться к украинской да еще и западноукраинской женщине. Иудеи должны жить со своими иудейками, а украинки предназначены украинцам. Она говорила и кое-что еще, что я просто стесняюсь произнести. Еще она сказала, что это я подбиваю Марию возвратиться в коммунистическую страну, и заодно добавила, что коммунизм — тоже иудейская выдумка. Эта Марта сказала, что ребенка мне не отдаст а не отдаст его Марии, потому что Мария не сможет вырастить и воспитать украинское дитя в свободном мире. Вот так мы поговорили…
— А почему вы живете здесь? Как уехали? — спросил я, отодвигая от себя чашку: нельзя пить столько кофе с утра.
— Почему? Вам все надо объяснять. Вы хотите, чтобы я подробно рассказывал, как у нас в парикмахерской появились первые письма о том, что такой-то стал миллионером в Чикаго, а был в Киеве простым водителем мусоровоза? Или о чудесной судьбе парикмахера, подстригающего Рокфеллера и имеющего на этом тысячу долларов с одних только чаевых? Или вы хотите знать, что они передавали по радио? Вы ни разу не слышали? Это все долго рассказывать, но мои папа, мама и тетя Соня действительно погибли в Бабьем Яру 29 сентября 1941 года. Наверное, среди погибших там детей была и моя жена, потому что я никогда не был женат и жил в старой нашей квартире на Константиновской улице всегда, сколько себя помню. Оттуда я и уехал. Никто не хватал меня за руки и не умолял: «Семен, останься!» Ну, и приехал я в Вену, а потом мне помогли с вызовом сюда, и теперь у меня есть коммунальная квартира, но не на Подоле, а на Бронксе, и я развожу молоко и хлеб. Только, ради бога, не подумайте, что я прошу вас замолвить за меня словечко, чтобы меня пустили обратно. Марию уже пустили, мы с ней на днях-таки поженимся, и я буду требовать, чтобы воссоединили мою семью. Парня жалко. Жалко мне сына Марии, Мария без него не разогнется, она всю жизнь будет мучиться, что уехала в Америку с маленьким мальчиком, а приехала обратно с пожилым евреем. Да и мои соплеменники не в восторге, что я нашел себе жену-украинку. «Ах, — говорят, — у нас такие невесты, только что из Одессы…»
— Но все-таки могли бы вы воспитать Володю?
— Почему нет? Я всю жизнь холостяк, и я столько умею, что мог бы выжить на необитаемом острове. Но, конечно, воспитывать Володю так, как хочет эта Марта с кладбища, я бы не хотел и не мог. Понимаете, в чем здесь дело? У них же кругом гетто. Каждый город перегорожен заборами по сто раз. Если я еврей, то должен жить только в еврейском районе и жениться на иудейке. Мои дети должны носить ермолки и пейсы и презирать всех других детей, потому что те в субботу работают, ходят совсем в другую церковь, к другому богу. Если я украинец, то должен питаться варениками, постоянно пыжиться, доказывая, что украинцы лучше всех, выписывать здешние украинские газеты, презирать испанцев, русских, поляков, евреев и всех прочих. Вы понимаете? Вы могли бы считать себя нормально одетым, если бы у вас в гардеробе была одна лишь вышитая сорочка с бантиком и шаровары? Я у вас не хочу выспрашивать лишнего, но, поверьте, здесь можно с ума сойти, так у них много ненависти и так мало любви. Они придумали, кто кого должен презирать и за что, а если кто-то кого-то любит, то это свои своих. Вы понимаете?..
Мне уже пора было уходить. Город, шевелящийся вокруг, дарил ощущение, что я одна из молекул его огромного тела. Но, глядя на молочника Каца, я подумал, что сюда забавно приезжать, только жить здесь постоянно я бы не смог никогда.
— Спасибо, — приподнялся я над стулом. — Мне пора. Вы ко мне заходите, буду рад. Как-то все устроится, непременно устроится. Даже у Тевье-молочника многое в жизни устраивалось, и у вас все будет хорошо.
— Вы так считаете? — прищурился Семен Кац. — Мы еще поговорим на эту тему, если будем живы-здоровы. Спасибо вам за компанию. Идите, если угодно. Я еще посижу: здесь подают выпивку круглосуточно, и мне захотелось принять маленькую рюмочку за здоровье всех. Вы идите, если у вас дела.
Пресса (3)
Из газеты «Нью-Йорк таймс»,
7 декабря 1982 г.
«Бывший советский сценарист, выехавший в США в 1972 году, обнаружен застреленным в понедельник у себя на квартире.
Пострадавший, Юрий Брохин, 48 лет, был убит единичным выстрелом в правое ухо… Тело было обнаружено его подругой, Тиной Регсдейл, 26 лет, в постели его однокомнатной квартиры на 49-й улице…»
Из газеты «Русский голос»,
15 июля 1982 г.
«Почему я отказываюсь принимать американское гражданство.
Уже восьмой год мы в Америке, и давно пришла пора получать американское гражданство. Но мы не хотим этого делать. Почему?
В 1975 году мы выехали по израильской визе из СССР… На третий день нашего пребывания в Вене, столице Австрии, я обратился в советское посольство с просьбой о возвращении на Родину. Но было уже поздно…
Через несколько месяцев мы прибыли в Нью-Йорк. Первое время было самое трудное. Мы пришли в ужас от американских свобод.
В США я систематически ощущаю национальную и религиозную вражду, расизм, а в некоторых районах страны и возрождение фашизма.
За последние годы в Соединенных Штатах с каждым днем атмосфера враждебности и клеветы на мою Родину становится все более невыносимой для меня. Печать, радио, телевидение подают только негативные стороны жизни в Советском Союзе, разбавленные откровенной ложью и вымыслом.
Живя в СССР, я оказался в числе немногих, одураченных западной пропагандой. Этому во многом способствовали американские выставки, журнал „Америка“, кинофильмы, музыка. Слащавые радиоголоса расписывали жизнь за океаном как сплошной праздник. Однажды знакомый эмигрант сказал: „Америку я представлял по кинофильму „Серенада солнечной долины“, где все поют и танцуют, не имея никаких проблем…“
Действительность превзошла все ожидания. Примеров самой изощренной преступности, садизма, сексуальных преступлений в газетах каждый день публикуется масса. Обычные же преступления никого уже давно не интересуют. Случай с моей женой. Днем вышла из магазина, сзади подошли два бандита, приставили нож, срезали сумку и убежали. Кричать, просить о помощи некого. Звонить в полицию тоже бесполезно, там такими мелочами никто заниматься не будет. Два раза я был свидетелем (в последнем чуть не стал жертвой) перестрелки враждующих банд уголовников, которые сводили между собой счеты. Группа подростков с платформы открыла стрельбу по вагонам метро. Из соседнего вагона отвечали пистолетными выстрелами. Пассажиры в страхе попадали на пол, а над моей головой просвистела пуля, пробившая металлическую дверь вагона. На следующей станции нагрянула полиция, поймали кого или нет, не знаю, потому что я сразу выскочил из метро и неделю туда не спускался.
Моя дочь не успела в СССР закончить 7 классов. В Нью-Йорке ее сразу зачислили в 9-й класс, не говоря уже о том, что она могла пойти сразу в 11-й класс, как это сделали ее знакомые по школе. Программа обучения в городских школах очень слабая. Многие после окончания не могут правильно решить простейшие арифметические задачи и грамотно писать. Школьники 10-11-х классов вовсю курят марихуану, пьют, девочки ходят беременные, а некоторые даже приходят на уроки с детьми.
Объем газетной статьи не позволяет написать все, что наболело и накипело за эти тяжелые, самые тяжелые годы моей жизни. Я не хочу принимать американское гражданство не потому, что я живу на улице и хожу голодный. Нет, спасибо Советской власти, получил высшее образование, хорошую специальность и на жизнь хватает. Я не могу принять „американского образа жизни“. Моя мечта — возвращение на Родину, в союз свободных и равноправных народов — СССР».
Я не привожу фамилии автора по причинам, которые, надеюсь, понятны читателям.
Письмо (3)
Милая моя, сегодня утром но нью-йоркскому телевидению (четвертый канал) показывали стаю пеликанов из калифорнийского заповедника. Я не сразу понял, почему пеликаны выглядят необычно; оказывается, ночью кто-то отрубил доверчивым птицам клювы. Не головы отрубил, не убил сразу, что было бы, наверное, легче, а обрек на голодную смерть…
Ты бы видела вагоны нью-йоркского метро! Изрисованные аэрозолями внутри и снаружи, дребезжащие, потому что в них оторвано все, что отрывалось, — вагоны страдают невинно, тем более что в них продолжают ездить все те, кто ломал их. «Просто вандализм» — местная пресса не находит других объяснений.
А сегодня газеты сообщили, что в Калифорнии 28-летняя Кэрол Сэм купила в аптеке глазные капли и воспользовалась ими по назначению. Наверное, эта женщина ослепнет, как сообщили врачи из ее родного городишка Риальто, потому что в пузырьке, на котором было написано, что это глазные капли «визин», содержался концентрированный раствор кислоты.
…Жестокость в обществе нарастает с пугающей скоростью.
Уже неделю американская пресса, и нью-йоркская в том числе, пытается понять, как же это случилось, что в Чикаго погибло семь человек, выпивших капсулы болеутоляющего средства по названию «тайленол». Позже это произойдет с женщиной, принявшей капсулу экседрина. Гибель этих людей не имела ничего общего с качеством самих лекарств: попросту кто-то насыпал в капсулы цианистый калий. Конфисковали сотни тысяч бутылочек с лекарствами, принят специальный декрет о запечатывании флаконов, ну и что? Яд могли насыпать в капсулы с витаминами и еще куда угодно. В газете «Нью-Йорк пост» за 5 октября вполне резонно рассуждают не о самом случае, а о том, как мыслит убийца, решившийся на такое. Статья закачивается так: «На этот раз цианид. А сколько веществ, убивающих радиацией, насобирается вокруг нас к концу десятилетия?» Здесь любят высчитывать время, необходимое для того, чтобы террористы внутри самой Америки нелегально сделали ядерную бомбу и взорвали ее на городской площади. В недавно выпущенной издательством «Бентем букс» и ставшей бестселлером «Книге предсказаний» предрекается, что такая бомба возникнет и станет средством небывалого шантажа в ближайшие год-два. Скажем, преступники звонят из Парижа и сообщают, что в Нью-Йорке заложена бомба; они требуют того-то и того-то, а в противном случае… Или преступники звонят из Нью-Йорка и сообщают, что бомба заложена в Париже… Такие ситуации не раз уже проигрывались в кино и в художественной литературе. Можно сказать, они стали почти привычными, но привыкнуть к ним я все равно не могу.
Никто не может и не должен привыкать к такому. Американцы поразительно жизнелюбивы и жизнестойки, но то, что многие смертельные угрозы стали для них обыденными, притупляет остроту восприятия самой жизни.
Впрочем, кое-какие критерии постоянны. В Канзасе профессор Майклсон познакомил меня с тремя своими сыновьями-школьниками, запускавшими во дворе игрушечный самолетик. «Мечтаете стать военными летчиками?» — брякнул я. «Не дай бог», — ответил мне старший за всех троих сразу, а профессор укоризненно качнул головой; сам он служил в армии, но сыновьям своим того не желает. Никто из американцев, обладающих склонностью к размышлению — а таких большинство, — не говорит, что он хочет войны. И не скажет, потому что люди не для того съезжались в Америку, чтобы сгореть вместе с ней. Это старый украинский фашист Ярослав Стецько, впавший в довольно воинственный маразм, рубанул на днях с какой-то трибуны: «Разрядка может довести нас до третьей мировой войны». Для иных американских чиновников война стала риторической фразой; я не очень уверен, что даже те из них, кто время от времени тычет угрожающими перстами в нашу сторону, всерьез мечтают оказаться под бомбами. Небезызвестный Збигнев Бжезинский, бывший помощник Картера по вопросам национальной безопасности, немало сделавший для ухудшения отношений между нашими странами, и тот разводит руками на страницах «Нью-Йорк таймс»: «Мы пришли к усиливающейся конфронтации, измерения и события которой уже непредсказуемы в основном…»
Сегодня в последних известиях я увидел очень страшное зрелище. По телевидению показывали новую игру, распространившуюся в штатах Нью-Йорк и Нью-Хемпшир. Некто предприимчивый торгует комплектами для игры: маскировочный костюм и пистолет, плюющийся на десяток метров белой краской, которую можно отмыть лишь в домашних условиях специальными химикатами. Люди, участвующие в игре, разбиваются на две команды: одна команда должна перебить другую. Степень ранения или смерть играющего определяются по расположению белого пятна на костюме; глаза закрыты очками — попадание в очки засчитывается за смертельное… По седьмому каналу нью-йоркского телевидения долго наблюдали вдохновенные лица людей, играющих в убийство. Играют взрослые — этак лет от тридцати до пятидесяти: падают за стволами деревьев, целятся, нажимают на курки. Говорят об игре восторженно; глаза горят, голоса срываются. Не видя участников игры, я ни за что б не поверил, что нормальные люди могут с такой одержимостью играть во все это. Но я видел их, нормальных клерков, коммивояжеров, водителей, стреляющих друг в друга с удовольствием. Детей в эту игру пока не принимают — считается, что дети более шустры и безжалостны, — они бы всегда выигрывали.
Пресса (4)
Из газеты «Нью-Йорк пост»,
5 октября 1982 г.
«14-летний мальчик с наивным личиком вчера стал самой юной особой, которую судили в нью-йоркском районе Квинс за убийство.
В июне Джозеф Руссо (так зовут мальчика) принес пистолет в свою квартиру на 44-й улице, где он живет с родителями; он играл в видеоигру с 13-летним Эриком.
Ротжером. Пистолет был заряжен патроном, на котором было написано имя Эрика. С пальцем на курке Руссо навел пистолет на Эрика, который пробовал оттолкнуть оружие, и выстрелил…»
«16-летний мальчик был арестован вчера за то, что он ранил из револьвера трех юношей перед средней школой имени Уолта Уитмена в Бруклине. Полиция сообщает, что Джеймс Девис, бывший учащийся школы имени Уитмена, выстрелил по крайней мере четыре раза из револьвера, прежде чем уехал на велосипеде. Раненые перевезены в больницу, где сегодня утром один из них находился в критическом состоянии».
Милая моя, я вовсе тебя не пугаю. Это такая жизнь. Здесь любят сильных и несентиментальных людей, кроме прочего, когда опасность Того Самого Взрыва покачивается над страной и все привыкают, что она реальна, когда ощущение конца света нарочно придвигается к людям, очень много случается такого, о чем социологи наперед не думали. Уважение к жизни деформируется точно так же, как уважение к смерти, а уважение людей друг к другу деформируется сильнее всего. Научившись убивать внутри страны, есть охотники распространить приобретенный опыт глобально. Мы же договорились, что я буду побольше цитировать; вот и раскрываю популярный здешний журнал «Таймс». Сейчас много пишут о том, что президент Рейган вот-вот приедет в Нью-Йорк, и комментируют состав его свиты, меры безопасности. Итак, перевожу из «Таймса»: «Когда Рональд Рейган направляется от самолета военно-воздушных сил № 1 к своим лимузинам и вертолетам, а от них — к трибунам и сценам, в его свите присутствует офицер, несущий тонкий черный кожаный чемоданчик за президентом. Офицер этот — один из четырех представителей родов войск, который обязан находиться возле президента, где бы тот ни был, в любое время дня и ночи… Они хранят ключи к американскому арсеналу… кодовые слова, которыми будут пущены в дело 9480 стратегических боеголовок с общей разрушительной силой в 3505 мегатонн, нацеленных в мишени внутри СССР».
Видишь, как просто. Это уже не краской мазаться в нью-хемпширском лесу и даже не сыпать цианистый калий в капсулы. Это сразу для всех.
Здесь неизбежно задумываешься над тем, с какой лютой одержимостью мыслят над тем, чтобы нас угробить, именно меня и тебя, нас, почти не скрывая своей одержимости. И при этом здесь столько говорят о любви, будто замазывают розовой краской черную надпись на заборе. Надо знать об этой ненависти, она ведь как ствол, к которому сходится множество корешков. И, теряя из своей жизни нас, теряя все другие народы, теряя, наконец, себя самих, американцы время от времени вскрикивают, задумываясь над тем, кто же вышвырнут и что же вышвырнуто из их мира, насколько далеко зашла упрямо прививаемая им бесчеловечность.
В журнале «ЮС ньюс энд уорлд рипорт» недавно появилась статья Сола Беллоу, известного американского писателя, лауреата Нобелевской премии, сиониста и антисоветчика, очень убежденного и активного. Тем более интересно его свидетельство, потому что исходит оно от человека, относящегося к американскому образу жизни апологетически: «Я не скажу, что наши города — проклятые места, но я скажу, что твердая сердцевина общества процветания проклята. Нет надежды для людей на обочине. Никто не желает взять на себя заботу научить их хоть чему-нибудь. Они живут в постоянном хаосе, в страшном шуме. И, знаете, у них вправду-таки поражены души… В течение долгого времени эта тема была запретной. Никто не собирался рассуждать на эту тему… Создалась даже схема, вросшая во всех. Люди говорят: „Я возвращаюсь домой усталый как собака после ужасного дня во всех этих джунглях, и я уже не желаю ни о чем таком думать. Я собираюсь пообедать, выпить немного пивка, и я хочу поглядеть телевизор, пока очухаюсь, — вот такие у меня намерения“. Люди не желают бороться за человечность в самих себе. Люди стараются изгнать ужас из своих жизней, отгородившись от него привратниками, наемной охраной, автоматической сигнализацией. Они не выходят по ночам. Они избегают ходить по некоторым улицам… Больше не существует священной территории вокруг каждого из нас. Люди оказались на открытом пространстве; это справедливо во многих областях — даже в нашей половой жизни и в учебе наших детей. Мы уже привели детей к компьютерам, чтобы те их учили; учитель с его индивидуальностью уже ничего не значит. Все, что вам надо, вы узнаете из ящика…»
Пресса (5)
Из газеты «Дейли ньюс»,
29 октября 1982 г.
«Во время праздника Хеллоуин, помня о недавних случаях с отравлениями капсулой тайленола, официальные лица в Нью-Йорке предупреждали родителей и детей, чтобы те были внимательны с праздничными сладостями, в которых могут оказаться лезвия безопасных бритв или булавки.
На Лонг Айленде прямые булавки были обнаружены в конфетах трижды на этой неделе. Джеральд Лобер, старший инспектор школ, сказал, что добровольцы в праздник обзванивали семьи всех младших школьников в воскресенье между 2 и 9 часами пополудни. Предварительно объявлялось, что те дети, которые возьмут телефонную трубку, получат подарки.
В Квинсе вчера женщина обнаружила булавки в конфетах, купленных ею еще две недели назад…»
Из газеты «Нью-Йорк таймс»,
30 октября 1982 г.
Заглавие статьи: «Эра нового садизма». Отрывок из другой статьи этого же номера:
«На празднике Хеллоуин созданы специальные центры по проверке детских коробок с конфетами. Больницы предоставляют рентгеновское оборудование для проверки, нет ли в сладостях лезвий или булавок. После семи смертных случаев в Чикаго в связи с приемом отравленных капсул тайленола последовало более 270 сообщений о подозрительных продуктах».
Из газеты «Нью-Йорк таймс»,
8 ноября 1982 г.
«Вагон экспрессной линии метро с 20 пассажирами был сброшен с рельсов на участке от аэропорта имени Кеннеди к Манхэттену. Произошло это в Бруклине, в 300 футах к северу от станции Авеню Гранта в 7.30 вечера, когда передний вагон ударился в металлическую балку, положенную поперек рельсов».
Письмо (4)
Милая моя, за время, что я в Нью-Йорке, мне дважды пришлось заболеть и дважды спастись не то чтобы от больших неприятностей со здоровьем, но от больших расходов. Вначале у меня выкрошился зуб, но выкрошился удачно, поскольку замазать его цементом смогла супруга одного из сотрудников советского представительства, некогда изучавшая стоматологию. Затем я очень простудился, но тут помогли мне собственные призабытые медицинские знания и еще несколько средств, о которых я тебе уже рассказывал, о других расскажу дома. Во всяком случае, мои сложности со здоровьем, кажется, позади, и Нью-Йорк не ввел меня в соприкосновение со своими больницами, с которыми он все время мучится: то в них мест недостает, то стрельба начинается, как принято в этой стране повсюду. Моя болезнь вместилась в Нью-Йорк как нечто несущественное и незаметное. Город этот любит разговаривать не о болячках, а о любви: он разговаривает и поет о любви на всех языках и всех подвластных ему волнах эфира. Я поневоле думаю о любви, потому что столько слышу о ней: голоса с пластинок, экранов и магнитофонных лент рассуждают на эту тему не умолкая. Когда мне столько повторяют о любви, я начинаю думать, что с ней что-то не в порядке. И тем не менее меня убеждают, что человек из любой страны, приехавший в Америку, должен переживать примерно то же, что переживает верующий мусульманин, сподобившийся в Мекке потрогать священный камень Каабу.
Вечная американская убежденность в том, что лишь существо, неполноценное эмоционально и умственно, может не влюбиться в Америку и любое из проявлений ее жизни немедленно, отчетлива и в отношении к Нью-Йорку.
Город очень разный, ты знаешь; нигде не накопилось столько грязи, но нигде и нет такого разнообразия жизни. Ну где еще можно научиться составлять букеты прямо у японца, преподающего свое умение на улице? Ну где еще можно поговорить с гадалкой, предоставляющей свои услуги по телефону? Ну где еще тебя обласкают или ограбят так быстро и в такой степени, как в Нью-Йорке? Вернее, может быть, оно где-то и есть все по отдельности, но все вместе встречается только здесь.
Вчера я ходил на аукцион; пожалуй, только еще в Лондоне можно попасть на такие распродажи великих произведений искусства, распахнутые для широкой публики. Над входом в здание написано: «Полюбите эту картину и освободите ее!» — и здесь о любви… На выставке произведений, предлагаемых для продажи, было несколько работ «голубого» Пикассо начала века, среди них прелестный реалистический портрет; была там его же «Кубистская голова», написанная в 1907 году, когда и кубизм-то едва проклевывался. Начальная цена каждого из этих полотен установлена в 90 тысяч долларов. Долго я разглядывал «Обнаженную» Кандинского, которую прежний владелец выставил, объявив первую цену в миллион долларов. В полмиллиона оценен «Портрет девушки в лодке» Ренуара; сотнями тысяч отделены от попыток без труда завладеть ими полотна Дега, Вламинка, Сезанна и Гогена — великолепная коллекция французских импрессионистов, которую можно здесь видеть в течение нескольких дней и которая после распродажи исчезнет в частных коллекциях так же неожиданно, как нежданно вынырнула из них. В Нью-Йорке, как на океанском дне, спрятано очень много, и в такие отливы, как этот, можно увидеть лишь малую часть незримых богатств. Не знаю, чем я убедил стражей, а их много и все с револьверами в расстегнутых кобурах, но мне разрешили вплотную разглядеть произведения, выставленные на продажу. Это было удивительное чувство, сравнимое разве что с хождением по музейным запасникам, — трогать и вплотную разглядывать освобожденные от стекол полотна великих мастеров, погладить рукой полуметровую бронзовую скульптуру Александра Архипенко, отлитую им в годы парижской бедности начала века и выставленную теперь для продажи под названием «Стоящая женщина» с начальной ценой в 45 тысяч долларов.
Как они съезжались сюда со всего света: древний китайский фарфор и японские деревянные пагодки, английская мебель и картины европейских мастеров? Доллар намагничивается, притягивая за океан то, чего здесь никогда создать не могли; доллар, как странный камертон, задающий звучание многим песням.
…Я глядел, как лысоватый блондин небрежно постукивает деревянным молотком по столу, закрывая торги по тому или иному произведению искусства. На сцене, задрапированной бархатом и плюшем, поворачивалось устройство, похожее на дверь-вертушку, и в каждом прямоугольном проеме возникал в луче прожектора новый шедевр. Все на продажу; «Полюбите эту картину и освободите ее!»; при входе на углу Йорк-авеню и 72-й улицы вручали каталоги аукционов Сотби, которые на этой неделе будут проходить пять раз.
На одном из плакатиков изображалась картина, к раме которой прикреплен значок «ILNY» (как я уже упоминал, вместо буквы L на значке красовалось карточное сердечко алого цвета).
Для приехавших в Америку недавно, говорящих только по-русски, значок «Я люблю Нью-Йорк» выпущен на русском языке. Есть такой значок для китайцев, для поляков и такой же есть для испаноязычных американцев. Ты обязан любить Нью-Йорк, раз приехал сюда. Впрочем, любить этот город все-таки рекомендуется с оглядкой. Делегатам стран, представленных в ООН, среди которых преобладают люди, так сказать, «видавшие виды», выдается, кроме всех схем с указанной формулой любви на обложках, еще и официальный справочник, наполненный вполне практическими советами, следуя которым можно наиболее полно насладиться любовью Нью-Йорка. Цитирую справочник прямо с третьей страницы:
«Избегайте темных и пустынных улиц, особенно по ночам.
Носите с собой лишь столько наличных денег, сколько вам требуется для неотложных расходов. Не показывайте своих денег в людных местах (на автобусной остановке или при выходе из банка).
Никогда не оставляйте свой гостиничный номер, дом или квартиру незапертыми.
Никогда не отпирайте дверь незнакомым людям или незваным гостям…»
Оба «никогда» подчеркнуты в оригинале, где есть еще ряд предупреждений-угроз. Когда меня очень пугают, я всегда внутренне сопротивляюсь этому; поначалу я несколько иронично воспринял и эту памятку, за что поплатился. Выходя из Центрального вокзала, где магазины вечером работают дольше, чем где бы то ни было, и где мне захотелось купить себе футляр для очков, я наткнулся на пьяненького человечка, сказавшего мне на странном испано-английском наречии: «Вижу, человек, что ты из Вест-Индии. Мы друг друга всегда узнаем. Вижу, что ты земляк, и не хочу дырявить своего…» Может быть, он просто пугал меня, но проверять серьезность намерений пьянчужки я не хотел и дал ему пять долларов. Тот взял деньги и тут же заорал по-испански, громко и не мне…
Их здесь много таких, говорящих по-испански, затерявшихся в нью-йоркских бетонах и гранитах. Для бывших латиноамериканцев работают два канала местного телевидения, беспрерывно вещающих о счастье жить в Америке; такое впечатление, что городу беспокойно со своими «латинос», «чиканос» (так их зовут здесь) и он хотел бы их сманить к телевизорам, усадить в кресла и немного помять в мощных объятиях.
Уже сейчас в Соединенных Штатах около четырнадцати миллионов испаноязычного населения и, пожалуй, если чего для них и достаточно в Америке, то это телевизионных передач. Безработных среди «латинос» очень много; пропаганда твердит, что трудно приспособить мечтательного и романтичного выходца из бананово-лимонных краев к бурям здешней жизни. Не знаю, каково им, образовавшим огромную, перекатывающуюся внутри Штатов страну в стране, но я и сам приспособиться не могу. Думаю, что латиноамериканец, которого никто не любит, так же несчастен, как любой другой человек. Мне целый день по телевидению и по радио передают сладкие мексиканские серенады. Боже мой, до чего бы хотел я, чтобы все люди были так наполнены счастьем, как эти по-птичьи захлебывающиеся голоса («О, приди ко мне, моя голубка, как я тебя люблю»). Птичка и медвежата мелькали в моем поле зрения, пока в газетах я не натолкнулся на историю, где тоже фигурировал медведь. Впрочем…
Пресса (6)
Из газеты «Нью-Йорк пост»,
28 сентября 1982 г.
«Надзиратель парка Гордон Девич сказал, что меры безопасности будут пересмотрены в парке после случившейся в этот уикенд смерти мужчины в медвежьей клетке…
Мужчина, опознанный как Конрадо Монес, 29 лет, был обнаружен изломанным и изжеванным в прошлое воскресенье в клетке у Сканди, 9-летнего белого медведя…»
Из газеты «Дейли ньюс»,
28 сентября 1982 г.
«29-летний иммигрант с Кубы, который был профессором биологии в Гаване и два года назад эмигрировал в Штаты, был убит белым медведем в зоопарке Центрального парка в воскресенье. Тело Конрадо Монеса было вчера опознано Хунальдо Планой, другом погибшего. Плана сказал, что Монес был очень подавлен, потому что не мог найти себе соответствующую работу. „Он работал в галантерейной лавке на Манхэттене и позже на бензоколонке в Бронксе… Он писал письма в университеты, потому что хотел преподавать“, — сказал Плана. Служащие парка определили Монеса как „бездомного, тронутого бродягу“, который около 4 часов утра прыгнул в клетку к медведю…»
Из журнала «Тайм»,
18 мая 1981 г.
«В Нью-Йорк сити только лишь беженцев из Сальвадора за три месяца стало 20 тысяч, и количество это все растет… Сенатор-демократ Уолтер Хаддлстон из Кентукки предположил, что если нынешние тенденции сохранятся, иммиграция добавит по крайней мере 35 миллионов людей к нынешнему американскому населению до 2000 года».
Из журнала «ЮС Ньюс энд уорлд рипорт»,
16 августа 1982 г.
«В июле среди рабочих безработица составляла 9.8 процента, но среди подростков она была 24,1, среди взрослых чернокожих — 18,5, среди взрослых белых — 8,7, среди чернокожих подростков — 49,7, среди испаноязычного населения — 13,9 процента».
Глава 3
Когда-то, когда я приехал в Нью-Йорк впервые, меня тоже поразила настойчивость, с которой здесь говорят о любви. В последующие приезды это ощущение не проходило, а подкреплялось, достигнув в этот раз вершины.
Два года назад в стене моего номера — как раз в изголовье-была смонтирована деревянная панель со множеством кнопок и с циферблатом, где стрелки не двигались: просто их надо было поставить на время, в которое ты хотел пробудиться. И в тот момент, когда часы на городской ратуше разводили свои стрелки в позицию, точно соответствующую той, на которую ты поставил свои, включалось радио и вкрадчивый голос говорил: «Я люблю тебя». Затем этот же женский голос (не знаю, как поступали, когда в номере жила дама) пел сладкую песню о любви. Просыпаться от этой песни не хотелось, но и спать уже было нельзя. Я включал телевизор. «Доброе утро!» — здоровался диктор, и я понимал, что он никого в жизни не любил так, как меня. На бамперах у некоторых автомобилей, из всех, что сбивались у меня под окнами на промозглой утренней улице, тезис был изложен на транспарантах в урапатриотическом варианте: «Люби Америку или убирайся вон!» Дворник двигал щеткой на длинной ручке, старательно моя тротуар; на фартуке была написана английская буква «ай», то есть «я», затем было нарисовано большое красное сердце, символизирующее и заменяющее слово «люблю», а дальше шло сокращенное название города. Получался текст, уже вам знакомый: «Я люблю Нью-Йорк!»
Мне кажется, что всю свою жизнь я ощущаю чужую ненависть и чужую любовь. В Нью-Йорке я задыхался от великой тоски по ласковому или хотя бы откровенно доброжелательному человеческому прикосновению, неизменно чувствуя большие, всегда влажные и усталые ладони Нью-Йорка у себя на лице. Мне всегда очень хотелось и хочется, чтобы меня здесь больше любили и меньше объяснялись мне в вечной любви. Наверное, такие ощущения приходят время от времени ко всем молодым женщинам, которые несчастны потому, что столькие им объясняются, столькие заигрывают, а любит кто?
Поскольку я мужчина, то это предположение — чисто из писательских экскурсов в психологию. Ньюйоркцы же иногда формулируют свою любовь к городу весьма странно: «Это будет великий город, если нам когда-нибудь удастся его построить»; город весь в шрамах — от великой любви, должно быть, его все время рушат и перестраивают. Даже по официальной статистике, больше половины нью-йоркских зданий возведены после тридцатых годов нашего века. Мы с ними сверстники, и я-то хорошо знаю, как непросто в этом возрасте ежедневно ломать себя и перестраивать. А они перестраивают неутомимо. Рядом с домом, где я живу, недавно еще стоял другой дом. Сейчас там ровная площадка с остатками щебня и уже выстраиваются вагончики: будет еще один небоскреб. Последнее ноябрьское приложение к «Нью-Йорк таймс» целиком посвящается Нью-Йорку конца нашего века. С нынешним городом у него будет немного общего: в основном номера улиц. Все перестраивается…
В 1890 году в Нью-Йорке появился первый двенадцатиэтажный дом. Разваливая старые стены и возводя новые, местные жители при этом пытались сохранять добрые отношения с богом даже тогда, когда между собой у них не все бывало в порядке. Церкви, как правило, сохраняют, н они стоят серыми памятниками минувшему веку, особенно выделяясь на фоне зеркальных стен центрального Манхэттена. На Бродвее с успехом идет мюзикл «Твои руки слишком коротки, чтобы боксировать с богом», и на сцене Элвин Театра главную роль в этом спектакле исполняет бывшая звезда музыки диско Пэтти Лабелл. Так или иначе, но в Нью-Йорке сейчас 1728 протестантских церквей, 1254 синагоги, 438 католических соборов и 82 православные церкви. Про буддистские, индуистские, синтоистские и другие заведения по исповеданию экзотических религий я не говорю, потому что в них не был. Не встречался и с членами весьма многочисленной секты, возглавляемой южнокорейцем Муном: судя по всему, этот Мун очень большой жулик, о чем не раз уже писали. Он проворовывался, соблазнял прихожанок, пускался в сомнительные аферы, но Муну прощалось многое, потому что он всегда уверял, что действует от имени бога, к тому же бога, резко настроенного против социализма. В Америке церкви освобождены от налогов; в связи с этим мне рассказывали о трех пройдохах, основавших и зарегистрировавших свою собственную религию и ее храм с тремя прихожанами, к которому оные прихожане приписали собственную фабричку. Несколько лет пройдохи избегали налогового инспектора, пока не встретились с полицейским.
Здесь говорят о любви, молятся о любви, выпускают значки, маечки и талисманы со словами любви, но каждый думает о своем.
Впрочем, вольно мне рассуждать, живя в огромном чужом городе так недолго или наезжая сюда время от времени. Люди в Нью-Йорке долговечнее, чем дома. Они повторяют, как заклинание, слова о необходимости возлюбить друг друга, а людей становится все больше — ведь это входные ворота из Европы в Америку, по крайней мере в ее Соединенные Штаты; это ведь входные ворота с юга на север — для тех, кто стремится к промышленным столицам Америки.
Джорджа Вашингтона, легендарного президента, приводили к присяге именно здесь, в Нью-Йорке. Остальные президенты присягали и присягают в городе Вашингтоне, но оттуда они клянутся в вечной любви к Нью-Йорку и его населению, потому что иначе нельзя. Не хочу именно в этом месте рассказывать вам, сколько народу здесь убивают, грабят п насилуют ежедневно: в конце концов, вы ведь знаете, какой это большой и разнообразный город.
Впрочем, почему бы и не сказать? Словами о том, что город большой, а значит, все, мол, в нем может случиться, местные статистики сопровождают информацию о том, что в среднем за год здесь совершается 1800 убийств, 10 000 изнасилований, 100 000 ограблений, 200 000 краж со взломом. Так или иначе, цифры эти округлены: убийств, к примеру, год назад было 1821; округляют, как правило, и другую цифру — о колебаниях в количестве населения. За последние десять лет более миллиона человек покинули этот город, но пришли другие, город набухает водой и сбрасывает ее сквозь плотины, как река весной. «Я люблю тебя», — шепчет мне телевизор. По полицейским данным, большинство из десяти тысяч изнасилований, о которых я вам упомянул, начинались с того, что насильник объяснялся в любви. Но это так, к слову пришлось.
Когда в 1898 году пять городских районов — Манхэттен, Ричмонд, Бруклин, Куинс, Бронкс — объявили о своем объединении в едином Нью-Йорке, город сразу же стал трехмиллионным, тогда мало таких было на белом свете. Во многих отношениях таких и сейчас нет.
Теперь от разговора о том, что происходило с городом, я возвращаюсь к тому, что происходило в Нью-Йорке со мной во вполне конкретное время. И все-таки главное в том, что у меня никогда не исчезало чувство, будто между всеми на свете людьми и всеми временами связь, конечно же, существует, очень четкая и личная связь — просто у всех она по-разному, просто иногда мы сами себе мешаем ощутить человека рядом. Или очень упрощаем этого человека. Так, как едва я не упростил Кэт. Она подошла ко мне в Центральном парке, щурясь от осеннего солнцепека, и, потряхивая рыжей головой, спросила, который час. Вначале я подумал, что Кэт рассчитывает меня совратить, и сразу же хотел ей сказать, что ни избытка темперамента, ни избытка денег у меня нет. Но Кэт спросила, что у меня за часы, после чего я все-таки заметил ей, что никуда с ней не пойду.
— А я вас никуда и не зову, — сказала мне Кэт и вспыхнула, отчего лицо ее стало пунцовым, что в сочетании с рыжими прической и платьем произвело впечатление библейского огненного куста. — Хотите, я покажу вам Нью-Йорк? — спросила Кэт. — Задаром! Вы любите Нью-Йорк?
Вместо ответа я нарисовал на земле ту самую формулу «ILNY» и пожал плечами.
Да простит мне Кэт и да простите мне вы, читатели, но первая мысль, возникающая у меня за границей при встрече с человеком или явлением, непонятным с первого раза, — это подозрение в том, что человека или явление организовали специально для меня. Это, кстати, система, по которой американский президент объясняет все внутренние и внешние сложности своей страны; у того выходит, что все неполадки с налогами, солнечной радиацией и уровнем воды в Миссисипи вызваны советскими происками.
Оказалось, что Кэт поссорилась со своим парнем и откровенно скучала. Я заинтересовал ее просто потому, что отличался от других посетителей парка, — она даже не уточнила, чем именно отличался. Во всяком случае, не было причины, мешающей выйти из парка вдвоем. Мимо нас с лютым грохотом пролетали шумные негритята на еще более шумных специальных досках, опирающихся на шарикоподшипники. В ликующем грохоте негритят слова были почти не слышны, и со стороны мы с Кэт выглядели, должно быть, как двое родственников (папа и дочь, не иначе), вышедших погулять. К этому моменту я уже выяснил, что Кэт недавно исполнилось двадцать три года. Кроме того, она боялась возвращаться домой в Куинс, в высокий дом, где живет ее семья и где сегодня погибла девочка. Этого нарочно не придумаешь. Если парня своего Кэт могла высчитать и придумать, то история девочки из ее дома была определенно настоящей. По телевидению и в газетах я уже видел эту крышу, и квадратный внутренний дворик, и открытую чердачную дверь…
Пресса (7)
Из газеты «Дейли ньюс»,
28 сентября 1981 г.
«17-летняя Лаура Эвелин из Куинса была задушена шнуром, перед тем как ее сбросили с крыши 13-этажного дома, где она жила, показало вчерашнее вскрытие. Лауру убили около 2.45 ночи, когда она возвращалась в свой дом на 130-й авеню, в кооперативный комплекс Рочдейл Виледж, рассчитанный на 5000 семей. Она была на свадьбе в расположенном рядом общественном центре.
Полиция сообщила, что неизвестный или неизвестные захватили ее в лифте, откуда по пожарной лестнице вытащили на крышу…»
Мы с Кэт поговорили о том, как человек одинок, — популярная тема в Нью-Йорке. Она вспомнила кубинца, задавленного белым медведем («Мы с этим человеком поняли бы друг друга, — сказала она, — потому что, когда человек лезет к медведю, чтобы поговорить о любви, одиночестве и всем остальном, значит, он дошел до точки»).
— Что такое любовь, Кэт? — спросил я.
— Это такое, когда человек не одинок, — ответила моя рыжеволосая спутница без малейшего напряжения: очевидно, она уже размышляла на эту тему.
…Вот что странно: разговаривают два человека, ничем не связанные, и в разговор постепенно включаются многие события и люди, понемногу формирующие хоть шаткую, но общность. Даже погибая от одиночества, человек никогда не бывает одинок совершенно: все его друзья и враги, соседи по дому, родственники, приятели и сослуживцы так или иначе формируют фон для беседы. В чужих городах со случайными собеседниками разговаривать поучительно — дома я, наверное, давно уже попрощался б с такой вот Кэт, а здесь мне было интересно прикладывать чужие мерки к чужому для меня миру.
Сразу же скажу: Кэт совершенно не боялась незнакомых мужчин. В этом смысле она была похожа на большинство своих нью-йоркских сверстниц, которые ходят в кроссовках (неся в сумочке красивые туфельки на случай, если надо будет кому-то понравиться), улыбаются кому угодно (сберегая главную улыбку для особого случая).
Кэт сияла от потребности в человечестве, но в то же время несколько раз подряд вздохнула по своему парню, с которым так некстати поссорилась; ей надо было вокруг себя сто миллионов людей обоего пола, но со всей непредубежденностью доброго человека она искала в мире и собственный причал понадежнее — все это одновременно, все сразу.
Нью-Йорк расступался перед нами, и мир был прекрасен. Мы вышли на Пятую авеню, к знаменитому отелю «Плаза», где на огромной, по нью-йоркским меркам, и вполне европейской по виду площади отдыхали извозчики в шелковых цилиндрах и алых жилетах — этакий образ аристократа, пришедшего домой после свидания с королем и сбросившего лакею фрак. Сытые и чистые лошади, запряженные в фаэтоны с лакированными боками, разглядывали толпу потенциальных пассажиров. Но толпа не рвалась кататься — дорого; у меня тоже если и были деньги, то самое большее на мороженое. Мороженое продавали у «Плазы» на площадке под красивыми зонтиками, с видом на лошадей живых, меланхолически переступающих по булыжнику, и бронзовых, которые несли своих героических седоков на памятниках у Центрального парка.
Все это было весело, неправдоподобно и в то же время логично, будто в сказочной повести Юрия Карловича Олеши о толстяках. Только лишь я подумал о том, что для полного счастья не хватает музыки, как возникла и музыка. Это были медные инструменты и четкие, ритмичные удары больших барабанов; музыка взорвалась, и стало ясно, что замолкнет она нескоро: к нам шел парад.
Парад, двигавшийся по Пятой авеню откуда-то снизу, от небоскребных комплексов, воткнувшихся в копченое небо, тоже возглавлялся лошадьми. Вернее сказать, монументальными всадниками, конными полисменами. Но все-таки лошади были заметнее, чем их седоки, затянутые во все черное. И еще заметнее были декоративные костюмы участников парада — членов немецкой общины Нью-Йорка, одной из старейших в городе национальных групп. Мы с Кэт ели мороженое, а они шли, затянутые в черные и зеленые камзольчики, с женами в замшевых шортах и сарафанах (или в одежде, которая в немецкой табели о национальных костюмах похожа на сарафан).
И тут, вспышкой напомнив, что город это чужой и любят здесь далеко не каждого, перед глазами у меня поплыл большой транспарант с английскими словами «Верните нам!», а затем серая грудь в крестах и плакат со словом «Кенигсберг», и еще одна такая же грудь, и над ней плакат со словом «Данциг».
По Пятой авеню плыл еще один автомобиль марки БМВ, включенный в состав парада; над автомобилем реял большой флаг с призывом: «Возвратите нам Данциг!» Человек за рулем БМВ был одет в уже не новый серый мундир гитлеровского вермахта и в серую же тирольскую шляпу с зеленым перышком. На груди у человека было много наград, среди них несколько крестообразных.
— А где это Данциг? — спросила у меня Кэт, лизнув мороженое.
— Нигде, — сказал я. — Такого города уже нет. Он был до войны, и, чтобы попытаться вернуть его, войну надо начать сначала.
Кэт ковырнула мороженое ложечкой и демонстративно утратила интерес к шествию, которое громыхало барабанами, мешая нам сосредоточиться на беседе.
— Что вы делали в парке? — улыбнулась Кэт и прищуренно взглянула на меня. — Вы ведь приезжий?
— В Америке все приезжие. Даже те, кто празднует очередную годовщину своего приезда, как эти вот, на параде.
Мне не хотелось, чтобы Кэт втянула меня в долгую беседу, где ей многое будет непонятно; я уже устал от нашего с ней безразличного добродушия, от чужой беды и чужой наглости, от чужой торжественности: в нью-йоркский день было напихано всего предостаточно. Мы еще немного поели мороженое, и я написал свой нью-йоркский телефон и адрес на визитной карточке. Над нами — прямо над зонтиками кафе — трепыхался большой флаг с алым сердцем и словами о любви к Нью-Йорку.
— Сегодня по городу бродить не надо, Кэт, — сказал я усталым и немолодым голосом так, чтобы она ощутила. — Ты мне позвони…
— Ага. — грустно взглянула Кэт и так же грустно улыбнулась, и я почувствовал, до чего ей одиноко. — Вы точно приезжий. Американец бы попробовал меня соблазнить. Или еще что-нибудь в этом духе…
— А что бывает в этом духе? — спросил я.
— Позвоню вам, раз вы такой, — сказала Кэт и спрятала мою визитную карточку, не читая. На карточке было написано, из какой я страны.
Сегодня утром президент Рейган в очередной раз грозил нашей стране своим выразительным голливудским пальцем и всячески нас поносил. Это надо видеть, потому что следом за президентом, как правило, подключаются разные мелкие шавки, внушающие, что главные американские тревоги связаны именно с нашей страной. И слова «Я люблю Нью-Йорк» начинают звучать как призыв защитить бетоны любимого города, причем защитить их именно от меня и моих соотечественников.
Кстати, еще раз о любви. Видя и слыша все здешние антисоветские речи, понимая, сколько здесь делается для того, чтобы не только оболгать нас, но и друзей наших, я думаю, до чего же иногда добры бываем мы к тем, кто не заслуживает даже доброго слова. Только что я купил нью-йоркскую «Дейли ньюс» и прямо на улице, на ходу, прочел там заметки некого бегуна, наивно приглашенного в нашу страну для участия в марафонском беге. Почему-то я представлял, читая, как с этим типом носились: знаю ведь, спрашивали, не жмут ли ему кроссовки и нравится ли ему номер с окнами во двор. От всей души небось кормили-поили и не прочтут никогда фельетончик, сочиненный от имени некого бегуна по имени Арти. Как же он изгаляется над гостеприимством москвичей! Он рассуждает о том, о чем не имеет понятия, в том числе о нашей военной памяти; он рассказывает о том, как пил с подонками и как продавал беговые туфли. Воспоминания этого самого Арти строго избирательны и, как ни странно, тоже связаны иногда со словом «любовь». «Я роздал множество значков „Я люблю Нью-Йорк“ людям, с которыми виделся», — пишет нью-йоркский марафонец. А с кем он виделся? «…В Киеве я сидел в парке и пил пиво с молодым советским стоматологом и с другими парнями. Все они сходят с ума от Элтона Джона и битлов. Они их слушают по радио „Свобода“. Такие вот молодые советские граждане и симпатизируют Америке…» Значит, и в Киеве побывал парень, и в Киеве нашел приятелей по вкусу; а небось и в Киеве ему показывали что получше, наверняка не только пивные бутылки на скамейке…
Так-то. Чужая душа действительно бывает потемками, особенно если наплескать в эту душу чего почернее. Так что мне было даже интересно «в свете вышеизложенного», позвонит ли мне Кэт.
Впрочем, попрощавшись с Кэт, не видя вокруг себя никого из людей знакомых, я, пожалуй, снова вернусь на Пятую авеню, но не на сегодняшнюю. Поскольку я уже видел один парад, хоть не разглядывал его повнимательнее, думаю, что надо исчерпать тему нью-йоркских парадов, ибо они стоят рассказа.
Дело в том, что ньюйоркцы обожают парады. Нью-йоркские парады состоят из повторяющихся элементов; можно с уверенностью сказать: кто видел один парад, видел их все. После немецкого, в общем, не очень шумного и долгого, в следующие воскресенья были еще польский и латиноамериканский парады. А один парад проводится в понедельник: это самый известный, тот, что на День Колумба, Считается, что Колумб открыл Америку во второй понедельник октября. Этот день считается в стране нерабочим; в полдень на праздничной Пятой авеню все магазины непривычно закрыты — начинается шествие. Программа его объявляется наперед; в этом году колонны двигались от 44-й до 86-й улицы — это пространство огородили синими полицейскими барьерами, чтобы прохожие не перебегали улицу и не путались в ногах у манифестантов.
Впереди гарцевали конные полицейские в шлемах — они едут впереди всех парадов; затем ехали несколько полицейских в автомобилях — тоже как обычно. Шли небольшие отряды из военных школ — вот это уже бывает не всегда; армия — дело государственное, и курсантов отпускают лишь на официальные шествия. Армейская часть парада хотела запомниться: отряды топали на месте, стучали прикладами и вертели карабины вокруг руки. Один номер был совершенно цирковым: первая шеренга не глядя, под музыку, одновременно швыряла свои карабины назад, через голову строя, в задней шеренге карабины ловили. Затем весь отряд поворачивался крру-гом, задняя шеренга становилась первой, и теперь уже она швыряла карабины назад. И еще раз поворачивалась.
Кроме солдат и полицейских, в строю было много красавиц — мисс разного ранга, то есть девушек, избранных первыми красавицами по месту работы или проживания. Красавиц, как правило, хватает на все парады, хоть красавицы разные (на немецком шествии вышагивали этакие крутозадые, грудастые брунгильды в зеленых жилетиках и туфлях без каблуков). Шло еще очень много оркестров — по преимуществу духовых, которые не жалели усилий, сотрясая нью-йоркский воздух. Оркестры тоже бывают всегда, зачастую одни и те же.
Что в этот День Колумба было особенным — это два кандидата в губернаторы. В начале ноября произойдут выборы, к середине октября осталось два претендента на должность: от республиканцев — Лео Лерман (мультимиллионер, владелец сети универмагов, уже к Дню Колумба израсходовавший на свою избирательную кампанию около семи миллионов долларов личных денег); от демократической партии — Марио Куомо (заместитель нынешнего губернатора, израсходовал около двух миллионов). Сторонники Куомо несли плакат: «Марио — в губернаторы! У него есть опыт, которого не купишь за деньги». Восприняв это как намек на свое богатство, Лерман шел в широких фермерских подтяжках и в рубахе без галстука, всем видом показывая, до чего он простой парень. За ним несли плакат с категорической формулировкой: «Хотим Лео в губернаторы!» Забегая вперед, скажу, что изберут Куомо, который очень откровенно декларировал свое несогласие с рейгановскими принципами экономики: объявляя об этом, теледиктор улыбнулся и пошутил насчет того, что жена, мол, всыплет Лерману за выброшенные деньги. Хоть все знали, что большие должности стоят в Америке больших денег: походы в подтяжках — из области забав. Президент Рейган разгуливает в ковбойских сапогах — ну и что?
Вот, собственно, и все про парады. Можно добавить, что часть оркестров — негритянские, с переплясом; часть духовых оркестров — дамские, это очень забавно, потому что дамы серьезные и в очках. Очень много публики в маскарадных костюмах. Некоторые королевы красоты едут в колесницах, увитых цветами, — это уж которая как смогла.
Над парадами пахнет дымком и жареными каштанами, потому что на Пятую авеню съезжаются множество торговцев шашлыками, орешками, фруктами и жареными сосисками. Вот и все.
Да, чуть не забыл. Над колоннами множество плакатов и надувных шариков с надписями «ILNY». Кандидаты в губернаторы пожимают руки всем желающим, приговаривая «I like you!» («Ты мне нравишься!») пли «I love you!» («Я тебя люблю!»). Так что с любовью у них все в порядке.
Пресса (8)
Из газеты «Нью-Йорк пост»,
27 сентября 1982 г.
«Кампании, связанной с провозглашением лозунга „Я люблю Нью-Йорк“ исполняется пять лет, и начиная с четверга город будет праздновать этот юбилей. Празднование состоится на борту трансокеанского корабля высшего класса „Скандинавия“, который будет специально поставлен на якорь в Гудзоне. В течение ближайших недель самые престижные рестораны и клубы города покажут программы „Я люблю Нью-Йорк“…»
Из газеты «Дейли ньюс»,
28 сентября 1982 г.
«82-летнюю женщину застрелили при попытке ограбления у нее на квартире в Гринвич Виледж, а квартира эта находится за углом апартаментов мэра города господина Коча. Полиция сообщает, что Хетта Зальцман была убита одним выстрелом в левую сторону шеи…»
Из газеты «Нью-Йорк пост»,
28 сентября 1982 г.
«Три героических полицейских прыгнули в Ист Ривер вчера утром, чтобы спасти женщину, бросившуюся в реку в попытке самоубийства. Полицейские провели в воде 20 минут, сражаясь с женщиной, которая не хотела, чтобы ее спасали…»
Из газеты «Дейли ньюс»,
28 сентября 1982 г.
«Безработный мужчина в Куинсе застрелил свою 21-летнюю подругу, а затем застрелился сам в летнем домике, где они жили…»
Примечание. Я не выбирал дни, просто взял наугад очередные парадные даты, и не могло не поразить, что в те же дни и часы, когда по Пятой авеню шагали великолепные парады и в театрах шли концерты и спектакли мирового класса, смысл и направление жизни отражались не только ими. Параллельные миры пересекались, и в точках пересечения капала кровь…
Письмо (5)
Милая моя, на этой сессии ООН места нашей делегации — в третьем ряду слева от трибуны, сразу же за спинками кресел делегаций Саудовской Аравии и Судана.
Я пишу «за спинками кресел», потому что представители этих двух стран не часто снисходят до посещения заседаний, и мне очень хорошо видны каменные трибуны, чуть приподнятые на подиум. На высокой, синевато-зеленой, как морская вода, сидят Генеральный секретарь ООН, председатель сессии и другие лица. Они так высоко, что снизу мне видны разве что их головы и еще их очки, отражающие свет разбросанных под потолком ламп. Время от времени председательствующий благодарит предыдущего оратора и представляет слово следующему. Вслед за этим начинаются события странные: закончивший выступление, министр иностранных дел, как правило, останавливается в проходе между рядами напротив трибуны, поворачивается к ней, и делегаты выстраиваются для того, чтобы пожать ему руку. Сессия продолжается, новый оратор сообщает о своих и своего правительства взглядах на мировые проблемы, но примерно первые пятнадцать минут выступления половина зала не слышит: пожимают руки. С начала сессии я видел всего одно исключение: к министру иностранных дел Израиля Ицхаку Шамиру после его выступления подошли всего три человека…
За несколько последних лет уровень ненависти в Нью-Йорке возрос в несколько раз; творцы ненависти, особенно ненависти к социализму, подчеркивают, насколько они довольны собой и уверены в себе, — это не добавляет доброй уверенности в работе ООН. Когда правительство Рейгана заявило, что будет саботировать работу Объединенных Наций, если с сессии удалят Израиль (а дело шло к тому), когда, что называется, выкручивали руки делегациям малых стран, когда западные государства во главе с США вовсю торгуют с расистами из ЮАР, напряженность в международном сообществе возрастает. Осколки, разлетающиеся от бомб, взорванных захватчиками в Ливане, подавленная забастовка американских авиадиспетчеров, безработица и беспорядки в самих Штатах — все это рикошетом хлещет по стенам ООН, обсуждающей те же вопросы, но в мировом масштабе, и видящей, что великая держава, принявшая нас в своем самом большом городе на время сессии, сама захлебывается в ненависти и нерешенных проблемах. Если ООН — это зеркало, то сейчас оно отражает лицо человечества, вставшего перед такими серьезными проблемами, которых еще не было никогда. Когда зал Генеральной Ассамблеи вздрогнул от аплодисментов, приветствуя А. А. Громыко после его речи, то это вовсе не значило, что в зале прибавилось марксистов: просто каждое слово надежды здесь ценится все дороже. Я оглядывал зал во время речи советского министра: никогда еще не было с начала сессии столько внимания на лицах умных и опытных дипломатов; только американская представительница госпожа Киркпатрик встала во время речи нашего министра и покинула зал. Это было как напоминание о том, что океаны злости уже хорошо видны и отмечены на всех картах, репутации у людей и стран сложились накрепко, и это очень важно.
С потолка зала Генеральной Ассамблеи круглые светильники посылали каждому из собравшихся ту же порцию света; мощные кондиционеры гнали для каждого ту же порцию свежего воздуха. И только слова приходили ко всем по-разному. Впрочем, запомнились мнб не только слова…
Я тебе расскажу еще об одном, это сразу бросается в глаза, и, наверное, не мне одному. Поскольку между мной и трибуной два пустующих ряда кресел, то телохранители, стоящие и сидящие но бокам от трибуны, глядят прямо на меня. Это здоровенные парни в черных костюмах и со значками с золотой звездочкой или красным квадратиком, чтобы узнать друг друга. У парней оттопыренные кобурами подмышки, а в руках — радиотелефоны: в любое время они могут вызвать подмогу, а если надо, то и самостоятельно пострелять в кого следует. Несколько раз я пробовал встретиться взглядом с задумчивыми охранниками, по у меня не получалось. Это было все равно что встретиться взглядом с танком, — охранники водили глазами по залу совершенно безучастно, и взгляд не останавливался ни на ком. Ребята с оттопыренными подмышками, наверное, исходили из убеждения, что любой из нас, делегатов ООН, способен подложить им свинью; никому не доверяя, внимательные глаза обшаривали ряд за рядом, и мне было неспокойно от напряженного внимания хорошо вооруженных людей.
Сегодня, когда выступал государственный секретарь США, охранники сидели и на свободных стульях в зале, а один примостился даже на боковом делегатском кресле суданской делегации. Он был совсем рядом, и я отчетливо слышал (или мне казалось?) запах кожаной амуниции и доброго солдатского пота, сдобренный цветочным одеколоном. Американский госсекретарь говорил такое, что солдатские ароматы могли долетать и от трибуны, но все-таки мой сосед, рассевшийся на суданском кресле, был ближе, а я вдруг подумал, что, может быть, это и есть запах ненависти. Обычный земной запах: кожа, дешевый одеколон, оружейное масло. Пока госсекретарь объяснял собравшимся, до чего важно Америке быть сильнее всех и на всех покрикивать, я глядел, как длинная очередь в дальнем конце зала пожимает руку греческому министру иностранных дел, только что закончившему свою речь, а рядом со мной и впереди меня посапывал здоровенный детина в черном костюме, внимательный, обученный убивать мгновенно и виртуозно. Под мышкой у детины грелся пистолет, будто градусник у больного, и я вдруг захотел узнать, есть ли дети у этого охранника, о чем он с ними разговаривает, придя домой. Дети спрашивают, что папа делал на службе, а папа рассказывает, что целый день он был как пистолет, снятый с предохранителя. Или папа им ничего не рассказывает? Может быть, папе нельзя?
А когда я увидел тоненький белый поводок-проводок, вьющийся у охранника из левого уха, мне стало его жаль. Это была линия связи с другими охранниками, разбросанными по залу. Наверное, и это была работа, как всякая другая, просто с иной степенью риска. Ведь следит же контролер, чтобы никто не проходил в кино без билета; так и здесь…
О контролерах разговор особый. Пока что в штате Нью-Йорк лишь готовится новый закон о запрещении частного владения короткоствольным ручным оружием (а в стране в этом самом частном владении уже 55 миллионов револьверов и пистолетов), в Чикаго (совершенно с ооновскими формулировками) внесен законопроект о замораживании личных вооружений на нынешнем уровне. Зато в городе Кеннесо, штат Джорджия, принят закон, обязывающий каждого жителя держать дома револьвер или винтовку… Тема эта известная, публицистами нашими и не нашими обсуждавшаяся неоднократно; просто в который раз уже я хочу подчеркнуть очевидную истину, что оружие, как всякий другой предмет, вещь неодушевленная. Но, когда желание убивать (или просто выяснять отношения с помощью силы) воссоединяется с безграничными техническими возможностями для убийства, возникает ситуация, поразившая сегодняшнюю Америку и приносящая ей все больше зла. Прежде всего сам образ жизни и все, что порождается им! Что же касается Нью-Йорка, то это самый большой в стране город, но живущий по тем же правилам, что и все остальные. Это многослойная жизнь; только что я подряд прослушал в последних известиях, что в Миннеаполисе ребенку пересадили печень, что придуман новый компьютер, синтезирующий человеческую речь, но в тоже самое время…
В Нью-Йорке трудно уберечь всех и предотвратить все, что может с людьми случиться плохого. Недавно скандал произошел в самой (или одной из самых) знаменитой нью-йоркской гостинице «Уолдорф-Астория». Прямо во время фрачного приема высшего разряда, который давал филиппинский президент Фердинанд Маркос, в то время, когда гостиница была до предела насыщена телохранителями с проводками в ушах и детективами, там убили женщину.
Пресса (9)
Из газеты «Нью-Йорк таймс»,
24 сентября 1982 г.
«Сотрудница банка была убита ударами ножа в гостинице „Уолдорф-Астория“. Жертвой явилась 30-летняя Кетлнн Вильямс, вице-президент банка „Чейз Манхэттен“ из города Мехико. Она была найдена на лестничной клетке 19-го этажа через неполных два часа после того, как поселилась в гостинице».
Из газеты «Нью-Йорк пост»,
28 сентября 1982 г.
«Вчера „Чейз Манхэттен“ и „Уолдорф-Астория“ установили награды по 5 тысяч долларов за информацию, ведущую к обнаружению убийцы. Капитан Юджин Барк, возглавивший следствие, сказал нашему корреспонденту, что около 350 из 1800 человек персонала гостиницы уже допрошены в стремлении больше узнать об убийце, которым мог быть как тот, кто живет в гостинице, так и тот, кто в ней служит…»
Из журнала «ЮС Ньюс энд уорлд рипорт»,
27 сентября 1982 г.
«Правительство совершенно не способно что-либо сделать с уличными преступлениями, но это не останавливает политических лидеров обеих партий в обсуждении этой темы… Преступники не могут быть устранены с улиц, пока не найдутся деньги на содержание полиции, чтобы ловить их, и на постройку тюрем, чтобы их содержать…»
Из газеты «Нью-Йорк пост»,
9 ноября 1982 г.
«Владелец оружейного магазина убил троих мужчин из автомата и одного ранил вчера, когда они грабили его оружие. Хеншен, 42-летний бывший полисмен, сказал, что он навел свою автоматическую винтовку „М-16“ на четырех мужчин, когда они вломились в его выставочный зал и начали разбирать оружие. Когда он приказал мужчинам остановиться, по крайней мере четыре ствола повернулись в его сторону. „Мы с этими людьми противостояли друг другу. Я понял, что или они, или я“, — сказал Хеншен. Одной очередью из автомата он положил всех четырех мужчин, прежде чем они успели выстрелить…»
Письмо (6)
Милая моя, так сложилось, что я очень часто и самое меньшее по полчаса разговариваю со своей новой горничной. Она полька, недавно здесь; по воскресеньям вместо нее бывает другая женщина, потому что моя горничная — ревностная католичка я проводит воскресный день в молитвах и размышлениях о материях неземных. Ее дело.
В газетах много пишут о том, как в Нью-Йорке грабят церкви и как поступают с пойманными в темном переулке монашками; очевидно, прихожане в разговорах между собой обменивались живыми подробностями преступлений, связанных с миром религии, потому что моя горничная дополняла газетную информацию весьма живописно. Как правило, она умудрялась приходить именно в обеденный перерыв, и, пока я готовил себе еду, горничная повествовала обо всем, что случается в городе с верующими и безбожниками. Поскольку английский язык моей горничной на две трети состоял из польских слов, слушать ее было особенно интересно, и я никак не решался сказать информированной католичке, чтобы она подобрала другое время для своих визитов. Одно послабление, одна внутренняя капитуляция всегда влекут за собой другую: горничная стала убирать у меня все хуже и хуже.
Вчера, когда я пришел в номер, постель была не застелена и ковер не пропылесосен; полотенца, впрочем, были все свежие. Возвращаясь после обеда в ООН, я сказал, отдавая администратору ключ, что горничная может всегда убирать позже; мне даже удобнее, чтобы она возилась в номере после моего ухода. «Как это? — спросил администратор очень серьезно. — Как это? Давайте взглянем па номер вместе. Горничная сказала мне, что уже все сделала, и ее в гостинице нет».
Администратор внимательно осмотрел мою постель, лично взбил подушки и застелил ее, извинился и вышел вместе со мной.
Назавтра рано утром горничная пришла ко мне в номер рыдая. «Он меня выставил, — повторяла она сквозь всхлипы. — Он меня выгнал и сказал, что это тебе не дома работать!» Ничем помочь своей горничной я не мог, но сказал администратору, выходя (дежурил уже другой), что, кроме вчерашнего, у меня к горничной претензий не было ни разу. Администратор кивнул. Не знаю, как они там поладили (может быть, помогло то, что кровать разворотил столяр, который чего-то там свинчивал), но я встречал девушку еще несколько раз на других этажах. На нашем этаже воцарилась огромная негритянка, которая широко улыбалась и все время показывала фотографии огромного количества своих детей. Звали ее, кажется, Бетси; она верила в бога, но бог у нее был спокойный, баптистский, к которому никогда не приезжали кардиналы или епископы и который только по воскресеньям созывал своих сторонников на беседу и коллективное песнопение. Мы рассуждали о жизни в городе, о работе полицейских, потому что у Бетси были знакомые в полиции. Она мне рассказывала уже о том, как нападают на полицейских («Да, да, они такие же люди, а для грабителей нет ничего святого!»), о том, что делается на бруклинских кладбищах и почем мандарины у лоточников. Работой новая горничная дорожила, поэтому номер мой всегда бывал вычищен до зеркального блеска.
Глава 4
После давнего разговора с Марией, после беседы с Кацем я знал, что мне надо съездить на эмигрантское кладбище. Появилась возможость, и я поехал. Кладбище было скорей выгородкой в давно распланированном океане американских аккуратненьких погребений, но домик сторожихи я нашел без труда; все было, как я запомнил из пересказа, мне под честное слово выдали ключ, и я отпер ключом этим — медным, с хитрой бородкой — невысокую чугунную калитку, через которую, собственно, я перелезть можно было бы без труда, но неприлично, что ли…
Сто раз уже я думал о том, почему это с такой легкостью удается мне влезать в чужие дела, да еще в такие, что. прикоснувшись к одному из них, я тут же оказываюсь впутанным в десяток следующих. Еще дома, ведя регулярные радиопередачи, я часто получал жалобы от людей, считающих, что у меня хватит времени, энтузиазма и власти, чтобы в них разбираться. Когда я не решал вопроса быстро и к вящему удовольствию жалобщика, тот сообщал куда следует, что и сам я такой-сякой; сочиняя объяснения, я мог лишь задумываться над сложностями писательской судьбы и превратностями авторитета.
Но так или иначе на кладбище я шел с интересом: любое кладбище обобщает удивительно много, говоря о сегодняшнем состоянии народной жизни и народной души. В уважении к предкам немало доказательств того, насколько потомки способны к любви и насколько любовь их простерта во времени; это всегда поучительно.
Марту, у которой я должен был попросить ключ, мне увидеть не удалось. Старушка, встретившая меня, сообщила, что Марта с Уолтером ушли погулять, а ключ она мне даст, хотя и просит пожертвовать на ремонт ограды, и я положил доллар в фаянсовую кружку у входа.
Медный ключ, чугунная калитка, посыпанные желтым песком дорожки — все это можно было предвидеть. Бесспорно, здесь находили упокоение люди зажиточные; все стоило денег: и мраморные памятники, и ключ, и калитка, и песочек под ногами. Но респектабельность кладбища была сдержанной и грустноватой. Ряды с фамилиями, часто с титулами и званиями, которых давно нет, свидетельствовали о том, что исчерпывались, оканчивались жизни, начатые не здесь, ибо здесь нельзя было стать поручиком Преображенского, ротмистром Текинского полков или даже «товарищем министра торговли». Нельзя было стать здесь и офицером позорной галицийской дивизии СС времен минувшей войны или владельцем кондитерской фабрики в довоенном Львове. Они все удивительным образом ладили между собой после того, как стали землей чужой страны и далекого континента. Проклиная подчас друг друга при жизни, они покоились рядом: царские или деникинские капитаны, офицеры власовской РОА, бандеровцы разных рангов. Кладбище было по преимуществу военным; то ли на проигранных войнах легче накопить деньжат на памятник, то ли так было задумано в самом начале, но штатских лиц почивало под здешними мраморами совсем немного. В земле, наверное, все было золотым и зеленым от истлевших аксельбантов и парадных погон.
Мне уже не раз приходилось видеть эмигрантские кладбища, разбросанные по всему свету. Наверное, главное, что объединяло их, было старательное желание зарегистрировать в последней надписи все, даже преувеличенные, звания, связанные с утраченной родиной. Памятники выглядели как анкеты: «Здесь почил Иван Воронин, купец и странник, австралийский негоциант, отец трех малюток. Он прожил недолго, но память говорит моя, что нету жизни без тебя». Дальше были даты, и, несмотря на поэтический срыв в конце, такая эпитафия была типичной. Как правило, надписи на камнях были миролюбивыми, разве что на одной-двух встречались туманные угрозы вроде: «И дух твой над Отчизной воссияет, когда господь к возврату позовет». В основном всех здесь объединяла такая затерянность в огромном мире, такая отъединенность и от земли, по которой они учились ходить, и от той, в которой они лежали, что двусмысленно звучащее объявление, начертанное на доске у входа, выглядело напрасным напоминанием: «Категорически запрещается нарушать спокойствие и комфорт каждого, кто здесь отдыхает». Большинство из похороненных на этом кладбище были приезжими, их печальная объединенность отрешала от множества земных сует, от цветочков в консервных баночках на могилках, от внучкиной ленточки, повязанной на память вокруг куста в изголовье бабушки. Люди, лежащие здесь, завещали деньги на похороны, и все им оборудовали как следует, но ушедшие были деревьями, чьи корни вились в земле далеко отсюда. Сколько поколений твой род должен жить на свете, чтобы земля, на которой жил он, стала родиной?
Еще я подумал, что на истлевших ладонях иных здешних покойников немало непрощенной крови; за многими числятся нарушенные присяги, расстрелянные соотечественники и спасение бегством. Даже смерть уравнивает не всех: очень многим из зарытых в эту землю я при жизни их наверняка бы руки не подал. Они зарывались в чужой грунт, как некогда уходили в окопы проигранных ими войн, а я шел по кладбищу, где не было ни братьев, ни братских могил.
Кто любил их? Неужели никто? А как сосуществовала у многих из них способность к любви со способностью к предательству?
Возможно, есть любящие внуки у бабушек и горюющие вдовы у мужей. Но народ этих мертвецов не оплакивал, а значит, умирали они горько, а иным и глянуть в сторону родины было страшно.
Вот она, та самая их земля. Когда-то в Канаде меня попросили отвезти и похоронить на родине седую прядь одного беглого хормейстера, который так завещал. Хормейстер в свое время просто струсил, а затем и завяз в своей трусости, и его легендарно вспархивающий над пюпитром чуб так и не вернулся на родину. Не помню, что помешало в тот раз: кажется, родственники просто не решились выстригать прядь у покойного, а я им не напоминал. Позже в повести «Такая недобрая память» я рассказал похожую историю. Впрочем, бывают ли истории жизней сходными? По-моему, больше на первый взгляд: как птицы…
Странная черная птичка, похожая на скворца, но с красным носиком, прыгала по тропинке передо мной. Как чья-то душа, если верить, что души перевоплощаются. Я поднял камешек, и птичка улетела, не ведая, что я камнями в птиц не швыряю. Вместо птички на дорожке встал человек, без всяких церемоний оглядел меня и сказал:
— А я вас не знаю…
— И я вас не знаю, — ответил я, не здороваясь, и сел на скамеечку поудобней.
— Здравствуйте, — сказал человек. — Моя фамилия — Кравченко. Как вы сюда попали?
Я сказал, что пришел сюда из любопытства. Где живу? Пока на Манхэттене, а там видно будет. Я рассказал о медном ключе и даже предъявил его, о желании видеть кладбище, о котором немало слышал. Не рассказывал я лишь о Марии, да и речи ни о чем таком не было.
— Вы читали? — спросил Кравченко. — На Куинсе жители решили реставрировать старое кладбище. Уже никто не знает, кто похоронен там, но жители решили расчистить старые могильные плиты и прочесть имена. Это в Озон-парке, знаете? Они уже выяснили, что триста лет назад там было фамильное погребение какого-то голландца Ван Викленса, и прочли на памятниках фамилии Райдер, Дарленд, Лотт, Ривз — сейчас никого такого среди местных жителей нет. Время ушло, и люди ушли. Слыхали?
— Нет, — ответил я. — А здесь у вас родственники?
— У меня там родственники. — Кравченко взмахнул рукой куда-то в сторону горизонта. — У меня на этом кладбище никого родного нет. Только знакомые. Например, бывшая моя квартирная хозяйка и ее сестра, несколько коллег по воскресным посещениям церкви. Я, знаете ли, никто, я даже не представляюсь вам полными званиями да именами, потому что те, которые были дома, потеряли значение, а те, которые я приобрел тут, но дают оснований для зазнайства. Пусть я буду для вас просто Кравченко, и ладно. Вашим именем я не интересуюсь, к тому же здесь любят выдумывать для себя имена и жизнеописания покрасивей, может, и вы такой.
Обижаться было нечего: Кравченко был откровенен явно от безразличия, оттого, что до меня ему дела нет. Он вынул свой бумажник, достал оттуда газетную вырезку, расправил ее на колене и протянул мне:
— Читали? Где только наших не мотает! А этот, кажется, потомок знаменитой белогвардейской фамилии…
Я взял в руки и прочел бумажный прямоугольник, вырезанный из «Нью-Йорк таймс» за 26 сентября 1982 года, сообщение агентства Ассошиэйтед Пресс: «Воздушный пират захватил самолет авиакомпании „Алиталия“ со 109 пассажирами на борту в его рейсе из Алжира в Рим и заставил экипаж приземлить самолет на Сицилии, где он был арестован полицией. По данным агентства ЮПИ, арестованный Игорь Шкуро, 32 лет, живет сейчас в Риме и пользовался паспортом, выданным ему год назад в Сиднее, Австралия…»
— Знакомый? Кравченко пожал плечами:
— Я его не знаю, он на тридцать лет моложе меня. Там пишут, что он жил в Ленинграде, так что вам лучше знать…
— А разве по мне видно, что я недавно из дому?
— А как же, — пожал Кравченко плечами. — В вас еще много домашней уверенности, вы еще силу за собой чувствуете. И власть…
— Что же, все это прямо так из меня и струится?
— Так вот. прямо… Вы знаете, человек, поживший здесь, становится совсем другим. Мы спрашиваем иначе, разговариваем иначе, иначе живем и умираем по-другому. Когда ты понимаешь, что живешь в стране, где тебя не ждали, начинаешь заискивать перед этой страной и, даже завоевав свою независимость, в ней живешь с оглядкой, пытаясь понять и твердо усвоить чужие правила. Вы давно здесь?
— Недавно и через несколько месяцев уеду отсюда.
— Домой? — спросил Кравченко. — Туда?.. — и взмахнул рукой, как взмахивал, говоря о своих родственниках.
— Туда, — сказал я и взглянул в направлении, указанном Кравченко.
Над белыми квадратиками распластанных в траве и приподнятых могильных плит, над частоколом белых и черных крестов подымались далекие стены большого города, но чувствовалось, что пространство до небоскребов не застроено неспроста.
— Ага, — угадал мой вопрос Кравченко. — Там американские кладбища, а этот участочек эмигранты некогда купили, выгородили, чтобы и после смерти жить в собственном гетто, находиться среди единоверцев, потому что среди единомышленников человек не бывает ни при жизни, ни после нее. Вернее, бываешь среди тех, кто рассуждает, как ты, но никогда не знаешь, кому можно поверить. Я уже говорил вам, что не люблю представляться и не спрашиваю имен у собеседников. Так врут меньше.
— Вы злой? — поинтересовался я.
— А вы добрый? — огрызнулся Кравченко. — Понимаете ли, вы прикрыты, у вас там тылы. А у меня? Могила квартирной хозяйки? Двенадцать мест службы за двадцать лет?
— Возвращайтесь, — пожал я плечами.
— Поздно. Кое-какие грешки за мной имеются, но не такие, чтобы меня расстреливали за них. Просто поздно мне. Не хочу я оправдываться ни перед кем и не хочу начинать сначала. Хватит. У вас в самой главной песне поется: «Кто был ничем — тот станет всем». А мне все равно уже, где быть ничем — у вас или здесь. Вы понимаете?
— Нет, — сказал я.
— Нью-Йорк — это джунгли. В вашей прессе часто встречается это определение. Но я считаю город джунглями в том смысле, что он может спрятать в себе каждого, может прокормить любого, кто умеет искать и добывать еду, отличать съедобное от несъедобного. Это город без будущего, но также в том смысле, что здесь живут исключительно для сегодняшнего дня. Сегодня жить удобно и есть сладко, сегодня пользуйся благами жизни, если способен их оплатить. Все сегодня, сейчас, немедленно.
— А завтра? — спросил я.
— А завтра это кладбище зарастет травой, как вон то, старое голландское в Куинсе, и не поймут ни фамилий на камнях, ни судеб тех, кому принадлежали фамилии…
— И все, — поглядел я на Кравченко, пытаясь понять, насколько он убежден в том, что говорит.
— Если бы я был глубоко верующим человеком, — сказал Кравченко, — то утешился бы царством небесным. А так даже пани Марта, хранительница этого пантеона, захотела любви земной и увела сынишку у своей собственной сестрицы.
— Как это увела?
— А вот так! Город этот к гостям безразличный, сами знаете, а Марта пригласила к себе родичей из СССР и предложила им чуть больше любви и внимания, чем положено по здешним нормам. Те и раскисли. А паренек рос без отца, не в каком-то там особом достатке. Он и вовсе к Марте прилип. Она ему велосипед купила, еще кое-что, а когда мать паренька решила с ним возвратиться домой, Марта возбудила процесс о его усыновлении. И что вы думаете, мальчишка попросил здесь политического убежища и оное убежище получил. Каково?.. Будете уходить, занесите ключ прямо в дом к ним, заодно глянете…
— А что с той женщиной, настоящей матерью?
— Откуда я знаю? По американской статистике, каждый, кто здесь живет, в течение жизни четыре раза подвергается тяжелым травмам. Это в среднем. Женщину ту травмировали в первый раз; если она переживет, ей будет легче выдержать новый удар…
— А справедливость?
— Да бросьте вы! — рассердился Кравченко. — Справедливость — это то, что выгодно сильным. И никак не иначе. Сегодня Марта сильнее своей сестры — вот вам и вся справедливость. И за спиной у Марты стоят да помалкивают люди, которые вашу страну очень не любят, а таких здесь достаточно. Вы что, не понимаете?
Я вдруг подумал: а что, если бы такое случилось с моим сыном? Даже мороз прошел по коже, и я поежился.
— Пройдемся? — предложил Кравченко.
— Да нет, я посижу…
— Пройдемся, пройдемся. Не сидеть вы сюда пришли, а я что-то разговорился, так хоть порассуждаем на ходу на разные темы. И это ничего, что темы у нас невеселые. Кстати, библия не содержит в себе никаких указаний насчет того, улыбался ли вообще Иисус Христос. Еще тогда у него было к тому мало оснований. А сколько лет прошло от рождества Христова?
— Заканчивается одна тысяча девятьсот восемьдесят второй, — сказал я и покачал тяжелым ключом от калитки.
— То-то… Вы знаете, — сказал он мне, когда мы пошли по аллее, направляясь к выходу, — в этой стране все учтено и измерено. У статуи Свободы в нью-йоркской гавани указательный палец около двух с половиной метров длиной, и он очень четко указывает каждому куда следует. Я приехал сюда после войны, я из бывших наших пленных, попал в американскую зону оккупации, обычное дело, и вот я здесь уже почти тридцать пять лет. Все было: женщины были, неплохая работа была, но любви не было. Здесь, в эмиграции, любовь отчаянная — люди бросаются в нее, будто хватаются за спасательный круг, а затем, когда теряют этот круг, тонут еще скорее. Я знал, что если выплыву, то сам, а если утону, никто и кругов не увидит… Вот этому пацану, — Кравченко показал взглядом на подростка, сидевшего на скамеечке возле чугунной кладбищенской калитки, — вот этому пацану еще надо будет узнать и понять столько, сколько он дома в жизни бы не узнал. Правда, Володя?
Мальчик вздрогнул и внимательно поглядел на нас.
— Как тебя зовут? — спросил я по-английски.
— Не старайтесь, он не понимает, — сказал Кравченко.
— Как тебя зовут? — переспросил я по-украински.
— А вы откуда? — сжался паренек. — Мне тетя Марта говорила, что будут ходить за мной и спрашивать, будут сманивать…
— Куда сманивать? — перебил я.
— Туда же, к мамочке, которая меня предала и увезла сюда. К папочке, который нас еще дома предал. В страну, где…
— Не трогай страну, мальчик, — перебил я еще раз и даже погрозил пареньку медным ключом от калитки.
— А вы ему не мешайте, — протянул Кравченко где-то за спиной. — Ему сейчас все ясно, как божий день. Ты говори, Володя! Пусть выговорится, пока ему кажется, что все понимает, потом ой как трудно будет и непонятно…
— Не о чем мне с вами разговаривать, я все равно с мамой никуда не поеду. Она мне всю жизнь только и говорила, какая она несчастная, а затем поехала сюда, чтобы еще несчастнее стать. А что теперь: приду в школу и скажу, что покатался я, и хватит, принимайте в пионеры обратно и на второй год оставьте, пожалуйста? Тетя Марта говорит, что…
— А кто тебе сказал, что там вся школа только и мечтает, чтобы тебя в пионеры определить? Ты же, когда уезжал, убежища от мамы не попросил у себя в классе, не остался против ее воли…
— Оставьте ребенка в покое, — сказала какая-то женщина и вырвала у меня из пальцев тяжелый медный ключ. Взглянула на Кравченко и на меня. — Ты иди убирай дорожку, ничего, наверное, не сделал еще сегодня. А вы уходите, не знаю, кто вас прислал, но уходите отсюда, не мучайте ребенка. Еще придете, я скажу Кравченко, он вас застрелит. Скажу — и застрелит…
Она взглянула на меня, а затем на Володю-Уолтера, и тот пошел домой к ней, не оглядываясь, совсем еще маленький пятиклассник, который рассуждал, как доведенный до отчаяния взрослый человек. Мы остались втроем. Прежде чем Кравченко возвратился к могильным плитам, я написал ему свой телефон на визитной карточке; тот не глядя сунул ее в оттопыренный карман пиджака и медленно пошел от нас, даже не оглянувшись на вопрос, заданный женщиной ему в спину:
— Так застрелишь, Кравченко, если я прикажу? Тебе ведь приказывали уже такое, рассказать, а?
— Можно поговорить с вами? — спросил я у женщины.
— Нет, — отрезала та. — Уходите отсюда. Я полицию вызову…
Я чувствовал спиной ее недобрый, настороженный взгляд все время, пока шел от калитки к шоссе и даже когда стоял с поднятой рукой, останавливая такси. Когда уже садился в машину, оглянулся: женщина все еще стояла, глядя в мою сторону. Ни мальчика, ни Кравченко нигде не было видно.
Письмо (7)
Милая моя, сегодня я получил странное письмо. Какой-то священник, отец Брюс Риттер, заадресовал конверт официальными титулами и послал его на советское представительство при ООН, и я приложу его к этому моему посланию таким, как есть. Но перед письмом — еще одна вырезка, касающаяся здешних отцов и детей. Впрочем, цитировать ее дословно нет смысла: просто в газетах мелкими буковками сообщили как о чем-то вполне обыденном, что некий Давид Лопес, 23 лет, поссорился со своим отцом, 45 лет, и выстрелил ему из ружья в лицо. Не знаю, что это был за отец и что это был за сын, но отношения они выяснили именно таким образом.
О детях-убийцах и родителях-убийцах (тема, сотрясавшая человечество еще на заре литературы — в мифах, в библии, у древних греков в трагедиях, у Шекспира…) здесь пишут все время; тема популярная, но бесчеловечная настолько, что привыкнуть к ней нельзя. Тем не менее недавно сообщили о законе, введенном в большинстве штатов, согласно которому дитя, угробившее своего родителя, не имеет прав наследования родительского имущества. Значит, надо было принять такой закон для защиты — кого? Уже в начале моего пребывания в осеннем Нью-Йорке я перестал очерчивать в газетах сообщения на тему о вооруженных конфликтах отцов и детей — жить потом не хочется. В бумагах у меня лежит только вырезка, сделанная в первую неделю после приезда: «Нью-Йорк таймс» за 26 сентября сообщает, что некий Джордж Бенкс, 42 лет, застрелил тринадцать человек, среди которых были пятеро его собственных детей. Когда-то я думал, что на такое способен был только подыхающий в окруженном нашей армией Берлине гитлеровский министр пропаганды доктор Иозеф Геббельс; оказывается, нет…
Ладно, хватит, у людей ненависть развилась там, где обычно развивается любовь, и в этом извращении души — смысл, горький до муки. Я возвращаюсь к проблеме детей и родителей, беря в руки письмо упомянутого мной священника Брюса Риттера, он пытается помочь детям, лишившимся любви, детства, родителей, почти всего лишившимся.
Обычное письмо из почты нашей миссии при ООН:
«Мой дорогой друг, …Веронике было одиннадцать лет, когда я встретил ее. К этому времени она уже была восемь раз арестована за проституцию… Своего двенадцатого дня рождения Вероника не дождалась. Ее выбросили из окна десятого этажа. Может быть, это сделал сутенер. Может быть, клиент. Никого не привлекли к ответственности. Тысячи ушедших из дому и брошенных детей вроде Вероники постигают уроки, которых лучше бы никому не знать. Они сбиты с пути, их эксплуатируют и ввергают в горькие испытания… Однажды в зимнюю ночь 1969 года шесть бездомных подростков постучали в дверь моей квартиры на нью-йоркском Ист Сайде, где я занимался благотворительной работой для бедных. Они удрали от наркоманов, которые хотели эксплуатировать детей, как сутенеры. Прибились они вначале к хорошо устроенной паре в Йонкерсе, штат Нью-Йорк. Цена, которую эта пара запросила за свое „гостеприимство“ для детей 14–17 лет, — сниматься в производимых на этой же квартире порнографических фильмах. В ту ночь я приютил этих подростков. На следующий день я принял четырех их друзей. Это был день, когда я также уяснил себе, что никто — ни учреждения социального обеспечения, ни советы по работе с молодежью, ни больницы, ни бюро по охране детства — не хочет за них отвечать…
Я верю, что каждый ребенок должен быть окружен чуткой помощью, в которой он нуждается, чтобы порвать с прошлым и сделать свой жизненный выбор. Пожалуйста. Давайте вместе сделаем что-нибудь. Сегодня, пока следующая молодая жизнь еще не уничтожена… Помогите мне предоставить этим детям то, в чем они нуждаются: еду, убежище, одежду, медицинское обслуживание, образование, работу…»
Мой корреспондент просил денег, очень убедительно просил, и, если бы у меня были деньги, я, конечно, послал бы их ему. Но таких писем приходит больше, чем одно, и плохи, наверное, дела в Нью-Йорке, если в советское дипломатическое представительство обращаются с просьбой помочь в спасении американских детей. Когда на высоте революции наша страна, измученная, обескровленная, голодающая, принялась бороться за спасение беспризорников — это было как раз в период очередных американских «блокад и санкций» против Советской власти, — мы хорошо понимали, что будущее страны должно быть сохранено: только страна, не верящая в свое будущее, может его не беречь. Многие десятки тысяч (у нас не раз писали об этом) американских детей, ежегодно исчезающих в пыли дорог и городских трущобах, — это тема для разговора не только о дотях чужой страны, это тема для разговора о чужом образе жизни. Ты прости, что я в письме к тебе пользуюсь терминологией из наших учебников, а не из наших бесед. Но что делать, если иллюстрации ко многим учебникам приходится видеть через столько лет после того, как распростились с ними… Ведь кажется, что все это закончилось и больше никогда не повторится, но… Я приведу еще маленькое сообщение из газеты «Нью-Йорк таймс» за 8 ноября: «Член неонацистской группы был арестован за убийство подростка, сообщившего в полицию о расистской литературе, распространяемой в трех школах. Тело Джозефа Гувера, 17 лет, было обнаружено 13 октября со следами восьми выстрелов в голову. Он передал полиции информацию о двухстах листовках, распространенных в школах…
Подозреваемый, Перри Бернар Вартан, 41 года, арестован в воскресенье ночью».
Сложное это дело — отношения между людьми разного возраста, разной морали, разных, разных, разных…
Письмо (8)
Милая моя, старинное изречение Козьмы Пруткова: «Если хочешь быть счастливым — будь им» — вполне американский принцип. Здесь любят говорить о том, что каждая удача «селф мейд», то есть самодельная, творимая собственноручно. Может быть, во многих случаях так оно и есть: в газетах любят писать об удачах, распространяя само понятие равно и на игру в карты, и на спортивные лотереи, и на профессиональные карьеры. С точки зрения удач кокетливо оценивают президентские выборы и результаты марафонского бега, прибыль в лавке и результаты голосования в ООН. Я сказал бы, что многие американцы — фаталисты до мозга костей либо притворяются фаталистами, хотя многим из них это мешает уразуметь суть явлений.
Вера первых эмигрантов в провидение, которое помогло им преодолеть океанские штормы, приросла к довольно приблизительному у многих представлению о мироустройстве и сформулировала в так называемом «среднем американце» удивительную, прямо-таки религиозную веру в Свой Шанс. Шанс этот реализуют в губернаторских выборах (в начале ноября они прошли по стране), в создании своих магазинчиков (я слышал, как один продавец на 28-й улице сказал другому: «С тех пор, как мы купили эту лавочку, нам перестало везти»), в супружестве (есть целая отрасль кинопромышленности, эксплуатирующая эту тему), даже в результатах принятия правительственных проектов. Иногда это идет от нежелания разобраться в явлении, иногда от стремления это явление упростить, а порой оттого, что не хочется верить в реальность происходящего.
В конце октября американская представительница в ООН Джин Киркпатрик официально заявила, что делегация ее страны покинет Генеральную Ассамблею, если при голосовании пройдет иранское предложение об исключении Израиля с этой сессии. Газеты затем долго мусолили мысль о том, до чего же в последнее время не везет Израилю и как изменилась Организация Объединенных Наций, та самая, на постройку штаб-квартиры которой на своей территории Соединенные Штаты пошли, никак не рассчитывая на то, что ООН задаст им столько хлопот.
Здесь, наверное, самое время рассказать тебе о том. как выглядит Организация Объединенных Наций, организация, надо сказать, с везением связанная меньше всего и довольно закономерно отражающая процессы, происходящие сегодня во всемирном сообществе.
Возвращусь к началу. На шестнадцати акрах территории у Ист Ривер — Восточной реки — сошлись представители 157 стран: весь земной шар сжался на этом пятачке. Всякий раз на Генеральную Ассамблею ООН съезжаются тысячи представителей со всего света — все они размещаются в кабинетах и залах заседаний стоящих вплотную 39-этажного «спичечного коробка» и приземистого здания Секретариата. Вместе с приехавшими на сессию в Нью-Йорке трудятся 5256 сотрудников нью-йоркской части Секретариата ООН (еще свыше 15 тысяч рассеяны по всему свету), представляющих многие страны, — у каждой в Секретариате своя квота. Здесь же мечутся стайками около двух тысяч ежедневных посетителей (количество их уменьшается, говорят) и триста журналистов, аккредитованных при ООН. Эта масса людей связана с Объединенными Нациями прямой служебной обязанностью или мгновенным (как экскурсанты) любопытством, но все время топчется на этих самых шестнадцати акрах или разъезжает по Нью-Йорку в машинах с дипломатическими номерами.
Конечно же именно с ООН связаны высокие цены в гостиницах и ресторанах (даже в традиционно недорогих китайских), обступивших штаб-квартиру Объединенных Наций. Конечно же специальная полиция и множество добавочных служб стоят Нью-Йорку недешево, и ООН в устах местных комментаторов выглядит иногда как корень множества зол. Но это неправда: великая возможность встреч и дискуссий, появившаяся у представителей разных стран, стоит хлопот, возникающих при этом.
А хлопоты бывают непустячными. Террористы не раз планировали и проводили взрывы в югославской, кубинской, советской миссиях… Только ли в них? В представительстве УССР при ООН недавно заштукатурили дырочку в стене: с крыши синагоги напротив выстрелили нам в окно. Полиция развозит в грузовиках оградительные барьеры, служба безопасности проверяет документы, но у нескольких полицейских на теле следы от ран, оставшихся после взрывов бомб и выстрелов по дипломатам. Кубинские «гусанос» («червяки» — так зовут этих террористов) стреляли по ООН из миномета. Чилийские фашисты убили нескольких видных противников Пиночета, они же подорвали однажды возле нашего представительства случайный автомобиль, приняв его за дипломатический. Так что все это серьезно, хоть наслаивается и множество мелочей. Ну вот, к примеру, этакое меланхолическое сообщение из «Нью-Йорк таймс» за 30 октября. В рубрику «Пресса» я выношу обычно сообщения поосновательнее, а это рядовое из рядовых, поэтому приведу его просто в строку: «Когда холодный утренний свет забрезжит в эти дни над Восточной 67-й улицей, 50–60 подростков собираются у советской миссии при Объединенных Нациях и запевают псалмы и молитвы… Это студенты еврейской религиозной школы, расположенной на Восточной 78-й улице… А в обеденный перерыв ежедневно один класс откладывает еду и приходит к миссии СССР, чтобы провести послеполуденный молебен…» Как вы понимаете, молятся они (и очень громко) вовсе не за Советскую власть. Но если бы только это… Я никогда, даже в годы своего голодного детства в разрушенном войной Киеве, не слышал такой площадной ругани, как та, что извергают иногда мегафоны, направленные на окна нашего дипломатического представительства. В Нью-Йорке это в порядке вещей; я на минутку представляю, что бы творилось, если бы устроить нечто подобное напротив американского посольства в Москве. Зато им можно и надо сказать, что наши дипломаты попривыкли к этому; я когда-то видел человека, который читал Данте на одесской толкучке; на 67-й нью-йоркской улице ситуации бывают похожими, и нам приходится читать и писать в обстановке не самой благоприятной.
Но возвратимся к ООН. Думаю, что из наших газет ты знаешь о работе Объединенных Наций достаточно много. Во всяком случае, мы давно уже задаем здесь тон всем мирным инициативам, а значит, и даем людям надежду. Это ощутимо, и когда американский государственный секретарь Джордж Шульц свел свое выступление к утверждению, что лишь политика с позиции силы целесообразна, звучало это не только бесцеремонно, но и безнадежно. А основания для потери надежд у многих, особенно из бедных и маленьких стран, столь велики, что такое покрикивание поворачивает многих людей, даже невеликих друзей наших, лицами к нам, потому что неоткуда им больше ожидать поддержки. Наверное, я не буду тебе подробно рассказывать, кто и о чем говорил на сессии: время уходит быстро, и, пока ты получишь это письмо, появится новая актуальность. Но в ООН наше доброе имя и авторитет очень крепки; это истина твердая и приятная далеко не всем.
Если говорить о впечатлениях личных, то сразу же скажу, что мне нравятся наши молодые дипломаты. Вырастали они в самых обыкновенных рабочих или интеллигентских семьях, учились в обычных университетах и за границей впервые побывали уже по долгу службы, но как же быстро входили они в эту службу, укоренялись в одном из самых трудных дел на свете! Короче говоря, глядя на наших дипломатов, очень легко можно избавиться от мифа об исключительности, элитарности этой профессии: обычные люди, честно делающие свое дело.
Почему я начал рассказывать про делегацию? Потому что ты знаешь многих из этих людей, и я хочу, чтобы ты представила, как именно они и никто другой ведут сложнейшие переговоры и дискуссии, — мастерски ведут! А ведь все это и физически непросто. Наш дипломат номер один министр иностранных дел страны А. А. Громыко за неполные две недели своего пребывания в Нью-Йорке провел сорок две встречи с главами иностранных держав и своими коллегами-министрами!
В своей книге я не буду углубляться в подробности дипломатической жизни, хотя писать есть о чем: многое из происходящего очень тесно связано с работой нашего представительства при ООН, и о чем бы я тебе ни рассказывал, не забывай: все это происходит на фоне мировых гроз.
Кстати, молнии от этих самых международных гроз бьют в каждой стране по-разному. Официальная Америка с таким прилежанием вколачивает сейчас в сознание своих граждан ненависть к нам, что корреспондент журнала «ЮС ньюс энд уорлд рипорт» в номере от 18 октября с великим удивлением приводит немыслимые, по его мнению. слова, услышанные корреспондентом от московской старушки: «Русские люди американцев любят».
Да, сеятелями ненависти нас никак не назовешь — ни в Организации Объединенных Наций, ни за ее стенами. Что же касается самой работы, то на первый, самый поверхностный взгляд она представляется какой-то возвышенной. Люди выступают, встречаются в коридорах, хаживают на приемы… Но только здесь, вплотную увидев дипломатов, не спящих по трое суток во время подготовки важного выступления, послушав немые телефоны (не единожды американцы отключали наш телефон именно в то время, когда связь с Родиной была нужнее всего), ощутив, как зал Генеральной Ассамблеи напрягается при каждом слове угрозы и радостно вздрагивает под каждым лучом надежды, я понял еще что-то, прикоснувшись к одному из наиболее выразительно пульсирующих жизненных центров человечества.
В зале заседаний Генеральной Ассамблеи 1092 кресла, рассчитанных самое большее на 182 делегации; с учетом всех резервов имеются еще места для 25 делегаций (по шесть кресел в каждом). Те, кто приходит сегодня и кто завтра придет в этот зал, могут слушать каждое выступление на одном из шести основных языков ООН — через наушники, соединенные с переводческим пультом: на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском. Переводчики высочайшей квалификации, их знают по именам, узнают по голосу. Переводчики умеют все. Выступая в Третьем комитете ООН, я должен был уложить десять страниц густой машинописи в пятнадцатиминутное выступление. Пулеметная скорость моей речи сопровождалась такой же скороговоркой переводчика; после выступления мне сказали, что это обычное дело: синхронные толмачи ООН — мировая элита своей профессии.
Повторяю, все это работа тяжелая и каждодневная, не всегда узнаваемая на первый взгляд. Экскурсанты удивляются, до чего в ООН все чинно и выверено до малейших подробностей.
…В ресторане на четвертом этаже можно видеть, как обедает Генеральный секретарь ООН; в специальном почтовом отделении можно купить очень красивые марки, письма с которыми разрешается высылать только из этого здания; можно сфотографироваться в составе делегации, пригласив для этого официального фоторепортера ООН, — журналисты с фототехникой не допускаются в зал заседаний.
А сколько вихрей вокруг помещений Объединенных Наций! На маленьком асфальтовом пятачке напротив делегатского входа почти постоянно происходят бурные митинги, разворачиваются плакаты, которых так много, что чаще всего никто их и не читает. Кроме публики, протестующей против действий того или иного правительства, митингуют представители самых невероятных сект, болельщики бейсбольных команд и художники-модернисты.
Праведное перепутано с грешным: не всегда можно сказать, по какому поводу некто приковал себя наручниками к ограде ООН. Наручники продаются во многих хозяйственных магазинах, демонстранты в Нью-Йорке разнообразны, а полицейский с одинаковым безразличием тычет под ребра каждого из них, помахивая дубинкой, ожидая бригаду слесарей, которые перегрызут наручники автогеном.
Но порой все это приобретает характер нешуточный и волнующий весь мир, как во время многотысячных антивоенных демонстраций, резко выделяющихся из шумной ярмарки, вращающейся вокруг ООН. В последнее время американские сторонники мира организовываются все лучше, и даже самодовольная рейгановская администрация начинает раздражаться при виде их. («Нас очень много, — рассказывала мне писательница Эрика Джонг. — Когда я минувшим летом участвовала здесь в антивоенном походе, состояние было таким, будто весь мир наконец объединился против зла, и мы шли так серьезно, как никогда в жизни я не ходила…»)
Все-таки прекрасно, что существует это великое место для международного диалога. Когда я вижу сто пятьдесят семь государственных флагов, поднятых вдоль Первой авеню перед фасадом Объединенных Наций, не могу не думать о великом смысле, сосредоточенном даже в самом названии этой организации. Ответственности у большинства достаточно: даже легендарный недавно представитель Саудовской Аравии Джемал Бароди, друг нефтяных шейхов, независимо от обсуждаемой темы мог по два-три часа подряд говорить о чем угодно. Впрочем, в самых разных случаях авторитет Объединенных Наций возвышал иных ораторов и заставлял задумываться над неожиданной темой.
Здесь все одно к одному: и яркие выступления, и курьезные, и сотрудники пресс-агентств, с серьезным видом вручающие своим делегациям бюллетени-молнии о результатах последних футбольных и хоккейных игр, и плачущий от радости представитель африканского государства, чей проект резолюции только что был поддержан в голосовании.
Любовно оформлены залы заседаний комитетов ООН. уютно помещение Совета Безопасности; значение же этих аудиторий неотделимо от значения резолюций, в них принимаемых. Нарочно не останавливаюсь на конкретности большинства резолюций, потому что они всегда актуальны, и не знаю, будут ли они интересны завтрашнему читателю книги. Если будут, пусть перечитает решения и протоколы ООН, они широко доступны. А мы с тобой давай прогуляемся по необъятности самого здания — это ведь еще и музей, украшенный работами самых известных художников нашего времени — реалистов и модернистов. Работы французов Шагала и Леже, норвежцев Арнеберга и Крога — лишь несколько из самых запоминающихся. Делегации оформляли здания ООН, будто хотели от имени своих стран сделать весь мир благороднее и красивее. В садике перед зданием стоит известная скульптура Вучетича «Перекуем мечи на орала» — дар Советского государства. Большую стену в одном из главных вестибюлей украшают решетиловский ковер и ваза с петриковским орнаментом — дар Украинской ССР. Огромные холлы для делегатов как выставочные залы: в одном из них на стене распростерт ковер — подарок КНР, — изображающий китайскую стену едва ли не в натуральную величину.
Подарков множество. Даже круглый фонтан у входа в Секретариат — тоже дар от американских детей, собравших в свое время пятьдесят тысяч долларов на его постройку.
Япония подарила небольшую пагоду и колокол, Бельгия — один из самых больших за всю историю ткачества гобеленов под названием «Триумф мира», Кипр — амфору, которой больше двух с половиной тысяч лет, а Ватикан — картину французского экспрессиониста Руо «Распятие». В коридоре у Совета Безопасности стоит фарфоровая ваза, подаренная Венгрией, а делегатская столовая украшена прекрасным вечерним пейзажем, подаренным Белорусской ССР. Румынский ковер повешен в северном зале для делегатов, и всем кажется, что он висит боком, потому что фигуры людей на нем хочется рассмотреть под иным углом; зато абстрактное полотно мексиканского художника Руфино Тамайо одинаково выглядит, как его ни повесь. Так или иначе, каждая страна дарила то, что было ей дорого, что демонстрирует глубинность истории страны, ее миролюбие или взлеты ее современной культуры. Да и само здание ООН строилось сообща: облицовочный камень для Генеральной Ассамблеи предоставила Англия, мрамор — из Италии, мебель в кабинетах — французская, стулья — из Чехословакии и Греции, ковры — из Франции и Шотландии. Столы, двери, инкрустированные металлом и сделанные из дорогих пород дерева, — с Филиппин, Кубы, из Канады, Заира, Норвегии, Гватемалы, Бельгии.
Прекрасно, что у человечества есть этот дом. Сколько бы злобы ни взрывалось в нем и вокруг него, Объединенные Нации не дают забывать о том, что семья человеческая едина, должна быть единой, а люди могут и должны садиться за общие столы переговоров и договариваться, круша стены демагогии, непонимания и неравенства.
Как бы ни бывало сложно в ООН, помни, пожалуйста, что пишу я тебе из этого дома, где так естественно говорить о мире и жить для мира. Порой вопреки всему…
Закончу я это письмо к тебе (как делал ужеоднажды) чужим письмом. Дело в том, что представительства многих стран при Организации Объединенных Наций получают огромное количество почты. Среди этой почты бывают послания, достойные всяческого внимания, а к тому же и причастные к главному смыслу работы ООН — борьбе за мир и сотрудничество. Восемнадцатого октября мы получили письмо, очень четко объясняющее причины многих сложностей в работе и жизни не только съехавшихся в Нью-Йорк иностранцев, но и самих жителей Соединенных Штатов Америки. Письмо было подписано сыном бывшего президента США Франклина Делано Рузвельта и размножено типографским способом. Пожалуй, можно отнести его к рубрике.
Пресса (10)
«Несколько месяцев назад я отказался от приглашения президента Рейгана на ланч, который тот устраивал в Белом доме в честь столетия со дня рождения моего отца.
В нормальных условиях я охотно принял бы приглашение президента Соединенных Штатов. Величие нашего народа отчасти и заключается в способности людей разных политических взглядов сотрудничать для общего блага.
Но сейчас условия ненормальные. По моему мнению, президент Рейган коренным образом нарушил условия социального сосуществования правительства с американским народом. Бесцеремонными действиями он разрушил большинство достижений, с таким трудом завоеванных моим отцом пятьдесят лет назад… Вы, наверное, читали, что президент Рейган предлагает уменьшить даже детские завтраки в школе… По моему мнению, наша страна стоит сегодня перед лицом великого кризиса, и, пока мы не уберем республиканцев от власти, мы будем приближаться к финансовой катастрофе…»
Ну вот, теперь, после рассказа о том, что происходит в ООН и в какой-то степени вокруг, я могу перейти к новой теме.
Глава 5
Заседание Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН началось с традиционным опозданием на полчаса. Заседания самой Генеральной Ассамблеи иногда задерживались куда основательнее: однажды я наблюдал, как председательствующий вызывал по очереди министров иностранных дел трех стран, записавшихся для выступлений, но на месте не оказалось ни одного из них. У каждой страны — свои праздники, собственные обычаи, свои выходные дни; представители многих мусульманских государств по пятницам на заседания не ходили; в День Колумба отдыхала американская делегация.
Делегатские места в зале расположены впритык — почти так же, как стоят кресла в театре. В комитетах у каждой делегации два места — одно за другим, с табличкой, установленной перед первым. Между каждыми двумя делегациями есть микрофон, включающийся с пульта в момент, когда председательствующий предоставляет тебе слово. Микрофон разрешается вызывать к жизни и во время чужого выступления, если у тебя есть неотложные замечания по ходу ведения сессии. В этом случае председатель может прервать основную речь и дать вмешавшемуся несколько минут для реплики. Ответы возможны в конце заседаний, иногда даже на следующий день, когда отвечающий соберется с мыслями (хотя бывает, что делегаты начинают перебранку через весь зал). Что еще интересно, это расположение мест по английскому алфавиту, от чего соседства бывают самые неожиданные. Делегация СССР сидит между Объединенными Арабскими Эмиратами и делегацией УССР. С другой стороны от украинской делегации — представители Уганды. Делегация США втиснута между Танзанией и Верхней Вольтой; и ведь удается мирно, плечом к плечу, сидеть на трех соседних креслах представителям Ирана, Ирака и Израиля.
Короче говоря, ко многому надо привыкнуть. Здесь множество жестких правил, и они непререкаемы; кажущаяся вольготность заграничной представительской жизни — самая поверхностная и неверная из оценок. Есть жестко нормированная жизнь, в которой ничто не совершается просто так; есть работа, в которой нельзя обронить слова лишнего. И при всем том, что дипломаты иногда улыбаются шире, чем представители прочих профессий, кошки на душе у них скребут очень часто, по-моему, чаще, чем у других.
Я решил рассказать историю Володи, которого не хотят отдать матери, возвращающейся в Советский Союз, на заседании Третьего комитета, занимающегося правами человека и гуманитарными проблемами.
Выступать мне пришлось на вечернем заседании, восьмым по порядку. Обсуждался вопрос о дискриминации граждан, которые работают не у себя на родине; выступавшие приводили много примеров того, как в капиталистических государствах формируются целые колонии «второсортных людей» из наемных иностранных рабочих.
Об этом вы знаете, а я не хочу очень далеко уходить от истории, происходившей со мной, хотя статистика и примеры были впечатляющими, включая рассказ о дискриминации национальных меньшинств в самих Соединенных Штатах. Кстати, немало пишут об этом и в газетах; писали и о Марии, приехавшей в Америку и теряющей здесь несовершеннолетнего сына Володю; немного писали об этом, но заметно. Во всяком случае, когда в отведенные мне десять минут я излагал, как в США советского мальчика Володю делают Уолтером, в зале стало тихо. Кто-то даже громко поддакнул, когда я спросил у представителя Соединенных Штатов, что бы предприняла его страна, если бы подобное случилось с американским школьником в Москве? Почему они позволяют себе похищать детей? В их стране это преступление, именуемое киднеппингом, а проще — похищением, карается очень строго, а как будет сейчас?
Американский делегат воспользовался своим правом для ответа в конце этого же заседания. Он, видимо, знал, о чем может пойти речь, потому что процитировал статью какого-то беглого московского адвоката, мелькнувшую в здешней прессе. Бывший слуга советского правосудия врал изо всех сил, в частности, он писал, что мальчика непременно «сошлют в Сибирь строить газопроводы» на всю оставшуюся жизнь. Кроме того, американец сказал, что окончательный ответ на вопрос — дело суда и пусть суд решает…
Все было яснее ясного: они будут переводить этот разговор на шепот, тянуть с ответами, путать в судах. Механизм ненависти и неправды отлажен до тонкостей. Бедный Володя-Уолтер попал между шестеренками, выточенными на таких серьезных станках, что они его скорее изомнут и сжуют, чем выпустят. Тем более в последние месяцы американская пропаганда в очередной раз принялась перегружать проблемы с больной головы на здоровую, пуская чернильные фонтаны по поводу того, что уж если где иностранных рабочих и угнетают, то конечно же в странах социализма, а не в Соединенных Штатах. Володя-Уолтер для них в этой игре — малая пешка, и они его замаскируют так, что мало кто разберется, это уж точно. Только что здешний министр обороны Каспар Уайнбергер стучал своими маленькими ручками-ножками, требуя, чтобы никто не смел предъявлять Америке никаких претензий по поводу прав человека и по всем прочим поводам, — очень министр нервничал и врал.
Мне всегда казалось, что наглость не может и не должна становиться ни оружием, ни аргументом, иначе будет не дискуссия, а ссора в трамвае. Но тем не менее. Этот урок я тоже должен был усваивать, к собственному сожалению, а не к радости.
Но цену американским усилиям по противопоставлению и разобщению народов понимают все лучше: старинный имперский принцип «разделяй и властвуй». И в самих Соединенных Штатах новая репутация страны не всем по душе. Дело в том, что огромная часть населения страны всегда заботилась об ее авторитете и дорожила им. Совестливость многих американцев хорошо известна: только в послевоенное время здесь жили писатели ранга Хемингуэя и Фолкнера, поэты ранга Сендберга и Фроста, такие ученые, как Эйнштейн и Оппенгеймер. Но приступы самовлюбленности нет-нет да и вспыхивают в части заокеанских душ; попросту не всегда этим душам удавалось вести себя так нагло и самоуверенно, как сегодня. Когда-то великий американский мыслитель Эмерсон, один из тех, кто боролся за демократию в Штатах, вовремя поддержал Уолта Уитмена и делал для доброго имени своей страны все, что мог, сказал очень просто и убедительно: «Моя свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается нос моего ближнего». Можно бы и напомнить эти слова вслух — в тех же Объединенных Нациях; а можно бы и слова другого американца, бывшего посла в Москве Кеннана: «Если мы отбросим идефикс, будто русские жаждут сбросить на нас бомбу, и вместо этого подумаем о будущем планеты, наше положение существенно улучшится». Но путь сотрудничества не самый популярный для рейгановской администрации; вот они и стараются, то размещая ракеты, то задерживая детей, обострять отношения с нами, считая, что так движение к цели Еернее. У каждого своя цель…
Написал я все это, перечитал и подумал, что получается не рассказ о событиях, а комментарий к ним. К тому же кто-нибудь из знакомых американцев непременно рассердится, из тех, кто считает, что его великая родина всегда права. Володе я пока не помог, но показал, что его судьба нам небезразлична. Как бы они — Мария ведь, кажется, еще в Америке? — не устроили ей по этому поводу неприятностей. Моя давняя мечта жить в дружбе как можно с большим числом людей в Штатах рушится постоянно: я сам подрываю свои шансы на репутацию человека терпимого, образованного и не вмешивающегося ни во что. А может быть, такая репутация не нужна? Настает время, когда в жизни как можно чаще надо быть собою самим, но даже в разговорах на эту тему не все меня понимают. Увы.
…Мария ждала на углу Первой авеню и 44-й улицы, прямо напротив здания Секретариата ООН. Мы с ней не уславливались, но она знала, что я постоянно выхожу в одну и ту же дверь — западную, а заседания оканчиваются около шести вечера.
— Не сердитесь, что я вас преследую, — сказала она. — Но что мне делать?
Я взглянул на нее внимательно и увидел, что эта совсем еще молодая круглолицая женщина, такая домашняя по всему облику — даже Одежда на ней была наша, из дому, — находится на грани истерики. Так же, как она умела плакать — всем лицом сразу, — так и истерика сейчас начиналась во всем ее существе: и в глазах, и в суетливости ладоней; пальцы у Марии дергались, завивая, спутывая бахрому брошенного на плечи платка, а глаза у нее были раненые, как два маленьких озерца, налитые болью. Мария подошла ко мне вплотную и сказала, глядя в лицо мне:
— Меня выгоняют из страны. Сказали, что сестра отказывается давать гарантии за меня и подтверждать свое приглашение. Мне прекратили визу, или как там это зовется, и велят уехать отсюда.
— А сын? — спросил я.
— Это я пришла узнать у вас, как мне быть с сыном! Его мне даже не показывают. Вместо него со мной встречается какой-то адвокат с толстыми книгами и говорит, что сын не желает меня видеть. Неужели нет закона, по которому…
— Здесь другая страна п другие законы, — ответил я как можно спокойнее. — Мне трудно быть экспертом, но вы сами приехали под покровительство законов именно этой страны. Когда я обратился к нашим специалистам, те мне ответили, что будут пытаться действовать через Государственный департамент, но надежды мало, учитывая нынешнее состояние советско-американских отношений.
— Да разве в зависимости от отношений…
— Именно, — сказал я. — Да, к сожалению. Мне сказали, что вы можете возвратиться, есть решение на этот счет, и добиваться освобождения сына через какую-нибудь здешнюю адвокатскую контору.
— Семен узнавал, — кивнула Мария. — Это дорого.
— Поищем вместе. А что Семен? — Я хотел перевести разговор на другую тему, хоть понимал, что для Марии не существует других тем.
Женщина взглянула на меня всемудро и печально, продолжая теребить бахрому своего платка. За нашими спинами развевалось великое множество государственных флагов стран — членов ООН. Флаги были очень красивые, и странно, что люди к ним привыкли, — никто из прохожих даже не глядел в ту сторону. Чаще посматривали на нас; очевидно, мы были чем-то необычны. Я оглядел себя и снял с лацкана приколотый там пропуск — белую карточку с гербом ООН, дающую право доступа на все заседания.
— Держитесь, — сказал я Марии. — Надежда есть. И тут она рассердилась.
— Надежда? — переспросила женщина в платке, разглядывая меня в упор. — Неужели такая огромная страна, как Советский Союз, не может ничего сделать, чтобы возвратились домой и я, и Володя! Неужели трудно заступиться за меня, если…
Я перебил Марию:
— Если страна в чем-то и виновата, так это в том, что воспитывает своих граждан людьми с пониженной ответственностью. Не всегда, но воспитывает. Нас с детства приучают, что, если заболит живот, надо звонить государству, то есть в государственную поликлинику, и там помогут. Если крыша течет, надо шуметь, жалуясь государству же на то, что у меня-де с потолка капает. У одного нашего писателя потолок обвалился, потому что он пальцем не шевельнул для ремонта, требуя у государства новую квартиру. Вы же знаете, что если ребенок не хочет учиться, то наказывают не самого ребенка или его родителей, а учителей и директора школы. Наказывает их государство, потому что оно взяло на себя ответственность за то, что наши дети не будут болванами. И вот, добившись права на отъезд в страну, которой, попросту говоря, на вас наплевать, простите великодушно, вы вспомнили про государство, от которого отказались.
Мария слушала меня внимательно и уже не теребила платок. Глаза у нее не успокоились, а почернели внутри, будто там прошел и погас пожар. Она качала головой, почти не слыша меня, пристально глядела на мои губы, стала само внимание, но меня будто не слышала. Человеческий поток обтекал нас со всех сторон, мы уже не интересовали никого; люди, остановившиеся в центре тротуара и долго толкующие, не выглядели ньюйоркцами, но рядом ведь ООН, и там столько иностранцев, а они такие забавные.
— Я попрошу, чтобы Семен занялся всем этим. Вы поможете с адвокатом? — спросила Мария.
— Будем стараться, — ответил я. — Мне обещали.
— Чертова страна, чертов город! — сказала Мария. — Я бы всех у нас, кто думает, что здесь все даром, и только лишь огни в небоскребах, и негры в джазе хохочут, и веселые ковбои на улицах, отправляла сюда не менее чем на полгода, чтобы родину учились любить как следует!
— Не надо, — сказал я. — Вам же разрешили вернуться…
— Вы мне не верите?
— Верю, но все равно не надо. Думайте лучше, как сыну помочь…
У бровки тротуара рядом с нами притормозил довольно помятый длинный автомобиль; из опущенного окна над задней дверью высунулся ужасно симпатичный негр с веселыми глазами и закричал, явно обращаясь ко мне:
— Эй, мистер!
Я извинился перед Марией и подошел к негру. Все так же улыбаясь, тот сказал мне:
— Мы будем здесь проезжать через десять минут. Вы понимаете по-английски? Через десять минут. Если вы еще будете беседовать с этой дамой и вообще заниматься не тем, для чего вы приехали в ООН, полицейский задержит вас за то, что позавчера вы изнасиловали попугая в Центральном парке. Свидетели будут…
— Но… — начал я.
— Вы понимаете по-английски? — переспросил веселый негр и уехал.
Номер на его машине был такой грязный, что цифры невозможно было прочесть.
Когда я возвратился, Мария удивленно спросила, что произошло. Я объяснил ей, что это советник из государства, расположенного возле поворота из Атлантического в Тихий океан; у них сегодня день рождения королевы, и меня пригласили на прием.
— Одноклассники моего Володи послали письмо американскому президенту с требованием не задерживать моего сына. Копия у меня; может быть, опубликовать ее в здешней прессе?
Я взял копию и подумал, что непременно опубликую ее, и еще раз пообещал Марии сделать все, что смогу. Письмо школьников было напечатано на машинке через два интервала и переведено на английский язык; тем легче будет передать его знакомым газетчикам. Страшное чувство не то чтобы бессилия, а стены, в которую я принялся стучать лбом по собственной инициативе, не уходило. Я понимал, что Володя-Уолтер мечется щепочкой по волнам такого бурного моря международной политики, что ни он, ни его мать даже не представляют себе этого и вряд ли могут представить.
Письмо (9)
Милая моя, сегодня, девятого октября, в свой обеденный перерыв я зашел в универмаг Александерса, расположенный на углу Лексингтон-авеню и 58-й улицы. Универмаг очень большой, и товары там самые разнообразные, в том числе по качеству и по стоимости; на самом нижнем этаже, в бейсменте, распродают те, что подешевле. В центре бейсмента, возле эскалатора, я увидел пожилого, лет семидесяти, высокого человека в желтоватом плаще и кепочке явно нашего производства. Человек кричал на весь этаж, заглушая шепот радиоинформации, перебивая музыку неожиданными русскими словами:
— Эй, кто мне скажет, где тут продают теплые ботинки? Эй, кто мне поможет купить теплые ботинки?
Американцы бежали, не обращая на старика никакого внимания; здесь всегда кто-нибудь кричит, и всех не переслушаешь.
Пока я раздумывал, как мне поступить, и подсознательно продвигался поближе к человеку в плаще, кто-то другой, в синем костюме, такой же немолодой, подошел к нему и взял за руку. Я услышал голос вновь подошедшего: «Да не кричите вы, вы что, дома?!»
Еще одного человека, который «не дома», я видел чуть раньше. Это было сегодня же, но утром, на углу Пятой авеню и 53-й улицы, в самом центре Манхэттена. Там за столиком сидела пожилая дама в нитяных перчатках, очень старом пальто и вязаной шапочке вишневого цвета. Над головой у дамы на вздетом ввысь картонном транспаранте большими латинскими буквами было начертано «Samisdat», а чуть ниже шел рукописный английский текст такого содержания: «С огромным трудом я бежала из Советского Союза, ценой страшных усилий вырвалась из рук русской тайной полиции. Но никто не хочет меня издавать в Америке, и я умираю от голода». Ниже была подписана фамилия страждущей дамы: «Нона Осипова». Вокруг лежали размноженные на ротаторе самодельные брошюрки, вроде «Любовь в Риме», «Страсть в застенках» и еще какая-то любовь со всяческими мучениями. Поскольку такой писательницы у нас в стране не было сроду, а горящий графоманский взор я различаю за три квартала, то по дороге к Центральному парку я помечтал о декрете, который бы разрешил всем графоманам ехать куда угодно вместе с чемоданами рукописей, хоть на Луну, — какое бы великое дело решилось!
Подергивая пальчиками в белых нитяных перчатках, мадам Осипова наблюдала жизнь главной из богатых улиц Нью-Йорка. Вы этого хотели, мадам? Поскольку, думаю, я был первым, кто хоть взглядом проявил интерес к упомянутому аттракциону, дамочка взглянула на меня и неожиданно высоким голосом произнесла: «Самиздат» — милое заграничное слово, которое пока капитала ей не составило…
Совершенно серьезно, сегодня я видел все это, и смешное, перепутавшись с трагичным, напомнило мне о множестве нью-йоркских разделительных барьеров, гетто, убежищ и норок, которые не смыкаются между собой.
Здесь даже пахнет по-разному. Тяжелый дух дорогих осенних духов, исходящий из небольших фирменных магазинчиков на Пятой или на Мэдисон-авеню, где привратники в черных или зеленых ливреях распахивают окованные металлом тяжеленные двери подъездов. Веселый цветочный аромат над стендами у Центрального парка возле пластмассовых ведер цветочниц, где всегда бродит множество разной публики, исходя пряным сигаретным духом. А запахи ресторанов? А неистребимый автомобильный запах? А запах кислого пота и разлитых суррогатов алкоголя — это уже Бауэри, самые нижние улицы Манхэттена, городское дно. Негритянский Гарлем и пуэрториканский район, расположенный чуть ниже и чуть восточнее Гарлема, пахнут гарью — здесь вечно что-то горит, вечно ревут пожарные сирены и темнокожие люди безучастно наблюдают за огнем с тротуаров, будто все это их не касается.
А книжные запахи? Запах лака и типографской краски, приправленной ароматическими эссенциями, чтобы книга пахла праздником.
Многое здесь можно разделить и понять уже по запахам, и я не раз переживал в Нью-Йорке все радости неопытной охотничьей собаки, берущей след; запахи здесь определенны и стойки. Но не только запахи.
Здесь очень строго распределяются по национальностям: надо хорошо поразмыслить, начиная рассказывать, откуда и кто ты, готовясь посетить чей-нибудь дом или даже другой квартал. Уже внешние приметы достаточно выразительны: испанские вывески в латиноамериканской части Манхэттена, украинские и польские — на славянских улицах; русские афиши и вывески, вроде «Гастроном „Москва“», «Ресторан „Баку“», «Ресторан „Националь“», на Брайтон-бич у океана, где расселяются те, кто приехал за последние годы в Нью-Йорк из нашей страны. В китайском Чайнатауне официантка в ресторанчике не смогла найти для меня вилку: надо было есть палочками, все посетители так ели, а над телефонными будками были надстроены ступенчатые крыши пагод. В арабском закоулке я пробовал поторговаться с продавцом медных фигурок, но тот не знал никаких языков, кроме арабского.
К Америке поначалу многие относятся так, будто здесь можно быть американцем вопреки своей прежней национальности. Но быстро убеждаются, что здесь, в этом лесу, где многие корневища переплелись, лучше быть деревом с собственными корнями. Здесь надо быть американцем, но притом — ирландцем или русским, евреем или украинцем, итальянцем или африканцем, арабом или китайцем. Иначе ничего не получится. Правда, существует крайность (это, как правило, поначалу), когда к Америке относятся будто ко второй жене: ей и внимания надо побольше, ей и в любви надо объясняться погромче, чтобы чего не подумала, чтобы не показалось ей, будто ты первую жену вспоминаешь с нежностью.
Опять пришел мне на память случайно встреченный в Канзасе какой-то Герман Ермолаев из Принстонского университета; как он лютовал не столько на меня, сколько на мою страну: «Там у вас меня, знаю, ругают!» И я понял: он и такие, как он, говорят все это потому, что не желают смириться со своей второрядностью, второсортностью, отставленностью. С тем, что никто не ругает их и никто не хвалит. Просто забыли напрочь, совершенно, за ненадобностью. Пожалуйста, воля ваша, ребята, пишите, что вам в голову взбредет. Проклинайте, сочиняйте, воля ваша, только смиритесь с тем, что нет и не будет России со столицей в Нью-Йорке; и Украины такой тоже нет и не будет. Предательством единственной родины нельзя добыть себе новую; так что гуляйте, ребята; неважно вам — гуляйте: вы же так хотели в Америку, да не по тем билетам сюда приехали…
Национальные границы в Нью-Йорке ощущаются постоянно. На 30-й улице я зашел купить радиоприемник в еврейский магазинчик. Продавец разговаривал по-английски с большим трудом; покачивая ермолкой, накручивая на палец пейсы и одергивая длинный черный лапсердак, он становился похожим на местечковых героев Шолом-Алейхема из украинских городишек конца прошлого века, разве что на полках вокруг нас попискивали, подмигивали, пощелкивали вполне современные электронные чудеса…
Все привыкли к стандартной (хоть и несколько устаревшей) формуле, что мафия в Америке — это «итальянская фирма», там даже вся терминология итальянская.
Полиция в Нью-Йорке — англо-ирландская. Хоть служит в ней немало чернокожих, славян и выходцев из Латинской Америки, офицер традиционно должен быть белокур, голубоглаз и разговаривает он, не разжимая зубов, с ирландским акцентом.
Множество прачечных принадлежит китайцам. Рядом с моим домом действует заведение некоего Хуа By, а по утрам под окнами медленно проезжает фургон с надписью «Химчистка и прачечная Юнг Янга».
В руках у сионистов пребывает огромная часть средств массовой информации (в Нью-Йорке — чуть ли не все буржуазные издания, кроме газеты «Дейли ньюс», принадлежащей австралийскому магнату). В Нью-Йорке евреев больше, чем в Израиле, и сферы их национальных влиятельных организаций простираются на банки, текстильно-одежный бизнес, знаменитую 47-ю улицу, где сосредоточена торговля бриллиантами, и на многое другое. Во всяком случае, по большинству телеканалов последние известия начинаются сообщениями из Израиля, а заканчиваются репортажами о сионистской демонстрации у советского представительства.
Украинское население Нью-Йорка разбито на группы и группки, партийки, партии, землячества, церковные приходы и просто на множество одиночек.
Потомки первых трудовых эмигрантов, так и не сумевших разбогатеть, сохранивших нежную привязанность к земле предков, издают газету, содержат свой клуб в районе нижних улиц Манхэттена, по сути дела, в одном из беднейших районов города. Чистенькие комнаты, где вам будут рады, кухня, где для вас слепят и сварят вареники, «как в старом крае». Лига американских украинцев — ЛАУ, так зовется их организация — делает все для того, чтобы отношения между отчизной предков и Соединенными Штатами складывались мирно. Только ведь очень мало в государственном масштабе зависит от этих добрых людей. Но доброе имя родины отцов своих они берегут последовательно и верно.
Украинские художественные ансамбли Нью-Йорка многочисленны и популярны здесь, порой очень интересны. Недавно я видел несколько номеров из программы танцевального ансамбля «Днипро», в подготовке которых принимали участие и советские балетмейстеры, и могу сказать, что уровень их был достаточно высок. А солист, кстати, парень латиноамериканского происхождения, украсил бы, пожалуй, и некоторые профессиональные коллективы. Впрочем, с представителями других национальностей и других профессий отношения у артистических украинских групп не всегда идеальны. Свидетельством тому — это объявление на английском языке, появившееся в нью-йоркской прессе 24 октября; привожу прямо по газетному тексту: «Где-то в Нью-Йорке скрыты четыре вора, в чьих руках находятся четыре бандуры и которые не имеют понятия, как их продать. 3 октября две бандуры были украдены из автомобиля… На следующее воскресенье еще две бандуры были украдены из багажника; оба автомобиля стояли на паркингах у церквей…»
К сожалению, в Нью-Йорке антисоветские националистические кошачьи концерты бывают слышнее всех цимбал да бандур: несколько раз они проходили у нашего
представительства при ООН, и я имел возможность убедиться в этом. Впрочем, и в националистических организациях публика разная, и многие, особенно из молодежи, никогда не делали и не собираются делать нам ничего плохого. Но «пудрят мозги» им весьма интенсивно; как правило, у большинства ненадолго хватает желания разбираться, что к чему.
Основательнее всего развился украинский патриотизм, так сказать, с гастрономическим уклоном. Работает множество украинских пекарен и колбасно-коптильных заведений; производятся свежемороженые вареники с какой угодно начинкой; есть украинские бары, рестораны и заведения комбинированные, где можно брать пищу с собой. В начале октября в нью-йоркских газетах промелькнуло сообщение, что на Ирвингтон-авеню открывается очередной украинский магазин («имеем лучшие изделия наших мясников из Нью-Йорка и окрестностей»), где можно и закусить на месте («делаем холодные и горячие бутерброды, кофе и чай»). Однако все это для долгого рассказа, и я к нему еще вернусь. Украинская тема Америки неисчерпаема, и я еще не раз прикоснусь к ней. А сейчас это ведь письмо о многом сразу.
Вчера на приеме в китайском представительстве (обильнейшие столы, официанты в белых кителях, военные с крупными красными петлицами) я встретил Гаррисона Солсбери. Это видный, думаю, что старейший и самый заслуженный журналист в Америке. Он в свое время редактировал «Нью-Йорк таймс»; в годы войны работал у нас, встречался с виднейшими руководителями страны, в том числе с И. В. Сталиным; написал серию книг о войне, о журналистике, получал высшие американские премии. При всем этом он никогда не принадлежал к числу больших наших друзей, но и не делал секрета из своих взглядов: опытный и талантливый журналист, Солсбери был и остается представителем своего мира, и социально он определен, вполне понятен — это чрезвычайно облегчает беседы с ним. Он бывал в Киеве и в годы войны, когда город был только что освобожден и зарубежным журналистам показывали только что вскрытый Бабий Яр, и недавно во главе делегации американских писателей. Москву он знает, как свой Нью-Йорк, хоть не все в ней оценивает одинаково с нами.
Так или иначе, Солсбери увидел меня в китайском представительстве, подошел, позвенел льдинками в стакане с виски и спросил с высоты своего почти двухметрового роста:
— Чувствуете себя как на вражеской территории?
— А где она? — спросил я. — Вы имеете в виду китайскую? Или американскую?
— Ну что вы! — Солсбери сделал шажок назад. — Мне кажется, что писатель, вырванный из привычного окружения, должен чувствовать себя беспокойно. Как солдат на вражеской территории.
— Не надо, — сказал я, и Солсбери засмеялся.
— Мне хочется встретиться с советскими писателями, — заговорил он снова, — не только мне, но и моим друзьям. Сейчас я предпринимаю усилия к организации такой встречи. Как вы считаете, она возможна?
— Да, — сказал я. — Мы уже говорили об этом в Советском Союзе.
— Но мы не говорили о том, кто будет участвовать во встрече. Надо, чтобы это была высшая лига, элита, лучшие из лучших, а?
— Кто? — Мне захотелось, как говорят дипломаты, воспользоваться правом на ответ, а значит, спросить самому:- Вы знаете этих людей? Лучших из лучших? Твердо можете их назвать?
Солсбери позвенел льдинками в стакане и глотнул:
— Составляйте свою команду как хотите. Но не надо, чтобы она боялась чужого поля. В Америке трудно, вы знаете. Здесь имена иногда значат больше книг, а репутация — еще больше. Если о человеке здесь не хотят знать, он может потеряться в два счета. Чужая территория требует времени для освоения.
Милая моя, на этом я письмо обрываю. Оно и так получилось слишком длинным. Впрочем, скажу еще одно. Когда я уходил с китайского приема, один мой знакомый, который молча стоял, слушая наш разговор с Солсбери, заметил:
— Старик был прав. Здесь много чужих территорий. У каждого есть собственная территория — и чужая. Вы не забывайте об этом.
Я припоминал все сразу и поэтому писать тебе начал с рассказа о человеке, который кричал в универмаге Александерса.
Пресса (11)
Из газеты «Нью-Йорк таймс»,
3 октября 1982 г,
«Музыкант-исполнитель Жак Лейзер говорит, что „немало музыкантов, которые не были имениты в Советском Союзе, надеялись после приезда в США быть приглашенными в концертные турне. Они даже не имели представления о том, как трудно здесь делать карьеру, независимо от того, русский вы или нет“. Эти сложности иногда влияют и на артистов, которые вправду имели престижные карьеры в Советском Союзе. Александр Годунов был заметной звездой в Большом балете с достаточной международной репутацией в момент, когда он остался в США в 1979 году… После хлопотливой карьеры в Американском театре балета он был оттуда уволен. Еще более разочаровывающим было появление в стране Леонида и Валентины Козловых, танцоров из Большого, которые остались в США через несколько недель после Годунова и которых, кажется, полностью игнорировала здешняя машина делания карьер…»
Глава 6
С самого утра я ожидал вестей от Семена Каца. Это занятие, конечно, не поглощало меня целиком, но все-таки я знал, что около полудня он придет; у него в это время дневной молочницкий перерыв, составляющий около трех часов между утренней и вечерней развозками. По телефону он звонил нечасто, да и застать меня было не так легко, на ночь же я телефон отключал. А договорились мы встретиться, потому что поспорили. Началось с того, что я высказал мысль о том, что любой труд почетен, хотя человек, понятно, должен стараться посвятить себя делу, которое он любит.
— Вы так считаете? — спросил Кац. — Просто вы еще мало жили на свете и еще меньше жили в Нью-Йорке. У нынешнего нашего мэра фамилия, вы знаете, почти как у меня, — его фамилия Коч, — так даже он сказал, что устал от своей работы…
— Усталость — это совсем другое дело. Усталость должна быть.
— Знаете, я не уверен, что родился для того, чтобы развозить молоко и разносить хлеб. Но мне это дело нравится. Это чистая работа. А в Нью-Йорке все больше становится работ нечистых. Здесь больше миллиона людей, которые ищут, где бы устроиться. Кем угодно, только бы заработать хоть немного. Им просто хочется, извините, покушать, и порой они даже согласны убить человека, чтобы вынуть у него из кармана пять долларов. Вы же знаете, что в Нью-Йорке всегда надо иметь при себе мелкие деньги.
По этому и по другим поводам жизнь в Нью-Йорке и вправду требует огромного количества денежной мелочи. Во-первых, чтобы звонить по телефону: автоматы рассчитаны на монеты в 5, 10 и 25 центов — в зависимости от того, с кем ты собрался беседовать, — но автоматов, работающих бесплатно, вовсе нет. Если ты звонишь за пределы города, телефонистка тебе все время будет напоминать, сколько монеток надо бросить еще, и у тебя должны быть эти монетки. Кроме того, мелочь нужна, чтобы откупаться от уличных приставал, которые, дыша перегаром, выпрашивают 25 центов «на кофе», а если увидят у тебя деньги бумажные, то непременно отнимут, по крайней мере сделают попытку отнять. Еще нужна мелочь для того, чтобы покупать газеты; кипы придавленных металлическими чушками толстых американских газет лежат вокруг продавца, как пухленькие подушечки или коврики для мусульманских молитв. И вправду, нечто религиозное таится в обряде приобщения к чужой жизни, в моменте, когда ты берешь только что купленную газету и оглядываешься. Здесь много пишут и говорят о деньгах, но без денег здесь очень плохо. Везде плохо, но особенно здесь.
…Возле газетной стойки высилась белая телефонная будка с раздвижной дверью. За будкой каждое утро можно было видеть все ту же пожилую женщину, восседавшую на черных пластиковых мешках для мусора. Женщина меланхолически глядела прямо перед собой, иногда вязала нечто серое и длинное, распуская полосы предыдущей вязки. Когда я покупал газету, женщина, проворно двигая спицами и не глядя на меня, негромко произносила: «У вас есть еще мелочь?» Мелочь у меня была, но не в таких количествах, чтобы немедленно заняться ее раздачей. Да и женщина спрашивала не настойчиво, в ней ничего не было от прилипчивых попрошаек, агрессивно требующих у тебя то, что им не принадлежит.
Не думаю, чтобы я для нищих выглядел особенно привлекательно, но практически каждое воскресенье у меня на улице два-три раза просили деньги. Просят «на кофе» или «на метро» (билет в нью-йоркском метро стоит 75 центов, и говорят, что вот-вот будет стоить доллар, это очень не дешево). Такие попрошайки берут массовостью акции; прочесывая многотысячную толпу, они вылавливают какое-то количество мелочи. Причем техника здесь однообразна: чаще всего человек пристраивается рядом с вами, идет в вашем ритме и вроде бы мило беседует, объясняя, почему ему нужна эта сумма именно от вас. Только сквозь нью-йоркский Таймс-сквер — пространство в центре Манхэттена — по американскому же подсчету проходит миллион с четвертью людей ежедневно: те, кто просить умеет, хоть чего-нибудь, а напросят…
А тех, кто просить не умеет, мне жалко. Женщину, которая вяжет, сидя на черных пластиковых мешках, мне жаль особенно, потому что она явно «аут», выбыла, ей уже никто не поможет, потому что проигравшим здесь не помогают.
Кац, наверное, прав: не всякое дело можно полюбить и не всякая работа интересна. Ежедневно я вижу людей, которые делают то, что им стыдно делать или по крайней мере было стыдно. Имею в виду и человека, раздающего на углу приглашения в бар с проститутками, и трубача, выводящего архангельские рулады на другом углу, и слепого с единственным карандашом, торчащим из консервной банки (все бросают в банку мелочь «за карандаш», понимая, что это милостыня). Какая уж там радость, когда девочка лет пятнадцати, не больше, говорит мне «хелло» и подмигивает куда-то в сторону…
Иные уроки добывания денег быстро усваиваются частью приезжих. Могу вам привести несколько примеров из русскоязычного нью-йоркского журнальчика «Литературное зарубежье» № 3–4 (журнальчик явно непериодичный: где денег взять?).
«Парень пообещал прислать „Праздничный набор с семгой и шампанским“ и, собрав деньги по почте, исчез».
«Один объявил, что покажет советский фильм „Семнадцать мгновений весны“, а сам, собрав деньги за проданные билеты, мгновенно исчез, потому что у него даже киноленты не было. Верно! Дураков надо учить!»
«Или страховой агент, который потом заявил, что его не поняли, а при этом присвоил кругленькую сумму».
«И тот, который: „Желаете заработать 500 долларов в неделю, не выходя из дому? Пришлите 5 долларов за инструкции“»…
Статью с этими примерами дал мне почитать Семен Кац.
Затем он деловито сложил журнал, сунул его в сумку, лихо болтавшуюся через плечо. Задергивая застежку, добавил:
— На эту продукцию есть свой читатель и свой издатель, значит, она не такая уж и ненужная. А кстати, вы читали про подводную лодку?
— Какую? — наивно вопросил я.
— Конечно, про вашу, — ответил Кац и задернул змейку. — Ее, конечно, никто не видел, и вообще неизвестно, есть ли она в природе, а газеты уже пишут, что, по всем данным, советская подводная лодка возникла в акватории, близкой к…
— Вам что, платят? — спросил я.
— Извините, — не обиделся Кац. — Просто мы идем в такое место, что я должен создать атмосферу.
— Мы же идем к нашему представительству.
— Вот именно, — сказал мой спутник.
Пока мы двигались от 64-й улицы, где я живу, до 67-й, где находятся советские представительства, я снова вспомнил сочинения об отсутствии у нас всего на свете и о спортсменах, чокающихся гранеными стаканами на заре. С одной стороны, они печатают такое, потому что им хочется, дабы все знали, что без капиталистической помощи мы весь век будем ходить с немытыми головами, но, с другой стороны…
Месяца за два до упомянутых мной сообщений я прочел в нью-йоркском журнале «Тайм» такую новость. Корреспондент оного журнала писал, что молодежь у нас сплошь ходит в джинсах, носит адидасовские кроссовки, которых мы уже сами производим до миллиона в год, и пользуется французской косметикой. Многие у нас, пишет журнал, занимаются парусным спортом, который на Западе всегда считался занятием для аристократов. Кроме того, новинки западной музыки и даже кое-что из капиталистических напитков у нас можно купить. И точно так же, как авторы сочинений о том, что у нас ничего нет, восклицают, что социализм на днях погибнет от полного отсутствия всего, чем нормальные люди в цивилизованных странах облегчают себе жизнь, так и авторы статьи, утверждающей, что у нас есть все, доказывают, что социализм погибнет от достатка, и оплакивают нас с вами. Им ведь, по сути, все равно, есть ли у нас яхты, джинсы, водка, шампунь, колбаса и все остальное. Им надо, чтобы у нас было плохо. Вот и фантазируют. И платят им именно за это, небольшие деньги, но платят. А что можно выдумать на плохих харчах? Даже крикнуть громко нельзя, если в брюхе пусто.
…Думаю, что группу напротив нашего представительства — трех женщин и троих мужчин — перед работой, видно, покормили, потому что они орали изо всех сил.
Мне трудно было понять, как шесть человек могут наделать столько шуму, пока я не увидел портативные мегафоны, похожие на старые седельные пистолеты с дулами в виде воронок. Молодая женщина в красной косынке подымала свою воронку первая, и все начинали скандировать за ней. Скандировали они хором, очень ритмично, стихи, похожие на детскую считалочку. Стихи были на английском языке и содержали призыв кого-то там, в Советском Союзе, оправдать и никогда больше не трогать, а кого-то другого обязательно арестовать и подыскать ему такую статью обвинения, чтобы сидел подольше.
Пока мы с Кацем шли до нашего представительства, я рассказал ему, что напрасно он спешил именно со всем этим. Газету я время от времени просматриваю самостоятельно. А демонстранты у представительства орут частенько; этот дом вообще не самое тихое место в городе — напротив пожарная команда и синагога, которые устраивают свои концерты в самое неожиданное время. А крикуны на углу хоть предупреждают о том, когда соберутся, — такое правило. Вот и про этих я знал, велико дело…
— Вы ничего не понимаете, — сказал Кац. — Мы же договорились выяснить не про шум, а про деньги.
И вдруг у моего спутника вытянулось лицо. Мы остановились возле маленького овоще-фруктового магазинчика, метров за тридцать до марширующих по кругу шестерых людей с дуэльными мегафонами.
— Поглядите, — сказал мне Семен, — а вон и Марта…
Я тоже узнал ее, охранительницу кладбища. Марта была одной из шести орущих у представительства. Чуть поодаль стоял ее племянник Володя, которого она переименовала в Уолтера, и смотрел на все это.
О чем мы разговаривали вначале? О чем обещал мне рассказать Семен Кац? О том, как зарабатывают в Нью-Йорке?
Я глядел на Володю-Уолтера и думал, что совсем еще недавно этот паренек учился в советской школе, играл в футбол и ходил на пионерские праздники; надо же — именно теперь, когда возраст у него переходный и трудный, так сломать жизнь. Глядя на Володю, я пошел по направлению к нему, но Марта меня уже увидела: вышла из своей компании и двинулась наперерез. Она приблизилась вплотную, и видно было, что ненавидит она меня бесконечно, даже глаза побелели.
— Если вы сейчас не уйдете отсюда, я начну кричать. Не трогайте мальчика. У нас в Америке еще есть полиция, и она дело знает. Я закричу, и вас вышлют из страны. Думаете, не закричу? Вас вышлют…
«А что? — подумал я. — И правда вышлют». Семен Кац подошел сбоку и робко, непохоже на себя, протянул:
— Марта, вы не знаете, где Мария?
— О, и ты здесь, — медленно повернулась хранительница усопших. — Для меня в жизни осталась одна Мария, наша заступница, матерь божья, и она покарает вас. И тебя, паршивая морда, хоть ты и не нашей веры, и тебя, хоть ты, наверное, никогда ни во что не веровал!
Марта указала пальцем вначале на моего спутника, а затем на меня. Володя отодвинулся от нас подальше, зато остальные пятеро демонстрантов перестали вопить и подошли поближе.
— Эй, Сема, — сказал один из них, — ты зайди в синагогу, там есть еще один матюгальник, — он показал свой мегафончик.
— А сегодня хорошо платят? — спросил Кац.
— Ты не знаешь? — удивился человек с мегафончиком. — Как обычно…
— Вот кто ему платит! — вдруг заорала Марта и указала перстом прямо мне в грудь. — Вот кто ему платит и кто содержит всех американских предателей!
Подошел полисмен. Почти ничего не говоря, он постучал дубинкой по локтю Марты и указал дубинкой же на угол — кричать можно было только там. Марта мгновенно смолкла и как-то потерянно оглянулась. На территории, официально огороженной для того, чтобы ходить там и кричать в сторону нашего представительства, стояли, прижавшись друг к другу, две женщины. Они не хотели ничего требовать дуэтом, даже та, в красной косынке, которая начинала.
— Так ты, Сема, пойдешь с нами? Еще час работы, и все…
В это время Марта взяла Володю за руку и медленно двинулась с ним в сторону семидесятых улиц.
— Так ты идешь, Семен? — еще раз спросил у Каца его знакомый.
— Почему она с вами? — вопросом ответил Кац. — Она же так меня обзывала за то, что я еврей…
— Не знаю. Украинцы, знаешь, те, со Второй авеню, сказали, что они за нас и пришлют людей нам в помощь, а прислали только ее с мальчиком. И мальчик сказал, что кричать не будет. А ты, Семен, будешь или нет? Я же говорю, что осталось меньше часа…
— Мне надо молоко развозить. И ему тоже, — показал Кац на меня.
— Ну, как хотите, — сказал человек с мегафончиком и пошел обратно.
Полицейский, который стоял возле нас, вращая дубинку на шнурке, прикрепленном к запястью, тоже враскачку двинулся к стене дома напротив. Женщина в красной косынке подняла руку вверх и заорала; ничего, они еще час покричат, и все — им заплачено еще только за час вперед.
— Вот так, — сказал Семен Кац. — Вы считаете, с таким настроением можно развозить молоко? Оно же скиснет…
— Что с Марией? — спросил я.
— А! — махнул рукой мой спутник. — Мария живет у меня дома. Это я хотел проверить ее сестру.
Письмо (10)
Милая моя, помнишь, я рассказывал тебе о парнишке, которого задерживают здесь вопреки воле его матери, вопреки тому, что он несовершеннолетний? В статьях, в которых пишут об этом в нью-йоркской прессе, напирают на тот факт, что тетка подарила мальчику велосипед. И джинсы. И еще что-то. Комплекс чисто материальной привязки человека к новому месту традиционен и понятен. Для многих не подлежит сомнению, что человек должен любить края, где ему дарят джинсы с велосипедом…
Может быть, все это так. Но мне всегда было трудно привыкать к любому виду насилия; здесь же явно играют и судьбой матери и тем, что случится с ее сыном, не особенно задумываясь над такой мелочью, как человеческая судьба. И все-таки у нас в представительстве мне твердо-претвердо велели не соваться в это дело; я и не суюсь, чтобы не дразнить здешних гусей. Но, возникнув рядом со мной и вовлекая в свои круги новых и новых людей, дело это продолжает пульсировать, снова и снова прикасаясь ко мне.
Кэт (я писал тебе о ней) по моей просьбе связала консульский отдел нашего посольства с одним из адвокатов, представляющих здесь независимую гуманитарную организацию «Права для всех». Адвокат этот, Гарри Кренстон, подал уже апелляцию в суд штата, и ему обещали рассмотреть дело не откладывая. Но дело это — о мальчике с велосипедом, назовем его так — дальше и дальше укатывается от сфер, где царят нормальные человеческие отношения, законы и логика. Все это вправду похоже на человека с велосипедом; он может лишь ехать, этот человек, потому что ему нельзя остановиться, сидя в седле велосипеда. Вот они и едут…
Та ненависть, о которой я не раз уже писал тебе и рассказывал, трагически ощутима в большинстве подробностей жизни. В том, как нашему ученому отказывают в разрешении на посещение местного городишка, куда его пригласили прочесть лекцию; в том, что сейчас расторгнуты все соглашения о гастролях советских ансамблей в Америке; в том, что играют судьбой мальчишки, оторванного от дома. Все это одно к одному, одно к одному…
Мы часто рассуждаем о том, до чего хорошо было бы, если бы все люди и народы на свете пребывали в полном мире и согласии. Но люди так редко общаются напрямую. И когда я сегодня вижу, с каким усердием натравливают на нас американцев, один из самых трудолюбивых народов планеты, как уговаривают их поверить, что Советский Союз вот-вот нападет на них и поотнимает все построенные ими города, фермы, заводы, автомобили и самолеты, то нельзя не видеть, как эта ненависть перерождает людей внутри страны. Им показывают: там, в России, — виновники ваших несчастий, это советские утащили ваши секреты, съели ваш хлеб, а теперь еще и напасть хотят! Когда из нас пытаются соорудить громоотвод, позволяющий заокеанскому правительству валить на нас, объяснять нашими интригами все свои провалы, молнии все равно бьют — и не обязательно по нам, как хотел бы того Рейган или кто там еще.
В Нью-Йорке безработица колоссальна — около миллиона человек здесь не' находят применения своим силам и умению. И, казалось бы, независимо от этого, но параллельно этому главной причиной смерти мужчин в возрасте 15–44 лет стали не дорожные катастрофы, не инфаркты, не рак, а убийства. Сейчас в США кого-нибудь убивают каждые двадцать с небольшим минут; это их собственная статистика, которая широко известна. Но что еще важно (дальше я дословно процитирую «Санди таймс», лондонскую газету, недавно поместившую статью об этом):
«И в сельских районах штатов Миссури, Канзас, Иллинойс и Айова убийства тоже стали обычным явлением. По мере того как разворачивается эта бойня, криминалистов все больше тревожит увеличение числа убийств, жертвами которых оказываются совершенно незнакомые преступникам граждане. В прошлом чаще всего убивали знакомые люди — родственники, приятели, друзья, деловые партнеры, лишали друг друга жизни из-за ревности или во гневе. Теперь же в городах Америки завелась малочисленная, но невероятно опасная категория крайне жестоких, полностью лишенных угрызений совести уличных преступников».
Люди здесь озлились. Сегодняшний урок Америки очень поучителен — в этой поучительности я вижу и смысл рассказа о нем, если рассказ этот перечитают завтра. Бесспорно, что ненависть, положенная в основу государственной политики, уродует страну изнутри. Когда здесь упорно говорят о том, что ядерная война возможна и — больше того — она вот-вот начнется, предчувствие конца света становится совершенно осязаемым, реальным, и никакими карами нельзя устрашить человека, не верящего ни во что — ни в свое собственное будущее, ни в будущее человечества. Еще два примера из газетной хроники — и пока достаточно:
«67-летний Дэвид Рудник, торговец предметами религиозных культов, притормозил у светофора возле аэропорта. К машине подбежали три юнца, выстрелили ему несколько раз в голову и со смехом скрылись. Вердикт полиции: „Немотивированное убийство“».
«Ранним вечером в дом к 22-летпей Дороти Акилар ворвался грабитель и убил ее. Потом он застрелил полуторагодовалого ребенка в манеже»…
Хватит.
Мне очень серьезно кажется, что если они хотят выжить, то должны приоткрыть клапан и чуть снизить давление в своих котлах. Еще Козьма Прутков писал, что в спертом воздухе нельзя отдышаться. Так оно и есть…
В это письмо я не буду вкладывать больше никаких вырезок, только ксерокопию письма, которое известный тебе Семен Кац написал здешнему президенту и, отправив оригинал по назначению, копию подарил мне.
Письмо Семена Каца Президенту Соединенных Штатов Америки
«Господин Президент, Вам, наверное, пишут много писем — я очень хотел бы, чтобы среди них Вы прочли это. Извините, что письмо не по-английски, но, если Вы захотите, Вам его, конечно, переведут.
Я приехал в страну к Вам тогда, когда Вы еще Президентом не были. Власть в стране была другая, а я делал здесь маленькие, но полезные людям дела, а сейчас я развожу молоко и разношу хлеб.
У Вас есть жена, господин Президент, и есть дети. А у меня нет жены и нет детей; я полюбил женщину с ребенком и хочу жениться на ней — поверьте, что с моей стороны это будет хороший поступок. Но женщина, которая говорит, что согласна выйти за меня замуж, надумала из Вашей страны уехать, и Вы — или от Вашего имени — велели забрать у нее сына. Я уверен, что мальчику сейчас очень плохо, потому что не может быть хорошо ребенку, у которого сразу отбирают и маму и родину.
Матери мальчика не разрешают с ним видеться: он живет у тетки (я к этому письму прилагаю все адреса) и вместо того, чтобы учиться в школе, помогает тетке стеречь кладбище. Два дня назад я хотел увидеть мальчика и приблизился к кладбищу, но навстречу мне вышел человек и сказал, что кладбище частное, а если я еще раз приду сюда, он меня застрелит. Потому что кладбище — частная собственность славянских эмигрантских организаций, и мне, еврею, нечего туда ходить и тревожить мертвых православных и живого православного ребенка. Фамилия человека, который пообещал меня застрелить, Кравченко. Вы можете легко проверить то, что я пишу, а если в меня попадут из ружья, так нетрудно догадаться, кто это сделает.
Я еврей, а моя будущая жена украинка. Вы, господин Президент, не раз говорили о том, как любите украинцев и евреев. Почему же Вы любите не всех нас? Поймите меня, господин Президент: если бы у Вас, не дай Бог, что-нибудь такое случилось с сыном, я бы все сделал, чтобы помочь Вам. Видите, я даже слово „Бог“ пишу с большой буквы, хоть не знаю точно, в которого Вы верите.
Когда меня ненавидят другие люди, мне, господин Президент, не страшно, но если я сам себя возненавижу, мне, господин Президент, будет трудно жить. Я возненавижу себя, если не смогу помочь этой женщине и ребенку, если снова победит такая жестокость и такое бессмысленное озверение.
Я знаю, господин Президент, что Вы не любите Советский Союз. Но если Вы заберете у этой страны одного мальчика, думаете, им там станет очень уж плохо? Вы отнимаете жизнь у одной бедной женщины и портите мою жизнь — вот и все. Про мальчика я уже не повторяю. Если Вы не хотите помочь, я тоже от Вас уеду, потому что мне уже никогда не будет здесь хорошо.
С уважением к Вам и надеждой на помощь молочник Семен Кац».
Письмо (11)
Милая моя, я уже писал тебе, что Нью-Йорк — конгломерат образований, разнообразных во всех отношениях; географическое понятие, город с населением средней европейской страны. Бюджет Нью-Йорка в сто пятьдесят раз больше, чем бюджет южноамериканского государства Гаити, а при этом еще считается, что миллион долларов из бюджета разворовывается чиновниками, которых в этом городе больше всего на свете, если отсчитывать в процентах к остальному населению либо просто так.
Живу я в самом шумном районе города, передвигаюсь в примелькавшихся улицах, но нас много таких — половина населения Нью-Йорка и шестьдесят процентов его рабочих мест расположены на трех процентах территории города. Туристы в центре Нью-Йорка сбиваются, как правило, в тугие комки группок, боясь потеряться в здешней дневной толкучке. Я нарочно в своих рассказах снова отодвигаюсь, переворачиваю бинокль и гляжу в него с удаляющегося конца — ты, наверное, устала уже от виденного крупным планом.
Глядя на здешнюю толпу, легко вспомнить, что мы проходили в школе о броуновском движении молекул; здесь все похоже — каждый целен и каждый сам по себе. Не повторяю сейчас, хорошо это или плохо: таково правило, и его надо принять. На самых затолпленных тротуарах Нью-Йорка меня почти никогда не толкали: люди проскальзывали мимо, оставляя достаточно места, чтобы и я прошел. Каждый — сам.
Мне почти не приходилось видеть здесь людей, обнимающихся на улице, подолгу разговаривающих друг с другом в центре тротуара. С одной стороны, это потому, что здесь множество баров, кафе и забегаловок разных рангов, где можно переговорить за чашкой либо рюмкой чего-нибудь покрепче или полегче; с другой стороны — всем просто некогда. На улице с незнакомыми разговаривают неохотно и коротко, тем более на пустынной улице: здесь шутят, что человек, одиноко идущий по темноватой улице, или самоубийца, или убийца.
Но по улицам ходить необходимо. Кроме прочего, улицы в этом городе — бесконечный спектакль, многосерийное кино, эскалатор, замкнутый кольцом. Да и вредно целый день прыгать между мягким автомобильным сиденьем и мягким креслом в ООН — надо двигаться.
Все двигаются по-разному. На улицах очень много бегунов-одиночек; бегут они в теплых куртках, или в майках, или в дождевиках — зависит от погоды. Не зависят от погоды только трусы фирмы «Спиди», кроссовки «Нике» или «Олимпус». Впрочем, трусы и кроссовки случаются разные, но сам вид бегуна типичен. Иногда, если уж совсем холодно, бегуны надевают вязаные шапочки, из-под которых часто выглядывают красные наушники от магнитофона, прикрепленного к поясу или внутреннему карману. Это модная игрушка, поставщик музыки для тебя лично. Впрочем, бегать не всегда безопасно; 2 ноября газета «Нью-Йорк таймс» сообщила, что в Центральном парке найден убитый человек в костюме для бега трусцой. Газета пишет, что этот убитый — уже десятый бегун с начала года; «юбилейный» труп был найден в 7.30 утра с колотой раной в горле.
Что же, как и во всем остальном, одним здесь везет больше, другим меньше, но нельзя же, чтобы везло всем сразу, так не бывает…
Мы уже говорили об этом, но, наверное, стоит повторить, что в Нью-Йорке живут сплошь национальные меньшинства; все считаются меньшинствами — арабы, итальянцы, украинцы, ирландцы, евреи, китайцы, — у каждого свое гетто, своя музыка, своя продуктовая лавка, своя газета. Границы проходят по банковским счетам, цвету кожи, образованию, даже по фирменным нашивкам на пиджачных подкладках. Когда ты определишь собственное место в здешних рядах, можешь считать, что тебе в этом городе стало понятней. Но уютнее ли?
Так или иначе, в Нью-Йорке надо заботиться о здоровье — каждому на своем уровне: подсчитывать калории, пить кофе «Санка» без кофеина и непременно делать зарядку.
В белых маечках с красным сердцем на них и словами о любви к Нью-Йорку бегут по улицам люди, никого не видя вокруг, слушая свою личную музыку и заботясь о себе. Кто не может бежать, ходит, зачастую с собачкой на поводке. Считается, что домашние животные способствуют пребыванию на свежем воздухе и спасают от одиночества. Домашних животных здесь огромное количество: щенков и котят продают прямо в универмагах, где они потешно кувыркаются на мелко нарезанной газетной бумаге за стеклом специальных витрин. В магазинах большие отделы кошачьих и собачьих консервов, люди победнее не стесняясь покупают их и для себя. В городе несколько многоэтажных больниц для домашних животных (одна рядом с ООН), а по дороге через Куинс я видел огромное собачье кладбище.
Так или иначе, но по улицам во множестве прогуливаются люди с породистыми маленькими песиками на цепочках. Песики грустят по деревьям и по заборчикам; за отсутствием оных они совершают свои прогулочные дела прямо на асфальте, среди шагающих человеческих ног. Хозяйка непременно собирает все оставленное собачкой в специальный мешочек; не так давно нью-йоркский муниципалитет принял решение о стодолларовом штрафе для тех, следы жизнедеятельности чьих собачек останутся на асфальте. Впрочем, здесь никто не восхищается: «Ах, какой пуделек!» Собаки и люди стараются друг друга не трогать, по крайней мере если они незнакомы.
Еще в любой нью-йоркской толпе ходят, не смешиваясь с ней, но и не растворяясь, люди в коричневых мундирах, единственным смыслом чьих прогулок является отлавливание неверно запаркованных автомобилей. Видят такой автомобиль они безошибочно — и тут же молча втыкают под щетку очистителя ветровых стекол рыжее уведомление о штрафе. Записывают номер — попробуй не заплати!
Множество людей — и все мимо. Не могу сказать, что мне очень уж по душе навязчивая общительность южан, как в Италии, где в каждом кафе кажется, что люди встретились когда-то на улице, спросили друг у друга о дороге ш зашли выпить по рюмочке за знакомство да так с тех пор и сидят. Но нью-йоркская разделенность домов, улиц, людей непривычна.
Все это выглядит по-другому в дни праздников, а праздники здесь организуются вокруг парадов или вокруг торговли. О парадах я уже тебе писал; о торговых забавах скажу хоть коротко. Прежде всего здесь надо усвоить, что все подлежащее продаже должно быть разрекламировано. Причем рекламировать надо с картинками. Если в газете написано, что продаются радиоприемники, то в газете должно быть рядом фото каждой модели в отдельности. Если продаются куры, то фотография куриной тушки. Если огурцы и помидоры, то должны быть изображены и они. Люди придут покупать яблоки только в том случае, если вначале увидят их в «Нью-Йорк таймс», это традиция, которую может нарушить лишь потенциальный банкрот. Даже там, где рекламируются коктейли в ресторане, нарисованы бокалы и стаканы — самые разные.
По субботам множество людей объединяется в гонке по объявленным и разрисованным распродажам, надеясь купить что-то неимоверно практичное и дешевое. Распродаются лампочки и диваны, наборы отмычек (да-да, в магазине «Джоб лот» на Пятой авеню), норковые манто, борзые щенки и старые кареты; распродается все, что могут и что не могут купить. Один коллекционер хвастался, что приобрел на такой распродаже кусок колючей проволоки из ограждения Зимнего дворца в день Октября. Можешь себе представить!
Людей на такие торги сбегается без счета; все предельно серьезны и независимы, объединены стремлением цапнуть за хвост птицу удачи. Все вместе, но не помню, чтобы со мной в таких случаях кто-то заговорил, и не помню, чтобы незнакомые люди принимались обсуждать качество возможной покупки.
На улицах стоят столы со множеством яств — здесь нередки ярмарки с приглашением гостей отовсюду, заранее объявленные праздники улиц. Индийская, китайская, украинская, арабская, итальянская кухни дымят прямо у мостовой — можно подойти и купить порцию вареников, бараний шашлык, пиццу или спагетти; но купил — и ешь, никого не задевая, общение, как у наших пивных ларьков, здесь не в обычае. Кстати, и в ресторанах и в кафе к вам за столик никогда никого не подсадят. Если уж сели, то сидите на здоровье — столик ваш, а нужна будет вам компания — позовете сами. Только в очень редких случаях я видел исключения — в придорожных мотелях: там все садятся подряд и едят быстро, не выключая мотор у автомобиля, припаркованного у входа. В Нью-Йорке едят обособленно, это американская провинция горазда на контакты, провозглашение тостов, на уличные праздники, где владельцы соседних домиков знакомятся между собой…
Впрочем, и ньюйоркцы умеют объединяться — не раз я читал и слышал рассказы о том, как в дни снежных заносов весь город с лопатами расчищал шоссе; как за несколько часов добровольцы посадили в Центральном парке пятнадцать тысяч тюльпанов. Этот город умеет собирать усилия своих граждан в кулак, но кулак этот не всегда бьет по злу…
В нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди самое большое цельное окно Америки — около ста метров длиной и около восьми высотой. В него редко смотрят, мимо него бегут. Для Нью-Йорка куда более характерен рекорд их небоскреба Эмпайр Стейт билдинг, некогда самого высокого здания мира, вознесшегося на 34-й улице. В этом доме около шести с половиной тысяч окон. Каждый глядит в свое собственное окно, и каждый видит то, что хотел видеть именно он. Такие дела…
Пресса (12)
Из журнала «ЮС Ньюс энд уорлд рипорт»,
17 мая 1982 г.
«Самой заметной приметой американской культуры и личной жизни сегодня является страх потерять собственную цельность. Это рождает философию выживания.
На человека обрушивается так много различных грузов — ухудшение экономических условий, гонка вооружений, люди в отчаянии пробуют выжить в общей катастрофе, ни о чем другом нет и речи. Люди согласились с тем. что и дела не пойдут лучше и что нет серьезной надежды на перемены к лучшему.
Очень трудно людям объединять усилия и в семейной жизни, и на работе, когда они сосредоточены на задаче выживания в мире, представляющемся им чрезвычайно опасным и угрожающим… Они чувствуют, что должны быть готовы вскочить в шлюпки прежде кого-либо, удерживая народ подальше от своих бомбоубежищ… Оглянитесь, что вы видите? Абсолютную потерю — друзей, семьи, места…»
Из газеты «Нью-Йорк таймс»,
4 декабря 1982 г.
«В трехчасовом разгуле грабежей, насилия и покушений на убийства трое вооруженных мужчин выбили двери восьми домов в Куинсе и Бруклине, заполнив страхом три улицы и удрав в двух краденых автомобилях вчера утром…»
«Это ужасно, — сказала Алиса Макгиллион, заместитель начальника полиции по связи со средствами информации. — Это призрак, устрашающий всех, — люди, выбивающие вам дверь пистолетами и входящие к вам в дом среди ночи, чтобы грабить и терроризировать вас…»
Глава 7
Все дело в том, что история, которуя я хочу рассказать в этой главе, заканчивается телефонным звонком или тем, что можно условно считать за вызов к телефонному разговору. Но даже если бы этого не было, телефон занимает настолько важное место в американской жизни вообще и жизни ньюйоркцев в частности, что он стоит особого упоминания и самого уважительного рассказа о себе.
С чего начать? Пожалуй, с ситуации самой житейской и, увы, несущей на себе отпечаток нынешних американских времен.
Мои давние приятели из штата Миннесота прислали мне в Нью-Йорк письмо без обратного адреса: «Обязательно позвони нам. Только звони из телефона-автомата, чтобы не подслушивали и чтобы жилось спокойнее, а то ведь через месяц-два кто-то непременно захочет допросить нас о том, почему звонил человек из Советского Союза. Знаешь, как это у нас теперь…» Мне вначале категорически расхотелось разговаривать с ними, а потом я все-таки оценил откровенность и позвонил. Это интересно — тем более что приближает нас к разговору о нью-йоркских телефонах.
Телефонов здесь очень много. Один мой знакомый врач установил себе три, с разными номерами: служебный, для частных разговоров и для дочек — чтобы не занимали первые два. Сейчас продаются телефонные аппараты всех видов, стилей и форм; входят в моду, хоть пока они дороги, аппараты, где трубка не имеет шнура: держа ее в руке и беседуя, можно разгуливать по всей квартире. А таксофоны стоят на каждом углу; именно на углах, на перекрестках, поэтому знаешь, где их искать. Таксофоны развешаны по всем вестибюлям и встречаются в местах неожиданных — вдоль шоссе, на уровне автомобильной дверцы, чтобы можно было разговаривать, не выходя из машины; в туалетах, на метр от пола, чтобы инвалид мог позвонить из коляски. Можно звонить из самолета и поезда, из ресторана и с работы (впрочем, в учреждениях висят плакаты: «Для личных бесед установлен телефон в вестибюле»); короче говоря, телефонный бизнес в Америке очень мощен и деловит даже на первый взгляд; и по технической оснащенности американские телефонные корпорации тоже пребывают на уровне времени. Правда, разговаривая по телефону, всегда следует помнить, что это дорого. Я уже упоминал, что в таксофоне три щелочки для монет разного достоинства; если звонишь в другой город, телефонистка время от времени подскажет, сколько еще монет надо бросить в какую щелочку. Набрав номер своих миннесотских знакомых, я прежде всего услышал голос телефонистки: «А теперь бросьте два доллара сорок центов». Запихивая мелочь в таксофонные щели, я, видимо, ошибся, потому что после паузы телефонистка сказала сердитым голосом: «Не экономьте. Еще четверть доллара». И только после этого соединила. Уплаченные мною деньги были стоимостью лишь первой минуты; в дальнейшем я убедился, что звонить по американскому таксофону может лишь тот человек, у которого в каждом кармане по детской копилке, потому что с безразличием хорошо обученного попугая телефонистка сообщала и сообщала мне, сколько надо опускать в ненасытный телефон снова и снова, а когда я на секунду замешкался, разъединила, и мне пришлось начинать сначала — с первой минуты за два сорок…
На телефоне у меня в комнате написано, что за каждый звонок к моему счету будет добавлено сорок центов — еще не так давно это была цена пачки сигарет «Кент» или «Мальборо». Одной из причин того, почему телефон вам установят в любой день, является истина, что платить за него придется вам очень много.
Но устанавливать телефон приятно. Из любого автомата позвоните в бюро ближайшей компании, скажем, знаменитой «Белл», продиктуйте им свои фамилию с адресом, скажите, какой цвет и тип аппарата вам по душе и сколько их вам надобно на квартиру. Вас могут, правда, не предупредить, что за каждый аппарат придется платить отдельную цену, даже если все аппараты на одном номере. Дальше вы попадаете в полон к электронным машинам, которые не раз уже выписывали счета не тем людям и не за то, но тут уж держите ухо востро, не стесняйтесь (кстати, у американцев считается хорошим тоном внимательно, строка по строке, проверять счета — в ресторане ли, за телефон ли). Но раз телефон у вас есть, а платить все равно надо, у вас появляется возможность оценить немало забавных выдумок — от «коллект колл», то есть междугородного разговора, счет за который присылают не вызывающему, а его собеседнику, до специальных кредитных карточек, включающих телефон-автомат или гарантирующих немедленный контакт через телефонистку.
Так или иначе, но в Нью-Йорке телефонов больше, чем во всей Южной Америке, и они очень облегчают жизнь. По телефону можно получить любой совет, выслушать свежие анекдоты (в Нью-Йорке официально есть специальный номер, по которому отзывается человек, рассказывающий свежие анекдоты всем желающим). Можно позвонить и прослушать пятиминутный монолог известного комика, справиться о том, что на сегодня обещает вам гороскоп и каков на сегодня курс акций; короче говоря, у меня в телефонной книге список самых разнообразных служб — от пожарной до дающей советы самоубийцам — занимает добрых три десятка страниц. Это не считая маленьких рекламных марочек с номерами таких служб на страницах, где в алфавитном порядке перечислены все прочие городские телефоны. Словом, у меня в специальной тумбочке положены четыре телефонные книги, охватывающие один лишь нью-йоркский район, Манхэттен, и содержащие самую общую информацию о всеамериканской телефонной службе. Книги эти формата нашего журнала «Огонек», может быть, даже больше, всего в четырех книгах 6343 страницы разного цвета, не считая вставок и приложений; все это забито текстом, набранным мельчайшими шрифтами на свете.
Кроме бесчисленных служб, угождающих сторонникам всех на свете религий, кроме бюро прогнозов погоды, справочника цен на продукты и еще множества разного-всякого, в Нью-Йорке есть телефоны, по которым можно заказать себе на дом все что угодно — от молока, водки, соленых огурцов и куриных грудок до только что изданных книг и билетов в кино. Над входом в многие магазины крупно начертан телефонный номер: некогда зайти — позвоните.
Нью-Йорк переполнен толпой, но жители его в толпе толкаться не любят; телефон не только разъединяет их. но и соединяет, позволяя каждому решать дела свои в одиночку и по секрету от остальных. Впрочем, некоторые дела можно рассекречивать по телефону же; в Белом доме есть специальный номер, по которому разрешается узнавать, какой на сегодня у президента распорядок дня. Более двадцати лет назад, когда расисты еще не убили, а только арестовали Мартина Лютера Кинга, жена его, Коретта, звонила однажды по этому телефону так настойчиво, что ее соединили если не с самим президентом, то с его братом — министром юстиции Робертом Кеннеди. Вскоре все трое встретились, не ведая о том, что каждому из них осталось недолго жить; вовсю работали другие телефонные линии и составлялись другие сообщества… В некоторых штатах США и оружие можно приобрести, заказав его по телефону.
Мне кажется нужным прикоснуться в этом разговоре к теме бесконечно важной — о том, что культура и цивилизация суть не одно и то же, а само изобретение то ли ракеты, то ли телефонного аппарата еще не говорит о том, что изобретение будут использовать исключительно на радость добрым людям. В Америке вообще немного всеобщих радостей, включая и телефонные. Не раз я выдерживал бормотания самого хамского свойства («Эй ты, советская свинья, вы еще все у нас попрыгаете…»), пока не позвонил администратору и не попросил того переключить мой аппарат на себя, записывая все номера звонивших, тогда перестали. Несколько раз часа в два ночи с великой душевной широтой звонили знакомые соотечественники, работавшие в Нью-Йорке, и разговоры начинались одинаково: «Здорово, старик! Что ты сейчас делаешь?..» (Между прочим, мне и дома иногда так звонят, и я теряюсь в догадках, что мне надобно делать в два часа после полуночи.) Иногда звонили мои новые нью-йоркские знакомые — тот же Семен Кац, или Кравченко (однажды), или Кэт. или знакомые американские профессора и писатели, с которыми приходилось видеться по разным поводам. Надо сказать, что американцы после интересной встречи, а особенно побывав в гостях, всегда на следующий день присылают письмо или звонят; это очень приятно.
Домой я не звонил. Цены были резко повышены, администрация Рейгана в своем усердии по разрушению путей контакта занялась уже перегрызанием телефонных кабелей — число телефонных разговоров с Советским Союзом вначале сократили до 450, а затем и до двухсот в месяц; иногда на долгие дни не давали связи даже сотрудникам наших ежедневных газет и корреспондентам ТАСС. Так что американский телефон тоже настраивали против меня, и хоть я понимал, что телефон не виновен, ситуация осложнилась, и мы не выражали друг другу особой симпатии. Телефон и внешне не очень похож на наши и сумрачно деловит, как положено быть американскому аппарату.
Американские телефоны созданы и приспособлены прежде всего для дела. Кстати, междугородные переговоры по личным поводам за счет учреждения здесь маловероятны, потому что регистрируются не только вызываемые номера, но и начало бесед, так что всегда легко проверить, кто же это плескался на волнах эфира за чужой счет. В Америке все упорядочено и во всем система — это в любом деле следует твердо помнить.
В миссии УССР при ООН все телефоны, кроме одного, — нашего, отечественного производства: по крайней мере никто не всадит туда подслушивающий жучок при установке; американский телефон все время барахлит, отключается на час-другой и не подчиняется штатским нью-йоркским ремонтерам.
Как-то Кравченко, о котором я после давнего знакомства на кладбище у Володиной тетки почти забыл, позвонил мне именно по этому телефону и сказал в открытую, что он знает, сколько ушей встроено в такой аппарат, но очень уж хочет он показать мне что-то интересное. И назначил свидание.
Я немного поразмышлял над тем, что бы это могло быть и стоит ли идти, а затем решил, что если назначить свидание в людном месте, то ничего страшного не случится, да и самому Кравченко незачем было б звонить в советское представительство и оставлять там свою фамилию, если он задумал что-нибудь неотложно гнусное. Мы договорились встретиться в баре на Второй авеню, и я пошел туда.
Оказалось, что все было очень просто. Кравченко собирал архивы. Он скупал их уже много лет, а сейчас предлагал кое-что перепродать нашей стране. Он считал, что на этом можно немедленно заработать. Так что было забавно. Я поблагодарил американскую технику, что она работала в тот день, и поучительная для меня встреча с Кравченко состоялась.
Мы уселись в традиционно темноватом помещении бара, да еще и в углу, чтобы никто не мешал. Узкое окно разрешало видеть улицу, но вся обстановка в питейном заведении была такова, что на улицу не хотелось.
Вначале Кравченко показал мне целую папку газетных вырезок. В аккуратных рамочках сообщалось о смертях поручиков и штабс-капитанов несуществующих лейб-гвардий, а также о том, что упокоился атаман давно разгромленной банды или просто уроженец такого-то города, владевший в нем… Покойники не имеют воинских званий и не владеют ничем. Кроме архивов, которые у них откупал Кравченко.
Мы передвинулись поближе к стойке, разговаривая и тасуя вырезки на столах, благо в баре было совершенно безлюдно. Бармен принес нам коктейли «Черный русский», готовящиеся из смеси мексиканского ликера «калуа» с водкой. Кравченко отхлебнул из стакана, быстро взглянул на меня и еще раз открыл и закрыл свой альбом. — Времени у меня мало, — сказал он. — Думаю, что вас не интересуют воспоминания маразматических штабс-капитанов. У меня их навалом. Я приезжаю в дом, когда наследники начинают в нем прибираться после похорон, и предлагаю им пару десяток за все покойницкие бумаги, сколько ни есть их, без разбора. Как правило, в этот момент бумаги как раз и ссыпаны в углу, а наследники обсуждают (чаще всего на английском языке), вышвырнуть их сразу или все-таки пересмотреть… Так что я скупил уже очень много. И не только записочек от бывших фрейлин бывшим флигель-адъютантам. Думаю, вас заинтересует…
Кравченко сделал обдуманную паузу и многозначительно поглядел на меня. А я сидел, похлебывал горьковато-сладкий «Черный русский» и думал о том, что сейчас мне будет предложено купить какие-нибудь секретные документы, и лицо у меня, наверное, глупое, потому что не переводятся люди, которые, как говорят в Одессе, «держат меня за дурака». Как я люблю говорить дома, у меня «просто выражение лица такое», и надо сказать, что в разговорах, подобных этому, оно меня не раз выручало. Поэтому как ни в чем не бывало я выслушал предложение о продаже части архива власовской армии, задумчиво отхлебнул из стакана и спросил у Кравченко про Володю. Он воспринял это как признак того, что имеет дело с человеком, неторопливо обдумывающим его предложение, улыбнулся и пожал плечами:
— Мне Марта выдала ружье. И патроны. Велит стрелять, если появитесь вы, Мария или тот еврей. Кладбище частное, имею право…
— А Володя? — еще раз спросил я.
— Его почти не видно. Иногда приходят окрестные ребята, но он ведь языка не знает, что толку? Иногда он выходит и бродит среди памятников. Я с ним не заговариваю: Марта запретила.
— Почему вы так боитесь ее?
— А как же? Она ведь босс, и знаете, какие у нее связи?!
— Какие?
— Как-то я познакомился с несколькими ее друзьями, а затем один из них умер, я там тоже побывал и купил три личных письма Бандеры. И коллекцию марок, принадлежавшую одному из его помощников. Честное слово. Могу показать. Кроме того, у меня есть стенограмма совсем недавнего секретного совещания, о котором вы еще не знаете, а там говорили о таких делах!.. Надо? Я могу доказать на документах…
— Не надо…
— Чего не надо? — не понял Кравченко.
— Не надо доказывать. Я сейчас…
Медленно встав, держа в поле зрения его лицо, я пошел к стойке. Заплатил за коктейли и взял еще две стопки чистой водки. Когда бармен давал мне сдачу, я оставил ему три долларовые бумажки и написал на салфетке латинскими литерами фамилию Кравченко. «Вызовите его к телефону», — сказал я и подмигнул. Бармен слегка кивнул мне и отошел от стойки, перетирая стаканы длинным белым полотенцем, брошенным на плечо. Я со стопками вернулся к нашему столику; Кравченко курил вторую сигарету подряд — волновался.
— Хотите посмотреть? Совещание важное, но в прессе о нем не было… — быстро спросил он.
В это время бармен от своей стойки врастяжку произнес: «Мистер Кравченко, фоун колл фор ю» — «Господин Кравченко, вам звонят».
— Это случайность, — быстро сказал мой собеседник и встал. — Никто не знал, что я здесь. Это случайность…
И пошел по ступенькам вниз, туда, где стрелка указывала путь к туалетам и телефонам.
Все-таки хорошо знать, что в американские бары можно позвонить из города. И знал я о том, что там, как правило, не одна кабинка и, сняв трубку, надо подождать, пока тебя соединят с собеседником.
Так что время у меня было, и я пошел к выходу, не глядя в сторону бара на ступеньки, ведущие к переговорным будкам. У входа в бар было пусто, лишь у самой бровки тротуара прижался серенький «крайслер» номер AAW 8841 с выдвинутой на полную длину антенной и работающим мотором (как мне объяснили сведущие люди, верная примета того, что из этой машины можно подслушивать и прослушивать что угодно).
Письмо (12)
Милая моя, если хочешь повеселиться, я расскажу тебе несколько анекдотов. Анекдоты я вычитал из книжек, которые так и называются: «Официальная книга мексиканских шуток», «Официальная книга русских шуток», «Официальная книга украинских шуток» и так далее. Хочешь анекдот об украинцах? Пожалуйста:
«— Том, ты слышал, в Киеве закрылась национальная публичная библиотека?
— Почему?
— Единственную книгу сторожа израсходовали на самокрутки!»
Правда смешно?
Поверь, это не самое оскорбительное, чему находится место среди «украинских» шуток в книге, отпечатанной вполне легально, на хорошей бумаге, в издательстве вполне просвещенного города Нью-Йорка. Это и вправду гнусно, потому что среди этих так называемых шуток разряжается чужое желание оскорбить, унизить, а если брать шире и официальнее — то чужая культура межнационального общения, чужое отношение к людям, разговаривающим и живущим по-другому. Причем отношение это не только к нам с вами; пожалуй, самые оскорбительные в Америке анекдоты давно и упорно сочиняются о поляках: «шуточки» эти издавались и сейчас издаются толстенными томами.
Нас пытаются представить некими человекообразными созданиями, иметь дело с которыми можно разве что из чистой снисходительности или из любопытства. В газетах рассказывают о диковатой стране, где живут нелепо и неустроенно, играют свадьбы со скачками на взмыленных тройках в ночной степи и запойным пьянством, разваливают молотками заводские цеха и на корню гноят урожаи.
Газеты охотно и подробно, иллюстрируя это собственными рисунками, перепечатывают наши отчеты о любых безобразиях, разоблаченных нашими же контролерами, но с таким смаком делают это! Здесь невозможно узнать о нашей нормальной жизни: в последних известиях по телевидению и по радио могут неделями не передавать совсем ничего. Но время от времени выступают почасово нанятые «свидетели советской жизни» и в очередной раз рассказывают все, что им взбредет в голову.
Примерно дважды в неделю мне показывают фильмы, так сказать, с «информацией» о советской жизни, где в лицах и в декорациях разыгрывают о нас такое, что нормальный человек должен проникнуться жгучей ненавистью ко мне, к тебе и ко всей жизни, нас с тобой воспитавшей. Только что огромное здешнее издательство «Макмиллан» устроило бурную премьеру романа, сочиненного британским генералом Хаккетом. Роман зовется «Третья мировая война» и весь наполнен информацией о том, что эту самую войну вот-вот начнем мы, советские. Продолжает ходить в бестселлерах роман Форсайта «Дьявольская альтернатива» о том, как в 1982 году война готова начаться из Советского Союза, а точнее — с Украины, из Киева. Только что я купил новейший бестселлер, торчит на всех витринах, — сочинение какого-то Пауля Эрдмана «Последние дни Америки». На обложке краткая аннотация: «1985 год. Русские захватывают Европу…» и так далее. Если положить такие книги под пресс, даже не знаю, какие реки ненависти можно выдавить оттуда, сколько людей захлебываются в этих реках.
Ненависть проявляется многообразно. Вдруг здесь усердно заговорили о любви к нам, в частности о любви к Украине. Вице-президент Джордж Буш спел недавно перед толпой украинских националистов первую строфу их любимой песни «Ще не вмерла Украiна», а президент Рональд Рейган, так тот прямо потребовал отметить годовщины возникновения на Украине всех антисоветских банд, включая бандеровские, которые по уши в крови и грязи, это у нас известно каждому. Президент обласкал даже гнусненького старичка по фамилии Стецько, который под фашистским крылышком провозглашал когда-то во Львове некую «украинскую державу», в самом акте о провозглашении которой (цитирую по американскому историческому журналу) было сказано: «Нововозникающая Украинская Держава будет тесно сотрудничать с национал-социалистской великой Германией, которая под водительством своего фюрера Адольфа Гитлера творит новый порядок в Европе и во всем мире…» Президент и его люди вдруг заговорили о любви к Украине так, будто им стало окончательно ясно, что «украинская карта», не разыгранная в свое время Гитлером, снова роздана для игры.
Не хочу тебе писать обо всем, что скорее является темой для статьи, чем для письма к тебе, но попросту напоминаю тебе и себе, насколько это важно здесь определиться в суете зеркальных изображений, в которых даже имя моей Родины дробится и мельтешит. Такое впечатление, что раз Украина со столицей в Киеве их не устраивает, они для собственной радости решили сочинить некую Украину со столицей в Нью-Йорке или в крайнем случае Виннипеге. Очень откровенно сказала об этом забавная местная газетка, выходящая на украинском языке. Газетка, естественно, называется не иначе как «Свобода» и порой выбалтывает то, что у политиков посерьезнее остается в директивах, не предназначенных для печати. Недавно в передовой статье «Свобода» констатировала: «С приходом к власти президента Рейгана можно наблюдать поиски такой политической концепции, которая в будущем могла бы привести к ослаблению, а то и распаду СССР». А недавно в Вашингтоне выступил некий генерал Синглауб — его речь здесь активно печатали, — так тот брякнул напрямую: «Многие американцы думают, что настал период мира. На самом же деле мы пребываем в войне. Это тотальная война, которая может лишь закончиться уничтожением одного из вражеских лагерей». Все это здесь печатают и, что достаточно важно, хорошо ведают, что творят. Раз уж сам президент объявляет «крестовый поход» против нас, то его подчиненные строятся в нумерованные шеренги. 18 октября я купил «Нью-Йорк таймс» и прочел там вполне официальное сообщение о проведении на высшем государственном уровне конференции «По перспективам демократической эволюции стран с коммунистическими правительствами». Конференция шла при закрытых дверях, с докладом выступил государственный секретарь Шульц, сказавший о том, что его страна будет самым откровенным образом помогать тем, кто хочет изменить соотношение сил внутри социалистических стран в направлении, угодном Соединенным Штатам. Ты знаешь, они даже не стеснялись, проводя совещание о том, как надлежит действовать, чтобы свергнуть существующие правительства в странах, с которыми США поддерживает нормальные дипломатические отношения. Ведь в дипломатии свои правила и свои законы порядочности. Здесь они нарушены напрочь. Тот же помер «Нью-Йорк таймс», о котором я пишу тебе, меланхолически замечает: «Кажется, впервые Госдепартамент официально организовал встречу для обсуждения путей к тому, чтобы изменить структуру коммунистических стран…»
Вот так здесь нынче. Я сгоряча написал тебе, что им надо две Украины; им ни одной не надо. Ненависть и пренебрежение к нам выращиваются с такой страстью, будто мы и вправду воюем. Натиск на психику такой, что, не будь в Америке достаточного числа людей порядочных, не верящих в это. и людей безразличных, не верящих ни во что, страна сошла бы с ума.
Иногда мне кажется, что официальная Америка относится к нам, как к кошмару, навязчивому видению, от которого избавиться бы, забыть, изъять из памяти и души; такое впечатление, что после семнадцатого года они никак не могут прийти в себя. Нас не издают, о нас не печатают не то что доброжелательной, но даже нейтральной информации. Они хотят, чтобы — без нас. Это мы не можем без Америки; наша жизнь так устроена, что нам необходимо человеческое знание об Америке, о Европе, об Африке и Азии, нам надо знать о том, как живет и как мыслит все человечество; и вправду, мы принадлежим к самому информированному народу на свете.
Выступая здесь по радио, я сказал, что на Украине вышло собрание сочинений Эрнеста Хемингуэя более полное, чем изданные в США. Суммарные тиражи таких писателей, как Джек Лондон и Теодор Драйзер, превзошли у нас американские. Ведущий передачу известный комментатор Самора Маркмен добродушно развел руками: «Вы нас критикуете?» — «Нет, просто рассказываю, как мы живем, — сказал я. — Даже то, что сценарии сказочных фильмов Уолта Диснея в моем переводе выходили у нас тиражом около двух миллионов, тоже знак нашего отношения к уму и культуре Америки. Подобных примеров немало. Просто мы так живем…» Еще вспомнил я, как шел минувшим летом по Киеву с американскими писателями Ирвингом Стоуном и Стадсом Теркелом, и они поразились, увидев на кинотеатре «Украина» рекламу хорошего голливудского фильма «Крамер против Крамера».
…Американцы никак не могут поверить, что дожили до того, что где-то, кому-то достижения их собственной культуры могут быть интереснее, чем им самим.
Я так не могу. Я очень хочу домой. От ненависти устаешь, как устаешь от постоянного магнитного поля, как заболевают люди в чикагских сверхнебоскребах, где огромные массы бетона и стали вокруг них создают совершенно особые условия гравитации. Я устал от ощущения чужой нелюбви; у нас я никогда не видел такой стены ненависти, которой пытаются отделить один народ от другого — и надеюсь, что никогда не увижу. Даже когда мы воевали с Германией в Великую Отечественную, мы не озлобляли себя ненавистью до такой степени, как сегодняшних американцев уродует сегодняшняя их пропаганда. Знаешь, в душе все-таки должен быть какой-то барьер против ненависти очень высокого напряжения; с такой ненавистью долго жить нельзя, потому что она испепелит тебя самого. Когда мы победили в прошлой войне, то поставили на пьедестал в Берлине солдата со спасенным ребенком — символ победившей человечности, а не убийства врагов, вернее — не только символ уничтожения неприятеля.
Они не желают спасать ни наших детей, ни нас, даже если бы мы нуждались в спасении. Все время обсуждается проблема, продавать или не продавать нам хлеб, причем постоянно ведутся подсчеты: хватит нам собственного урожая для защиты от голода или не хватит. Думаю, что, если бы у нас, не дай бог, случился совсем уже немыслимый недород, Соединенные Штаты хлеба нам бы не продали.
Такие дела.
Я давно не писал тебе о той истории с мальчиком. Помнишь, мать его решила возвратиться домой, а сына ее, далеко еще не совершеннолетнего паренька, решили задержать в Америке под вполне взрослым и государственным предлогом предоставления ему политического убежища? Недавно они учинили слушание парнишки в одной из комиссий конгресса; этот самый Володя, которого делают Уолтером, нес натужно ерунду о том, что его после уроков заставляли мыть в классе доску, на которой он перед этим писал мелом, и он в этом видит насилие над личностью; взрослые дяди и тети — конгрессмены сочувственно щелкали языками. Все это выглядит как издевательство, но в то же время как попытка подчеркнуть, что Америка всегда права. Мальчика вывозят не то чтобы из Украины, которая есть и входит не только в Советский Союз, но и в Объединенные Нации; мальчику доказывают, что «американская Украина» тоже не хрен собачий и она его в обиду не даст. А что делать его бедной маме Марии? Она уже уложила чемоданы и была официально предупреждена о необходимости выезда из Соединенных Штатов. Если бы не такое несчастье, я бы сказал ей несколько слов покрепче, потому что это она расплачивается сыном за нелепую свою жизнь и многим людям вокруг нее стало хуже от ее бестолковости.
В представительстве меня предупредили, чтобы я в это дело не вмешивался. По нынешним временам американцы могут устроить что угодно — вплоть до газетных сообщений о советском заговоре с целью похищения юного борца против большевиков. Пусть занимается всем этим наше консульство: Мария написала нужные бумаги, доверенности и поручения. Я еще чуть потыкался носом в двери редакций газет; мне показалось, что письмо Володиных одноклассников мистеру президенту может заинтересовать здешних правдолюбов-профессионалов. Глухо; никто даже не дочитал письма до конца. Когда тебе кто-нибудь скажет, что пресса здесь творит все, что вздумается, как трава в поле растет, — засмейся в лицо такому человеку также от имени тридцати трех однокашников бывшего советского школьника, которого некогда звали Володей. И от имени его мамы Марии. И от моего имени.
Удивительно, до чего упрямой и многообразной может быть ненависть. До чего изобретательным бывает желание нагадить другому человеку или другой стране — не переубедить, не переспорить в честной дискуссии, а именно вымазать спину мелом, обозвать в толпе, обрызгать грязью из лужи. Ты не представляешь себе, сколько идеализированных представлений о высокой политике, высоких речах и рыцарях без страха и упрека рушится, если разглядывать все это вплотную.
Как-то раз, по-дамски всплеснув ладошами, я сказал об этом министру иностранных дел Украинской ССР Владимиру Никифоровичу Мартыненко. Тот покивал головой, соглашаясь, а затем улыбнулся мне:
— Ты знаешь, я всю войну летал на пикирующих бомбардировщиках «Пе-2». Многие не знают, что главное в бомбометании не бомбу сбросить, а выйти из пике. Здесь, кажется, кое-кто уже не выйдет…
Письмо (13)
Милая моя, хочешь, я заведу себе усы? В Америке множество усачей. Иногда мне это даже нравится: на лице появляется нечто новое, а вместе с ним — внешние признаки старомодной мужественности. В конце прошлого века ведь брились наголо преимущественно одни актеры, чтобы легче гримироваться, а лет сто назад все известные лица носили усы, или бороды, или бакенбарды, а то и все это одновременно. Здесь можно смоделировать себе усы под мексиканского бандита, под германского канцлера Вильгельма или под Гитлера (у одного из парикмахеров, работающего неподалеку от моего обиталища и отстаивающего моду на усы, висит плакат: «Если бы гладко выбритый Гитлер вышел на улицу, кто бы его узнал?»). Старинный британский критерий элегантности: у джентльмена непременно должна быть ухоженная растительность на лице — считается, что это способствует лучшим отношениям с девушками и авторитету в среде коллег.
Впрочем, с девушками у меня — никаких шансов и даже никаких надежд, сама понимаешь, наверное, и усы бы не помогли. Но с одной, как я уже писал, я познакомился в Центральном парке; зовут ее Кэт, существо она вертлявое, рыжее и юное. Вначале Кэт не знала, из какой я страны. А когда узнала, не испугалась, а позвонила мне очень заинтересованно и спросила, был ли я хоть раз в Москве. Но и это, как выяснилось, не слишком интересовало ее. Кэт дотошно расспросила меня о том, как живут у нас молодые люди, такие вот, как она. Интересно, что информации у нее не было никакой совершенно. Наши школьники, молодые рабочие или студенты немало знают об Америке (и в основном доброжелательную информацию), здесь же популяризируют о нас всякую чепуху или незнание. Вчера по телевидению я смотрел двухчасовой художественный фильм, где почти каждый советский человек прямо-таки горит желанием переехать в Америку. Фильм построен на материале о жизни рыбаков в нашей стране, населенной сплошь людьми диковатыми, а то и попросту дураками… Нас выдумывают погаже да поглупее, стремясь вызвать К нам в крайнем случае снисходительное презрение. А хотели бы — ненависть, всеобщую и неудержимую, желание растоптать нас и стереть с лица земли. Любого человека с советским паспортом: тебя, меня…
Впрочем — и это очень важно, — недавние, ноябрьские, выборы пошатнули Рейгана. Не то чтобы власть его, но уверенность в том, что осуществление принципов этой власти пользуется всеобщей поддержкой. Дело даже не в том, что представителей демократической партии в конгрессе стало намного больше; выборы в Америке — дело дорогостоящее, и очень многие факторы определяют избрание того или иного парламентария. Но вместе с выборами проходил опрос населения по важнейшим вопросам политики, и в этом вопросе всеамериканское мнение было вполне определенным. Выписываю из журнала «Тайм» за 15 ноября: из 18 миллионов опрошенных 10,8 миллиона высказались за немедленное замораживание ядерных арсеналов. Очень четкими были требования усилить уголовную ответственность, осуществлять смертную казнь за особо жестокие преступления. Не только журнал, из которого я это выписываю, но и президент с советниками могли бы задуматься над тем фактом, что большая часть населения в их стране не считает Советское государство главной угрозой себе, а ядерное оружие — панацеей от всех бед. Люди устали от ощущения опасности, которую постоянно хотят вывести за их собственные государственные пределы и показать всем, что, мол, главные беды Америки оттуда, извне, из Европы и Азии, а внутри страны, мол, все в порядке.
«Я очень люблю свою родину, — сказал мне знакомый преподаватель-славист в Лоуренсе, — и никогда не хотел соглашаться с тем, что меня здесь больше пугают, чем радуют. Особенно в последнее время».
Вера Данем — ты знаешь ее, она бывала в СССР и выступала в Киеве, — профессор-русист из университета штата Нью-Йорк, рассказывала, что молодежь, которая учится в их университете, и особенно те, кто поступает в университет сегодня, много пишут и говорят о своем страхе перед смертью, которую-де «советские ракеты и самолеты вот-вот обрушат на них». Чтобы внушить людям такое, надо вначале избавить их от всяческого знания о нас. Избавляют…
Помнишь, как наши дети играли с детьми наших американских знакомых, приезжавших в Киев лет двенадцать назад? Из американских детей за это время навоспитывали кого угодно, в том числе перепуганных молодых людей, ожидающих нашей бомбежки. Дальше я приложу несколько вырезок: станет понятнее.
О чем бы я здесь ни писал, думаю о детях. О наших, потому что для многих из них Америка остается страной храбрых ковбоев и неутомимых тружеников, пашущих землю и строящих небоскребы. Я хочу, чтобы так было всегда, потому что твердо верю в честную душу и добрые намерения трудовой Америки. Но с ужасом думаю, что сравнительно недавно был оболванен и послан, чтобы нас уничтожить, один из самых великих и культурных народов мира — немецкий, брошенный фашистами в котел мировой войны. Глаза у них распахнулись позже. А когда глаза закрывались — шовинизмом ли, смертью ли, не по той ли системе это делалось, по которой сейчас воспитывают людей в Америке, особенно молодых, для которых само понятие «Советский Союз» должно стать ненавистным?
Не все это просто, но тем не менее…
А теперь — несколько вырезок. В них то, что недосказал я.
Пресса (13)
Из газеты «Нью-Йорк таймс»,
27 сентября 1982 г.
«Пятнадцать подростков-девятиклассников сидят в классной комнате на шестом этаже и разговаривают о смерти от радиоактивного облучения…
— Я иду спать, думаю о том, что разоружение недейственно и мы должны умереть, — говорит мисс Цайчановер. — Я думаю о том, что могу не проснуться утром…»
Из журнала «Ньюсуик»,
11 октября 1982 г.
«Психиатр из Бостона рассказал недавно об одиннадцатилетней девочке, которую беспокоит вопрос, хватит ли у нее времени для того, чтобы покончить с собой, после того как начнется ядерная война. В школе Кроссроудс в Санта Монике выпускник Тим Вуд сказал: „Пожалуй, я лучше бы пребывал в неведении, чем знать мне, что в течение 24 часов кто-то способен прекратить мою жизнь“. Пятеро одноклассников в средней школе из Ист Виндзор проводят свои дни в празднично украшенных изображениями героев мультфильмов классах; их ночи растревожены снами о конце мира. Говорит десятилетний Росс Филд: „Русские могут послать ракету, и через две минуты я буду мертв“».
Глава 8
Здесь любят писать о женщинах и для женщин. Существуют специальные дамские журналы, женские разделы в газетах и стенды с книгами «для девушек и для леди» в книжных магазинах. Как правило, это рассчитано на один круг женщин, которые учатся, выходят замуж, рожают детей, следят за здоровьем и внешним видом своих супругов и пытаются содержать дом почище да подешевле, заодно подрабатывая где придется. Когда-то знаменитая писательница Вирджиния Вулф очерчивала круг занятий такой женщины, пробуя своими силами пробиться за пределы этого круга: «…я читала в газетах о дурацком представлении в одном месте и о свадьбе в другом; я понемногу зарабатывала, заадресовывая конверты, читая пожилым дамам вслух, изготовляя искусственные цветы, показывая малышам в детском саду буковки…» Другая — сегодняшняя — американская писательница, Джоан Дидион, в своей книге-эссе «Белый альбом» очерчивала еще один традиционный круг: «…надо ждать девять месяцев, пока ребенок родится. Затем три или четыре месяца кормить его грудью. Когда ребенок перестанет быть грудным, надо лет пять провести, играя с ребенком…»
В светской хронике ежедневных газет фигурируют и другие существа женского пола, неземные по виду И по одежде, время от времени выходящие замуж, как Элизабет Тейлор, но не придающие этому особенного значения, живущие в окружении бриллиантов и мужчин немыслимой красоты.
Теперь еще появились женщины в армии — они там служат на 38 различных профессиональных должностях, и говорят, что с этого года им разрешат освоить еще 23 военные профессии. Сейчас в двухмиллионной американской армии — 180 тысяч женщин. Впрочем, каждая десятая военнослужащая беременна, что осложняет участие женщин в полевых учениях. Данных о детях у женщин, пробившихся на высокие парламентские кресла, у меня нет; знаю только, что в палате представителей имеется 19 женщин на 435 депутатских мест, а в сенате — две из ста. Вся эта цифирь — о женщинах, которые, как принято здесь считать, с честью выполняют свой долг перед отчизной. Впрочем, не все женские занятия почетны. Есть еще загадочный для обывателя пугающе порочный мир платной любви и жриц древнейшей профессии, но эта информация в основном идет по разделу скандальной хроники. Иногда разновидности женщин сближаются; как раз в середине октября много писали о разводе миллионера Питера Пулитцера, уличившего свою супругу Роксанну в любовных приключениях чрезвычайной интенсивности и порочности. При разводе неверная жена потребовала алименты в размере 246 тысяч долларов в год, и в прессе много судачили о том, обоснованны ли претензии оной дамы. Все это, конечно, бывает забавным, но я зарывался в нью-йоркские газеты и журналы, пытаясь понять, как все-таки поживают американки, какие проблемы их потрясают, потому что сам я знаю в этой стране женщин куда более интересных, чем те, о которых рассказывают и пишут. Время от времени я беседовал на эту тему с разными людьми, в том числе со своей знакомой Кэт; и в тот раз я только что купил «Дейли ньюс», развернул на столе и начал читать вслух информации о женщинах, населяющих этот город. По крайней мере то, что газета считала нужным сообщить мне о них.
Кэт начала сердиться в самом начале чтения и окончательно разгневалась, когда я читал раздел писем. «Мне это слушать противно, — сказала она. — Чушь собачья…»
Но все-таки выслушала одно письмо из «Дейли ньюс» за 19 октября, улыбнулась, зажмурившись, и сказала, что ее сверстница, автор письма, мыслит непрактично. «Девочка набивает себе цену», — сказала Кэт и отвернулась. А письмо в газете и ответ на него напечатаны на полном серьезе.
Письмо: «Мне 23 года, и приходится иногда дежурить в ночную смену. Я столько слышала об изнасилованиях, что боюсь их до смерти. Скажите, где я могла бы купить пояс целомудрия?»
Ответ: «Пояса целомудрия ушли в прошлое вместе с двором короля Артура. Невелика потеря для тебя, впрочем. Если насильник встретится с таким препятствием к достижению цели, он, пожалуй, убьет свою жертву…»
Вот видите, как все откровенно и просто; Кэт считает, что здесь и говорить не о чем. Она вообще мыслит и судит впрямую, и поэтому с ней бывает забавно рассуждать на самые разные темы. Ко мне она относится будто к марсианину — с интересом разглядывает, расспрашивает и столь же откровенно комментирует происходящее в ее собственном городе. Вокруг нее очень много интересного, и, когда Кэт впервые позвонила мне, предложив просто погулять по городу, рассуждая на разные темы, я вначале вспоминал, кто она, эта Кэт, а когда вспомнил, то согласился, потому что наше знакомство у Центрального парка было милым, хоть и кратким. Впрочем, познакомиться с «особой женского пола вообще» в Нью-Йорке легче легкого. Понимаю всю глубину иронии Кэт по поводу заметки в «Дейли ньюс». «У нас тут просто нет спасения от дам, которые руками и работать-то не умеют», — сказал мне чикагский писатель и радиокомментатор Стадс Теркел. Жаль, что их нельзя воспроизвести здесь, но за день в карманах у меня собирается по три-четыре приглашения к знакомству с девицами без особых претензий — зазывалы раздают оные бумаги на каждом углу. Поскольку открытым текстом писать, чем занимаются девочки, изображенные на бумажках, обходящиеся без поясов целомудрия, не положено, приглашения высказываются иносказательно: «Живое представление для взрослых. Фильмы только для взрослых. Двадцать пять обнаженных до пояса танцовщиц. По воскресеньям мы работаем круглые сутки. Хочешь быть королем? Приходи к нам и выбери королеву…» И адресок: 151 Ист, 49-я улица. На другой и третьей бумажках текст примерно такой же (время от времени используются и добавочные средства завлекания, вроде: «Если вы купите одну рюмку спиртного, вторую мы дадим вам бесплатно»).
После написанного в этой главе я переведу несколько вырезок из самой обычной, самой повседневной нью-йоркской прессы, потому что в пересказе многие сообщения кажутся невероятными, а здесь сообщают и о женщине-полицейском, которая была задержана за позирование для порнографических снимков, и о том, что из тюрьмы штата Айдахо бежал знаменитый насильник, отсиживающий 325-летний срок (американские приговоры плюсуются один к другому, и в общей сложности иногда получаются сроки совершенно фантастические, пусть это вас не удивляет).
Так или иначе, газеты, печатающие сообщения о насилиях, расходятся веселее: газета «Нью-Йорк пост», особенно усердствующая в сборе такой информации, за несколько лет подняла свой тираж почти до миллионного. Только обо всем не напишешь. Я, кажется, говорил уже, что за год в Нью-Йорке регистрируется больше десяти тысяч изнасилований. Только в одном этом городе…
Мы рассуждали с Кэт на эту тему — мне интересно было, как относится к проблеме именно она, сверстница множества пострадавших, — и не спеша попивали кофе в небольшом баре, оборудованном на втором этаже дома, где я жил. Бармен постарался: мы отхлебывали из чашечек и просматривали сегодняшние газеты, ворохом лежащие на соседнем стуле. Подробности здешней жизни лезли в глаза; если бы меня вправду заинтересовала только что затронутая тема, я мог бы вообще покупать не благопристойные ежедневники, а, скажем, «Скру» — яркую, многоцветную газету, полиграфически в сто раз более привлекательную, чем «Нью-Йорк тайме», и, но сути, целиком посвященную деятельности нью-йоркских девиц определенной профессии и их клиентуры. Но мне все время хотелось увидеть этот мир глазами человека обычного, наблюдающего изменения здешних нравов; изменения эти катастрофичны: благочестивые пуритане, эмигрировавшие некогда в Америку из безбожной Британии, сошли бы с ума от ужаса, окунувшись в атмосферу бытия своих далеких потомков.
В этой стране полюсы остались прежними — и скромники, и развратники, и все прочие, — но сейчас все выплеснулось наружу особенно откровенно, все нараспашку. Когда сгущающаяся атмосфера ненависти срывает покровы со многих манер и многих традиций, настает страшный момент, когда вроде нечего уже и стесняться. Оно ведь все вместе — и то, что человека убивают не одним, а пятнадцатью ударами ножа (патологоанатомы зовут это «переубивание»); и то, что за спиной у многих сгоревшие деревни Вьетнама; и то, что у двенадцати миллионов человек работы нет; и то, что вбивают в головы всем с утра до вечера, что прилетит русская ракета и всех сожжет. Такое предчувствие апокалипсиса, Страшного суда, конца света вызывается искусственно и проявляется многообразно…
Телевидение по инерции следует запрету на рекламу спиртного и сигарет (но герои-то пьют и курят неудержимо, это можно); микшируют звук в тех случаях, когда киногерои загибают нечто, выходящее за пределы словарей Вебстера (иногда ковбои в тишине трясут друг друга за джинсовые рубахи и шевелят губами минуты по три подряд — звук вырубают надежно, даже музыки нет). Но некурящие герои мультиков и те убивают друг друга с такой изощренностью, что голова кругом идет.
Недавно Национальный институт психиатрии опубликовал очередное, юбилейное, две тысячи пятисотое с 1970 года исследование на тему о воздействии сцен жестокости и насилия в телевидении на психику молодежи. Психиатры считают, что телевидение, демонстрируя время от времени почтение к словарям, уродует молодежь именно тем, что сваливает в свои новости и свои кинофильмы экстракт бытия и влияет на молодые и все. прочие души тотальностью духа насилия, воцарившегося и в жизни, и В зрелищах. Конечно же человек становится насильником не оттого, что видит, как на экране насилуют женщину; разные сферы дополняют друг друга, взаимодействуя в воспитании. Не хочу упрощать тему — избирательно затрагиваю разные стороны ее.
Когда я сказал Кэт, что убийцы и маньяки во многом воспитываются средствами массовой пропаганды, в основном телевидением, она возразила: «Это ведь только кусочек жизни: все не так просто… Одним из самых страшных убийц нашего времени стал кампучийский Пол Пот. Так у него, кажется, не только телевидения, но и радио не было…» Кэт прослушала курс социальной психологии в университете штата Коннектикут; она знает то, о чем иные профессора охотно забывают: жизнь цельна, и самые разные ее проявления объединены тем, что зовется «образом жизни».
Сегодня мы с Кэт хотели пройтись в сторону Таймссквера; это самый центр, нью-йоркская «стометровка», там скрещиваются многие дороги Нью-Йорка, многие пороки и достоинства его наверняка ярче всего проявляются именно там; кроме всего прочего, это одно из самых сияющих и завлекательных мест в городе.
Мы еще немного потолковали об особенностях городской жизни; надо иметь в виду, что молодые американцы студенческого возраста, как правило, очень серьезные люди и любят длинные, обстоятельные беседы. Все, о чем я пишу в этой главе, мы действительно проговорили на равных, Кэт и я, который в два раза старше ее. А если совсем конкретно, то, начав с беседы о металлическом нижнем белье, мы вспомнили о человеке, которого все — радио, телевидение и пресса — называли насильником, страшным преступником и маньяком.
…Ларри Ван Дейк, тридцатитрехлетний чернокожий уголовник с аристократической фламандской фамилией, заперся с пятью заложниками и с кольтом, похищенным у полицейского, в подвале нью-йоркской больницы в Бруклине. Полиция обложила подвал со всех сторон. Ларри сказал, что он отпустит заложников только в том случае, если ему разрешат выступить по национальному телевидению. Выступление в конце концов разрешили. Заложники один за другим вылезли наружу через подвальное окно; последним выпгел сам Ван Дейк, огромный усач в нейлоновой куртке. Он подошел к микрофонам передвижной телеустановки, взял один из них и вдруг начал кричать: «Я не сумасшедший! Я человек, который пробовал обрести свободу! Вы меня поймали: вот он я!» Негр помолчал и нормальным уже голосом обратился к толпе репортеров: «Я хотел свободы, но не нашел ее. Мы не преступники! Это богачи — преступники!» Дальше уже Ван Дейка связали, и он уехал под эскортом не меньшим, чем тот, который охраняет полотна его знаменитого однофамильца.
Слишком во многом здесь решающую роль играют категории «богатый», «бедный»: когда человек денег лишается, от него оказываются отрезанными главнейшие пути в мир. Человек может восстать против этого, и формы протеста бывают самые разные, даже вот такие…
— Гляжу я на вас, разговариваю с вами, — сказала Кэт, — и думаю, что такой поток негативной информации, обрушившийся на вас, требует стойкости. Как бы вы в нем не утонули…
— А вы не тонете?
— Не тону, — серьезно ответила Кэт. — Я читала, что у вас в стране о недостатках писать не принято, поэтому такое количество некрасивых поступков и неприглядных случаев может вас травмировать. — Она прижмурилась и разглядывала меня, явно желая сказать что-то еще. Подумала немного и спросила, качнув кончиками пальцев лампу над нашим столиком:- У вас в редакции, там, дома, много народу работает?
— Много, — сказал я, остановил лампу, качающуюся, как маятник, и назвал ей точную цифру.
— А женщин среди них много?
Я задумался, сосчитал в уме всех женщин, включая уборщицу, работающую у нас на полставки, и сказал Кэт, что примерно треть сотрудниц в журнале у меня — женщины.
— Ну вот, — серьезно сказала моя собеседница, — снова мужской шовинизм. И вы…
В Америке у довольно многих женщин чувство собственного достоинства обострено до болезненности; они требуют, чтобы все поровну и никак не иначе, объяснений не дослушивая. Дело в том, что старый принцип американского равноправия формулируется примерно так: «Здесь все равны, демократия у нас несравненна. Но, сколько бы мы ни подчеркивали конституционное равенство, белые мужчины протестантского вероисповедания и англосаксонского происхождения равнее всех». Что касается женщин, то места их разнообразны, но в главном традиционны…
— Вот я зашла к вам, — сказала Кэт. — Мы сидим в баре и пьем кофе. Но когда вы меня встретили у входа и я пошла к вам, о чем подумал администратор? В голове у него щелкнул стереотип, и даю голову на отсечение, что администратор подумал о единственном: жилец к себе девочку повел…
Я еще раз внимательно оглядел маленький пустой бар.
В тот момент бармен определенно думал о чем-то подобном, потому что подал нам новые чашечки с кофе довольно игриво. Я строго взглянул на бармена, и тот перестал улыбаться. Кэт и в этом права: стереотипы определяются общей ситуацией в обществе, возникают надолго и у многих сразу.
Что оставалось делать мне? Читать Кэт лекцию о положении советских женщин, а тем более пересказывать сейчас эту лекцию вам смысла не имело. Но кое-что я рассказал ей. У американок это — больное место: всю свою историю американские женщины борются за равные права с мужской частью Америки. А ведь когда-то, еще в эпоху первопроходцев-пионеров, женщины наравне с мужчинами гнали фургоны с востока на запад — через весь континент — и стреляли, ездили верхом, строили дома не хуже своих мужей.
Сегодня же. по официальной статистике, мужчины, например, работающие программистами, или мужчины-юристы получают на треть, а мужчины-медики — на четверть большую, чем женщины, плату за равный труд. Мужчины-учителя и мужчины-клерки, даже мужчины-швейцары получают больше процентов на 20–25. Нет ни одной легальной профессии, где женщина могла бы заработать больше, чем мужчина, занимающий такую же должность. Я вычитал это в июльском номере журнала «Таймс». О женщинах-законодательницах я мельком сказал вначале; они еще не могут принимать законы в свою защиту — слишком они немногочисленны, хотя иные из них довольно заметны. Недавно впервые в истории США женщина по имени Джин Киркпатрик стала постоянным (и, увы, самым реакционным за все времена) представителем своей страны в ООН. Недавно (тоже впервые в истории Соединенных Штатов) Первая женщина, Сандра О'Коннор, стала членом Верховного суда США. Так или иначе, из 450 должностей, которые в Америке считаются самыми высокими, женщины занимают 45, и число это чуть-чуть увеличилось в последние годы, когда предыдущий и нынешний президенты вели особенно острую борьбу за голоса избирательниц. Голоса голосами, но назначение женщин на престижные должности считается чем-то необычным не только для американской власти, но и для американского бога. Узнав, что в состав Верховного суда впервые за 191 год его существования вошла женщина, один из руководителей фундаменталистской церкви, преподобный Джерри Фалвел, сказал, что это «оскорбительно для порядочных христиан».
Короче говоря, женщины, да еще облаченные в чиновничьи мундиры или судейские тоги, в Америке менее популярны, чем женщины, видящие главную свою силу в достоинствах никак не умственных, а посему избыточной одеждой себя не отягощающие.
Странно, если бы в обществе, выставляющем все на продажу, женщина не стала бы товаром. Когда-то об этом, вы знаете, писал Карл Маркс; для меня это философская классика, подтверждавшаяся тысячу раз.
— Вы читали Маркса? — спросил я у Кэт.
— У нас многие читали его в университете, — сказала она, глядя в пустую чашку. — Но все дело в том, что мне не так важно объяснить, почему нет у меня работы, а важно работу найти. Если я всем буду говорить, что читала Маркса, то никогда не устроюсь…
— Еще кофе?
— Нет, — сказала она и поглядела в сторону бармена, который сразу стал весь внимание.
— Меня барменом бы не взяли, — покачала Кэт головой. — И администратором к вам в гостиницу меня не взяли бы. Разве что уборщицей или горничной. И в электронике, и в автомобильной промышленности женщин почти нет. Официально считается, что мы создаем в коллективе атмосферу сексуальной озабоченности и люди хуже работают. Вы пробовали считать, сколько есть на свете всякого, что женщине делать не надо: ходить одной, путешествовать с незнакомыми, заговаривать первой, и так далее. Я с вами в Центральном парке познакомилась назло всем и себе самой назло.
Надо сказать, что разновидности американских форм несогласия с чем-либо бесконечно разнообразны. Это может быть и отказ от стрижки, и сидение у двери правительственного учреждения с плакатом: «Меня обидели!», и заявление со множеством подписей, и манера одеваться, и многотысячная демонстрация. Не помню, как моя собеседница была одета при первой нашей встрече, но сейчас она выглядела точно так же, как великое множество ее сверстниц, демонстративно коротко стригущихся, одевающихся в кроссовки и брюки, подчеркивающих, что им не хочется походить на стандартных красавиц и не хочется, чтобы с ними беседовали игриво.
Кэт была в джинсах, заправленных в короткие сапоги, и коричневой куртке, очень идущей к ее рыжей прическе. Она пошарила в кармане и достала круглый значок со словами «Власть женщинам!».
— Наши ребята… — начала она.
— А вы могли бы руководить, забыв, что есть на свете слова «ребята» и «девочки», «солнышко», «радость моя» и тому подобные? Забыв, что нельзя заплакать в неподходящий момент и…
— Откуда вы знаете, что я плакса? — перебила меня Кэт, улыбаясь. — Что-то в этом мире надо менять. Мы, женщины, рисковать не любим — это в характере, а какой же бизнес без риска? Мы не всегда точно представляем себе, к какой должности стремимся, а без этого тоже нельзя… С деньгами сейчас туго, надо, чтобы в семье всегда работали двое. По прогнозам, уже больше половины наших женщин работают или ищут работу. Моя мама работает, и я, когда выйду замуж, тоже буду работать. Дети уходят, как я от мамы ушла, а что остается?..
— Детские куклы остаются, — сказал я. — Например, игрушечная Брук Шилдс…
Кэт взглянула на меня очень зло.
— Вам нравится Брук Шилдс? — спросил я у бармена.
— Нет! — широко улыбнулся тот.
Я еще раз убедился, что это хороший профессионал: бармен знал, что в присутствии одной женщины другую хвалить не надо.
…Брук Шилдс — худенькая молодая манекенщица с глазами порочного ангелочка — не раз уже с начала восьмидесятых годов провозглашалась всеамериканским идолом. И сегодняшние журналы мод открываются ее фото, а начали девочку фотографировать очень рано. Девочкина разведенная мама по имени Терри, освободившись от мужа, ограничила свою жизнь тем, что вложила деньги, отсуженные при разводе, в эксплуатацию собственной дочки. Здесь есть такое слово «сексплуатация» — от «секс» и «эксплуатация», — оно к этому случаю имеет самое непосредственное отношение. Сверстница моей Кэт стала знаменита не только благодаря красоте, а из-за того, что красота и грация девушки эксплуатировались («сексплуатировались») весьма целенаправленно (демонстрируются, окажем, облегающие джинсы фирмы «Калвин», надетые на голое тело; Брук с неизменной улыбкой порочного ангелочка глядит в объектив: «Между мной и Калвином ничего нет!»). Она снимается в кино, выступает по телевидению, получает самые высокие гонорары. В апреле поступили в продажу первые два миллиона двенадцатидолларовых кукол, в миниатюре повторяющих все размеры юной манекенщицы, с прилагающимся комплектом одежды, состоящей из розовых брюк и свитера, а также ковбойских сапожек белого цвета. Одежду, как гласит реклама, можно без труда надевать и снимать.
— Хочешь выпить за Брук? — предложил я. — Ты видела, Кэт? На каждом углу продается кукла, повторяющая все ее пропорции. Наверное, это приятно?
— Вы считаете? — не приняла собеседница моего шутливого тона. — Вам нравится, когда вас ощупывают руками и глазами, когда берут в руки куклу, а полагают, что это вы в натуральную величину, и воображают, как там чего у вас. Все символы женской Америки, как правило, трагичны. Это или классик нашей поэзии, одинокая как перст Эмили Дикинсон, или лучшая наша поэтесса шестидесятых годов Сильвия Плат, покончившая с собой. Это или вечно не устроенная бывшая первая леди страны Жаклин Кеннеди-Онассис, либо бывшая первая леди наших киноэкранов, отравившаяся (или отравленная) Мерилин Монро. Все это забавно только со стороны. Что мы знаем о судьбах юных манекенщиц и актрисуль, после того как им исполняется по тридцать лет? Так или иначе, в красавицах здесь недостатка нет: запрашивая от двадцати до двухсот долларов за свидание, иные из красоток идут на дно, зная, что самые худшие годы еще впереди, а деньги копить уже не с чего…
А пока Брук Шилдс берет по десять тысяч долларов за день позирования для какой-нибудь модной фирмы. Считается, что в Нью-Йорке тысяч десять манекенщиц, преуспевающих, зарабатывающих от шестидесяти до восьмидесяти тысяч долларов в год. Это горячее времечко, молодость, — надо поднакопить денег и по возможности удачнее выйти замуж: однажды избранное амплуа менять недопустимо, надо оставаться красоткой, кошечкой, бутончиком, пока можно будет. Америка сейчас крепко держит свое лидерство во всемирном продуцировании женщин для журнальных обложек. Здешние манекенщицы уже летают демонстрировать моды и самих себя в Токио, Париж, Рим: культ женщины для показа, женщины-игрушки, возведен на уровень государственный. Когда в Белом доме возникла нынешняя первая леди Ненси Рейган и газеты запестрели сообщениями о том, сколько сотен платьев заказала она. какой сервиз и с какими золотыми орлами на дне суповых тарелок, какие пуфики закуплены для президентской опочивальни, все это было воспринято как неизбежность. Женщины высших сортов и высших должностей созданы для того, чтобы за ними ухаживали, заворачивали их в меха да шелка: ну, конечно же, в кухню они заходят, но для того лишь, чтобы взять чашку или коктейльный стакан в буфете…
Знаменитая манекенщица Аполлония по прозвищу «Яблочко», зарабатывающая по своим контрактам до двухсот тысяч долларов в год, любит излагать корреспондентам поучительные, как она считает, для всех принципы собственной жизни. Из всей возможной посуды дома она держит две пластмассовые чашки и одну пластиковую же вилку. Как проводит время после работы? Любит кататься на роликовых коньках под рок-музыку, а иногда катается и по восемь часов подряд. Визиты возлюбленному она чаще всего наносит около четырех утра, а затем — к гримеру и косметологу. Работа, позирование, демонстрирование — до следующего катания на роликах… Ну все прямо-таки как в известной басне о стрекозе и муравье; но до чего же усердно популяризируются здесь жизни, не отягощенные политикой, катящиеся на роликах неизвестно куда.
— И что, не хотела бы такой жизни? — спросил я у Кэт.
— А по-вашему, это жизнь? — ответила та. — Я хочу быть женщиной, хочу быть такой, как люди, среди которых я выросла. Хочу работать, как моя мама, и хочу, чтобы меня любили, как отец маму. Сентиментально, правда? Но женщиной стать куда сложнее, чем стать мужчиной. Вы согласны?
Об американских неравноправиях можно толковать вечно, потому что неравноправие лежит в самой основе общества, — оно и развивалось таким, чтобы все по-разному, кто как пробьется. Неравноправие может быть привычным, пока не становится оскорбительным, пока не вздымается высоким барьером на пути попыток реализовать себя, на пути человеческих усилий жить счастливо и равноправно. Ты должен пробиться сам. Но, если ты чернокож или узкоглаз, это сделать куда труднее. Если ты женщина, твой путь тоже будет нелегок. Если ты хоть раз был в тюрьме, то обрел клеймо на всю жизнь и уже не отчистишься. И так далее…
Очень обидно, когда в обществе столько фиксированных представлений на все случаи жизни. А при всем при том Нью-Йорк производит впечатление города, где очень много умных людей; так оно в конечном счете и есть: библиотеки забиты посетителями, в читальнях полно народу. И в то же время неграмотных становится все больше. Число образованных женщин понемногу растет, но уменьшается и число тех, кто не представляет женщину вне постели и кухни. Сквозь это приходится пробираться, как сквозь туман, в котором невозможно уклониться от капелек. Стандартные представления смерзаются, и легко поскользнуться на этом льду.
Когда у страны что-то портится в сердцевине и ненависть начинает разъедать ее изнутри, страна может унизиться в самых неожиданных сферах своего бытия. Я уже вспоминал о тех огромных количествах печатающихся здесь самых разнообразных книг, в которых пытаются представить нас полулюдьми, существами эмоционально неразвитыми, а посему не способными к восприятию тех радостей, которыми полнится душа американца или американки. И это стандартное, стандартизированное, расхожее представление, которым нас отгораживают от «американских ценностей». Уже заканчивая эту главу, я взял книгу, которую читали и Кэт, и я, и еще много миллионов людей, потому что с конца семидесятых годов она раз за разом переиздается и официально объявлена едва ли не основным пособием по изучению советской жизни. Это «Русские» Гедрика Смита. Открыл главу о советских женщинах; после долгого рассказа о том, до чего они скучны, неженственны и несчастны у нас, я наткнулся на интервью мистера Смита о делах совсем сокровенных. Подумал, что должно быть по его логике: коль у нас все не так, так должно же быть это «не так» беспросветным, вполне по американским пропагандистским канонам. И точно, Гедрик Смит информировал своих соотечественниц со всей беспощадностью: «Женщины жаловались мне, что, находясь в постели с русскими мужчинами, они никогда не испытывали полового удовлетворения». Господину Смиту просто некогда было со всеми этими несчастными женщинами выходить за пределы журналистской беседы, но — ух и сочувствовал же он им!..
Вот так они и рассказывают среднему американцу о нас и внутри почти любой темы умудряются вырастить еще и этакую беленькую или желтенькую антисоветскую поганку. Любая тема — словно капля воды, которая состоит из множества молекул.
Американская пропаганда последовательна и упряма: она знает, кого хочет воспитать и для чего, и от целей своих не отступает.
А общественные идолы — все, как были… Как бы там ни было, конечно же среди американских девочек бруки шилдсы куда популярнее, чем мисс О'Коннор, заседающая в Верховном суде. Сейчас одной из мощнейших отраслей промышленности, работающей на женскую часть населения США, стал выпуск косметики для девочек от трех до четырнадцати лет. Все эти губные помадки да накладные реснички, которых ежегодно продается на сумму более чем в сто миллионов долларов, как игра в «Монополь» для ребят, покупающих и продающих игрушечные отели, рестораны и кинотеатры. Это все как маленькие хоккейные клюшки для завтрашних игроков профессиональных команд; Америка — страна ранней специализации, здесь нельзя упустить свой шанс: родители начинают тренировать отпрысков с младых ногтей, передавая им собственные представления об успехе. Так что рекламные дивы сегодняшнего дня уже нынче спроецированы в день грядущий…
У нас с Кэт прогулка не получилась, мы попрощались, как встретились, в ожидании завтрашних разговоров.
…Возвратившись в номер, я включил радио. Доктор Руфь Вестгаймер анонсировала следующую свою передачу. Каждое воскресенье вечером радиостанция WYNY — FM передает беседы 53-летней бывшей воспитательницы детского сада о сексе. Передача очень популярна; в Нью-Йорке ее регулярно слушает около 150 тысяч человек. Руфь Вестгаймер рассказывает о том, как надо вести себя с партнером в постели, причем с такими разновидностями да подробностями, что передача обрела репутацию вполне недвусмысленную. «Хорошего вам секса!» — заканчивает госпожа Вестгаймер свои выступления. (Телевизионная их реклама выглядит так: на мгновение весь экран заполняется не шибко юным женским лицом. Лицо подмигивает, и под ним возникает титр: «Доктор Руфь». «Я тренировала лучших любовников в этих краях», — говорит лицо.) Так что не знаю, как с прочими видами образования, а с половым в Нью-Йорке все в порядке. А вопрос читательницы о форме одежды для выхода на ночную улицу, с упоминания о котором я начал, определенно имел основания. Думаю, что Кэт игнорировала его из чистого принципа. То, чего нельзя купить, в этом городе и в этой стране всегда брали силой. По общеамериканской статистике, здесь насилуют женщин в среднем каждые семь минут; я имею в виду только один вид насилия…
Пресса (14)
Из газеты «Нью-Йорк пост»,
5 октября 1982 г.
«Женщина-полисмен, позировавшая обнаженной для порнографического журнала, вчера подвергнута официальному обвинению… Офицера Сибеллу Боргес в журнале „Бивер“ звали „Нина“».
Из газеты «Дейли ньюс»,
7 октября 1982 г.
«Обнаженное тело молодой женщины, которую пытали до того, как перерезали ей горло, было обнаружено вчера связанное, с заткнутым ртом в номере гостиницы „Рамада“ на 48-й улице, сообщила полиция».
Из газеты «Дейли ньюс»,
11 октября 1982 г.
«СЕКСПО-82», выставка-продажа товаров, связанных с вопросами секса, закрылась вчера…
7 ноября 1982 года газета «Нью-Йорк таймс» на 74-й странице поместила рекламную статью и список охраняемых гостиниц-общежитий для женщин.
Письмо (14)
Милая моя, в Америке сместились полюса. На днях арестовали очень богатого автомобильного магната Де Лорайна, закупившего для перепродажи наркоманам на 24 миллиона долларов кокаина; богач ринулся в бизнес, традиционно считавшийся делом профессиональных мафиози. Публикуется много сообщений о спекуляции продуктовыми талонами, так называемыми «марками», и о спекулянтах, накопивших у себя этих бедняцких талонов на гигантские суммы. Полюса сместились, и так называемый средний американец мечется между ними, становясь фигурой все более эфемерной; середину находить все труднее.
Я ведь и сам не знаю, кто он, типичный, среднеарифметический, самый обобщенный американец, или, конкретнее, средний житель Нью-Йорка. Я всегда поражаюсь многообразию здешних типов, не вмещающихся ни в какие классификации. Но при всем своем разнообразии американская жизнь чрезвычайно регламентирована и исследована даже в подробностях; в здешнем бедламе царит строгий порядок: все нормировано, все по правилам. Каждые восемь секунд в США рождается человек и каждые четырнадцать секунд умирает, но живут все по-разному. Средняя американская семья из четырех человек съедает в год около четырех тонн пищи; средняя американская хозяйка открывает ежегодно 788 консервных банок, а мужчина выпивает за год 52 галлона кофе. Но не всем достается поровну; я уже писал тебе, это очень легко утром (перед открытием продуктовых лавок, когда выбрасывают продукты, портящиеся или забракованные санитарной инспекцией) увидеть целые группы или группки людей, роющихся в помойке. Даже какой-то процент пуль попадает здесь не в тех. кому пули предназначались. В «Нью-Йорк пост» за 9 октября я вычитал странное сообщение о том, как был ранен пулей в ногу 11-месячный ребенок в Бруклине. Мать его, Розмари Харрис, рассказала, что стояла, глядя на ребенка, когда тот внезапно упал и она увидела кровь… Она даже не знала, когда и откуда прозвучал выстрел…
Ну, в общем, здесь живет разная публика: и ковбои, и преступники, и миллионеры. Но ни одна из упомянутых групп не является преобладающей, и ни одна не является узнаваемой с первого взгляда. Как-то мне довелось завтракать с Армандом Хаммером, известнейшим промышленником, выступающим за торговлю с нашей страной. Он оказался сухоньким, очень подвижным старичком в самом что ни на есть стандартном костюме массового пошива. Ел он весьма скромно (кусочек сыра с гренкой, чай без сахара), действовал весьма энергично («если хотите, давайте-ка слетаем сейчас ко мне на завод — это до обеда, а затем мне надо в Вашингтон, и послезавтра к вечеру вернемся сюда»). Выделяли Хаммера из толпы разве что вежливо здоровающиеся официанты и ресторанный «мэтр», который лично сервировал нам стол.
Есть старая актерская истина о том, что «короля должно играть окружение». В Америке это всегда правильно, потому что человек здесь определяется прежде всего тем, с кем и где он встречается, где находится его место работы, в каких гостиницах останавливается, где ест свой обед, на каком автомобиле и куда ездит. Я не знаю общества, запрограммированного и разделенного даже в деталях более немилосердно, чем американское общество.
Здесь все узнаваемо. Знакомый врач жаловался мне, что он потеряет клиентуру, если не будет менять свой автомобиль на новый каждые два года; в Нью-Йорке есть парадные входы, подъезжать к которым в старом и немодном автомобиле попросту неприлично. Я собирался остановиться как-то в Нью-Йорке всего на три дня и спросил в аэропорту имени Кеннеди у специального дежурного, который помогает приезжим с устройством в гостиницы, где он мне посоветует поселиться (при этом я прежде всего помнил о своих суточных деньгах). Дежурный осведомился, в каком качестве я прибыл. Услышав, подумал-поразмышлял и очень четко сказал, что человеку этого круга прилично селиться в гостиницах, расположенных там-то и там-то. Когда я попросил подыскать что-нибудь попроще, дежурный не то чтобы запрезирал меня, но отнесся как к человеку, занимающему в обществе не свое место.
Вчера вечером по телевидению передавали репортаж из нью-йоркского магазина одежды «Бижан». Костюмы там стоят от полутора тысяч долларов и выше (для сравнения скажу, что за эту сумму в соседнем «обычном» магазине можно купить десять — двенадцать шерстяных костюмов-троек), одеяла из меха — самые дешевые по пятнадцать тысяч долларов (автомобиль класса нашей «Лады» стоит тысяч пять). Владелец магазина сообщил репортеру: «Я работаю для людей, у которых есть все. Им не хватает лишь моей фирменной этикетки на подкладке — этого свидетельства принадлежности к нью-йоркской элите. И они готовы платить за такую этикетку…»
Если вы всегда обедаете в одном и том же ресторане или одеваетесь у того же портного, вы ежедневно встречаетесь с тем же кругом людей, и знаменитый американский «ланч-тайм» — «обеденный перерыв» — становится временем скрепления прежних связей и налаживания новых. На этом не экономят, общество рассортировано на всех уровнях и по множеству признаков. Не обижайтесь, если уже при знакомстве у вас спросят, где вы родились, в какой школе и каком университете получали образование, где живете сейчас, когда и какой автомобиль вы приобрели. Если вы иностранец, задаваемые вопросы все равно будут попыткой привести вашу судьбу к общему, понятному по эту сторону океана знаменателю. Например, у меня здесь часто спрашивают, сколько я зарабатываю в год; очень удивляются, когда я рассказываю, что был когда-то врачом, а затем расстался с этой профессией; спрашивают о сумме гонораров, об автомобиле, о том, шил я костюм или купил готовый. Если начинают почтительно переглядываться, то не тогда, когда я говорю, сколько книг и на каких языках у меня выходило, а тогда, когда выясняется, что у нас на телевидении есть «моя» ежемесячная часовая телепрограмма. В Америке ведущий регулярно телепрограмму зарабатывает очень-очень много и занимает в общественной иерархии одно из самых престижных мест. Деньги регулируют многие отношения и репутации, становятся не только средством приобретения колбасы в магазине, но и твоей характеристикой. Здесь никто не поверит, что ты умен и энергичен, если зарабатываешь всего ничего. На любой должности существует система надбавок к зарплате, которые тебе могут дать, стимулируя твою оборотистость. Надбавки эти на всех общественных уровнях выглядят по-разному; кое-где они являются прямой частью заработка, и, если ты их не заслуживаешь, ищи другую работу. Официанты, гардеробщики, таксисты, гостиничные уборщицы вообще формируют главную часть своего бюджета из «типс» — чаевых. С чаевыми в Америке тоже полная ясность и вполне упорядоченная система. Есть даже почти официальные таблицы, объявляющие, сколько и за что надлежит давать. Швейцару в гостинице или гостиничному посыльному мальчику надо заплатить не менее чем по 50 центов за переноску одного чемодана от лифта до твоего номера. Официанту в ресторане следует давать 10–15 процентов сверх общей стоимости заказа или, если, например, завтрак включен в стоимость номера (что в Америке случается редко), все равно оставлять чаевые на столе. Горничной в номере надо давать не менее пяти долларов в конце недели; это минимум — иначе она может спросить, в чем она провинилась. Моя горничная обратилась с иной просьбой: приподняла торшер и попросила, чтобы я клал чаевые под него. «Едва в субботу вы выходите из номера, — сказала она, — как старая мымра-счетовод уже чувствует, что у вас на столе есть пятерка для горничной. Она бежит в номер, пока еще я не заступила на дежурство, и мгновенно утаскивает кредитку. Кладите, прошу вас, под торшер…» Оставлять надо обязательно. Здесь бытуют даже легенды насчет того, что случается с экономящими на чаевых. Один журналист вполне серьезно уверял меня, что у гостиничной прислуги есть специальная система отметок-характеристик, которыми незаметно обозначают чемоданы нещедрых гостей; в третьей или четвертой гостинице чемодану очень прижимистого путешественника может не поздоровиться.
Парикмахеру полагается выдавать доллар сверх счета, хоть сейчас постричься дешевле чем за шесть долларов в Нью-Йорке нельзя. Таксистам следует давать 15 процентов сверх показаний счетчика, хоть нью-йоркское такси и без того очень дорогое.
Если лифтер помог тебе, следует дать на чай и лифтеру. И если тебе разрешили позвонить по телефону администратора в гостинице или в магазине, следует вежливо предложить деньги или просто положить 25 центов у аппарата. Надо усвоить, что задаром здесь никаких благ не схлопочешь; как сказал один певец: «Задаром только птички поют».
Если у тебя совсем ничего нет, не следует жить в гостиницах, засматриваться на такси, звонить по телефону и ездить в лифтах. Впрочем, что касается лифтов и безденежья, то и здесь оказался возможным вариант нетипичный, о котором я вычитал из «Нью-Йорк тайме» за 24 сентября. Цитирую: «Мать с двумя маленькими детьми, одному из которых только шесть недель от роду, вчера обнаружена в старом помещении для двигателя лифта. Там опи жили — под крышей, в Бруклине. Полицейский офицер Джон Костелло сообщил, что он наткнулся на них, совершая обычный обход по крыше здания на Саттер-авеню». Но это сообщение — для разнообразия, чуть отступая в сторону от темы письма…
Единственно, кому здесь можно не давать чаевых, так это музейным экскурсоводам: считается, что люди это очень интеллигентные, отчего должны обходиться малым. Но человеку, который, присвечивая фонариком, проводит тебя в зал после начала киносеанса, надо давать не меньше полудоллара. Есть даже старый анекдот о зрителе, который решил сэкономить, уставился на экран и сделал вид, что не замечает человека с фонариком. Тот помялся рядом, а затем наклонился к зрителю, которого только что привел, и сказал ему на ухо: «Убийца, которого ищут, — бухгалтер».
Так что чаевые надо давать. Я рассказываю тебе об этом, чтобы ты тоже знала, до чего здесь многое понятно и нескрытно; тем более что пока ты не постигнешь всех особенностей американского быта, жить будет трудно, а иногда и опасно. А когда постигнешь эти особенности, тоже не всегда становится легче. Впрочем, в Нью-Йорке много такого, к чему никогда не привыкнешь, и забавно наблюдать, как американцы вращивают это в свои логические системы. А теперь, как обычно, — вырезки из газет и журналов, которые я читал, живя в Нью-Йорке.
Пресса (15)
Из журнала «Тайм»,
9 августа 1982 г.
«Наконец он создан, убийственно великолепный подарок для мужчин и женщин, у которых есть все… В магазине Бижана, где клиентам предлагаются такие предметы, как покрывало на постель из меха шиншиллы за 95 тысяч долларов и флаконы мужских духов по полторы тысячи, предлагается за 10 тысяч долларов револьвер из золота… Владелец магазина, Бижан, сказал: „Я хотел сделать нечто очень американское. Я желал создать такой револьвер, что даже люди, ненавидящие револьверы, захотят иметь такой, чтобы трогать его и играться с ним, столь он прекрасен“. Итак, он создал в своих мастерских во Флоренции револьвер с рукояткой, вделанной в кожу, с барабаном, на который пошло 56 граммов чистого золота, с кобурой из меха норки…»
Из газеты «Дейли ньюс»,
13 октября 1982 г.
«Трое или четверо вооруженных людей вошли в аптеку на 18-й авеню около половины пятого пополудни и застрелили владельца Милтона Щера, 73 лет, дважды попав ему в голову. Тело его было найдено сидящим в комнате для отдыха в углу, — сказали полицейские.
Покупательница Роза де Женнарио, 34 лет, была убита одним выстрелом в голову. Де Женнарио зашла купить сигареты…».
Из журнала «ЮС Ньюс энд уорлд рипорт»,
9 августа 1982 г.
«В поисках юности, красоты и самоутверждения американцы все больше обращаются к хирургическому скальпелю — за новым лицом или обновленным телом…
Косметическая хирургия стала большим бизнесом в США: полтора миллиона людей расходуют около четырех миллиардов долларов в год, чтобы сделать „нечто прекрасное“ себе самим…
Все больше и больше американцев идут к врачам не потому, что они больны или травмированы, а потому, что они хотят лучше выглядеть и чувствовать себя более молодыми. „Гонки во имя жизненных благ становятся все беспощаднее, — говорит доктор Майкл Молнар. — Люди хотят пробиться на самые лучшие должности, и физическая привлекательность — это очень важно…“».
Из журнала «Ньюсуик»,
4 октября 1982 г.
«Одиннадцать миллионов официальных безработных американцев, к несчастью, умножаются почти таким же числом неофициальных безработных. Есть полтора миллиона растерявшихся рабочих, которые прекратили активные поиски места, потому что не верят в его существование, более шести миллионов человек заняты лишь часть рабочего дня, но хотели бы трудиться постоянно; четверть миллиона безработных, которым по 14–15 лет, которых и за безработных не считают, и больше миллиона рабочих, приобретающих новые профессии…
Только четыре миллиона триста тысяч безработных получают в настоящее время пособия по безработице…»
Из журнала «ЮС Ньюс энд уорлд рипорт»,
14 июня 1982 г.
«Внимание: безработица может оказаться опасной для вашего здоровья. „Существует выразительная и прямая связь между безработицей и физическим и умственным благополучием“, — сказал доктор Эллиот Либау.
В пригороде Детройта потребление успокоительных средств и лекарств против депрессии в этом году повысилось на 25 процентов. Количество больных, прибегающих к психиатрической помощи, возросло за минувшие полгода на 15–20 процентов. В Хартфорде, штат Коннектикут, половина всех рабочих, уволенных с завода авиакомпании, жалуется на плохой сон. Один из трех жалуется на боли в животе, один из восьми запивает…
Социолог Гарви Бреннер из университета Джона Гопкинса подсчитал, что повышение безработицы на один процент совпадает с тем, что на 4 процента больше людей попадает в тюрьмы, на 5,7 процента больше убивают, на 4,1 процента больше кончают жизнь самоубийством, на 4,3 процента больше мужчин и на 2,3 процента больше женщин впервые обращаются за помощью к психиатрам и на 1.9 процента больше умирают от болезней сердца, циррозов печени…»
Глава 9
На вечер в украинском клубе на Четвертой улице пришел Семен Кац. Клуб находится в районе, катастрофически обедневшем за последние полстолетия, и содержится на пожертвования стариков эмигрантов и их детей, внуков, родственников, доброжелателей. Удивительный это дом, с лестницей крутой и узкой, с уютными залами, в которые надо проходить сквозь маленькие прихожие и узкие двери, с баром, который оформили в начале тридцатых годов и с тех пор не переоформляли, отчего он выглядит, как шедевр дизайна в стиле «ретро». Люди, которые ходят сюда, в большинстве постарели вместе со своим клубом и знакомы уже по нескольку десятков лет.
Семен шел сюда с осторожностью прежде всего потому, что район этот давно уже стал городским дном и на тротуарах полно тех фигур, переступая через которые никогда нельзя быть уверенными, что тебя не схватят за ногу. Сюда, в район улицы Бауэри, могучие американские социальные центрифуги нашвыряли много тысяч людей: это давно уже символ безнадежности и последняя граница. В большинстве своем люди с Бауэри безразличны ко всему или злы сразу на все; чаще всего их чувства обобщенны, и в этом еще одна опасность. Здесь грабят или убивают молча или неожиданно; водители запирают все двери в автомобилях, чтобы никто не ограбил их на ходу; женщины пробегают по мостовой — подальше от грязных стен, к которым жмутся здешние обитатели. Можете мне поверить, что Семену Капу надо было набраться храбрости, чтобы прийти сюда пешком. Но он очень хотел видеть меня.
Я не знал, что он придет, и читал со сцены свои стихи, потому что пригласили меня именно для этого. Не могу сказать, что аудитория сплошь состояла из слушателей высокой квалификации, но сейчас мне были нужны именно такие. На этом островке доброты и устоявшейся в столетиях рабочей порядочности можно было перевести дух от всей злости, которой пропитывают людские души. Эти люди умели противостоять, умели хранить себя и сохранились в большинстве своем необозленными — с четкими критериями зла и добра. Поэтому, когда на фоне спокойных, внимательных и почти неподвижных лиц возникла фигура Семена Каца с бегающими глазами — глаза были видны со сцены, так как они увеличились от тревоги, — я сразу его увидел. Зал в украинском клубе широкий, но не растянутый в глубину, входная дверь прямо напротив сцены, и лампа над дверью хорошо высвечивает лица, поэтому я сразу его увидел. Семен Кац не искал, где бы сесть; он положил на лоток у входа пять долларов, там собирали добровольные пожертвования на ремонт клуба и на украинскую рабочую прессу — пожертвование становилось входным билетом; Семен прижался к стене, внимательно разглядывая меня.
Это был последний октябрьский субботний вечер, вечер Хеллоуина. У нас такого праздника нет; здесь молодежь, особенно детвора, надевает самые неимоверные маски — президентов, вурдалаков, красоток, этим добром завалены магазины, и ходит по квартирам, угрожающими голосами произнося: «Вырази уважение ко мне, или я тебе устрою неприятность». По-английски этот призыв звучит кратко и выразительно: «Трик ор трит!» Услышав такие слова, хозяева дома, в который постучались «хеллоуинщики», бегут за приготовленным подносом с конфетами и угощают детей.
По Бауэри ряженые детишки не ходят, в украинском клубе сегодня их не было; к тому же в газетах печатаются призывы к детям, чтобы сидели дома: я уже, кажется, рассказывал об этом, и о бритвах в помидорах, булавках в конфетах и яде в лекарствах тоже рассказывал. Существует учение русского физиолога Ухтомского о доминанте — очаге возбуждения, вокруг которого распространяется волна, возбуждающая другие центры; очаг этот должен быть, так сказать, «перевозбужденным», тогда и начинается иррадиация вокруг него. В американском обществе сходно: злость, которую провоцируют, всю адресуя нам, растекается и становится вандализмом, бессмысленным убийством, скрежетом зубовным. Старинный праздник для иных людей становится днем чудовищных преступлений; все это воплощается в формах, которые нормальным умом не всегда и вообразишь. Как обычно, вырезки из газет я приведу в конце главы — здесь только одна, потому что, выступая в клубе, я упомянул об этом. Все информационные агентства США передали сообщение, что власти штата Техас обратились в Верховный суд США за разрешением привести в исполнение смертный приговор Роналду Кларку О'Брайену. На празднике Хеллоуин мистер О'Брайен угостил собственного сына конфеткой с цианистым калием, надкусив которую мальчик умер на месте. Мистер О'Брайен предварительно застраховал жизнь своего сына на большую сумму.
На вечере я говорил об этом вовсе не для того, чтобы осудить выродка; мне был страшен уровень, на который сползла — может сползти — человеческая душа. Газеты продолжают писать о том, что в аптеках с открытой выкладкой лекарств раз за разом выявляют отравленные капсулы в баночках с безобидными лекарствами. Вакханалия эта длится уже два месяца, и ни один виновный не пойман — действуют не преступники-профессионалы, а налившиеся злобой, будто клопы кровью, обычные, самые обычные люди, у которых все доминанты сдвинулись навсегда.
Вот и читал я стихи о самых обычных людях, потому что именно по ним можно всегда судить о многом. На одном из полюсов президент призывает направить на мою страну и меня ракетный огонь, на другом полюсе насыпают крысиный яд в конфеты; как бывшему врачу мне совершенно ясно, что смысловая направленность в обоих случаях одинакова. Просто у мистера Рейгана есть ракета, а у мистера О'Брайена ее нет. Впрочем, последнего предложения я не произносил вслух; по статусу члена делегации, работающей в ООН, я не мог в американской аудитории комментировать действия американского президента — меня бы выдворили в двадцать четыре часа, а я еще хотел успеть кое-что. Например, выступить с чтением стихов, переговорить со старыми и новыми друзьями, побродить по Нью-Йорку.
…Под лампой у двери светилось лицо Семена Каца с глазами, вылезающими из орбит, — я никогда не видел таких больших глаз. Что-то случилось.
В зале было душновато, но люди сидели сосредоточившись, слушали внимательно и реагировали на каждое стихотворение. Определенно они понимали не все, опыт поэтических вечеров у них совсем мал. но перед началом выступления, когда на втором этаже клуба меня угощали варениками с творогом, женщина, лепившая эти самые вареники (на стене большое объявление: «Вареники на вынос — .2,45 доллара дюжина»), сказала: «Спасибо. Вы себе не представляете, до чего важно, что вы просто так взяли и пришли. К нам поэты не ходят. И стихи мы помним только те, мамины, с детства…»
Как много на свете всего, чем соединяются люди! Слова, память, работа — если я начну перечислять, список окажется долгим. Этим же люди и разъединяются: словами, работой, памятью… Мне очень обидно, что я не могу сейчас читать вам стихи, — в стихах все понятно. Впрочем, все бывает понятно и в прозе: Михайло Лагойда из Пасайка в штате Нью-Джерси присел со мной, заказал порцию вареников и рассказал, как он в тридцатые годы работал на шахтах в штате Пенсильвания, а на танцы приезжал с друзьями в Пасайк, городишко, вокруг которого и в котором было много швейных фабрик, а значит, много невест. «В пятницу вечером мы приезжали на танцы, а в понедельник утром опускались в шахты под чужую тяжелую землю, многие остались в ней навсегда…»
…Они сидели сейчас передо мной в этом широком зале, и если бы я мог, то поцеловал бы каждого. Весь этот зал — еще и аргумент в пользу того, что зло невсевластно: ведь сколько учили их, сколько запутывали, сколько раз лгали о нас и приказывали нас ненавидеть, а люди выстояли во всех штормах, сохранили себя, пронесли уважение к земле предков и надежду на то, что когда-нибудь их самая первая родина, первый корень, и та страна, гражданами которой стало большинство из старых трудовых эмигрантов, заживут в мире.
Саша Восток, потомок украинских горцев-лемков, молодой парень, преподающий славянские языки в школе, сказал мне очень точно: «Нам столько раз пытались внушить, что человек одинок, и что народ одинок, и что в сохранении этих одиночеств — единственный смысл жизни. А ведь резня, устроенная под израильско-американским покровительством в палестинских лагерях на ливанской земле, это и есть воплощенный национализм, великая мечта маленьких людей о господстве, о том, что страхом и силой можно подчинить себе мир… В Америке сейчас тоже поднимает рыло лютый американский национализм, И он еще натворит дел…»
Я стоял на сцене, глядел на Семена Каца и понемногу догадывался, почему он пришел. Накануне он позвонил мне и, запинаясь, говорил о том, что Володя в больнице, в госпитале святого Патрика, Семену даже не говорили, что с мальчиком. Он сам решил, что мальчик отравился конфетой: много таких случаев на этой неделе было в Нью-Йорке. Наверное, мальчика отпустили на Хеллоуин и он съел отравленную конфету.
Мне еще надо было прочесть много стихов; я показал Семену, что вижу его, но продолжал читать как ни в чем не бывало, а Кац отрешенно глядел прямо на меня и никак не реагировал на мои знаки. Что им читать?
Ну что я прочту восьмидесятилетнему Леону Толопко, многолетнему редактору здешней украинской газеты? Как я прочту ему, чтобы Толопко поверил каждому слову? Что я прочту Михайлу Ганусяку, чья жена сейчас умирает от рака в здешней больнице, а он ведь тоже пришел? Как отблагодарю за гостеприимство Михайла Торченко?
…Извини, Семен, погоди, постой там у двери: мне еще надо поговорить с людьми.
Вчера я обедал у Торченко и по телевидению увидел, как прекрасный британский шекспировский актер Алек Гинесс играет некоего мудрого вылавливателя советских шпионов: он нес ахинею, излагая свои взгляды и взгляды своего ведомства на революцию вообще и жизнь советских людей в частности, но с американских телеэкранов нынче можно услышать и не такое.
— Этому верят? — спросил я тогда у хозяина дома.
— Не очень. Надоело, — ответил мне Михайло Торченко, один из руководителей Лиги американских украинцев, объединяющей сегодня людей украинского происхождения, не забывших о своем доме и с уважением наблюдающих за судьбой Советской страны.
Торченко сделал короткую паузу и добавил:
— Впрочем, за пятьдесят шесть лет своей жизни в Соединенных Штатах я не помню еще такой оголтелой и наглой кампании против СССР, даже во времена маккартизма, кажется, было полегче. Мы живем здесь, в Бруклине, среди не самых богатых ньюйоркцев. Меня по два-три раза в день останавливают прямо на улице или в лифте наши негры, латиноамериканцы, чтобы сказать, что не таят за душой ничего плохого или враждебното к советским людям. Так что даже под грязным дождем разнообразной и крикливой антисоветчины люди сохраняют доверие. Кто я такой? Но, зная, что у меня много друзей в Советском Союзе, они обращаются именно ко мне, соседи мои, потому что и Рейган, и Уайнбергер — это еще не вся наша страна. Далеко не вся…
Михайло Торченко только что отпраздновал свое восьмидесятилетие. Его наградили советским орденом Дружбы народов, и он ездил получать его в Киев. Мне завидно, что он только что из Киева, а я уже давно оттуда, и мы вспоминаем общих знакомых, рассуждаем о том, насколько наши люди добры и гостеприимны. Телевизор, гудящий в углу, хочет увлечь нас погоней за неким Иваном, злодеем советского, естественно, происхождения. Поглядев немного на экран, Торченко медленно протягивает руку, гасит его и произносит слова, которые даже в утратившей тормоза здешней прессе почти никогда не печатаются. В душе я произношу слова точно такие же, и мы оба смеемся.
Рассказываю об этом со сцены Рабочего дома и щелкаю пальцами, будто выключаю телевизор. Все улыбаются, не улыбается только Семен Кац у двери. Погоди, Семен, подожди еще чуть-чуть.
…Когда я перед отъездом сюда заходил в наше представительство при ООН, мне дважды пришлось проталкиваться сквозь полицейские ограждения. С обеих сторон, блокировав подъезды к советской миссии, орали голосистые человечки в ермолках (нечто подобное видел я в старых кинохрониках, когда гитлеровские штурмовики громили еврейские магазины в довоенном Берлине). Все время звонят по телефону какие-то болваны, с акцентом ругающиеся в трубку, — с фантазией у них плохо. Только что в Сеуле выступил американский генерал-майор Синглауб, а на Тайване — советский дезертир Солженицын: оба повторили рейгановский призыв к «крестовому походу» на социализм вообще и на Советский Союз в частности. Здешний президент произнес формулу о «крестовом походе» минувшим летом, специально съездив для этого в Англию; президентская рать вступила в дело немедленно — антисоветские акции бессчетны. Время от времени «крестоносцев» со всей страны собирают на инструктажи, и они радостно попискивают, предвидя, сколько всего им выдадут под такие вот времена.
Но жизнь все-таки продолжается: мне довелось видеться с профессурой нескольких университетов, выступать по здешнему радио, читать стихи в разных аудиториях, всякий раз ощущая живой и честный интерес к нашей стране и людям ее. Жизнь продолжается. Человек, которого в этот раз взяли на роль президента, при всем своем голливудском опыте не может не ощущать, что народ Америки ведет себя совсем не так, как послушная массовка в ковбойском фильме.
Я рад, что в Америке не все просто: только что Аверелл Гарриман, посол США в СССР в самые тяжелые военные годы, пожертвовал одиннадцать миллионов долларов на то, чтобы лучше изучать в Колумбийском университете все связанное с нашей страной. Он сделал это явно в пику нынешней администрации, сказав, между прочим, что «в Советском Союзе больше учителей английского языка, чем в Америке изучающих русский язык». Это хорошо, что страна и ее город Нью-Йорк велики и сложны — говорю об этом в зал и понимаю, что надо читать стихи, ибо снова оказываюсь перед соблазном заняться тем. что в Соединенных Штатах зовется «агитация» и чем иностранцам заниматься не положено.
…Когда вечер закончился и народ схлынул, ко мне подошел Семен Кац, сказав трагическим голосом, что Володя исчез. Семен сумел прорваться в госпиталь святого Патрика и нашел там знакомую, которая подтвердила, что мальчик тяжело отравился, — кто знает, чем именно? Утром, когда дежурная сестра зашла к Володе в палату, того не было. И нет до сих пор. Семен Кац глядел мне в лицо своими огромными трагическими глазищами, повторяя, что Володя исчез. Его нет у Марты, там тоже ищут, его нет нигде…
— А вы стихи читаете… — сказал Семен.
Я поглядел на Каца, обвел взглядом слушателей, медленно выходящих из зала, и грустно улыбнулся.
Пресса (16)
Из газеты «Нью-Йорк таймс»,
22 октября 1982 г.
«Аверелл Гарриман объявил вчера, что он и его семья жертвуют одиннадцать с половиной миллионов долларов Русскому институту Колумбийского университета на развитие в Америке процесса изучения Советского Союза, уровень которого, по мнению многих специалистов, резко снизился…
„Совершенно необходимо, чтобы в этой стране знали, что происходит в Советском Союзе“, — сказал господин Гарриман. — Много ложной информации, начиная с той, которой владеют высшие должностные лица в правительстве, — добавил он. — А строить политику на незнании и иллюзиях очень опасно. Политика должна основываться на знании и понимании».
Из газеты «Нью-Йорк пост»,
1 ноября 1982 г.
«Ужас охватил вчера город в связи с душераздирающими событиями, разыгравшимися во время праздника Хеллоуин, включая смертельно опасные отравления сладостями, прохладительными напитками, пирогами и даже зубной пастой…»
Из газеты «Америка»,
27 октября 1982 г.
«Американский раввин Меир Кахане, основатель так называемой Лиги защиты евреев, на днях опубликовал листовки, в которых одобрил массовое убийство палестинского гражданского населения в лагерях Сабра и Шатила возле Бейрута 16–18 сентября с. г., назвав его „местью Иеговы мусульманам“. Он обругал всех евреев, которые осуждали эти массовые убийства, назвав их предателями и заявив, что „мы сами должны были сделать то, что сделали для нас другие“».
Из журнала «Тайм»,
18 мая 1982 г.
«Замечательный способ отключиться от мира сего.
Симптомы: глаза сфокусированы на среднее расстояние, широкая, постоянно меняющаяся улыбка и загадочные металлические накладки на ушах. Тело может дрожать, имитируя буги. Иногда руки взлетают вверх, подражая дирижерским движениям. Без сомнения, это эпидемия… На улицах, в парках, на велосипедах и в автобусах новейшая игрушка на полупроводниках — это портативный стереомагнитофон.
…Мнение детройтского психолога Гейла Паркера: „Распространение этих вещей — еще один результат „общества эгоистов“. Эти машинки очень эгоистичны. Когда кто-нибудь погружается в громкую музыку, он тем самым посылает остальному миру сигнал оставить его в покое“. Бизнесмен Вейд Шилдерс, слушающий Дворжака в центре Манхэттена, сказал: „…Я теперь улыбаюсь, когда хожу, потому что мне нравится слышать то, что я слушаю…“»
Письмо (14)
Милая моя, начинаю письмо к тебе с известий совсем не дипломатических, но меня по-настоящему взволновало исчезновение Володи. Только что он был и вдруг испарился, исчез, ушел; это странно, хоть больница не охраняется и все ходят по коридорам в своей одежде, а врачи без халатов; обстановка вполне домашняя — во всех американских больницах так. Паренек отравился или ему вправду подсунули на Хеллоуин отравленную конфету; в истории болезни записано острое отравление, хоть характер яда не указан. Адвокат Кренстон ходил в больницу, бедный Семен Кац обрывал телефоны, полиция пожимает плечами: Володя-Уолтер растворился в нью-йоркском тумане. Может быть, все это вранье — для того только, чтобы отвязаться от судов и упростить борьбу за мальчика, но очень уж натурально плачет его тетка Марта: когда я увидел ее опухшие глаза и лицо, белое, как бумага, то подумал, что если здесь кто-то играет, то без нее.
Знаешь, если я буду сводить эти записи, письма и вырезки в книгу, то, возможно, назову ее одним словом — «боль». Больно смотреть, до чего измучилась великая страна. Делая вид, что каждая боль сама по себе — отдельно неприятности, отдельно инфаркты, — Америка не любит задумываться над тем, что постепенно становится творцом ненависти в мире и у себя дома, а опухоль эта, разрастаясь, уничтожает ее же изнутри. Имею в виду ту часть страны, которая кричит в телевизорах и пишет в газетах о том, что надо наращивать одну только силу мышц, а не силу духа, благородства и памяти. С Америкой сейчас происходит такое, что будет ей аукаться и откликаться в ней еще много десятилетий подряд.
И все-таки Володя потеряться не мог: куда он пойдет здесь? Он и языка-то не знает толком, он ничего здесь не понимает. Был бы взрослее, хоть позвонил бы в советское представительство, но у него же, наверное, нет не только номера телефона, но и десяти центов на звонок из автоматной будки.
Я так и не побеседовал с пареньком — все было сложно, и, возможно, он не ведает обо мне толком; разве что говорили ему: надо меня, мол, остерегаться. Он где-то капелькой в потоках «бродячей нации» (так называли Америку в тридцатые годы) — где он? Народ Америки очень мобилен — далеко не всегда от хорошей жизни. Сейчас каждый пятый американец в течение года переезжает из штата в штат; все именно так — ищут где глубже и где лучше, а находит не каждый. Ни у кого из моих знакомых американцев взрослые дети не живут вместе с родителями (только в двух эмигрантских семьях, но это скорее наша, славянская традиция в чужом доме). Если Володя вправду удрал, он врастает в огромную толпу: из молодых людей работы не имеет каждый четвертый.
Боль. Все здесь вместе, все заодно: угрожая нам смертью, Рейган убивает собственный свой народ, лишаясь работы, люди учатся воровать, лгать — все это безусловная правда.
Я с болью смотрю на Америку. Бывая в этой стране, нельзя не проникнуться уважением — даже завистью к трудолюбивым, неутомимым людям, распахавшим и застроившим эту землю. Они собрались сюда со всего света и конечно же заслуживают лучшей судьбы. Я употребил слово «зависть», потому что, если бы в массе своей наши люди трудились бы с такой же производительностью и самоотдачей, как на здешних заводах и фермах, мы жили бы намного богаче. Но в то же время не дай нам судьба испытать все тайфуны ненависти и бесчеловечности, рвущие здесь с мачт флаги человеческих уверенностей, достоинства и благородства. Не дай нам бог вытерпеть все, что валится на головы не только американским взрослым, но даже детям. Не удержусь и еще в тексте процитирую одну здешнюю газетенку предельно антисоветского свойства, но тем более к месту ее свидетельство. Это из так называемой «Свободы» за 29 октября: «В Нью-Йорке проходит ежегодный конгресс врачей-педиатров, на котором с главным докладом выступил доктор Эверетт Куп. Он подтвердил тот факт, что преступность и насилие среди молодежи приобрели характер эпидемии, став и крупнейшей медицинской проблемой.
Куп обратил внимание собравшихся на то, что теперь преступлений станет еще больше, даже в семейном быту, потому что семья в США находится в опасности ввиду растущей безработицы и размывания принципов морали… Многие дети совершают попытки к самоубийству. Доктор Эверетт Куп обвинил в росте преступности среди молодежи также телевизионные программы и кинофильмы, хотя сам он не является сторонником цензуры. Куп сообщил, что каждый ребенок до 18-летнего возраста успевает увидеть на экране примерно 18 тысяч убийств. Это приучает его к насилию настолько, что, встретившись с ним в реальной жизни, молодой человек относится к нему будто к чему-то обыденному».
…Думаю, что будут и другие времена, надеюсь, что Америка выживет. Но, отряхиваясь от сегодняшней мрази. она долго еще будет носить шрам на душе.
Уроки ненависти не бывают бесследными. Ведь что интересно: после второй мировой войны американцы возвращались с фронтов, ощущая себя героями; после разгрома фашизма их целовали на улицах и уважают за те сражения до сих пор. Зато вьетнамская — недавняя — война запомнилась совсем по-иному. Далекая и чужая, эта война разделила и изувечила души если не целого поколения, то большей его части; когда Рейган пробует сегодня вызвать уважение к ветеранам вьетнамской войны, включая сюда открытие нелепого вашингтонского мемориала с именами убитых во Вьетнаме американцев, у него ничего не выходит. Грязная война, в которой участвовали около трех миллионов граждан США, оставила на поле боя около шестидесяти тысяч трупов в форме американской армии; более ста тысяч возвратились искалеченными и тяжелобольными, а многие так и не научились жить заново без убийств.
В конце октября в нью-йоркских кинотеатрах состоялась премьера фильма «Первая кровь» с модным сейчас Сильвестром Сталлоне в главной роли демобилизованного вьетнамского ветерана, бывшего «зеленого берета» Рамбо. Отравленный, как и его однополчане, ядом, который американцы сыпали на азиатские джунгли, уничтожая листву, и еще больше отравленный привычкой к постоянным убийствам, Рамбо уходит в американский лес, пытаясь превратить его в привычные вьетнамские тропические заросли, и стреляет, стреляет, стреляет. Его пытаются уничтожить с вертолетов, из засад — и, в общем, уничтожают, но Рамбо в конце фильма произносит, захлебываясь в слезах и крови, долгий монолог, желая объяснить всем, почему он именно такой. Не может объяснить…
«Верните вьетнамских ветеранов домой!» Этот лозунг нынче пропаганда здесь повторяет во множестве вариантов, но он неисполним, потому что люди ушли в ненависть, а, пропитавшись ею, возвратились совсем иными.
Страна сошла с колес не сегодня: катастрофа готовилась исподволь. Все складывалось одно к одному: Вьетнам, ближневосточные кризисы. Уотергейт и смещение Никсона-и все прорвалось в сегодняшней истерике. Стало страшно, и сегодняшняя «Нью-Йорк таймс» пишет напрямую: редакторы хорошо понимают, что прежние президенты тоже не пылали любовью к нашей стране, но такого не бывало ни при одном. Цитирую: «Администрация Рейгана проводит ядерную стратегию, которая на 180 градусов расходится с политикой всех президентов со времен Эйзенхауэра… Начиная с пятидесятых годов в политике Соединенных Штатов делался упор на важность предотвращения ядерной войны, обеспечения ядерной стабильности и уменьшения вероятности случайного возникновения ядерного конфликта… Сейчас администрация Рейгана быстро движется в противоположном направлении, а ее политика в значительной степени увеличивает риск термоядерной катастрофы».
Здесь постепенно отучиваются мыслить категориями одного человека или даже тысячи человек. На конференции в Колумбийском университете Нью-Йорка только что выступал профессор-радиолог Герберт Абраме, спокойненько так подсчитавший с трибуны: «Если бы взорвалась 65-мегатонная бомба, то за несколько минут погибло бы 83 миллиона человек, а 137 миллионов умерло бы в течение ближайшего месяца».
Не знаю, кем надо быть, чтобы вести дело к этому. Но великая ненависть, как и великая любовь, ослепляет…
Ну ладно, когда я возвращусь, расскажу тебе обо всем этом подробнее. А пока я искренне огорчен тем, что пропал Володя, — неужели он не отзовется, не сыщется? Хуже всего, когда с детьми что-то не так, потому что это беда, направленная в будущее; с детьми не должно случаться ничего плохого — пусть уж лучше со взрослыми, с нами, мы выдержим.
На этом я, пожалуй, закончу. Дальше — несколько вырезок: Америке тревожно от того, что делается с ее сегодняшними и завтрашними взрослыми. Где уж им Володю искать…
Пресса (17)
Из журнала «Ньюсуик»,
18 октября 1982 г.
«Нация убежавших детей.
Новое поколение американских подростков в бегах, зачастую это шаг отчаяния. Они менее всего похожи на своих романтических предшественников от Гека Финна до детей-цветов, а больше похожи на беженцев… „Эти дети бегут от чего-то, а не к чему-то“, — сказал Рассел Франк, директор Бостонского приюта для беспризорников. Около половины спасаются от физических мучений, включая сексуальные покушения. Все больше „экономических беженцев“, брошенных безработными родителями, которые больше не могут их содержать… Иные, которых и не гонят из дому, изгоняются оттуда насилием, пьянками и другими признаками упадка семьи. „Четырнадцатилетний подросток неспособен отчетливо уяснить себе, что его отец впал в депрессию от потери работы, — говорит вашингтонский специалист по общественным отношениям Робби Каллавей. — Чем хуже становятся экономические обстоятельства, тем больше и больше детей оказывается на улице…“ В Соединенных Штатах не ведется компьютерный учет пропавших детей, как ведется учет пропавших автомобилей, но, по самым скромным подсчетам, ежегодно более миллиона детей в возрасте от десяти до семнадцати лет уходит из дому…»
Из журнала «ЮС Ньюс энд уорлд рипорт»,
9 августа 1982 г.
«…Взросление в Америке таит в себе больше боли, чем радости… Многие из 47,6 миллиона детей Америки, которым нет еще четырнадцати лет, заброшенны или страдают…
Ребенок в пригороде Чикаго, как многие дети, чьи родители работают, жалуется, что видит свою маму только полчаса утром и несколько часов ночью… Двухлетний мальчик в Нью-Йорке был двадцать раз ранен двенадцатидюймовым ножом. Его мать обвиняется в попытке убийства…
Семимесячный фермерский ребенок па Флориде умер от инфекции — смерть можно было бы предотвратить, если б ребенок не был так истощен…»
Число сообщений об истязаниях детей возросло от 413 тысяч в 1976 году до 789 тысяч в 1980-м.
Из газеты «Дейли ньюс»,
23 сентября 1982 г.
«Четырехлетний мальчик на Манхэттене, рассерженный своим пятилетним кузеном, ударил его ножом для бифштексов, сообщили нам вчера из полиции».
Из газеты «Нью-Йорк таймс»,
23 сентября 1982 г.
«Четырнадцатилетний мальчик обвинен прошлой ночью в убийстве: он убил ножом свою мать, когда та отказалась помочь ему с домашним заданием».
Из журнала «Ньюсуик»,
11 октября 1982 г.
«Подростки часто рассматривают ядерную угрозу как последнюю обиду, нанесенную им взрослыми. Вот что записал в своем дневнике десятиклассник из Бостона: „У меня уже нет детства, которое можно уничтожить. Детство сейчас запрограммировано на самоуничтожение“».
Глава 10
По четвертому каналу нью-йоркского телевидения идет программа городских новостей. В промежутках между сообщениями о сгоревших, задушенных и зарубленных топором старушках (где-то бродит американский Раскольников) передают рекламные ролики самых шумных бродвейских мюзиклов «Эвита» и «42-я улица». Все это идет вперемежку — подвижные лица театральных див и судорожные старушечьи личики, застывшие навсегда. Мне уже скоро отсюда улетать, дней через двадцать, но нью-йоркские калейдоскопы приносят картины муки, стасованные с картинками красоты, и память восстанавливает точно такие чередования.
Это очень усталый город. Он устал от бедности и богатства, от своих достижений и своего фанфаронства; у него полные легкие уличной пыли и звонкая глотка знаменитых певцов из оперы «Метрополитен»; здесь бывает страшно выйти на улицу, где могут убить за доллар, и на здешних улицах можно встретить самых великих мудрецов планеты; все вместе, все подряд, все это Нью-Йорк. Я постоянно ищу точки, с которых этот город не только виден, но и ощущается лучше всего; ищу, чтобы постоять там с вами вместе. И не обязательно за стальными кольями на вершине небоскреба Эмпайр Стейт билдинг или новых близнецов-небоскребов; мне хочется, чтобы вы не только увидели, но и ощутили Нью-Йорк. К тому же в последние дни — это как навязчивая идея — я ищу в толпе лицо вчерашнего советского школьника, которое растворилось где-то в этом течении, унесено им, как река уносит все, что в ней отражается, и все, что попадает в нее.
Я рассказывал вам о том, что мне запомнилось самому, и переводил вам из газет то, что, мне казалось, вам надо знать, и все равно понимаю, что книга эта ни в коем случае не энциклопедия, а скорее мгновенный снимок. И еще рассказ о том, как этот город переполняли адресованной нам злостью и что из этого выходило. Все подряд — выпученные глаза ограбленных и придушенных старушек и переливы драгоценных шуб на профессиональных красавицах, чьи ноги и плечи застрахованы на огромные суммы; бесценные картины из музея Метрополитен и разрисованные физиономии модников-панков, при виде которых переходишь на другую сторону улицы.
Стоп. С улицы и начнем. Перекресток Седьмой авеню и 42-й улицы с Бродвеем распространяет свое сияние на несколько кварталов и зовется Таймс-сквер, площадь Таймс, и нарекли его так с 1904 года именно в честь газеты, чей 25-этажный небоскреб красовался на южном полюсе Таймс-сквер. Я давно хотел заглянуть сюда с вами; однажды собирался прийти с Кэт — не получилось; а сходить па Таймс-сквер обязательно надо, хотя бы потому, что американцы зовут это место «главный перекресток мира».
В каком-то смысле это вправду очень важный перекресток, потому что многие пути сходятся здесь. Обычные, среднего класса, ньюйоркцы появляются тут редко, зато каждый турист непременно посещает Таймс-сквер, отчего перекресток по виду и по говору — самое многонациональное место в Нью-Йорке. Здесь же самая высокая концентрация служащих полиции — в форме и в штатском, потому что каждое четвертое ограбление в Нью-Йорке случается именно в этих местах. Здесь самая высокая концентрация проституток, и примерно раз в два месяца производящиеся облавы не приводят к решительной победе над девицами легкого поведения.
Ближе к вечеру здесь можно приобрести завтрашние газеты и круглосуточно можно покупать порнографию. Бывали случаи, когда люди, прибывшие из стран, не охваченных «порноцивилизацией», теряли сознание в здешних кинотеатрах и магазинах, переполнившись неожиданными впечатлениями. Но это относится к фактам привычным и служит вящей славе порнографического бизнеса, давно уже сведшего отношения полов на уровень технологии, подробно разработанной и отснятой как для пособий.
Здесь же работают книжные и сувенирные магазины, распахнутые для вас в любое время ночи и дня. Правда, все, что вы купите здесь, будет стоить дороже, чем где бы то ни было, — надо оплачивать охрану, надо платить за право торговли на «главном перекрестке», а это дорого стоит.
Реклама здесь не изобретательна: ее много, но нет в здешней рекламе изысканности телевизионных миниатюр, ироничной интеллигентности, с которой в журналах рекламируются виски «Чивас Регал» или сигареты «Бенсон энд Хеджес». Мелькание цветных огней на Таймс-сквер выполняет скорее декоративную функцию, придает настроение всей окружающей местности. Впрочем, и торговля здесь рассчитана на публику провинциальную или сверхнаивную — с хватанием за полы, ударами по рукам, слезами, криками о том, что такому человеку не жалко даром отдать. — и, запуганный всеми этими воплями, покупатель выходит, как правило, из магазина с ненужной вещью в руках, которая чаще всего испорчена еще до продажи. Впрочем, здесь можно купить вполне исправный пружинный нож и шерифскую звезду с номером, пластикового паука, которого рекомендуют незаметно опустить приятелю в суп или его жене в сумочку, кучки кошачьего помета, очень похожие на настоящие, и еще такое, о чем я стесняюсь рассказывать. Все это можно приобрести, но при попытке протестовать или обсуждать с продавцом смысл и качество своей покупки, можно тут же схлопотать по шеям, причем основательно, так как большинство отставных нью-йоркских боксеров-профессионалов завершают свои карьеры, работая охранниками в магазинчиках на Таймс-сквер.
Здесь можно купить себе накладной нос, выполненный в виде совсем другой части тела, надувного нейлонового президента Соединенных Штатов, кольцо с бриллиантом в десять каратов, носки в розовую, желтую и сиреневую клетки, а к ним смокинг с серебряными отворотами. Меня всегда интересовало, кто это покупает; но раз магазинчики на Таймс-сквер существуют, то должны существовать и покупатели — иначе в Америке быть не может.
В Америке вообще, и в Нью-Йорке в частности, у большинства из крайностей должен быть другой полюс, так сказать, товар на иной вкус. Вокруг Таймс-сквер расположены лучшие театры страны; когда-то здесь были сосредоточены и залы самых великих кинопремьер, но до наших дней дожили только театры. Дожили, выстояли в бурях, изменились, но держатся.
Когда-то здесь царило кино, то самое, образ которого жив не только в памяти людей совсем уже пожилых, но и в моей памяти. Помню кинопремьеру «Моей прекрасной леди» — мюзикла по «Пигмалиону» Бернарда Шоу- с плюшевым занавесом перед экраном, с антрактом между двумя сериями, с живым оркестром, игравшим увертюру перед началом сеанса, со зваными гостями, чьи бриллианты сияли ярче люстр. Было это в середине шестидесятых годов, но за минувшие почти двадцать лет весь район некогда славных кинотеатров стал другим. Мигающие, а вернее подмигивающие рекламы зовут на фильмы, обозначенные крестиками, что предупреждают о сугубой непристойности фильма и о том, что дети не допускаются. Крутят откровенную, вполне нахальную порнографию даже без намека на художественность — так сказать, инструктаж для нуждающихся, — крутят и порнографию с претензиями на художественность: от «классики жанра», фильмов «Габриель» и «Глубокая глотка» до относительно нового «Калигулы». И ничего больше; сеансы идут «нон стоп», то есть свет в зале не зажигается никогда, и можно все это дело смотреть с середины, с конца и сколько выдержишь раз подряд. Выдерживают немногие — честное слово, это неинтересно; но кинотеатры живут, значит, зритель имеется, а билеты продаются — шедевры типа «Ужин в борделе», «Оргия в монастыре» или «Стюардессы без белья» (несколько названий из тех, которые можно привести) продолжают потрясать воображение туристов из добропорядочной американской глубинки (подобные зрелища разрешены далеко не везде) или приезжих из стран, где ничего такого не показывают.
И все-таки контраст разителен, потому что слева, с западной стороны Бродвея, вечерами вступает на Таймс-сквер народ театральный, изысканный, и вывески приглашают на спектакли высокого класса: по крайней мере одно-два таких представления в Нью-Йорке идут всегда. Отбор актеров очень суров; здешние театры не репертуарные, как у нас, а играют всего один спектакль изо дня в день, пока зрители покупают билеты. А билеты недешевы: на «Эвиту», скажем, или на «Котов» хорошие места стоят около сорока долларов каждое — это цена вполне приличного кассетного магнитофона, радиоприемника, хороших часов или примерно восьми — десяти билетов в лучший кинотеатр. Но на удачные спектакли места все равно следует заказывать наперед, и они продаются таким образом, что театральные кассы бывают закрыты неделями ввиду аншлагов: мечта администраторов всего мира.
Но одна касса особенная. В центре Таймс-сквер, возле огромной строительной площадки, разрытой под очередной небоскреб, стоит обычный киоск, похожий на наши газетные, где продаются все до сих пор не реализованные билеты на сегодняшние спектакли в окрестных театрах. Билеты продаются с очень большой скидкой, и с утра можпо видеть огромные очереди, иногда протягивающиеся на целый квартал, и людей, жаждущих зрелища. Многие пришли сюда наугад, а многие — наглядевшись телереклам. Наиболее шумные и дорогие спектакли не жалеют денег на рекламу, на показ самых эффектных и завлекательных сцен. Существует узкий круг театральных рецензентов, особенно таких авторитетных, как пишущие для главных изданий Нью-Йорка; судьба спектакля в огромной степени зависит от них, потому что американцы неохотно посещают представления, о которых не пишут. В театрах есть даже специальные агенты по связям с прессой, которые занимаются раздачей контрамарок и организацией обедов для театральных критиков в таких знаменитых артистических ресторанах, как «Сарди» или «О'Нил». К тому же статья из «Вашингтон пост» — ньюйоркцам не указ; они читают свои, местные газеты и больше всего верят им. Так что спектаклю еще следует побороться за свое доброе имя, прежде чем на него пойдут…
Но, чтобы сыграть в таком спектакле, надо пройти очень суровый отбор; на роли претендуют сливки театральной Америки, а порой и кинозвезды с мировой репутацией (сейчас, например, играют и репетируют Элизабет Тейлор, Рашель Велш, Ричард Бартон). Из тридцати тысяч профессиональных актеров, зарегистрированных в Нью-Йорке, кое-какую работу имеют лишь около шести тысяч. На днях по телевидению показывали конкурс, который проводился даже не театром, а местным цирком, пригласившим на временную работу семь танцовщиц, которым надо будет сопровождать выход слона. За эти семь мест соперничали около ста профессиональных балерин, хотя, сами понимаете, что работа эта в творческом отношении не ахти. Но когда нет никакой работы…
В 1920 году здесь было восемьдесят театров, сейчас вдвое меньше, но каждый из выживших сорока сосредоточил у себя лучшие актерские силы и все возможности, какие только смог. Делят эти театры на «бродвейские», «внебродвейские», «вневнебродвейские», а сейчас еще появились и «вне-вне-вне». Часть из нихперестроенные кинотеатры, часть — старые театральные залы с купеческой лепниной конца прошлого века или модернистскими орнаментами начала нынешнего. Театральные залы сдаются в аренду труппам, ставящим тот или иной спектакль, — само название зала ничего не говорит, потому что, по сути, здесь все гастролеры — зачастую приглашенные из дальних мест именно в эту пьесу. Эдвард Олби, один из ведущих сейчас драматургов Америки, пригласил меня на репетицию спектакля, который готовили но его адаптации романа «Лолита» Набокова; замысел спектакля, по словам Олби, возник прежде всего из того, что была актриса, идеально подходившая па роль героини. Здесь любят ставить «на актера», «на имя», и подчас целое предприятие разворачивается вокруг решения кинозвезды немного поработать в театре; большинство голливудских звезд рано или поздно приходят на нью-йоркские сцены. Здесь ставят Шекспира и Беккета, Чехова и Осборна; здесь играют немало глубоких пьес, и здесь пойдет антисоветчина, если найдется тот, кто заплатит за постановку (находится, платит…). Но лицо театрального Бродвея определили в последние годы мюзиклы; мюзикл очень зрелищен, в нем есть простые и запоминающиеся мелодии, проблемы его рассеяны в тысячах блесток и в тоннах мишуры, становясь необременительными для зрительских извилин, растворяясь в музыкальном сиропе. Правда, мюзикл и стоит подороже — это риск; год назад «Франкенштейн» обошелся в два миллиона, а провалился с треском уже на премьере; но, возвращая вложенные деньги, успешно идет сейчас мюзикл «Девушки из мечты», а спектакль «Кордебалет» принес уже около сорока миллионов долларов прибыли. В этом сезоне бродвейские театры уже продали десять миллионов билетов на сумму 222 миллиона долларов — это подчеркивает, до чего бизнес огромен, но ничего не говорит о содержании представлений.
Если не думать о содержании, то можно сказать, что здесь доминирует бытовая комедия — политический накал спектаклей резко снизился; из представлений, хоть как-то задевающих мировые проблемы, идет лишь «Эвита» — мюзикл о покойной супруге бывшего диктатора Аргентины. Можно сказать, что в нынешние тяжелые времена Бродвей потускнел и стал гораздо более обывательским, чем когда бы то ни было. Об этом пишут, спорят, анализируют и подчеркивают, что если в первое время здешние театры откликнулись на приступы начальственных антисоветских истерик, поставив несколько спектаклей «на русские темы», то постепенно стало ясно, что зрители не идут на пьесы, выглядящие как продолжение диссидентских воплей. Бродвей все более становится — и стал — предприятием чисто коммерческим, со всеми последствиями этого. Бродвей развлекает, и в этом качестве он наиболее популярен. Есть такое понятие: «шоу бизнес» — на Тайм-сквер центр именно этой разновидности искусства; здесь открыто говорят о том, что искусство — еще и способ делать деньги, хорошо зная, что в Америке деньги всем достаются трудно — и актерам, и зрителям.
Я не прикасаюсь к музыке и балету — это не на Бродвее, а, как правило, в больших залах Манхэттена, использующихся порой не только для симфонических концертов и балетных спектаклей, но и для боксерских матчей и митингов самого разного свойства. На пересечении Бродвея с Десятой авеню расположен Линкольн-центр, а в нем — Метрополитен-опера, один из бесспорных центров мирового оперного искусства. Ради одних лишь таких теноров, как Паваротти или Доминго, стоит заплатить огромные деньги за хороший билет. По принципу своей организации — опера здесь вполне американская — сюда приглашают актеров со всего мира на сезон или на спектакль; очень хорошо вспоминают здесь Елену Образцову, Анатолия Соловьяненко, Евгения Нестеренко и других наших певцов, выступавших в «Метрополитен» (или в «Мет», как называют ньюйоркцы свою оперу, — здесь много постоянных зрителей, здесь спокойно: это не бродвейская суета, а Верди, Мусоргский, Чайковский, Пуччини, Моцарт…).
Маленькие модернистские театрики, небольшие сцены, где играют «пробивающиеся» труппы, разбросаны по всему городу; их нельзя ни обойти, ни учесть. Но, если у вас будут свободное время и деньги, поглядите в «Нью-Йорк таймс», где что идет, и катите на метро по нескольким адресам — это может быть интересно. Да и сама поездка в нью-йоркском метро — тоже род представления… Один только совет: в метро лучше ездить не одному, а с приятелем внушительного вида, особенно если вы еще не столь хорошо знаете Нью-Йорк. И старайтесь сесть в первые вагоны поезда — обычно там дежурят полицейские.
Путешествовать в нью-йоркском метро с девушками надо лишь в самом крайнем случае. Метро огромное, широко разветвленное, запутанное, неимоверно грязное, переходы пахнут мочой, а на стенах переходов и вагонов начертаны такие слова, которые, считается, юные девы не должны знать. Впрочем, время от времени линии метро вырываются на поверхность, сияя своими лексиконами с гулких металлических эстакад…
Но у меня не было денег на такси, не было свободного представительского автомобиля, а метро предлагало свои услуги всего за семьдесят пять центов в один конец. Выбора не было, тем более что я решил попутешествовать самостоятельно, съездить на пресловутый Уолл-стрит и к Бруклинскому мосту, который так нравился Маяковскому. В Нью-Йорке есть места, в глубинной жизни которых я мало смыслю. Уолл-стрит со своими банками, со знаменитой биржей всегда остается для меня загадочной и немного страшноватой опушкой бетонного леса, куда боязно входить. Но есть атмосфера площадей, улиц, которую ощущаешь немедленно, которую нельзя не ощутить, будь то сосредоточенная торжественность московской Красной площади, карнавальность римской Виа Венето и нарядность парижских Елисейских полей, уют тбилисского проспекта Руставели, киевского Крещатика или Вацлавской площади в Праге. Атмосфера Уолл-стрита схватывается сразу же — с мальчиками-рассыльными, несущими в конторы подносы с закупоренными пластмассовыми стаканами кофе; с жуликами, которые здесь же, на тротуаре, предлагают вам сразиться в «три листика», игру, при помощи которой доверчивых киевлян обирали в самом начале века и, может быть, еще раньше. Приемы жуликов неизменны: трое свидетелей, которые время от времени картинно выигрывают огромные суммы и орут по этому поводу на всю улицу, зазывая других попытать счастья; угрюмый банкомет-фокусник, шныряющий зрачками во все стороны.
Уже выходя из метро, ощущаешь, как эта улица пахнет деньгами. Здесь самая высокая концентрация прохожих в галстуках и белых воротничках; здесь можно мгновенно растеряться, войдя в биржу, где каждый кричит и жестикулирует, вздымает пальцы, сигнализируя ими партнеру о миллионных операциях. Такие движения пальцем просты, как нажатие на курок, но, если глядеть поверх голов биржевых маклеров, видишь только шевелящиеся пальцы, разговаривающие пальцы, будто проходит семинар по технике восточного танца. Это улица с потаенной жизнью; здесь даже рестораны оборудуются скрытно, в глубине зданий, дабы чужой слух и нежелательный взгляд не проникали в тайны банкирских трапез и деловых разговоров за ланчем. В Америке многое напоказ, но не здесь, не на Уоллстрите; здесь все затаено и завешено, здесь почти нет витрин, и лишь по маленьким медным табличкам у входа, а то и вовсе по алфавитному перечню у лифта можно понять, где находятся штаб-квартиры главных финансовых богов здешнего денежного Олимпа. Здесь узнают человеческую цену по лицевому счету, а пока он неизвестен — по марке автомобиля, по кольцу на руке, по нашивке на подкладке пальто. Но знают наверняка: здешние швейцары отработали технику распахивания входов до совершенства, зная, перед кем открывается какая дверь и насколько.
Это дневная улица. Если многие улицы в центре Манхэттена оживают к вечеру, а знаменитый Таймс-сквер завлекает в свои злачные места круглые сутки, то Уолл-стрит после окончания рабочего дня пустеет совершенно. Разъезжаются банкиры, банковские клерки и милые секретарши: кто в «кадиллаке», кто в метро, как заведено. Городское дно не приходит сюда и в ночное время, так как на Уолл-стрите не живет никто и грабить здесь некого. А взламывать местные банки возьмется лишь сумасшедший; ко всему Уолл-стрит, должно быть, самая охраняемая улица в мире.
Вечером, попозже, жизнь отсюда сместится к Бруклинскому мосту, к Беттери-парку — поближе к воде, к деревьям, к скверам, где на лавках, на траве, на дорожках полеживают те, кому в жизни не повезло, и те, кто не очень себя берег в этой жизни. Большинство нью-йоркских алкоголиков оседают в этом районе, в человеческих выгребных ямах, где и запах соответственный, и настроение под стать запаху. Знаменитая улица Бауэри не так далеко, так что район довольно компактен. Бутылок из этих мест не убирают, по-моему, никогда: я больше нигде не видел столько битого зеленого стекла с выцветшими этикетками; здесь все вдребезги — посуда, судьбы…
Если вам доведется быть в Нью-Йорке, не пожалейте полутора долларов (или сколько будут стоить билеты в то время) и съездите на метро до Уолл-стрита и обратно. Все разговоры о нью-йоркских контрастах, о власти денег и безнадежной бедности как бы материализуются там. Если даже отставить мысль о том, как, мол, банкиры богаты и до чего бедны люди, валяющиеся на грязных скамейках, то остается и не уходит четкое ощущение, что все здешние обитатели не нужны и не интересны друг другу. Юридически являясь равноправными гражданами одного государства (кстати, из набережных парков, где собирается нью-йоркская рвань, как на ладони видна статуя Свободы — хоть билеты продавай за показ такого пейзажа), люди, разделенные несколькими кварталами, удалены друг от друга больше, чем разноязыкие и разнорасовые жители далеких континентов. Позволяя себе роскошь пускать часть своего населения в отходы, на дно, в мусорные корзины, Америка даже не оглядывается в их сторону. Это важно: в стране есть люди, которые не нужны никому. Это принципиально.
Когда мы порой цацкаемся с родимыми своими домашними алкашами: лечим их, подыскиваем работу, читаем назидательные лекции по радио, — думаю, что показать бы им разок нью-йоркское дно со всей его мучительной безнадежностью, глядишь, может быть, кто-нибудь бы и задумался, пока есть чем…
Ну ладно, все-таки я в районе Уолл-стрита, хоть и прикатил туда на метро. Послеобеденное время, ленивый фургон собирает мусорные мешки, и картина выстраивается передо мной в логический ряд — сколько же разнородного мусора накопилось здесь!
Это проблема. И в человеческом смысле, и в самом буквальном.
Америка не знает, что ей делать со своим мусором. Каждое утро вижу, как огромный черный автомобиль жует черные мешки у моего подъезда. В этих пластиковых мешках жители дома выносят и складывают у тротуарной бровки то, что подлежит уничтожению; мусорными, как у нас, баками здесь пользуются очень мало: мешки гигиеничнее и дешевле. Огромный фургон останавливается над мешками и разевает зияющую пасть своего кузова; можно видеть, как железные челюсти задумчиво перемалывают в кузове все — деревянные и картонные ящики, пластмассовые бидоны, вышедшие из употребления, кипы старых газет и драные одеяла. Ежедневно Нью-Йорк производит двадцать шесть миллионов килограммов мусора и не имеет понятия, что с ним делать. Восемь тысяч тонн ежедневно топят в заливе, неподалеку от международного аэропорта имени Кеннеди, пару тысяч тонн сжигают в печах, еще четыре тысячи тонн ежедневно вывозят в соседний штат Нью-Джерси, который этому не рад и протестует как может. Без того уже бюджет нью-йоркских мусорщиков исчисляется во многих десятках миллионов долларов, а выхода все не находят. Пробовали строить заводы, перерабатывающие мусорную массу, но количество ядовитейших газов, образующихся при этом, столь велико, что даже Нью-Йорк не выдержит.
Многие ненужные Нью-Йорку предметы и люди становятся опасны, если вступать с ними в конфликт. Тишайшие на первый взгляд алкоголики Бауэри или Ченел-стрит могут легко убить человека, если им покажется, что человек этот активно выразил собственное пренебрежение к ним, людям дна. Проезжая по местам, где бродят люди дна или где сжигают отбросы, полагается запереть изнутри автомобильную дверь и наглухо задраить окна; никаких контактов — так лучше для здоровья.
Здесь всегда есть что-нибудь, что никому не нужно, но с чем город сладить не в состоянии, или нечто очень нужное Нью-Йорку, но вышедшее из-под его управления. Как, скажем, метро, на котором я только что ехал. Без своей подземки Нью-Йорк задохнулся бы, но и в подземке он задыхается. В начале ноября загорелся поезд метро как раз под Таймс-сквер, на самом «пятачке». Машинист успел отпереть все вагоны, и сквозь дым, не позволяющий ничего видеть, люди кое-как выбрались из неглубокой станции на поверхность. Но когда на этой же линии поезд горел две недели назад, то пятнадцать человек, отравленных дымом, развезли по больницам. 27 октября около пятисот пассажиров поезда, шедшего по третьему маршруту, еле спаслись, когда загорелся самый первый, моторный, вагон, где находится управление автоматическими дверьми всего состава. Не могу сказать, что я исключаю подобные приключения на вашем нью-йоркском маршруте, присоветован-ном мною; всякое здесь бывает, — но в любом случае информация, которую вы можете получить, покатавшись в здешнем метро, будет обильнее той, которую вы получите, с метро не знакомясь. Сегодня, 23 ноября, поезд четвертого маршрута, в котором я ехал, вдруг остановился в туннеле где-то в районе 14-й улицы, и в поезде погас свет. Никакого волнения событие это не вызвало; пассажиры, как видно, люди привычные: вагон безропотно ожидал и в конце концов поехал дальше.
На Уолл-стрит нечего делать долго: бездельничая, ты вскоре станешь заметен, так как на этой улице очень мало зевак. Я пытался поискать глазами знакомых, но, естественно, никого не нашел; однажды мне показалось, что промелькнула Кэт, но откуда бы ей? Мы давно не виделись и не переговаривались; в последний раз она сказала мне, что едет к родственникам в Пенсильванию, потому что там, кажется, есть работа.
Семен Кац укатил в Вашингтон, в наше посольство, просить, чтобы ему разрешили вернуться. Перед его отъездом меня пригласили выступить в нью-йоркском доме политпросвещения Компартии США — аудитория интересовалась военной судьбой Киева, в частности трагедией Бабьего Яра, и мы долго разговаривали об этом. После встречи подошел ко мне Семен Кац со своим приятелем, который в годы минувшей войны возглавлял в Америке одну из организаций — таких было немало, — объединившую людей, которые стремились помочь Советской стране в ее мучительных и кровопролитных усилиях сокрушить фашизм. Человека этого звали Давид Сельзер, и он дал мне рукопись, озаглавленную (привожу дословно) «Как дети освобожденного Сталинграда зажгли сердцы за рубежом — воспоминание о американско-советской дружбы во времья возновления геройя города на Волге». В тексте рукописи приводился текст письма, отправленного американцами, потрясенными героизмом и жертвенностью советских людей: «Слава защитникам Сталинграда! Да здравствует новое поколение сталинградской молодежи! Пусть дружба между народами Соединенных Штатов Америки и Союзом Советских Социалистических Республик растет и крепнет, живет вовеки на благо мира, безопасности и процветания всех грядущих поколений народов нашей Земли!»
В Нью-Йорке никогда не было просто, сейчас особенно, а советскому человеку — и говорить нечего. Но даже на Уолл-стрит вспоминалось такое, от чего теплела душа. Были ведь люди рядом, были надежды — много людей и много надежд. Я так хорошо знаю, что не бывает, не может быть отдельного мира для Америки, а отдельного — для Советского Союза; мы будем сосуществовать в мире совместно или вместе погибнем. Это аксиома, и, собираясь уезжать из Нью-Йорка, я думал о надеждах и людях, которые остаются здесь.
То, что президент Рейган меня не любит, — его личное дело. Мне очень важно, чтобы не нарушалась дружба с теми, кто по-настоящему дорог мне.
Знаю, что приеду домой и многим напишу поздравительные письма, благодарственные открытки — как нить через океаны воды и океаны ненависти. II я буду ждать писем от друзей-американцев, радуясь каждому; слова связывают очень надежно, а когда они становятся делами, — особенно. Мне кажется, что фанатизм, с которым президент Рейган уже несколько лет подряд пробует отменить Октябрьскую революцию, должен быть напоминанием не только для меня, но и для американцев того очевидного факта, что поджигатель войны (термин, некогда популярный и во многих случаях очень справедливый) не сможет вызвать любовь к себе даже в сердцах собственного народа. Люди воевать не желают, в том числе люди Америки, я это знаю точно и верю в это. Сейчас многие напоминают президенту Рейгану, как он отличался в годы маккартистской «охоты за ведьмами» в Голливуде и как в 1951 году стал одним из самых известных там фанатиков-антикоммунистов. Точно так же, как сейчас он обвиняет американских борцов за мир в том, что они «подкуплены коммунистами», в сороковые и пятидесятые годы он называл коммунистическим проникновением попытки некоторых разумных бизнесменов расширить торговлю с нами. Первое, что он сделал, став президентом, изо всех сил повел наступление на договор ОСВ-2, снова возопив о «коммунистической опасности». Этот послужной список нынешнего хозяина Белого дома я привожу по «Нью-Йорк таймс» за 21 ноября; другая авторитетнейшая здешняя газета, «Крисчен сайенс монитор», 26 ноября написала прямо: «Точка зрения Рейгана на Советский Союз неизменна: он видит его враждебным…» Как пишет в недавно вышедшей книге «Рейган. Личный портрет» американский политолог Ханнафорд, нынешний президент страны никогда не отказывается от своих принципов, он может лишь идти на компромиссы в сроках осуществления отдельных элементов программы. А с самой программой все ясно, любовь ко мне в ней не предвидится. Так что в праздничную переписку с мистером Рейганом мы вступать не будем, у него свои приятели, у меня свои. И я буду рад вестям от людей, которые мне дороги, которые верят мне и уважают меня.
Американцы очень любят писать коротенькие письма, зачастую даже открытки. Если американец оказывается в городе, где он не бывал прежде, то первой его покупкой становится приобретение открыток и марок в кафе, где заказан завтрак. Пока жарится яичница или варится каша, открытки заполняются приветами в добрый десяток адресов; считается особенно престижным иметь друзей и привязанности, которые сохраняют свою неизменность в течение ряда лет. У президента Рейгана, к примеру, репутация именно такого человека; среди тех шестидесяти тысяч поздравительных открыток, которые он разослал из уже обжитого Белого дома на рождество (для сравнения — президент Эйзенхауэр высылал не более тысячи трехсот открыток, Кеннеди довел это количество до двух тысяч трехсот), нет ни одной, посланной в прогрессивные, дружественно настроенные к нашей стране американские организации.
Ладно, все это — дело хозяйское; мог бы я так подробно и не писать об этом, но, выхватывая из жизни великой страны всего лишь несколько месяцев, я пытаюсь недвусмысленно фиксировать в написанном то, что тревожит меня и что меня радует в чужой жизни. В самом начале этой книги я писал уже, что, если ей суждено привлечь ваше внимание не только сейчас, но и завтра, мне хотелось бы, чтобы это возникло в связи с тем, что мы вместе задумаемся над закономерностями отношений между народами и людьми, над самоубийственностью жестокости и злобы. Душа Америки должна быть дорога нам, как часть души человечества, — она стоит того, чтобы над этим задуматься.
Когда я писал эту главу, прощаясь с городом и с вами, захотелось еще раз проехать по улицам центрального и нижнего Манхэттена, о которых я писал. Мне все время кажется, что оглянусь и увижу лицо в толпе — лицо паренька, отыскивающего путь домой; лицо друга, которое добавит мне сил; лицо соглядатая, лицо просто любопытного человека… С советником нашего представительства Виталием Степановым мы взяли в гараже миссии «шевроле» и не спеша отправились в путешествие по Нью-Йорку. Когда мы отъезжали от представительства, за нами вильнул серенький «крайслер» с нью-йоркским номером AAW 6481 и пристроился за нами впритык, бампер в бампер. Куда бы мы ни ехали, «крайслер» не отставал; когда останавливались, он становился рядом, и двое задумчивых пассажиров в гороховых курточках принимались решать кроссворды. Речь шла не о том, чтобы нас выследить, а о том, чтобы испортить настроение. Сотрудники представительства говорили затем, что нам еще повезло: бывало, что взламывали дверь или багажник в машине, просто толкали в бампер. Я снова подумал о том. почему эти двое в «крайслере» так хотели, чтобы мне было плохо…
Пресса (18)
Из журнала «ЮС Ньюс энд уорлд рипорт»,
1 ноября 1982 г.
«Возвратить 12-летнего ребенка в Россию?
Мнение за возвращение: Роберта Готтесман, директор информационного центра по нравам детей: „Это будет ужасный прецедент — удерживать ребенка здесь против родительской воли. Нет законных оснований для отделения украинского мальчика от его семьи. В любом из американских штатов суд но молодежным делам высказался бы за отделение ребенка лишь в том случае, если родители явно пренебрегают им, или мучают его, или неисправимы… Ни одна из этих причин в данном случае не действует…“
Мнение против возвращения: Алан Дершовиц, профессор Гарвардской юридической школы: „…Возможно, после возвращения в Советский Союз его посадят в сумасшедший дом…“»
Несколько заключительных слов
Кто-то из американских публицистов говорил, что все великие державы прошлого — от Римской империи до Британской — развалились, распираемые внутренними проблемами, а не от нападений извне. Это верное наблюдение: периоды распада и полураспада есть не только у радиоактивных элементов, но и у социальных систем.
Я очень хочу, чтобы Америка вышла из своей нынешней муки поумнев, облагородившись и поняв, что с ней происходило. Не знаю, кто открыл Америку, — официально считается, что Колумб 490 лет назад. Закрыть себя Америка может только сама. Мне верится, что сеятели вражды не будут всевластны в великом народе Америки, что сегодняшние мука и боль станут завтрашним опытом и умом. До свидания, Америка! Я желаю тебе радости. Да прибавится в доме твоем тепла и мира!..
Сентябрь — декабрь 1982 г.
Нью-Йорк


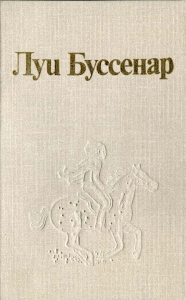


Комментарии к книге «Лицо ненависти», Виталий Алексеевич Коротич
Всего 0 комментариев