Елизаров Евгений Дмитриевич
Доктор Живаго. Размышления о прочитанном.
Закрыта последняя страница романа... Отмеченный высшей литературной наградой, о чем он? Что привлекало читателя к этому тридцать лет находившемуся под негласным запретом произведению, напряженная интрига, неожиданные повороты сюжета?.. Ничего этого нет. Роман, как кажется, вообще не относится к числу тех, что читаются взахлеб, без отрыва, как, к примеру, читаются романы Артура Хейли или Юлиана Семенова. Напротив, не раз возникает желание, а то и просто протребность, остановиться и подумать. Как ни парадоксально - о материях, не имеющих почти ничего общего с сюжетной его тканью. Не раз возникает желание полностью абстрагироваться от конкретики повествования и обратиться к каким-то всеобщим и вечным началам.
Сюжет романа развертывается неторопливо. Впрочем, сюжета, похоже, вообще нет - есть жизнеописание человека. Гимназиста, студента, доктора. Человека, прошедшего сквозь огонь Империалистической, сквозь потрясения революции, сквозь боль и стыд Гражданской. Поэта... Если честно, - далеко "Доктору Живаго" по напряженности сюжетных построений до романов А.Хейли и Ю.Семенова. Нет, не сюжетная линия держит внимание читателя - что-то другое. Впрочем, если уж совсем честно, то и сюжетная линия выдержана далеко не с той строгостью, какой можно было бы ожидать от автора, отмеченного Нобелевской премией по литературе.
Существует едва ли не азбучное требование, искони предъявляемое любому беллетристическому произведению: каждый поворот сюжета должен быть хоть как-то обоснован. Но, по-видимому, это требование не очень беспокоит Пастернака. Лишь с очень большой натяжкой можно принять за неизбежность необходимость расставания Юрия Андреевича и Лары. Не вполне понятно, как доктор, вопреки своему желанию, провел полтора года в партизанском отряде. И это как раз в то время, когда масштабы дезертирства не то что из партизанских формирований - из частей регулярной Красной Армии вынуждали искать не только дисциплинарные, но и политические средства укрепления воинской дисциплины: ведь институт военных комиссаров создавался в свое время не только как результат классового недоверия к "военспецам" (об этом прямо говорит в одной из своих статей сам Сталин). Правда, в романе глухо упоминается о нескольких попытках побега, о грозящей расправе в случае очередной поимки. Но ведь в конце концов уходит доктор из отряда. Причем уходит без видимого труда. Да и уходит в совсем уж неподходящее время, когда разгром белого движения обозначился со всей возможной определенностью. И если раньше доктору угрожала расправа только в том случае, если он будет пойман во время побега, то теперь она становится неотвратимой также и в случае успешного его осуществления.
С.Залыгин, выступая на конференции "Актуальные вопросы исторической науки и литературы" приводит такой пример: "Вспомните, что доктор Живаго каждый день за 40 километров ездит верхом в распутицу с одного хутора в город. Но ведь лошадь не пройдет 40 километров каждый день туда и обратно, тем более в распутицу. А потом, где он оставлял ее в городе? Пастернака совершенно не интересует эта фактура, он не знает лошадей, его не занимают какие-то детали быта..."
Таким образом, создается впечатление, что многие, очень многие повороты в судьбе героев совершаются вовсе не потому, что они диктуются объективной логикой той действительности, в которой растворено их бытие, но просто потому, что они становятся необходимыми автору. Но если уж романист так легко переступает категорический императив беллетристики, то ясно, что вовсе не строгая выдержанность сюжетной линии заботит его. Вовсе не в прямолинейной плоскости сюжетных построений лежат те мысли, которыми хочет поделиться со своим читателем Пастернак.
Похоже, что сюжет романа вообще не важен для Пастернака. Сюжет для него отнюдь не самоцель, но простое средство выражения каких-то выстраданных истин. Причем, средство не единственно возможное; сюжет уподобляется некоему холсту, на который еще только предстоит лечь краскам...
Ну что ж, если Пастернака не очень беспокоит внешняя событийная сторона повествования, абстрагируемся от нее и мы. Обратимся к самому герою. Кто он? Зачем он вышел на страницы романа?
Но сначала - какое место занимает Юрий Андреевич Живаго в тех событиях, что сотрясают Россию?
Отечественная классика знает разных героев: сразу и безоговорочно встававших на сторону восставшего народа, сразу и безоговорочно встававшего на сторону его врагов, наконец, метавшихся от одних к другим. Словом, все возможные позиции человека в этом противостоянии исследовались литературой. Но вот к какой из них примыкает доктор Живаго?
А ни к какой. Он не встает ни на сторону белых, ни на сторону красных. Он не мечется от одного лагеря к другому. Он как бы сам по себе.
Может быть, это позиция нейтралитета? В пользу этого предположения, казалось бы, свидетельствует и сам статус героя - статус военного врача, то есть лица, по международным конвенциям официально нейтрального. Или, может быть, вообще "его хата с краю"? (Это ведь совсем не одно и то же - честный нейтралитет и "моя хата с краю".)
Но нет, позиция доктора - это совсем не позиция знакомого всем временам и народам обывателя, для которого "его хата" действительно всегда "с краю". Для этого Юрий Андреевич слишком порядочен (впрочем, можно ли быть "слишком" порядочным?). Да и не в традициях русской интеллигенции, полувековой болью которой стоял вопрос: "Что делать", отгораживаться от всего происходящего в мире. И уж тем более от того, что непосредственно касается исторических судеб своего отечества.
Правда, в этой, скорее головной, умственной боли, в скорее абстрактной умозрительной позиции, чем в практическом противостоянии чему бы то ни было, тоже скрыта какая-то отгороженность, отстраненность. Но все же не отгороженность обывателя, объятого страхом даже не за свою жизнь (как раз это-то можно и понять и по-человечески простить), а просто за свое благополучие. Отстраненность интеллигента имеет совершенно иную природу. Человек мысли, самим укладом своего бытия часто неспособный к каким-то практическим шагам за пределами его профессиональной сферы, он не отгораживается от действительности, но - абстрагируется от преходящего, случайного, материального. Его отстраненность - это простое погружение в сферу умственного, идеального. Другими словами, в эпоху глубоких социальных потрясений - в сферу того, что является для него подлинной и единственной реальностью. Ведь реальность для него - это совсем не то, что можно, так сказать, пощупать; действительно, - гласит старая, восходящая к Гегелю, философская максима, - только разумное, то есть только то, что имеет нерушимое логическое или нравственное оправдание. Беснующаяся же стихия материальных сил, вдруг выплеснувшихся на улицы, для него - какая-то абсолютная трансценденция. Трагедия полутора миллионов русских интеллигентов, оказавшихся в эмиграции, из-за неспособности понять происходящее, свидетельствует это. Поэтому даже в отстраненности интеллигента можно (и должно!) видеть прямую сопричастность происходящим событиям. И даже более чем сопричастность - нравственную, духовную инициацию сугубо практического действия даже там, где интеллигент не в состоянии и умозрительно, в абстрактной форме решить этот проклятый вопрос: практическое действие не в одной только России брало свое начало и в интеллигентских исканиях.
Между тем, доктор Живаго - плоть от плоти русской интеллигенции. Поэтому и он должен быть прямо сопричастен всему происходящему в России, но, как и "положено" интеллигенту, нравственно, духовно, а вовсе не в осязаемой форме предметного практического действия.
Но нейтралитетом ли объясняется нежелание доктора встать на сторону одной из противоборствующих сторон? Да и применимо ли вообще понятие "нейтралитет" к доктору Живаго? Впрочем, не только к нему, в данном случае - к русскому интеллигенту "вообще".
Мне думается, что честный нейтралитет возможен для нравственной личности только там, где нельзя отдать предпочтение какому-то одному из противоставших друг другу начал. Нельзя - равно от простого ли незнания истины или, напротив, от провидческого прозрения ее. Нейтралитет, если речь идет об отдельно взятом индивидууме, а не о сложном государственном образовании, - это в целом положительное отношение, имеющее в основе прямую невозможность сразу отринуть что-либо одно.
Здесь же герой (впрочем, только ли Юрий Андреевич Живаго?) должен равно отрицательно относиться к обеим сторонам, насилующим несчастную Россию. Причем "отрицательно" сказано слишком мягко, слишком академично, что ли. Для него должно быть абсолютно неприемлемо насилие, развязываемой как той, так и другой стороной, насилие, в котором и белые и красные, казалось, состязались друг с другом. (Речь идет здесь не о решении проклятого вопроса о том, на чьей все-таки стороне была историческая справедливость, но об отношении героя - вспомним, еще совсем недавно опального романа - к тем началам, взаимодействие которых в конечном счете и отливается в линию исторической закономерности.) Неприемлемо, если так можно выразиться, органически, ибо для интеллигента, выросшего и воспитавшегося в стране, где за предыдущее столетие(!) число осужденных к смертной казни насчитывало всего несколько десятков человек, террор такого масштаба мог быть неприемлем только органически. (Вспомним и другое: за годы революции и Гражданской войны только абсолютное сокращение численности населения составило порядка 13 миллионов человек.) Проклятье опричнины Иоанна Грозного осталось в далеком прошлом, гроза якобинского террора отгремела где-то за тридевятью границами. Поэтому для человека, воспитанного на Чехове и Достоевском (и на пугале Робеспьера тоже!, впрочем, это еще вопрос, возможен ли Достоевский в истории, не знавшей Робеспьера?), в сущности обе силы - точно так же, как для европейца все китайцы на одно лицо, - должны быть неотличимы друг от друга. Цвет террора не мог служить оправданием ни одной из них.
Здесь мы сталкиваемся с активным неприятием террора любого цвета. Правда, "активным" - лишь в той мере, в какой активность вообще свойственна человеку духа а не практического действия, то есть здесь это - лишь какое-то отвлеченное, умственное неприятие, неприятие в той зазеркальной обыденности сфере реальности, в которой, собственно, и растворено подлинное бытие интеллигента. Но следует учесть, что неприятие чего бы то ни было здесь, в сфере духовной действительности, - это не только его абстрактное схоластическое ниспровержение, но и прямое нравственное отторжение. А нравственное отторжение способно противостать уже вполне материальной силе, ибо именно нравственное отторжение в конечном счете и инициирует практическое действие. И это уже не только в России.
Нет, отстраненность доктора Живаго от тех событий, которые сотрясают страну, - это совсем не нейтралитет по отношению ко всем разноцветным лагерям. Впрочем, искать какие бы то ни было обоснования этой отстраненности в характере, в социальном происхождении, воспитании, убеждениях героя или даже в логике самих исторических событий было бы ошибочно. Ошибочно, потому что она обусловлена не столько позицией героя, Юрия Андреевича Живаго, сколько позицией самого автора, Бориса Пастернака. И даже не позицией, то есть тем, что в принципе может быть пересмотрено им же самим, - чем-то гораздо более глубоким, фундаментальным, ибо здесь мы имеем дело с Credo, с Символом Веры автора. Здесь мы вступаем в область великих нравственных абсолютов. Вспомним: "На том стою и не могу иначе". Именно это "На том стою..." подвигнуло Лютера противостать Риму, именно это "На том стою..." подвигнуло Пастернака открыто противостать еще не подвергнутой пересмотру идеологии воинствующего сталинизма.
Человек-винтик - это один из краеугольных камней идеологии сталинского режима, изыми его - и разрушится многое. Вот этому основополагающему постулату тоталитаризма (впрочем, не только идеологическому постулату, но и вполне практическому принципу тоталитарного правления) Пастернак противопоставляет выношенное двумя тысячелетиями христианства - и всей своей жизнью! - утверждение самоценности любой отдельно взятой личности, утверждение равенства каждого человека всему обществу, если не сказать всему человечеству в целом.
Через эту отстраненность героя, через рядоположенность судеб огромной страны и маленького скромного доктора утверждается равенство этих величин перед лицом Неба, ибо именно Небу в конечном счете равнозначно то начало, к которому в своем читателе апеллирует, наверное, каждый автор. Личность простого доктора становится какой-то равнокосмической силой, вполне способной заслонить собою судьбы целого народа, рождение нового мира... Но - и это чрезвычайно важно - вовсе не потому, что доктор Живаго являет собой какую-то "демоническую" личность, вроде Сократа, или, скажем, Цезаря, или потому, что его жизненный путь - это что-то судьбоносное, как судьбоносны пути людей, оказавшихся на самом перекрестье исторических событий и волей или неволей повлиявших на них. Правда, он поэт. Поэт, что говорится, Божьей милостью. Об этом свидетельствуют оставшиеся после него стихи. Но вместе с тем поэт, трагически несостоявшийся: дарование, обнаруживаемое его стихами, - это сгинувшее дарование, ибо талант такого масштаба не может, не имеет права ограничиться одной тетрадкой. "Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь." Доктор же, напротив, постепенно опускается. Да и жизнь он проживает совсем скромную, в сущности малозаметную, никак не влияющую на судьбы своего народа.
Нет, равнопорядковость этих величин являет собой не абстрактно-логический принцип, но нравственный постулат! Обратимся к самому Пастернаку.
"В одном случае по велению народного вождя, патриарха Моисея и по взмаху его волшебного жезла расступается море, пропускает через себя целую народность, несметное, из сотен тысяч состоящее многолюдство, и когда проходит последний, опять смыкается и покрывает и топит преследователей египтян. Зрелище в духе древности, стихия, послушная голосу волшебника, большие толпящиеся численности, как римские войска в походах, народ и вождь, вещи видимые и слышимые, оглушающие.
В другом случае девушка - обыкновенность, на которую древний мир не обратил бы внимания, - тайно и втихомолку дает жизнь младенцу, производит на свет жизнь, чудо жизни, жизнь всех...
Какого огромного значения перемена! Каким образом небу (потому что глазами неба надо это оценивать, перед лицом неба, в священной раме единственности это свершается) - каким образом небу частное человеческое обстоятельство, с точки зрения древности ничтожное, стало равноценным целому переселению народа?
Что-то сдвинулось в мире. Кончился Рим, власть количества, оружием вмененная обязанность жить всей поголовностью, всем населением. Вожди и народы отошли в прошлое.
Личность, проповедь свободы пришли им на смену. Отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью, наполнила своим содержанием пространство вселенной..."
Или вот: "Сказочно только рядовое, когда его коснется рука гения. Лучший урок в этом отношении Пушкин. Какое славословие честному труду, долгу, обычаям повседневности!.. Изо всего русского я теперь больше всего люблю русскую детскость Пушкина и Чехова, их застенчивую неозабоченность насчет таких громких вещей, как конечные цели человечества и их собственное спасение. Во всем этом хорошо разбирались и они, но куда им было до таких нескромностей, - не до того и не по чину! Гоголь, Толстой, Достоевский готовились к смерти, беспокоились, искали смысла, подводили итоги, а эти до конца были отвлечены текущими частностями артистического призвания, и за их чередованием незаметно прожили жизнь, как такую же личную, никого не касающуюся частность, и теперь эта частность оказывается общим делом..."
Равнозначность, равнопорядковость судеб целого народа и скромного доктора подчеркивается и структурной тканью романа.
Исторические события, переживаемые странами и народами, - это не проявление каких-то абстрактных безличностных сил. История любого народа, как, впрочем, и человеческого рода в целом, складывается из частных судеб отдельных людей. В конечном счете это всегда - их результирующая.
Отсюда и историческое "поле" "Доктора Живаго" - это совокупность зачастую едва прослеживаемым пунктиром обозначенных путей, которые проходят на его страницах живые персонажи. Но вспомним одну особенность романа. Ни один из персонажей, сколь бы малозначительным и второстепенным он ни был, не уходит в небытие с переменой декораций. Словно замыкая какой-то не всегда видимый читателю путь, они обязательно возвращаются, чтобы снова тем или иным образом войти в судьбу героя. Структурная ткань романа благодаря этому постоянному возвращению становится почти осязаемо сопоставимой с некоторым магнитным полем, зрительно представимым через бесконечную совокупность непрерывных силовых линий. Вспомним еще школьные опыты с магнитом и железными опилками: силовые линии, исходящие из одного полюса, обязательно замыкаются на другом и уже рассудок подсказывает, что эта обязательность распространяется не только на зрительно различимые; в какую бы бесконечность ни устремлялись все эти линии, совершив полный круг они обязательно возвратятся к исходной точке. Так и в романе. Судьбы всех персонажей прочерчивают какие-то замкнутые траектории и с обязательностью физического закона возвращаются к силовому центру повествования - Юрию Андреевичу Живаго. Правда срединная часть этих траекторий в большинстве случаев не прослеживается романистом, но, как из схем в школьных учебниках мы знаем, что устремляющиеся в бесконечность и из бесконечности возвращающиеся силовые линии суть линии, непрерывно описываемые вокруг этого центра, так и жизненные пути всех персонажей замыкаются вокруг одного героя.
Таким образом, доктор становится почти физическим центром того событийного космоса, который в конечном счете и складывается из полной совокупности судеб отдельных персонажей. Именно он становится началом, формирующим самую ткань этого космоса, а следовательно, равным ему. Поэтому и само равенство выходит за рамки этического постулата и обретает доказательность на каком-то осязаемом - физическом - уровне.
Но заметим, весь этот мир, не переставая вращаться как вокруг какого-то центра вокруг доктора Живаго, вовсе не становится чем-то телеологическим. (Так у романтиков даже природа подчиняет себя сиюминутному состоянию души героя.) Напротив, на протяжении всего романа он полностью сохраняет свою автономность, совершенную независимость от доктора; на протяжении всего повествования этот мир существует как самоценность, как самоцель. Об этой его самостоятельности, суверенности как раз и свидетельствуют постоянно обрывающиеся линии вдруг возникающих, куда-то уходящих и снова возвращающихся персонажей. Люди вокруг доктора Живаго уходят от него в какое-то сокрытое от него и от читателя и вместе с тем легко угадываемое измерение и вновь возникают из него на страницах романа рядом с Юрием Андреевичем. Собирательное имя этому измерению, в котором теряются судьбы окружающих доктора людей, - История, Революция. И само измерение синтезируется именно из этих судеб, высвеченных повествованием на сливающемся фоне миллионов и миллионов жизней других людей.
Заметим и другое. Оба измерения: и индивидуальный мир Юрия Андреевича и большой мир революции, гражданской войны существуют как бы сами по себе, отдельно друг от друга. Микро и макрокосм сосуществуют на страницах романа как своего рода замкнутые образования, как абсолютно непроницаемые друг для друга начала.
Разумеется, они взаимодействуют, да и может ли быть иначе? Но взаимодействие этих начал сводится лишь к каким-то, если так можно выразиться, механическим контактам, к каким-то совершенно случайным столкновениям между собой.
Именно случайным, мы нисколько не оговариваемся. Внутренняя логика духовного, нравственного развития доктора Живаго не несет в себе никаких указаний на то, что он может принять революцию, как принимали ее многие интеллигенты не только в России. Лишь только раз зажигают Юрия Андреевича дерзкие лозунги нового времени, но вспыхнувший на мгновение энтузиазм быстро проходит и уже никогда больше не возвращается. Революция остается навсегда чуждой ему. В свою очередь и логика революции, и того нового мира, который она порождает, так же не в состоянии включить в себя духовное образование, олицетворяемое доктором Живаго. И доктор Живаго остается чуждым новой действительности. Но это только одна сторона медали. Вторая состоит в том, что доктору точно так же остается чуждым и совершенно неприемлемым и белое движение. В свою очередь, и белое движение не может ассимилировать в себе духовность доктора. Подчеркиваем, речь идет совсем не о следствиях, совсем не о том, что Юрий Андреевич так и не смог примкнуть ни к одному, ни к другому лагерю. Нет, мы говорим о первопричинах, о внутренней закономерности: доктор Живаго в принципе не мог принять ни ту, ни другую сторону. Точно так же и оба лагеря, на которые разделилась сошедшая с ума Россия, не могли вместить в себя доктора. Именно вместить, а не найти место для доктора. Сила нравственного отторжения, олицетворяемя им, вполне сопоставима с материальной силой развязываемого обеими сторонами террора. Так что речь идет об априорной невозможности. Вот и выходит только случайное взаимодействие - то самое, которое возникает на пересечении двух закономерностей.
Взаимодействие микро и макрокосмов предстает на страницах романа как взаимодействие кия и бильярдного шара. Именно таким биллиардным шаром и мотает доктора по России, именно таким кием и предстают каждый раз обстоятельства, срывающие его с места. Никакого взаимопроникновения здесь нет.
В чем проявляется эта изолированность миров, малого мира доктора Живаго и большого мира революции, гражданской войны, строительства новой действительности?
Заметим, Юрий Андреевич не принимает (во всяком случае активного, сознательного) участия ни в одном из ключевых событий революции. Как, впрочем, и контрреволюции. Исход ни одной из этих противоборствующих стихий не зависит от прямого действия доктора, не движется даже простым его сочувствием. Ведь даже раскрытие заговора в партизанском отряде, соучастие в котором абсолютно неприемлемо для героя уже по соображениям элементарной порядочности (а умолчание становится равнозначным соучастию), происходит без него. Несмотря на довольно длительное время, проведенное в партизанском отряде, в победе революции и утверждении нового строя нет ни малейшей заслуги доктора Живаго. Поневоле захваченный вихрем событий, он, как это ни парадоксально, не является их участником, ибо все его участие - это участие биллиардного шара, внешней силой гоняемого по зеленому сукну стола.
Но и революция не проникает в духовный мир доктора, не становится составляющей его духовности.
В самом деле, неспособность доктора принять революцию проявляется в том, что он просто не замечает послереволюционной действительности. Воспринимая послереволюционные годы глазами доктора Живаго, мы не обнаруживаем в том мире, в котором он оказывается, ничего из того, что знакомо нам уже хотя бы по учебникам истории. Ничего этого нет в романе, но ведь в действительности-то семь последних лет жизни страны вовсе не были такими бесцветными, какими они предстают на его страницах. Сейчас, правда, мы начинаем узнавать много нового, неизвестного о тех годах, Пастернак же был живым свидетелем и того, что с солдатской четкостью изложено на страницах "Краткого курса...", и того, о чем только сейчас начинают писать наши журналы. Реальная жизнь многомерна, и правдой - пусть даже не для всех - было и то и другое. Но доктор Живаго не замечает ни того, ни этого. Нет, так и не смог он принять порожденного революцией мира...
Об этом же свидетельствуют и оставленные доктором стихи. Если забыть об их авторе, Юрии Андреевиче Живаго, если забыть о том времени, в котором они создавались, и принять их как нечто анонимное, взявшееся невесть откуда, из каких архивов, то ни по содержанию, ни по их строю мы никогда не смогли бы восстановить приметы того времени, отзвуки тех событий, которые пережил их автор. То ли с Маяковским, Цветаевой, да и с самим Пастернаком? Эти стихи вполне могли быть созданы и в другой России - России, не знавшей тех испытаний, которые выпали на ее долю.
Такая изолированность, непроницаемость обоих измерений друг для друга может быть объяснена только тем, что природа каждого из них может только отторгать другое, противостоящее начало. Или аннигилировать вместе с ним. Может быть объяснена только тем, что обе сущности просто несовместимы друг с другом. Именно эта принципиальная несовместимость духовной природы, вернее сказать, назначения, призвания доктора и природы революции и проступает на страницах романа со всей откровенностью.
У Пастернака есть свой счет к революции, к гражданской войне, к сталинизму. Человек, написавший
"Душа моя, печальница,
Для всех в кругу моем
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем..." имел право на такой счет. Был ли счет, предъявляемый поэтом, во всем справедлив? Не будем судить - судей у Пастернака было достаточно, более чем достаточно. Не станем и уподобляться незабвенному Козьме Фаддеичу: "Фельетонист, я пробежал твою статейку... Ты в ней упоминаешь обо мне; это ничего. Но в ней ты неосновательно хулишь меня! За это не похвалю..." склонимся перед его памятью молча и молча примем как данность написанное им.
Свой счет к революции есть и у доктора Живаго. "Развитие человеческого духа распадается на огромной продолжительности отдельные работы. Они осуществлялись поколениями и следовали одна за другой. Такою работою был Египет, такою работой была Греция, такой работой было библейское богопознание пророков. Такая последняя во времени, ничем другим пока не смененная, всем современным вдохновением свершаемая работа - христианство". Случайно услышанное рассуждение находит полное созвучие в душе доктора. Именно так, вся история - огромная, всем вдохновением свершаемая работа; в глазах же Юрия Андреевича разразившаяся вдруг революция прерывает ее и уничтожает ее плоды.
В представлении доктора Живаго, человека, учившего историю иную, значительно отличающуюся от той, какая преподавалась нам (и экзамен по которой, слава Богу, отменен!), история - это в первую очередь непрерывный процесс нравственного и духовного совершенствования человека. Правда, философские воззрения доктора нигде в романе впрямую не приводятся, но косвенным путем они довольно легко восстановимы. Мощно, во весь голос на протяжении всего романа звучащая библейская тема способствует такому восстановлению.
Вспомним. Еще в Пятикнижии Моисея приводится первый развернутый свод законов и нравственных норм древних иудеев. Несущие на себе явственно различимый отпечаток родового уклада, эти законы носят довольно суровый, подчас просто жестокий и на взгляд современного человека не совсем справедливый характер. "Око за око, зуб за зуб" - это ведь тоже из Библии. Но мировой религией ветхозаветное исповедание не стало, да и не могло стать. Лишь с Новым заветом христианство становится всепобеждающей силой, перед которой склонялись владетельные князья и капитулировали короли, силой, и без меча завоевывающей целые народы. Каносса и крещение Руси стали возможны только и только благодаря новозаветным откровениям. Но Новый завет формулирует совершенно иной кодекс, который самым разительным образом отличается от ветхозаветного. "Вы слышали, что сказано: "око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду" (Матфей 5, 38 - 40). "Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего". А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. (Матфей, 5, 43 - 44).
Нагорная проповедь Христа не только для доктора Живаго - для поколений и поколений - это концентрат совершенно иной этики. Разница между этикой Левита и Второзакония и этикой Нового завета сопоставима разве только с пропастью. Проделан огромный путь, огромная, говоря словами Пастернака, работа. Но ведь Нагорная проповедь Христа - это событие почти девятнадцативековой (мы ведем отсчет от времени жизни героя) давности. И если уж за поколения и поколения, сменившие друг друга со времени Исхода (не будем забывать также и о том, что Юрий Андреевич получил естественно-научное образование, поэтому и счет поколений у него другой, не тот, что приводится в Библии), могла быть проделана работа такого масштаба, то и девятнадцать столетий, истекших со времени искупительной жертвы Христа, не могли пройти даром для человечества.
Но заметим и другое. Ведь Новый завет - это не свод уже утвердившихся в обществе новых этических норм. Нет, это еще не более чем противопоставление, проповедь нового учения, которому еще только предстоит завоевывать душу человека. Это именно новый завет: "вы слышали... - а Я говорю...". Это антитеза. Это своеобразная формулировка принципиально нового этического идеала, имя которому любовь. И не случайно Иммануил Кант и через восемнадцать веков отнесет практическое осуществление этого идеала в неопределенное будущее, в бесконечность. Но как бы то ни было, именно воплощение новозаветных норм должно было стать содержанием той "работы", которая велась на протяжении почти двух тысячелетий.
В том, что эта "работа" еще весьма далека от завершения, уже с первых страниц романа не оставляет никаких сомнений и Пастернак. Самоубийство отца Юры, совращение Лары, издевательства над безответным Юсупкой... - все это вещи далёкие от евангельских принципов. Но и за девятнадцать веков пройден огромный путь. Об этом со всей наглядностью свидетельствует уже судьба офицера Галиуллина. Сын простого дворника, выбившийся в офицеры, при встрече со своим бывшим мучителем, который теперь сам попал в полную зависимость от него, не только не воздаёт ему "оком за око", но бежит самой возможности случайного срыва ("любите врагов ваших... молитесь за обижающих вас и гонящих вас"). Больше того, в разгуле насилия именно он становится чуть ли не символом гуманизма. И это офицер белой(!) армии, принявший самое деятельное участие в гражданской войне.
Словом, работа и в самом деле проделана огромная.
Революция прерывает ее. "Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой (Матфей, 5, 23 - 24). Но вот: "...расстрел мятежников, детоубийство и женоубийство Палых, кровавую колошмятину и человекоубоину, которой не предвиделось конца. Изуверства белых и красных соперничали по жестокости попеременно возрастая одно в ответ на другое, точно их перемножали. От крови тошнило, она подступала к горлу, бросалась в голову, ею заплывали глаза..."
Нам, привыкшим за последние десятилетия к литературным стереотипам и штампам, может показаться необычным и даже диким то обстоятельство, что все гуманистические ценности доктор Живаго связывает не с новым, рождающимся в муках гражданской войны миром, но с миром старым, уходящим, вернее, сметаемым вихрем революции. Повторимся, последним гарантом этих стремительно разрушающихся ценностей в гибнущем от вакханалии насилия мире становится Галиуллин.
Фигура чрезвычайно важная для понимания идеологии романа, парадоксальным образом появляется на его страницах лишь эпизодически, большей частью вообще действуя "за кадром". Между тем он имеет все основания рассматриваться как один из центральных персонажей романа. Ведь Галиуллин - это своеобразное "эхо" самого Юрия Андреевича Живаго, отдающееся в той "колошмятине и человекоубоине", которая заполонила собой всю действительность, весь окружающий его мир. Постоянно пульсирующий на страницах романа персонаж предстает чем-то вроде проекции духовной составляющей доктора Живаго на материальную плоскость гражданской войны. Может быть, именно поэтому-то он большей частью вообще не "материализуется" - о его существовании мы узнаем только из "вторых", а то и из "третьих" рук, только по слухам. Впрочем, отзвуку, тени и не положено быть чем-то материальным.
Вглядимся пристальней в этот персонаж. Вплоть до марта 1917, то есть до Февральской революции, фигура Галиуллина, хотя и предстает не вполне обычной, но все же почти ничем не вступает в противоречие с реальностями того времени. Но дальше в ходе гражданской этот персонаж все отчетливей начинает приобретать все черты мифа. Вспомним, еще в марте он подпоручик, через три года, в двадцатом, он уже генерал. Стремительная карьера? Романтический ореол, окружающий этого человека, не позволяет предположить в нем карьериста; его выдвижение должно иметь в своей основе только высокие качества его личности. Но на одних только личных достоинствах выдвинуться столь стремительно если и не невозможно, то, по меньшей мере, чрезвычайно трудно: ведь все это происходит в армии, не испытывавшей недостатка в кадровых заслуженных и честолюбивых офицерах. А русские офицеры - это ведь не только герои Куприна. Андрей Болконский - тоже русский офицер. Русский офицер и тот смертельно раненный мальчик во главе атакующей колонны с картины Петрова-Водкина. В армии, имевшей и таких офицеров (а ведь и этот мальчик, и Андрей Болконский, скорее всего, оказались бы именно здесь, чего уж греха таить), уже сама возможность столь стремительного возвышения вчерашнего подпоручика делает эту фигуру легендарной. Если же учесть другие, более тонкие обстоятельства... К сожалению, не в традициях русской армии было давать и штаб-офицерские погоны сыновьям простых дворников, да к тому же еще и "инородцам". Так что судьба этого офицера в конце-концов становится чем-то столь необыкновенным, что вполне граничит с чудом: возможность такого персонажа хоть и не вступает в категорическое и ничем не примиримое противоречие с реальностями того времени, все же может быть объяснена только совершенно случайным стечением большого числа и в отдельности-то почти невероятных обстоятельств. Одним словом, не лишенная черт реальности в начале повествования, постепенно фигура Галиуллина превращается в миф. И наконец. Ведь в точности никому не известно, до каких чинов в действительности дослужился этот офицер. И стал ли он вообще генералом. Поэтому его генеральство - то ли действительное, то ли легендарное - это в сущности структурный элемент все того же мифа. Но именно миф и нужен Пастернаку: надежно констатируемая, полностью верифицируемая фигура вступила бы в противоречие с идейным замыслом романа.
В самом деле. Именно благодаря этой мифичности в конечном счете именно чудо, именно стечение случайностей, почти невероятностей становится последним гарантом стремительно разрушающихся ценностей старого мира.
Да и вообще фигура этого персонажа в конце-концов просто теряется где-то в неизвестности, как бы рассеивается в воздухе. А вместе с ней рассеивается и своеобразная проекция Юрия Андреевича на осязаемую плоскость этой страшной действительности. Ну а вместе с ней полностью исчезает из этой действительности и то, олицетворением чего выступает сам доктор Живаго.
Между тем именно доктор Живаго олицетворяет собой начало, благодаря которому и выполняется та грандиозная, длящаяся тысячелетиями работа по непрерывному совершенствованию человека. И подобно тому, как "Искусство первобытное, египетское, греческое, наше это, наверное, на протяжении многих тысячелетий одно и то же, в единственном числе остающееся искусство. Это какая-то мысль, какое-то утверждение о жизни, по всеохватывающей своей широте на отдельные слова не разложимое, и когда крупица этой силы входит в состав какой-нибудь более сложной смеси, примесь искусства перевешивает значение всего остального и оказывается сутью, душой и основой изображенного", духовность доктора должна была бы стать тем ферментирующим началом, благодаря тысячелетиями длящейся работе которого в конечном счете и совершается конечное предназначение всего рода человеческого.
Но вот мы видим, что это ферментирующее начало вместе с постепенным превращением в совершенно мифическую фигуру вчерашнего татарчонка и истаиванием легенды о сохранившем благородство генерале исчезает на глазах. И в конце концов обе стихии оказываются противопоставленными друг другу. Микрокосм доктора Живаго и макрокосм революции становятся взаимоотторгающими сущностями, соединение которых может повлечь за собой только аннигиляцию.
Повторимся. Не до конца осознаваемое даже им самим, неприятие доктором Живаго той страшной действительности, в которой истаяла его собственная тень, вовсе не означает, что он становится на сторону контрреволюции. Не означает даже того, что он просто сочувствует ей. Ничуть не бывало, обе силы этого кровавого противостояния одинаково неприемлемы ему.
Правда, по извращенной логике воинствующего сталинизма и этого вполне достаточно. "Кто не с нами, тот против нас", а "если враг не сдается, его уничтожают". Только в атмосфере сталинизма в рамках одного суждения мог совместиться парафраз евангельского "Кто не со Мною, тот против Меня..." (Матфей 12, 30) и горьковское - пусть и внесшее свой вклад в формирование новых методов борьбы с инакомыслием, но все же далеко от сталинских проскрипций "если враг..." Но именно это совмещение дало импульс и к последующей трале самого поэта
("Я пропал, как зверь в загоне...").
Да, доктор Живаго был не с "нами". Это очевидно. Но ведь он не был и против "нас", ибо сказано и другое: "кто не против вас, тот за вас" (Лука, 9, 50). И это только на первый взгляд здесь тупик, на деле никакого парадокса в одновременном исключении (или, напротив, в одновременном допущении) обеих возможных позиций нет. Закон исключенного третьего неукоснительно действует только в формальной логике, в реальной жизни все обстоит намного сложнее. И если уж обязательно нужно искать выход из этого кажущегося тупика, если уж обязательно нужно искать однозначно интерпретируемый ответ на вопрос о том, с кем же все-таки был и доктор Живаго и сам Пастернак, то необходимо обратиться к позиции великих деятелей французского Просвещения.
Вспомним, в сущности все они в один голос высказывались против революционного, насильственного преобразования социальной действительности. Такое отношение к революции сами они объясняли тем, что, выплескивая на улицы стихию неуправляемой толпы, революция разрушает человеческую культуру. А многого ли стоит общество, с пусть и разрешенными социальными противоречиями, но уничтоженной культурой? (Впрочем, это еще вопрос, можно ли в таком обществе разрешить социальные противоречия?) Но были ли они от этого контрреволюционерами? Это Вольтер - контрреволюционер?! Это Вольтера - на фонарь?! А ведь ничего удивительного, в тридцать седьмом и его имя легко уложилось бы в формулу обвинительного вердикта: "кто не с нами, то против нас, а если враг не сдается..." вполне достаточно было бы его отношения к революции и революционному насилию.
Впрочем, если уж быть до конца строгим, то нужно детальней остановиться на том, против чего именно выступали великие просветители. "Революция, - открываем словарь, - это коренной переворот в жизни общества, означающий низвержение отжившего и утверждение нового, прогрессивного общественного строя". Вдумаемся, был ли кто из тех решительных противников революции против "низвержения отжившего и утверждения нового"? Если вопрос будет сформулирован таким образом, то его абсурдность, не требующая никакого опровержения, станет совершенно очевидной: не их ли идеи легли в основу американской конституции, не их ли мысль отлилась в чеканный лозунг Великой Французской революции: "свобода, равенство, братство"? Нет, нет и тысячу раз нет, противниками "низвержения отжившего и утверждения нового" их назвать решительно невозможно даже перед самым пристрастным трибуналом. Так против чего же они выступали, если на поверку идея революции была им вовсе не чужда, более того, именно революции они и посвятили в сущности всю свою жизнь? Противниками чего они были?
Но вспомним и другое: революция - это ведь еще и орудие, специфическое средство "низвержения отжившего и утверждения нового". И в этом смысле понятия "революция", "революционность", "революционер" долгое время понимались весьма специфически. Приведем свидетельства историка.
"Отличительная черта Марата как великого буржуазного революционера-демократа: он ищет средства избавления страны от грозящей ей опасности не в парламентских решениях, не в стенах Национального собания, а в революционном действии масс на площадях и улицах..."1 "Марату чуждо было какое бы то ни было преклонение перед формальной законностью."2 "Программа Марата исполнена величайшего презрения и пренебрежения к формальной демократии."3 Это о Марате. Теперь о другом герое. "Истинное величие якобинцев и их вождя Максимилиана Робеспьера как подлинных революционеров проявилось в том, что, покинув почву изведанного, они бесстрашно пошли вперед по непроторенным путям. Их величие было в том, что приняв самую демократическую конституцию и получив полное ее одобрение народом, они, правильно оценив требования войны с внешней и внутренней контрреволюцией, отказались от применения на практике конституционного режима и заменили его другой, более высокой формой организации власти - революционно-демократической диктатурой."4 Назовем это более честно - террором. Кстати, и у нас в тридцать шестом была принята и в самом деле довольно демократическая Конституция, но, получившая полное одобрение всего народа, она столь же бесстрашно была положена под сукно и заменена свирепой политикой проскрипций. Или вот еще: "Бывший воспитанник Сорбонны (речь идет все о том же Робеспьере - Е.Е.) обнаруживал величайшее презрение к формально-правовой основе законодательства; он стал великим революционером и потому, не колеблясь, ставил интересы революции выше формального права."5
Мы привели столько цитат, чтобы показать: это вовсе не случайная оговорка или неудачно выраженная мысль, род литературного брака. Это - убеждение: подлинная революционность существует только там, где существует "величайшее презрение" к вековым гуманитарным ценностям. Попутно заметим, что работа "Жан Поль Марат" датирована 1956 годом, "Максимилиан Робеспьер - 1965, так что убеждение здесь довольное стойкое, если его не смогла поколебать даже хрущевская "оттепель".
Правда, времена все же меняются. Приведем еще две цитаты. "Отвечая ренегату Каутскому на вопрос, зачем нужна диктатура пролетариата, Ленин привел положение Маркса и Энгельса по этому вопросу:
"Затем, чтобы сломать сопротивление буржуазии, затем, чтобы внушать реакционерам страх, затем, чтобы поддержать авторитет вооруженного народа против буржуазии, затем, чтобы пролетариат мог насильственно подавить своих противников.
Эту задачу - внушения страха реакционерам, насильственного подавления противников пролетарской диктатуры, борьбы с контрреволюцией, саботажем, вредительством успешно выполняла ВЧК-ОГПУ."
Мы вполне сознательно приводим это известное положение не по первоисточнику, но по изданию Истории ВКП(б) Емельяна Ярославского6. Излишне объяснять, что история ВКП(б), вышедшая в середине тридцатых, - это весьма специфическое издание. Изданный массовым тиражом курс должен был дать нормативное понимание в частности и существа диктатуры пролетариата, то есть основного средства "низвержения отжившего и утверждения нового".
Но вот другой источник, призванный дать нормативное же понимание все той же материи, - Философский словарь7: "Диктатура пролетариата есть государство переходного периода от капитализма к социализму, функции которого состоят в использовании власти пролетариата для подавления сопротивления эксплуататоров внутри страны, закрепления победы революции, обороны от агрессивных действий международной реакции. Однако диктатура пролетариата означает не только насилие и главным образом не насилие (курсив наш - Е.Е.). Её основная функция творческая, созидательная." Как видим, от свирепого ленинского определения осталась лишь бледная тень.
Это написано через пятьдесят лет, когда, канонизированное в тридцатых, революционное насилие, которое, говоря о тех годах, было бы правильней писать даже так: Революционное Насилие, уже сильно скомпрометировало себя как некоторая высшая гуманитарная ценность. Следы этой компрометации можно заметить даже в цитированной выше работе "Жан Поль Марат". Историк откровенно восхищается своим героем как великим революционером за то, что то не остановился перед насилием. Но ведь насилие насилию рознь, и здесь, при всем своем восхищении "Другом народа", он все-таки воздерживается от уточнений. Между тем именно этот "Друг народа", поначалу заявивший, что пять-шесть своевременно отрубленных голов могут спасти революцию, всего через год требовал крови уже тысяч и тысяч, а незадолго до своей смерти договорился до откровенного геноцида. И ладно, если бы все это осталось только словами: террор, развязанный Робеспьером, который устранил в сущности все правовые ограничения (выпускник юридического факультета Сорбонны!), назывался террором единственно потому, что понятие "геноцид" вошло в лексический обиход только через полтора столетия. После смерти Сталина священный культ Революционного Насилия еще не был развенчан, но в преддверии национальног возрождения 1956 года упоминание таких деталей было уже не совсем удобно.
Но вернемся к нашему вопросу. Против чего же был доктор Живаго? Против чего был и сам Пастернак?
Сегодня ответ на этот вопрос достаточно очевиден. Пронизывающая всю ткань романа и доходящая до апофеоза в оставленных Юрием Андреевичем стихах евангельская тема не оставляет никакого сомнения на этот счет. Но будучи против геноцида любого цвета, был ли доктор Живаго против самой революции?
Мы возьмем на себя смелость высказать может быть слишком дерзкую и парадоксальную мысль. Но - перефразируем одного из "великих" - если в утверждении нет доли сумасшествия, оно далеко от истины. Мы же намерены настаивать на безусловной справедливости утверждения, в сущности прямо вытекающего из всего строя повествования: подлинный интеллигент всегда революционен, подлинный интеллигент всегда за революцию.
Вдумаемся. Поколения и поколения интеллигентов, мыслителей и художников, носителей и творцов культуры, выношенной в лоне хистианства, посвящали себя служению. Служению извечной мечте о грядущем торжестве согласия и любви, о восстановлении когда-то утраченной гармонии человека и мира. Для поколений и поколений интеллигентов нравственный идеал был в сущности и единственной целью и единственным оправданием их бытия. Теряло ли смысл это служение оттого, что средоточием этого идеала, воплощением этой мечты являлась трансцендентная сущность? Но разве творения Андрея Рублева стали чужими для нас, потому что он был чернецом? Разве "проклятые" вопросы Достоевского мучают нас меньше, оттого что он был глубоко религиозным человеком?
Вспомним одно из доказательств бытия Божьего. Любая проявляемая человеком добродетель, гласит оно, носит лишь относительный характер. Другими словами, любой добродетели, сколь бы великой она ни была, всегда может быть сопоставлена еще большая степень одноименного качества. Но такая "градуировка" ее степеней возможна только потому, что все количественные различия между ними способны утонуть в какой-то наивысшей степени, в логическом пределе - в некотором абсолюте. Так, представление о последовательно восходящих степенях, скажем, справедливости возможно только потому, что все они могут быть сравнены с какой-то наивысшей, абсолютной справедливостью. Последовательно восходящие степени доброты могут быть перекрыты абсолютной добротой. И так далее. Но так как человек в конечном счете имеет представление о всех возможных добродетелях, необходимо заключить о существовании полной совокупности всех абсолютных совершенств. Сведенная же в единство полная совокупность абсолютных совершенств и есть Бог.
Не будем касаться логической стороны этих построений (кстати, с логической стороны они совершенно безупречны, но чтобы понять это необходимо владеть довольно сложным и тонким инструментом философских и математических категорий). Отметим другое: в этих построениях, ведущихся почти на пределе абстрагирующей возможности человеческого сознания, Бог предстает началом, интегрирующим в себе высшие нравственный ценности человека. Поэтому служение Богу становится неотделимым от служения человеку - и наоборот. Не случайно именно здесь проходит линия соприкосновения двух идеологий, и на этой линии материалистическое и теологическое понимание предмета, продолжая полностью отрицать свою противоположность, по существу взаимообогащают друг друга. Мы имеем в виду то обстоятельство, что именно в этом пункте теология, как кажется, подходит ближе всего к материалистическому пониманию существа Бога как отчужденной от человека совокупности доведенных до абсолюта чисто человеческих качеств.
Но что такое интеллигент в этом мире, где нравственное совершенство человека существует только как идеал, как некоторое едва ли достижимое начало, как атрибут трансцендентной сущности?
Человек, занимающийся преимущественно умственной деятельностью? Но чем тогда отличается простой каменотес от скульптора? "Головой" работает и первый: плохой архитектор отличается от хорошей пчелы, - говорил Маркс, - тем, что он заранее построил дом в своей голове. Заранее в своей голове строят свой "дом" и каменотес и скульптор. А если говорить о чисто физических затратах, то здесь у художника они оказываются вполне сопоставимыми с затратами чернорабочего. Энергетические же затраты "блистательной, полувоздушной" танцовщицы превосходят затраты едва ли не подавляющего большинства представителей чисто физического труда - так что же, и она не интеллигент?
Творчество? Но если проводить градацию по линии, отделяющей творческую деятельность от репродуктивной (то есть способной лишь добротно воспроизводить что-то созданное другими), то исчезнет всякое отличие художника от ремесленника. Ведь и ремесленник способен подняться до шедевра (кстати, и само понятие шедевра берет свое начало все в том же ремесленническом, но вовсе не в художническом мире). Между тем всегда существует вполне уловимое отличие ремесленника от подлинного художника, пусть даже и не отмеченного печатью большого таланта.
Определение, по-видимому, заключается в том, что интеллигент никогда не создает вещность: зримая вещь для него не более чем простое средство выражения выстраданных им истин. Ведь в конце концов и образ Мадонны - это просто покрытая красками доска или обработанная глыба бездушного мрамора. Но вещное ли начало, скажем, Владимирской Богоматери позволило ей стать охранительницей русской государственности? Вещное ли содержание Сикстинской Мадонны вызывает катарсис? Доступная ли осязанию плоть сюжета формирует собой художническую тайну самого "Доктора Живаго"?
Вещь создает ремесленник. Это для него существует только гармония материала, независимо от того, что именно представляет собой этот материал: слово или камень. Ремесленник, воплощая эту, провидимую им, гармонию, может возвыситься до той грани, за которой начинается подлинное искусство, но перейти ее он не в состоянии. Ремесленник - это всегда только ремесленник, и не важно, кто он: водопроводчик или академик.
В России интеллигент - это всегда Мессия. В крайнем случае - миссионер. И русская традиция понимания этого, пришедшего к нам из далекой заграницы, но ставшего исключительно русским, понятия позволяла обнимать им и рядового земского врача и "властителя дум"-поэта. (Но, будем же справедливы, позволяла и категорически исключать из его содержания людей, составлявших гордость российской культуры.)
Между тем и революция в глазах русского интеллигента - это на протяжении почти полустолетия земное воплощение нравственного идеала, праздник осуществления мечты о царстве вечного согласия и любви. Вспомним вот это, вскользь упоминаемое и Пастернаком, блоковское:
"И пусть над нашим смертным ложем,
Взыграв, взовьется воронье,
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят царствие Твое!"
Так может ли человек, смыслом служения которого является именно это царствие, быть против его прихода?
Роман протягивает почти зримую нить преемственности от первых интеллигентов апостолов и евангелистов к доктору Живаго, последнему в этом гибнущем мире интеллигенту-хранителю тайны запечатленной ими проповеди нравственного обустройства вселенной. Между тем уже у самих евангелистов явственно прослеживается убеждение в скором, очень скором утверждении Царства Божьего на земле. Правда, в основе этого убеждения лежит скорее мечта, скорее простое и понятное человеческое нетерпение, нежели действительное провидение истории (и девятнадцать столетий непрерывной "работы" во имя ее осуществления лишь подтверждают это), но именно земное нетерпение, черта, столь близкая и понятная нам, именно эта ничем в сущности не подтвержденная - и неподтверждаемая - вера доказывает не только их отношение к новому закону, который они несут в мир, но и готовность до последнего служить его утверждению здесь, в этом мире. Так может ли доктор Живаго, преемник апостолов и евангелистов, быть против революции?
И здесь ответ представляется очевидным... Но именно потому, что он за (скорое, еще лучше - немедленное) воплощение через тысячелетия завещанного ему нравственного идеала, он против применения тех средств, в результате которого уничтожается самый смысл революции.
Дело не столько в уничтожении идеала как некоторой нематериальной субстанции, не в уничтожении абстрактного представления о каком-то конечном состоянии, цели, отнесенной сознанием на неопределенно далекое будущее. Самое страшное, что встает при таком понимании вещей, - это, пусть и болезненное
("Что же делать, если обманула,
Та мечта, как всякая мечта,
И что жизнь безжалостно стегнула,
Грубою веревкою кнута.") рассеивание обычной иллюзии, род испытания через которое рано или поздно проходит каждый, и не более того. Расставание с иллюзиями - в общем-то обычное дело и для отдельного человека и для всего человечества в целом. Но здесь трагедия состоит в том, что стихия развязанного насилия полностью уничтожает уже не только их, но и весь накопленный за века потенциал духовности. В мутном кошмаре братоубийственной резни гибнут все плоды подвижничества поколений и поколений миссионеров-интеллигентов. Мы видим это не только в том, что постепенно истаивает "тень" доктора Живаго в гибнущем от вражды мире, в мире, захлестнутом ураганом "колошмятины и человекоубоины". В конце концов гибнет и сам доктор, последний хранитель духовного потенциала, завещанного ему евангелистами. Впрочем, гибнут обе отторгнувшие друг друга сущности...
Мы уже имели возможность заметить, что доктор Живаго - это трагически несостоявшийся поэт. Но только ли потому, что от него осталась всего одна тетрадка стихов? "Поэт в России больше чем поэт". В России поэт - это всегда мессия. Так было всегда. Так есть. Но мессия, оторванный от людей, мессия, не получивший возможности выйти в мир, - возможно ли это? Ведь и Христос стал учителем и совестью человечества только тогда, когда вышел к людям с положившей начало новой эре прововедью согласия и любви. Здесь же
"...видевший Бога поэт" оказывается замкнутым в своем собственном микрокосме, герметически изолированным от всего внешнего мира, в сущности вне его, в то время как именно его он должен был повести за собой, как вели его за собой все "видевшие Бога" поэты России. А значит не свершается и высшее его предназначение...
Олицетворение духовности, оставшийся вне мира, гибнет как духовная величина доктор Живаго. (Физическая смерть после этого становится просто неизбежной, не от расстрела, так от удушья в лишенном духовности мире.) Отторгнувший духовность, рушится и гибнет на глазах доктора и сам этот мир: "Какое завидное ослепление... О каком хлебе речь, когда его давно нет в природе: какие имущие классы, какие спекулянты, когда они давно уничтожены смыслом предшествующих декретов? Какие крестьяне, какие деревни, когда их больше не существует?" Пусть это сказано под влиянием минуты, в состоянии исступления, если угодно, в истерике. Но ведь сказано... и пусть по выздоровлении сам доктор Живаго обнаруживает, что все пережитое и им самим и этим миром - в действительности еще не конец света, того, что для многих стало возрождением великой империи, он не замечает. Повторимся, жизнь страны в его последние годы проходит мимо сознания доктора. Впрочем, мимо ли: "Коллективизация была ложной, неудавшейся мерою, и в ошибке нельзя было признаться. Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами устрашения отучить людей судить и думать и принудить их видеть несуществующее и доказывать обратное очевидности. Отсюда беспримерная жестокость ежовщины, обнародование не рассчитанной на применение конституции, введение выборов, неоснованных на выборном начале." Правда, это относится к тому времени, когда сам доктор Живаго уже был мертв, но все же не потому ли и мертв, что в атмосфере тридцатых дышать ему было бы тем более нечем.
...Итак, гибнут оба главных героя повествования. Так что же это - исповедь лирического героя или трагедия?
Важно понять, что оба события: и гибель доктора Живаго и разрушение того макрокосма, агония которого развертывается на его глазах, - отнюдь не рядоположенные независимые друг от друга вещи. Они связаны между собой строгой причинно-следственной связью. Гибель всего макрокосма - это не более чем простое следствие, первопричина в этом ряду - гибель духовности.
Эта причинно-следственная связь имеет два до некоторой степени равноправных измерения. В одном из них первопричиной выступает некоторая всеобщая утрата согласия и любви, нравственности и милосердия; именно это приводит к гибели и самого доктора Живаго, и всей окружающей его действительности. В другом, может быть предельно парадоксальном, если не сказать совершенно невозможном, но тем не менее вполне естественном для структурной ткани романа измерении смерть самого героя, Юрия Андреевича Живаго, является непосредственной причиной смертельной агонии всего того, что его окружает.
Было бы ошибкой искать эту причинно-следственную связь в виде непрерывной цепи поддающихся рациональному объяснению событий. Подчеркнем, эта связь обнимает собой сущности, принципиально отличные друг от друга: иррациональность, тонкое метафизическое начало и осязаемый мир материальных вещей. Рационально объясненная причинная зависимость может связать только вещественные начала. Феномен же, отвечающий понятию духовности, находится вообще вне этого ряда, он потусторонен ему, и непосредственного перехода от одного к другому не только нет, но и вообще не может быть. Причинно-следственная связь здесь строга и непрерывна, но и она носит скорее метафизический, говоря словами Пастернака "на отдельные слова неразложимый" характер.
Именно поэтому было бы ошибкой искать и рациональное объяснение для необходимости расставания Юрия Андреевича и Лары. Уход Лары - это часть общей глобальной катастрофы, в которой гибнет весь мир. Уход Лары - это гибель целого континента, но рушится этот континент не вследствие каких-то поддающихся верифицируемой материальностью регистрации глубинных тектонических процессов, - причинная связь здесь столь же иррациональна, сколь иррациональна и сама причина. Этот континент должен был обрушиться, как под влиянием иррациональных метапричин должно было рухнуть все вокруг доктора Живаго, - что послужит непосредственным "спусковым крючком" катастрофы, в сущности совсем не важно. Отсюда и любое рациональное объяснение случившегося разрыва было бы неверным, было бы в лучшем случае лишь простой видимостью объяснения.
Примечательно, что эта, почти вселенская, катастрофа, которая в конечном счете захватывает и его самого, не вызывает в душе доктора Живаго ни гнева, ни озлобления, ни даже простой обиды на тех, чьими руками уничтожаются все ценности его мира. Правда, в романе зачастую даются весьма нелестные характеристики тем, кого литературная традиция социалистического реализма привыкла возводить на пьедестал: "...выяснилось, что для вдохновителей революции суматоха перемен и перестановок единственная родная стихия, что их хлебом не корми, а подай им что-нибудь в масштабе земного шара. Построения миров, переходные периоды это их самоцель. Ничему другому они не учились, ничего не умеют. А вы знаете, откуда суета этих вечных приготовлений? От отсутствия определенных готовых способностей, от неодаренности." К концу повествования портреты большевиков Тиверзина и Антипова больше напоминают карикатуру. Но все же способность к трезвой оценке, способность никогда не приближаться к той грани, за которой начинаются личные оскорбления, сохраняется. В исторических катаклизмах виноваты вовсе не отдельные личности: "Самоуправцы революции ужасны не как злодеи, а как механизм без управления, как сошедшие с рельсов машины..." И вот: "Если я вас правильно поняла, он произвел на вас скорее благоприятное, чем невыгодное впечатление? - Да, пожалуй. Он должен был бы меня оттолкнуть. Мы проезжали места его расправ и разрушений. Я ждал встретить карателя солдафона или революционного маниака душителя, и не нашел ни того, ни другого. Хорошо, когда человек обманывает ваши ожидания, когда он расходится с заранее составленным представлением о нем".
Нет, гнева в душе доктора Живаго нет. Но в чем же причина такого примиренчества? Вглядимся, ведь это только Юрий Андреевич Живаго под влиянием, может быть, вставших перед его глазами картин, вызванных из памяти именем Стрельникова, может бросить укор тем, кто отнял у него все - семью, любимую женщину, искусство... Стоящий над своим героем романист отказывается от предъявления обвинительных заключений. Безусловное неприятие террора любого цвета не переходит в обвинение его непосредственных вдохновителей и вершителей. И если у доктора Живаго порой прорываются по-человечески понятные нотки, то Борис Пастернак не берется вершить суд над людьми.
Что же это - недостаток мужества, помешавший еще тогда, в пятидесятых, пройти до конца путь во весь голос поддержанного через тридцать лет обвинения?
И нет ли здесь вопиющего противоречия? Ведь обвинение зла неполно, если оно не разрешается справедливым воздаянием тем, кто его творит. Поэтому должно быть справедливым и обратное: если нет такого воздаяния виновным, нет и осуждения их дел. Но как же тогда с абсолютным нравственным отторжением самой идеи насилия? Ведь это же парадокс, тупик. Или - или, третьего не дано, и неужели то, что, казалось бы, очевидно каждому, неясно Пастернаку? Неужели неясно, что многие, очень многие преступления никогда не были бы совершены, когда бы существовала твердая гарантия возмездия? Неужели неясно, что такая гарантия просто должна существовать, хотя бы вот так, по-бунински:
"Ангел мести, грозный судия,
На Твоем стальном клинке иссечен
Грозный клич: "Бессмертен только Я!
Трепещите! Ангел мести вечен."
Но задумаемся и над другим. Так уж ли безупречна логика, в силу которой осуждение зла последовательно только тогда, когда предъявлен счет свершившему его человеку? Ведь даже апологету этой идеологемы очевидно, что полное искоренение зла невозможно одним лишь возмездием живому его носителю, во всяком случае нужны какие-то более фундаментальные меры. Но есть и другая, в сущности полярная, логика, вспомним императив, сформулированный отцами церкви еще на самой заре христианства: осуди зло, но прости грешника.
Так где же истина?
Мы уже говорили о том, что в представлении Пастернака человек, отдельно взятая личность - это величина, способная растворить в себе достоинство целых народов. И уж во всяком случае на чашах нравственных весов любая отдельно взятая личность способна перевесить собой языческий идол государства. Но - и это важно понять - такой взгляд представляет собой не столько собственное понимание Пастернака, сколько нормальное представление нормального интеллигента, воспитанного на христианской культуре. Так почему же многим из нас сегодня это равенство кажется чем-то парадоксальным, невозможным?
Задумывались ли мы над тем, что эта парадоксальность обусловлена не столько структурой самого умозаключения, сколько аберрацией нашего собственного сознания. Аберрацией, истоки которой восходят еще ко временам сталинизма? Именно так: невозможность принять это умозаключение иначе, чем экзотический результат какой-то очень сложной и непроверяемой умственной гимнастики, восходит к идеологии тоталитаризма.
(Строго говоря, это не совсем так. Подлинные истоки лежат куда как глубже. Человек как атом, как малая частица некоторого большого целого возникает лишь с разложением тотема. В тотеме каждый является носителем всего его достояния. Развитие запечатленной письменностью культуры показывает нам процесс медленного возвращения человека от состояния структурной части некоторого целого к состоянию монады, способной вместить в себя все богатство макрокосма. От Гильгамеша через героя греческих мифов к Христу - и далее. Куда? Мы не возьмемся сказать, но именно это сквозящее через тысячелетия движение прерывает тоталитаризм. Причем, не только сталинский, ибо идеология германского фашизма в этом пункте, то есть в пункте, трактующем человека маленьким "винтиком" единой государственной машины сливается с философией "вождя народов". Но мы говорим не о чужих судьбах, но о путях России.)
Тоталитаризм не знает человека (если, разумеется, это не человек-вождь). Человек-бездна, человек-универсум - это не для него. В идеологии - и практике! - тоталитаризма остается место только для человека-функции. Впрочем, правильней было бы сказать, что здесь существует не человек-функция, но просто функция. Сам человек нужен только потому, что кто-то же должен ее выполнять. На первом месте стоит именно функция, и не случайно там, где человек заслонял собой выполняемое им дело, он неизбежно подвергался репрессиям. Принцип управления, восходящий еще к геродотовским легендам, действовал, как мы теперь узнаем, неукоснительно. Как самостоятельная величина вне выполняемой им функции человек в условиях тоталитаризма вообще не существует для "Левиафана"-государства. Но функция как таковая - безупречна. Поэтому любой сбой может быть объяснен только одним - виной выполняющего ее лица. Отсюда и та прямолинейность вывода, говорящего о том, что любое зло может быть устранено только тогда, когда в полной мере воздастся его виновнику. "Осуди зло, но прости грешника" здесь выглядит абсолютным нонсенсом, вопиющим противоречием объективным - если угодно, научным! - принципам управления тоталитарной системой. Другими словами, своеобразной идеологической диверсией, чем-то вроде песка в буксы.
Впрочем, тоталитаризм - это "ягодки", "цветочки" начинали цвесть значительно раньше.
Построим некоторую координатную сеть, узлами которой будут "Моцарт и Сальери", незабвенное гумилевское "Слово" ("В оны дни, когда над миром новым Бог склонял лицо Свое, тогда солнце останавливами словом, словом разрушали города..."), фаустовское "В начале было Дело" ("Написано: "В начале было Слово" - и вот уже одно препятствие готово: я слово не могу так высоко ценить. Да, в переводе текст я должен изменить, когда мне чувство верно предсказало. Я напишу, что Мысль всему начало. Стой, не спеши, чтоб первая строка от истины была недалека! Ведь мысль творить и действовать не может! Не Сила ли - начало всех начал? Пишу - и вновь я колебаться стал, и вновь сомненье душу мне тревожит. Но свет блеснул - и выход вижу смело, могу писать: "В начале было Дело!") и, разумеется, Иоанново: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог" (Иоанн 1, 1).
Заметим, что гетевский герой абсолютно корректен в переводе Евангелия. Заметим, что и сам Иоанн, носитель эллинской культуры, адресуя свое благовествование эллинской же интеллигенции, совершает в сущности такой же "перевод", такую же адаптацию смысла. Единый Бог, законодатель и творец всего сущего, в языческую культуру эллинизма, наверное, только так и мог войти - через прямое отождествление с Логосом, то есть с законотворческим словом, обладающим силой прямого действия. Ведь, вспомним, в книге Бытия Бог порой не очень-то отличается от простого мастерового. Эллинской же культурой Бог-творец мог быть ассимилирован только в том случае, если бы он представал одновременно и высшим существом и высшей категорией разума. Так и Гете. Это вовсе не жонглирование словами, не формулировка изящного парадокса, переворачивающего старую истину, не взрывная материалистическая идея. Это действительно абсолютно точный перевод евангельского стиха на язык, где "слово" и "дело", "материальное" и "идеальное" представляют собой полярно противоположные начала. "Дело" - это вещь вполне представимая, осязаемая; мысль же - нечто неуловимое, запредельное материальной действительности, потустороннее "делу". Но и материалистически мыслящий человек легко поймет, что на таком предельно высоком уровне абстракции, как Бог, мысль и дело сливаются друг с другом, становятся полностью тождественными друг другу.
Но нас интересует не столько аспект обладания Словом силой прямого действия, сколько другое: чем инициировано и на что направлено Дело?
Для ответа на этот вопрос необходимо вновь обратиться к уже приводившемуся нами этическому определению Бога. Вспомим, здесь Бог предстает как возведенное в абсолют Добро. А следовательно, и Слово не может быть ничем иным, кроме как императивом именно этого абсолюта. В свою очередь и Дело в конечном счете оказывается точной реализацией исходного императива. Ведь тождество Слова и Дела означает собой абсолютное равенство их друг другу; здесь нет и не может быть никакого расхождения вроде расхождения между целью и средством у человека.
Таким образом, в системе доводимых до абсолюта гуманитарных ценностей и Слово, и Дело могут иметь только этически положительный знак. Знак этически отрицательный здесь просто невозможен. Подчеркнем еще раз: Дело возможно только как осуществление исходного императива возводимого в абсолют Добра.
Важно понять, что все сказанное относится не только к Богу, но и к человеку.
В самом деле. Мы уже могли видеть, что в этом пункте сходятся две идеологии. И снова это бросается в глаза. Для одних дело человека может быть только прямым воплощением повелений нравственного абсолюта, ибо если это не так, то это может означать только то, что он еще не в полной мере обращен, что ему еще предстоит спасать свою душу: подлинный христианин (как, впрочем, и последователь, наверное, любого другого вероучения) не может быть безнравствен. Для других, находящих высшую гармонию не в в надмировой сущности, но в материи, все атрибуты Бога оказываются атрибутами самого человека. А следовательно, и здесь тождество слова и дела в конечном счете должно быть непреступаемым законом именно человеческого бытия.
"А для низкой жизни были числа,
Как домашний подъяремный скот...
Да, можно возразить здесь, если нравственный закон и лежит в действительной основе всех человеческих дел, то только таких, которые имеют непосредственно социальную направленность. Но как же быть с той сферой практики, единственным основание которой может быть только "число"? Ведь кроме каких-то гуманитарных областей есть чисто технические сферы деятельности, где законы сопромата значат много больше любого слова, даже, говоря языком Маяковского,
"Величием равного Богу".
Самое примечательное здесь то, что в точности такой же аргумент могла бы привести и какая-нибудь вычислительная машина. Она ведь даже не подозревает о том, что кто-то другой готовит для нее программу; машина ровно ничего не знает о тех целях, которые ставит перед собой - и перед нею - человек. Для нее есть только дырки на перфоленте или метки на магнитном диске, и творчество, "с точки зрения" самой машины - это, вероятно, создание какой-то своей "гармонии дырок". Машина может сколько угодно верить в то, что эта создаваемая ею "гармония" имеет какой-то самостоятельный высокий смысл. Винить ее в этом нельзя, она ведь не способна заглянуть в запредельность.
"Творчество" машины, предоставленной самой себе, мертво. Но ведь именно таким - машинным - является творчество, опирающееся на законы одних только "чисел". Неодухотворенная же нравственностью, "машинная" деятельность мертва не только сама по себе, она мертвит и все вокруг себя. Лишь дух животворит, когда-то давно утверждал Павел. Но и сегодня противостояние стихий, олицетворяемых Моцартом и Сальери, определяет многое в нашей жизни. Бездушная "гармония" бездушных "чисел" может быть совершенной, но только в полностью лишенном всякой духовности мире, в мире оторванной от самого человека техники, экономики... чего угодно. Но к чему ведет лишение духовности наглядно иллюстрируют взрывающиеся телевизоры и атомные электростанции, тонущие пароходы и заболачивающие город дамбы. Техническое совершенство, не помноженное на нравственное движение человеческой души, способно убивать не только метафорически. Совсем не случайно разъятие "как трупа" красоты в конце концов оборачивается прямым убийством Моцарта. Совсем не случайно - и совсем не метафорически! - убивают Чернобыли и Кириши.
В том-то и дело, что нет и не может быть такой сферы деятельности, которая не опиралась бы на нравственный закон, в начале которой не было бы Слова, понятого как императив абсолютного Добра. В том-то и дело, что тот, для кого нравственный императив, "Слово" оказываются какой-то заумью, чем-то совершенно иррациональным и потусторонним, как для вычислительной машины абсолютно иррациональны и потусторонни действительные цели человека, сам стоит по ту сторону человечности.
Гений и злодейство - две вещи несовместные, - утверждает Пушкин и потому отказывает в генильности Сальери. Забывшим, а то и вообще не слышавшим о том, что
...осиянно
Только Слово средь мирских тревог, отказывает в одаренности и Пастернак: "А вы знаете, откуда суета этих вечных приготовлений? От отсутствия определенных готовых способностей, от неодаренности".
Примечательно, что в какой-то другой системе ценностей и Сальери и Стрельников - люди чрезвычайно одаренные - вполне могли бы быть возведенными на пьедестал. Впрочем, уступительному наклонению здесь не место, ибо все это и было, и есть, и, наверное, долго еще будет, ибо конца "всем вдохновением свершаемой работе" еще не видно. Но завет, через поколения и поколения интеллигентов восходящий к евангелистам, заставляет наших поэтов глядеть на них по другому.
Таким образом, "цветочки" режима, оказавшегося по ту сторону человечности, цвели задолго до сталинизма. Сальери-Базаров-"бесы"-"самоуправцы революции" - вот конспективно очерченный русской литературой путь, приведший к кошмару "колошмятины и человекоубоины".
Да, и литературные Сальери, и Базаров, и вполне реальный Нечаев, и, наконец, Стрельников - люди необычайно одаренные. Но нравственное отторжение этого последовательного ряда многими и многими из русских интеллигентов получило свое подлинное обоснование только в тридцать седьмом. Именно тридцать седьмой - наиболее полное и адекватное выражение их подлинного кредо. Но подсудны ли они литературе, исповедующей иную веру? Действительно ли они виновны?
Как бы в скобках заметим, что если Базаров и не вполне вписывается в приведенный нами ряд, то только на первый, поверхностный взгляд. Более того, именно фигура Базарова является своеобразным ключом к характеристике и "бесов", и "самоуправцев революции". Ведь если строго, то демон Сальери - это вневременное начало, нечто вечное, двухтысячелетнее отторжение чего во весь голос звучит еще в евангельских обвинениях фарсеев. (Обвинение, к слову сказать, куда более решительное и последовательное, чем даже обвинение самого Иуды.) Но в нашей истории только с появлением Базарова этот демон начинает проявляться как статистически значимая величина. Только с Базаровым яд бездуховности начинает поражать широкие круги российской интеллигенции.
Заметим, основная масса разночинцев - это люди, получившие прикладное образование. Но только ли потому, что именно оно обеспечивало им и достаток и независимость? Ведь все это можно было получить и на - в те поры куда более престижном - гуманитарном поприще. Нет, дело здесь в другом: прикладное образование более доступно. И не только в том смысле, что здесь на пути к заветному диплому было значительно меньше сословных перегородок: овладение гуманитарными ценностями требует качественно иного состояния разума и души человека. Духовное состояние подлинного гуманитария - это вершина, на которую не каждому дано подняться. Естественно-научные дисциплины - в сущности только суррогат действительного образования, которое может быть только гуманитарным. Вспомним, еще в средние века в общей иерархии научных дисциплин высшее место, поднимаясь даже над философией, занимала теология. Но ведь это и было превращенной формой признания того, что именно человек, по выражению Протагора, суть мера всех вещей. Не исключая и самого Бога. Между тем, далеко не каждый допускался к изучению этой меры, ибо далеко не каждый был способен преодолеть все предварительные ступени восхождения разума к его действительной вершине.
Овладение подлинной вершиной духовного развития, было ли оно по плечу вчерашним плебеям (мы говорим не об отдельных личностях, но о статистически значимых величинах)? Нам где-то доводилось читать, что подлинным интеллигентом становятся только в третьем поколении. Базаров - интеллигент первого...
Его нигилизм - это совсем не гегелевское отрицание, связанное с преодолением отрицаемого, с восхождением на новую ступень развития. Напротив, его истоки - в простой неспособности преодоления. Если угодно, базаровский нигилизм является своеобразной формой капитуляции перед неодоленной вершиной, неосознанной формой духовного самосохранения. Ведь в том новом мире, доступ в который даже не снился его отцам, Базаров был обречен остаться белой вороной, если не сказать человеком второго сорта. Гордость плебея, сумевшего подняться над своей средой, заставляла его встать и над новым кругом, только так он мог получить от него требуемого признания. Интеллектуальное превосходство над многими из этого круга, казалось, давало право и на такие притязания, но все же духовная тайна вдруг открывшегося перед ним мира так и осталась непонятой им. Что делать, гуманитарные вершины не берутся с наскоку. Прямое осознание этого поражения грозило бы духовным коллапсом, и нигилизм предстал как своеобразная отдушина...
Интересно, что Базаров даже не замечает своего пораженияя. Напротив, именно в нем он видит свое торжество: уж если его(!) интеллект, дававший ему полное основание чувствовать свое превосходство над многими и в этом, новом для него мире, не смог разглядеть здесь никакой ценности, значит там и в самом деле пустота. И вот он строит новую систему ценностей, в которой нет никакого места "фикциям"...
Именно с Базарова начинается становление нового типа интеллигента, вернее, впрочем, было бы сказать антиинтеллигента, "беса". Именно с Базарова начинается дегуманизация культуры.
Да, "демон Сальери" - желание славы, триумфа - вечен. Может быть, в этом и нет ничего плохого: ведь желание славы для себя связано с достойным триумфа - или, по меньшей мере, овации - делом, а им может быть только такое, которое направлено на благо всего человечества. Именно так - человечества: ведь этот демон мыслит только всеобщими категориями. Но у Пастернака свой взгляд на все это:
"Быть знаменитым некрасиво,
Не это поднимает ввысь..."
Впрочем, и в самом деле страшно, если облагодетельствовать человечество берутся наследники Базарова, и мы нисколько не оговаривались, упоминая о тридцать седьмом годе: откровения Сергея Нечаева, недоброй памятью вошедшего в нашу историю, дают нам право на прямые сопоставления.
И все же. Литература - это хорошо понимает Пастернак - нравственное начало, не имеющее никакого отношения к заградительным отрядам. Земной суд творит земная сила, искусство вершит суд иной. Да и может ли искусство требовать возмездия даже для "бесов"? Ведь это же беда, а вовсе не вина Нечаевых и Стрельниковых в том, что их стремление облагодетельствовать человечество реализуется в средствах, нравственная состоятельность которых не выдерживает никакой критики. Но мы произнесли слово "вина", и если уж она все-таки есть, то в первую очередь она должна пасть именно на искусство, извечная миссионерская роль которого как раз и состоит в "изгнании бесов".
Да, литература - не заградительный отряд. Впрочем, и заградительные отряды бессильны против них. Вспомним: и в сказаниях евангелистов изгнание бесов отнюдь не сопровождалось расправой над теми, в кого они вселялись. Лишь подвиг веры, лишь сила нравственного противостояния в состоянии одолеть их. Именно в этом и заключается объяснение того, что ни доктор Живаго, ни сам Пастернак не вершат суд над обуянными "бесами" "самоуправцами революции". Все они так и остаются скорее вызывающими сострадание, чем гнев. Даже детоубийца Палых...
Суд вершит иная, высшая, сила, уберечь от которой своих героев не волен и сам романист. Повинуясь именно ей кончает самоубийством беззаветный рыцарь революции, рыцарь террора Стрельников. Но только ли потому, что он уже обложен, как бывает обложен зверь? Едва ли.
Согласиться быть расстреляным руками тех, под чьими знаменами он сражался все эти годы, значит в какой-то степени признать свою вину, признать неправедность своих действий именно перед ними. Словом, согласиться с тем, что превратно понятый им смысл жизненного служения посягал всего лишь на маленькую правду узкого партийного кредо его вождей и вдохновителей. А это значит потерять не только жизнь, но и что-то существенно большее, ибо ему, как кажется, вдруг открывается куда более глубокая вина. Но спасти свою жизнь уже невозможно, - остается спасать это большее. Именно его спасение потребовало свершить приговор самому.
Вдумаемся, ведь свершение суда над самим собою без признания вины перед теми, кто уже осудил его на смерть, есть в то же время и суд над теми, чья воля водила его, ибо если безупречен перед этой волей преступный ее исполнитель, значит, обрекшая его на смерть, преступна сама воля. Правда, все это - лишь косвенный суд, но и он предстает как нравственное поражение террора. Пусть даже и цвета пролетарских знамен. Впрочем, для Пастернака "цвет" террора не имеет решительно никакого значения.
Так что же, смерть еще одного героя? Да, и тем не менее "Доктор Живаго" при всей трагичности судеб его персонажей - не трагедия. Это роман о торжестве воскресения. Просто сама идея Воскресения неотторжима от образа крестных мук, от искупительной жертвы. Поэтому и смерть доктора Живаго, равно как и всего окружающего его мира - это еще не конец. Напротив, это только начало: именно здесь завершается цикл мировой истории, и смерть героев открывает новые пути. Не может не открыть...
Безумная вакханалия насилия не может длиться вечно. Да это противно и самой идее террора, ведь его конечной целью всегда является утверждение такого режима, в котором верховная воля должна сливаться с собственными желаниями индивидов. Поэтому рано или поздно он должен прекратиться. В крайнем случае он должен пожрать самого себя: как пожирая окружающий кислород захлебывается пламя, уничтожив и своих исполнителей должен задохнуться в самом себе террор.
Впрочем, его питательная среда - вовсе не человеческая жизнь, но страх. Только на нем держится его власть. Поэтому и предел насилию кладется вовсе не исчерпанием проскрипционных списков, но преодолением порождаемого им ужаса.
Эффективность террора не столько в его неотвратимости, сколько в другом: с регулярностью суточного движения небесной сферы он должен настигать невиновных. Невиновных даже перед его вершителями. В противном случае он вырождается в обусловленную суровыми обстоятельствами суровую форму воздаяния справедливости неправым, то есть получает какую-то форму общественного оправдания. Между тем, по всем человеческим законам террор вообще не имеет никакого права на существование в этом мире. Вожди французской революции отчетливо понимали это. Ведь уже самый факт того, что в свое время они демонстративно заняли левые скамьи в зале заседаний законодателей, был открытой декларацией того, что они сознательно преступают все свыше предписанные человеку законы. Вспомним, на том Суде, который должен вершиться над всеми нами, праведники будут отведены направо, преступившие же закон - налево. И долгое время для человека, веками воспитывавшегося на образах, навеваемых Священным Писанием, не было ничего страшней вот этой левизны. "Осуди грех, но прости грешника" означает в частности и то, что налево суждено попасть не рядовым грешникам, но лишь нравственным монстрам. Поэтому открытое признание себя левыми уже было актом террора, было полаганием начала ужаса.
Правда, при особом желании все это можно увидеть и какими-то другими глазами: революционеры возносили на алтарь собственное спасение ради спасения всего человечества; и в этом специфическом мыслеосвещении зачинаемого террора содеянное ими способно было предстать едва ли не прямым уподоблением жертвенному служению Христа, ибо и Им сказано: "Не мир пришел Я принести, но меч" (Матф. 10, 34). Так через столетие едва ли не все русские террористы, от народовольцев до эсеров и анархистов-максималистов, будут строить не только оправдание, но и освящение террора на том, что взамен отбираемой жизни они отдают свою. В своих собственных глазах все эти Перовские и Каляевы пойдут на убийство уже не как на преступление, но как на жертвенный подвиг во имя царства всеобщей любви и свободы. Но все это способно померещиться только в галлюцинаторном строе образов, только в агонии отравленного ядом ненависти духа, ибо для человека европейской культуры преступлением было посягнуть даже на свою собственную жизнь, и уж тем более недопустимым было оправдывать этим преступлением другое - посягновение на жизнь близкого. Поэтому, как ни крути, а и самозаклание убийцы - это уже открытое восстание против всех человеческих законов, начало ужаса.
Но террор, достигший масштабов геноцида, перестает вселять страх. Как это ни парадоксально, гибельным для него оказывается именно его регулярность и неотвратимость, именно то, что в любой момент он может обрушиться на любого, сколь бы невиновным тот ни был. Только неожиданный всплеск, вспышка, внезапность начала и быстрое завершение придают ему характер грозной исторической аномалии. Ставший регулярным, террор уже не воспринимается как ненормальность. Он становится константной величиной режима. Достигая при этой константности размеров настоящей пандемии, насилие становится началом, к которому относятся так, как относятся к какой-то климатической аномалии, становится чем-то вроде ледникового периода. Террор становится чем-то естественным и атрибутивным, как естественны и атрибутивны арктический холод Ледовитого океана или иссушающая жара Сахары.
Это, разумеется, не означает, что к ставшему такой же постоянной величиной, как климатическая особенность, террору становятся неприложимы ни эмоциональные, ни этические характеристики. Эмоциональное отношение возможно и к ледниковому периоду, этические оценки приложимы и к такому абстрактному, но неотвратимому началу, как дорожно-транспортный Молох. Но... в холод надевают теплое белье, о Молохе автомобильного движения, умилостивление которого требует ежедневного принесения в жертву сотен и сотен человеческих жизней, вспоминают только тогда, когда трагический жребий падает на кого-то из близких. Жизнь в конечном счете приспосабливается ко всему. Приспосабливается и к условиям террора.
Ставшее обязательным элементом социальной среды, насилие перестает быть все и вся решающим началом, и складывается какая-то новая психология, когда даже смерть берется человеком в расчет уже не как абстрактная категория каких-то отвлеченных рассуждений или структурный элемент долговременных планов, но как едва ли не обязательный элемент повседневности. Террор перестает быть безотказным средством социального строительства. Достигнув абсолютной власти, он немедленно теряет ее, ибо эта власть кончается там, где исчезает последняя возможность хотя бы какого-нибудь противления ему, где появляется постоянная готовность к смерти.
В этом и есть прямое поражение террора.
Правда, это всего лишь его собственное поражение, но еще не нравственная победа над ним.
Тренированная мысль легко построит в общем-то довольно простой силлогизм. Насилие - всем строем своего повествования утверждает Пастернак - неделимо. Но если так (а это действительно так не только в системе принимаемых Пастернаком аксиом), то принципиально неделимым оказывается и гуманизм. Есть только "просто" гуманизм: гуманизм "абстрактный", гуманизм "пролетарский" на деле не имеют решительно никакого отношения к нему. Все эти категории не просто ярлыки, которые легко поменять местами и сделать инструментом идеологической пересортицы. Они предстают средством в сущности того же террора, правда, спроецированного на неосязаемую область идеологии. Есть только гуманизм как неделимое начало, и любое ограничение его есть преступление перед ним. А значит, продолжая построение, легко прийти и к тому, что противостояние силе, преступившей его законы, тоже неделимо. В сфере нравственных абсолютов невозможна никакая избирательность, поэтому невозможно и избирательное противостояние. А следовательно, и война, обрушившаяся на Россию едва ли не сразу же после кошмара тридцать седьмого (восьмого, девятого...), - это противостояние не только фашизму, но и сталинизму! В противном случае эта война - вовсе не в защиту гуманизма.
Да, этот вывод безупречен не только с формальнологической стороны, но и со стороны формальной этики. Но формальная правильность может претендовать на истинность только в системе схоластики. В реальной жизни многое обстоит иначе. Да и сама категория истины - это не для жизни. Здесь требуется другое - правда. Формальная же безупречность чисто рассудочных построений - это еще не правда. Вспомним: основания чистого разума лежат и в откровениях "бесов". Опровержение террора (коричневого, красного, любого) происходит вовсе не силой оружия. Ни танки, ни пулеметы, ни даже атомные бомбы не в состоянии подавить его. Да и вообще истина посылки:
"Я стреляю, и нет справедливости,
Справедливее пули моей" может быть только мимолетной, временной, ограниченной, пожалуй, только чрезвычайным рядом обстоятельств. Правдой она не может стать ни при каких условиях. Единственное, что может пересились силу террора, - это нравственное начало, жертвенный подвиг человека.
Парадоксальность, вернее, чудовищная противоестественность того мира, который был порожден насилием, состоит в том, что избавиться от власти террора можно только вселив ужас в самую душу последнего. Только противопоставив ему гекатомбы и гекатомбы пошедших на самозаклание. И в войну бросаются с тем большим исступлением и радостью, чем более кровавой она становится. "Атаки и атаки, километры колючей проволоки с электрическим током, мины, минометы, месяцы и месяцы ураганного огня. Нас в этих ротах недаром смертниками звали. До одного выкашивало... Однако, вообрази, весь этот кровавый ад был счастьем по сравнению с ужасами концлагеря, и вовсе не вследствие тяжести условий, а совсем по чему-то другому." "Удивительное дело. Не только перед лицом твоей каторжной доли, но по отношению ко всей предшествующей жизни тридцатых годов, даже на воле, даже в благополучии университетской деятельности, книг, денег, удобств, война явилась очистительной бурею, струей свежего воздуха, веянием избавления." И чем более кровавой становится война, тем более твердой становится гарантия невозможности возвращения террора после победы: "Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас" (Матфей, 5, 3-12).
Да, эта война - противостояние во имя человечности, но не "цивилизованное", рационалистическое, в правильном строю с развернутыми знаменами. Но, наверное, только такое - иррациональное, исполненное презрения к смерти, исполненное жертвенности противостояние, которое способно вселить ужас в самую душу террора, и может, наконец, разорвать колдовской круг насилия: "Война - особое звено в цепи революционных десятилетий. Кончилось действие причин, прямо лежавших в основе переворота".
В сущности вся событийная линия романа укладывается в смысловую дистанцию, ограниченную двумя пунктами: "Рядом с ним поднялся неизгладимо огромный образ России, на глазах всего мира вдруг запылавшей свечой искупления за все бездолье и невзгоды человечества" и вот этим: "Кончилось действие причин..."
Да, этот роман - роман о торжестве Воскресения. Но воскресение невозможно без искупительной жертвы. И этим, провидимым с победой в войне, воскресением заканчивается не только "действие причин, прямо лежавших в основе переворота", но и целый цикл мировой истории. Крестные муки Христа открывают его, искупительная жертва России - завершает. Эта жертва рвет, наконец, извечную цепь насилия: истребление первохристиан, татарское нашествие, опричнина, диктатура Кромвеля, чума петровских начинаний, робеспьерианский террор, коллективизация, тридцать седьмой год, гитлеровский холокост... - там, за чертой спасения, ничего этого уже не может быть.
И залогом, нерушимым залогом всей этой невозможности предстают оставленные доктором Живаго стихи.
В них-то и раскрывается подлинное назначение героя. Ведь именно благодаря им, прямой преемник первых интеллигентов нового мира, евангелистов, он предстает как связующее звено между этой действительностью, где оставленному ими завету еще приходится отстаивать себя в жертвенном противостоянии террорам всех цветов и мастей, и той, новой, что грядет с неминуемой победой в этом противостоянии. В конечном счете именно в этих стихах Юрий Андреевич Живаго предстает как символ вечного сквозящего в цепи времен и городов охранительного начала, благодаря которому, несмотря ни на что, даже в истребительном кошмаре "колошмятины и человекоубины" человек все же остается человеком. Благодаря которому, несмотря ни на что, все же остается надежда и вера в его окончательное спасение.
И наконец.
Мы говорили о том, что доктор Живаго - трагически несостоявшийся поэт. Мы приводили какие-то доводы. Но любой, прочитавший его стихи легко оспорит нас: назвать несостоявшимся поэтом человека, создавшего стихи, долженствующие войти в золотой фонд русской поэзии, - значит ровно ничего не понимать в трактуемом предмете! И все же мы возьмем на себя смелость утверждать, что этот довод так же далек от истины, как, вероятно, и наши собственные рассуждения.
Да, это действительно поразительный факт. Герой романа - незаурядная личность. Талантливый врач, он легко мог бы стать "светилой" медицинского небосклона; поэт, более того, говоря словами Блока, "видевший Бога" поэт, он мог бы стать властителем дум не одного поколения, - доктор же проживает скучную неприметную жизнь ничем не выделяющегося человека. Так что же это, жизненная неудача? Или, может быть, это тоже следствие революционных потрясений, и его судьба - одна из бесчисленных жертв все той же революции?
Но нет, ни то и ни другое: здесь мы сталкиваемся с непреступаемой позицией, с элементом нравственного кредо романиста. "Быть знаменитым - некрасиво", и это прямой пережиток языческого Рима, всем строем своего повествования утверждает Пастернак, оценивать пройденный человеком жизненный путь внешними критериями успеха.
Впрочем, если уж быть строгим, то нужно сказать, что такая оценка имеет два источника, лишь одним из которых выступает непреодоленное язычество, вторым - непреодоленное холопство (говоря же более академическим языком, - мелкобуржуазность). О последнем не будем, но если уж речь зашла о рядоположении язычеству холопства, необходимо заметить, что в первом все же есть немало и положительного. Ведь в обнаженной логической форме его существо сводится к императиву: "Поступай так, чтобы заслужить уважение и признание окружающих".
И сегодня этот императив мог бы показаться вполне достойным того, чтобы руководствоваться им. Мог бы, если бы еще девятнадцать столетий тому назад на смену ему не пришел бы другой: "В начале было Слово!".
В начале было Слово и здесь, "в священной раме единственности".
Отрицание языческого принципа новозаветными откровениями объясняется очень просто. Ведь если внешними критериями успеха, внешними формами общественного признания оценивать жизненный путь человека, то и целью его жизни может стать (и часто становится на деле) признанная большинством все та же внешняя форма успеха. И чем более кричащей становится она, тем более достойным кажется пройденный человеком путь. Тем более желанной как цель она кажется и идущим во след счастливому герою. Бронза монументов, бесчисленные ряды орденских планок, имена на карте... а между тем во имя этой же формы признания когда-то был сожжен храм Артемиды Эфесской. Правда, храм - можно возразить - это от бесталанности. Но ведь талант зачастую оборачивается еще более страшным: убийство Моцарта совершено пусть и от далекого подлинной гениальности, но все же от таланта, бесчинства "бесов" - тоже, и все это в конечном счете во имя одной и той же - языческой - цели.
Аналитический ум легко найдет выход: разделяемая большинством внешняя форма признания не несет в себе ничего плохого, плохо, когда именно эта форма становится целью, становится в начале. Впрочем, если уж совсем строго, плохо, когда в начале становится не только его форма, но и само признание. И даже если такая цель достигается самыми достойными средствами, она нисколько не облагораживается: недостойное средство легко дискредитирует и самую возвышенную цель, низменная цель не облагораживается и самым достойным среством. Поэтому в начале должно лежать другое! Но сегодня, после двух тысячелетий той грандиозной "работы", свершавшейся поколениями и поколениями людей, о которой говорит роман, прийти к такому выводу действительно легко.
"В начале было Слово!"
Слово ли, совесть, нравственный ли закон - все это суть разные имена одного и того же - Бога в человеке (вспомним этическое его определение). И только когда Бог лежит в основе дела и когда именно Бог оказывает его сутью, его содержанием, оно становится делом Человека, ибо человек состоит "из Бога и работы".
Именно так: работы. Не торжественного марша, не победного шествия к достойной цели - работы. И даже не "горения во имя" - будничной повседневной работы. Исполненной Богом работы, ибо только она есть действительная душа истории.
И даже если в глазах всего мира она лишена всякой надежды на успех, если в глазах всего мира она обречена только на поражение и поругание, - работы несмотря ни на что, ибо не в признании окружающих подлинный ее смысл.
Согласие с самим собой, с Богом в своей душе - вот высшая цель человека. Именно эта цель движет доктором Живаго. Именно эта работа делает его, русского интеллигента, прямым преемником первых интеллигентов новозаветного мира. И одновременно человеком, перебрасывающим этой своей работой мост в иной мир, грядущий с новой искупительной жертвой.
Согласие с самим собой - это и высшая форма успеха...
1 А.З.Манфред "Великая Французская революция". Москва, 1983, с. 260.
2 Там же, с. 261.
3 Там же, с. 261.
4 Там же, с. 324.
5 Там же, с. 328.
6 Ем. Ярославский "История ВКП(б), ч.2. Москва, 1934, с.38.
7 Философский словарь, 5 изд. Москва, 1986 г.
10
- Доктор Живаго. Размышления о прочинанном. -



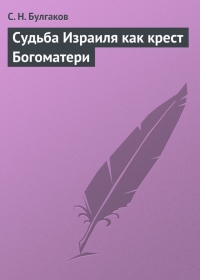

Комментарии к книге «Доктор Живаго. Размышления о прочитанном», Евгений Дмитриевич Елизаров
Всего 0 комментариев