Предисловие
«Дневник» Жюля Ренара стоит в ряду малых шедевров французской литературы. Ренар написал три или четыре одноактные пьесы, не то чтобы первоклассные, но и не откровенно слабые. Они не рассмешат вас до слез и не взволнуют до глубины души, но, если актеры играют с настроением, вы не будете изнывать от скуки и не уйдете со спектакля. Ренару принадлежит и несколько романов, один из них, «Рыжик», бесспорно, его большая удача. В нем писатель рассказал о своем детстве, о том, как его, несчастного, тиранила грубая бессердечная мать. Книга написана в характерной для Ренара манере, без стилистических красот, сухо и строго, но именно сдержанная простота придает необычайную эмоциональную силу этой страшной повести о детстве, и страдания бедняги, у которого отнята даже слабая надежда, надрывают вам душу. Жалкие попытки умилостивить это чудовище в обличье женщины вызывают у вас лишь горькую усмешку, и мучения ребенка, обреченного на унижения и несправедливые наказания, отзываются в вас нестерпимой болью. Только у закоренелого изверга сердце не обольется кровью от такой разнузданной жестокости и злобы. Эту книгу невозможно забыть.
Другие романы Ренара не заслуживают серьезного интереса. Они представляют собой либо автобиографические заметки, либо компиляцию из его подробных записей о людях, которых он близко знал, и едва ли могут вообще считаться романами. Ренар был настолько лишен художественного дарования, что просто диву даешься, почему он стал писателем. Убогость воображения не позволяла ему приподняться над простым описанием событий к их творческому осмыслению и расцветить живыми красками свои тонкие наблюдения. Он излагал факты, но для романа мало одних фактов, ибо сами по себе они мертвы. Они должны служить писателю для наглядного раскрытия той или иной идеи, и автор, если того требует замысел произведения, не только не волен отступать от них, оттеняя одно и затушевывая другое, — он просто не может иначе писать. Правда, у Жюля Ренара на этот счет была своя теория. Он утверждал, что дело автора — изложить факты, а уж на их основе читатель сам сочинит роман по своему вкусу, и любые притязания на нечто большее объяснял литературным шарлатанством. Я всегда с недоверием отношусь к романистам, когда они принимаются теоретизировать, ибо по опыту знаю, что все их рассуждения преследуют единственную цель — возвести свои недостатки в достоинства. Если писатель недостаточно талантлив, чтобы придумать достоверный сюжет, он будет доказывать, что для романа фабула не имеет ровно никакого значения; если же у писателя нет чувства юмора, он будет причитать, что юмор убивает литературу. Чтобы вдохнуть жизнь в грубые факты, писатель должен пропустить их через свое сердце. Недаром свой самый значительный роман Жюль Ренар написал на основе горьких детских воспоминаний, пронизанных жалостью к себе и ненавистью к матери.
От неминуемого забвения Ренара спасла посмертная публикация дневника, который он вел изо дня в день на протяжении двадцати лет. Это поистине удивительная книга. Ренар общался со многими людьми, игравшими заметную роль в литературном и театральном мире тех лет, с такими актерами, как Сара Бернар и Люсьен Гитри, с такими писателями, как Ростан и Капю, оставил нам поразительные живые и непринужденные рассказы о своих многочисленных встречах с ними. Вот когда цепкая наблюдательность Ренара сослужила ему добрую службу. В каждом запечатленном им портрете безошибочно узнается оригинал, и живая речь умных собеседников в его передаче не режет слух фальшивыми интонациями. Но чтобы в полной мере оценить дневники Ренара, надо по личным впечатлениям или рассказам современников хотя бы отчасти представлять себе литературную жизнь Парижа на рубеже XIX–XX веков. Когда «Дневник» был опубликован и язвительные суждения Ренара преданы гласности, его собратья по перу впали в ярость. Рисуя картину современной литературы, Ренар не щадил никого. Говорят, собака собаку не кусает. Однако в литературных кругах Франции нравы совсем иные. Английские писатели, по-моему, мало интересуются друг другом и, в отличие от французов, избегают тесного общения. Встречаются они редко, от случая к случаю. Помню, как-то давно один писатель сказал мне: «Я предпочитаю жить среди будущих персонажей моих книг». Не утруждают они себя и чтением того, что пишут их коллеги. Некий американский критик приехал в Англию с намерением взять интервью у известных писателей о состоянии английской литературы, но отказался от своей затеи, когда первый же романист — между прочим весьма знаменитый — признался в беседе с ним, что не читал Киплинга. Английские писатели охотно поделятся с вами суждениями о своих коллегах. Они скажут вам, что имярек довольно сносен, а вот в таком-то они не находят ничего особенного, но одобрение редко переходит у них в горячий восторг, а неприятие выразится скорее всего в равнодушном молчании. Их не мучает зависть к чужому успеху, и, если счастливчик не достоин выпавшей ему шумной славы, они не обрушатся на него с бранью, а только посмеются. Я бы сказал, что английские писатели заняты исключительно собой. Вероятно, им тоже не чуждо тщеславие, но оно удовлетворяется признанием узкого круга ценителей их искусства. Суровая критика не лишит их душевного покоя, и, за редким исключением, они не станут суетиться, чтобы снискать расположение рецензентов. Они живут в свое удовольствие и не мешают жить другим.
Во Франции совсем иная картина. Там в литературе идет борьба не на жизнь, а на смерть, и все яростно сводят друг с другом счеты. Одна группировка громит другую, и нужно быть всегда начеку, чтобы не угодить в расставленную врагами западню или не получить от друга удар ножом в спину. Это война всех против всех, и, как в некоторых видах спортивной борьбы, в ней нет запрещенных приемов. Литературная атмосфера пропитана горечью обид, завистью и предательством, злобой и ненавистью. Мне думается, такое ожесточение порождается определенными причинами. Во-первых, во Франции к литературе относятся как к делу серьезному, не то что в Англии, и книге придают неизмеримо большее значение, чем у нас. Горячность, с какой французы ломают копья по поводу самых отвлеченных проблем, кажется англичанам необъяснимой — смешной; мы никак не можем отделаться от ощущения, что в столь серьезном отношении к искусству есть нечто комическое. Кроме того, во Франции в литературу переносятся политические и религиозные споры, и если на ту или иную книгу обрушиваются с суровой критикой, то не по причине ее литературных изъянов, а потому, что автор протестант, националист, коммунист или кто-нибудь еще. Похвально, что литература играет такую роль в обществе. Прекрасно, что писатель считает важными не только свои книги, но и произведения своих коллег. Нельзя не отнестись с уважением к тому, что писатели еще верят в силу слова и выступают в защиту одних книг, благотворных для общества, и ратуют против других, которые, по их мнению, наносят ему вред. Книги обретают силу лишь тогда, когда сами авторы верят в их значение. Поскольку литература во Франции пользуется таким влиянием, то борьба в ней позиций и мнений становится порой непримиримой.
Меня всегда удивляла странная манера французских писателей читать друг другу вслух свои произведения, даже еще не законченные. Английские писатели тоже иногда посылают рукописи товарищам по перу на критический суд, под коим они разумеют похвалу, ибо Боже вас упаси высказать своему коллеге сколько-нибудь серьезные замечания. На вас обидятся, только и всего, а критику пропустят мимо ушей. Но добровольно принять пытку и просидеть, томясь от скуки, несколько часов кряду, пока ваш коллега читает вслух свое последнее творение, — на такое английский писатель не способен. Между тем во Франции это считается само собой разумеющимся, этаким святым долгом писателя, но что самое удивительное — даже признанные мастера будут переписывать страницу за страницей в своей новой книге, если во время чтения услышат критические высказывания. Сам Флобер признавался, что делал исправления после замечаний Тургенева. Андре Жид поступал точно так же, о чем сообщил нам в своем «Дневнике». Не скрою, такое пристрастие к обсуждениям меня озадачивает. Я нахожу этому лишь одно объяснение: поскольку во Франции профессия писателя почетна (в Англии к ней всегда относились с некоторым предубеждением), то французы нередко выбирают писательскую стезю, не обладая ярким творческим дарованием. Живой ум, широкая образованность и традиции многовековой культуры позволяют многим французским писателям создавать высокохудожественные произведения, но они — плод целеустремленности, усердия и строгой дисциплины, а не творческого вдохновения. Вот почему критика, доброжелательный совет необходимы писателю. Но сомнительно, чтобы великие художники, такие титаны, как Бальзак, обременяли себя подобной морокой. Они писали потому, что в этом был для них главный смысл жизни, и, закончив одно произведение, уже жили новыми замыслами. Между тем французские писатели готовы на все, лишь бы довести свое творение до немыслимого совершенства, а поскольку они люди здравомыслящие, то самодовольства у них поменьше, чем у англичан.
Есть еще одна причина, почему между французскими литераторами кипит непримиримая вражда: пишущих слишком много, а читающих мало, и литературным заработком не прокормишься. Потенциальная аудитория англоязычного писателя насчитывает двести миллионов; у французского писателя неизмеримо меньше читателей. Английским писателям не тесно в литературе. Вы можете о ком-то из них никогда не слышать, но это не мешает ему неплохо зарабатывать, если, разумеется, он не графоман. Английский писатель не разбогатеет на своих гонорарах, но если бы он захотел сколотить состояние, то едва ли посвятил бы себя литературе. Со временем у него образуется круг постоянных читателей, а поскольку газеты заинтересованы в рекламе издательств, они регулярно печатают рецензии, так что большая пресса никогда не обойдет вниманием. В Англии писатель позволяет себе не завидовать собратьям по перу. Между тем во Франции мало кто из романистов может жить литературным трудом. Если писатель не богат или не имеет какой-либо профессии, дающей ему пропитание, он вынужден подвизаться в журналистике. Спрос на книги невелик, и успех одного грозит обернуться крахом для другого. Вот и идет борьба за известность, за признание у публики. Писатели всеми силами стараются привлечь к себе благожелательное внимание критиков, а поскольку рецензии порой оказывают решающее влияние на литературные репутации, то даже признанные авторы с беспокойством ждут отзывов в прессе, и если они нет хвалебны, то ярости оскорбленного литератора не предела. Бесспорно, во Франции критике придается несравненно больше значения, чем в Англии. Некоторые критики столь всесильны, что судьба книги в их руках — они могут прославить ее или уничтожить. Хотя каждый культурный человек в мире читает по-французски и французскую литературу знают не только в Париже, тем не менее писателя-француза волнует только мнение парижских литераторов, критиков, просвещенной публики. А поскольку каждый писатель во Франции мечтает покорить Париж, то этот город становится ареной яростной борьбы, и в нем не утихают страсти. Мизерность литературных доходов вынуждает писателей бешено работать локтями, интриговать в погоне за ежегодными премиями или за избрание в одну из академий, ибо академическая мантия не только достойно венчает карьеру писателя, но и поднимает его цену на книжном рынке. Однако на всех жаждущих премий не хватает и в академиях редки вакансии для признанных мэтров. Мало кто знает, какая жестокая борьба, какие сделки и козни предшествуют присуждению премий или выдвижению нового кандидата в академики.
Разумеется, и во Франции есть писатели, равнодушные к деньгам и презирающие почести, а поскольку французы — народ великодушный, то имена таких бессребреников окружены всеобщим безоговорочным уважением. Вот почему некоторые, в сущности посредственные писатели, к недоумению иностранцев, пользуются необъяснимо высоким авторитетом, особенно у молодежи. Увы, талант и самобытность не всегда сопутствуют благородству натуры.
Жюля Ренара отличала поразительная искренность, и в «Дневнике» он не старался изобразить себя лучше, чем он был на самом деле. Злой, холодный, эгоистичный, ограниченный, завистливый и неблагодарный — таким он предстает перед нами. Единственное, что подкупает в нем, — это любовь к жене, только о ней одной пишет он с неизменной нежностью. Он был болезненно мнителен, и тщеславие его не имело границ. Не знал он порывов великодушия или доброй воли. Он с презрением поносит все, чего не понимает, и ему не приходит в голову усомниться в собственной непогрешимости. Злопыхатель, не способный на благородство ни в делах, ни в помыслах. И все-таки читать «Дневник» — огромное наслаждение. От него невозможно оторваться. Здесь бездна остроумия, проницательности, мудрости. Это прежде всего записная книжка писателя, ни на мгновение не забывающего о своей профессии, одержимого правдой в искусстве, стремящегося к ясности стиля и безупречности языка. Едва ли найдется кто-то другой, столь же добросовестно служивший литературе. Жюль Ренар заносит в дневник остроты, афоризмы, эпиграммы, все, что видит и слышит, описывает внешность людей, пейзажи, игру света и тени, короче говоря, все, что может пригодиться ему, когда он сядет за письменный стол. Некоторые книги он писал именно так: накопив достаточно фактов, выстраивал их в более или менее связное повествование и этим ограничивался. Эта часть «Дневника» наиболее интересна для писателя. Вы проникаете в лабораторию автора, видите, что привлекает его внимание, как он отбирает материал для своих книг. То, что Ренар не сумел использовать его лучшим образом, это уже совсем другой вопрос.
Не помню, кто сказал, что записные книжки должен вести каждый писатель, но ему не следует ссылаться на них. По моему разумению, в этих словах заключена несомненная истина. Занося в записную книжку то, что привлекло ваше внимание, вы выделяете это явление из сплошного потока впечатлений, проносящихся перед вашим взором, и фиксируете его в памяти. Всех нас посещали неплохие мысли, яркие ощущения, и мы думали, что когда-нибудь они непременно войдут в наши книги, но мы поленились записать свои впечатления, и впоследствии они стерлись из памяти. Когда ведешь записную книжку, начинаешь пристальнее вглядываться в окружающее, ищешь слова, чтобы точнее передать своеобразие увиденного. Коварство записных книжек в том, что если писатель слишком зависит от них, то теряет свободу и непринужденность повествования, которую несколько высокопарно называют вдохновением. Случается, что писатель не может устоять перед соблазном непосредственно ввести в текст свои заметки, независимо от того, уместны они или нет. Рассказывают, что Уолтер Патер во время чтения записывал на листочках все, что приходило в голову, потом раскладывал листочки по разным ящикам, и, когда на ту или иную тему набиралось достаточно заметок, он делал из них эссе. Если это так, понятно, почему стиль Патера несет на себе столь явную печать скованности. Возможно, поэтому его произведениям так не хватает размаха и силы. По-моему, для писателя должно быть правилом все записывать, и я жалею, что врожденная лень помешала мне делать это более усердно. Записная книжка — очень полезная вещь, если пользоваться ею с умом и в меру.
Поскольку в «Дневнике» Ренара я нашел для себя столько примечательного, я дерзнул собрать мои собственные заметки и вынести их на суд моих коллег. Спешу оговориться, что, по степени интереса, мои записи не могут идти ни в какое сравнение с его дневниками. Это скорее разрозненные фрагменты. Бывали годы, когда я вообще не вел дневников, и я не собираюсь выдавать эту книгу за дневник. Я никогда не записывал свои беседы с интересными людьми или знаменитостями. Теперь я об этом жалею. Несомненно, читатели извлекли бы для себя гораздо больше интересного из этой книги, если бы я воспроизвел в ней суждения и высказывания многих видных писателей, художников, актеров и политических деятелей, которых знавал более или менее близко. Мне просто никогда не приходило это в голову. Я записывал только то, что могло рано или поздно пригодиться мне в литературной работе, и даже в самом начале своего пути я фиксировал свои мысли, ощущения и переживания исключительно для того, чтобы впоследствии наделить ими моих героев. Я смотрел на записные книжки как на своего рода склад заготовок для будущих произведений, не более того.
Но с годами, глубже познавая суть работы писателя, я все меньше записывал свои рассуждения о разных предметах и все больше — непосредственные впечатления о людях, с которыми встречался, или о местах, где побывал, то есть накапливал фактуру для произведения, которое в тот момент занимало мои мысли. Правда, однажды я отправился в Китай, рассчитывая впоследствии написать книгу, но за время путешествия у меня накопилось столько записей, что я раздумал делать книгу, я просто опубликовал свои заметки в виде путевого дневника. Разумеется, я не включил их в этот том. Не вошли в него и все записи, так или иначе использованные мной, и если внимательный читатель встретит какие-то знакомые ему фрагменты, он должен знать, что они попали в книгу в результате моей небрежности, а не потому, что я столь высокого мнения о них. Я сознательно оставил те заметки, которые в свое время подсказали мне сюжеты каких-то романов или рассказов. Быть может, читатель помнит эти произведения, и ему будет интересно узнать, как родились их замыслы. Я никогда не утверждал, что мои книги высосаны из пальца: как правило, я отталкивался от конкретной жизненной ситуации или конкретного человека, а воображение и изобретательность вкупе с чутьем драматурга помогали мне создать из них нечто свое.
Первые записные книжки я заполнял главным образом набросками к будущим пьесам, которые так и не написал. Сегодня они уже не представляют никакого интереса, и я не стал включать их в это издание. В то же время я оставил многие другие фрагменты, относящиеся к тому периоду, хотя сегодня они кажутся мне утрированными и глуповатыми. По сути дела, это были философствования юноши, столкнувшегося с реальной жизнью, вернее, с тем, что он тогда принимал за нее, и ощутившего вкус свободы; они были естественны для того, кто вырос в том обеспеченном замкнутом социальном кругу, где родился я, и кто воспринимал мир сквозь искаженную призму пустых фантазий и романов. В этих моих суждениях выразился протест против воззрений и предрассудков среды, которая меня воспитала. Я посчитал бы нечестным скрывать от читателя свои прошлые заблуждения. Моя первая записная книжка датирована 1892 годом, в то время мне исполнилось восемнадцать, и сейчас ни к чему изображать себя умнее, чем был тогда. Я вступал в жизнь несведущим и наивным, восторженным зеленым юнцом.
Мои записные книжки — это пятнадцать пухлых томов, но после всех сокращений я свел их в одну книгу, не превышающую по объему традиционный роман. Надеюсь, читатель сочтет это достаточным оправданием для публикации. Я не печатаю свои дневники полностью, поскольку не столь самоуверен, чтобы каждое свое слово считать достойным увековечивания. И все же я предлагаю свои заметки вниманию читателя, так как меня самого всегда занимали вопросы литературного мастерства и психология творчества; попадись мне в руки такая же книга другого автора, я раскрыл бы ее с живейшим любопытством. По счастливому совпадению то, что интересовало меня, часто оказывалось интересным и для множества других людей. Когда я решил стать писателем, я и не надеялся на такую удачу и впоследствии никогда не переставал ей удивляться. Хочется верить, что мне повезет и на сей раз и читатели почерпнут из моих записок нечто полезное для себя. С моей стороны было бы дерзостью решиться на такую публикацию в самом разгаре литературной деятельности. Мой поступок могли бы расценить как желание возвеличить себя и принизить своих коллег-писателей. Но теперь я состарился и вышел из игры. Удалившись от суеты, я мирно устроился на книжной полке. Все мои честолюбивые планы давно осуществлены. У меня нет желания ни с кем соперничать, и дело не в том, что я не вижу достойных противников; просто я уже сказал все, что хотел, и могу уступить другим свое скромное место в литературном мире. Ныне, когда я достиг всего, о чем мечтал, мне больше пристало помолчать. Мне говорят, что, если писатель в наши дни не напоминает публике о себе новыми книгами, он обречен на забвение, и я не сомневаюсь, что так оно и есть. Ну что ж, я к этому готов. Когда в «Тайме» появится извещение о моей кончине и все скажут: «Надо же, а мы думали, он давно умер», я, став тенью, тихо посмеюсь.
1949 г.
1892
В тот год я поступил в медицинский колледж при больнице св. Фомы, где проучился пять лет. Занося первые заметки в записную книжку, я аккуратно проставлял числа, и такая точность датировки в какой-то мере, надеюсь, оправдывает их содержание. Позднее я перестал проставлять даты: частенько записи делались впопыхах, на клочке бумаги или на обороте конверта, и определить, когда они были написаны, можно лишь по их темам. Вполне вероятно, что кое-где я ошибся на год-другой; впрочем, это вряд ли имеет какое-либо значение.
* * *
Сколько глупостей творят люди и как мило при этом щебечут; пожалуй, лучше бы они уж больше болтали, но меньше действовали.
* * *
Глупцы черпают остроумие из песенок варьете, а мудрость — из пословиц.
* * *
Удача непременно ставится человеку в заслугу, но истинные заслуги редко приносят удачу.
* * *
Максимы викария.
Священнику платят, чтобы он проповедовал, а не за то, чтобы сам исповедовал благочестие.
Приглашай к себе отобедать или погостить только тех, кто может ответить тебе тем же.
«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Отличная сентенция — только для других людей.
На доводы поборников трезвости он неизменно отвечал: «Господь повелел нам пользоваться мирскими благами», и в подтверждение держал у себя в буфете изрядный запас виски и ликеров, храня его, правда, под надежным замком. «Людям спиртное не на пользу, — говаривал он, — да и грешно вводить их в искушение; кроме того, они все равно не оценят эти напитки по достоинству».
Эти соображения я слышал из уст моего дяди, викария Уитстабла; я принимал их за чистую монету, однако теперь, оглядываясь назад, я склонен думать, что он оттачивал на мне свое чувство юмора, о существовании которого у него я и не подозревал.
* * *
Чтение не делает человека мудрым; оно лишь придает ему учености.
* * *
Респектабельность — это плащ, которым дураки прикрывают свою глупость.
* * *
Ни один поступок не бывает хорошим или плохим сам по себе, но считается таковым лишь по обычаю.
* * *
Старая дева непременно бедна. Если же она богата, тогда это незамужняя женщина определенного возраста.
* * *
Гению следует использовать посредственность в качестве чернил, которыми он может вписать свое имя в анналы истории.
Гений — это талант, наделенный идеалами. Гений умирает с голоду, а талант тем временем рядится в пурпур и кружева.
Человек, ныне считающийся гением, через пятьдесят лет почти наверняка окажется всего лишь талантливым.
* * *
Отправиться в картинную галерею вместе с другом — значит подвергнуть его жесточайшему испытанию. Ведь большинство людей оставляют любезность и учтивость у входной двери, вместе с зонтами и тростями. Лишившись внешнего лоска, они демонстрируют свой нрав во всей его наготе. И вы вдруг замечаете у старых знакомых догматизм и высокомерие, легкомыслие и глупость, нетерпимость к возражениям и даже к взглядам других. И они ничуть не стремятся скрыть свое мнение о вас — как правило, весьма нелестное.
Если же в этих условиях человек терпеливо выслушивает ваши суждения, допуская, что и вы можете быть правы, — вот это настоящий друг.
* * *
Однако, прежде всего, скажите, вполне ли вы уверены в моей дружбе, убеждены ли в ней настолько, что я могу говорить с вами на самую щекотливую тему?
Ну, разумеется, мой дорогой; человек кристальной души, вроде тебя, имеет право высказывать самые неприятные вещи. Смелее.
* * *
Брукс. Это человек ниже среднего роста, широкоплечий, крепкий, хорошо сложенный; у него красивая голова, ладный нос, широкий и высокий лоб; но лицо его, всегда чисто выбритое, сужаясь, оканчивается острым подбородком; глаза бледно-голубые, не слишком выразительные; рот большой, губы толстые и чувственные; кудрявые, но редеющие длинные волосы развеваются по плечам. Вид у него изысканный и романтический.
Поступив в Кембридж, он попал в круг людей со средствами и спортивными увлечениями, там он прослыл человеком выдающегося ума; того же мнения придерживались его научный руководитель и глава колледжа. Брукс исправно посещал банкеты и прилежно зубрил право. Университет он окончил неплохо. Поселившись в Лондоне, стал одеваться у дорогого портного, завел любовницу и, повинуясь настояниям друзей, усмотревших в нем задатки политического деятеля, вступил в клуб «Реформ». Друзья его были люди начитанные, и он прошел курс английской классической литературы, пусть и неглубоко, по-дилетантски. Он восхищался Джорджем Мередитом и презирал многотомные романы. Стал прилежным читателем еженедельников и толстых литературных журналов, ежемесячных и ежеквартальных. Часто ходил в театр, в оперу. Остальные вечера либо проводил у друзей, либо сидел в каком-нибудь старомодном трактире — потягивал виски, курил, до глубокой ночи рассуждая о жизни и смерти, о судьбе, христианстве, о книгах и политике. Он прочитал Ньюмена, и тот произвел на него впечатление; в Бромптонской молельне он открыл для себя римско-католическую церковь, очень его пленившую. Но внезапно заболел и по выздоровлении уехал в Германию. Там он познакомился с людьми, чьи увлечения и пристрастия были совсем иными, нежели у его прежних приятелей. Брукс принялся изучать немецкий и с этой целью прочел немецких классиков. К его восхищению Мередитом и Ньюменом добавилось увлечение Гете. Отправившись ненадолго в Италию отдохнуть, он влюбился в эту страну и, прожив в Германии еще несколько месяцев, вернулся на Апеннины.
Читал Данте и Боккаччо; но, познакомившись с учеными мужами, страстными поклонниками античных греческих и римских авторов, обнаружил, что они не слишком высокого мнения о его дилетантских штудиях. Всю жизнь легко подпадая под чужое влияние — любое новое впечатление сказывалось на нем незамедлительно, — он быстро усвоил взгляды своих новых друзей; и принялся за античных классиков.
Он выказывает страстную любовь к прекрасному, приходит в неистовый восторг при виде картины Боттичелли, альпийских снежных вершин, захода солнца над морем — всего того, чем восторгаться принято, но совершенно не замечает неброской прелести окружающего мира. При этом Брукс ничуть не притворяется; если он чем-то восхищен, то вполне искренне, неподдельно; однако он способен заметить красоту, только если ему на нее укажут, сам же не в состоянии открыть ничего. Он вознамерился заняться сочинительством, не обладая необходимыми для того энергией, воображением и волей. Отличаясь примитивным усердием, он интеллектуально ленив. Последние два года он изучал Леопарди, намереваясь перевести кое-какие его тексты, но так и не взялся за перо. Брукс столь долго жил в одиночестве, что преисполнился самого высокого мнения о себе. Мещан он презирает. Держится высокомерно. Стоит завязаться разговору, и Брукс с видом прозорливого мудреца роняет несколько банальных замечаний так, словно разрешил вопрос и больше говорить не о чем. Он очень обидчив и оскорбляется до глубины души, если ваше мнение о нем не совпадает с его собственным. Брукс жаждет восхищения. Он слаб, тщеславен и насквозь эгоистичен; но любезен, когда это его ни к чему не обязывает, а если вы не погнушаетесь грубо польстить ему, то бывает способен и на сочувствие. У него хороший вкус и подлинное литературное чутье. За всю жизнь в его голове не родилось ни единой собственной мысли, зато он с чувством и весьма пространно рассуждает об очевидном.
* * *
Насколько счастливее была бы жизнь, если бы восторг первых шагов в каком-либо деле не угасал до завершения предприятия, если бы осадок на дне бокала был не менее сладок, чем первый глоток вина.
* * *
Какую бы сильную неприязнь вы ни питали к родственнику, как бы ни поносили его сами, вас непременно коробит, когда вы слышите от других нечто такое, что выставляет его в смешном или невыгодном свете, ибо отблеск этого света ложится и на вас, уязвляя ваше самолюбие.
* * *
В больнице. Двое крепко дружили: они вместе обедали, вместе работали и развлекались, словом, были неразлучны. Один уехал домой на несколько дней, в его отсутствие второй, вскрывая труп, получил заражение крови и через два дня умер. Тут возвращается первый; они с приятелем договорились встретиться в мертвецкой; войдя туда, он обнаруживает друга на столе, голым и бездыханным. «Это меня изрядно потрясло», — признался он, рассказывая мне эту историю.
* * *
Я только что приехал из Лондона. Заглянул в столовую: у стола сидела за рукодельем моя престарелая тетя. Горела лампа. Я подошел к тете и тронул ее за плечо. Она слегка вскрикнула, а увидев меня, вскочила, обвила исхудалыми руками мою шею и расцеловала меня.
— Ах ты, мальчик мой дорогой! — проговорила она. — А я уж думала, что никогда больше тебя не увижу. — И со вздохом склонила бедную старую голову мне на грудь. — Как мне грустно, Вилли, я знаю, что умираю, мне не протянуть и до конца зимы. Я всегда хотела, чтобы твой дорогой дядюшка покинул этот мир первым и тем был избавлен от необходимости оплакивать мою смерть.
Слезы навернулись мне на глаза и потекли по щекам. И тут я понял, что сплю: я вспомнил, что тетя моя уже два года как умерла, и, едва тело ее успело остыть, мой дядя женился снова.
* * *
Год назад в заливе Сент-Айвс разыгрался сильный шторм, его жертвою стало одно итальянское судно. Корабль уже начал тонуть. Запустили ракету; правда, моряки, видимо, не очень себе представляли, как именно посылать нужный сигнал; они видели берег, сулящий им все возможности для спасения, но были совершенно беспомощны. Миссис Эллис рассказывала мне, что она долго стояла у окна своего домика, глядя на терпящий бедствие корабль; зрелище было мучительное, и, почувствовав, наконец, что силы ее на исходе, она ушла на кухню и там провела ночь в молитвах.
* * *
Большинство людей непроходимо глупы и когда кого-нибудь аттестуют как человека недюжинного ума, это не слишком большой комплимент.
* * *
До чего же уродливо большинство людей! Жаль, что они не пытаются возместить это приятными манерами.
Она не замужем. А мне объяснила, что поскольку женщине положено иметь лишь одного мужа зараз, брак, на ее взгляд, обречен на неудачу.
* * *
То-то, наверное, веселились боги, подсовывая в ящик Пандоры к прочим бедствиям еще и надежду: они ведь прекрасно понимали, что это жесточайшая из всех напастей — именно надежда побуждает человека терпеть свои мучения до конца.
1894
Сегодня утром был казнен Касерио Санто, убийца президента Карно; газеты пестрят фразами вроде: «Санто умер, как трус».
Но это же неправда; да, верно, его трясло так, что он едва мог взойти на эшафот, а последние слова произнес голосом настолько слабым, что их с трудом можно было расслышать, но и в них он отстаивал свои убеждения: «Vive l'Anarchie!»[1] Он остался верен своим принципам до последнего; ум его был столь же тверд и свободен от малодушия, как в тот миг, когда он наносил удар, который, он не сомневался, ему придется искупить собственной смертью. Трепет и едва слышный голос говорят о физическом страхе смерти, который могут испытывать и храбрейшие из храбрых, однако произнесенные им слова говорят о редком мужестве. Плоть проявила слабость, но дух остался несокрушим.
* * *
Эти последние дни всеми владеет необычайное возбуждение в связи с возможностью войны между Англией и Францией.
Еще неделю назад ни о чем подобном не было слышно; никто и думать не думал о таком повороте событий; но в прошлую субботу газеты заговорили о напряженности в отношениях между двумя странами. Однако и тогда ни слова не было сказано о войне, а когда зашла о ней речь, все только смеялись, как над полной нелепицей. На следующий день газеты внесли некоторую ясность; причиной раздора оказался Мадагаскар, который французы желали аннексировать. В газетах стали писать о серьезных осложнениях, намекая, что, возможно, придется воевать. Обыватели, тем не менее, по-прежнему считали, что для паники оснований нет; не такие французы дураки, утверждали многие, развязать войну они не решатся ни за что. И вот сегодня, в среду третьего октября, весь город потрясло сообщение о том, что назначено срочное заседание кабинета, на которое вызваны все разъехавшиеся в отпуск министры.
Общее волнение нарастало: пошли разговоры о крайней завистливости французов, об их интригах в Сиаме и Конго; газеты раскупались нарасхват, все зачитывались статьями на эту тему, к которым прилагалась карта Мадагаскара. На бирже возникла паника; курс акций упал, повсюду только и разговоров, что о войне, горожане толкуют о добровольном вступлении в армию. Куда ни придешь, тебя первым делом спрашивают о последних новостях. Все в волнении. При этом не ощущается никакой враждебности по отношению к французам, одна только твердая решимость идти, если понадобится, в бой. Правительство не вызывает большого доверия, поскольку известно, что оно расколото; хотя многие уповают на лорда Розбери, не секрет, что некоторые члены кабинета его не поддерживают и, по общему мнению, могут помешать ему что-нибудь сделать. В стране нарастает убеждение, что если Англия проглотит очередную обиду со стороны Франции, то правительство будет свергнуто. Волнение и страх перед надвигающейся войной очень велики, и все сходятся на том, что хотя некоторая отсрочка и возможна, жадность, гордыня и завистливость французов таковы, что рано или поздно войны не миновать. Но при всем том мало кому ясна ее причина; никто не имеет ни малейшего понятия, почему конфликт разгорелся именно из-за Мадагаскара.
В тот вечер я отправился на встречу со своими знакомыми; на пути мне встретились два почтальона, они обсуждали занимавшую всех тему. Добравшись до места, я нашел своих приятелей в точно таком же возбуждении. Ни о чем, кроме предстоящей войны, и речи не было. Мы сравнивали отношения между французами и немцами до войны 1870 года и теперь, рассуждали о Креси и Азенкуре, о Питте и Веллингтоне. Начался долгий спор о первых военных действиях: что произойдет, если французские войска высадятся на побережье Англии? Где именно они могут высадиться? Что предпримут потом? И как помешать им взять Лондон?
4 октября. Паника кончилась. Выяснилась причина срочного созыва кабинета министров: необходимо было обеспечить безопасность английских подданных в Пекине, и все, таким образом, вернулось на круги своя. Впрочем, общественность несколько возмущена тем, что ее ввели в заблуждение; какая была, спрашивается, нужда скрывать причину срочного заседания кабинета? Ведь не могли же там не понимать, что возникнет паника, которая приведет к огромным потерям денег на бирже. А журналисты, главные зачинщики всей этой кутерьмы, злятся, что клюнули на такую глупость.
* * *
Аннандейл. Заметив, что он повернул две стоявшие у него в комнате статуэтки лицом к стене, я спросил, почему он это сделал. Он ответил, что очень многие вещи сзади выгладят гораздо выразительнее.
Аннандейл: «Мне часто кажется, что человек, которого зовут Смит, непременно живет какой-то совсем иной жизнью; в ней нет места ни поэзии, ни своеобразию».
Он любит читать Библию.
«В некоторых ее персонажах мне всегда чудилось нечто невероятно французистое».
Вчера он рассказал мне старый анекдот, и я заметил, что уже много раз слыхал его. На это Аннандейл возразил: «Едва ли есть нужда в новых шутках. Тот, кто их сочиняет, вызывает у меня известное презрение. Он похож на рудокопа, добывающего алмазы; я же — на искусного художника, который гранит и полирует их, услаждая взоры женщин их красотою».
Позже он обронил: «Не понимаю, отчего не принято высказывать свое мнение о себе, особенно если оно, как на грех, лестное. Я умен, и сам это знаю, так почему бы мне не признать этого вслух?»
* * *
Учась в медицинском колледже при больнице Св. Фомы, я снимал меблированные комнаты в центре Лондона, на площади Винсент, дом 11. Моя домохозяйка была человеком весьма оригинальным. Я изобразил ее в романе «Пироги и пиво», но там я лишь намекнул на ее многочисленные достоинства. То была женщина добрая, да еще и мастерица стряпать. Она обладала здравым смыслом и неподражаемым юмором лондонских низов. Постояльцы ее очень потешали. Привожу записи некоторых ее разговоров.
Вчера вечером миссис Форман вместе с мисс Браун, той, что сдает квартиры в доме 14, ходила на концерт в здание местного совета. Там же был и мистер Гаррис, хозяин ближайшей пивной. «Гляньте-ка, это ж мистер Гаррис, — говорю я. — Провалиться мне на месте, если это не он». Мисс Браун поднимает лорнетку, зажмурив один глаз, смотрит вниз и объявляет: «И правда, мистер Гаррис, собственной персоной». «Разоделся-то как, а?» — говорю я. «Что и говорить, расфуфырился вусмерть, дальше некуда!» — отвечает она. «И сразу видно, одежа-то не заемная: сидит, как влитая», — говорю я. «Небось не у каждого найдется такой костюмчик, верно?» — говорит она.
И, уже обращаясь ко мне, хозяйка заключает: «Ну, я тебе скажу, и видок же у него был! В петлице торчал вот такой здоровенный белый цветок; при его-то красной роже да белый цветок, смех да и только».
* * *
«Да, очень мне хотелось мальчика, и Господь исполнил мое желание; только теперь я об том жалею; вот бы мне тогда попросить девочку, я б ее научила и полы мыть, и на фортепья-нах играть, и каминные решетки черной пастой надраивать, да всего и не перечислишь».
О длинном слове, которое кто-то употребил: «Такое, знаешь, благородное словцо; того и гляди челюсть сломаешь, пока вымолвишь».
«Ну, ничего, в конце концов все обойдется, — как рак на горе свистнет, так все и наладится».
«Вот назюзюкался, смотреть страшно; теперь, пожалуй, и домой поползет».
Когда я вошел в свою комнату, камин не горел, и миссис Форман разожгла его снова. «Как я уйду, проси огонь гореть шибче, ладно? Только не смотри на него. Увидишь, он славно разгорится, если на него не смотреть».
* * *
«По-моему, сынок наш не больно ласковый; и никогда не ластился, даже сызмалу. Но он знает, почему я его балую: уж очень он на всякие плутни горазд. Мы его страсть как любим. Ох, до чего ж он сладкий, слаще варенья! Так бы его и съела, особенно с голодухи; есть у него такие славные мя-гонькие местечки; неровен час откушу кусочек-другой».
* * *
Есть два вида дружбы. В основе одного лежит животная притягательность. Друг нравится не за особые свойства или таланты, а потому что к нему тянет. «C'est mon ami parce que je l'aime parce que c'est mon ami».[2] Это чувство безрассудное, неподвластное уму; вполне вероятно, что, по иронии судьбы, испытываешь тягу к человеку, совершенно того не достойному. Этот вид дружбы, хотя и не замешанный прямо на половом влечении, на самом деле сродни любви: он возникает похожим образом; не исключено, что и угасает он так же, как любовь.
Второй вид — это дружба интеллектуальная. Вас привлекают таланты нового знакомого. Его идеи вам непривычны; он видел те стороны жизни, о которых вы не имеете понятия; его жизненный опыт повергает вас в изумление. Но бездонных колодцев не бывает, рано или поздно друг исчерпает свой запас; и тогда наступит решающая для дружбы минута. Если ему больше нечем поделиться из прочитанного или из собственного опыта, то он уже не способен ни развлечь вас, ни возродить интерес к себе. Колодец вычерпан, и опущенное в него ведро возвращается порожним. Вот почему теплые отношения с новыми знакомыми легко завязываются, но так же легко и рвутся; кроме того, поняв, что восторгался недостойным восхищения предметом, человек испытывает разочарование, перерастающее в презрение и неприязнь. Бывает, что по той или иной причине по-прежнему часто видишься с этим приятелем. Тогда, если сумеешь воспользоваться достоинствами недавнего знакомца, то можно обратить общение с ним себе во благо: встречаясь через достаточно длительные промежутки времени, дать ему возможность набраться свежих впечатлений и запастись новыми мыслями. Постепенно разочарование его ограниченностью сгладится, привыкнув, станешь снисходительным к его недостаткам, и такая необременительная дружба может длиться долгие годы. Если же, исчерпав запас благоприобретенных знаний приятеля, обнаружишь в нем кое-что сверх того: характер, тонкость чувств и живой ум, — дружба окрепнет и превратится в связь, по-своему не менее восхитительную, чем та, другая дружба, основанная на физическом тяготении.
Вполне можно себе представить, что объектом дружбы обоих видов может стать один и тот же человек; это был бы идеальный друг. Но что толку мечтать о несбыточном. Иное дело — тот нередкий случай, когда с одной стороны возникает животная тяга, а с другой — интеллектуальный интерес; тогда неизбежен разлад.
В молодости дружбе придается большое значение, и всякое новое знакомство становится увлекательным приключением. Не помню, кто именно навел меня на эти путаные размышления, но поскольку в ранней молодости мы склонны делать обобщения на основе единичных впечатлений, я подозреваю, что моя тяга к какому-то знакомцу осталась безответной, а некто другой, чей ум меня заинтересовал, не оправдал моих надежд.
* * *
На мой взгляд, в повседневной жизни философия годится лишь на то, чтобы помогать нам спокойно встречать неизбежное. Доказывая полезность действия, которое мы вынуждены предпринимать даже и против собственной воли, она немного сглаживает эту неприятную необходимость. Философия помогает нам сохранять душевное равновесие при совершении того, что совершать не хочется.
В любовных отношениях полезна воздержанность. Никто из нас не способен любить вечно. Любовь только крепнет и длится дольше, когда возникают препятствия для ее удовлетворения. Если утолить свою страсть влюбленному мешают разлука, недоступность объекта любви, его капризы или холодность, пусть немного утешает мысль, что когда его желания осуществятся, восторг будет сильнее. Но если помех не существует, то, повинуясь самой природе любви, влюбленный и не подумает проявить благоразумие; наказанием ему станет пресыщенность. А дольше всех длится любовь безответная.
* * *
Не приходится сомневаться в том, что многими своими добродетелями мы обязаны христианству, но не менее верно и то, что мы обязаны ему и некоторыми пороками. Любовь к самому себе есть главная движущая сила любого поступка, основа человеческого характера; естественно предположить, что эта любовь к себе — залог самосохранения человека. Но христианство провозгласило ее пороком. Христианину положено любить, радеть и печься не о себе, но лишь о своей душе, и требование вести себя вопреки собственной природе приучило человека к лицемерию. Когда он сам повинуется своим инстинктам, в нем возникает чувство вины, а когда им повинуются другие, пусть и без ущерба для него самого, в нем просыпается обида. Если бы эгоизм не считался пороком, то от него испытывали бы не больше неудобств, чем от закона всемирного тяготения; никто не ждал бы от сограждан действий, противоречащих их собственным интересам; каждому казалось бы вполне разумным, что они ведут себя эгоистично; тем более что им на самом деле это очень свойственно.
* * *
Полезное правило: не спрашивать с человека более того, что он может дать без каких-либо неудобств для себя.
* * *
Вера в Бога покоится не на здравом смысле, логике или доказательствах, а на чувствах. Существование Бога невозможно доказать, равно как и опровергнуть. Я не верю в Бога. У меня нет потребности в таком понятии. Загробная жизнь мне представляется невероятной. Угроза грядущего наказания кажется отвратительной, а обещание блаженства в награду — нелепым. Я убежден, что после смерти прекращу свое существование — вернусь в землю, из которой вышел. Однако вполне могу себе представить, что когда-нибудь в будущем я уверую в Бога; но, как и теперь, когда я в него не верю, это произойдет не в итоге размышлений или наблюдений, а только по велению чувства.
* * *
Если вы признаете существование Бога, то мне тогда непонятно, что мешает вам поверить в воскресение Христа; а если вы допускаете существование сверхъестественного, то мне тогда непонятно, зачем вы пытаетесь ограничить его какими-то рамками. Ведь в таком случае чудеса католической церкви не менее достоверны, чем чудеса Нового Завета.
Доказательства, приводимые в подтверждение истинности одной религии, очень похожи на доказательства, подтверждающие истинность любой другой веры. Удивительно, но христианина ничуть не смущает соображение, что, родись он в Марокко, он стал бы магометанином, а на Цейлоне — буддистом; и христианство представлялось бы ему столь же нелепым и явно противоречащим истине, какими эти религии представляются христианину.
* * *
Профессор гинекологии. Первую лекцию он начал так: «Господа, женщина есть животное, которое мочится раз в день, испражняется раз в неделю, менструирует раз в месяц, дает приплод раз в год и совокупляется при любой возможности».
Мне показалось, что он довольно складно построил фразу.
1896
Не думаю, что кто-нибудь на самом деле руководствуется в жизни своими философскими взглядами; в них лишь отражаются его желания, порывы и слабости. Как-то вечером я беседовал с Б., и он, разговорившись, описал мне те принципы, которые он для себя разработал, чтобы придать смысл своему существованию.
По его словам, высочайшее жизненное призвание заключается в самовыражении, а оно возможно, только если довериться собственным инстинктам, дать волю своей природе и смиренно принимать любые повороты судьбы. Проходя сквозь эти испытания, как сквозь пламя, душа очищается, готовясь к иной жизни. Переполняющая Б. сила любви убеждает его в существовании Бога и бессмертия. Он верит, что любовь, как чувственная, так и духовная, несет очищение. На этом свете счастья нет, бывают лишь мгновенья радости, не более того, а отсутствие счастья и острая потребность в нем тоже являются доказательством бессмертия. Б. отвергает необходимость самопожертвования, утверждая, что всякий человеческий поступок, от начала и до конца, есть попытка развить свою личность; впрочем, он готов допустить, что и самопожертвование может этому способствовать.
Я попросил его объяснить мне свою неразборчивость в любовных делах. Б. слегка рассердился, однако же ответил, что у него очень силен половой инстинкт, но истинную любовь он якобы питает лишь к идеальной возлюбленной. Обнаруживая достойные любви черты и свойства у самых разных женщин, он творит из них свой идеал — подобно скульптору, который, заимствуя то там, то сям прелестные формы, изящные линии, может в конце концов создать совершенное по красоте произведение.
Но ведь ясно, что, занимаясь саморазвитием и давая волю инстинктам, человек непременно вступает в отношения с другими людьми. А как бы отнесся Б. к человеку, от природы наделенному склонностью к грабежам и убийству, спросил я. Он ответил, что такая склонность считается общественно опасной и человека за нее наказывают.
— Как же тогда быть с человеком, который, не нарушая общественных законов, дает волю инстинктам во вред другим людям? — поинтересовался я. — К примеру, влюбившись в замужнюю женщину, он может убедить ее оставить дом, мужа, детей и уйти к нему; а потом, пресытившись ею или влюбившись в другую, может ее бросить.
Вот что он ответил:
— На это я скажу, что давать волю инстинктам можно ровно настолько, чтобы не причинять вреда другим.
Совершенно очевидно, что тогда вся теория рассыпается в прах. Таковы принципы несомненно слабого человека, который не в силах совладать со своими желаниями и легким перышком летит по воле любого ветерка. И в самом деле, у Б. нет ни воли, ни выдержки, ни мужества, чтобы справляться с превратностями судьбы. Если ему приходится воздерживаться от курения, он впадает в хандру; если еда или вино ему не по вкусу, он теряет душевное равновесие; в дождливый день он страдает от упадка сил. Если ему нездоровится, он замыкается в себе, погружаясь в уныние и тоску. Малейшая неприятность, даже расхождение с кем-нибудь во мнениях, злит и угнетает его. Это эгоист, равнодушный к чувствам окружающих; он соблюдает видимость приличий, только повинуясь общепринятым представлениям о том, как должен вести себя истый английский джентльмен. Он не перейдет на другую сторону улицы, чтобы помочь попавшему в беду другу, но непременно вскочит со стула, если в комнату войдет женщина.
* * *
Люди охотнее всего верят, когда рассказываешь им о собственных предосудительных поступках; но больше всего раздражает то, что потом окружающие ими же тебя и попрекают.
Вы издергали меня, как будто я пословица, а вы пытаетесь сотворить из нее остроумную сентенцию.
Говорить правду может всякий, но мало кто умеет создавать афоризм.
Впрочем, в девяностых годах все мы грешили такими потугами.
* * *
— Вы знаете французский?
— Как вам сказать… Могу прочесть французский романчик, если он неприличный.
* * *
Кокни разговаривают:
— Красивая ты бабенка.
— Еще бы, в таких-то туфлях.
— Ты это говорила до того.
— А теперь скажу после того.
— Красивый вьюнош: глаза, как у римской статуи, и нос задирает, куда там!
— Ну, и где же наши выходные сапоги?
— Ах ты, умница! И много было вас таких у твоей мамаши?
— А то! Да и у меня у самой детей пятнадцать штук, а наделала я их всего с двумя мужьями.
— Вот бы твоя семейка обрадовалась, если б Господь надумал прибрать тебя.
— Да я уже пару мужей пережила, глядишь, прежде чем помереть, еще одного заведу.
— Я тебя, ей-богу, люблю, Флорри.
— Бедняжечка, сколько, небось, настрадался-то!
* * *
Женщина может быть сколь угодно порочной, но пользы ей от этого будет мало, если она не хороша собой.
* * *
— Ах, до чего же не хочется стариться! Всем удовольствиям конец.
— Зато придут другие радости.
— Какие же?
— Ну, к примеру, наблюдения над молодежью. Будь я в твоем возрасте, я, скорее всего, сочла бы тебя весьма самоуверенным и развязным типом; а так ты мне представляешься милым забавным мальчиком.
Никак не могу вспомнить, кто мне это говорил. Вероятно, тетя Джулия. Во всяком случае, я рад, что в свое время счел нужным этот разговор записать.
Есть приятная ирония в том, что юноша из «золотой молодежи» всю ночь напивается до чертиков, а в восемь утра отправляется в церковь.
* * *
На званом обеде следует есть разумно, стараясь не переесть, и говорить умно, стараясь не перемудрить.
* * *
Ум — оружие столь гибкое и универсальное, что, наделив им человека, природа лишила его всякого иного; но против силы инстинкта ум не слишком надежная защита.
* * *
История человеческой морали во всей полноте проявляется в литературе: на какую бы тему ни писал автор, он демонстрирует нравственные принципы своего времени. В этом главный недостаток исторических романов; герои, совершая в них исторически достоверные поступки, ведут себя по нравственным законам той эпохи, в которую творит писатель. И это несоответствие всегда бросается в глаза.
* * *
Люди частенько подкармливают голодных, чтобы ничто не мешало им самим наслаждаться вкусной едой.
* * *
В минуты сильного возбуждения правила, принятые в цивилизованном обществе, теряют силу, и люди возвращаются к древнему закону «око за око».
* * *
Насквозь ложно представление, будто добродетель требует жертвовать своими желаниями и уже в одной этой жертве и состоит. Поступок не может стать добродетельным потому лишь, что совершать его неприятно.
* * *
У большинства людей вся жизнь сводится к добыванию пищи и созданию крова для своих отпрысков; а они, начав собственную жизнь, посвящают ее точно тем же занятиям, что и поколения их предков.
Чем человек умнее, тем сильнее он способен страдать.
* * *
Хотя женщины под воздействием боли проявляют меньше эмоций, это вовсе не доказывает, что они лучше ее переносят; скорее, они не так остро ее чувствуют.
* * *
Любовь — это прежде всего инстинкт продолжения рода; доказательство тому — та готовность, с какой едва ли не каждый мужчина влюбляется в первую попавшуюся женщину, а если ему не удается заполучить ту первую встречную, которую он возжелал, он вскоре утешается с другою.
Редкий мужчина способен полюбить на всю жизнь; возможно, у такого однолюба просто не очень силен половой инстинкт.
* * *
Стоит лишь удовлетворить инстинкт к продолжению рода, как безумие, ослеплявшее влюбленного, рассеивается, и он остается с женою, к которой совершенно равнодушен.
* * *
Не понимаю, что подразумевается под словами «отвлеченная красота». Прекрасно все, что возбуждает эстетическое чувство художника. То, что сегодня представляется прекрасным только ему, через десять лет покажется красивым всем и каждому. Не столь давно считалось, что нет ничего уродливее фабричных труб, изрыгающих черный дым; однако нашлись художники, которые, усмотрев в них известную живописность, принялись их изображать; сначала эти произведения вызывали смех, но постепенно люди увидели красоту на полотне, а затем заметили ее и в натуре, которую рисовали художники. И ныне не требуется особого эстетического чутья, чтобы получить от созерцания фабричных труб не меньшее удовольствие, чем от вида зеленой, усеянной цветами поляны.
* * *
Люди восхищаются романтичной жизнью поэтов и художников, хотя надо бы восхищаться их творческим даром. В жизни обыкновенного человека многое проходит незамеченным, но точно те же события, случаясь с одаренным писателем, вызывают острый интерес. Происшествия эти обретают особое значение благодаря личности, с которой они происходят.
* * *
Человек сильно заблуждается насчет своего места в природе; но заблуждение это неискоренимо.
* * *
О, если бы добродетельные были хоть чуточку менее самодовольными:
* * *
Философ напоминает альпиниста: с трудом вскарабкавшись на гору, чтобы увидеть восход солнца, он на вершине обнаруживает сплошной туман и спускается обратно вниз. Но только очень честный человек не скажет вам, что наверху ему открылось ошеломительное зрелище.
* * *
Едва ли сегодня нужно доказывать несостоятельность христианства; эта идея носится в воздухе, а поскольку религиозность есть не что иное, как чувство, то и совладать с нею можно тем же оружием — чувством. Один человек верует, а другой нет; в этом, пожалуй, вся суть; а доводами, которые приводит каждый из них, они лишь пытаются разумно объяснить свои чувства.
* * *
Тот, кто живет и работает ради общественного признания, только его, естественно, и жаждет. Если же человек живет для себя, он не только не ждет признания света — свет ему безразличен. Если ему нет дела до других людей, какая ему разница, что те о нем думают?
* * *
Великой радости соразмерна по силе переживаний великая печаль. Можно позавидовать тому, кто не способен к глубоким чувствам и потому не знает крайностей: ни блаженства, ни горя. А ведь даже полное счастье оставляет легкий привкус горечи; и только скорбь — чувство чистое, беспримесное.
* * *
В глубине души ни один мужчина не бывает столь же циничным, как хорошо воспитанная женщина.
Идеалом женщины для мужчины по-прежнему является сказочная принцесса, которая не может заснуть на семи матрацах, потому что под нижним лежит горошина. Мужчина всегда побаивается женщины с крепкой нервной системой.
Даже поверхностное знакомство с физиологией откроет вам в женском характере больше, чем вся философия и все мудрые мысли на свете.
* * *
Трудно приходится женщине, если она не умеет приспособиться к бытующему среди мужчин представлению о ней.
* * *
Ничто так не способствует перемене взглядов, как любовь. Ведь новые взгляды — это в большинстве своем новые чувства. И возникают они под действием не размышлений, а страсти.
* * *
Во всех тех трудностях и колебаниях, которые испытывает человек, наполовину повинно его стремление на любой вопрос отвечать либо «да», либо «нет». Но сплошь и рядом одно лишь «да» или «нет» не может быть ответом, поскольку в каждом «да» отчасти содержится и» нет».
* * *
Для меня нет большего счастья, чем когда мне в голову приходит свежая мысль, постепенно открывая передо мною новые горизонты. Когда меня так осеняет, я словно воспаряю над жизненной повседневностью в синеву духовных эмпиреев. Освободившись на миг от земных забот, я чувствую себя на седьмом небе.
* * *
Порою меня озадачивает противоречивость собственной натуры. Я вижу, что во мне одновременно сосуществуют несколько разных людей, и тот, кто берет верх в данную минуту, рано или поздно уступит свое место другому. Но кто из них истинный я? Все вместе или никто?
* * *
Жизнь для меня приобретает особую прелесть, когда я срываю с себя путы заблуждений и ложных представлений. Разрушать внушенные смолоду предрассудки — не только важное дело, но и приятное развлечение.
Я нередко задаюсь вопросом: когда же христианство настолько обветшает, что люди расстанутся наконец с представлением, будто удовольствие пагубно, а боль благотворна.
* * *
Люди постоянно портят себе жизнь, упорно делая то, против чего восстают все их чувства.
* * *
Мало кому приходит в голову мысль, что человек, сидящий под дождем из благородных побуждений, может подхватить ревматизм с не меньшей, а возможно, и с большей вероятностью, чем валяющийся под забором пьянчуга, не способный доползти до дому.
* * *
Если не отказывать себе в чем-то ради других, прослывешь отвратительным эгоистом; зато беды, которые, скорее всего, посыплются на нас, когда жертвуешь собой ради чужого блага, окружающие переносят с завидной стойкостью.
* * *
Среди свойств женской натуры наиболее заметны страсть к мелким подробностям и безупречная память. Женщины способны обстоятельно и точно воспроизвести пустячную дружескую беседу, состоявшуюся много лет тому назад; но главная беда в том, что они никогда не упускают такой возможности.
* * *
Боль вредна; представление, будто боль облагораживает душу, нелепо. Когда Ницше восславляет страдания, он напоминает лисицу из басни, потерявшую хвост. Его утверждение, что муки закаляют характер, сводится в сущности к жажде мести. Страдалец просто-напросто принимает за закаленный характер то удовольствие, с каким причиняет ближним мучения, через которые прошел сам.
* * *
В своем отношении к окружающим мы руководствуемся принципом самосохранения. Человек поступает с ближними определенным образом, либо чтобы добиться выгоды, которой иначе не получить, либо чтобы избежать тех бед, которых можно ждать от ближних. Никакого долга перед обществом у него нет; он действует лишь из собственной корысти, общество же принимает полезные его поступки и оплачивает их. За благие действия общество вознаграждает, а за дурные наказывает.
* * *
Всю ничтожность человека я ощущаю отнюдь не в соборе или перед иным величественным творением его рук; в этих случаях меня, скорее, поражает его могущество; уму его, кажется, подвластны любые свершения, и я забываю, что он — всего лишь ничтожная тварь, ползающая по комочку грязи — планете Земля, вращающейся вокруг небольшого солнца. Только природа и искусство убеждают, даже вопреки нашей воле, в величии человека; зато наука неопровержимо выявляет его полную ничтожность.
* * *
Наука способна утешить в несчастьях и залечить нанесенные ими раны, ведь она показывает, сколь ничтожно все вокруг и сколь малозначительна жизнь со всеми ее бедами.
* * *
Воздерживаться от удовольствий только потому, что они скоротечны и влекут за собой пресыщенность, так же глупо, как отказываться от еды только потому, что аппетит можно быстро утолить и тогда наступает сытость.
* * *
Следовать в поступках собственным жизненным правилам ничуть не менее трудно, чем подгонять жизненные правила под свои поступки. Люди большей частью проповедуют одно, а делают совершенно иное. Когда им на это указываешь, они объясняют все слабостью своей натуры — на самом деле они-де жаждут поступать в соответствии со своими принципами. Это притворство. Люди действуют сообразно своим наклонностям, принципы же перенимают у других; а поскольку эти принципы обычно не соответствуют поступкам, люди испытывают смущение и неуверенность в себе. Но стоит им принудить себя и, подавив естественные наклонности, начать действовать сообразно своим принципам — и для них нет спасения; разве что на небесах.
* * *
Щедрость почти всегда превозносится куда больше, чем справедливость; это значит, что качества эти оцениваются по той пользе, которую окружающие могут извлечь из них для себя. Человек справедливый, но дающий другим не более того, что им причитается, обыкновенно вызывает скорее неприязнь, чем восхищение.
* * *
На редкость нелепо утверждение, что, раз удовольствия невозможно выразить математически, они, следовательно, бесполезны.
* * *
Индивид строит свои отношения с обществом точно так же, как и с другим индивидом. Когда А. помогает Б. построить дом с уговором, что в случае необходимости Б. окажет такую же помощь А., Б. выполняет свою сторону соглашения в надежде со временем воспользоваться им к собственной выгоде.
* * *
Если человек прямо не указывает причину, побудившую его на какие-либо действия, это отнюдь не значит, что такой причины у него нет. Если даже сам он той причины не осознает, это отнюдь не значит, что ее нет вообще. И даже когда человек пытается объяснить свои поступки, он может ошибиться и указать ложную причину.
* * *
В своих отношениях с обществом современный человек в точности напоминает дикаря: от вредных для соплеменников поступков его удерживает лишь страх перед неизбежным возмездием.
* * *
Если нравственность развивалась по мере развития общества как средство его самосохранения, то она едва ли может иметь какое-либо отношение к отдельной личности.
* * *
Удивительно, как часто отдельный человек выносит суждения в полном соответствии с общественными постулатами.
* * *
Человек обязан использовать все данные ему природой возможности, не позволяя ни единой из них подавлять другие.
Но если каждый человек бесконечно отличается от любого другого, как вообще возможна единая нравственная система?
* * *
Самое трудное — найти общий знаменатель, определяющий людские поступки.
* * *
Большинство людей за каждый получаемый шиллинг выкладывает восемнадцать пенсов.[3] Отказываясь от сиюминутной выгоды ради барышей в отдаленном будущем, человек должен быть уверен, что барыши со временем возрастут. Ведь само по себе отдаленное будущее не может быть залогом выгоды.
* * *
Альтруизм, не вознаграждаемый удовольствием ни немедленно, ни в дальнейшем, просто нелеп. Если ждешь от человека бескорыстия, но обманываешься в ожиданиях, остается только пожать плечами и идти дальше своей дорогой. Гневаться тут, конечно же, не приходится.
* * *
Что, если человеку нет дела до того, будет существовать его род или нет? Что, если он не готов идти на жертвы, которых требует воспроизводство вида?
* * *
У неэгоистичных родителей вырастают эгоистичные дети. И это не вина детей. Ведь они воспринимают приносимые им родителями жертвы как нечто положенное им от рождения; да и откуда им знать, что в этом мире ничего не получаешь, если сам ничего не даешь?
* * *
С точки зрения здравого смысла утверждение о том, что следует жертвовать своим счастьем ради счастья других, не имеет под собой оснований.
* * *
Даже те, кто утверждает, что чистое, без задней мысли, бескорыстие доставляет наибольшую радость и является высшей наградой, именно радостью и наградой обосновывают это самое бескорыстие.
В мире едва ли нашлось бы место альтруизму, не будь он источником удовольствия. За свое бескорыстие каждый из нас в какой-то мере ожидает того же от окружающих. Абсолютного же бескорыстия не существует. Весь смысл социального альтруизма в том, что человеку нередко выгодно пожертвовать собою ради других людей. Единственный изначально присущий человеку вид самопожертвования связан с производством и взращиванием потомства. Но здесь в игру вступает сильнейший животный инстинкт, и любые помехи его проявлению могут вызвать тяжелое расстройство и даже непритворные страдания. Со стороны родителей глупо обвинять детей в неблагодарности; не следует забывать: все, что они делали для детей, приносило удовольствие им самим.
* * *
В жертве как таковой ничего похвального нет, а потому, прежде чем решиться на самопожертвование, человек имеет все основания спросить себя, стоит ли «овчинка выделки»; но уже то, что люди с готовностью жертвуют собой ради самых низменных целей, показывает, какое острое удовольствие заложено в самопожертвовании.
* * *
Осыпать кого-нибудь своими милостями чрезвычайно приятно; от расточаемых светом похвал удовольствие только растет; причем благодетеля ничуть не заботит, радуют ли другого его милости. Но ему мало полученного наслаждения: подавай ему еще и благодарность.
* * *
Удовольствия в сущности — это вопрос вкуса. Они изменчивы, как женская мода; модное удовольствие становится желанным вдвойне. Поступки сами по себе малоприятные могут под воздействием моды стать источником острого наслаждения.
* * *
Всем другим удовольствиям люди сегодня предпочитают роскошь жалости и доброты. На мой взгляд, женщин, отправлявшихся во время войны с бурами на мыс Доброй Надежды, несправедливо обвиняли в том, что они ищут новых впечатлений и случая пококетничать с солдатиками; на самом деле их влекли более конкретные и одновременно менее банальные удовольствия.
* * *
Нет для мальчика большего несчастья, чреватого для него самыми пагубными последствиями, чем нежная, любящая мать.
* * *
Отношения между человеком и обществом напоминают рулетку. Общество — банкомет. Игроки то выигрывают, то проигрывают; но банкомет в выигрыше всегда.
* * *
Говорят, что длительное сопереживание чужой боли оборачивается черствостью; но разве сопереживание чужому удовольствию оборачивается не тем же самым?
* * *
Идеальное, то есть воображаемое, удовольствие не бывает столь же ярким, как удовольствие, испытанное на самом деле.
* * *
Самая безобидная вещь, если она запрещена законом, воспринимается большинством как нечто дурное.
* * *
Мы часто слышим об облагораживающем воздействии труда; однако в работе как таковой ничего благородного нет. Если взглянуть на историю развития человеческого общества, можно заметить, что, когда бушевали войны, труд презирался, а военная служба почиталась за доблесть. Суть в том, что люди, мнящие себя венцом творения, в каждый исторический период считают свои занятия благороднейшим предназначением человека.
Труд восхваляется, потому что он отвлекает человека от самого себя. Глупцы скучают, когда им нечем заняться. Для большинства работа — единственное спасение от тоски; но просто смешно лишь по этой причине называть труд облагораживающим. Праздность требует немалого таланта и усилий — или же особого склада ума.
* * *
Давно известно, что даже крайне безнравственный, на взгляд рядового человека, образ действий утрачивает ореол аморальности, если следовать ему неукоснительно.
* * *
Если людям постоянно твердить, что они должны совершить определенный поступок, они его в конце концов совершат, даже не спросив, почему это им вменялось в обязанность.
А если постоянно твердить, что некое понятие правильно, они в конце концов в это поверят; причем, если не услышат никаких разумных тому объяснений, поверят, пожалуй, с тем большей готовностью.
* * *
Я не стану осуждать кровопролитные войны, которые цивилизованные народы ведут с нецивилизованными; хотелось бы только заметить, что обоснование у этих войн одно: кто силен, тот и прав. Это схватка не на равных, это лишенное благородства и рыцарства состязание хорошего оружия с плохим. Утверждать, будто теперь, когда культура победителей навязывается побежденным, покоренные варвары наконец обретут счастье, — чистое лицемерие. Разве есть основания полагать, что они менее счастливы в своем примитивном сообществе, чем когда, подчиняясь чужим законам, они вынуждены принимать чуждую культуру и ненужные им реформы?
* * *
Согласившись сначала с тем, что некоторые вещи правильны и воплощают в себе закон и порядок, люди в конце концов приходят к убеждению, что некоторые их собратья правы только потому, что воплощают в себе закон и порядок.
* * *
После первых поражений в Бурской войне англичане непрестанно ликовали по поводу своего численного превосходства. Поскольку цель любой войны — победа, значение численного превосходства совершенно очевидно; однако победа таким способом не радует ни благородством, ни героизмом, ни добрыми чувствами. Поразительно, что люди, высоко ставившие эти добродетели, мгновенно их позабыли, как только дела пошли плохо. Отсюда мораль: пока ваша берет верх, можете блистать благородством, сколько душе угодно; в противном случае — что ж, постарайтесь добиться победы любой ценой, а про благородство можно и позабыть.
* * *
Моя цель — определить линию поведения рядового человека в обычных обстоятельствах нашего времени.
* * *
Возможно ли вообще человеку полностью приспособиться к обществу? Не исключено, что с борьбой за существование будет покончено, но приведет ли это к желанной цели? Все равно одни по-прежнему будут слабыми, а другие — сильными.
Физические потребности одного человека отличаются от потребностей другого. Всегда кто-то будет красивее прочих. Более одаренные будут получать большее вознаграждение. Неудачники, как и прежде, будут завидовать удачливым. Людям никогда не удастся избежать старости; не ощущая собственного возраста, старцы будут упорно цепляться за права и блага молодости, покуда у них силой не вырвут эти привилегии. Даже если почти не останется причин для разлада, отношения между полами по-прежнему будут источником конфликтов. Ни один мужчина не уступит любимую женщину просто потому, что ее хочет другой мужчина. Всюду, где есть любовь, неизбежно возникают ненависть, злоба, ревность, гнев. И хотя ради общего блага люди охотно готовы пожертвовать собственными удовольствиями, трудно предположить, что они столь же легко пожертвуют удовольствиями детей. Люди ведь не меняются: страсти норовят вспыхнуть в любую минуту, и человек оказывается во власти животных инстинктов дикаря.
* * *
Люди редко осознают, что для молодости и зрелости должны существовать свои, отдельные законы. Законы же обычно устанавливаются людьми пожившими или стариками, пытающимися, без всяких на то оснований, обуздать буйную молодость. Но ведь юность имеет право на разгул. Старики могут до посинения твердить о духовной радости, которую приносят искусство и литература, но если вы молоды, то с куда большим удовольствием проведете время с девушкой, чем внимая звукам сонаты.
* * *
Мирная жизнь таит в себе свои беды — в этом убеждает внимательное изучение истории народов, которые по стечению обстоятельств не участвовали в войнах. Так, эскимосы или обитавшие в лесах веды равно не знали войн, однако эта привилегия, судя по всему, не позволила им достигнуть высокой степени культуры.
* * *
Альтруистические поступки совершаются по эгоистическим мотивам. Никто не станет выступать против злоупотреблений, покуда не испытает их вред на собственной шкуре. Однако чтобы ваш голос был услышан, необходимо быть человеком влиятельным; беднякам же приходится сносить все безропотно.
* * *
Нравственные понятия нашего времени укоренились столь глубоко, что философ чувствует уверенность в себе лишь тогда, когда его выводы совпадают с общим мнением. Будь общее мнение иным, философа принудили бы принять его, причем доводами самыми вескими, доказательствами самыми неоспоримыми.
* * *
За целый век мало наберется людей, которых любая новая идея не приводила бы в ужас. К счастью для всех нас, новые идеи возникают очень редко.
* * *
Если вдруг какое-либо занятие начинает почитаться благороднее прочих, это происходит либо потому, что в данное время оно важнее всего — так часто случалось, например, с военным делом; либо же потому, что люди, предающиеся этому занятию — к примеру, люди искусства, — из тщеславия неустанно его прославляют. Человеческая доверчивость особенно ярко проявляется в том, что мы с готовностью усваиваем высокое мнение художников о себе самих. Любого писателя наверняка удивляло, с каким почтением его взгляды воспринимаются людьми, не менее сведущими в своей области, чем он в своей.
* * *
Если бы поступки и мысли людей имели хоть какой-то вес, роду человеческому не было бы прощения. Ведь с колыбели до могилы люди погрязают в низости, мелочности, тупости, подлости и бесстыдстве; в своем невежестве они становятся рабами то одного предрассудка, то другого; они нетерпимы, эгоистичны и жестоки.
Терпимость — то же равнодушие, только под другим именем.
* * *
Почти два года я целиком посвятил поискам некой закономерности, поискам смысла, назначения и цели жизни, и лишь теперь мне слегка приоткрывается то, что я готов принять за истину. Мало-помалу на все эти вопросы у меня начинают складываться ответы, пока, правда, очень неотчетливые. Я накопил массу фактов, идей, впечатлений, но еще не могу выстроить их в определенном порядке.
* * *
Представления о том, что правильно, а что неправильно, порождаются жизненными потребностями.
* * *
Те идеалы, которые с детства внушаются молодому человеку, те сказки и мечты, которые питают его ум, делают его непригодным для взрослой жизни; в итоге он отчаянно несчастлив, пока его иллюзии не рассыплются в прах. А вина за все эти бессмысленные страдания лежит на полуобразованных близких — на матери, няньке, учителях, — окружавших его любовью и заботой.
* * *
Отношения между полами зависят от внешних обстоятельств. Война, несущая массовую гибель мужчин, порождает многоженство; на бесплодных землях возникает многомужество. Теперь, когда население земли так сильно выросло, а зарабатывать на жизнь и растить детей стало гораздо труднее, чем раньше, проституция, естественно, расцветет пышным цветом. Для молодого человека женитьба — слишком большая роскошь, а сексуальное удовлетворение необходимо. Что же произойдет с женщинами?
Проституцию неизбежно придется узаконить и негласно признать. Целомудрие женщины до брака уже не будет считаться столь уж важным.
Относительно проституции я ошибся, но относительно целомудрия оказался прав.
Отчего же не следует развивать свои ощущения? Ведь удовольствие получают через эти ощущения, пусть и не всегда к ним осознанно стремясь. Необходимо лишь учитывать возможные последствия. И если Спенсер утверждает, что потакать своей жажде ощущений грешно, то в этом сказывается его воспитание уэслианскими методистами, под влиянием которого он находился всю жизнь. Впрочем, Спенсер открыто одобряет стремление к эстетическим наслаждениям, получаемым, к примеру, в путешествиях.
* * *
Людьми можно управлять только с помощью безапелляционных утверждений. Вот почему вождями становятся не философы, а люди с неколебимыми взглядами, предрассудками и пристрастиями. Философы же утешаются мыслью, что у них нет ни малейшего желания вести за собой подлую чернь.
* * *
Только слабовольные с готовностью усваивают общие нравственные нормы; люди волевые вырабатывают свои собственные принципы.
* * *
Капри. Брожу в одиночестве, без конца задаваясь все теми же вопросами: в чем смысл жизни? Есть ли у нее назначение и цель? Существует ли на самом деле нравственность? Как следует вести себя в жизни? Чем руководствоваться? Есть ли преимущества у одного пути перед другим? И еще сотней подобных вопросов. Однажды я карабкался по скалам и валунам к вершине горы позади виллы. Надо мною синело небо, вокруг простиралось море. Вдали, подернутый дымкой, темнел Везувий. Отчетливо помню бурую землю, растрепанные оливы, там и сям возвышавшиеся сосны. И вдруг я в смятении остановился, голова шла кругом от переполнявших ее мыслей. Но я не мог в них разобраться: мысли путались, сплетаясь в тугой узел. В отчаянии я воскликнул: «Ничего не понимаю! Ничего! Ничего!»
* * *
Неаполитанский залив, разыгрался шторм. Неаполитанцы изрыгали в море горы непереваренных макарон, изрыгали внезапно и дружно, будто прорвало магистральную трубу; их разинутые рты придавали им глуповатый ошалевший вид вытащенной из воды рыбы; но их-то, в отличие от рыбы, не стукнешь ведь по голове, чтобы положить конец мучениям. Да и стукнуть нечем.
* * *
Полагаю, что нашим представлением о святости домашнего очага мы обязаны евреям. Именно в семье находили они покой и отдохновение от сумятицы и гонений окружавшего их мира. То было их единственное прибежище, и они любили его, любили по слабости своей. У древних греков, похоже, семейной жизни не было вовсе. Никто никогда не упрекал их в привязанности к домашнему очагу. Исполненные сил, нетерпения и радости жизни, как, пожалуй, ни один другой народ за всю историю, они считали мир полем боя; шум битвы, победные клики и даже стоны побежденных казались им музыкой. Они отдавались перипетиям жизни с тем же самозабвением, с каким бесстрашный пловец бросается в бурные волны.
* * *
Одно из наиболее распространенных заблуждений человеческого ума состоит в уверенности, что правило непременно распространяется на все случаи без исключения. Но возьмем пример из анатомии. В восьми случаях из двадцати артерия ответвляется в средней части корня легкого, в шести — в верхней и в шести — в нижней. Правило же, несмотря на количественный перевес исключений, гласит, что артерия ответвляется от грудного отдела аорты в средней части корня легкого.
* * *
Те остатки ума, что не растрачены на самосохранение и воспроизводство рода, большинство людей используют препос-тыдным образом.
* * *
Я вполне допускаю, что, достигнув достаточно высокого уровня цивилизации, человечество по собственной воле вернется к варварству; или же откатится назад просто от неспособности поддерживать достигнутый высокий уровень.
В жизни все лишено смысла, боль и страдания бесполезны и бесплодны. Никакой цели у жизни нет. Ничто, кроме продолжения вида, не имеет в природе значения. Но не покоится ли последний опрометчивый вывод на чересчур краткосрочных наблюдениях, сделанных невооруженным глазом, который видит лишь то, что рядом?
* * *
Пусть смерть укроет мою жизнь вечным мраком.
1897
Одухотворенность человека особенно бросается в глаза, когда он с аппетитом обедает.
* * *
Т. стоял на вокзале; к нему подошла женщина и сказала, что когда-то она попала под суд, где Т. выступал обвинителем и проявил при этом такую доброту, что ей хотелось его поблагодарить. Но более всего ей хотелось уверить его в своей невиновности. А Т. не мог даже вспомнить ее лицо. То, что для нее явилось трагическим и мучительным испытанием, для него было всего лишь ничтожным происшествием, которое он вскоре позабыл.
* * *
Лодочник, промышлявший на Темзе перевозом, влюбился в одну девицу, но за отсутствием денег не мог ее никуда сводить повеселиться. Как-то он заметил в воде человека, едва подававшего признаки жизни; однако за спасение живых денег не полагалось; подцепив крюком одежду утопающего, он втащил того в лодку. Когда тело выгрузили на берег, кто-то из зевак заметил, что бедняга еще не совсем захлебнулся. Лодочник набросился на того зеваку, понося его последними словами. Перевернув утопленника лицом вниз, он умело не дал тому очухаться. В результате он получил положенные пять шиллингов и смог повести свою ненаглядную в кабачок.
* * *
Три женщины предстали перед полицейским судом. Все они были шлюхами. Две крепкие и здоровые, а третья умирала от чахотки. У двух здоровых водились деньги, и они отделались штрафом, но у третьей не было ни гроша. Приговор третьей: две недели заключения. Спустя недолгое время обе ее товарки явились снова: несмотря на стужу, они заложили свои жакетки и уплатили за подругу штраф. «Мы ее до самой смерти не оставим», — заявили они и втроем вернулись в бордель. Целый месяц они ухаживали за умиравшей девушкой; наконец, она скончалась. Оплатив похороны и купив по венку, те две надели новые черные платья, наняли извозчика и отправились за похоронными дрогами проводить подругу в последний путь.
* * *
Женщина сидела, глядя на пьяного в стельку, распластавшегося на постели мужа; в тот день была двадцатая годовщина их брака. Выходя за него замуж, она думала, что будет счастлива. Но жизнь с бездельником, пьяницей и грубияном оказалась исполненной тягот и мук. Женщина прошла в соседнюю комнату и приняла яд. Ее отвезли в больницу Св. Фомы и вернули к жизни, а потом в полицейском суде обвинили в попытке самоубийства. Она не проронила ни слова в свое оправдание, но тогда встала ее дочь и рассказала о мучениях, которых натерпелась мать. Суд вынес решение о раздельном жительстве супругов, присудив женщине еще и содержание в пятнадцать шиллингов в неделю. Подписав документ о раздельном жительстве, муж выложил пятнадцать шиллингов со словами:
«Вот тебе денежки на первую неделю». Схватив монеты, жена швырнула их ему в лицо. «Забирай свои деньги, — не своим голосом закричала она, — верни мне мои двадцать лет!»
* * *
На днях я пошел в операционную, чтобы посмотреть, как пройдет кесарево сечение. К нему прибегают не часто, и операционная была полна народу. Прежде чем приступить к делу, доктор С. произнес небольшую речь. Я слушал не очень внимательно, но, помнится, он отметил, что операции эти редко проходят успешно. Еще он сказал, что больная никак не может разродиться естественным путем, ей уже дважды приходилось искусственно прерывать беременность; но забеременев снова, она твердо решила рожать, хотя доктор С. объяснял ей, какой опасности она подвергается: шансов выкарабкаться у нее было не больше, чем умереть. Она, тем не менее, заявила, что готова пойти на риск. Ее муж тоже очень хотел ребенка, и это обстоятельство, видимо, также имело для нее большое значение. Операция вроде бы прошла прекрасно, доктор С, сияя, благополучно извлек ребенка. Сегодня утром я зашел в отделение и спросил у одной из сестер, как себя чувствует роженица. Сестра ответила, что она ночью умерла. Сам не знаю почему, но эта новость меня глубоко поразила; я сильно нахмурил брови, опасаясь расплакаться. Это было бы нелепо, ведь я даже не был с нею знаком, один раз видел на операционном столе. Думаю, на меня сильно подействовало страстное желание той женщины, обыкновенной больничной пациентки, родить ребенка; желание столь сильное, что она с готовностью пошла на страшный риск; ее смерть показалась мне жестокой, ужасно несправедливой. Сестра сказала, что ребенок чувствует себя хорошо. Бедная женщина.
* * *
Cri du coeur[4] никогда не остается без ответа, хотя, как ни странно, он вовсе не всегда исходит из души; достаточно лишь убедительно симулировать его, и дело в шляпе.
* * *
Большой званый обед — это возможность предаться удовлетворению заурядных плотских аппетитов.
* * *
По воскресеньям дважды в день приходский священник толковал наиболее доступные места из Священного Писания; в течение минут двадцати он оделял свою неотесанную паству банальными суждениями, излагавшимися на низкопробной смеси цитат из Библии начала семнадцатого века и газетных штампов. Священник обладал редкой способностью горячо и пространно растолковывать вещи, очевидные самому недалекому уму. Свое красноречие он тратил на две регулярно чередовавшиеся темы: нужды бедных прихожан и нужды самой церкви. Он видел прямую связь между религиозными догматами и необходимостью раздобывать свечи для освещения алтаря и уголь для отапливания ризницы. А потому по воскресеньям он взял себе за правило выпалывать греховные ростки ереси, разъясняя своей многоумной пастве, состоявшей из деревенских невежд с детьми, самые темные места, касающиеся отношений между Богом-Отцом, Богом-Сыном и Святым Духом. Но с особым жаром изливал он испепеляющий гнев свой на лживых отступников: атеистов, папистов, сектантов, ученых. В своем презрении к теории эволюции он с трудом сохранял серьезный тон; перечисляя постулаты философов и мудрецов, он разметывал их, точно кегли, доводами своего не знающего страха и сомнения разума. Все это могло привести к весьма опасным последствиям, не будь прихожане неколебимо убеждены в истинности веры отцов, да к тому же крайне невнимательны к его проповедям.
1900
Когда сорокалетняя женщина говорит мужчине, что годится ему в матери, ему надо немедленно спасаться бегством, иначе она либо женит его на себе, либо измучит бракоразводным процессом.
* * *
Всегда следует культивировать собственные предрассудки.
* * *
Корнуолл. Ветер поднимал морскую воду чуть ли не с самого дна и темными глыбами обрушивал на скалы. Над головой тоже все было в безумном движении, истерзанные тучи неслись по ночному небу под свист, шипение и вой ветра.
* * *
Клочки разорванных туч мчались в вышине, словно натерпевшиеся мук безмолвные души, на которые обрушился гнев Бога-ревнителя.
* * *
Вдалеке простонал гром, одна за другой упали первые капли дождя — словно Божьи слезы.
Ветер был подобен возничему колесницы; напрягая все мускулы, лошади бились в постромках; возничий яростно ожег их кнутом, они вихрем понеслись вперед, и утреннюю свежесть прорезал долгий пронзительный вопль, будто объятые ужасом женщины пытались спастись от неминучей беды.
* * *
Я брел наугад; от мягкого грунта, изрезанного сотнями извилистых ручейков и покрытого бурым ковром палой листвы, исходил дух влажного перегноя, чувственный аромат нашей матери-Земли, во чреве которой беззвучно зарождалась жизнь. Ноги мои путались в длинных ветках шиповника. Там и сям, в тенистых уголках, зацветали примулы и фиалки. Чернели тонкие веточки бука, покрытые молодой, только распустившейся листвой, яркой и нежной. Настоящий изумрудный рай. Глаз был не в силах проникнуть сквозь этот замысловатый зеленый узор. Филигрань, опутавшая хрупкие веточки, была изящней, чем блеск листвы в летний дождь, изысканней, чем закатная дымка. Она так же не поддается описанию, как прекрасная в своей неизреченности мысль. От этого зрелища отлетали печальные думы о бренности жизни. А зеленый цвет был столь чист, что ум мой тоже очистился, и я ощутил себя почти ребенком. Кое-где вздымались над другими деревьями ели, невероятно высокие и прямые, как безупречно прожитая жизнь; и одновременно угрюмые, холодные, молчаливые. Слышалось лишь, как копошится в палых листьях кролик или скачет резвая белка.
Вечером, после дождя, раздался такой веселый птичий хор, что невозможно было думать о земле как о юдоли печали. Скрытый листвою, на макушке бука во весь голос распевал скворец; ему подсвистывали снегирь и дрозд. На дальней луговине бесконечно твердила свое кукушка, и откуда-то из-за леса вторила ей еще одна.
* * *
Грин-парк зимой.
Шел снег, легкий, как шаги ребенка. Снег прикрыл аккуратные дорожки, окутал белым саваном истоптанную траву, кругом, куда ни глянь, снег — на крышах, на деревьях. Над головой низко нависло небо, отяжелевшее от жестокой стужи, дневной свет стал серым и тусклым. Замерцала длинная цепочка круглых фонарей, в безлистых ветвях деревьев запуталась лиловая мгла, шлейфом зимней ночи плыла она вдоль самой земли. От пронзительного холода все другие цвета поблекли, только мгла лиловела, изысканно нежная, но холодная, холодная до того, что терпеть эту стужу было почти не под силу усталой душе. На фоне снежной белизны грозными темными громадами высились дома на Карлтон-Хаус-Террас. День истаивал в призрачной тиши, и даже закатное солнце не пробило пелены туч. Свинцовое небо потемнело; окруженные бледным ореолом, ярче засияли фонари.
* * *
Лондон. Закатные облака походили на исполинское крыло архангела, летящего в поднебесье свершать возмездие; и его тень с огненно-красным отливом бросала на город зловещий свет.
* * *
Зеленый луг, как золотой парчой, был сплошь покрыт лютиками — словно расстелили ковер для королевской дочери Лилии и белотелого пастушка Нарцисса.
* * *
Поверх макушек деревьев, цепляясь за голые ветви, плыли тонкие темные тучки, похожие на лохмотья какого-то просторного замысловатого одеяния.
Тонкие темные тучки тянулись сквозь вершины деревьев и, цепляясь за голые ветви, рвались в клочья.
* * *
Невесомо парящий в воздухе океанский буревестник.
* * *
Темные недвижные тучи громоздились гигантскими горами; очертания их были столь отчетливы, столь округлы, что почти можно было различить отпечатки пальцев, оставленные могучим скульптором.
* * *
Несколько высоких елей сошлись потесней, угрюмые и мохнатые; серебристая дымка окутывала их темно-зеленые лапы, будто изморозь сотен зим обратилась летом в холодный туман. Перед елями, на гребне горы, по склону которой дружными рядами взбирались сотни сосен, тут и там распускались дубы, их, словно невесту молодого бога, окутывала фатой молодая листва. Деревья эти являли собой разительный контраст — как день и ночь; и неувядаемая молодость дубов подчеркивала вековечную старость елей.
* * *
Ели напоминали лес нашей жизни, тот серый угрюмый лабиринт, где блуждал певец Ада и смерти.
* * *
На полях зеленела высокая молодая весенняя трава, над нею, легкомысленно позабыв о жестоком холоде ночи, красовались и радовались солнцу веселые лютики, как перед тем радовались живительному дождю. На маргаритках еще сверкали его благодатные капли. Мимо проплыл, несомый легким ветерком, пушистый шарик одуванчика — символ человеческой жизни: послушный любому дуновению, бесцельный и бесполезный; нет у него иного предназначения, кроме как рассеять свое семя по плодородной земле, чтобы следующим летом взошли подобные ему создания, расцвели без всякого ухода, произвели себе подобных и умерли.
В то время я еще не знал, какой сочный салат получается из этой скромной травки.
* * *
Пышные, аккуратно подстриженные кусты боярышника в живых изгородях распускали крошечные бутоны, а кое-где уже буйно цвел шиповник.
К вечеру над скопившимися на западе аспидно-серыми тучами разлилась пламенеющая дымка, мельчайшая, тончайшая морось, которая огромным облаком золотой пыли опустилась на тихое море, будто шлейф богини огня; внезапно, пробившись сквозь угрюмую стену туч, словно титан, прорвавшийся на свободу сквозь стены темницы, гигантским медным шаром засияло солнце. Казалось, оно почти физическим усилием раздвинуло заслонявшие его тучи и заполнило своим блеском весь небосвод; на морскую гладь легла широкая огненная полоса, по которой людские души могли бы нескончаемо плыть к источнику бессмертного света.
Над долиной нависли набухшие дождем тучи; отчего-то тягостно было смотреть на них, набрякших влагой, но из последних сил удерживающих ее в своем чреве.
* * *
Сосновая роща стояла прохладная и безмолвная, под стать моему настроению. Высокие стволы, прямые и стройные, как мачты парусников: легкий аромат; приглушенный свет; и лиловая дымка, прозрачная, еле заметная, нежнейший теплый, разлитый в воздухе оттенок, — от всего этого у меня возникло чувство полного отдохновения. Слой коричневых игл под ногами скрадывал шаги, идти было приятно и легко. Запахи, как восточный дурман, пьянили и навевали дрему. Тона вокруг были столь нежны, что, казалось, нет на свете красок и кистей, способных передать их; неуловимо окрашенный воздух окружал предметы, размывая их очертания. Мною овладела приятная, не подвластная уму мечтательность, чувственный сон наяву.
Счастлив тот, кому дано испытывать чудные, даруемые природой переживания без малейшего позыва исследовать это чудо!
* * *
Среди сосен раздавались жалобные вздохи ветра, подобные стонам девушки, вздыхающей по былой любви.
* * *
Луг, желтый от бесчисленных лютиков, весенний ковер, вполне достойный того, чтобы по нему ступали ангелы маэстро Перуджино.
* * *
Концерт отличался бесконечным разнообразием номеров; в кустах живой изгороди, в кронах всех до единого деревьев заливались незаметные среди листвы птицы. Каждая словно старалась перепеть остальных, будто жизнь ее зависела от этого пения, будто мир наш полон лишь радости и веселья.
* * *
С возвышенностей глазам отзывались просторы тучных полей и зеленые холмы графства Кент. То был самый благодатный уголок графства, украшенный густыми перелесками. Вязы, дубы и каштаны. Каждое поколение старалось в меру сил, и земля казалась ухоженным садом.
Сад этот был строго распланирован, как на картинах Пуссена и Клода. Никаких необузданных порывов, никакой вольницы; в этой четкой, продуманной композиции постоянно чувствовалась рука человека.
Порою, взобравшись на холм повыше других, я оглядывал раскинувшуюся внизу залитую ослепительным золотистым светом равнину. Хлебные поля, клеверные луга, дороги и речушки образовывали в этом половодье света гармоничный узор, сияющий и воздушный.
* * *
Квадратный, покрытый белой штукатуркой дом, с двумя огромными эркерами и верандой, укрытой разросшимися кустами жимолости и мелкой розы. Природе оказалось не под силу приукрасить это кошмарную постройку, уродливое порождение георгианской архитектуры и безжалостного практицизма. Тем не менее от дома веяло уютом и надежностью. Его окружали рослые кудрявые деревья, а летом в саду пышно цвели розы десятка разных сортов. Низкая живая изгородь отделяла сад от лужайки, на которой долгими вечерами деревенские мальчики играли в крикет. Напротив дома, в удобной близости, стояли деревенская церковь и пивная.
* * *
Небо было свинцово-серым, таким тусклым и унылым, что казалось творением человеческих рук. То был цвет неизбывной тоски.
* * *
Сентджеймсский парк.
Низко нависло ровное, беспросветно серое небо; сквозь эту серость неуверенно белел небольшой солнечный диск, отбрасывая блики на темную рябь озера. В мутном свете дня зелень деревьев потускнела; тонкая, едва заметная мгла окутала пышную листву. За кронами тополей едва виднелись нестройные очертания правительственных зданий и массивные крыши домов на Трафальгарской площади.
Серое небо и угрюмые деревья отражались в темной спокойной воде; от затхлого запаха стоячей воды мутило, голова начинала кружиться.
* * *
При свете солнца зеленая, поросшая лесом долина манила желанной прохладой; но когда с запада, задевая вершины окружавших долину холмов, надвинулись тучи, серые и тяжелые, окоем сразу сузился настолько, что я готов был кричать, как от физической боли. Нестерпимо было смотреть на этот чересчур правильный пейзаж. Угрюмые, аккуратно расставленные вязы, невероятно ухоженные луговины. Когда грузные тучи опустились на холмы, я почувствовал себя взаперти. Казалось, не выбраться из этого маленького замкнутого круга, да и бежать нет сил. Пейзаж передо мною был так аккуратно разграфлен, что если бы мне выпало здесь жить, я навек оказался бы пленником. Я остро ощущал влияние многовекового уклада, людей, поколениями живших по определенным обычаям, под воздействием определенных впечатлений. Я чувствовал себя глупенькой птичкой, родившейся в клетке и не способной вырваться на свободу. Тщетно жаждал я воли, ибо сам сознавал, что у меня не хватит сил ее добиться. Я брел по полям, вдоль окружавшей их аккуратной железной ограды. Всюду виднелись следы заботливых человеческих рук. Казалось, сама природа, усвоив эту упорядоченность, цвела в строгом соблюдении правил и приличий. Никаких дикорастущих вольностей. Деревья безжалостно подстрижены, дабы придать им нужную форму; некоторые уже срублены, ибо их присутствие нарушало элегантный ландшафт, другие для симметричности композиции насажены заново.
* * *
После бури небо, дочиста разметенное истошно завывавшим ветром, казалось воплощением жуткой бездушной справедливости.
* * *
Легкая дымка заволакивает прошлое переливчатым туманом, смягчая резкость воспоминаний и придавая им незнакомую прелесть; так бывает, когда сквозь вечернюю мглу видишь город или гавань: очертания размыты, яркие краски приглушены и создают более изысканные и тонкие сочетания. Но эта дымка наплыла из бездонного океана вечности, неумолимого и неизменного, и с годами воспоминания мои скрылись окончательно в серой непроницаемой ночи.
* * *
Проходящие годы напоминают марево, которое, поднимаясь над океаном времени, придает моим воспоминаниям новизну; резкость их кажется менее резкой, грубость менее грубой. Но как порою случайный береговой ветерок развеивает мглу, что наплыла с угрюмых вод, так одно слово, жест или мотив могут рассеять иллюзию, навеянную предательским временем, и я заново, с пронзительной ясностью вижу события юных лет во всей их жестокой подлинности. Однако это зрелище меня совсем не трогает. Я подобен равнодушному зрителю или пожилому актеру, который смотрит на созданный им образ, дивясь разве что устарелым приемам лицедейства. Я смотрю на себя в прошлом с недоумением и с каким-то не лишенным презрения удовольствием.
* * *
Веселый апрельский дождь.
Терпеливая ночь.
От жары тягостное безмолвие разлилось окрест.
Предсмертная роскошь осеннего убранства напоминало бесконечно печальную мелодию, грустную песнь бесплодных сожалений; но было в этих неистовых красках, в алых и золотистых тонах яблок, в разнообразных переливах опавших листьев что-то такое, что не позволяло забыть: в смерти и увядании природы всегда зарождается новая жизнь.
* * *
Знойная, звездная ночь. Розовый, переменчивый свет зари.
Ветер, призрачный и зловещий, незрячим зверем шуршал безлистыми вершинами деревьев.
* * *
Для любовника, ожидающего возлюбленную, нет горше звука, чем регулярный бой часов.
* * *
Пламя в лампе трепетало и гасло, как блуждающий взгляд умирающего.
* * *
После долгой томительной ночи взойдет заря, но никакой свет не проникнет уже в его несчастное сердце; душа его будет вечно странствовать во тьме, вечно во тьме, вечно.
* * *
За городом ночная тьма знакома и дружелюбна, но в залитом огнями городе она кажется неестественной, враждебной и грозной. Словно чудовищный стервятник парит над головой, дожидаясь своего часа.
* * *
Утро незаметно выползло из-за тучи, словно незваный гость, не уверенный, что ему будут рады.
* * *
С. Г. и я любовались закатом, и он обронил, что считает закаты довольно пошлым зрелищем. Я же, восхищенный открывшимся мне великолепием, почувствовал себя уязвленным. Он с пренебрежением заметил, что у меня чересчур английский вкус. Я-то всегда полагал, что это вовсе не плохо. С. Г. сообщил, что он почитает все французское; в таком случае, подумал я, очень жаль, что по-французски он говорит с таким сильным английским акцентом.
* * *
С. Г. обладает всевозможными достоинствами и добродетелями (правда, только в переносном смысле, ибо высокой нравственностью он не блещет) и очень гордится своим чувством юмора. Если какое-либо дело не пользуется популярностью, С. Г. считает это наилучшим доводом в его пользу. Он самодовольно поносит родину, уверенный, что это свидетельствует о широте его ума. Десяти дней в Париже по путевке бюро путешествий Кука ему хватило, чтобы убедиться в превосходстве французов. Он толкует об идеальной любви, о надежде, а потом за десять шиллингов берет на Стрэнде шлюху. Жалуется на наш век, объясняя его пороками свои неудачи. В самом деле, что хорошего можно сказать о веке и о стране, которые не желают соглашаться с его оценкой своей персоны! С. Г. жалеет, что не родился в Древней Греции, но ведь он, сын сельского врача, неизбежно был бы рабом. Меня он презирает за то, что я принимаю холодные ванны. Он проваливается на всех экзаменах; однако любые удары судьбы лишь укрепляют его самомнение. Он пишет стихи; найдись в них хотя бы на гран самобытности, они были бы вполне сносны. Физической смелости у него нет вовсе, и, купаясь, он дрожит от ужаса при мысли, что может оказаться на глубоком месте. Но он и трусостью своей гордится: утверждает, что храбрым быть не велика заслуга, это-де просто говорит о недостатке воображения.
* * *
Бог проходит всеми земными дорогами, вспахивая почву и засевая ее болью и муками, засевая всюду — с востока до запада.
* * *
Золотое великолепие летнего вечера.
Словно пламенный меч, осушивший безутешные слезы в глазах Евы.
* * *
Оранжерейные красавицы в стиле Патера, от них исходит тяжелый аромат увядающих тропических растений — букет орхидей в натопленной комнате.
* * *
Солнце казалось раскаленной печью, переплавлявшей тяжелые тучи в золотистый сверкающий дождь; и такой разливался ослепительный свет, что невольно возникала мысль о гигантском катаклизме, в котором будет выкован новый могучий мир; а тучи на востоке казались не тучами, а клубами дыма, ползущими из плавильни. В воображении возникали титаны, созидатели нового мира — они швыряют в бурлящий котел ложных богов, мирские блеск и суету, тысячу металлов, бесчисленные творения человека; в жуткой тишине все живое распадается, рассеивается и превращается в новые, бесплотные, таинственные вещества.
* * *
Под быстрыми прикосновениями ветерка по молодой листве пробегала легкая чувственная дрожь.
* * *
Казалось, душа моя обратилась в музыкальный инструмент, на струнах которого боги наигрывают мелодию отчаяния.
* * *
Сердце полнилось жалостью к ней, и хотя я ее больше уже не любил, я не находил утешения. Вместо прежней горькой муки возникла тягостная пустота, пожалуй, еще более невыносимая. Любовь может пройти, но остается память; бывает, и память стирается, но даже это может не принести облегчения.
* * *
Злые волны моря.
В вышине неслись облака, медно-рыжие и багровые на фоне молочно-голубого неба.
Вереск сдержанно лиловеет благородным аметистом.
* * *
Под низким серым небом все краски пейзажа проступали с небывалой яркостью; особенно насыщенными казались коричневый и зеленый тона полей, темно-зеленый — живых изгородей и деревьев; тона, совсем не похожие на великолепие итальянского пейзажа, но столь густые и щедрые, что казались основными цветами. Зрелище это напоминало старинные иконы, где художники добивались подобного эффекта свечения благодаря сплошному золотому фону.
* * *
Когда вы влюблены, что радости вам в том, что на любовь вам отвечают добротою и дружеским расположением? Все это содомским яблоком[5] застревает у вас в глотке.
* * *
В прежние дни достаточно было просто находиться рядом с …. молча бродить с нею или болтать о всяких пустяках; теперь же, когда мы оба замолкаем, я ломаю себе голову, не зная, что сказать, а если заговариваем, то беседа идет принужденно и неестественно; я испытываю неловкость, находясь с нею наедине.
* * *
До чего же нелепо думать, что любые перемены свидетельствуют о прогрессе! Европейцы сетуют, что китайские кустари-искусники пользуются теми же орудиями, что и сотни лет назад; но если этими грубыми инструментами им удается творить с изяществом и филигранностью, которые и поныне недоступны западным ремесленникам, то с какой стати им что-то менять?
* * *
Три обязанности женщины. Первая — быть красивой, вторая — быть хорошо одетой, и третья — никогда не перечить.
* * *
Смутная тихая песнь Лондона, похожая на отдаленное гудение могучей машины.
* * *
С годами становишься более молчаливым. В молодости хочется всю душу излить миру; остро ощущаешь свое братство с другими людьми, тянет броситься им в объятия, не сомневаясь в ответном порыве; хочется открыться окружающим, чтобы они приняли тебя, и одновременно хочется проникнуть в их души; кажется, самая жизнь твоя, перетекая, сливается с жизнью других, как воды рек сливаются в океане. Но постепенно способность к такому слиянию исчезает; между тобою и окружающими возникает преграда, и вдруг понимаешь, что они тебе чужие. И тогда всю свою любовь, всю жажду общения сосредоточиваешь на одном человеке, как бы в последней попытке слить свою душу с его душой; всеми силами притягиваешь его к себе, стремясь познать его и дать ему познать тебя до самых потаенных уголков души. Мало-помалу, однако, обнаруживаешь, что это невозможно, и как бы пылко ты его ни любил, как бы сильно к нему ни привязался, он так и останется тебе чужим. Даже самые любящие муж и жена не знают друг друга. И, замкнувшись в себе, ты молча, таясь от людских глаз, начинаешь возводить свой собственный мир и не открываешь его даже тому, кого любишь больше всех, ибо знаешь: ему не постигнуть твоего мира.
* * *
Иной раз чувствуешь ярость и отчаяние оттого, что так мало знаешь тех, кого любишь. Сердце разрывается от невозможности понять их, проникнуть в сокровенные глубины их душ. Бывает, по случайности или под воздействием порыва чувств приоткрывается внутренний мир любимого человека, и тогда с горечью убеждаешься, как мало знаком тебе этот мир и как страшно далек от тебя.
* * *
Иногда двое, поговорив на какую-то тему, вдруг замолкают, и тогда мысли их текут в разных направлениях; через некоторое время, заговорив снова, эти двое с удивлением обнаруживают, как далеко они мысленно разошлись.
* * *
Говорят, что жизнь коротка; возможно, тем, кто оглядывается на прожитое, она и впрямь кажется короткой; но для тех, кто смотрит вперед, она представляется жутко долгой, бесконечной. Порою возникает чувство, что не хватит сил прожить ее. Отчего нельзя заснуть и больше никогда, никогда не просыпаться? Как, наверное, счастливо живут те, кто с радостью ждет вечности! Мысль о вечной жизни наводит ужас.
* * *
На земле такое множество людей, что поступок отдельного человека не имеет особого значения.
* * *
Как вы любите сыпать нравоучительными афоризмами! Так и тянет перемежать ваши изречения понюшками табака.
* * *
Ужасно не иметь возможности выразить свои чувства и поневоле хранить их втайне.
* * *
Неужто я, словно второстепенный поэт, выставлю кровоточащее сердце свое на обозрение пошлой толпе?
* * *
Будь у людей возможность в первый же год спокойно расторгать брак, то из пятидесяти пар ни одна не осталась бы вместе.
Читатели и не подозревают, что текст, на чтение которого у них уходит полчаса или пять минут, автор писал кровью своего сердца. Чувства, которые кажутся им «столь достоверными», он в полной мере испытал сам, орошая подушку горькими слезами.
* * *
Скорбь человеческая столь же велика, что и человеческая душа.
* * *
Встречаются люди, которые на слова «Здравстуйте! Как поживаете?» отвечают «Спасибо, очень хорошо». До чего же они тщеславны, если думают, что их здоровье кого-то волнует.
* * *
Самое трудное для человека — признать, что он не в центре мирозданья, а на его периферии.
* * *
Шотландцы, по-видимому, считают свою национальную принадлежность собственной заслугой.
1901
Конец жизни. Напоминает чтение книги на склоне дня; сначала читаешь, не замечая, что свет тускнеет, а потом, прервавшись на миг, видишь, что день угас; тьма сгущается, и ты уже ничего не можешь прочесть, страница утратила смысл.
* * *
Карбиз-Уотер. Шафранные и зеленые тона утесника. Кто-то, собрав букетик вереска, обронил его в траву; вереск увядал, блекло лиловея, словно символ пришедшей в упадок имперской мощи.
Памятник. Он стоял на холме, возвышаясь над долиной и морем; Хейл с неспешно текущей через него рекою походил на итальянский городок, пестрый и веселый, даже несмотря на хмурое небо. Вокруг постамента лежали сухие землисто-бурые листья папоротника, они приглушали шаги; из летних растений папоротник увядал первым, застуженный мягким сентябрьским ветром.
Джоаннес Нилл, 1782 г. Что это был за человек? Воображение рисует желчную унылую личность, каких немало породил восемнадцатый век своей чрезмерной упорядоченностью и педантизмом. Тот век чахнул от недостатка свежего воздуха. Он лишь пригубил чашу, из которой елизаветинцы черпали многоцветную радость бытия, а следующее поколение, хлебнув, воспламенилось жаждою свободы; но потом вино в чаше выдохлось, осадок на дне отдавал лишь хандрой.
* * *
Летом мертвые деревья казались неуместными, они мрачно, невпопад темнели среди веселого разноцветья, столь свойственного Корнуоллу в июне; зато теперь вся природа стремилась к гармонии с ними, а они, сучковатые и безлистые, стояли спокойно и молча, будто с удовлетворением сознавая незыблемость порядка вещей: цветы и зеленая листва хрупки и эфемерны, как бабочки и легкий апрельский ветерок, а они прочны и неизменны. Тишина повисла такая, что, казалось, слышно, как хлопают крыльями грачи, перелетая с одного поля на другое. Невероятно, но мне почудилось, что в этом безмолвии до меня доносится призывная песнь Лондона.
Небо хмурилось, тяжелые дождевые тучи неслись над вершинами холмов; и к концу дня полил дождь, мелкая корну-олльская морось; она пеленой висела над землею, пропитывая все вокруг, словно человеческая скорбь. Окрестности утонули во тьме.
* * *
Ветер пел сам себе, как молодой крепкий пахарь, легко шагающий по полю.
* * *
Землю окутал молочно-белый туман, непроглядный и одновременно странно прозрачный,
* * *
Джереми Тейлор. Пожалуй, не найти писателя, о котором с большим основанием можно было бы сказать: стиль — это человек. Читая «Благочестивую смерть», с ее неторопливым ритмом и классическим стилем, с ее легкой плавной поэтичностью, без труда представляешь себе, что за человек был Джереми Тейлор; а если вникнуть в обстоятельства его жизни, то напрашивается мысль: писать он мог только так, как писал. Он был прелатом эпохи Карла I, жизнь его текла спокойно, в умеренном богатстве и тихом самодовольстве. Таков же и его стиль. Он не похож, как у Мильтона, на бушующий поток, рвущийся сквозь препятствия почти неодолимые; скорее, он напоминает ручей, с веселым журчанием бесцельно струящийся по плодородному лугу, усыпанному душистыми весенними цветами. Джереми Тейлор не умеет ловко жонглировать словами, он охотно пользуется ими в самых привычных значениях. Эпитеты его редко блещут изысканностью, редко открывают в описываемом новые, неожиданные свойства; он употребляет их исключительно для красоты, повторяя их снова и снова, словно это не точно обозначенные неотъемлемые признаки предмета, а всего лишь привычные спутники существительных. А потому, несмотря на чрезвычайную цветистость слога, создается впечатление простоты. Кажется, будто автор использует первые пришедшие на ум слова, и речь его, при всем изяществе оборотов, имеет налет разговорности. Возможно, тому способствует также постоянное повторение союза «и», создающее впечатление безыскусной простоты. Благодаря длинным придаточным предложениям, тянущимся друг за другом цепочкой, которой, кажется, не будет конца, возникает ощущение, что письмо его не требовало ни малейших усилий. Оно походит на речь добродушного, многословного пожилого священника. Впрочем, порою бесконечные периоды — придаточные предложения в них цепляются друг за друга без особой заботы о смысле и еще менее о построении фразы — держатся только на вольно расставленных знаках препинания; если же эти периоды перестроить, то получатся сжатые, хорошо скомпонованные абзацы. При желании Джереми Тейлор умеет связывать слова не хуже других, и тогда возникает замечательно музыкальная фраза. «Тот, кто желает себе легкой и счастливой смерти, должен со всею возможною осмотрительностью сторониться жизни праздной, изнеженной и чувственной; жизнь его должна быть суровой и праведной, проводимой в христианском благочестии, в рачительной скромности, в соблюдении христианского закона; жизнь, полная борьбы и здравомыслия, трудов и бдения». Впрочем, частенько фраза увлекает его, и тогда одно «и» громоздится на другое, одна мысль цепляется за другую, смысл уже невозможно уловить, и предложение вдруг невразумительно обрывается, неоконченное, неполное и грамматически неправильное. Иной раз, впрочем, эти необъятные периоды строятся на редкость искусно; и в длинной цепочке придаточных эпитеты и разнообразные по форме уточнения располагаются и варьируются с большим изяществом и ловкостью.
Но главное очарование книги «Благочестивая смерть» заключено в общей атмосфере, благоуханной и строгой, спокойной и утонченной, как старинный парк; и еще более — в дивной поэтичности отдельных фраз. Нет страницы, где не встретишь удачного выражения, как-то по-новому расставленных привычных слов, обретающих вдруг необычную выразительность; не столь уж редко встречаются яркие фразы, перегруженные деталями, как вещица в стиле раннего рококо, когда не знали меры в украшениях, удерживаясь тем не менее в пределах отменного вкуса.
В наше время, подбирая эпитет, добросовестный писатель ишет (как правило, напрасно!) слово, которое представило бы описываемый предмет в новом свете, открывая у него никогда прежде не замеченные свойства; а Джереми Тейлор даже и не делает подобных попыток. Он использует то прилагательное, которое первым приходит ему на ум. Можно описывать море тысячью разных эпитетов, но если вы мните себя тонким стилистом, то будете старательно избегать одного — эпитета «синий», однако же именно его Джереми Тейлор считает наиболее подходящим. Он не обладает разящим слогом Мильтона, искусством поэтически соединять существительные и прилагательные, наречия и глаголы, образуя невиданные прежде сочетания. Его проза не удивляет никогда. Его воображение лишено силы и смелости. Он довольствуется торной дорогой, используя попадающиеся ему готовые фразы и выражения; главная же особенность его стиля состоит в его кротком буколическом взгляде на жизнь. Он приветливо взирает на мир и воспроизводит его точно и безыскусно, однако, желая угодить читателю, старается представить его как можно более живописно.
* * *
В лучах восходящего солнца туманная дымка заиграла разными цветами, отливая, как халцедон, лиловым, розовым и зеленым.
* * *
Терракотовые статуэтки. Я был очарован естественностью движений маленьких фигурок, их смелыми жестами и непринужденными позами. В складках их свободных одежд, в застывших движениях ощущается самый дух эллинской культуры, главной частью которой была, вероятно, жизнь на вольном воздухе. Зрелище выстроенных рядком статуэток из Танагры будит у наделенного воображением человека острую тоску по простой и куда более привольной жизни древних времен.
* * *
Грозный непроглядный мрак вечных мук.
* * *
Порою в разрыве между мчащимися тучами мерцала дрожащая от стужи бледная звезда.
* * *
Лазурь более насыщенная, чем драгоценная эмаль на старинном французском украшении.
* * *
Пашня, приобретающая под солнцем разнообразные оттенки яшмы.
* * *
Зелень вязов, что темнее нефрита.
* * *
В солнечных лучах влажные листья сверкали изумрудами, словно поддельные драгоценности, что вполне подошли бы для украшения порочного великолепия королевской куртизанки.
* * *
Блещущие той искусственной, замысловатой пышностью, которая свойственна дивным старинным украшениям, усыпанным драгоценными камнями.
* * *
Зеленый цвет, подобный зелени на старинных эмалях, — прозрачнее и ярче изумруда.
* * *
Роскошный глубокий цвет граната.
* * *
Полупрозрачное, оно переливалось всем богатством красок агатового среза.
* * *
Небо, синевшее ярче ляписа лазури.
* * *
После дождя, под угасающим солнцем, пейзаж засверкал новыми, почти неестественно пышными красками, сходными по роскоши с лиможской эмалью.
* * *
Подобно лиможской пластине, сверкающей роскошными красками.
* * *
В глубокой полупрозрачной тени вода густела насыщенной зеленью нефрита.
Читатель, наверное, уже давно гадает, откуда вдруг взялись здесь все эти эмали и камни, драгоценные и полудрагоценные. Я готов объяснить. В то время, находясь под впечатлением пышной прозы, столь модной в девяностые годы, и чувствуя, что мой стиль тускл, незамысловат и зауряден, я решил попытаться расцветить и украсить его. Для этого я стал усердно читать Мильтона и Джереми Тейлора. В один прекрасный день, перебирая в уме особенно вычурный отрывок из «Саломеи» Оскара Уайльда, я отправился в Британский музей, прихватив с собой карандаш и бумагу; там я и сделал эти заметки в надежде, что когда-нибудь они пригодятся.
* * *
Пикадилли перед рассветом. После дневной суеты и бесконечного потока экипажей предутренняя тишь на Пикадилли кажется почти неправдоподобной. Она неестественна, едва ли не призрачна. Пустынность придает этой замечательной улице некую угрюмую ширь; сделав величавый поворот, она уверенно и неспешно течет вниз с горделивым достоинством спокойной реки. Воздух чист и ясен, но каждый звук в нем слышен особенно отчетливо — случайный одинокий экипаж наполняет шумом всю улицу, и четкий перестук лошадиных копыт долгим эхом отзывается окрест. Поражающие своей упорядоченностью электрические фонари, самоуверенные и наглые, озаряют все вокруг резким снежно-белым сиянием; равнодушный, слепяще-безжалостный свет заливает огромные притихшие дома, а там, внизу, отчетливо проступают строгие линии парковой ограды и стволы деревьев за нею. Между фонарями, едва заметные в их блеске, неровной цепочкой блеклых самоцветов мерцают желтые огоньки газовых рожков.
Кругом тишина, однако неподвижные дома хранят свое, особое молчание, на их ярко-белых стенах зияют черные провалы многочисленных окон. Эти спящие, закрытые и запертые на засовы здания, как бы лишившиеся вдруг привычного порядка и величия, стоят вдоль мостовой совсем иначе, чем днем, когда гомон голосов, деловая суета и потоки снующих в двери и обратно людей придают домам особую значительность.
* * *
У осени тоже есть свои цветы; только их мало кто любит и мало кто воспевает.
Мне трудно себе представить, что вся эта чушь писалась всерьез; уж не оттого ли, думалось не раз, ударился я тогда в этакую напыщенность, что одна не первой молодости женщина проявила благосклонность к застенчивому юноше, каким я некогда был.
* * *
К. Мне кажется, что по книгам, которые человек читает, можно многое о нем узнать. В той спокойной жизни, что выпадает на долю большинству людей, утолить жажду приключений едва ли удается каким-либо иным способом, кроме чтения. За книгами человек способен прожить несколько вымышленных жизней, часто более отвечающих его природе, чем реальная, навязанная ему обстоятельствами. Надумай вы спросить К., какие книги оказали на него наибольшее влияние, он, вероятно, затруднился бы ответить; этот вопрос задают часто, и он отнюдь не так глуп, как кажется поначалу. В ответ обыкновенно называют Библию либо Шекспира, иногда из одного лишь дурацкого лицемерия, но чаще из опасения прослыть снобом, если назвать нечто неизбитое. К. же, надо думать, не без самодовольства перечислил бы книги, которые более других занимали его ум и доставили ему самые яркие переживания. В списке рядом с «Оправданием» Ньюмена стоял бы «Сатирикон» Петрония, рядом с Уолтером Патером — Апулей; а также Джордж Мередит, расчетливый ловец почитателей, Джереми Тейлор, сэр Томас Браун и Гиббон. К. более всего прельщается пышным слогом. Ему нравится вычурность. Он, разумеется, изрядный осел; развитой, начитанный осел.
* * *
Он чувствовал себя человеком, который, сидя на дне пропасти, средь бела дня видит звезды, невидимые всем остальным.
* * *
Ему казалось, что жажду его способны утолить лишь слитые воедино бесчисленные потоки, питающие реку жизни.
* * *
Здравое и благоразумное суждение.
* * *
Каноник. Уклонялся от обсуждения религиозных вопросов так, будто это занятие неприличное; а когда его вынуждали отвечать, высказывался осторожно, словно бы извиняясь. Постоянно повторял, что религия, как и все вокруг, постепенно меняется. Он занимал позицию на грани между знанием и невежеством. «Дальше человеческий разум проникнуть не может», — говорил он и немедленно заявлял свои права на эту темную, неисследованную область. Но когда наука, прорвавшись, точно море в узкую расщелину, осваивала и эту область, он незамедлительно отступал. Подобно проигравшему сражение генералу, который приукрашивает свои реляции, он называл поражение отходом для тактической перегруппировки сил. Он целиком и полностью полагался на непознаваемое, на ограниченные возможности разума, но, словно мот, на глазах которого ростовщик акр за акром прибирает к рукам его поместье, каноник наблюдал за научным прогрессом с плохо скрытым беспокойством.
Зачитывая с аналоя отрывки из Библии, которые ему самому представлялись вымыслом, лишенным всякой достоверности в глазах любого здравомыслящего человека, он понимал, что если одна часть его паствы воспринимает их буквально, то для другой их несостоятельность очевидна. Порою, чувствуя шаткость своих позиций, он терзался сомнениями, однако мысленно лишь пожимал плечами. «В конце концов, — говаривал он, — уже и то хорошо, что темные люди в это верят. А подрывать людскую веру очень опасно». Иной раз, впрочем, он отваживался поручать викарию прочитать с аналоя то, чего сам не в силах был произнести вслух. Викариев он выбирал поглупее.
Когда ему случалось вспылить, он называл это праведным гневом; а когда кто-нибудь совершал поступок, который ему не нравился, он называл свои чувства благородным негодованием.
* * *
Стиль Мэтью Арнольда. Превосходный способ облекать мысли в слова. Ясный, простой и точный. Он напоминает чистую, плавно текущую реку, пожалуй, чуть слишком спокойную. Подобно платью хорошо одетого человека, которое не бросается в глаза, но неизменно радует случайный внимательный взгляд, стиль Арнольда безупречен. В нем нет ни малейшей навязчивости, ничто — ни яркий оборот, ни броский эпитет — не отвлекает внимание от сути; однако, вчитавшись, замечаешь продуманную стройность фраз, гармоничный, изящный, элегантный ритм этой прозы. Начинаешь ценить меткость выражений и невольно дивишься тому, что столь сильное впечатление создается самыми простыми безыскусными словами. Арнольд умеет облагородить все, чего бы ни коснулся. Его стиль напоминает просвещенную пожилую даму особо тонкого воспитания, во многом позабывшую волнения бурной молодости, но обладающую изысканными манерами, свойственными давно минувшим временам; впрочем, ее живость и чувство юмора не позволяют и предположить, что она принадлежит к уходящему поколению. Однако столь пригодный для выражения иронической или остроумной мысли, равно как и для неспешного изложения, столь уместный, когда нужно подчеркнуть неубедительность какого-либо довода, стиль этот предъявляет высочайшие требования к содержательной стороне. Он безжалостно выявляет логическую несостоятельность или банальность суждений; в таких случаях убийственная скудость средств просто обескураживает. Это, скорее, метод, нежели искусство. Я, как едва ли кто другой, понимаю, сколько нужно было положить сил, чтобы добиться этого сладкозвучного холодного блеска. Мысль о том, что простота слога приходит к писателю позже всех других литературных достоинств, давно стала общим местом, и порою в трудах Мэтью Арнольда улавливаешь признаки постоянных усилий и тех ограничений, которые он добровольно наложил на себя, чтобы избранная им манера письма вошла в привычку. Ничуть не желая умалить его заслуги, я, однако, не могу отделаться от мысли, что в результате неустанных стараний Арнольд по существу довел свое письмо до автоматизма. Чего Патер, как известно, не допускал никогда: совершенно очевидно, что колоритность, богатство метафор и других образных средств, придававших его слогу выразительность, требовали неустанной работы фантазии. Именно этого и не достает стилю Арнольда; словарь его беден, одни и те же обороты повторяются вновь и вновь; простота, к которой он так стремился, едва ли оставляла простор воображению. О чем бы он ни писал, стиль его неизменен. Видимо, именно за это, а также за чрезмерное следование классическим канонам его и упрекают в стилистической безликости. На мой же взгляд, его слог отражает личность Арнольда ничуть не менее, чем стиль Патера или Кар-лейля — личность каждого из этих писателей. В самом деле, слог Арнольда ярко выявляет его натуру, немного женственную, обидчивую и холодную, с некоторой склонностью к поучениям, но одновременно наделенную удивительным изяществом, живым умом и безупречно тонким вкусом.
* * *
Я рад, что не верю в Бога. При виде страданий и жестокости, которыми полон мир, эта вера кажется мне крайне постыдной.
* * *
Вот интересный вопрос: не пагубна ли для рода человеческого чрезмерная цивилизованность? В древности за высоким уровнем культуры неизменно следовало вырождение; история античности есть история упадка и гибели одного великого народа за другим. Объясняется это, видимо, тем, что, достигнув определенного уровня культуры, страна оказывается нежизнеспособной; ее завоевывают другие народы, более выносливые и отважные, не достигшие столь высокой стадии развития. Подобно Греции, разрушенной варварской мощью Рима, высокоцивилизованная культурная Франция, утонченная и чувственная, была повержена грубой и жестокой Германией. Филистер одерживает верх над художником, человека культурного вытесняет хам. Напрашивается вывод, что примитивный вкус и отсутствие изящества являются скорее преимуществами, нежели недостатками.
Ныне канадцы, австралийцы и новозеландцы обладают тем же превосходством над англичанами, каким прежде, по мнению многих, долгое время обладали шотландцы, Выросшие в суровых условиях, в которых естественный отбор играет более заметную роль, они лучше приспособлены к борьбе за существование, чем представители многовековой цивилизации. Они не пытаются разгадать законы существования, их более грубые инстинкты значительно сильнее наших; уступая нам в цивилизованности, менее заботясь о жизненных благах, они куда крепче нас. Их мораль, их мировоззрение нацелены (бессознательно, разумеется) на благо всего народа, а не отдельной личности; из их среды редко выходят выдающиеся люди, зато их национальный характер более определенный и выразительный.
* * *
В конечном итоге, единственный способ улучшения расы — естественный отбор; происходит он только путем отсева нежизнеспособных. А все усилия продлить им существование — давая образование слепым и глухонемым, заботясь о людях с тяжелыми врожденными заболеваниями, о преступниках и алкоголиках — приведут лишь к вырождению народа.
* * *
В конце концов разум неизбежно встанет на сторону естественного отбора. И хотя рассудочному эгоизму противостоит опирающийся на религиозные догмы альтруизм, история эволюции свидетельствует, что в конечном итоге развитие вида обеспечивается лишь превосходством отдельной особи; и нелепо полагать, что в человеческом обществе дело обстоит иначе.
* * *
Положительные свойства человека возникли на основе инстинктов; черты, присущие данному племени, искони возводились в ранг добродетелей. Подобно тому как идеалом красоты для любого племени становится типичная для его членов, только особенно ярко выраженная внешность, так и проявления собственных инстинктов считаются в нем похвальными.
* * *
Все эти усилия естественного отбора, к чему они? В чем смысл бурной деятельности общества, кроме как помочь ничтожным созданиям прокормиться и обзавестись потомством?
* * *
Этические нормы столь же преходящи, что и все прочее в нашем мире. Добродетельными являются лишь те поступки, которые более всего отвечают данным обстоятельствам; очень возможно, что в результате дальнейшего развития человечества нынешний нравственный идеал будет развенчан и наши представления о добродетели будут отвергнуты. Поражение или победа в борьбе за существование — вот единственный нравственный критерий. Хорошо то, что выживает.
* * *
Мораль — это оружие, которым в борьбе за существование пользуется общество, вступая в отношения с индивидом. Общество вознаграждает те поступки и одобряет те качества, которые необходимы для его собственного выживания. С помощью морали оно убеждает человека, что все полезное для общества полезно и для него.
* * *
У некоторых людей до того плохо развито чувство юмора, что они до сих пор злятся на Коперника, лишившего их центрального места во Вселенной. Они воспринимают как личную обиду тот факт, что не могут более считать себя осью, на которой вращается мироздание.
* * *
Приложим, интереса ради, идею Канта о самоцели к понятиям истины, красоты и добра; чем можно возразить на нехитрое замечание о том, что истина, красота и добро едва ли более долговечны, чем полевые цветы? Даже за тот короткий период человеческой истории, которому есть документальные свидетельства, содержание этих понятий сильно изменилось. Зачем же тогда самоуверенно утверждать, что нынешние представления о них непреложны? И можно ли в таком случае считать самоцелью нечто в высшей степени относительное? Прежде чем рассуждать о самоцели, объясните нам, что такое Абсолют.
* * *
Сейчас принято презирать вкус к еде и гастрономические удовольствия; на самом же деле вкусовое восприятие важнее эстетического инстинкта. Человеку легче прожить без эстетического чувства, чем без вкусовых ощущений. Если, как подсказывает разум, расставить разнообразные физические способности человека в порядке их значимости для его выживания, важнейшими наряду с половыми органами окажутся органы пищеварения.
* * *
Очевидно, что сознанию человека религиозного присущ известный гедонизм, оказывающий на его поступки влияние не менее глубокое, чем у настоящего гедониста; разница лишь в том, что верующий человек видит награду за свой поступок не в немедленном, а в будущем блаженстве, Вообще говоря, гедонизм особенно ярко проявляется у тех, кто избирает определенный образ действий только потому, что он сулит вечную благодать; но стоит вникнуть в их представление об этом будущем счастье, и выясняется, что обычно оно так вопиюще материально, что многие убежденные гедонисты постесняются признаться в подобной бездуховности.
Однако некоторым глубоко религиозным людям удается искусно и изощренно убедить себя, что они руководствуются в своих поступках не упованием на будущую награду, а лишь любовью к Богу. Тем не менее и здесь при ближайшем рассмотрении обнаруживается элемент гедонизма; они испытывают глубокое удовлетворение от своего добродетельного поступка, от приятного сознания, что совершили богоугодное дело, и уже в том их награда; эмоциональным натурам это доставляет больше удовольствия, чем иные, более грубые, материальные блага.
* * *
Какие же подлости и жестокости способен творить человек из любви к Богу!
* * *
Человеческую красоту определяет сексуальная притягательность. Это яркое, но без чрезмерности, проявление черт, свойственных данному народу в данный период времени; ведь слишком сильное отклонение от нормы скорее отталкивает, нежели восхищает. Чтобы привлечь противоположный пол, мужчины и женщины стремятся выделиться среди окружающих и тем обратить на себя внимание. Для этого они подчеркивают особенности, присущие данному народу. Так, китаянки сдавливают свои от природы маленькие стопы, а европейки стягивают свои от природы тонкие талии. При изменении свойственных данному народу черт меняется и его идеал красоты. За последние сто лет англичанки прибавили в росте; в старинных романах героини рослостью отнюдь не отличались, и литературе пришлось ждать Теннисона, который объяснил, что от нескольких лишних сантиметров красота только выигрывает.
* * *
Об искусстве обычно толкуют так, будто о нем известно все, а если нет, то этого и знать не стоит. Но искусство отнюдь не такая простая штука. Да и с чего бы ему быть простым, ведь в его создании участвует столько различных факторов: половой инстинкт, подражание, игра, привычка, скука и жажда перемен, стремление к острым чувственным удовольствиям или к облегчению страданий.
* * *
Каждый поступок непоправим — вот отчего жизнь так трудна. Ничто в мире не повторяется в точности так, как прежде, и в самом насущном человеку обычно нечем руководствоваться, поскольку за плечами у него подобного опыта нет. Любой поступок совершается раз и навсегда, и любая ошибка неисправима. Порою, оглядываясь на прошлое, приходишь в ужас от совершенных промахов, кажется, что слишком много времени ушло на блуждание окольными тропами, а избранный путь нередко оказывается настолько неверным, что целые годы пропадают втуне.
* * *
В большинстве биографий интереснее всего описание смерти героя. Этот последний неизбежный шаг особенно завораживает читателя, представляя к тому же и практический интерес, превосходящий любое иное событие в жизнеописании. Мне не понятно, отчего биограф, подробнейшим образом обрисовав земной путь знаменитого человека, не решается, как правило, столь же подробно описать и его смерть. Ведь самое интересное в его книге — характер человека, его достоинства и недостатки, его мужество и душевная слабость; нигде все это не проявляется с такой полнотой, как на смертном одре. Знать, как умирают великие, нам не менее важно, чем знать, как они живут. Описание того, как завершают свой земной путь другие, более всего поможет и нам в наш смертный час.
* * *
По ночам я частенько задаю себе вопрос: что я сделал за день, какая новая мысль посетила меня, испытал ли я какое-либо особое чувство, не случилось ли чего-нибудь такого, что отличило бы этот день от других, подобных? Однако прошедший день чаще всего видится мне незначительным и бесполезным.
* * *
Моралисты утверждают, что исполненный долг дает ощущение счастья. Долг же определяется законом, общественным мнением и совестью. И хотя каждый из этих факторов в отдельности, пожалуй, не слишком силен, всем трем вместе взятым противостоять почти невозможно. Но закон и общественное мнение порою входят в противоречие друг с другом — так, например, обстоит дело в Европе в вопросе о дуэлях; кроме того, общественное мнение не единообразно: одна часть общества порицает то, что другая одобряет; и даже у представителей различных профессий — у военных, служителей церкви и у коммерсантов — свои, особые нравственные нормы.
Бывает, что исполнение долга никак не может доставить удовольствие; в этих случаях долгом зачастую пренебрегают, и для его исполнения требуются новые меры воздействия. Во время Бурской войны попавшие в переделку офицеры сдавались без всякого сопротивления, предпочитая вероятной смерти бесчестие; и только после того, как нескольких расстреляли, а других разжаловали за недостойное поведение, большинство стало проявлять незаурядное мужество.
Отличительной чертой христианства, в том виде, в каком его толкуют богословы, является, в сущности, сознание греха. Именно его грозная тень омрачает верующим восприятие жизни, внушая им страх и лишая способности и желания принимать ее такой, какова она есть. Представление о человеке неполно, утверждают теологи, если исключить понятие греха. Но что есть грех? Грех — это поступок, будящий совесть.
А что такое совесть? Это ощущение, что вы совершили нечто, чего не одобрят окружающие (и, возможно, Бог). Интересно было бы проанализировать понятие совести. Для этого нужно выяснить, как оно возникло, его значимость в глазах общества, его психологическую основу, а также те события и поступки, на которые распространяется его воздействие. Патана, убившего человека, ничуть не мучают укоры совести, равно как и корсиканца, умертвившего кровного врага. Добропорядочный англичанин не решится солгать; испанец же, ничуть не менее добропорядочный, соврет не моргнув глазом.
* * *
Чезаре Борджа может служить примером человека, почти полностью реализовавшего свои способности. Всю жизнь он руководствовался одним-единственным нравственным принципом: давал полную волю своим физическим и умственным порывам. В этом и заключается эстетическое совершенство земного пути человека, и с такой точки зрения жизни Чезаре Борджа и Франциска Ассизского обнаруживают большое сходство: каждый из них реализовал свойства своей натуры, а большего нельзя и требовать от человека. Однако общество, оценивающее поступки лишь по их влиянию на собственное благоденствие, провозгласило первого негодяем, а второго праведником. Как же, в таком случае, оценило бы оно человека вроде Торквемады, самого набожного из всех своих современников, но изощрившего систему наказания грешников настолько, что было пролито больше крови и причинено больше страданий, чем за иные долгие кровавые войны?
* * *
По отношению к самому себе у человека нет ни обязательств, ни долга; слова как таковые для него не имеют значения, они обретают смысл только в его взаимодействии с окружающими. По отношению к себе человек внутренне полностью свободен, и нет такой силы, которая могла бы им повелевать.
* * *
Общество создает правила для самосохранения, индивид же свободен от обязанностей по отношению к обществу: сдерживает его одна только осторожность. Он волен идти своим путем, поступать, как ему заблагорассудится, но не должен жаловаться, если общество накажет его за нарушение своих законов. Действеннее всех установлений, принимаемых обществом для самосохранения, оказывается институт совести: с его помощью в груди каждого человека возникает полицейский, следящий за выполнением общественных законов; самое удивительное, что даже в сугубо личных делах, к которым общество, казалось бы, не имеет никакого касательства, совесть побуждает человека действовать во благо этого обособленного от индивида организма.
* * *
Одно из важнейших различий между христианством и наукой состоит в том, что христианство придает индивиду огромное значение, а для науки он особой ценности не представляет.
Понятие совести весьма относительно, это с неизбежностью вытекает из изменчивости человеческих представлений о добре и зле. Человек одной эпохи будет страдать от угрызений совести из-за того, что не совершил поступка, в котором в другую эпоху он бы горько раскаивался.
* * *
Здравый смысл частенько принимают за этическую норму. Но если подвергнуть его анализу, если разобрать один за другим его веления, откроются поразительные противоречия. Невозможно будет понять, отчего в различных странах, а также в различных классах и слоях общества одной и той же страны здравый смысл диктует диаметрально противоположные вещи. Мало того, обнаружится также, что в одной стране, в пределах одного общественного класса и слоя здравый смысл нередко диктует взаимоисключающие вещи.
* * *
Здравый смысл, видимо, считается синонимом для бездумности нерассуждающих. Он состоит из детских предрассудков, индивидуальных особенностей натуры и навязываемых газетами мнений.
Здравый смысл всячески возвеличивает бескорыстие по отношению к окружающим, но это только притворство. Рассмотрим, к примеру, вопрос о том, надо ли обуздывать свои желания, покуда вокруг еще существуют нужда и горе; здравый смысл решительно отвечает «нет».
* * *
Но если уж положено осуждать чувственные удовольствия, то надо быть в этом осуждении последовательным. Порицая любовь к вкусной еде или телесным усладам, следует порицать и любовь к теплу, уюту, к путешествиям, к красотам природы и искусства. Иначе осуждается не потворство своим желаниям, а некая маленькая слабость, ограниченная радостями желудка или постели.
* * *
Успех различных вероучений свидетельствует о беспросветном эгоизме людей и отсутствии у них здравомыслия.
Трудно себе представить более нестерпимый эгоизм, чем тот, что демонстрирует христианин по отношению к собственной душе.
* * *
Едва ли мудрость может считаться добродетелью, ведь в основе ее лежат умственные способности, которыми один человек наделен, а другой нет. Если для праведного поступка необходима мудрость, то, стало быть, на такие поступки способно лишь меньшинство людей.
* * *
В основе интуитивизма лежит принцип нравственного абсолюта, и шаткость такого основания проявляется уже в том, что интуиция подсказывает человеку совершенно разные поступки, в зависимости от страны, эпохи и самого человека. В одну эпоху интуиция подтолкнет человека к убийству, а в другую вызовет в нем отвращение к самой мысли об убийстве. Совсем не трудно доказать, что эти решения, принимаемые без каких-либо видимых причин, на самом деле проистекают из уроков детства и образа жизни окружающих. Интуиция зиждется на том же механизме, что и реклама: если десять тысяч раз повторить, что мыло «Пэрз» благотворно влияет на кожу лица, то в конце концов у человека возникает интуитивная уверенность в этом.
* * *
Любопытно, что даже священник, настоятель церкви Св. Иоанна Златоуста, как-то намекал на относительность морали: «Не спрашивайте, насколько верны эти (Ветхозаветные) заповеди теперь, когда нужда в них отпала; спросите лучше, насколько они были верны тогда, в свое время».
* * *
Гедонисту следует помнить, что самосознание и счастье — вещи несовместимые. Счастье покинет его, как только он сосредоточит все помыслы на погоне за удовольствиями.
* * *
Желание лишь поначалу доставляет приятные ощущения; чем оно сильнее, тем становится мучительнее, приводя к тому же результату, что и боль: мы стремимся не добиться объекта нашего желания, а освободиться от самого желания. Порою любовь достигает такой силы, что вожделение перерастает из удовольствия в муку, и тогда мужчина способен убить любимую женщину, лишь бы избавиться от мучительной страсти.
* * *
Голод — это желание на грани муки и наслаждения. Он лучше всего доказывает, что страдание и удовольствие зависят от накала желания. Пока голод не слишком силен, он даже приятен, и мысль о еде отрадна; но когда он невыносим, человек испытывает одни только страдания, и мысли его заняты не предвкушением хорошего обеда, а лишь тем, как ему отделаться от неприятных ощущений.
* * *
Нет более глупого способа возвеличивать страдания, чем утверждать, что они облагораживают человека. В основе такого подхода лежит необходимость оправдывать муки с точки зрения христианства. Однако всякая боль есть не что иное, как посылаемый нервами сигнал о том, что организм попал в пагубные для него обстоятельства; с тем же успехом можно было бы утверждать, что сигнал об опасности облагораживает поезд. Одно лишь внимательное наблюдение над окружающей действительностью убедительно показывает, что в большинстве случаев страдания отнюдь не возвышают человека, а наоборот, низводят его до звероподобного состояния. Примером тому могут служить тяжелые больные: физические муки превращают их в сосредоточенных лишь на себе эгоистов, капризных, нетерпеливых, мелочных и жадных; я без запинки готов перечислить с десяток мелких пороков, порожденных страданиями, но не припомню ни единой добродетели. Нищета — тоже мучение. Я близко знавал людей, тяжко страдавших в тисках беспросветной нужды, которая тем горше, если беднякам приходится жить среди людей побогаче; бедняки тогда становятся алчными и подлыми, бесчестными и лживыми. Учатся прибегать к всевозможным отвратительным уловкам. Обладай они некоторыми средствами, это были бы достойные люди, но, замученные нищетою, они утрачивают всякое представление о порядочности.
* * *
Среднему человеку достаточно руководствоваться в жизни своими инстинктами, сформировавшимися под воздействием нравственных норм общества, в котором он живет.
* * *
Он бушевал, этот грошовый Прометей, — сердце его терзали тревожные думы, он пытался проникнуть в тайну бытия.
* * *
Я готов относиться к жизни, как к игре в шахматы, где основные правила не подлежат обсуждению. Никого ведь не удивляет, что конь так причудливо скачет по доске, что ладья ходит только по прямой, а слон по диагонали. Эти условия просто принимаются, по ним и должно играть, а жаловаться на них глупо.
Изучение этики является неотъемлемой частью познания природы; ибо прежде чем научиться действовать правильно и разумно, человек должен осознать свое место в мире.
* * *
Усматривать в существовании человека некий высший помысел или цель есть столь же мало оснований, как и утверждать, что небесные тела обязательно вращаются по окружности только потому, что окружность — самая совершенная геометрическая фигура; а ведь последнее утверждение в античности и в Средние века безоговорочно принималось за истину.
Что же касается цели человеческого существования, вспомним старинное возражение приверженцев Аристотелева взгляда на мир против учения Коперника. В чем смысл, вопрошали они, безмерных пространств между самыми отдаленными планетами и неподвижными звездами?
* * *
Свойства, присущие всем людям, не могут быть порочными; многие этические теории грешат тем, что, выбрав более или менее произвольно некоторые человеческие наклонности, они называют одни положительными, а другие дурными. Насколько счастливее был бы человек, если бы удовлетворение полового инстинкта никогда не считалось чем-то порочным! Верная этическая теория должна выявить качества, присущие всем людям, и именно их назвать положительными.
* * *
Как можно заметить, человеку свойственно восхвалять те действия окружающих, которые ему хотя бы отчасти выгодны; впрочем, он способен восхищаться также любыми яркими, из ряда вон выходящими деяниями, которые поражают его воображение или повергают в трепет.
* * *
Не столь уж часто мы осознанно ставим себе целью получить удовольствие; это обстоятельство, впрочем, ни в коей мере не опровергает предположения, что именно к подобной цели устремлены все наши действия.
* * *
Теоретически один только страх революции кладет предел безграничной власти государства; власть эта ограничена лишь ее собственными возможностями. Поэтому государство национализирует все отрасли промышленности, которыми оно способно управлять лучше, чем самостоятельные предприниматели, оставляя последним лишь те секторы торговли, в которых отдельный коммерсант, в силу своей алчности, скорее всего поведет дело более тщательно и экономно. Государство ни на миг не должно забывать справедливую аксиому Мандевиля о том, что частные пороки суть общая выгода.
* * *
Право на различные свободы: такого права нет, разве только государство, исходя из собственной выгоды, само не предоставит его.
* * *
Для отдельного человека нравственность — не более чем выражение его довольства собою; это лишь вопрос эстетики.
* * *
Кто силен, тот и прав. Никакого долга или моральных обязательств в природе не существует. Взятый в отдельности один образ действий не менее оправдан, чем любой другой; единственным этическим критерием выступает благоденствие государства. Свои взаимоотношения индивид и государство строят на основе молчаливого договора: в обмен на некоторые выгода для себя индивид действует так, как выгодно государству.
* * *
Если сорок миллионов людей твердят одну и ту же глупость, она от этого не становится мудростью, но и мудрец поступает глупо, когда лжет им.
* * *
В существовании Вселенной и человека невозможно усмотреть какой-либо цели. Все относительно. Все неопределенно. Нравственность зависит от государства, обладающего неограниченным могуществом. А кто силен, тот и прав.
В чем благодетельность прогресса? Какая польза японцам оттого, что они восприняли западную цивилизацию? И разве малайцы, живущие на опушках своих непроходимых лесов, или канаки — аборигены плодородных островов — менее счастливы, чем обитатель лондонских трущоб? К чему приведет прогресс? Какой в нем смысл? Не знаю ответа.
* * *
Тот факт, что удовольствие мимолетно, еще не доказывает, что оно порочно — разве есть в нашем мире что-нибудь вечное?
* * *
Очень полезно понять, что ум каждого человека в сущности непреодолимо обособлен. Никакое другое сознание, кроме собственного, нам вообще не доступно. Мы познаем мир лишь через призму своей личности. А поскольку поведение окружающих сходно с нашим, мы делаем вывод, что они похожи на нас; и поражаемся, обнаружив, что это вовсе не так. С возрастом меня все более изумляют огромные различия между людьми. Я уже почти склонен поверить в неповторимость каждого индивида.
* * *
На мой взгляд, можно весьма убедительно доказать, что во всех своих поступках люди руководствуются одной целью — получить удовольствие. Самое это слово царапает слух пуритан, а посему многие предпочитают говорить о счастье; но ведь счастье есть не что иное как длительное удовольствие, и если осуждается одно, то и второе тоже заслуживает осуждения: разумно ли называть прямую линию хорошей, если все составляющие ее точки порочны? Удовольствие, разумеется, не состоит из одних лишь чувственных наслаждений, хотя тут важно отметить, что именно их подразумевают обычно под словом «удовольствие». Для обычного человека эстетические радости, творческое удовлетворение, восторги воображения куда бледнее ярких чувственных утех и потому даже не приходят ему на ум при упоминании этого слова.
Некоторые, подобно Гете, полагают, что лишь гармония составляет смысл жизни; другие, подобно Уолтеру Патеру, считают важнейшей целью жизни красоту. Но, призывая людей развивать свои разнообразные способности и принимать жизнь во всех ее проявлениях, Гете в сущности проповедует беззастенчивый гедонизм, ибо чем всестороннее развит человек, тем, несомненно, полнее его ощущение счастья. С моей точки зрения, возводить красоту в цель и главное предназначение жизни несколько глупо: эта теория хороша только при благоприятных обстоятельствах, а в случае беды от нее мало проку; оплакивавшая своих детей Рахиль была безутешна, а меж тем закат в тот день был не менее великолепен, чем всегда.
* * *
Совесть. На ее власть очень точно указывал в комментарии к «Оправданию» Джон Генри Ньюмен: люди «предпочитают ошибиться, но в согласии с собственной совестью, нежели поступить правильно лишь по велению разума».
* * *
Богословы утверждают, что науке где-то положен предел, перед которым ей суждено признать свое бессилие. Но разве с религией дело обстоит лучше? Отнюдь нет, о чем говорит и известное изречение Тертуллиана: «credo quia absurdum est».[6]
* * *
Если религия ставит своей целью воспитывать высоконравственного человека, то, покуда ей это удается, сами догматы веры не имеют большого значения; а отсюда следует, что людям предпочтительнее принимать религию той страны, где им выпало родиться. Зачем же тогда миссионеры отправляются в Индию и Китай обращать в свою веру людей, у которых уже есть вера, причем очень неплохо выполняющая основную функцию религии? Возможно, в Индии найдется мало индусов, а в Китае буддистов, вполне отвечающих высоким нравственным требованиям индуизма или буддизма, но это еще не основание мешать им жить своей жизнью; как все мы знаем, очень немногие христиане живут по христианским заветам.
Или, может быть, миссионеры полагают, что Бог осудит на вечные муки всех тех, кто не придерживается данной веры? В таком случае не удивительно, что, по их пониманию, мы бранимся и сквернословим, восклицая: «Боже правый!»
* * *
Интересно было бы показать, что страх смерти — чисто европейский недуг; заметьте, с каким бесстрастием и хладнокровием ожидают ее жители и Востока, и Африки.
Совершенство есть не что иное, как полное приспособление к окружающей среде; однако среда эта постоянно меняется, и потому совершенство неизбежно преходящее.
* * *
В сознании человека глубоко укоренилось представление, что всякое новшество дурно; это особенно заметно проявляется у детей и дикарей. Потребности у дикарей ограниченны, одежда обходится им дорого и предназначена служить долго; художественные наклонности у них не развиты; не мудрено, что им свойствен консерватизм. В то же время человеку присуща тяга к переменам как таковым, и в цивилизованной стране она берет верх над древними страхами. У цивилизованного человека есть множество способов удовлетворить эту тягу к новизне: одеждой, например, — благодаря дешевизне и разнообразию производства; или переменой обстановки — благодаря современным средствам передвижения.
* * *
Одно и то же предложение никогда не производит на двух людей одинакового действия, и первые мимолетные впечатления от любого из составляющих его слов будут у них совершенно различными.
* * *
Никто пока еще не доказал, что Аполлона и Афродиты в природе не существует; просто-напросто, когда вера в них перестала отвечать уровню интеллектуального развития людей, она постепенно угасла.
* * *
Человеческое достоинство. Когда из безграничного тщеславия человек произвольно приписывает себе превосходные качества, он, в общем-то, мало чем отличается от правителей мелких восточных стран, каждый из которых официально именует себя владыкой Земли и братом Солнца.
* * *
Скептическому подходу к идеям своего времени нельзя отказать в мудрости. Представления, в течение многих веков казавшиеся столь верными, столь обоснованными, нам видятся явно, до нелепого ложными. Аргументы же в пользу господствующих в наше время теорий кажутся в высшей степени убедительными и разумными, и мы не допускаем мысли, что они могут быть столь же ненадежны, что и те, в ошибочности которых мы уже удостоверились. Не исключено, что нынешние воззрения ничуть не более истинны, чем идеи восемнадцатого столетия о природном совершенстве человека.
* * *
Разговор шел о В. Ф., которую все прекрасно знали. Она опубликовала томик страстных любовных стихов, посвященных явно не мужу. Всех веселила мысль, что ее роман протекал под самым его носом; окружающие отдали бы что угодно, лишь бы узнать, что почувствовал муж, прочитав наконец эти стихи.
Эта запись подтолкнула меня к созданию рассказа, который я написал сорок лет спустя. Он называется «Жена полковника».
* * *
Добродетели ценятся в зависимости от того, насколько они полезны обществу; а посему храбрость ставится выше благоразумия; человека, без всякой нужды рискующего жизнью, люди назовут славным малым, хотя и сорвиголовой. В храбрости проявляется душевная широта, а в благоразумии чувствуются хитрость и скупость. Зато слабость к спиртному не столь заметно влияет на общественное благоденствие и потому вызывает смешанные чувства. Если эта слабость не чрезмерна, она отнюдь не порицается (во всяком случае, в Англии), и мужчины не без самодовольства рассказывают, как напились в стельку. Пьянство принято осуждать лишь тогда, когда оно доставляет неудобства окружающим. Люди снисходительны к слабостям, которые могут быть им так или иначе выгодны: пустого бездельника, растрачивающего в бессмысленной погоне за удовольствиями время и деньги, будут звать добрым малым, а в крайнем случае скажут, что он — злейший враг самому себе.
* * *
Каждое поколение считает отцов и дедов энергичнее и добродетельнее собственных современников. Стенания о том, что люди теперь совсем не те, что прежде, можно обнаружить у Геродота, у писателей конца Римской республики, у Монтеня и у нынешних авторов. Дело в том, что человек ненавидит перемены и страшится их. Меняются лишь обычаи, а не люди.
Надо особенно настороженно относиться к тем идеям, которые кажутся наиболее самоочевидными и не требующими доказательств: они общеприняты, мы с детства наслышаны об их истинности, все окружающие принимают их беспрекословно, и нам поэтому в голову не приходит поставить их под сомнение. Тем не менее именно эти идеи и надо в первую голову взвешивать очень тщательно. Гипотезы одного поколения часто у следующего считаются нормой, сомневаться в которой нелепо. Однако идущее следом третье поколение отвергнет их как бесполезные, устарелые и глупые домыслы.
1902
Мне кажется, что люди, обычные заурядные люди, никак не соответствуют грандиозной идее вечной жизни. Со своими ничтожными страстишками, мелкими добродетелями и пороками они вполне на месте в повседневности бытия; но идея бессмертия слишком величественна, она не вмещается в форму столь скромного размера. Мне случалось наблюдать человеческую смерть, и мирную и трагическую, и ни разу я не заметил в последний миг ничего, что наводило бы иа мысль о бессмертии души. Человек умирает так же, как умирает собака.
* * *
«Положение во гроб» Тициана. Ничто в этой картине не говорит мне о трагичности события, об ужасе смерти или о страданиях живых; скорее, я ощущаю теплое дыхание жизни и буйную красоту Италии. Даже в этот страшный смертный миг над всем торжествует жизнь; вероятно, так оно и должно быть в искусстве: красота преображает любую низкую сцену, даже в смерти и горе воспевая радость жизни.
* * *
Во взлетах человеческой мысли проявляются всего лишь особенности биологического функционирования мозга; так, прекраснейшие мелодии, при всей их возвышенности, можно передать с помощью простых нотных знаков.
* * *
Сознательная жизнь, прямо или косвенно, определяется местом человека во вселенной и его потребностью ознакомиться с окружающей средой — чтобы либо самому приспособиться к ней, либо ее приспособить к себе.
* * *
Основа нашей нравственности на удивление зыбка; на каких странных основаниях покоится моральное чувство, видно по тому равнодушию, с каким на протяжении веков набожные люди относятся к злодеяниям, описанным в Библии. Разве осуждались когда-либо обман Иакова или жестокость Иисуса Навина? Ничуть. Разве испытывают эти праведники шок от лютой гибели детей Иова? Ни малейшего. Разве сострадают они несчастной Астинь? Мне такого замечать не приходилось.
* * *
Не знаю более облегчающего жизнь отношения к ней, чем исполненное юмора смирение.
* * *
Горе притупляется от сознания его неизбежности. Полагаю, что человек может справиться со своими страданиями, если выяснит их физическую причину. Кант научился не поддаваться ипохондрии, почти отбившей у него в молодые годы вкус к жизни, когда понял, что виною тому его неразвитая грудная клетка.
* * *
Зарождение характера происходит еще при зарождении организма. После появления на свет каждое живое существо оказывается под воздействием условий жизни и окружающей среды. Как это жестоко, что без какой-либо его вины человек наделяется капризным и тяжелым нравом, который обрекает его на несчастливую жизнь.
* * *
Каждый молодой человек — это как рожденный ночью ребенок, который, увидев восход солнца, воображает, что вчерашнего дня не существовало.
* * *
По глупой и типично английской причуде современной культуры естественные функции организма окутывает завеса молчания. Сакраментальные слова «приличия запрещают» начертаны не только на отдельных углах и стенах, но впечатаны в самую душу англичан, так что многие безобидные, но жизненно необходимые отправления приобрели чуть ли не порнографическую окраску. Насколько достойнее то безыскусное простодушие, с каким в прежние времена воспринимались эти подробности жизни самыми утонченными умами.
* * *
Поскольку человек превосходит по своему развитию все другие живые организмы, его способность к страданию тоже несравненно выше: обладая сложной нервной организацией, он переносит физическую боль острее и мучительнее, а сверх того терзается воображаемыми бедами, от которых избавлены менее высокоразвитые существа.
Пожалуй, всю благодать веры сводит на нет лежащее в ее основе представление о жизненной тщете и скверне. Смотреть на жизнь как на тяжкий путь к грядущему блаженству — значит отрицать ее сиюминутную ценность.
* * *
Постель. Ни одна женщина не стоит больше пяти фунтов, если только вы в нее не влюблены. Тогда она стоит любых ваших затрат.
1904
Париж. В ней было что-то от пышной красоты Елены Фо-урман, второй жены Рубенса: та же сияющая белизна кожи, синева глаз, подобная морю в летний зной, волосы цвета золотящейся под августовским солнцем пшеницы; но при том еще и куда большее изящество. И ни малейшей склонности к полноте, свойственной, увы, Елене.
* * *
Она была женщиной зрелых и обильных прелестей, румяная и белокурая, с глазами синими, словно море в летний зной, с округлыми линиями тела и пышной грудью. Склонная к полноте, она принадлежала к тому типу женщин, который увековечил Рубенс в облике восхитительной Елены Фоурман.
* * *
Групповая сцена, достойная кисти Ватто; казалось, так и видишь на лужайке Жиля: вот он, весь в белом, с розовыми бантами на изящных башмаках, смотрит на вас усталыми насмешливыми глазами, и губы его подрагивают. Но отчего? То ли от подавленного рыдания, то ли от готовой сорваться колкости — кто знает…
* * *
На Деве Марии было длинное парчовое одеяние цвета небес южной ночью; по нему вились вышитые золотом изящные цветы и листья.
* * *
В спокойном озере отражались белые облака, в кронах деревьев проступали желто-коричневые краски близкой осени; лесные дали были расцвечены неяркой зеленью пышных вязов и дубов. Картина величественная, все в ней говорило о многолетней заботе и тщании; быть может, когда-то на берегах этого озера располагались нескромные дамы с картин Ватто, в изысканных выражениях обсуждая с разодетыми в цветные шелка галантными кавалерами стихи Расина и письма мадам де Севинье.
* * *
Веселая дерзкая показная манерность, вызывающее позерство, которому для полного удовольствия необходимо возмущенное изумление презренного мещанина, — в точности как у того восхитительного создания, что, весь вычурность и изящество, в камзоле и жилете синего атласа, с кружевными гофрированными манжетами, в розовых панталонах и башмаках, с небрежно сброшенной на руку легкой накидкой, навеки застыл на полотне Антуана Ватто «Равнодушный».
* * *
Ранним утром, когда солнце едва только встало, деревья и водную гладь окутывала изысканная нежно-серая дымка, как на прелестных полотнах Коро; пейзаж был пронизан едва уловимым благодатным сиянием, очищающим и возвышающим душу.
* * *
Лицо у него было почти квадратное, с довольно крупными чертами, но при этом на редкость красивое. Однако облик его поражал не только красотой: насупленное лицо, в минуты покоя становившееся почти угрюмым, большие темные миндалевидные глаза восточного разреза, алые, крупные, красиво очерченные чувственные губы, короткие темно-каштановые кудри — все создавало впечатление бездушной надменности, величайшего безразличия и пренебрежения к страсти, которую он может внушить. То было лицо злое — но красота ведь не бывает злой, лицо жестокое — но безразличие не может быть в полной мере жестоким. Лицо это оставалось в памяти, вызывая восхищение и страх. Кожа у него была чистая, цвета слоновой кости, с нежно-пунцовым румянцем; и руки, нервные, ловкие, подвижные, с длинными чуткими пальцами, как на портрете скульптора кисти Бронзино. Казалось, под их прикосновениями глина едва ли не сама собой принимает дивную форму.
* * *
То было удивительное лицо: безжалостное и равнодушное, вялое и страстное, холодное и одновременно чувственное.
Весь так и лучится здоровьем, как персонажи картин венецианской школы — их упоение жизнью кажется вполне естественным.
У него были злобная ухмылка фавна из Вьенна, рот плута, блестящие безжалостные глаза; и тот же маленький нос, та же странной формы голова, которая, несмотря на его человеческий облик, напоминает о звериной сущности мифического фавна.
* * *
Сияющая холодной красотою, она обладает изысканной девственной грацией, совершенно бессознательным спокойствием, наводя вас на мысль (которой вы невольно улыбаетесь) о статуе Дианы в Лувре, где богиня в образе юной девушки спокойным жестом застегивает свой плащ. У нее такие же тонкие изящные ушки, а лицо поражает изысканной правильностью черт.
* * *
Тонкий прямой нос, суровые, плотно сжатые губы фанатика. В близко посаженных глазах и стиснутых челюстях, в неизменно напряженной осанке чувствовались холодная решимость и угрюмое упорство.
* * *
Квадратная черная борода, пышная и курчавая, низкий лоб, прямой нос и яркий румянец делали его похожим на статуи Бахуса, изображающие бога не юношей, но мужчиной в расцвете сил.
* * *
Владимир. Он не виделся с Владимиром несколько дней и удивлялся, куда тот пропал. Ни в одном из кафе, куда они обычно заходили, его не было. Зная, где Владимир остановился, он отправился к нему в гостиницу — дешевенькое заведение неподалеку от бульвара Распай, где обыкновенно жили студенты да нищие актеры и музыканты. Владимир снимал убогую комнатенку на пятом этаже. Когда гость вошел, хозяин еще лежал в постели.
— Ты болен?
— Нет.
— Тогда почему нигде не появляешься?
— Выйти не в чем. Мои единственные башмаки развалились, а погода мерзкая, в тапках не очень-то походишь.
Гость взглянул на башмаки; их и впрямь носить было невозможно, и хотя он едва ли мог позволить себе такую щедрость, дал Владимиру двадцать франков на новую пару. Владимир рассыпался в благодарностях, и они договорились встретиться перед обедом, как всегда, в кафе «Дом». Но Владимир не появился — ни в тот вечер, ни на следующий; через два дня мне пришлось снова идти в гостиницу и тащиться к нему на пятый этаж. Номер был весь уставлен цветами, а Владимир еще лежал в постели.
— Почему ты не пришел в кафе? — спросил гость.
— Не в чем выйти, башмаков нет.
— Но я же дал тебе двадцать франков на новые башмаки.
— А я их истратил на цветы. Зато красота какая! Qui fleu-rit sa maison fleurit son coeur.[7]
* * *
Душа его томилась, словно заточенный в башне пленник: сквозь узкие окна камеры он видит растущие на воле деревья и зеленую травку, но вынужден пребывать в вечном промозглом мраке своего холодного каменного узилища.
* * *
Постепенно среди руин крепости зазеленели деревья, и плюш с удивительной нежностью окутал серые глыбы, выдержавшие не меньше сотни осад.
Тополя, прямые и стройные, росли вдоль берега, отбрасывая на гладь медлительной реки свои длинные отражения.
* * *
Мелководная французская речка, прозрачная, усыпанная отражениями звезд; а лунной ночью среди воды дивно белеют крошечные островки. Берега густо заросли тонкими деревцами. Чарующая плодородная Турень, со своими вкрадчивыми напевами и воспоминаниями о романтическом прошлом.
* * *
Здесь расстилаются такие дали, что кажется, само пространство протяжно вздыхает — холмистое, плодородное, сплошь зеленое, радующее глаз тополями, каштанами и лиственницами. И охватывает ощущение благоденствия, даже роскоши, но роскоши, облагороженной изяществом, красотою и несуетной сдержанностью.
1908
Успех. По-моему, он никак на меня не повлиял. Во-первых, я его ожидал всегда, и когда он пришел, я воспринял его как нечто вполне естественное, а не повод для волнения. Главное же, он избавил меня от случавшихся порой финансовых затруднений, мысль о которых не давала мне покоя. Я ненавидел бедность. Мне претила мысль, что придется выгадывать и экономить каждый грош, пытаясь свести концы с концами. Мне кажется, что теперь я не так самоуверен, как десять лет назад.
* * *
Афины. Я сидел в театре Диониса, с моего места видна была синь Эгейского моря. Я размышлял о великих пьесах, разыгрывавшихся некогда на этой сцене, и холодок пробегал у меня по спине. То была поистине минута глубоких переживаний. Я испытывал благоговейный трепет. Вдруг ко мне подошли несколько молодых греков, студентов, и принялись болтать на дурном французском. Вскоре один из них предложил прочесть что-нибудь со сцены, если я того пожелаю. Я охотно согласился, полагая, что он прочтет какой-либо из великих монологов Софокла или Еврипида; сознавая, что не пойму ни слова, я ожидал услышать нечто необычайно величественное. Молодой человек сбежал вниз, принял эффектную позу и с жутким акцентом начал: C'est nous les cadets de Gascogne.[8]
* * *
Он был филантропом. Его весомые труды имеют непреходящую ценность. Он отличался трудолюбием и бескорыстием. По-своему это был человек выдающийся. Считая пьянство бичом рода людского, он при всей своей занятости находил время ездить по стране и проповедовать воздержание. Его домочадцам не позволялось даже притрагиваться к спиртному. В доме у него была комната, которую он неизменно запирал на ключ, запретив кому бы то ни было туда входить. Неожиданно он умер, и вскоре после похорон родственники вскрыли комнату, вечно возбуждавшую их любопытство. Она оказалась набитой пустыми бутылками — из-под бренди, виски, джина, из-под шартреза, бенедиктина и тминной водки. Очевидно, он приносил бутылку с собой и, осушив содержимое, не знал, куда девать посудину. Многое бы я дал, чтобы узнать, какие мысли посещали его, когда, вернувшись с лекции о вреде алкоголя, он взаперти потягивал зеленый шартрез.
1914
Как-то за завтраком я познакомился с одним любопытным субъектом. Он оказался гусаром, обогнавшим свой несколько поотставший полк. Лошадь его стояла под деревьями на площади: пока он ел, денщик держал ее наготове. Мой знакомец рассказал мне, что он казак, родом из Сибири, что одиннадцать лет прослужил на границе, отбивая набеги китайских разбойников. Он был худ, с резкими чертами лица и большими голубыми глазами навыкате. Приехав на лето в Швейцарию, он за три дня до начала войны получил приказ немедленно отправляться во Францию. После объявления войны вернуться в Россию было уже невозможно, и он получил назначение во французский кавалерийский полк. Он был словоохотлив, жизнерадостен и хвастлив. Как-то, рассказывал он, взяв в плен немецкого офицера, он привел его к себе и сказал: «Сейчас я вам покажу, как мы обращаемся с пленными и с людьми благородными», после чего поднес ему чашку шоколаду; когда тот выпил, гусар объявил: «А теперь я покажу вам, как с ними обходятся у вас». И отвесил немцу оплеуху.
— Что же он? — спросил я.
— Ничего; он ведь понимал, что стоит ему только рот открыть, и я его пристрелю.
Он заговорил о солдатах-сенегальцах. Они непременно отрезают немцам головы: «Тогда уж точно они мертвы — et ca fait une bonne soup».[9] Про снаряды он сказал так: «Вдруг раздается: зззз-з-з, и пока не упадет, не знаешь, убьет тебя или нет».
В двадцати пяти километрах отсюда идет бой. В ожидании еды я разговорился со смышленым парнишкой лет тринадцати. Он рассказал, что на днях здесь вели двух пленных, а у него в руках была полная кепка жареных, прямо с огня, каштанов, и он принялся швырять их по одному беднягам в физиономии. На мое замечание, что это очень нехорошо, он только рассмеялся: «Почему? Другие-то их просто колотили». Потом несколько немцев явились за машиной, которую они еще прежде реквизировали; вместе с мэром они поехали к дому, где стояла машина. Прослышав об этом, следом явились жандармы, человек десять. Офицер как раз входил вместе с мэром в дом, а один немец, лежа под машиной, что-то чинил. Офицер отступил в сторону, пропуская мэра вперед. «Сразу было видно, что человек воспитанный», — сказала мне потом старушка, к которой меня определили на постой. И в ту же минуту жандармы его застрелили; а потом пристрелили того, что лежал под машиной. Остальные немцы подняли руки, сдаваясь в плен, но их всех тоже прикончили.
* * *
На квартиру меня поставили к отошедшему от дел лавочнику с женой, они жили в маленьком странном домике; троих сыновей их забрали в армию; люди они радушные, очень довольны тем, что к ним поселили офицера, и всячески стараются меня ублажить. Поят на ночь горячим молоком и твердят, что пока я живу у них, буду им за сына. У меня крошечная комнатушка с большой деревянной кроватью под пологом, из окна виден двор и огромная красная покатая крыша.
* * *
Все утро я работал в школе, превращенной в госпиталь. Туда свезли двести, а то и триста раненых. Здание насквозь пропиталось гнойным смрадом, окна все до единого закрыты, полы не метены, повсюду грязь и запустение. Работали в этом госпитале, сколько я мог понять, всего двое врачей; им помогали две хирургические сестры и несколько женщин из этого городка, не имевших никакого понятия об уходе за больными.
Был там один пленный немец, с которым я немного поговорил. Ему отняли ногу, и он считал, что, будь он французом, ногу бы ему сохранили. По просьбе сестры милосердия я объяснил ему, что ампутация была необходима для его же спасения: сестра красочно описала, в каком состоянии была его нога. Пленный угрюмо молчал. Его мучила тоска по родине. Он лежал желтый, заросший клочковатой щетиной, с безумием в страдальческих глазах. Надеясь облегчить его муки, врач положил на соседнюю койку француза, которому тоже отняли ногу: пусть немец видит, что и с французами такое случается. Француз лежал бодрый и веселый.
Я уже много лет не занимался подобной работой и на первых порах смущался, руки меня слушались плохо; однако вскоре понял, что могу не хуже других выполнять то немногое, что от меня требовалось: промывать раны, прижигать их йодом, делать перевязки. Никогда прежде не видел я таких увечий. Огромные раны в области плеча, раздробленные кости, все залито гноем, вонь жуткая; зияющие отверстия в спине; сквозные пулевые ранения легких; разможженные ступни, глядя на которые, сомневаешься, что ногу удастся спасти.
* * *
После позднего завтрака нас попросили отвезти сотню раненых на станцию: в то время командование стремилось эвакуировать из Дуллана все временные госпитали — ожидался большой наплыв раненых, так как готовилось грандиозное сражение; с первого дня нашего пребывания по дороге непрерывным потоком стягивались сюда войска. Некоторые пациенты побрели к машинам сами, других понесли на носилках. Когда выносили первых лежачих, послышалось молитвенное пение, и санитары опустили свою ношу на землю. Печально звякал надтреснутый колокольчик. Показался священник, высокий, толстый, в сутане и коротком стихаре, перед ним шел слепец, вероятно, церковный сторож, его вел маленький мальчик; они пели начальные строки заупокойной молитвы. Следом появились четверо мужчин с гробом на плечах; гроб был накрыт убогой черной тряпицей, поверх лежал небольшой сосновый некрашеный крест, к нему прибита табличка с именем и прочими данными умершего солдата. За гробом шли четверо солдат и сестра милосердия. Пройдя несколько шагов, священник остановился, оглянулся и досадливо пожал плечами. Остальные тоже стали в ожидании. Наконец показался еще один гроб, затем третий и четвертый; зазвенел надтреснутый колокольчик, процессия двинулась дальше, на улицу; штатские снимали шляпы, военные отдавали честь; процессия медленно направилась к кладбищу. Что же испытывают всякий раз умирающие, подумал я, заслышав в госпитале наводящий ужас звон надтреснутого колокольчика?
* * *
Это был величественный замок из белого камня, над входом дата: 1726; великолепие и основательность эпохи Людовика XIV сочетались здесь с зачатками менее тяжеловесного, более утонченного стиля. Замок спешно оборудовали под госпиталь. На полу в вестибюле и в столовой лежали на соломенных тюфяках раненые; гостиную превратили в срочную операционную, мебель в спешке не вытащили, а только придвинули к стенам, и странно было видеть разложенные на концертном рояле тазы, бинты и лекарства; ожидавшего перевязки пациента прямо на носилках клали на письменный стол стиля «буль». Накануне ночью французы попытались взять деревню Анд-ши; прежде чем артиллерия успела подготовить наступление, французы двинули вперед пехоту; один полк выбил противника из окопов, но другой полк, набранный в этой местности, дрогнул и побежал, так что тем, кто овладел немецкими окопами, тоже пришлось отступить. При отступлении они понесли большие потери: триста человек погибшими и тысячу шестьсот ранеными. Вытащив из санитарных машин носилки, мы ждали, пока на них грузили тех, кого можно было транспортировать. Полукруглая лужайка перед домом, при иных обстоятельствах, наверное, опрятная и ухоженная, теперь напоминала футбольное поле после матча в дождь: она была вся заляпана грязью, разворочена сапогами санитаров, ночь напролет таскавших по ней носилки, и тяжелыми колесами санитарных машин. В стоявшем на отлете флигеле штабелями громоздились трупы тех, кто умер на подъезде к госпиталю, и тех, кто умер за ночь. Их наваливали друг на друга, тела застыли в самых причудливых позах, обмундирование в крови и глине; лица у некоторых странно искажены, будто умирали они в жутких мучениях; у одного руки были вытянуты вперед так, словно он играет на арфе, другие казались бесформенными кулями тряпья, в которых и тела-то никакого нет; но их бескровные руки, заскорузлые грязные пятерни рядовых солдат, обретали у мертвых необычайное изящество и благородство. Мы дважды или трижды съездили в этот госпиталь, а потом направились в местную церковь. Она стояла на вершине небольшого, но крутого холма — скромная, потрепанная деревенская церквушка. Стулья были свалены в одном из приделов, на полу насыпана солома. По всей церкви длинными рядами лежали раненые, между ними едва можно было пройти. Впопыхах не успели убрать предметы религиозного поклонения, и с высокого алтаря взирала на всех гипсовая Богоматерь с широко открытыми глазами и ярко раскрашенными щеками; по обе стороны от нее стояли подсвечники и золоченые сосуды с бумажными цветами. Все, кто чувствовал себя сносно, дымили сигаретами. Очень странное было зрелище. У входа стояло несколько солдат; они курили и толковали о чем-то, время от времени угрюмо поглядывая на раненых; несколько человек порознь бродили по церкви, ища пострадавших в бою товарищей, время от времени один из них останавливался и расспрашивал кого-нибудь из лежащих о его ранениях; дежурные сновали между ранеными, подавая им воду или суп; осторожно ступая среди множества тел, санитары несли очередные носилки к машине; разговоры перемежались стонами боли и криками умирающих; некоторые, раненые легче других, шутили и смеялись, радуясь, что остались живы. У колонны священник причащал умирающего, вполголоса бормоча скороговоркой молитвы. Но большинство были, видимо, ранены тяжело, они уже лежали такими же бесформенными грудами тряпья, как те трупы во флигеле. У главного входа в церковь, почему-то отдельно от прочих, лежал прислоненный к двери человек с пепельно-серым бородатым лицом, худой и изможденный; он лежал безмолвно, недвижимо, мрачно глядя в пространство, будто сознание неизбежной смерти наполняло его одним лишь гневом. Он был тяжело ранен в живот, помочь ему было невозможно; он ждал смерти. Я заметил другого, совсем еше мальчика, круглолицего и некрасивого, с желтой кожей и узкими глазками, отчего он выглядел почти японцем; ранен он был безнадежно; мальчик тоже знал, что умирает, но страшно боялся смерти. К нему склонились стоявшие в изголовье трое солдат, а он, уцепив одного за руку, все восклицал: «О, Боже, я умираю!» и душераздирающе рыдал, крупные слезы текли по его чумазому безобразному лицу, он беспрестанно повторял: «До чего же я несчастный, Господи, до чего несчастный!» Солдаты пытались его утешать, и тот, чью руку он держал, ласково провел другою рукой по лицу мальчика: «Да нет, старина, ты выздоровеешь». Еще один сидел у алтарных ступеней и курил, невозмутимо погладывая вокруг, на щеках у него играл румянец, вид был отнюдь не больной; когда я подошел к нему, он мне весело улыбнулся. Заметив, что у него забинтована рука, я спросил, тяжело ли он ранен. Он усмехнулся: «А, ерунда, если б только это! У меня в позвоночнике пуля, и ноги парализовало».
* * *
Стоим в Мондидье. Я отыскал библиотеку. До Французской революции в Мондидье было два дома, где зимою собиралась местная знать, а потом вместо прежних хозяев в каждом из этих просторных особняков поселилось по два-три буржуазных семейства; дом, где расквартировали меня, видимо, прежде был частью больших хором; библиотека же помещается в скромных размеров комнате на первом этаже, и добраться туда можно по лестнице, которая раньше, наверное, считалась черной. Стены в библиотеке обшиты деревянными панелями, одна стена целиком занята встроенными книжными полками, затянутыми проволочной сеткой; дверь заперта, до книг не добраться, но я развлекался тем, что читал на корешках их названия. В основном библиотеку собирали, видимо, в восемнадцатом веке. Переплеты телячьей кожи, золотое тиснение. На верхних полках стоят богословские труды, но между ними скромно приткнулся плутовской роман «Дон Гусман де Аль-фараче», а сразу под ним «Записки знатного человека»; кроме того, там есть полное собрание сочинений Боссюэ, проповеди Массийона и с десяток томов писателя, о котором я и не слыхивал. Любопытно узнать, что это был за человек и чем заслужил столь великолепное издание. Еще хотелось бы полистать четыре огромных, ин-кварто, тома «Истории Мондидье». Руссо представлен только «Исповедью». На одной из нижних полок я обнаружил то же издание Бюффона, которым я увлекался в детстве. Собиратель этих книг был явно человеком серьезным: я обнаружил на полках труды Декарта, всемирную историю внушительных размеров, многотомную историю Франции и перевод «Истории Англии» Юма. Там же стояло обширное собрание романов Скотта, ин-октаво, в черных, наводящих тоску одним своим видом кожаных переплетах; и произведения лорда Байрона в чересчур мрачных для его поэзии переплетах. Вскоре у меня пропало желание читать эти книги; разглядывать сквозь золоченую сетку их названия казалось мне куда веселее; это придавало книгам больше волшебной прелести, чем если бы мне удалось добраться до них и полистать заплесневелые страницы.
* * *
Амьен. Здесь почти столько же англичан, что и в Булони, повсюду в огромных авто разъезжают светские дамы: навещают больных и руководят госпиталями. Об одной такой даме мне рассказали занятную историю. С передовой прибыл санитарный поезд, набитый ранеными, которых временно разместили в госпитале на вокзале. Одна дама взялась раздавать им горячий суп. Вскоре она подошла к солдату, у которого были пробиты пищевод и легкие; она уже собралась было угостить его супом, но ее остановил главный врач, пояснив, что раненый насмерть захлебнется. «О чем вы говорите?! — возразила она. — Ему обязательно надо поесть супу. Никакого вреда ему от супа не будет». «Я работаю уже много лет, — сказал в ответ врач, — участвовал в трех кампаниях и по опыту знаю, что если дать этому человеку суп, он умрет». Дама потеряла терпение. «Какая ерунда!» — воскликнула она. «Тогда кормите его на свой страх и риск», — отрезал врач. Она поднесла чашку с супом ко рту раненого, тот попытался сделать глоток и тут же умер. Дама в ярости набросилась на врача: «Вы убили человека!» «Извините, — возразил врач, — но убили его вы. Я же вас предупреждал».
Хозяин гостиницы в Стенворде. Забавный тип: фламандец, осторожный, медлительный, большой и грузный, с круглыми глазами и круглым носом на круглом лице, лет, пожалуй, сорока пяти; новых постояльцев он отнюдь не привечает, а скорее мешает им снять номер или пообедать, его приходится долго уговаривать удовлетворить желания приезжего; зато, преодолев врожденное недоверие к чужакам, он становится очень дружелюбным. Юмор у него детски непосредственный, тяжеловесный и туповатый, как и он сам, со склонностью к розыгрышам; смеется он не сразу, зато подолгу и всласть. Теперь, когда мы познакомились поближе, он стал очень мил и любезен, хотя и не до конца расстался с подозрениями на мой счет. В ответ на мои слова «Кофе у вас, хозяин, очень хорош» он лаконично заметил: «Хорош тот, кто его пьет». Говорит он с сильным акцентом, то и дело путая второе лицо единственного и множественного числа. Он напоминает дарителей алтарных украшений, которых часто видишь на картинах старых фламандских мастеров; а его жена вполне сошла бы за жену дарителя; это крупная женщина с суровым неулыбчивым морщинистым лицом — довольно устрашающее создание; но время от времени чувствуешь, что под суровостью скрывается фламандское чувство юмора; несколько раз на моих глазах она от души хохотала над замешательством пришедшегося ей не по нраву посетителя. В день приезда я уговаривал хозяина накормить меня обедом, и он пошел справиться на сей счет у жены. «Спросить у нее надо обязательно, я ведь с ней сплю», — пояснил он.
* * *
В Стенворде я жил в свое удовольствие. Там было холодно и неудобно. Невозможно было помыться в ванне. Кормили плохо. Но как же я наслаждался беззаботным житьем! Не надо было принимать никаких решений. Я выполнял, что приказывали, а покончив с делами, был предоставлен самому себе и с чистой совестью мог тратить время по своему усмотрению. До той поры я всегда очень ценил время и считал, что непозволительно упускать без толку даже минуту. В голове моей постоянно роились разнообразные замыслы, которые мне не терпелось изложить на бумаге. Столько надо было еще узнать, столько мест посетить, столько получить необходимых, казалось мне, впечатлений; но годы шли, времени оставалось все меньше. Чувство долга никогда не покидало меня. Долга перед чем? Наверное, перед самим собою и собственными способностями, рождая желание наиболее полно реализовать их и, следовательно, себя. А тут я был вольной птицей. И наслаждался своей свободой. В этом наслаждении было нечто чувственное, почти сладострастное. Я слыхал про людей, которые только на войне и живут полной жизнью, — мне это было вполне понятно. Не знаю, есть ли в английском языке эквивалент слова «hebetude»,[10] но если есть, то именно таким состоянием я и упивался.
1915
На Капри мы сидели в винной лавочке, как вдруг вошел Норман и объявил, что Т. с минуты на минуту застрелится. Новость нас поразила. Норман объяснил, что когда Т. рассказал ему о своем намерении, он не мог придумать, как разубедить несчастного.
— Ты собираешься что-нибудь предпринять? — спросил я.
— Нет.
Он заказал бутылку вина и сел дожидаться звука выстрела.
1916
Рейс из Ливерпуля в Нью-Йорк. На пароходе была и миссис Лэнгтри. Никого из остальных пассажиров мы не знали и потому много времени проводили вместе. Прежде я не был с нею коротко знаком. Она сохранила великолепную фигуру, благородную стать; со спины ее можно было принять за молодую женщину. А ей, сказала она мне, стукнуло шестьдесят шесть. Глаза ее, славившиеся своей красотой, оказались совсем небольшими и не ярко-синими, какими, надо полагать, были в молодости, а бледно-голубыми. От прежней прелести остались лишь короткая верхняя губка и обаятельная улыбка. Косметики она почти не употребляла. Держалась миссис Лэнгтри просто, непринужденно и любезно — как положено светской даме, всю жизнь вращавшейся в хорошем обществе.
Однажды она отпустила преисполненное гордыни замечание, подобного которому мне от женщины слышать не доводилось. В тот день в ее речах несколько раз мелькнуло имя Фредди Гебхардт, и, поскольку мне оно было внове, я в конце концов поинтересовался, кто это такой. «Вы что же, никогда не слыхали о Фредди Гебхардте?! — искренне изумилась она. — Да ведь он был самым знаменитым мужчиной в обоих полушариях». — «Чем же?» — «Тем, что его любила я», — ответила она.
Она рассказала, что в первый ее сезон в Лондоне у нее было всего два вечерних платья, причем одно из них, дневное, превращалось в вечернее, когда из него выдергивали специальный шнурок. В те времена, сказала миссис Лэнгтри, женщины совершенно не красились, а у нее от природы было большое преимущество: прекрасный цвет лица. Ее внешность так возбуждала окружающих, что когда она приезжала нанять лошадь, чтобы покататься в парке верхом, приходилось запирать ворота конюшен — столько собиралось зевак.
Она была сильно влюблена в крон-принца Рудольфа, рассказывала миссис Лэнггри, и он подарил ей великолепное кольцо с изумрудом. Однажды вечером между ними вспыхнула ссора, и, в гневе сорвав кольцо с пальца, она швырнула его в камин. Принц вскрикнул, упал на четвереньки и принялся копошиться (так она выразилась) в раскаленных углях, пытаясь спасти драгоценный камень. Во время повествования короткая верхняя губка презрительно изогнулась. «После этого я не могла его любить», — заключила она.
Позже я встречался с нею в Нью-Йорке раза два или три. Она безумно любила танцевать и чуть ли не каждый вечер ходила в танц-зал. Там всегда можно нанять великолепного партнера, сказала она, всего за пятьдесят центов. Я был неприятно поражен, что она говорит об этом так спокойно. Когда-то весь мир был у ног этой женщины, а теперь она платит мужчине полдоллара, чтобы он потанцевал с нею! При этой мысли я сгорал от стыда.
* * *
Гонолулу. Салун «Юнион». С Кинг-стрит к нему ведет узкий проход, по сторонам которого размещаются разнообразные конторы, и можно подумать, что томимые жаждой направляются туда, а не в бар. Салун представляет собой просторный квадратный зал с тремя входами; в двух углах напротив стойки выгорожены крошечные кабинеты. Говорят, их построили для того, чтобы король Калакауа мог, укрывшись от своих подданных, выпить стаканчик. Быть может, этот бронзоволи-цый монарх неоднократно сиживал с бутылочкой в одном из кабинетов в обществе Роберта Луиса Стивенсона, обсуждая проступки миссионеров и предрассудки американцев. Стены в салуне на пять футов от пола обшиты темным деревом, а выше оклеены разнообразными картинками. Чего там только нет!
Гравюры с изображением королевы Виктории, масляный портрет короля Калакауа в богатой золоченой раме, штриховые гравюры восемнадцатого века (одна сделана с картины Де-виль-де, изображающей сцену из спектакля; бог знает, как она туда попала), олеографии из рождественских приложений к журналам «График» и «Илластрейтед Лондон Ньюс» двадцатилетней давности, рекламы виски, джина, шампанского и пива, фотографии бейсбольных команд и туземных оркестров. Посетителей у стойки обслуживают два метиса в белом, оба толстые, чисто выбритые, смуглые, с густыми курчавыми волосами и большими блестящими глазами.
Сюда приходят американские дельцы, моряки, но не ловкие матросы, а капитаны, механики и первые помощники, а также лавочники и канаки. Здесь проворачиваются всевозможные сделки. Атмосфера в заведении слегка таинственная, вполне, надо полагать, подходящая для сомнительных афер. Днем в салуне полутемно, а вечером электрические лампы горят холодным зловещим светом.
* * *
Китайский квартал. Целые улицы каркасных домов, одно-, двух- и трехэтажных, окрашенных в разные цвета, но от времени и непогоды приобретших общий грязно-серый оттенок. Дома выгладят обветшалыми, будто кончается срок аренды и временным владельцам нет смысла их ремонтировать. В лавках есть все товары, которые только способны поставить Запад и Восток. В них, праздно разглядывая прохожих, сидят бесстрастные приказчики-китайцы. Иной раз поздним вечером видишь, как в одной из лавок двое, оба желтолицые, морщинистые, раскосые, сосредоточенно играют в таинственную игру, возможно, китайский вариант шахмат. Вокруг стоят зрители, с неменьшим напряжением наблюдающие за партией, а соперники немыслимо долго размышляют, тщательно просчитывая каждый ход.
* * *
Квартал красных фонарей. Идешь темными улочками возле порта, проходишь по шаткому мостику и оказываешься на разбитой, в рытвинах и ухабах улице; немного дальше уже можно по обе стороны ставить машины; весело светятся окна кабачков и цирюльни; здесь ощущается какое-то подспудное возбуждение, ожидание чего-то волнующего; сворачиваешь в узкий переулок либо направо, либо налево, и ты уже на месте. Ивелеи делится здесь на две части, причем совершенно одинаковые. Ряды маленьких одноэтажных домиков, выкрашенных в зеленый цвет и с виду очень опрятных, даже чинных, стоят по сторонам широкой и прямой улицы.
По планировке Ивелеи похож на город-сад, и от его величавой правильности, благообразия и ухоженности веет сардоническим ужасом, ибо нигде больше не подходят к поиску любовных утех столь же планомерно и методично. Нарядные домики разделены на две части, каждую занимает одна женщина. Квартирка двухкомнатная, с крошечной кухонькой, в одной из комнат спальня, там стоит комод, пара стульев и большая кровать под пологом и с драпировками. Спальня кажется страшно тесной. В гостиной большой стол, граммофон, иногда пианино и полдюжины стульев. На стенах флажки с выставки в Сан-Франциско, иногда дешевые литографии, чаще всего «Сентябрьское утро» и фотографии с видами Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. В кухоньке кавардак. Здесь для посетителей наготове джин и виски. Женщины сидят у окон, чтобы их можно было получше разглядеть. Одни читают, другие шьют, не обращая внимания на прохожих; некоторые, завидев мужчину, следят за ним глазами и, когда он идет мимо, окликают. Женщины здесь всевозможных возрастов и национальностей. Японки, негритянки, немки, американки, испанки. (Там граммофон частенько наигрывает испанские народные мелодии, и тогда вдруг накатывает необъяснимая ностальгия.) У многих не осталось и следа молодости или красоты — невольно удивляешься, как с такой внешностью им удается зарабатывать на жизнь. Щеки густо нарумянены, а сами они разодеты с дешевой пышностью. Как только заходишь в дом, на окнах опускаются шторы, и если кто-нибудь стукнет в дверь, в ответ раздается: «Занято». Посетителя первым делом угощают пивом, причем хозяйка сообщает, сколько стаканов она в этот день уже выпила. Заводится граммофон. Стоит все удовольствие один доллар.
Улицы освещены редкими фонарями, но главным образом светом из открытых окон одноэтажных домиков. По улицам, как правило молча, бродят мужчины и разглядывают женщин; время от времени кто-нибудь, решившись, торопливо взбегает по трем ступенькам, ведущим прямо в гостиную. Его впускают в дом, после чего дверь и окно захлопываются, шторы опускаются. Большинство мужчин ходят сюда только поглазеть. Они самых разных национальностей. Моряки со стоящих в порту кораблей, матросы, почти сплошь пьяные, с американских канонерок, гавайцы, солдаты, белые и чернокожие, из расквартированных на острове полков, китайцы, японцы. Они слоняются в ночной тьме, и кажется, самый воздух содрогается от желания.
* * *
Некоторое время об этом позорящем город квартале писали местные газеты, шумно возмущались миссионеры, но полиция не желала и пальцем шевельнуть, ссылаясь на то, что на Оаху преобладают мужчины и потому проституция неизбежна, а если она сосредоточена в одном определенном месте, ее легче контролировать и держать под надежным медицинским надзором. Но газеты продолжали свои нападки, и в конце концов полиции пришлось принять меры. Была проведена облава, арестовали четырнадцать сутенеров. Согласно полицейскому протоколу, они, как ни странно, в большинстве своем оказались французами. Видимо, эта профессия особенно привлекает граждан Франции. Несколько дней спустя всех женщин вызвали в суд и предупредили, что если в течение года они будут замечены в неблаговидном поведении, им не миновать тюрьмы. Большинство тут же укатило назад в Сан-Франциско. В ночь облавы я приехал в Ивелеи. Чуть ли не все домики стояли закрытыми, на улицах почти пусто. Кое-где кучками по трое-четверо собирались женщины и вполголоса обсуждали новости. Кругом было темно и тихо. Ивелеи пришел конец.
* * *
«Хаула». Маленькая гостиница, расположенная с наветренной стороны острова Оаху, держит ее швейцарский немец с женою-бельгийкой. Это одноэтажный деревянный дом с просторной верандой, для защиты от москитов двери затянуты проволочной сеткой. Швейцарец мал ростом, у него квадратная немецкая голова, слишком большая для такого щуплого тела; он лыс, зато его украшают длинные неопрятные усы. Жена его — степенная, грузная, краснолицая, с каштановыми, сурово зачесанными назад волосами. Судя по всему, очень сноровиста и деловита. Оба любят поговорить о родных краях, которых не видали семнадцать лет, — он о Берне, а она о деревушке под Намюром, где ей случилось родиться. После обеда хозяйка приходит в общую гостиную и, раскладывая пасьянс, болтает с постояльцами, вскоре появляется хозяин, он же повар, и усаживается посплетничать.
Отсюда ходят к священному водопаду — сначала через поля сахарного тростника, а потом вдоль узкого ручья вверх по горному склону. Тропинка бежит то по одному берегу, то по другому, поэтому приходится то и дело переходить поток вброд. Если на пути встречается большой плоский камень, то на нем непременно лежат прижатые галькой листья — чтобы не унесло ветром. Этими подношениями хотят умилостивить местное божество. В узком ущелье вода низвергается в глубокое круглое озерцо, окруженное густыми зарослями кустарника, зеленого и на редкость пышного. А дальше, в горах, есть долина, которую, говорят, никто еще не исследовал.
* * *
Гавайцы. Цвет кожи у них бывает разный, от медного до почти черного. Росту они высокого, сложены хорошо; нос довольно плоский, глаза большие, губы пухлые и чувственные. Темные волосы мелко курчавятся. Они склонны к полноте, и женщины, изящные и стройные в молодости, с возрастом сильно грузнеют. В старости и мужчины, и женщины становятся безобразными, как мартышки; это особенно странно при той красоте, что присуща им в юности. Быть может, старость хороша лишь тогда, когда ум, активная деятельность или неистовые страсти формируют характер человека. А гавайцы, смолоду ведущие чисто животный образ жизни, с возрастом приобретают и соответствующую внешность.
Канаки в Вайкики. Силач Билл: высокий темнокожий малый с выпяченными губами, хвастливый, как негритянский мальчишка. Гольштинец по прозвищу Клоун: потомок моряка с датского судна, потерпевшего в восемнадцатом веке крушение у одного из этих островов; он бросается в глаза из-за редкостной здесь темно-рыжей шевелюры. Толстяк Миллер: массивный человек с очень смуглой кожей, круглым лицом и с манерами шута, которые плохо вяжутся с его врожденным чувством собственного достоинства.
* * *
Хула-Хула. Маленькая комнатка, обставленная плетеной мебелью; оклеенные обоями стены украшены калифорнийскими флажками. В углу, скрестив ноги, сидит на полу старик. Худой, морщинистый, с коротко стриженными седыми волосами, он похож на древнегреческую статую рыбака, с большой достоверностью изображенного в какой-нибудь скульптурной группе. Темное лицо его бесстрастно. Ритмично хлопая ладонями по высушенной бутылочной тыкве, он извлекает из нее странные звуки и вполголоса монотонно поет. Кажется, что он и на миг не замолкает, чтобы набрать воздуху. Под эту музыку танцуют две женщины, обе немолодые, одна толстая, другая тощая. Танцуют они, едва переступая ногами, зато тело у них ходит ходуном. Говорят, будто движения каждого танца соответствуют словам песни, которую тянет старик.
Отъезд. У пристани на пассажиров и их спутников набрасываются женщины, предлагая им lei — гирлянды натуральных или сделанных из желтой папиросной бумаги цветов. Их вешают отъезжающим на шеи. С парохода пассажиры бросают в стоящих на причале разноцветный серпантин, и борт судна весело пестрит полосками желтого, зеленого, голубого и фиолетового цветов. Оркестр играет «Алоаха Ое», и под прощальные крики пароход, разрывая серпантинные ленты, медленно отчаливает.
* * *
Килауэа. Вулкан этот расположен на острове Гавайи, самом крупном в архипелаге. Сойдя на берег в Хило, едешь в гору, сначала через поля риса и сахарного тростника, потом, забираясь все выше, через заросли огромных древовидных папоротников, очень причудливых и странных, будто рожденных воображением художника, иллюстрирующего романы ужасов. Всевозможные вьющиеся растения непроницаемой сетью оплели деревья. Но постепенно растительность отступает, и оказываешься на покрытой лавой равнине, серой, мертвой и безмолвной; здесь не растут деревья и не щебечут птицы, сквозь слой лавы пробивается дым, кое-где густой, в других местах тонкими прямыми струйками, словно дым из деревенской трубы. Тут выходишь из машины и идешь пешком. Под ногами хрустит лава. То и дело переступаешь через небольшие трещины, из них поднимается сернистый дым, от которого першит в горле. Подходишь к неровному краю кратера. Подготовиться к этому зрелищу невозможно. Оно изумляет и устрашает. Внизу огромное море лавы, черной и тяжелой. Она непрерывно движется. Но лава покрывает это море лишь тонкой коркой, время от времени корка лопается, и в разрывах виден красный огонь, там и сям в воздух гейзерами вздымаются столбы пламени метров на десять — пятнадцать. Раскаленные добела, они бьют ввысь, как искусственные фонтаны. Более всего поражают воображение две вещи: во-первых, грохот; он напоминает грохот прибоя в непогоду, такой же неумолчный, или рев большого водопада, такой же грозный; а во-вторых, движение; лава перемещается беспрестанно, но скрытно, словно крадучись, и в ее едва заметном движении чудится умысел живого существа — некая целеустремленность, злобное упорство; и в то же время оно превыше всего живого, в нем чувствуется непреложность рока и безжалостность времени. Лава подобна огромному бесформенному чудищу, порождению первобытной слизи, медленно ползущему в поисках отвратительной добычи. Лавовая масса неуклонно продвигается к пламенеющему прогалу и вдруг будто проваливается в огненную бездну. Неподалеку от меня кто-то произнес: «Батюшки, прямо сущий ад!», но стоявший радом священник, обернувшись, возразил: «Нет, скорее, лик Божий».
* * *
Тихий океан. Бывают дни, когда он такой, каким виделся в мечтах. Спокойная водная гладь ярко синеет под голубыми небесами. Над горизонтом кудрявятся облака, принимающие на закате такие очертания, что невольно думаешь: перед тобою горная гряда. Потом наступает восхитительная ночь, небо усыпано яркими звездами, а позже, ослепляя своим сиянием, всходит луна. Но чаще, чем можно ожидать, океан волнуется, по нему ходят белые барашки, вода порою становится серой, как в Атлантике. Океанская ширь мерно и тяжко вздымается. Самое удивительное в Тихом океане — его пустынность. День изо дня плывешь, а вокруг ни единого корабля. Время от времени появляются морские чайки — значит, недалеко земля, один из островов, затерянных в безбрежных водах; но ни грузового парохода, ни парусника, ни рыболовного суденышка. Необитаемая пустыня; и тебя вдруг охватывает смутное предчувствие беды. Есть в этой бескрайней и безмолвной пустоте нечто жуткое.
* * *
Пассажиры. Грей: высокий, могучего сложения еврей, очень сильный, но мешковатый и неуклюжий; у него длинное худое, землистого оттенка лицо, большой нос и темные глаза. Голос громкий и резкий. Он бесцеремонен, нахрапист и во всем хочет добиться своего. Вспыльчивый и самолюбивый, он всюду усматривает обиду. То и дело грозит расквасить нос непонятно кому. Обожает играть в покер. Если представится случай, не преминет заглянуть в карты соседа. Неизменно клянет полученные карты и свое невезение, но почти всякий раз встает из-за стола в выигрыше. Проиграв же, выходит из себя и принимается поносить остальных игроков, после чего уходит и целый вечер ни с кем не разговаривает. В денежных делах очень сметлив и при случае обжулит собственного друга, хотя бы на шестипенсовик. Но сентиментальная песенка на пластинке или красота залитого лунным светом океана сильно действуют на него, и он восклицает дрожащим голосом: «Черт, вот здорово!»
Элфенбайн. Едет по делам фирмы в Сидней. Этот коренастый крепыш гораздо моложе Грея, его большая голова покрыта курчавыми темными волосами, на висках обширные залысины, глаза выпуклые, карие; неизменно чисто выбрит. Родом он из Бруклина. Такой же шумливый, вульгарный и громогласный, как Грей, он, однако, добродушен и, при всей грубости выражений, служащих ему чем-то вроде защитной брони, обладает тонкой чувствительной душой. Он остро ощущает свою национальную принадлежность и, когда разговор заходит о евреях, замолкает и смущенно отводит взгляд. Обладает кипучей энергией. Беспрестанно орет трубным голосом. Умеет считать деньги и не даст себя надуть. В Паго-Паго он взял с собой на берег несколько старых сорочек и обменял их у туземцев на бананы, ананасы и игрушечные каноэ.
Маркс — опаловый король Австралии; это коротышка лет сорока, с седеющими волосами и изборожденным морщинами личиком. Он прирожденный клоун и охотно выставляет себя на посмешище. Самозабвенно участвует во всех развлечениях, устраиваемых на борту. На карнавальное шествие вырядился гавайской танцовщицей и с огромным воодушевлением разыгрывал эту роль.
Мелвилл. Высокий человек с угрюмым, резко очерченным лицом и длинными темными, только начавшими седеть кудрями. Направляется в Австралию ставить там американские фарсы и музыкальные комедии. Объездил весь мир и восторженно расписывает Цейлон и Таити. Очень учтивый собеседник, но по природе молчалив. Целыми днями сидит и читает французские романы.
* * *
Об А-Фонсе мне рассказал судовой механик. Вначале А-Фонс работал на Гавайях носильщиком-кули, потом стал поваром, скупал землю, ввозил на Гавайи китайских работяг и в конце концов разбогател. Женился на метиске, наполовину португалке, и завел кучу детей. Их воспитали американцами, и А-Фонс чувствовал себя среди них чужим. Он-то глубоко презирал западную цивилизацию. Часто вспоминал женщину, с которой в молодости жил в Китае как с женою, вспоминал портовую суету и свое там житье-бытье. В один прекрасный день, собрав семейство, он объявил, что уезжает. И таинственно исчез.
Здесь есть наметки для рассказа, но я его так и не написал, поскольку выяснил, что это уже сделал Джек Лондон.
Паго-Паго. Корабль плывет вдоль берега, почти сразу уходящего круто вверх; холмы сплошь покрыты буйной растительностью; берег обрамлен густыми рядами кокосовых пальм, среди них виднеются сплетенные из листьев и травы хижины самоанцев, там и сям белеют церквушки. Наконец добираемся до входа в гавань. Пароход медленно вплывает в нее и причаливает. Гавань закрытая и такая огромная, что в ней разместилась бы целая флотилия линкоров; вокруг вздымаются высокие и крутые зеленые холмы. У входа в бухту, овеваемый ветром с открытого моря, стоит в саду особняк губернатора. Неподалеку от причала расположены два или три аккуратных одноэтажных дома и теннисный корт, дальше начинается причал с пакгаузами. Встречать пароход собралась небольшая толпа туземцев, среди них несколько матросов-американцев и, конечно, чиновники. Корабли из Штатов приходят лишь раз в три недели, так что это целое событие. Для обмена с пассажирами, направляющимися в Сидней, туземцы приносят товары: ананасы и огромные грозди бананов, а также ткань «тапа» из древесной коры, ожерелья — некоторые сделаны из спинок жуков, другие из коричневых семян, чаши для ка-вы и модельки боевых каноэ.
В Паго-Паго нечем дышать. Жутко жарко и сильно парит. От входа в гавань наплывают тяжелые серые тучи, заволакивая небесную синь, и внезапно стеной обрушивается ливень.
* * *
Туземцы. У них смуглый цвет кожи, обычно его называют медно-красным; у большинства волосы темные, часто курчавые, но нередко и прямые. Многие выбеливают их известью, и тогда их правильные липа приобретают необычайное благородство. Зачастую они — и мужчины, и женщины, и дети — красят волосы в разные оттенки рыжего, придающего молодежи забавный легкомысленный вид. Глаза у них довольно широко расставлены и неглубоко сидят в глазницах, отчего лица слегка напоминают античные барельефы. Туземцы высоки ростом, прекрасно сложены, среди них встречаются и такие, что наводят на мысль об эгинских мраморных статуях. Ходят они медленно, широким шагом, непринужденно и горделиво; встретив вас на дороге, приветственно восклицают и сияют улыбками. Очень смешливы. Большинство маленьких детей и подростков заражены фрамбезией, уродующей лица гнойниками, похожими на застарелые язвы. Часто встречаются больные слоновой болезнью: у одного жутко разнесло руку, у другого, потеряв всякую форму и поглотив ступню, чудовищно оплыла нога. Женщины носят юбочки лава-лава, а поверх просторное одеяние вроде сорочки.
У мужчин запястья и тело от талии до колен покрыты затейливой татуировкой; у женщин татуировка в виде довольно редко разбросанных крестиков наносится только на руки до плеч и на бедра. Над ухом мужчины часто носят цветок гибискуса; возле коричневого лица багряная роза кажется сотканной из алого пламени. Женщины втыкают в волосы белые душистые цветы tiare,[11] их аромат плавает в воздухе, когда они проходят мимо.
* * *
Миссионер. Высокий худой человек с болтающимися, как на шарнирах, руками и ногами, широкоскулый, с впалыми щеками; прекрасные большие глаза посажены глубоко, губы полные и чувственные; волосы изрядно длинные. Лицо поражает мертвенной бледностью, но взгляд обжигает сдерживаемым жаром. Руки крупные, довольно красивой формы, с длинными пальцами, а светлую от природы кожу насквозь прокалило тихоокеанское солнце.
Миссис В., жена его, — миниатюрная женщина с замысловатой прической и выпуклыми голубыми глазами за стеклами пенсне в золотой оправе; в длинном лице проглядывает что-то овечье, но она кажется отнюдь не глупой, а скорее крайне настороженной. Движения по-птичьи быстрые. Но заметнее всего голос: высокий, металлический и без модуляций; он режет ухо своей жесткой монотонностью, действуя на нервы не хуже пневматического сверла. Она неизменно одевается в черное, на шее тонкая золотая цепочка с маленьким крестиком. Родом она из Новой Англии.
Миссис В. рассказала мне, что муж ее не только миссионер, но и врач, а поскольку вверенный ему участок, Гилбертовы острова, разбросаны в море, ему частенько приходится совершать дальние путешествия на каноэ. Море нередко штормит, так что это небезопасно. Во время его отсутствия она остается в миссии и ведет все дела. Она рассуждала о порочности туземцев голосом, заглушить который не было никакой возможности, он так и звенел от неистового отвращения набожной христианки; их свадебные обряды, утверждала она, настолько непристойны, что не поддаются никакому описанию. Когда они с мужем впервые приехали на эти острова, во всех деревушках, по ее словам, нельзя было отыскать ни единой «неиспорченной» девушки. Особенно злобствовала она по поводу плясок.
* * *
Мисс Томпсон. Пухлая и, несмотря на грубые черты, миловидная женщина не старше двадцати семи лет; носила белое платье, большую белую шляпу и высокие белые ботинки, из которых выпирали икры в белых хлопчатобумажных чулках. Уехав после облавы из Ивелеи, она направлялась в Апию, где рассчитывала устроиться в баре при какой-нибудь гостинице. Ее привел в наш дом квартирмейстер, маленький, весь сморщенный, неописуемо чумазый человечек.
* * *
Меблированные комнаты. Сдавались в двухэтажном каркасном доме с верандами на обоих этажах, расположенном на Брод-роуд, фасадом к морю, в пяти минутах ходьбы от причала. Внизу лавка, где продают консервы: свиную и говяжью тушенку с бобами, а также мясной фарш, консервированную спаржу, персики и абрикосы; есть и бумажная мануфактура: юбочки лава-лава, шляпы, плащи и тому подобное. Хозяйствует в лавке метис с женой-туземкой, окруженной стайкой маленьких коричневых ребятишек. Мебели в комнатах почти нет, только убогая железная кровать под рваным противомоскитным пологом, шаткий стул и умывальник. По рифленой железной крыше барабанит ливень. Еды здесь не подают.
На основе этих трех заметок я написал рассказ «Дождь».
* * *
Рыжий. Служил матросом в американском флоте, а, приехав в Паго-Паго, заплатил изрядную сумму, чтобы его списали на берег. Он был по профессии мясником, но за те три года, что он прожил в Паго, своим ремеслом почти не занимался. Типичный белый бродяга, живущий в Океании и перебивающийся случайными заработками. Ему было, наверное, лет двадцать шесть, среднего роста, стройный, с правильным, но угрюмым лицом, маленькими рыжими усиками, трехдневной щетиной и густой шапкой кудрявых рыжих волос. Он ходил в майке-безрукавке и грязных армейских брюках. Когда хозяин местной столовой заболел, Рыжий взялся вести дело за одни только харчи. Твердил, что вернется в Штаты и устроится там на работу, но было ясно, что он не решится уехать с острова. Обиняками пытался узнать, можно ли найти место в Алии. Столовая располагалась в маленьком одноэтажном зеленом домике на окраине Паго-Паго, среди кокосовых пальм, хлебных и манговых деревьев, почти у кромки густых диких зарослей. Это была небольшая комната с баром и двумя столиками под красными скатертями; спиртного там не подавали, потому что в Паго-Паго сухой закон. За стойкой бара на полках пылилось несколько банок говяжьей тушенки, консервированных абрикосов и томатного супа. За стеной находилась грязная тесная спальня, а позади дома, на воздухе, под навесом веранды, стояла печь, на которой Рыжий стряпал, и грубо сколоченный не-струганный кухонный стол, служивший кладовкой, буфетом и, если нужно, сундуком. Яйца там подавали только после прибытия парохода с товарами; в другое же время не бывало ничего, кроме неизменных рубленых котлет и кофе. К обеду Рыжий варил суп из костей, с которых предварительно снимал мясо на котлеты. Посещали столовую немногочисленные путешественники, останавливавшиеся в Паго-Паго по дороге в Австралию, несколько матросов с американской военно-морской базы и кое-кто из туземцев. Болтливостью Рыжий не отличался, разговорить его бывало нелегко. Когда его угощали сигаретами или сигарами, он хмуро отказывался. В конце концов, немного оттаяв, он заводил речь о женщинах, об острове; горько сетовал на здешнее житье — губит, мол, оно человека, он становится ни на что не годным, а потом показывал свою коллекцию непристойных открыток.
* * *
«Мануа». Шхуна водоизмещением в семьдесят тонн, оснащенная еще и керосиновым двигателем; если нет встречного ветра, она делает четыре-пять узлов в час; судно неопрятное и потрепанное, некогда белое, а теперь грязное, закопченное и облезлое. Предназначалась шхуна для мелководья, качает ее жутко. «В один прекрасный день, — сказал мне капитан, — она перевернется, и мы все пойдем на дно». Кают-компания, размером примерно два на полтора метра, служит пассажирам и столовой, и спальней, а помощник капитана делает там свои расчеты. Ночью ее освещает керосиновая лампа.
Команда состоит из капитана, помощника, механика с помощником, кока-китайца и полдюжины канаков. Судно отчаянно воняет керосином, на котором работает двигатель. Канаки одеты в одни только синие бумажные штаны; кок ходит в грязной обтерханной белой куртке и таких же брюках. Капитан носит синюю фланелевую рубаху с открытым воротом, старую серую фетровую шляпу и очень ветхие синие серже-вые брюки. Механик одет, как все механики в мире: видавшая виды твидовая кепка, старые темные штаны, застиранная серая фланелевая рубаха, и все это покрыто сажей и грязью.
На борту есть три крошечных каюты, в каждой по две койки; там почти негде встать и при закрытой двери совершенно темно. У капитана каюта побольше, с одной койкой и иллюминатором. Она просторнее, и в ней больше воздуха. Пассажиры-туземцы в юбочках из травы сгрудились на корме и на носу; у каждого сплетенная из листьев кокосовой пальмы корзина с провизией и завязанные в большой цветной носовой платок пожитки.
Из Паго-Паго мы отчалили около половины пятого. Несколько туземцев пришли проводить друзей, и немало слез было пролито как отъезжавшими, так и теми, кто остался на берегу. Шхуна шла вдоль побережья на двигателе, ее сильно качало, но тут подул попутный ветер, мы подняли паруса, и качка уменьшилась. Волн не было, но океан равномерно и тягуче вздымался.
В половине шестого кок подал ужин: суп, сваренный неизвестно из чего, крепко приправленные чесноком фрикадельки с картошкой, на сладкое консервированные абрикосы. Потом чай со сгущенным молоком. За нашим столом сидели: врач-шотландец с женою, они ехали в Алию, где его ждала работа в больнице, миссионер, лавочник-австралиец, направлявшийся в Апию закупать товар в магазине Бернса Филина, и мы с Джеральдом. После ужина мы вышли на палубу. Быстро опустилась ночь, и качка уменьшилась. Земля неясной массой темнела на фоне неба. Ярко сиял Южный Крест. Через недолгое время к нам подошли три-четыре матроса и сели покурить. У одного в руках было банджо, у другого гавайская гитара и гармоника. Они принялись наигрывать и петь, хлопая в ладоши в такт пению. Двое вскочили и пустились в пляс. Танец был странный, варварский, что-то дикое, первобытное чудилось в нем — в быстрых движениях рук и ног, в непривычных извивах тел; пляска была чувственная, даже сексуальная, но без вожделения, скорее, по-звериному наивная, непонятная, но без таинственности, короче говоря, безыскусная, почти детская.
Удивительно было плыть по безмолвному морю под звездным, источающим желание небом, под музыку, пение и пляски канаков. Наконец, утомившись, они растянулись на палубе и заснули; все стихло.
* * *
Шкипер. Это пухлый, без единого острого угла человечек, с круглым, как полная луна, лицом, красным и чисто выбритым, с толстой пуговицей вместо носа, белоснежными зубами, коротко стриженными светлыми волосами, с толстыми куцыми ручками и ножками. Пальцы у него тоже пухлые, с ямочками на суставах. Глаза круглые, голубые, носит очки в золотой оправе. Не лишен обаяния. Слова не скажет без богохульства, но делает это очень добродушно. Славный малый. Он американец, лет, наверное, тридцати, и всю жизнь проплавал в Тихом океане. Начинал первым помощником, а потом стал капитаном на пассажирских судах, ходивших вдоль берегов Калифорнии, но его корабль затонул. А с ним и капитанский аттестат — вот и пришлось ему опуститься до командования этой грязной посудиной. Но он и тут не утратил веселого нрава. Легко относится к жизни, любит виски и девушек-само-анок, очень живо и забавно рассказывает, каким пользуется у них успехом.
* * *
Помощник капитана. Служит в Сан-Франциско в фирме, фрахтующей суда. Низенький жилистый человек, еще очень молодой, родом из Портленда, штат Орегон. У него бритая голова, большие карие глаза и забавная физиономия. Кажется, он весь на пружинах, неизменно возбужден и весел, крепко закладывает за воротник; по утрам, после выпитого накануне, вял и сонлив. «Фу ты, черт, ну и набрался я вчера, — говорит он. — Больше ни за что. Все, с сегодняшнего дня завязываю». Но к полудню приходит в себя, голова уже трещит не так сильно, и, пропустив стаканчик, он снова беспечен и весел.
* * *
Апия. Городок беспорядочно разбросал вдоль берега, среди кокосовых пальм, свои каркасные домишки с красными крышами из рифленого железа. Бросается в глаза католический собор, весь белый, не лишенный величественности; рядом с ним протестантские церковки выглядят жалкими молельнями. И едва ли можно назвать гаванью прикрытый с моря рифами рейд. Кораблей здесь мало: несколько катеров, считанные вельботы, одно-два моторных судна, да еще лодчонки туземцев.
* * *
Гостиница «Центральная». Трехэтажное каркасное здание, со всех сторон окруженное верандами; сбоку выгул, на котором пасется серый пони, а позади гостиницы два дворика: в одном стоит низенький домик для слуг-китайцев, в другом — конюшни и место для стоянки двуколок и колясок, на которых приезжают постояльцы из других уголков острова. Главное помещение в гостинице — бар, поделенный на две части: длинную, с низким потолком столовую и маленький зал с круглым столом и плетеными стульями. На втором этаже на улицу выходит более просторная веранда, уставленная массивными стульями. Номера располагаются по обе стороны главного коридора, в конце которого две крохотные душевые кабинки.
* * *
Владелец гостиницы. Он родом из Ньюкасла, по профессии зубной врач. Низкого роста, не толст, но и не худ, с черными, редеющими на макушке волосами, в которых пробивается седина; маленькие неопрятные усики, маленький красный нос, лицо густо багровое — отчасти по причине загара, отчасти из-за пристрастия его обладателя к крепким напиткам. Носит белые парусиновые брюки и черный галстук. Легко возбуждается, чуть не каждый день бывает навеселе, обожает рассказывать местные сплетни. Ему уже пятьдесят, но он то и дело с важностью сообщает, что в феврале отправится на фронт; можно, однако, не сомневаться, что в феврале речь пойдет уже о марте. Он подолгу болтает с постояльцами или суетится за стойкой бара, и тогда его без труда можно уговорить выпить стаканчик за компанию. Ему в разное время принадлежало несколько гостиниц в Сиднее, и он в любую минуту готов купить или продать что угодно: гостиницу, лошадь, автомобиль или походную кровать. На словах он очень воинствен и любит рассказывать, как расквасил нос тому и этому. Из стычек, по его словам, неизменно выходит победителем. В гостинице он только считается главным, но все дела вершит его жена, высокая сухопарая женщина сорока пяти лет с величественной осанкой и непреклонным видом; у нее крупные черты лица и сурово сжатые губы. Хозяин ее жутко боится, по дому ходят слухи о семейных ссорах, в которых она, дабы удержать его в покорности, пускает в ход не только острый язык, но кулаки и ноги. Рассказывали, что после ночных кутежей она, бывает, по целым дням не выпускает его с крохотной верандочки, и в таких случаях, не решаясь покинуть узилище, он пускается в жалостные беседы с идущими внизу прохожими.
* * *
Банановые листья. Есть в их растрепанности своеобразная красота — они похожи на прелестную женщину в лохмотьях.
* * *
Игривая элегантность пальм.
* * *
Кокосовые пальмы спускались к самой воде хоть и не строем, но все же в определенном порядке. В них было что-то, напоминающее чинный танец старых дев, пожилых, но легкомысленных, с жеманной грацией застывших в вычурных позах.
* * *
Управляющий островом. Живет сейчас в Апии, потому что жена его ждет ребенка. Жена — крупная неопрятная женщина в свободных одеждах, своим обликом напоминающая обитательниц Ноттинг-Хилл-Гейт и Уэст-Кенсинггон. У нее томные движения и жеманно замедленная речь. Она не красива, даже не миловидна, но у нее приятное открытое лицо. Ее муж высок ростом, за долгие годы его небольшое худое лицо загорело подтропическим солнцем дочерна. Маленькие усики едва прикрывают безвольный рот. Он глупо хохочет, обнажая длинные желтые зубы. Начинал он студентом-медиком и очень гордится своими медицинскими познаниями. Любит пошлые шутки, особенно розыгрыши, обожает вышучивать других. К белым, живущим в Апии, испытывает крайнее презрение. Судя по всему, островом он управляет умело, но чрезмерно придирчив к соблюдению пустых формальностей. Ко всему подходят с мерилом ученика частной школы. Туземцев считает своевольными неразумными детьми, только недавно превратившимися в людей, которых надо не обижая, но твердо учить уму-разуму. Похваляется тем, что у него на острове образцовый порядок. Есть в нем что-то от старой девы. Он мечтает о том времени, когда сможет уйти на пенсию и жить на унылой лондонской улице, которую наверняка считает своею настоящей родиной. Невероятно самонадеян.
* * *
Выйдя из «Центральной» и свернув налево, идешь мимо лавок, большей частью их держат метисы; за ними высится здание «Немецкой фирмы»: так здесь называют конторы и главное управление большой германской компании, которая едва ли не монополизировала всю торговлю в Океании; дальше стоят небольшие симпатичные одноэтажные домики живущих здесь европейцев, а еще дальше раскинулась в беспорядке деревня туземцев. Если от гостиницы повернуть направо, тоже сначала потянутся магазины, потом здания правительственных учреждений, английский клуб, а затем попадаешь в еще одну туземную деревушку. В дальней от моря части Апии расположены лавки и каркасные домики, в которых живут китайцы и метисы, а еще дальше жмутся друг к другу хижины туземцев. Повсюду растут кокосовые пальмы, манго, там и сям деревья, сплошь покрытые гроздьями цветов.
* * *
Л. В Лондоне он торговал недвижимостью и на Самоа первоначально приехал поправить здоровье. Это маленький худой человек с длинным лицом, узким безвольным подбородком, большим хрящеватым носом и добрыми темно-карими глазами. Он женат на метиске, у них маленький сынишка, но она живет у родителей, а он в гостинице. Вид у него плутоватый и хитрый, во всяком случае, он не производит впечатление человека честного и щепетильного; тем не менее, очень хочет слыть славным парнем и прямо-таки искрится напускной веселостью. Умом не обделен. Сильно пьет и три-четыре раза в неделю напивается в стельку, зачастую еще днем. Тогда становится угрюм и мстителен, задирается и рвется в драку. Потом валяется в полном отупении где попало, а когда приходится встать, ковыляет на полусогнутых ногах.
* * *
Гарднер — американский немец, сменивший свою прежнюю фамилию Кертнер; это тучный лысый гигант, неизменно в белоснежных парусиновых брюках; у него круглое чисто выбритое лицо и кроткие глаза за очками в золотой оправе. Большой притворщик. Он приехал сюда открыть филиал сан-францисской торговой фирмы, намеренной в обмен на копру продавать все, что пользуется спросом на острове: ситцы, приборы и станки. Много пьет и, хотя ему пятьдесят, всегда готов ночь напролет кутить с «ребятами», однако никогда сильно не напивается. Весел и приветлив, но очень практичен; ничто не должно идти во вред делу, и свой компанейский характер он тоже использует на полную катушку. Играя с молодежью в карты, он постепенно выуживает у них все деньги.
* * *
Доктор Т. А. Шотландец, судя по выговору, из Абердина; работал врачом в Новой Зеландии, а когда началась война, его послали во Францию хирургом. Из армии уволен по состоянию здоровья и отправлен сюда на «легкую работу». Он худощав, у него изможденное лицо и редеющие короткие рыжие волосы. Говорит очень низким тихим голосом с шотландским акцентом. Аккуратный до педантизма человечек.
* * *
Шарп. Судовой механик, прежде служил в американском флоте. Женат на метиске из Апии, у них двое детей. Долговязый, тощий, с жилистой шеей, маленьким личиком и крючковатым носом; сильно смахивает на птицу, причем хищную. Ходит в синем комбинезоне и синей фуфайке без рукавов; руки у него сплошь покрыты татуировкой: там и флаги, и голые женщины, и инициалы. На босых ногах парусиновые пляжные тапки, некогда белые, а теперь совершенно черные, а на голове неизменно — ив доме, и на улице — бесформенная черная кепка.
* * *
Английский клуб. Это непритязательный каркасный домик, фасадом выходящий на море; в одном крыле расположена бильярдная, позади которой находится небольшой бар, в другом — гостиная, обставленная плетеными стульями, а наверху комната, где хранятся старые газеты и журналы. Ходят в клуб только затем, чтобы выпить и сыграть в карты или в бильярд.
* * *
С. Готовит лошадей к здешним скачкам. Это высоченный мускулистый австралиец, до того смуглый, что его можно принять за метиса; лицо небольшое, и черты его кажутся чересчур крупными, но в белых бриджах для верховой езды, в сапогах со шпорами и крагах, стройный и элегантный, он очень хорош. Нежно любит метиску-жену, дурнушку с землистым лицом и несколькими золотыми зубами, гордится своим нетвердо ковыляющим белолицым черноглазым малышом. Дом его, обнесенный верандой, стоит посреди большого участка земли, из всех окон открывается великолепный вид на плодородные поля, на заросший буйной растительностью остров, а вдали виднеются Апия и море. В доме беспорядок, обставлен он плохо: дешевые деревянные столы, кресла-качалки и циновки на полу. Повсюду валяются газеты, иллюстрированные журналы, ружья, сапоги для верховой езды и пеленки.
* * *
Суон. Крошечный старикашка, морщинистый, потрепанный и согбенный, похожий на белую обезьянку. Но выцветшие голубые глазки с красными веками так вас и сверлят. Он весь в узлах и наростах, словно очень старое дерево. Швед по происхождению, сорок лет назад он приплыл на остров помощником капитана одного парусника. Потом нанялся капитаном шхуны, перевозившей рабов, и сам промышлял «черным товаром»: был и кузнецом, и торговцем, и плантатором. Его пытались убить, у него в груди грыжа после ранения, полученного в стычке с жителями Соломоновых островов. Одно время он изрядно разбогател, но все пошло прахом, когда страшным ураганом снесло принадлежавшие ему магазины, и теперь у него нет ничего, кроме семи гектаров земли, засаженной кокосовыми пальмами; на доходы от этой плантации он и живет. От четырех жен-туземок у него бессчетное количество детей. Каждый божий день он является в поношенном синем полотняном костюме в гостиницу «Центральная» и сидит в баре, потягивая разбавленный водою ром.
* * *
Торговец. Выглядит так, будто прожил в тропиках всю жизнь: загорелый до черноты и невероятно тощий, словно всю плоть с него согнало потом; он лыс и чисто выбрит; ни на кого не обращает особого внимания и невозмутимо занимается своими делами.
* * *
Еще один. Довольно высокий франтоватый мужчина с длинными волосами и типичным для лондонских лавочников завитком на лбу. У него простонародный говор, он по-мещански жеманничает; глядя на него, так и ждешь, что он начнет потирать руки, спина его норовит согнуться в поклоне, и, кажется, вот-вот с его губ сорвутся слова: «Сюда пожалуйте, сударыня, вторая дверь направо, дамский трикотаж». Можно подумать, что он каких-нибудь десять дней назад еще служил в лондонском магазине «Суон и Эдгар», а на самом деле он уже десять лет живет в Апии.
* * *
Гэс. Метис, отец у него датчанин, а мать самоанка; он хозяин крупного магазина, торгующего копрой, консервами и мануфактурой; на него работают несколько белых. Толстый и гладкий, со спокойной усмешкой, он напоминает евнухов, встречающихся в Константинополе; манеры у него угодливые, его вкрадчивая учтивость доходит до елейности.
* * *
Салолога. Около часу дня шхуна отплыла из Апии и к шести часам подошла к Савайи. Рифовая гряда была покрыта белой пеной. Мы дважды проплыли вдоль гряды, выискивая просвет между рифами, но тут наступила ночь, и капитан, развернув шхуну, приказал выйти в море и стать на якорь там. Когда убрали паруса, шхуну стало сильно качать. Весь вечер мы играли в покер. На заре следующего дня, найдя прогал между рифами, мы вошли в неглубокую лагуну, сквозь прозрачную воду ясно просвечивало дно. Небо было безоблачным, гладь лагуны — как зеркало. Берег густо порос лесом. То было зрелище полной безмятежности и покоя. Мы спустили шлюпку и высадились в небольшой бухточке. На берегу раскинулась маленькая деревушка. В зарослях кротона, затененная огромной пальмой с алыми цветами и кокосами, стояла хижина — одно из прекраснейших зрелищ, какие мне только доводилось видеть. Когда мы сошли на берег, из хижины вышла молодая женщина и пригласила нас зайти. Мы уселись на циновках, и каждый получил ломоть ананаса. В хижине жили две древние старухи, морщинистые и скрюченные, с короткими седыми волосами, а также две молодые женщины и мужчина. Потом мы километров пять шли вдоль берега по травянистой, обрамленной кокосовыми пальмами дороге. И наконец добрались до дома торговца по имени Лори. Он одолжил мне на время двуколку, запряженную пони, и я покатил дальше, мимо деревушек, мелководных заливов, где плескались мальчишки, и наконец подъехал к жилищу другого торговца, Бенна. Войдя в дом, я попросил накормить меня обедом. Бенн, чрезвычайно худой мужчина с маленькой седой головой, в очках и замызганной пижаме. У него была метиска-жена и трое очень светловолосых хилых детей. Он только приходил в себя после продолжительного запоя и с трудом ворочал языком. Человек он был крайне нервный и весь так и ходил ходуном. Его тошие костлявые руки дергались, он то и дело быстро и тревожно оглядывался. Англичанин по происхождению, он прожил на острове более двадцати лет, торгуя копрой, хлопчатобумажной мануфактурой и консервами. Его жена приготовила нам на обед голубей с овощами и сыром, он тоже сел было поесть, но не мог себя заставить проглотить ни кусочка.
Как только мы пообедали, он сказал: «Ну вам пора ехать дальше, не буду задерживать». Он явно хотел от нас отделаться. Мы вернулись к Лори. Это был совершенно иной тип. Он много лет работал в Апии кузнецом и оборудовал себе кузницу в сарае из листов оцинкованного железа. Невысокий темнобородый человек пятидесяти лет, он казался одновременно крепким и хрупким. Он был изрядно глух, приходилось кричать, иначе он ничего не слышал. Разговаривал низким мягким голосом с австралийским акцентом. Женат был на крупной женщине, сильной и добродушной, с приятным лицом; густые волосы ее были собраны в довольно замысловатую прическу. Они растили нескольких детей, два сына уже учились в новозеландской школе, остальные — два смышленых светловолосых мальчика и две маленькие девочки — помогали в лавке и на плантации. Ходили они босиком, в рубахах и коротких штанишках. Ребятишки были явно крепкие и здоровые, в них ощущалась какая-то прелестная искренность. Все они принадлежали к секте адвентистов; днем отдыха считали не воскресенье, а субботу, не брали в рот спиртного, муж никогда в жизни не курил. Мне они показались трудолюбивым, честным и дружным семейством. Приняли меня очень гостеприимно и угостили на славу: подали вкусно приготовленную курицу, прекрасный салат из выращенных своими руками овощей и пару сладких блюд. Сами не пили ни чаю, ни кофе, хотя гостям предлагали и то, и другое. Они немножко стеснялись того, что отличаются от других людей, но, сколько я мог сулить, это был их единственный недостаток.
Мы перевезли на шлюпке короба с разными товарами для их лавки и, выгрузив все, расселись по местам; гребцы налегли на весла. До шхуны было каких-то две-три мили, и всю дорогу гребцы пели песни и громко перешучивались с девушками из туземных хижин, разбросанных вдоль берега.
Вечером мы снова приплыли в деревню, на сей раз вместе с экипажем шхуны, и пошли к дому вождя. Там всех обнесли свежеприготовленной кавой и ананасами, а потом под звуки банджо и гавайской гитары моряки пустились в пляс. К ним присоединились женщины из семейства вождя. Один из матросов, житель острова Фиджи, почти угольно-черный, с копной курчавых волос, извивался, принимая вызывающие позы, под восторженные вопли зрителей. Пляска становилась все более бесстыдной. Глубокой ночью в полной тишине мы возвратились на шхуну.
На следующий день шхуна двинулась в Аполиму. Еще прежде уговорившись с одним вельботом, что он проведет нас через рифы, мы тащили его со всею командой по довольно бурному морю на буксире. На вельботе было и несколько женщин, видимо, решивших, что их ждет приятная морская прогулка. Аполима — это маленький, почти круглый остров, расположенный между Савайи и Маноно. Подойдя к рифам, мы пересели в вельбот и на веслах двинулись к берегу. Проход в рифах составляет в ширину не более четырех метров, и с каждого боку из воды торчат огромные острые скалы. Правил вельботом вождь. Мы подошли к проходу, и, увидев идушую на нас высокую волну, вождь крикнул гребцам, те изо всех сил, напрягая мощные мышцы, налегли на весла, и нас внесло в лагуну, небольшую и мелководную.
Остров представляет собой потухший вулкан, и когда мы очутились в лагуне, образовавшейся на дне его кратера, то нам показалось, что мы попали внутрь стилтонского сыра, выеденного до самой корки, причем в одном месте (где был выход в море) корка проедена насквозь. У самой воды, едва ли не на единственном плоском пятачке на этом острове, стояла деревня, а дальше поросшая хлебными деревьями, кокосовыми и банановыми пальмами земля шла круто вверх. Вскарабкавшись на край кратера, мы увидели морскую ширь; под нами, на берегу, грелись на солнце две черепахи. Когда мы спустились в деревню, нас пригласил к себе вождь выпить кавы. К тому времени поднялся сильный ветер, и матросы с вельбота с сомнением поглядывали на бурное серое море; у них явно не было уверенности, что нам удастся пройти между рифами навстречу валам, с яростным грохотом бившимся о скалы. Тем не менее мы заняли места в вельботе; вождь, красивый седой старик, помогал нам рассаживаться. Женщины, сошедшие на берег вместе с нами, теперь сели за весла. Подведя судно по мелководью к проходу в рифах, мы стали ждать удобного момента. Немного спустя матросы решили рвануть вперед, но вельбот прижало к скале — казалось, следующей волной нас непременно накроет. Я сбросил туфли на случай, если придется выбираться вплавь. Старик-вождь спрыгнул за борт и столкнул судно на воду. Затем, подбадривая себя криками, гребцы отчаянно и дружно налегли на весла, и, вымокшие до нитки в хлеставших через борт волнах, мы выскочили в открытое море. Вождь двинулся за нами вплавь; старик храбро боролся с огромными валами, это было потрясающее зрелище. Его втащили на борт, он сидел на палубе, стараясь отдышаться. Шхуна стояла далеко в море, и не было никаких признаков того, что нас заметили. С час мы медленно шли к ней на веслах, наконец и она двинулась к нам. Ее сильно качало, так что забраться на борт было не просто. Когда она накренилась в сторону вельбота, я прыгнул на свисавшие с борта снасти, и повар-китаец, ухватив меня за руку, помог влезть на палубу.
* * *
Кава. Готовит ее девушка, по обычаю девственница. Юноша или другая девушка дробит на камне корневище кавы и отдает его первой девушке; та наливает в миску немного воды, сыплет истолченный в порошок корень и месит массу руками. Затем пропускает смесь, как сквозь сито, сквозь пучок кокосовых волокон, выжимает волокна и передает юноше, который его вытряхивает. Так повторяется несколько раз, пока корень окончательно не растворится в воде. Потом в миску доливают воды, и кава готова. Девственница бормочет положенные по ритуалу слова, а собравшиеся дружно хлопают в ладоши. Юноша вручает ей сделанную из кокосового ореха чашу, та наливает ее до краев; вождь называет имя, и чашу подают самому знатному гостю. Слив немного кавы на землю, он провозглашает тост за «здоровье собравшихся», пьет сколько хочет, а остальное выплескивает. Затем возвращает чашу, которую подают следующему по возрасту или именитости гостю.
* * *
Лагуна. Над нею переброшен мост, сделанный из кокосовых пальм, связанных вершинами и комлями; мост опирается на вилообразные сучья, вбитые в дно лагуны. На берегу среди банановых деревьев разбросаны хижины туземцев, а вдоль берега тянутся ряды кокосовых пальм. Если пройти с полкилометра сквозь густые заросли кустарника, то выйдешь к мелкой, затененной деревьями речушке, где бултыхаются туземцы. Вода в ней обычно пресная, но во время прилива становится солоноватой, так как в нее вливается вся вода лагуны; речка чистая и, по сравнению с воздухом, очень холодная. Дивное место.
* * *
Уильяме. Ирландец. Юношей пятнадцати лет от роду он усыновил ребенка, которого родила одна девушка от сына местного священника. Пообешав выплачивать ребенку содержание, молодой отец не сдержал слова, и Уильямсу пришлось выкладывать по полкроны в неделю, пока мальчику не исполнилось четырнадцать лет. Вернувшись в Ирландию двадцать лет спустя, он отыскал ловеласа, который за это время женился и обзавелся детьми, и колотил его до тех пор, пока тот не запросил пощады.
Какое-то время Уильяме жил в Новой Зеландии. Однажды он пошел с приятелем на охоту, а у приятеля, банковского служащего, не было разрешения на пользование ружьем; внезапно они увидели полицейского; клерк перепугался, думая, что его сейчас же арестуют, но Уильяме велел ему успокоиться и идти себе, как ни в чем не бывало, а сам бросился бежать. Полицейский ринулся за ним, и так они добежали до Окленда. Там Уильяме остановился, полицейский подошел к нему и потребовал лицензию на ружье, которую Уильяме ему тут же и выдал. Зачем же тогда он удирал, удивился полицейский, на что Уильяме сказал: «Слушай, ты ведь, как и я, ирландец, — если обещаешь держать язык за зубами, я тебе объясню: у того парня не было лицензии». Полицейский рассмеялся и сказал: «Ты малый не промах, пойдем пропустим стаканчик».
Это здоровенный любвеобильный мужчина, обожающий рассказывать о своих сожительницах. От самоанок у него десять детей; одна дочка пятнадцати лет учится на его деньги в Новой Зеландии, остальных же, заплатив некоторую сумму, он отдал в мормонскую миссию. На острова он приехал в двадцать шесть лет, надеясь стать плантатором. Во время немецкой оккупации островов на Савайи было немного белых жителей, и Уильяме имел известное влияние на туземцев. Он любит их, насколько позволяет его эгоистическая натура. Немцы назначили его Amtmann,[12] и он оставался в этой должности шестнадцать лет. Однажды ему пришлось попасть на прием к Зольфу, германскому министру иностранных дел, и тот сказал Уильямсу: «Будучи правителем немецкой колонии, вы, надо полагать, свободно говорите по-немецки». «Нет, — ответил Уильяме, — я знаю только одно слово, prosit.[13] Но не слыхал его со времени моей поездки в Берлин». Министр от души расхохотался и велел принести бутылку пива.
* * *
Р. Долговязый худосочный юноша, по виду напоминающий клерка из конторы лондонского биржевого маклера; у него гнилые зубы с золотыми коронками и маленький брюзгливый рот. Вульгарен, неграмотен и лишен чувства юмора. На островах живет уже несколько лет и покрыт татуировкой, как туземец. Интересно, зачем он подверг себя этой мучительной операции? Возможно, красота здешних мест, дружелюбие и обаяние жителей тронули его грубую душу, и он решился на этот, как сам, видимо, считал, романтический поступок. А может, просто подумал, что так станет привлекательнее для женщин, с которыми спит.
* * *
Савайи. Когда после дождя начинает палить солнце, в здешних зарослях становится жарко, влажно, безветренно и душно, как в оранжерее; кажется, что все вокруг — деревья, кусты, вьющиеся растения — начинает бурно и стремительно разрастаться.
* * *
Назад в Алию я плыл на «Марстале», десятиметровом катере, принадлежащем одному канаку. Путешествие заняло десять часов. Пропахший порчеными кокосами катер был загружен копрой. Каюты там не было; я лежал на палубе над машинным отделением, прикрывшись пледом и положив голову на бугристые мешки с копрой. Команда состояла из капитана, стоявшего у румпеля, — это красивый, смуглый человек, с виду несколько напоминавший римского императора периода упадка, он немного склонен к полноте, но лицо прекрасное и решительное, еще одного канака, который, растянувшись во весь рост, спал, прикрытый мешковиной, и китайца, который сидел, курил и от нечего делать глядел на луну.
Луна ярко сияла, затмевая звезды, море было совершенно спокойно, если не считать мерной тихоокеанской зыби. Когда мы вошли в гавань Алии, на фоне неба темнели силуэты кокосовых пальм, смутно белел собор, там и сям горели на лодках огоньки — казалось, мы попали в заколдованное царство безмолвия и покоя; я пытался, но не мог подыскать подходящие слова для этой чарующей картины. На ум пришли две случайные строчки, я сам не знал, как и когда залетели они мне в голову: «Да воссияет Иакова лестница от Чаринг-Крос-са до неба».
* * *
Сува. Красивый просторный залив окружен серыми холмами, уходящими в таинственную синь. Возникает ощущение, что там, в далекой, густо поросшей лесами стороне, течет необычная тайная жизнь. И есть в ней, чудится что-то исконно туземное, смутно жестокое. Город тянется вдоль гавани; здесь много каркасных домов, магазинов больше, чем в Алии, но все-таки он чем-то напоминает факторию, которой, вероятно, и был когда-то. Туземцы расхаживают в юбочках лава-лава, майках или рубашках; по большей части это рослые крепкие мужчины, черные, как негры, и с такими же курчавыми, часто выбеленными известью волосами, которым стрижкой придают самые невероятные формы. Встречаются там одетые в белое индусы с бесшумной походкой; туземки носят на шее золотые цепи, на руках браслеты, а в носу кольца. За городом едешь мимо скученных поселений индийцев, а кругом в полях видишь их согбенные спины. На них нет ничего, кроме набедренной повязки, а тела ужасают своей худобой. Климат здесь субтропический, пальмы растут плохо, но есть обширные рощи манго; Сува лишена беспечного блаженства Самоа — здесь все более сумрачно, даже листва тяжелая и темная. Воздух томительно жаркий, тоже тяжкий, и непрестанно льют дожди.
Гостиница «Гранд Пасифик». Это большое трехэтажное оштукатуренное здание, обнесенное со всех сторон верандой. Внутри прохладно и пусто. Там есть большой зал с удобными стульями и постоянно включенными вентиляторами. Прислуживают индийцы, молчаливые и неуловимо враждебные; они ходят в белоснежных костюмах и тюрбанах, но босиком. Кормят здесь отвратительно, зато номера неплохие, чистые и прохладные. Постояльцев мало: представитель компании с семейством, несколько человек, ожидающих свои пароходы, да еще чиновники с других островов, приехавшие на Суву по делу или отдохнуть.
* * *
Синий. Приехал прямиком из Оксфорда, откуда и привез синий кубок — приз по футболу; живет здесь уже пять лет. Сейчас работает мировым судьей на одном островке, где он единственный белый человек. На время судебных каникул уезжает на Суву и там непрерывно пьет. Начинает прямо с утра и к полудню пьян в стельку. Ему нет и тридцати, он невысок, хорошо сложен, до сих пор выглядит спортсменом; у него приятное лицо, держится беззаботно и очень располагает к себе. Волосы стрижены коротко и всегда живописно растрепаны. Глаза голубые, лицо неправильное, но привлекательное. Чувствуется, что это человек славный и добрый, не способный ни на что худое. В душе он еще школьник.
* * *
Директор школы. Ирландец, был на фронте, где получил тяжелое ранение; по выздоровлении его специальным распоряжением направили на Фиджи. В детстве он читал об этих романтических краях и его непреодолимо тянуло туда. Сначала он обрадовался новому назначению, а теперь тоскует, одинокий и разочарованный. Школа его находится примерно в четырех километрах от Сувы, но он ездит туда при любой возможности; во время каникул останавливается в гостинице «Гранд Пасифик» и все время пьет виски с содовой. Лет ему не более двадцати восьми, росту невысокого, у него синие смеющиеся глаза и мимолетная ослепительная улыбка.
* * *
Страховой агент. Высокий пожилой человек с седыми, очень редкими, но аккуратно зачесанными волосами; одевается тщательно, держится прямо и красиво, невзирая на возрастающую тучность. Тридцать лет тому назад в составе театральной трупы он приехал в Австралию, женился на состоятельной женщине и с тех пор перепробовал множество занятий: был и плантатором, и чиновником в правительственном учреждении, и торговцем. Сейчас репутация его подмочена: представителем страховой компании он прибыл в Алию и там прикарманил страховые выплаты. Дорожа своим добрым именем компания вернула клиентам деньги, а он избежал суда только потому, что компания не хотела скандала. Почти все время он проводит в баре гостиницы «Гранд Пасифик», способен долго и помногу пить без малейших признаков опьянения. Благодаря актерской подготовке у него манеры благородного человека — это весьма забавно, если вспомнить, что он едва избежал длительного тюремного заключения.
* * *
Реуа. Река с плоскими берегами, вдоль которых тянутся туземные деревушки и банановые плантации. Дальше вздымаются серые, окутанные дымкой горы. Не знаю отчего, но в здешних безбрежных просторах чудится что-то неуловимо таинственное и грозное. Там и сям по водной глади плывут туземцы в выдолбленных из цельного ствола челноках. В Реуе есть сахарные заводы и замызганная гостиница — одноэтажный домишко; содержат гостиницу толстяк-англичанин с толстухой-женой. Они как две капли воды похожи на владельцев какого-нибудь постоялого двора на берегу Темзы; жена чуть не целыми днями лежит в гамаке на веранде и читает романы.
* * *
Священник. Маленький старичок-француз семидесяти лет, очень энергичный; ходит в короткой обтрепанной сутане, высоких черных сапогах с отворотами и сером тропическом шлеме. Он весь высох, чисто выбритое, изборожденное морщинами лицо обрамляют длинные прямые седые пряди, глазки под красными воспаленными веками слезятся. Есть в его внешности что-то на редкость нелепое. Он бегло и охотно говорит по-английски, правда, с сильным акцентом. Ногти на узловатых искривленных пальцах обломаны. Он занимает должность директора школы; семнадцать лет проработал во Франции, потом семнадцать в Австралии, а теперь еще семнадцать на Фиджи. Знает множество языков. Родом он, вероятно, из Эльзаса. Рассказывает про своих племянников, почти поголовно священников; все они сражались во французской армии, и он с гордостью сообщает, каких наград они удостоились. Очень гордится своей школой на Фиджи, своими учениками, почти сплошь туземцами, и все еще переписывается с прежними питомцами из Австралии. В той крохотной гостинице странно было видеть, как он разглагольствует о Шекспире и Мильтоне перед двумя посетителями, с которыми случай свел его за одним столом. Ничего не понимая, они слушали его, открыв рот. На Фиджи все вызывает его восторг, он поистине кладезь познаний в том, что касается туземцев. Несмотря на преклонный возраст, от него веет неистощимой энергией.
* * *
Двое живут на Фиджи бок о бок, но на дух друг друга не переносят, не обмениваются ни словечком, но тесно связаны условиями работы. Каждый вечер они напиваются до потери сознания. Однажды в баре появляется старичок-священник, француз, много лет проживший на острове; они угощают его ужином и ведут к себе ночевать. Он рассуждает с ними о Шекспире и Вордсворте. Те двое потрясенно слушают. Спрашивают, как его занесло в эти края. Он объясняет, что был человеком чувственным, очень любил удовольствия и немало сожалел, что принял сан; чувствуя, что создан для обычного земного существования, что превыше всего ценит радости жизни, он именно поэтому и лишил себя этих радостей. Теперь он уже стар, все позади. И стоило ли, на его взгляд, так поступать, спрашивают они. В его жизни они смутно ощущают некое благородство, о котором прежде и не подозревали. Их взгляды встречаются, и они подают друг другу руки.
Встреча со стариком-священником навела меня на мысль набросать план рассказа. Но я его так и не написал.
* * *
Бау. Это крошечный островок в устье реки, окруженный рифовой грядой; он так мал, что его можно обойти за полчаса, а от другого острова его отделяет каких-то полмили. Раньше здесь была столица Фиджи, и вождь, у которого я остановился, рассказывал, что хижины так тесно прижимались друг к другу, что по улочкам приходилось протискиваться боком. Жители владеют землей на других берегах, и мужчины ежедневно отправляются туда работать, возвращаясь только вечером. Дети целыми днями плещутся в море. Хижины, квадратные или продолговатые, делаются из травы; в них нет окон, двери деревянные. Внутри, как правило, висит занавеска из коры — нетканого материала, изготовляемого из древесной коры, — разделяя помещение на две части. Принимавший меня вождь был племянником последнего короля и членом законодательного совета; красивый старик, рослый и сильный, держался с большим достоинством. Ходил в коротких белых штанах и сетчатой майке.
Сидячий танец острова Фиджи. На земле сидят четыре одетые в белое девушки с зелеными венками на шее и цветами красного жасмина в волосах. Запевала заводит причудливую песню, ее подхватывают остальные девушки и сидящие позади мужчины, а танцовщицы принимаются раскачиваться всем телом, подчеркивая ритм движениями рук и пальцев. Танец этот безрадостен и уныл.
* * *
«Галун». Корабль принадлежит компании «Юнион С.С.» и ходит из Окленда в Апию с заходом на Фиджи и в Тонга. Эта заросшая грязью, построенная тридцать шесть лет назад посудина водоизмещением в тысячу двести тонн теперь кишит крысами и тараканами, но еще крепка и прекрасно держится на воде; здесь всего одна крайне примитивная ванная комната, ни единой курительной, а каюты запакощены. Когда я плыл из Сувы в Окленд, шхуну загрузили бананами, штабеля ящиков громоздились на корме; вдобавок на судно набилось множество пассажиров: детей, возвращавшихся из Алии и Сувы в новозеландские школы, солдат, ехавших в отпуск, и неопределенного вида публики, что путешествует по Тихому океану. Второй класс предназначался для туземцев, а потому первым классом ехал очень разный и странный народ; страннее всех прочих был высокий очень худой краснолицый человек с крупными чертами. На редкость опрятный, одетый в длиннополый черный сюртук, он в одиночестве ходил по палубе, ни с кем не разговаривал и, то и дело сплевывая, беспрестанно курил; он вез с собою двух больших попугаев в клетках. Загадочная личность, невозможно было понять, откуда он и куда едет, чем занимается и какого он роду-племени. Что-то в нем наводило на мысль, что это лишенный сана священник.
* * *
Тонга. Адвентист. Маленький глухой старичок, проживший на острове тридцать лет. Ютится один, в полной нищете, почти незнаком с соседями, которых презирает как низшую касту. Себя считает обласканным Божиим благоволением. В жизни у него все складывалось хуже некуда. Жена умерла, дети пошли по плохой дорожке, кокосовая плантация не оправдала ожиданий. Он же считает свои беды крестом, возложенным на него Господом в знак особой милости, хотя совершенно очевидно, что большей частью он сам в них повинен.
Папеэте. Когда корабль подошел к прогалу между рифами, вокруг собрались акулы и поплыли за нами в лагуну. В лагуне был полный штиль, вода прозрачная. У причала стояли несколько белых шхун. Встречать корабль собралось множество народу — пестро одетые женщины, мужчины в белом, синем или хаки. Яркая разноцветная толпа на залитой солнцем набережной выглядела чарующе нарядной.
Вдоль берега за длинным рядом старых деревьев с густо-зелеными кронами, среди которых, оттеняя их зелень, то там, то сям пышно пламенеют цветы flamboyant,[14] расположены магазины и учреждения. Зданию почты, конторам французской пароходной компании «Компани наваль дель Осеани» не свойственна скучная деловитая строгость, присущая подобным сооружениям на островах Океании; напротив, их отличает вычурная, по-своему привлекательная помпезность. От набережной, обрамленной великолепными деревьями, веет чем-то французским, вызывая воспоминания о крепостных валах в провинциальных городках Турени. Да и весь Папеэте, несмотря на английские и американские магазины, китайские лавки, кажется неуловимо французским. Он привлекает ухоженностью и отсутствием суеты. Чувствуется, что люди здесь и впрямь живут, а погоня за барышом тут не так заметна, как на островах, принадлежащих Англии. Дороги хорошие, как многие дороги во Франции, и так же прекрасно содержатся; они обсажены деревьями, бросающими благодатную тень. Возле пляжа, под сенью гигантского мангового дерева, рядом с которым пышно разросся бамбук, стоит кирпичная прачечная; точно такие же я видел неподалеку от Арраса; получившие передышку солдаты стирали там свои рубахи. Здешний рынок вполне мог бы оказаться в какой-нибудь крупной французской деревне. Однако несомненный налет экзотичности, свойственный в целом Папеэте, придает рынку большое своеобразие.
Помимо таитянского наречия, здесь все пользуются и английским, и французским. Туземцы говорят по-французски, глотая окончания, а их акцент напоминает выговор русских, приехавших в Париж изучать язык. Каждый дом окружен садом, запущенным и диким: сплошное переплетение деревьев и немыслимо ярких цветов.
Таитянцы по большей части носят брюки, рубахи и огромные соломенные шляпы. Кожа у них, пожалуй, светлее, чем у большинства полинезийцев. Женщины ходят в просторных белых платьях без пояса, но многие одеты в черное.
* * *
Гостиница «Тиар». Расположена на окраине, примерно в пяти минутах ходьбы от таможни, и, выйдя за ворота, сразу оказываешься за городом. Перед гостиницей небольшой, полный цветов парк, окруженный живой изгородью из кофейных кустов. Позади двор, где растут хлебное дерево, авокадо, олеандр и таро. Если на обед хочется грушу авокадо, срываешь ее прямо с дерева. Одноэтажная гостиница со всех сторон обнесена террасами, одна из которых служит столовой. Есть небольшая гостиная с вощеным паркетом; там стоит пианино и обитая бархатом мебель с гнутыми ножками. Номера тесные и темные. Кухня находится в маленьком, стоящем на отшибе домике, там целыми днями сидит мадам Ловиана, надзирая за поваром-китайцем. Сама прекрасная повариха, она очень хлебосольна. Любой из соседей, проголодавшись, может прийти в гостиницу и его накормят. У Ловианы, метиски лет, вероятно, пятидесяти, очень белая кожа. Это женщина невероятных размеров. Она не просто толста, она огромна и бесформенна; одета в длинный розовый капот и маленькую соломенную шляпку. Мелкие черты ее лица не расплылись, но подбородок совершенно необъятный. Большие карие глаза подернуты влагой, а выражение лица приветливое и искреннее. Она охотно улыбается и от души подолгу хохочет. По-матерински заботится о молодых, и когда мальчишеского вида кладовщик с «Моаны» сильно напился, она на моих глазах подняла со стула свое грузное тело, вынула у парня из рук стакан, чтобы он больше не пил, и отправила сына доставить его прямиком на корабль.
* * *
Гардения «Флорида» — это национальный цветок Таити, маленькая белая звездочка, расцветающая на кустах с пышно-зеленой листвой и обладающая особым сладким будоражащим ароматом. Из нее плетут венки, ее втыкают в волосы, носят за ухом; в черных волосах туземок она сияет ослепительно ярко.
* * *
Джонни. С первого взгляда и в голову не придет, что в нем течет туземная кровь. Ему двадцать пять лет. Это довольно плотный молодой человек с курчавыми черными, редеющими со лба волосами и с чисто выбритым мясистым лицом. Он легко возбуждается и много жестикулирует. Речь очень быстрая, голос то и дело срывается на фальцет, говорит по-английски и по-французски бегло, но не слишком правильно, со странным акцентом; родной его язык таитянский. Когда он перед купанием переодевается в парео, в Джонни сразу проявляется туземец, и только цвет кожи выдает наличие в нем крови белого человека. В душе он таитянец. Любит здешнюю еду и обычаи. Гордится своей принадлежностью к местному племени и совершенно не испытывает ложного стыда полукровок.
* * *
Дом Джонни. Находится примерно в трех километрах от Па-пеэте, притулился на вершине невысокого холма; с трех сторон оттуда видно море, а прямо против дома — Муреа. Берег густо зарос кокосовыми пальмами, за ними высятся таинственного вида холмы. Большую развалюху, чем жилище Джонни, трудно и вообразить. Внизу просторная, похожая на сарай комната, несколько поднятая над землею, туда ведет невысокая лесенка; кое-где каркасные стены зияют щелями; сзади дома два небольших навеса. Один служит кухней; в вырытой в земле яме разводится огонь, на нем и готовят еду. На втором этаже два мезонина. В каждом стол, на полу матрац, больше ничего нет. Похожая на сарай комната — гостиная. Всей мебели только сосновый, покрытый зеленой клеенкой стол, пара шезлонгов и два-три очень старых обшарпанных венских стула. Комната украшена бахромчатыми листьями кокосовых пальм: одни прибиты к стенам, другими увиты балки перекрытий. С потолка свисает штук шесть японских фонариков, а букетик желтого гибискуса создает яркое цветовое пятно.
* * *
Предводительница племени. Живет в трехэтажном каркасном доме примерно в двадцати километрах от Папеэте. Она вдова вождя, получившего орден Почетного легиона в те времена, когда протекторат Франции сменился оккупацией острова; на стенах гостиной, обставленной дешевой французской мебелью, висят документы той поры, фотографии разнообразных знаменитых политиков с их дарственными надписями и обычные групповые свадебные снимки темнокожей родни и гостей. В спальнях негде повернуться из-за огромных кроватей. Вдова вождя — большая тучная седовласая женщина; один глаз у нее закрыт, но нет-нет да откроется и тогда сверлит вас загадочным взглядом. Она носит очки, потертый черный капот и, удобно расположившись на полу, курит местные сигареты.
Вдова мне рассказала, что в доме неподалеку есть картины Гогена, и когда я выразил желание их посмотреть, кликнула мальчика, чтобы тот меня проводил. Проехав километра три по дороге, мы свернули на топкую, заросшую травой тропу и наконец добрались до очень убогого каркасного домишки, серого и ветхого. Никакой мебели, кроме нескольких циновок, в доме не было; на веранде копошилась орава чумазых ребятишек. Там же лежал молодой человек и курил сигареты, рядом праздно сидела молодая женщина. Вышел приветливо улыбающийся хозяин дома, смуглый туземец с приплюснутым носом, и заговорил с нами. Пригласил в дом, и мне сразу же бросилась в глаза расписанная Гогеном дверь. По словам хозяина, больной Гоген некоторое время пролежал в этом доме, и за ним ухаживали родители теперешнего владельца, которому тогда было десять лет. Художник был доволен уходом и, выздоровев, пожелал оставить по себе память. В одной из двух комнат домика имелось три двери, в каждой верхняя, разделенная надвое филенка была застеклена, и он на всех стеклах нарисовал картины. Две из них расцарапали дети; на одной краски почти не осталось, лишь в углу смутно угадывалась голова, на второй же виднелись очертания женского торса, с грацией и страстью откинувшегося назад. Третья сохранилась прилично, но было совершенно ясно, что через несколько лет она будет точно в таком же состоянии, что и две первые росписи. К картинам как таковым хозяин не испытывал ни малейшего интереса, они лишь напоминали о покойном госте, и когда я ему заметил, что две последние еще можно сохранить, он дал понять, что не прочь продать третью.
— Но тогда мне придется купить новую дверь, — сказал он.
— Сколько же она стоит? — спросил я.
— Сто франков,
— Ладно, — сказал я, — даю вам двести.
Лучше взять картину сразу, пока он не передумал, мелькнуло у меня в голове; мы принесли из нашей машины инструменты, отвинтили шурупы на петлях и унесли дверь. Вернувшись в дом предводительницы племени, отпилили нижнюю филенку, чтобы легче было везти картину на стекле, и так переправили ее в Папеэте.
* * *
На маленьком открытом суденышке, забитом туземцами и китайцами, я отправился на Муреа. Капитаном был светловолосый краснолицый туземец с голубыми глазами, высокий и плотный; он немного говорил по-английски, возможно, отцом его был английский моряк. Как только лодка вышла за рифовую гряду, стало ясно, что путешествие будет не из легких. Высокие волны хлестали через борт, вымочив нас насквозь. Лодку качало и швыряло с боку на бок. Внезапно налетали порывы шквалистого ветра, обрушивая на нас потоки ливня. Волны были, казалось, величиной с гору. Лодка то взлетала вверх, то проваливалась вниз, сердце возбужденно (а у меня и испуганно) трепетало. И все это время на палубе сидела старуха-туземка и безостановочно курила большие местные сигареты. Маленького китайчонка то и дело отчаянно рвало. С большим облегчением мы увидели приближающийся Муреа, скоро стали видны кокосовые пальмы на берегу, и мы наконец вошли в лагуну. Дождь по-прежнему лил как из ведра. Все промокли до нитки. Мы пересели в присланный за нами вельбот, а по мелководью пришлось идти вброд. Потом еще километров шесть мы брели по расквашенной дороге, через ручьи и речушки, а дождь лил не переставая, покуда мы не добрались до дома, где нас ждали и где нам предстояло остановиться. Сняв одежду, мы облачились в парео.
Это был маленький каркасный домик, веранда и две комнаты, в каждой стояла гигантская кровать. В задней части дома находилась кухня. Домик принадлежал выходцу из Новой Зеландии, который был тогда в отъезде; он жил в нем с туземкой. Перед домом был небольшой садик, там цвели гардении «Флориды», гибискус и олеандры. Сбоку дома бежал быстрый ручей, в его русле был вырыт маленький водоем, служивший ванной. Чистая вода сверкала на солнце.
Возле лесенки на веранду стояла большая жестяная банка с водой, а рядом тазик, чтобы ополаскивать ноги перед тем, как войти в дом.
* * *
Муреа. Жилища туземцев здесь продолговатые, небрежно крытые большими пальмовыми листьями, стены из плотно пригнанных друг к другу стволов бамбука, пропускающих свет и воздух. Окон нет, но обыкновенно две или три двери. Во многих хижинах стоит железная кровать и почти в каждой швейная машинка.
Молитвенный дом построен также, только он очень большой, и все садятся на пол. Ведомый слепою девочкой, я пришел на спевку хора, и они час за часом распевали длинные псалмы. Голоса у них были громкие и вблизи резкие, но когда они доносились издалека, в мягкой ночной тиши пение это звучало дивно и поражало красотою.
* * *
Ловля рыбы копьем. Некоторое время я шел по дороге, а потом, привлеченный голосами и смехом, свернул в болотистые камыши выше человеческого роста, брел, проваливаясь по пояс в грязную воду, и внезапно вышел на берег маленькой быстрой речки. Там стояло с десяток мужчин и женщин, одетых лишь в парео, с длинными копьями в руках, а на земле лежали груды больших серебристых рыб, залитых кровью от нанесенных копьем смертельных ран. Какое-то время я ждал, вдруг послышался предупреждающий клич, все напряглись с копьями наперевес; неожиданно целая стая рыб ринулась по течению к морю. Раздались возбужденные крики, стук копий, плеск воды, и добычу, дюжину крупных рыбин, вытащили на берег. Рыбы извивались, прыгали и били хвостами по земле.
* * *
На рифовой гряде. Вода здесь самых разных оттенков, от густо-синего до бледного изумрудно-зеленого. Гряда широкая, из кораллов всевозможной окраски. По рифам можно ходить; удивительно: совсем близко пенятся огромные буруны и волнуется открытое море, а за рифовой грядой расстилается безмятежная, как в пруду, гладь лагуны. Среди кораллов водятся разные причудливые создания: рыбы ярких расцветок, липа-рисы, трепанги, морские ежи и какие-то розоватые извивающиеся твари.
* * *
Сети. Когда забрасывают большой невод, на берег высыпает вся деревня; хозяева невода гребут на каноэ, а один-двое прыгают в воду; женщины, мальчики и мужчины, выстроившись цепью, с двух концов тянут за веревку. Остальные сидят на берегу и с большим интересом наблюдают. Постепенно сеть подтаскивают ближе, какой-нибудь мальчишка выхватывает серебристую рыбину, сует ее под свое парео, и невод вытаскивают на берег. В песке вырывают яму, туда ссыпают всю рыбу. Затем каждый из помогавших получает свою долю улова.
* * *
Христианство. На один из островов прибыл на флагманском судне французский адмирал, в его честь туземная королева устроила официальный обед. Она предложила посадить его по правую руку от себя, но жена миссионера настояла, чтобы он сел справа от нее. Как жена представителя Христа на земле она почиталась выше королевы. Миссионер поддержал жену. Когда туземцы запротестовали, супруги разъярились и стали грозить страшными карами, если миссии будет нанесено такое оскорбление, и перепуганные туземцы в конце концов уступили. Миссионеры умели добиваться своего.
* * *
Тетиароа. Мы отправились туда на маленьком катере с бензиновым двигателем. Отчалили в час ночи, с тем чтобы прибыть к месту назначения на рассвете, когда море обыкновенно спокойнее всего и пройти рифовую гряду легче, чем днем. Стояла дивная безмолвная ночь. Воздух был душист и сладок. В воде между рифами отражались звезды. Ни дуновения. Мы расстелили на палубе подстилку и удобно улеглись. За рифами, как всегда, тяжко вздымался Тихий океан. На рассвете мы все еще шли в открытом море и вдруг в нескольких милях от катера заметили остров — низенькую цепочку кокосовых пальм. Когда катер подошел к рифам, мы пересели в шлюпку. Владельца катера звали Леви. Он утверждал, что родился в Париже, но по-французски говорил с сильным акцентом, напомнившим мне выговор алжирских евреев. Катер стал на якорь возле гряды, а мы, сидевшие в шлюпке, пошли на веслах к проходу среди рифов. На самом деле это не проход, а всего лишь небольшая впадина в гряде, и когда накатывает волна, то на ее гребне, хоть и с трудом, едва не царапая днищем рифы, лодка может проскочить за барьер. Грести там невозможно из-за густо разросшихся кораллов, поэтому туземцы спускаются за борт и по пояс в воде ведут лодку по узкому извилистому проходу к берегу. Белый прибрежный песок усеян обломками кораллов и скорлупой бесчисленных ракообразных; дальше высятся кокосовые пальмы, а уж за ними виднеется, наконец, с полдюжины хижин, составляющих здешнее крошечное поселение. Одна из хижин принадлежит вождю; две отведены под копру, еще одна для рабочего люда; а две уютного вида плетенные из травы хижины предназначены для владельца острова — одна служит гостиной, а другая спальней. Хижины стоят в роще старых гигантских деревьев, дающих тень и прохладу. Выгрузив свои припасы и постельные принадлежности, мы взялись устраиваться на новом месте. Нас тут же окружили полчища москитов, такого количества я не видывал нигде; стоило присесть на минуту, как они роем на нас набрасывались. Мы затянули веранду хижины противомоскитной сеткой, под нею поставили стол и пару стульев. Но москиты исхитрялись пролезать под сетку, и только когда перехлопаешь штук двадцать, можно рассчитывать на относительный покой и отдых. Сбоку хижины был сделан небольшой навес, под ним располагалась кухня; там привезенный мною китаец из небольшой охапки хвороста развел огонь, на котором приготовил еду.
Остров, видимо, сравнительно недавно поднялся над поверхностью океана, в глубинных районах территория большей частью покрыта слоем бесплодной вязкой грязи, почти болотом, так что при ходьбе нога на несколько сантиметров погружается в это месиво; возможно, раньше здесь было соленое озеро, ныне высохшее; одной части острова есть маленькое озерцо, которое не столь давно было, наверное, значительно больше. Возле кокосовых пальм почти ничего не растет, кроме густой травы и кустов, напоминающих ракитник. На всех здешних островах в изобилии водятся скворцы-майны; но на Тетиароа их всего два-три, не больше, и тех завезли недавно. В основном здесь живут только громадные черные морские птицы с длинными острыми клювами, издающие пронзительный свист.
Песок на берегу именно той серебристой белизны, о которой читаешь в описаниях островов Южной Океании; под солнцем он сверкает так ослепительно, что больно глазам. То и дело натыкаешься на белые панцири дохлых крабов или скелет морской птицы. Ночью словно весь берег приходит в движение; поначалу это едва заметное, но непрестанное движение, непривычное и непонятное, удивляет и пугает; но стоит зажечь фонарь, и становится видно, что это движутся несметные ракообразные; они медленно, осторожно ползают по берегу в разных направлениях, им несть числа, и кажется, что это ожил берег.
* * *
Риф. По гребню вьется широкая тропа, по ней можно обойти остров кругом, но поверхность до того неровная, вся в зазубринах и шипах, что режет ноги в кровь. В маленьких заводях снуют рыбешки, изредка на поверхности появляется отвратительная головка угря. Ловля омаров: идешь ночью с фонарем-«молнией» вдоль гряды, поглядывая направо и налево, просвечивая каждый укромный уголок; напуганные светом рыбы уплывают прочь; ступать надо осторожно, потому что всюду сидят крупные морские ежи, способные очень больно поранить ноги. Омаров там множество, вскоре же замечаешь первого. Надо придавить его ногою, тут же подойдет туземец, ухватит его и бросит в старую флягу из-под керосина, висящую у него на плече. Побродив так ночь, теряешь всяческую ориентацию и с трудом отыскиваешь лодку, чтобы вернуться на берег. Бывали минуты, когда нам казалось, что придется сидеть на рифах до рассвета. Ночи стояли безлунные, но на безоблачном небе ярко сияли звезды.
* * *
Рыбалка на рифах. В одном месте, около прохода между рифами, скалы круто, как в пропасть, уходят вниз, и тут огромная глубина. Забросив сеть в лагуне среди коралловых зарослей, туземцы уже наловили рыбешки на наживку. Жутко наблюдать за тем, как туземцы убивают пойманную рыбу. Они бьют ее кулаками в живот или молотят по ней обломком коралла. Подплыв к месту рыбалки, мы привязали каноэ к коралловому рифу, затем вождь раздробил пару рыбешек и бросил куски в воду. На это угощение тут же собралось множество мальков, тонких червеобразных живчиков, потом подплыло несколько крупных черных рыбин. Считанные минуты спустя над поверхностью воды показались акульи плавники, к вокруг с наводящей ужас безмолвной стремительностью стали кружить коричневые акулы. Удочкой служила простая бамбуковая палка с леской. Крупные черные рыбы, походив вокруг наживки, жадно заглатывали ее, и их вытаскивали из воды одну за другой. Акулы тоже норовили урвать добычу, так что приходилось выдергивать наживку у них из-под носа, потому что тонкая леска не выдержала бы их тяжести. Один раз акула, попавшись мне на крючок, в мгновение ока оборвала леску. Мы наживили на пару удочек рыбьи потроха и поймали тунца весом, наверное, килограммов двадцать.
* * *
Ловля акул. Ближе к вечеру наживляешь на крючок потроха крупной рыбы и привязываешь леску к дереву. Через недолгое время раздается шумный плеск, и, спустившись к воде, видишь, что попалась акула. Тащишь ее из воды на берег, она сопротивляется, мечется и бьет хвостом. Туземец достает длинный нож, ведущий свое происхождение от старинной абордажной сабли, завезенной сюда первооткрывателями островов, и бьет акулу по голове, стараясь добраться до мозга. Акула — мерзкий злобный хищник, пасть ее усеяна жуткими зубами. Умертвив акулу, туземцы извлекают крючок. Затем китаец отсекает плавники, чтобы потом высушить их на солнце, а кто-нибудь из канаков отрубает страшную зубастую голову. Тушу акулы швыряют обратно в море.
Туземцы частенько привязывают леску себе к ноге, укладываются спать и просыпаются, когда леска начинает дергаться.
* * *
Рыбы. Их разнообразие не поддается описанию. Ярко-желтые, черно-желтые, черно-белые, полосатые, в необычайных разводах. Однажды туземцы забросили невод, а когда подняли его, я увидел их улов во всем его многоцветном блеске. Я испытал внезапный трепет: это зрелище напомнило мне эпизод с рыбной ловлей из сказок «Тысячи и одной ночи», и мне почудилось, что среди этого поразительного разнообразия цвета и форм я вот-вот увижу запечатанную печатью Сулеймана бутылку, в которой томится могущественный джинн.
* * *
Краски моря. Вдали от берега оно темно-синее, густо краснеющее на закате; но в лагуне оттенки его неисчислимы, от бледно-бирюзового до ярчайшего беспримесно зеленого; заходящее солнце ненадолго превращает воду в расплавленное золото. А какое разноцветье кораллов — коричневых, белых, розовых, красных, пурпурных! Формы их поражают причудливостью; коралловые заросли похожи на волшебный сад, а юркие рыбки в нем — на бабочек. Почему-то это зрелище кажется нереальным, будто этот сказочный сад — лишь плод чьей-то буйной фантазии. Между кораллами небольшие заводи, дно которых выстлано белым песком, и вода здесь ослепительно чистая.
* * *
Варо. В Океании его еще называют морской многоножкой. Это нечто вроде маленького омара, только бледно-кремового цвета. Живут они парами в одной ямке. Женская особь больше и сильнее мужской, а также чуть ярче окрашена. Водятся они только в очень мелком песке, и мы плыли на ловлю, пожалуй, с милю через всю лагуну к одному из островов, входящих в архипелаг Тетиароа. Туземцы заготовили совершенно необычное приспособление для ловли варо. Оно состоит из полуметрового гибкого волокна, извлеченного из черешка кокосового листа; к согнутому в кольцо волокну прикреплены крючки, остриями вверх, так что сооружение напоминает зонтик; а вокруг, в качестве наживки, привязан ломоть рыбы. Мы брели по мелководью, высматривая на дне маленькие круглые ямки, жилища варо, и найдя, опускали крючки в воду. Туземец произносил заклинание, прося варо вылезти из норки, затем шевелил в воде пальцами; как правило, тем дело и кончалось, но иногда все сооружение уходило в воду — значит, варо схватил наживку и запутался в крючках. Его с великой осторожностью вынимали из воды, и все с волнением наблюдали, как это маленькое, вцепившееся в волокно существо появляется на поверхности. Его снимали и опускали в короб, поспешно свернутый вождем из листа кокосовой пальмы. Но ловля варо — дело не быстрое, и за три часа мы наловили всего восемь штук.
* * *
Вечер на берегу лагуны. К закату солнце становится багровым; на фоне безоблачного неба пылающий шар опускается в море быстро, но не так стремительно, как можно вообразить по описаниям в литературе, и тут восходит Венера. С наступлением вечера, ясного и тихого, вокруг будто разом просыпается и начинает бешено бурлить жизнь. У кромки воды ползают бесчисленные ракообразные, в воде все тоже приходит в движение. Рыбы взлетают в воздух, раздается таинственный плеск, внезапно начинается шум и смятение — это, распугивая живность, неслышно приплыла кровожадная акула. Мелкие рыбешки стаями выпрыгивают из воды, а порою сверкнет на поверхности и крупная разноцветная рыбина. Но главное — ощущение упорной, безостановочной жизни. В восхитительном вечернем безмолвии в ней чудится нечто таинственное, смутно пугающее.
* * *
Ночь поразительно тиха. Неистово сверкают звезды, Южный Крест и созвездие Киля; ни дуновения ветерка, но в воздухе разлита дивная сладость. Темнеющие на фоне неба кокосовые пальмы словно к чему-то прислушиваются. Время от времени раздается заунывный крик морской птицы.
* * *
Человеку труднее всего осознать, что он находится не в центре, а на периферии событий.
* * *
Шотландцы, видимо, полагают, что быть шотландцем — великая честь.
1917
В этом году меня послали с секретной миссией в Россию. Так родились эти записки.
Россия. Причины, подвигнувшие меня заинтересоваться Россией, были в основном те же, что и у большинства моих современников. Русская литература — самая очевидная из них. Толстой и Тургенев, но главным образом Достоевский описывали чувства, каких не встретишь в романах писателей других стран. Величайшие романы западно-европейской литературы рядом с ними казались ненатуральными. Новизна этих романов побудила меня умалять Теккерея, Диккенса и Троллопа с их традиционной моралью; даже великие французские писатели — Бальзак, Стендаль, Флобер — по сравнению с ними казались поверхностными и холодноватыми. Жизнь, которую они, эти английские и французские романисты, описывали, была мне хорошо знакома и, как и другим людям моего поколения, наскучила. Они изображали общество законопослушное. Мысль его шла уже не раз хожеными тропами, чувства, даже вполне необычные, не выбивались за пределы допустимого. Эта литература предназначалась для просвещенных буржуа, людей сытых, добротно одетых, живущих в добротных домах, и читатели пребывали в непреложном убеждении, что эти произведения не имеют отношения к жизни.
Сумасбродные 90-е пробудили людей умных от апатии, преисполнили их тревогой и недовольством, но не предложили ничего существенного. Старых идолов скинули с пьедестала, но на их место возвели идолов из папье-маше. В 90-х вели нескончаемые разговоры об искусстве и литературе, но произведения тех лет походили на игрушечных зайчиков, которые, когда их заведешь, попрыгают-попрыгают, а потом останавливаются, как вкопанные.
* * *
Современные поэты. По мне лучше б у них было меньше ума и больше чувства. Их песенки порождены не непомерными страданиями, а тихими радостями хорошего образования.
* * *
Тайный агент. Ниже среднего роста, но кряжистый и крепкий, ступает бесшумно. Шаг стремительный, походка странная, чем-то напоминающая гориллью, руки при ходьбе держит растопыркой; производит впечатление чуть ли не существа из отряда приматов — кажется, того и гляди запрыгает; исходящее от него ощущение огромной силы вселяет беспокойство. Крупная, квадратной формы голова на бычьей шее, гладко выбрит, глаза маленькие, пронзительные, лицо до странности плоское, словно сплющенное от удара. Нос большой, мясистый, расплюснутый, рот широкий, зубы мелкие, потемневшие. Густые светлые волосы прилизаны. Не смеется, но часто фыркает, и тогда в его глазах проблескивает злое веселье.
Одет пристойно, в американский дешевый костюм, и на первый взгляд мог бы сойти за иммигранта из средних слоев, мелкого дельца, недурно устроившегося в одном из процветающих городов Среднего Запада. По-английски говорит бойко, но с ошибками. Всякого, кто познакомится с ним поближе, поражает своей решимостью. Его физическая сила не уступает силе воли. Жалость ему неведома, он себе на уме, осторожен и не гнушается никакими средствами для достижения цели. В конечном счете впечатление от него устрашающее. В его изобретательном уме роятся идеи, коварные, дерзкие. Он наслаждается едва ли не как художник запутанными ходами своей службы; когда он рассказывает об интриге, которую обдумывает, или об успешной уловке, его голубые глазки замасливаются, а лицо светится сатанинским весельем. У него колоссальное презрение к человеческой жизни, чувствуется, что ради дела он без малейших колебаний пожертвует и другом, и сыном. Храбрость его несомненна, он равно не боится не только опасности, но и лишений, и скуки. Он неприхотлив и может долгое время обходиться без еды и без сна. Не щадя себя, не щадит и других; энергия у него неимоверная. При том, что ему неведома жалость, он добродушен и способен убить ближнего, не испытывая к нему дурных чувств. В его жизни одна лишь страсть, и это, — если не считать любви к хорошим сигарам, — патриотизм. Дисциплину он ставит превыше всего, сам беспрекословно повинуется своему начальнику и требует такой же покорности от своих подчиненных.
* * *
Русский патриотизм — это нечто уникальное; в нем бездна зазнайства; русские считают, что они непохожи ни на один народ и тем кичатся; они с гордостью разглагольствуют о темноте русских крестьян; похваляются своей загадочностью и непостижимостью; твердят, что одной стороной обращены на Запад, другой — на Восток; гордятся своими недостатками, наподобие хама, который оповещает, что таким уж его сотворил Господь, и самодовольно признают, что они пьяницы и невежи; не знают сами, чего хотят, и кидаются из крайности в крайность; но им недостает того — весьма сложного — чувства патриотизма, которое присуще другим народам.
Я попытался проанализировать, из чего складывается мой патриотизм. Для меня много значат сами очертания Англии на карте, они вызывают в моей памяти множество впечатлений — белые скалы Дувра и изжелта-рыжее море, прелестные извилистые тропки на холмах Кента и Сассекса, собор Святого Павла, Темзу ниже Лондонского моста; обрывки стихов, благородную оду Коллинза, «Школяра-цыгана» Мэтью Арнольда, «Соловья» Китса, отдельные строки Шекспира, страницы английской истории — Дрейка с его кораблями, Генриха VIII и королеву Елизавету; Тома Джонса и доктора Джонсона; и всех моих друзей, и афиши на вокзале Виктория; и еще какое-то смутное ощущение величия, мощи, преемственности, ну и еще, бог весть почему, вид челна, на всех парусах пересекающего Ла-Манш, — «Куда ты, красавец-корабль, на белых летишь парусах», — покуда заходящее солнце, алея, закатывается за горизонт. Из этих и многих подобных им ощущений и соткано чувство, благодаря которому жертвовать собой не в тягость, оно состоит из гордости, тоски и любви, однако смирения в нем больше, чем высокомерия, и юмор ему не противопоказан. Допускаю, что Россия слишком велика для таких сокровенных чувств, в ее прошлом нет ни рыцарства, ни возвышенной романтики, в характере нет определенности, а литература слишком бедна и поэтому воображению не под силу охватить страну с ее историей и культурой в едином порыве чувства. Русские сообщат вам, что крестьянин любит свою деревню. Но за ее пределами его ничто не волнует. Читая о русской истории, поражаешься, как мало значит национальное чувство из века в век. Случаи, когда патриотизм вздымался волной и сметал захватчика, составляют исключения. Как правило, те, кого захват непосредственно не ущемлял, относились к нему с полным равнодушием. Не случайно Святая Русь так долго и покорно терпела татарское иго. Мысль о том, что Германия с Австро-Венгрией могут отхватить часть русских земель, не вызывает гнева; русские только пожимают плечами и изрекают: «С нас не убудет, Россия большая».
Моя работа близко свела меня с чехами — вот чей патриотизм не перестает меня удивлять. Это страсть, столь цельная и всепоглощающая, что вытесняет все другие. На мой взгляд, эти люди, пожертвовавшие всем ради дела, должны вызывать скорее страх, чем восхищение. И ведь их не два-три фанатика среди безропотного быдла, а десятки тысяч; они пожертвовали всем, что имели, — покоем, состоянием, жизнью ради независимости своей страны. Порядок у них, как в универсальном магазине, дисциплина — как в прусском полку. Большинство патриотов, которых я встречал среди моих соотечественников, как это ни прискорбно, рвались служить родине не без выгоды для себя (кто способен описать эту охоту за теплыми местечками, интриги, злоупотребление положением, зависть к ближнему, на которые тратила время нация, когда само ее существование было под угрозой), чехи же совершенно бескорыстны. Они так же не думают о вознаграждении, как мать не думает о выгоде, ухаживая за своим ребенком. Чех охотно соглашается на рутинную работу, когда другим предоставляют увлекательную, на мелкую должность, когда других назначают на ответственные посты. Как у всех людей, интересующихся политикой, у чехов есть и партии, и программы, но у них все подчинено одной цели — общему благу. И вот ведь что удивительно: в огромной чешской организации, действующей в России, все, от богатейшего банкира до ремесленника, жертвовали десятую долю своего дохода на общее дело в течение всей войны. Даже пленные, а один Бог знает, как они нуждались в этих жалких грошах, собрали несколько тысяч рублей.
* * *
Девяностые обращались исключительно к уму, а ум — это проточная вода, которая очищает все на своем пути, нынешняя же литература обращается к сердцу, — а что это, как не колодец, в котором вода загнивает. Литераторы тех лет выставляли свое сердце напоказ, наподобие причудливой орхидеи в окне Соломона, у наших же современников оно покоится в полоскательнице. Может быть, это и глупость — ярко и ослепительно вспыхнув, сгореть, но что за скука — стать хлебной подливой.
* * *
«Анну Каренину» я прочитал еще мальчишкой задолго до того, как начал писать сам, впечатления о романе у меня сохранились самые смутные, и когда много лет спустя я перечел его, уже как произведение искусства, с профессиональной точки зрения, оно показалось мне сильным и неожиданным, но несколько суровым и не согретым чувством. Потом я прочитал «Отцов и детей» по-французски; я слишком мало знал о России и не сумел оценить этот роман; диковинные имена, необычные характеры настраивали на романтический лад, но, как и на многих тогдашних романах, на нем сказалось влияние французской прозы тех лет, во всяком случае, на меня этот роман большого впечатления не произвел. Позже, заинтересовавшись Россией по-настоящему, я прочитал и другие романы Тургенева, но они оставили меня равнодушным. На мой вкус, их идеализм был чересчур сентиментальным, красоту же тургеневского слога, столь ценимую русскими, я в переводе не почувствовал и счел их вполне дюжинными. Лишь взявшись за Достоевского («Преступление и наказание» я прочитал в немецком переводе), я был озадачен и потрясен. Его роман так много мне открыл, что я прочитал один за другим все великие романы этого величайшего писателя России. И наконец, я прочитал Чехова и Горького. Горький оставил меня равнодушным. То, о чем он писал, было мне любопытно и ново, но сам он показался мне писателем некрупного дарования; его вполне можно читать, когда он без лишнего пафоса описывает жизнь низов, но мой интерес к трущобам Петрограда быстро иссяк; а его рассуждения и философические отступления представляются мне банальными. Талант Горького неотъемлем от его происхождения. Он писал о пролетариате, как пролетарий, в отличие от большинства авторов, трактовавших эту тему с буржуазной точки зрения. Чехов же, напротив, очень близок мне по духу. Вот настоящий писатель — не такой, как Достоевский, который, точно необузданная стихия, поражает, восхищает, ужасает и ошеломляет; а писатель, с которым можно сойтись. Я почувствовал, что именно он откроет мне загадку России. Он знал самые разные стороны жизни и знал их не понаслышке. Его сравнивали с Ги де Мопассаном, но, надо полагать, лишь те, кто не читал ни того, ни другого. Ги де Мопассан — умелый рассказчик, в вершинных достижениях блестящий, а любого писателя и следует судить по вершинам, но к жизни его рассказы прямого отношения не имеют. Наиболее известные его рассказы читать увлекательно, но они настолько искусственны, что в них лучше не вдумываться. Его герои — лицедеи, их трагедии — это трагедии марионеток, не живых людей. Взгляды Мопассана на жизнь, то есть подоплека поступков его героев, — убоги и пошлы. У Ги де Мопассана — душа сытого коммивояжера; и его слезы, и смех отдают провинциальной гостиницей, где собираются торгаши. Он сын мсье Омэ. Рассказы же Чехова читаешь, не обращая внимания на то, как они сделаны. Виртуозность Чехова не бросается в глаза, и может показаться, что эти рассказы написал бы каждый, вот только никто так не пишет — и это факт. У Чехова речь идет о том, что его взволновало, и он умеет передать это так, что его волнение передается читателю. И тот становится его соавтором. К чеховским рассказам неприложимо избитое определение «кусок жизни», потому что кусок — нечто, отрезанное от целого, чего о рассказах Чехова никак не скажешь; его рассказ — это сцена, увиденная как бы ненароком, и хотя показана лишь ее часть, понятно, чем она кончится.
Я был крайне несправедлив к Мопассану. Чтобы меня опровергнуть, хватит и одного «Заведения Телье».
Русские писатели так вошли в моду, что даже люди здравомыслящие склонны весьма преувеличивать достоинства некоторых из них лишь потому, что они пишут по-русски, и в итоге Куприну, к примеру, Короленко и Сологубу уделялось внимание, отнюдь ими не заслуженное. Сологуб, на мой взгляд, незначительный писатель, но сочетание чувственности и мистицизма, несомненно, делает его притягательным для определенного круга читателей. С другой стороны, во мне нет презрения к Арцыбашеву, которым щеголяют некоторые, — «Санин», на мой взгляд, книга, не лишенная достоинств; она пронизана солнцем, а это в русской литературе большая редкость. Герои Арцыбашева не месят слякоть; у него небо голубеет, ветки берез колышет приятный летний ветерок.
А вот что поражает каждого, кто приступает к изучению русской литературы, так это ее исключительная скудость. Критики, даже из числа самых больших ее энтузиастов, признают, что их интерес к произведениям, написанным до девятнадцатого века, носит чисто исторический характер, так как русская литература начинается с Пушкина; за ним следуют Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Достоевский; затем Чехов — вот и все! Люди ученые называют множество имен, но не приводят доказательств, чем они замечательны; человеку же со стороны достаточно проглядеть эти произведения, чтобы убедиться — он ничего не потерял, не прочитав их. Я попытался вообразить, что представляла бы собой английская литература, начнись она с Байрона, Шелли (я не допустил бы особой несправедливости, заменив Шелли Томасом Муром) и Вальтера Скотта; продолжись Диккенсом, Теккереем и Джордж Элиот; и закончись на Джордже Мередите. Первый результат: этих писателей очень возвеличили бы.
* * *
Именно потому, что у их литературы такая короткая история, русские знают ее досконально. Всякий, кто имеет привычку читать, прочитал все и так часто перечитывает, что знает эти произведения назубок, как мы версию Библии короля Якова I. А так как русскую литературу в основном составляют романы, словесность в России в жизни людей просвещенных играет куда большую роль, чем в других странах.
* * *
«Ревизор» в России пользуется невероятной славой. Он один заключает в себе всю русскую классическую драматургию. Точно так же как у нас все без исключения читали «Гамлета», так и каждый русский школьник читает «Ревизора»; его игра- ют по праздникам и на каникулы так же, как «Сида» в «Коме-ди Франсез». Для русских в этой одной-единственной банальной пьеске заключены Шекспир и елизаветинцы, Конгрив и Уичерли, Голдсмит и «Школа злословия». Имена ее персонажей стали нарицательными, и добрая сотня ее строк вошла в пословицу. При всем при том это до крайности ничтожный фарс, не хуже и не лучше, чем «Захолустье» Коцебу, которым он, вероятно, и был навеян. Это пьеса примерно такого же уровня, что «Ночь ошибок». Интрига не несет никакой нагрузки, персонажи ее — не характеры, а карикатуры. При всем желании в них нельзя поверить. Гоголю, меж тем, достало здравого смысла не вывести в пьесе ни одного умного и порядочного человека, чтобы не исказить созданной картины. Появись в этом сборище плутов и олухов человек честный или путный, это нарушило бы художественную цельность пьесы. Также и Конгриву достало ума поостеречься ввести человека добродетельного в компанию своих распутников. Удивляет не то, что Гоголь и его современники придавали такое значение этой смешной пьеске, — поражает, что ее так же высоко оценили критики, имеющие понятие о литературе Западной Европы. По большей части люди, знакомившие мир с Россией, плохо представляли другие страны; они восхищались некоторыми ее свойствами, как типично русскими лишь потому, что они отличны от английских, не зная того, что эти свойства — результат определенных условий жизни и соответственно присущи всем странам с примерно такими же условиями жизни. Чтобы хоть отчасти понять чужую страну, надо не только пожить и в ней, и в своей родной стране, но непременно хотя бы еще в одной. Арнольд Беннетт считал, что чашка кофе с булочкой на завтрак — специфически французский обычай, и переубедить его нельзя было никакими силами.
* * *
Природа не слишком щедро одарила меня, зато я обладаю силой воли, и это, в известной мере, помогло мне восполнить мои недостатки. Мне не откажешь в здравом смысле. Люди, в большинстве своем, почти ничего не замечают, я, напротив, с предельной ясностью вижу, что у меня под носом; самым великим писателям и кирпичная стена не мешает видеть насквозь. Мой взгляд не так всепроникающ. Многие годы меня изображали циником — я говорил правду. Я не хочу выдавать себя за кого-то другого и в то же время не склонен принимать на веру чужие притязания.
Человек, изучающий чужую страну, вряд ли заведет в ней очень много знакомых, а при разнице в языке и культуре, даже прожив там много лет, не сойдется с ними близко. Между англичанами и американцами — а у них языковые различия не так существенны — и то нет подлинного понимания. Возможно, людям легче узнать друг друга, если и детство, и воспитание у них были сходны. Человека формируют впечатления первых двадцати лет. Пропасть, разделяющая англичан и русских, широка и глубока. Языковый барьер трудно преодолеть, и это всегда будет препятствовать сближению. Даже если хорошо знаешь язык, все-таки знаешь его недостаточно хорошо, и люди не смогут забыть, что ты иностранец, и будут вести себя с тобой несколько иначе, чем друг с другом. Лишь чтение книг помогает понять иностранцев, и тут полезнее читать второстепенных писателей, чем первоклассных. Великие писатели творят; писатели скромного дарования воспроизводят. Чехов больше расскажет о русских, чем Достоевский. А когда сравниваешь людей, которых знаешь, с людьми, о которых читал, складывается мнение — возможно и не вполне соответствующее истине, но, во всяком случае, независимое, разумное и обоснованное.
* * *
У меня свое понимание того, как следует изучать язык. По-моему, вполне достаточно научиться бегло читать и поддерживать разговор на обыденные темы; совершенствоваться далее — перевод времени. Усилия, затраченные на то, чтобы изучить язык досконально, уйдут впустую.
* * *
В последнее время среди писательской братии стало модно всюду вставлять имя Божье, чтобы придать соразмерность фразе или эмоционально усилить абзац, они для выразительности используют Всевышнего. А теперь в него вцепились — еще бы чуть-чуть и опоздали — Д. Б. Шоу и Г. Д. Уэллс и рванули вперед, чтобы возглавить движение. Стать вождем идейного течения в ту пору, когда нет уже былой энергии, — нелегкое дело, и не удивительно, что оба выбились из сил.
Мне бы хотелось, чтобы какой-нибудь вдумчивый исследователь написал очерк, в котором выявил бы причины, обусловившие религиозное возрождение в английской словесности до войны. И вот ведь что любопытно: народа религиозное возрождение ни в коей мере не коснулось и церкви по-прежнему пустовали; не оказало оно серьезного воздействия и на более развитые и высоко образованные круги. Мужи юриспруденции и науки, торговцы и предприниматели, в целом, были настроены скептически; течение распространилось исключительно в литературной среде. Безусловно, просматривается некая связь с подобным течением во Франции, рождением своим обязанным преимущественно политическим причинам, — там почва для него была подготовлена поражением 1870 года: у поколения, выросшего после франко-прусской войны, жизненные силы ослабли, и это, естественно, обусловило их обращение к зере; Третья республика была антикатолической, и все, кто был ею недоволен, стали рьяными сторонниками католицизма; для многих религия отождествлялась с патриотизмом и величием Франции; и последнее соображение — наука не оправдала тех надежд, которые возлагали на нее люди недалекие, и, не получив ответа на свои вопросы, — пусть наука и не обещала дать на них ответ — многие ринулись в объятия церкви.
Каждое литературное течение во Франции находило подражателей в Англии, и у нас имелись такие литераторы, которые прослыли самобытными умами всего-навсего благодаря тому, что внимательно читали французские журналы. В Англии, в свою очередь, многие тоже пережили разочарование в науке. В университетах религия не сдала своих позиций. Там молодым людям исподволь втолковывали, что хороший тон требует верить в Бога. Вполне понятно, по каким причинам новое обращение к религии произошло главным образом среди литераторов: во-первых, люди религиозного склада, которые в прежние времена приняли бы духовный сан, теперь, когда профессия служителя церкви не в почете, отдали все свое время или часть его писательству; а во-вторых, писателей обуревает страсть к переменам, это — капризное, непостоянное племя, и приверженность к отживающей вере не только снабжала их новыми темами, яркими и впечатляющими, но и отвечала их склонности к романтическим порывам. А последние двадцать лет, как нам известно, любовь к романтике захватывала нас все упорнее и сильнее. Все мы искали Руританию на Бейсуотер-роуд. Потом разразилась война, и от горя, страха и растерянности многие обратились к вере. Они утешали себя в потере людей, которыми не очень-то дорожили при жизни, верой во всемогущего, всемилостивого и всеведущего Создателя. Однажды, на море, я решил, что мне грозит гибель, с моих губ чуть не сорвались слова молитвы — останки забытой детской веры, и мне пришлось напрячь всю волю, чтобы подавить свой порыв и бестрепетно посмотреть в лицо надвигающейся опасности. Еще минута, и я бы поверил в Бога, но тут мое чувство юмора восстало и помогло мне преодолеть страх. В «Бремени страстей человеческих» я попытался описать, почему утратил пламенную веру моего детства, но изобразить нечто подобное точно очень трудно, и результат меня не удовлетворил. Хотя у меня конкретный склад ума и в сфере абстракций моя мысль вянет, у меня есть пристрастие к метафизике, и я прихожу в полный восторг от того, какие рискованные кунштюки выкидывают философы, когда речь заходит о непостижимом. Я прочел много философских трудов и, хотя некоторые теории относительно Абсолюта представляются мне приемлемыми в интеллектуальном плане, я не нахожу в них ничего такого, что побудило бы меня поступиться моим инстинктивным неверием во все, что обычно обозначается словом религия. Меня раздражают писатели, которые тщатся примирить метафизическую концепцию Абсолюта с христианским Богом. Но даже если бы у меня и были какие-то колебания, война решительно покончила бы с ними.
* * *
Каждый, кто совершает экскурсы в русскую жизнь или русскую литературу, не может не заметить, какое большое место занимает в них глубокое чувство греховности. Русский не только постоянно твердит, что он грешен, но, судя по всему, ощущает свою греховность и глубоко страдает от угрызений совести. Черта любопытная, и я пытался найти ей объяснение.
Разумеется, в церкви мы признаем, что мы жалкие грешники, отнюдь в это не веря; здравый смысл нам подсказывает, что никакие мы не грешники: у всех у нас были ошибки, все мы совершали поступки, о которых сожалеем, но мы прекрасно знаем, что не делали ничего такого, чтобы бить себя в грудь или скрежетать зубами. В большинстве своем мы люди довольно приличные и стараемся вести себя как можно лучше в том состоянии, которое нам выпало по воле случая; и если и верим в Страшный суд, то понимаем, что у Бога достанет мудрости и здравого смысла не беспокоиться из-за проступков, которые и мы-то, смертные, без особого труда прощаем нашим близким. Не то чтобы мы были так уж довольны собой: в общем и целом, у нас вполне хватает смирения, но мы заняты непосредственными делами и не слишком заботимся о наших душах. Русские, как мне кажется, непохожи на нас. Они более склонны к самоанализу, чем мы, чувство греховности у них обострено. Оно и в самом деле переполняет их, и они готовы, облачившись в рубище и посыпав главу пеплом, рыдая и вопия, каяться в прегрешениях, которые никоим образом не смутили бы нашу менее чувствительную совесть. Дмитрий Карамазов считает себя великим грешником, и Достоевский видит в нем человека необузданных страстей, чьей душой овладел Диавол; но, если взглянуть на него более трезво, он предстанет не таким уж закоснелым грешником: он играл в карты, пил без удержу, а напившись, бушевал и буянил; его обуревали плотские страсти, он был вспыльчив и не всегда владел собой; был порывист и опрометчив; вот, пожалуй, и все его грехи. Мсье де Вальмон и лорд Джордж Хелл — до того, как любовь превратила его в счастливого лицемера, — оба отнеслись бы к его проступкам с добродушием, не без примеси презрения. Кстати, русские не такие уж большие грешники. Они ленивы, несобранны, слишком словоохотливы, плохо владеют собой и поэтому чувства свои выражают более пылко, чем они того заслуживают, но, как правило, они незлобивы, добродушны и не злопамятны; щедры, терпимы к чужим недостаткам; плотские страсти, пожалуй, не захватывают их с такой силой, как испанцев или французов; они общительны, вспыльчивы, но отходчивы. И если русских угнетает сознание своей греховности, то не потому, что они виновны в бездействии или злодействе (кстати говоря, они, по преимуществу, склонны упрекать себя в первом), а из-за некой физиологической особенности. Почти все, кому довелось побывать на русских вечеринках, не могли не заметить, как уныло русские пьют. А напившись, рыдают. Напиваются часто. Вся нация мучается с похмелья. То-то была бы потеха, если бы водку запретили и русские в одночасье потеряли те свойства характера, которые так занимают умы склонных к сентиментальности западных европейцев.
* * *
У меня не вызывает ничего, кроме ужаса, вошедший недавно в моду культ страдания в литературе. Отношение к нему Достоевского мне претит. В свое время я видел немало страданий, немало перестрадал и сам. Когда я учился медицине, проходя практику в палатах больницы Св. Фомы, у меня была возможность видеть, как влияет страдание на самых разных пациентов. Во время войны мне вновь выпал подобный опыт, довелось мне видеть и какое воздействие оказывают душевные страдания. Заглядывал я и себе в душу. Не помню случая, чтобы страдание сделало человека лучше. Мнение, будто страдание совершенствует и облагораживает, — выдумка.
Прежде всего страдание сужает кругозор. Сосредотачивает на себе. И свое тело и все, что тебя непосредственно окружает, приобретают непомерную важность. Человек становится раздражительным и сварливым. Придает значение пустякам. Я перенес и бедность, и муки неразделенной любви, и разочарование, и крах иллюзий, и неудачно складывавшиеся обстоятельства, и непризнание, и притеснения — и знаю, что это делало меня недобрым, брюзгливым, эгоистичным, несправедливым; благополучие же, успех, счастье делали меня лучше. Здоровый человек использует все, что ему дано природой, он счастлив сам и дает счастье другим; избыток жизненных сил позволяет ему применять и развивать дарования, отпущенные ему природой; мужающий ум обогащает и делает более изощренной мысль; воображение дает власть над временем и пространством; для чувств по мере их воспитания открывается красота мира. И человек наиболее полно развивает свои способности. Страдание же, напротив, подавляет жизненные силы. Оно не совершенствует человека в нравственном отношении, а огрубляет его; страдания не возвеличивают, а умаляют. Нельзя отрицать, что порой страдание учит терпению, а терпение укрепляет характер. Но терпение не есть добродетель. Оно лишь средство достижения цели, не более того. Для тех, кто стремится к великим свершениям, терпение крайне необходимо, но терпение, проявляемое при осуществлении мелких дел, не внушает большого уважения. Мост Ватерлоо сам по себе ничего особенного не представляет; он всего-навсего соединяет два берега Темзы, и для нас важен лишь потому, что по обеим его сторонам простирается Лондон. Вряд ли станешь восхищаться человеком, с неимоверным терпением собирающим почтовые марки. Проявленное терпение не делает это занятие менее пустяковым.
* * *
Считается, что страдание вырабатывает смирение, смирение же представляется выходом из всех жизненных трудностей. Однако смирение означает сдачу на милость враждебной прихоти случая. Смирение приемлет «пращи и стрелы яростной судьбы» и нарекает их благом. Это добродетель побежденных. Более храбрая душа отринет смирение, будет неустанно противостоять обстоятельствам и, даже осознавая, что борьба бесполезна, не сложит оружия. Бываем поражения не миновать, но поражение без борьбы — это двойное поражение. Для некоторых прикованный к скале Прометей, сильный своей неустрашимостью, — более вдохновляющий пример, чем тот, кто, будучи распят на позорном кресте, молил отца своего простить его врагов, «ибо не ведают, что творят». Для пылкого ума смирение — примерно то же, что малодушие. Порой оно заставляет покориться тому, чему и не нужно, и не должно покоряться. Только раб пытается превратить недостаток храбрости в основание для самодовольства. И хотя человеку не суждено разорвать связывающие его путы, пусть он останется, невзирая ни на что, бунтарем; и хотя его мучат холод и голод, болезни, нищета, одиночество, хотя он знает, что ему предстоит, что тьма никогда не рассеется, пусть он никогда не думает, что холод и голод, болезни и нищета — во благо; и хотя у него нет сил вести безнадежную борьбу, пусть не угаснет последняя искра свободы, тлеющая в его сердце: она дает ему право сказать, что страдания — лишь во вред.
* * *
У русских есть явное преимущество перед нами: они не так подчиняются условностям, как мы. Русскому никогда не придет в голову, что он должен делать что-то, чего не хочет, только потому, что так положено. Почему он веками так покорно переносил гнет (а он явно переносил его покорно, ведь нельзя представить, чтобы целый народ мог долго терпеть тиранию, если она его тяготила), а потому что, невзирая на политический гнет, он лично был свободен. Русский лично куда более свободен, чем англичанин. Для него не существует никаких правил. Он ест, что ему нравится и когда заблагорассудится, одевается, как вздумается, невзирая на общепринятую моду (художник ничтоже сумняшеся может надеть котелок и крахмальный воротничок, а адвокат — сомбреро); свои повадки он считает настолько само собой разумеющимися, что и окружающие так их воспринимают; и хотя нередко он разглагольствует из желания покрасоваться, он никогда не стремится казаться не тем, кто есть, лишь склонен чуточку прихвастнуть; его не возмущают взгляды, которых он не разделяет; он приемлет всё и в высшей степени терпим к чужим чудачествам как в образе мыслей, так и в поведении.
* * *
В русских глубоко укоренено такое свойство, как мазохизм. Захер-Мазох, славянин по происхождению, первый привлек внимание к этому недугу в сборнике рассказов, ничем прочим не примечательных. Судя по воспоминаниям его жены, он и сам был подвержен тому состоянию, о котором писал. Вкратце речь идет вот о чем: мужчина жаждет, чтобы любимая женщина подвергала его унижениям как телесным, так и духовным. К примеру, Захер-Мазох настоял, чтобы его жена уехала путешествовать с любовником, а сам, переодевшись лакеем, прислуживал им, терзаясь ревностью. В своих произведениях Захер-Мазох неизменно выводит женщин крупных, сильных, энергичных, дерзких и жестоких. Мужчин они всячески унижают. Русская литература изобилует подобными персонажами. Героини Достоевского принадлежат к этому же типу повелительниц; мужчин, их любящих, не привлекают ни нежность, ни кротость, ни мягкость, ни обаяние; напротив, надругательства, которые они претерпевают, доставляют им чудовищное наслаждение. Они жаждут, чтобы их попирали. Тургеневские героини обладают умом, живым характером, энергией и предприимчивостью, герои же его — слабовольные мечтатели, неспособные ни к каким действиям. И так во всей русской литературе, что, как мне представляется, соответствует глубоко укорененным свойствам русского характера. Каждого, кто жил среди русских, поражает, как женщины помыкают мужчинами. Они, похоже, получают чуть ли не плотское наслаждение, унижая мужчин на людях; манера разговаривать у них сварливая и грубая; мужчины терпят от них такое обращение, какое стерпел бы мало кто из англичан; видишь, как лица мужчин наливаются кровью от женских колкостей, но ответить на оскорбления они даже не пытаются — они по-женски пассивны, слезливы.
* * *
В жизни русских большую роль играет самоуничижение, оно им легко дается; они смиряются с унижением, потому что, унижаясь, получают ни с чем не сравнимое чувственное наслаждение.
* * *
В русской литературе поразительная скудость типов. Встречаешь одних и тех же людей под разными именами в произведениях не только одного писателя, но и разных авторов. Алеша и Ставрогин — два наиболее примечательных и четко обозначенных типа. Они, похоже, неотступно будоражат воображение русских писателей: рискну предположить, что они представляют две стороны русского характера, — эту пару в той или иной мере ощущает в себе каждый русский. Возможно, именно сочетание двух столь непримиримых начал делает русских такими неуравновешенными и противоречивыми.
Юмор — вот что помогает уловить отличия в бесконечном разнообразии людских типов, и уж не потому ли русские романы так небогаты типами, что им поразительно недостает юмора. В русской словесности напрасно будешь искать острот или колких реплик, игривой болтовни, кинжального удара сарказма, интеллектуально освежающей эпиграммы или беззаботной шутки. Ирония в ней груба и прямолинейна. Если русский смеется, он смеется над людьми, а не вместе с ними; он издевается над причудами истерических женщин, нелепыми нарядами провинциалов, выходками пьяных. Смеяться вместе с ним невозможно: его смех отдает невоспитанностью. Юмор Достоевского — это юмор трактирного завсегдатая, привязывающего чайник к собачьему хвосту.
* * *
Не припомню русского романа, в котором хоть один из персонажей посетил бы картинную галерею.
* * *
Откровение, которое русские преподнесли миру, на мой взгляд, не отличается большой сложностью: тайну вселенной они видят в любви. Ее противоположностью они считают своеволие — соперничающую, но злую силу; русские романисты без устали показывают, к каким бедствиям оно приводит тех, кто не в силах с ним совладать. Своеволие чарует их, как женщин — Дон Жуан, однако его сатанинская сила преисполняет их ужасом; вместе с тем они относятся к нему с сочувствием и влекутся к нему, как Христос в «Небесном псе» к заблудшей душе. Они недооценивают его целеустремленность. Полагают, что оно борется с самим собой, и уверены, что где-то в самой сокровенной его глубине тлеет искра той любви, которая снедает и их сердца. Они ликуют, подобно сонмам поющих ангелов, когда оно, признав свое поражение, с мольбой кидается на их истомившуюся грудь, а буде оно откажется в конце концов упасть в их распростертые объятия, они, как добрые христиане, обрекут его «на тьму внешнюю» и «скрежет зубов».
Но, противопоставляя любовь и своеволие, Россия всего лишь противопоставляет два романтических вымысла. Оба они мнимость, и их принимают за нечто другое лишь потому, что они невероятно обостряют наше восприятие жизни. Впрочем, у русских все начинается и кончается чувством. Любовь, если она деятельная, перенимает некоторые свойства своеволия, а раз так, ее никоим образом нельзя противопоставлять своеволию в качестве взаимоисключающего ответа на загадку бытия; однако именно пассивная сторона любви, ее жертвенность и смирение притягательны для русских, в них они обретают искомый ответ на мучающую их тайну. К мысли это явно не имеет никакого касательства, здесь происходит капитуляция мысли перед чувством; когда русские говорят, что загадка вселенной в любви, они признают, что перестали искать ее разгадку. Поразительно, что русские, которых так занимает человеческая судьба и смысл жизни, решительно неспособны к метафизическим рассуждениям. У них не появилось ни одного философа хотя бы второго разряда. Они, похоже, не могут четко и глубоко мыслить. В умственном отношении все они заражены обломовщиной. Интересно задаться вопросом, почему это русское откровение имело такой успех в Европе. Идея главенства любви получила хорошую прессу. Самые разные писатели пленились им и сознательно или нет, но подпали под его влияние. Откровение это явилось как нельзя более кстати. Мир разочаровался в науке. Франция, где рождается большинство интеллектуальных течений, увлекающих западный мир, испытывала усталость после пережитого унижения. Натуралистическая школа выдохлась и заштамповалась; Шопенгауэр и Ницше утратили прелесть новизны. Появился обширный класс людей образованных, интересующихся метафизическими вопросами, которым, однако, не достало как образования, так и терпения, чтобы изучить труды метафизиков: мистицизм витал в воздухе; и когда этим людям внушали, что любовь способна разрешить все их сомнения, они весьма охотно поверили в это. Они, как им думалось, понимают, что это значит: ведь любовь — понятие многозначное, и каждый мог выбрать то значение, которое не противоречит его опыту; а мысль, что в этом знакомом чувстве каким-то образом заключается ответ на роковые вопросы, так их обрадовала, что они с готовностью увидели в любви объяснение всему. Они и не подозревали, что судят о бараньей ноге по меркам, приложимым к цилиндру. У одних это откровение совпадало с верой, от которой они никогда не отрешались, у других оно восстанавливало веру, от которой они отреклись головой, но не сердцем. Нельзя забывать и о том, что любовь — благодарная тема для краснобайства.
* * *
Прочел работу X. о Достоевском. Нечто подобное могла бы сочинить в период климакса засидевшаяся в девках дочь священника. Не вижу причин, почему нельзя относиться к Достоевскому здраво. Вовсе не обязательно, читая роман, впадать в религиозный раж, подобно монахине, созерцающей Святое причастие. Захлебываясь от восторга, наводишь скуку на других и себе пользы не приносишь. По-моему, лучший комплимент предмету твоего восхищения — смотреть на него трезво, а не быть от него в такой же зависимости, как пьяница от стакана джина. Мне кажется, что если бы писатель мог покорять умы своих читателей, он охотнее попускал бы тем, кто пленяет их сердца. Вольтеру, без всякого сомнения, принадлежит более высокое место в сонме усопших, нежели мистеру Муди или даже мистеру Сэнки. Мне бы хотелось, чтобы кто-то взял на себя труд проанализировать приемы Достоевского. Я думаю — хотя читатели этого не осознают, — что он воздействует на них не в последнюю очередь благодаря своеобразию своей манеры. Бытует мнение, что он посредственный романист, но это не так, романист он замечательный, и некоторые приемы использует с огромным искусством. Любимый его прием — это соединить главных героев для обсуждения какого-то дела, настолько невероятного, что разобраться в нем нет никакой возможности. Достоевский ведет читателя за собой к пониманию сути дела с ловкостью Габорио, распутывающего загадочное преступление. Бесконечные разговоры героев захватывающе увлекательны, и он с большой изобретательностью еще усиливает напряжение: герои, хотя разговор ведется крайне несущественный, выходят из себя, трясутся от волнения, их лица зеленеют, бледнеют, искажаются от ужаса, так что самые обыкновенные слова приобретают значение, которого никак нельзя вывести из разговора; вскоре читатель так ошарашен диким поведением героев, до того взвинчен сам, что его ошеломляет событие, в ином случае вряд ли бы его взволновавшее. Чей-то неожиданный приход, некая новость. Достоевский слишком хороший романист, чтобы гнушаться совпадениями, и его герои в критические моменты неизменно оказываются в нужном месте. Это прием Эжена Сю. Не вижу здесь большого греха. Все приемы хороши, коли есть талант. Расин сумел выразить всю гамму человеческих страстей, хотя его жестко ограничивала условность александрийского стиха, а Достоевский на материале мелодрамы создал бессмертные произведения искусства. Но такому мастеру, как Достоевский, подражать трудно, и достохваль-ным авторам, которые метят в английские Достоевские, очень повезет, если им удастся стать бледной копией Эжена Сю.
Порой Достоевский использовал этот метод чисто механистически, тогда его персонажи неистовствуют без всяких на то причин, и громы и молнии, которые они мечут, — не более, чем грохот железного листа, по которому катают шарик. В этих случаях персонажи Достоевского также неестественны, как фигуры на картинах художников болонской школы. Их поступки ходульны.
Мне не кажется, что образам, созданным Достоевским, свойственна большая тонкость. Его персонажи мало чем отличаются друг от друга. Величайшие романисты, по крайней мере, давали понять, сколь разные чувства соседствуют в груди одного человека. Его герои неизменно одинаковы. Они походят на «характеры», которые так любили писать в XVII веке: вот — человек из железа, с головы до ног из железа, вот — ветреница, ветреница с головы до ног, вот — святой, святой с головы до ног; они — страсти, достоинства и недостатки, воплощенные и подмеченные с удивительной живостью, и лишь изредка — люди. Западная Европа простодушно сочла, что русские такие и есть, но русские, которых мне довелось встречать, не слишком отличаются от остальных представителей человечества. И у железного человека есть свои слабости, и ветреница порой обладает добрым сердцем, и у святого встречаются изъяны. Читая Достоевского, не испытываешь того высшего наслаждения, которое доставляет романист, объединяя в одном персонаже доблесть и низость, бесконечную противоречивость и сумбурное богатство человеческой натуры. Героя, с таким прихотливым и сложным характером, как Жюльен Со-рель, Достоевскому создать не удалось.
Человек настолько сложен, что может служить символом Абсолюта, который, как нас уверяют, заключает в себе все — страдание и радость, перемены, время и пространство в своей бесконечной неразгаданности. А вот персонажи Достоевского точно заимствованы из моралите. Они кажутся сложными, потому что совершают непонятные поступки, но при ближайшем рассмотрении убеждаешься, что они до крайности просты и неизменно действуют по шаблону.
* * *
Достоевский напоминает Эль Греко, и если Эль Греко представляется мне художником большего масштаба, то, пожалуй, лишь потому, что и его эпоха, и его среда благоприятствовали полному расцвету своеобразной гениальности, присущей обоим. Оба наделены даром делать незримое видимым; оба были людьми неуемных, бурных страстей. Оба, судя по всему, шли непроторенными тропами в тех областях духа, где не дышат воздухом обыденности. Обоих терзало желание передать некую страшную тайну, которую они постигли каким-то шестым чувством, и напрасно тщились передать ее с помощью наших пяти чувств. Оба отчаянно пытались вспомнить кошмар, который жизненно важно вспомнить, но вспомнить никак не удается, хоть он и брезжит в сознании. Как и у Эль Греко, у Достоевского люди, населяющие огромные полотна, — крупнее, чем в жизни, они тоже выражают свои чувства неожиданными и прекрасными жестами, но смысл этих жестов ускользает. Оба они гениально владели великим искусством — искусством выразительного жеста; Леонардо да Винчи, а он знал в этом толк, утверждал, что для портретиста нет ничего важнее.
* * *
Своей репутацией «Воскресенье» обязано репутации автора. Искусство в этом романе уступило место нравственной проповеди. Роман скорее походит на трактат. Тюремные эпизоды, рассказ об этапе арестантов неудачны, кажутся написанными на скорую руку; но талант Толстого столь огромен, что виден и в этом романе. На редкость удачны описания природы, и реалистические, и поэтические одновременно; а по умению передать запахи деревенской ночи, зной полдня, таинство рассвета — в русской литературе ему нет равных. В искусстве создавать характеры он достиг невероятной силы, и в Нехлюдове, — хотя не исключено, что Толстой написал характер, несколько отличный от первоначально замысленного, — с его мистицизмом, неумением довести что-либо до конца, сентиментальностью, бестолковостью, бесхребетностью и упрямством, он создал тип, в котором большинство русских узнает себя. Однако если рассматривать роман с точки зрения техники, самое удачное в нем — колоссальная галерея второстепенных персонажей: кое-кто из них промелькнет лишь на одной странице, зачастую они описаны всего в трех-четырех строках с такой четкостью и своеобразием, от которых любой писатель придет в восторг. Второстепенные персонажи и в шекспировских пьесах по большей части не прописаны: это — имена, которым дано определенное количество реплик, не более того; и актеры — а многие из них к этому очень чутки — расскажут, как трудно придать таким марионеткам хоть какую-то индивидуальность; а вот Толстой наделил каждый персонаж и жизнью, и характером. И зоркий толкователь может представить прошлое и предсказать будущее даже бегло набросанных персонажей.
* * *
Читал Тургенева. Нет второго писателя, который сделался бы так знаменит на таких несущественных основаниях. Он, как никто, обязан известностью тому преувеличенному почтению, с которым русские относятся к своей литературе. Он принадлежит к той же школе, что Октав Фейе или Шербюйе, у него те же основные достоинства: благонравная чувствительность и легковесный оптимизм самодовольного ума. Интересно было бы узнать, что думали о нем в литературных кругах Парижа, где он, судя по всему, был заметной фигурой благодаря своей стати и происхождению. Он был знаком с Флобером и Мопассаном, Гонкурами, Гюисмансом и тем кружком, который собирался в гостиной принцессы Матильды. Чтение Тургенева успокаивает. Его книги не так распаляют любопытство, чтобы заглядывать в конец, с ними расстаешься без сожаления. Читая Тургенева, словно путешествуешь по реке — спокойно, неспешно, без приключений и волнений. Говорят, он затронул темы, которые в условиях русской политической жизни опасно было затрагивать (притом, что писал из безопасного парижского далека и мог бы себе позволить сравняться в смелости с Герценом или Бакуниным), и когда один из его героев оседает в деревне, похоже, русские читатели воспринимали это как намек на участие в революционном движении, что вызывало их живейший восторг; впрочем, к литературе это никак не относится, и политические соображения не могут сделать из плохой книги хорошую, так же как необходимость содержать семью и детей не может превратить халтуру в произведение искусства. Основное достоинство Тургенева — его любовь к природе, и его нельзя винить в том, что он описывает ее в духе своего времени, не столько передавая чувства, которые она у него вызывает, сколько перечисляя всевозможные звуки, запахи и виды; описания его исполнены изящества и прелести. Сцены провинциальной жизни дворянских семей в царствование Александра II не лишены приятности, а удаленность от нашего времени сообщает им ироничность и исторический интерес. Но характеры у него шаблонные, галерея созданных им героев небогата. В каждой его книге встречаешь одну и ту же молодую девушку, серьезную, благородную и волевую, ту же бесцветную мамашу, того же речистого, неспособного к действию героя; второстепенные персонажи у него также расплывчаты и невыразительны. Во всех его произведениях есть лишь один персонаж, который продолжает жить своей жизнью и тогда, когда книга прочитана, — это туша Увар Иванович Стахов из «Накануне». Он играет перстами и апоплектически косноязычен. Но что должно поразить читателя в первую очередь — это крайняя банальность сюжетов. «Дворянское гнездо» — история человека, несчастного в браке: он влюбляется в девушку и, когда до него доходит слух о смерти жены, делает ей предложение, однако жена объявляется и влюбленные расстаются. «Накануне» — история девушки, которая влюбляется в молодого болгарина. Он заболевает, они женятся; у него открывается чахотка, и он умирает. Если бы в первом случае герой принял элементарные меры предосторожности и написал своему поверенному, чтобы удостовериться, действительно ли жена умерла, а во втором, если бы герой надел пальто, когда поехал хлопотать насчет паспорта, тут всей истории и конец. Можно провести поучительную параллель между Тургеневым и Энтони Троллопом — сравнение это во всех отношениях, за исключением стиля, будет не в пользу Тургенева. Английский писатель лучше знает жизнь, он не так однообразен, у него лучше чувство юмора, шире кругозор, характеры более разнообразны. У Тургенева нет сцены, так западающей в память, как та, в которой епископ Прауди стоит на коленях у постели своей покойной жены и молит, чтобы Господь не попустил его обрадоваться ее смерти.
Крайне недальновидное суждение. У Тургенева нет ни мучительных страстей Достоевского, ни масштаба и безбрежного сострадания к человеку Толстого, это верно, зато у него есть свои достоинства — обаяние, изящество, лиризм, В нем есть элегантность и своеобразие — замечательные свойства, что то, что другое — здравый смысл и удивительное ощущение природы. Даже в переводе видно, какой у него прекрасный слог. Он никогда не перехлестывает через край, не фальшивит, не впадает в занудство. Он не пророк и не проповедник; ему довольно того, что он писатель, исключительно и только писатель. Вполне вероятно, что будущее поколение сочтет Тургенева самым великим из этой триады.
* * *
Могила Достоевского. Вокруг нее аккуратная чугунная ограда, земля аккуратнейшим образом посыпана песком. В одном углу ограды помешается большой круглый ящик со стеклянной стенкой — в нем огромный венок из искусственных цветов, чопорных белых роз и ненатурально крупных ландышей; венок перевязан пышным бантом, по длинной шелковой ленте вьется надпись золотыми буквами. Уж лучше бы могила, была заброшена и усыпана опавшими листьями, как могилы вокруг нее. В опрятности есть нечто удручающе пошлое. Бюст помещается у гранитной стелы — это громоздкая плита, на ней высечены бессмысленные эмблемы, от нее хочется побыстрее отойти: впечатление такое, что она вот-вот рухнет. У Достоевского лицо, опустошенное страстями. Купол лба колоссален и неминуемо наводит на мысль о том, что в нем умещается целый мир — ужасное скопище его персонажей. У него большие, торчащие уши с мясистыми мочками — свидетельство чувственности; рот тоже чувственный, губы сморщены жестокой гримасой — такие гримасы видишь у обиженных детей; проваленные щеки, виски глубоко запавшие; борода и усы длинные, клочковатые, запущенные; длинные жидкие волосы; на лбу большая родинка, на щеке еще одна. На лице написана мука, до того страшная, что так и тянет отвернуться, но не тут-то было — оторвать от него глаза невозможно. Внешность у Достоевского еще более пугающая, чем его произведения. У него вид человека, который побывал в аду и увидел там не безысходную муку, а низость и убожество.
* * *
Невский проспект. Бонд-стрит, узкая и извилистая, подобно средневековой улице, напоминает о городе, куда в сезон съезжались знатные дамы; именно здесь, на Бонд-стрит, последняя герцогиня Кливлендская отодрала за уши своего лакея. Рю де ля Пэ присущ блеск Второй империи: она широкая, красивая, холодно величавая и, невзирая ни на что, веселая — можно подумать, что тени Коры Перл и Гортензии Шнайдер все еще радостно улыбаются, любуясь подаренными им драгоценностями. На Пятой авеню тоже царит веселье, но веселье совсем иного рода, это веселье от хорошего настроения; Пятая авеню великолепна безмерным, бесхитростным весельем юности в ее самую жизнерадостную пору. Хотя каждая улица имеет свой характер и неотъемлема от своего города, эти прославленные улицы роднит одно — их роскошь носит цивилизованный характер; они достойно представляют стабильное, уверенное в себе общество. Но из всех них наиболее ярко выраженный характер имеет Невский проспект. Он грязный, унылый, запущенный. Очень широкий и очень прямой. По обеим его сторонам невысокие однообразные дома, краска на них пожухла, в архитектурном отношении они мало интересны. Можно подумать, Невский проспект застраивали кто во что горазд, вид у него — хоть мы и знаем, что строители строго следовали плану — какой-то незавершенный: он напоминает улицу где-нибудь на западе Америки, наспех построенную в разгар бума и захиревшую, когда бум прошел. Витрины магазинов забиты жалкими изделиями. Нераспроданные товары разорившихся пригородных лавчонок Вены или Берлина — вот что они напоминают. Густой людской поток беспрерывно течет взад-вперед. Пожалуй, именно толпа определяет характер Невского. Если на других улицах в толпе встречаются по преимуществу люди одного слоя общества, то здесь — самых разных; разгуливая по Невскому, кого только ни увидишь — и солдат, и моряков, и студентов, и рабочих, и предпринимателей, и крестьян; они без умолку разговаривают, образуют толчею вокруг газетчиков, продающих свежий выпуск. Толпа производит впечатление добродушной, покладистой и покорной; не могу представить, чтобы она была способна наподобие пылких парижан вмиг перейти к бесчинствам и насилию; также не могу поверить, чтобы они вели себя, как толпа во время Французской революции. Кажется, что для этих мирных людей, которым хочется развлечься и покуролесить, житейские события — не более, чем приятная тема для разговора. К дверям мясных и булочных в эти дни тянутся длиннейшие очереди; повязанные платками женщины, мальчишки и девчонки, седобородые старики и изможденные юноши ждут час за часом, безропотно ждут.
Больше всего меня удивляет в здешней толпе разнообразие людских типов; в них нет внешней схожести, как правило, свойственной толпе других стран; уж не тем ли это объясняется, что здесь на лицах более откровенно отражаются обуревающие людей страсти; здесь лицо — не маска, а опознавательный знак, так что, когда гуляешь по Невскому, перед тобой проходит галерея персонажей великих русских романов, и можно назвать их одного за другим. Тут встретишь губастого, толстомордого торговца с окладистой бородой, плотоядного, громогласного, грубого; бледного мечтателя с ввалившимися щеками и землистым цветом лица; коренастую простолюдинку с лицом начисто лишенным выражения — ни дать ни взять инструмент, на котором может сыграть любой, кому заблагорассудится, и тебе вдруг открывается, какую жестокость таит женская нежность. Похоть разгуливает в открытую, как олицетворенный порок из средневековых моралите, о бок с добродетелью, гневом, кротостью, обжорством. Русские вечно твердят, что миру точно так же не дано понять их, как им самих себя. Они слегка кичатся своей загадочностью и постоянно разглагольствуют о ней. Не берусь объяснить вещи, объявленные множеством людей необъяснимыми, однако задаюсь вопросом: а что, если отгадка скорее проста, нежели сложна. Есть нечто примитивное в том, как безраздельно властвует над русскими чувство. У англичан, к примеру, характер — это прочная основа, чувства влияют на нее, но и она в свою очередь оказывает на них воздействие; похоже, что русских любое чувство захватывает всецело, они полностью подчиняются ему. Их можно уподобить эоловым арфам, на которых какие только ветры какие только мелодии не наигрывают, — вот откуда впечатление, будто это инструмент немыслимой сложности.
* * *
Я часто вижу, как на Невском над толпой маячит необычное, жутковатое существо. В нем нет почти ничего человеческого. Этот крохотный уродец неловко взгромоздился на нечто вроде небольшого сидения, приколоченного к концу толстого шеста, достаточно длинного, чтобы вознести уродца над головами прохожих; несет шест кряжистый крестьянин — он собирает милостыню у сердобольных прохожих. Карлик восседает на шесте наподобие чудовищной птицы, его голова смахивает на птичью, что еще усугубляет сходство; но вот какая странность — это юношеская голова с крупным орлиным носом и дерзким ртом. Большие довольно близко поставленные глаза смотрят в упор, не мигая. Виски впалые, лицо изнуренное, осунувшееся. Непривычная красота его черт тем более удивительна, что у русских черты лица, по большей части, расплывчатые, приплюснутые. Голова карлика напоминает голову древнего римлянина в музее скульптур. Мне чудится нечто зловещее в том, как он, застыв, пристально, наподобие хищной птицы, смотрит на толпу, ничего не видя, и его злобный, дерзкий рот кривит сардоническая улыбка. В отстраненности уродца есть нечто пугающее, в ней сквозит презрение вперемешку с безразличием, коварство вперемешку с терпимостью. Чем не гений иронии, созерцающий род людской. Люди снуют взад-вперед, опускают в котомку крестьянина монеты, марки, бумажные деньги.
* * *
Александро-Невская лавра. Чем ближе к концу, тем более убогим и серым становится Невский. Дома замызганные — такие встречаются на окраинах, — за их стенами чудятся мрачные тайны, но вот улица обрывается, оставляя впечатление незаконченной, и ты упираешься в монастырские ворота. Входишь. По обе стороны раскинулись кладбища, пересекаешь узкий канал, и перед тобой открывается поразительный вид. Просторный квадрат двора. Он порос такой свежей, такой зеленой травой, какую видишь лишь в деревне. С одной стороны церковь и собор, вокруг них приземистые белые монастырские корпуса. Их архитектура отличается своеобразной изысканностью: украшены они весьма скромно и тем не менее оставляют впечатление пышности; я бы уподобил их голландской даме семнадцатого века, в неброском, но дорогом черном наряде. В них есть строгость, но нет ханжества. На березах каркают грачи, и воображение перенесло меня в ограду Кентерберийского собора: там тоже каркали грачи; этот звук всегда навевает на меня грусть. Мне вспоминается детство — из-за своей застенчивости я был несчастен, чувствовал себя одиноким в компании сверстников, но, несмотря на это, смутные мечты о будущем делали мою жизнь на редкость богатой. В небе повисли такие же серые тучи. На меня нахлынула тоска по дому. Я стоял на ступенях православной церкви, смотрел на длинный ряд монастырских корпусов, оголившиеся ветки берез, а видел длинный неф Кентерберийского собора с его подпорными арками и центральную колокольню, и моему затуманенному взору представлялось, что величественнее и прекраснее ее нет колокольни в Европе.
* * *
С революцией началось движение за отказ от чаевых. Лакеи в ресторанах, коридорные в гостиницах вместо чаевых требовали определенный процент от суммы счета. Им мнилось, что чаевые унижают их человеческое достоинство. По привычке им продолжали давать чаевые, но они неизменно от них отказывались. Со мной приключился случай, ошарашивший меня. Я попросил коридорного о какой-то услуге, несколько выходящей за рамки его обязанностей, и дал ему за это пять рублей. Он отказался, и как я ни уговаривал его взять деньги, он — ни в какую. Так вот, будь на его месте официант в ресторане, которого могли бы увидеть товарищи, это меня бы ничуть не удивило, но мы были с ним в номере одни, и никто никогда не узнал бы, что коридорный, представитель породы корыстолюбцев, взял чаевые. Отрицать не приходится — переворот в сознании свершился: эти люди, придавленные веками жестокого гнета, вдруг, неведомо какими путями, обрели человеческое достоинство. Глупо было бы порицать их за то, что они подпали под влияние демагогов; подобные поступки, на их взгляд, предвещают новую жизнь. Я справился у официанта, за чей столик обычно садился, выгодна ли ему эта перемена.
— Нет, — сказал он. — Мы зарабатывали больше, когда брали чаевые.
— Значит, вы были бы не прочь возвратить старые порядки?
— Нет, — сказал он. — Нынешние лучше. Ответ, достойный хвалы.
К сожалению, по общим наблюдениям, обслуга стала довольно хамоватой. Прислуживают дурно и небрежно. Напрашивается обескураживающий вывод: человек — существо грубое, прислуживать себе подобным ему неприятно, и он будет любезен лишь в том случае, если ему за это платят.
* * *
Савинков. До революции он возглавлял террористов. Разработал и осуществил убийство Плеве и великого князя Сергея. Полиция охотилась за ним, и он два года жил по британскому паспорту. В конце концов его настигли в гостинице. Отвели в столовую, где ознакомили с сутью дела. Савинкову сказали, что он может просить все, что угодно. Он попросил содовой и папирос. Принесли содовую, и офицер, командовавший солдатами, производившими арест, вынув папиросу из портсигара, кинул ее Савинкову. Савинков взорвался. И швырнул папиросу в лицо офицеру со словами: «Не забывайте, что я такой же дворянин, как и вы». Пересказывая мне этот эпизод, он посмеивался. И я еще более утвердился во мнении, что люди, волнуясь, говорят точь-в-точь, как в мелодрамах. Вот почему лучшие писатели так недостоверны.
Я спросил, что он чувствовал, когда его арестовали, испытал ли он страх,
— Нет, — сказал он. — Я же знал, что раньше или позже все этим кончится, и когда меня арестовали, я, как ни странно, испытал облегчение. Не забывайте, я жил в чудовищном напряжении, и силы мои были на исходе. Помнится, первая моя мысль была: теперь я смогу отдохнуть.
Его приговорили к смерти, он ожидал казни в севастопольской тюрьме. Мне рассказывали, что своими зажигательными речами он распропагандировал тюремщиков, и они дали ему убежать; я спросил его, правда ли это. Он рассмеялся. На самом деле история была далеко не столь романтичная. Поручик, начальник тюремной охраны, сочувствовал революционерам, и товарищи заставили его устроить Савинкову побег. План побега был донельзя прост. Поручик дерзко вошел в камеру Савинкова, велел вывести заключенного и сказал, чтобы тот следовал за ним. Часовые, видя, что Савинков идет за офицером, не остановили его, и так они очутились на улице. Дошли до порта, сели в заранее заготовленную шлюпку и пустились в плавание по Черному морю. Несмотря на то, что сильно штормило, они за четыре дня доплыли до Румынии. Оттуда Савинков перебрался во Францию, жил в Париже, на Ривьере, затем разразилась революция, и он смог вернуться в Россию.
Чтобы организовать и совершить эти убийства, сказал я, несомненно, нужна невероятная смелость.
Он пожал плечами:
— Отнюдь нет, можете мне поверить. Дело как дело, ко всему привыкаешь.
* * *
Петроград. Вечерами он куда красивее. Здешние каналы удивительно своеобразны, и хотя порой в них можно уловить сходство с венецианскими или амстердамскими, оно лишь подчеркивает их отличие. Неяркие, приглушенные краски. Близкие к пастельным, но такие нежные, какие художникам редко удается передать: туманно-голубые и тускло-розовые тона, как на эскизах Кантен де Латура, зеленые и желтые, как сердцевина розы. Они пробуждают те же чувства, что французская музыка восемнадцатого века с ее пронизанным грустью весельем. От каналов веет тишиной, бесхитростностью и наивностью; этот фон представляет отрадный контраст русским с их необузданным воображением и буйными страстями.
* * *
Моим первым учителем русского языка был волосатый низкорослый одессит. Чуть ли не карлик. Я жил тогда на Капри, он приходил ко мне на виллу в оливковой роще и каждый день давал мне уроки. Учил не слишком хорошо; для этого он был слишком робок и рассеян. Он ходил в порыжевшем черном костюме и большой невообразимого фасона шляпе. С него лил градом пот. Однажды он не пришел на урок, не пришел он и на второй, и на третий день; на четвертый я отправился его искать. Зная, что он очень нуждается, я опрометчиво заплатил ему вперед. Не без труда отыскал я узкий проулок с белыми домами; мне показали, как пройти в его комнату на верхотуре. Это была даже не комната, а душный чердак под самой крышей, вся мебель состояла из раскладушки, стула и стола. Мой русский сидел на стуле, совершенно голый и очень пьяный, на столе перед ним стояла бутыль с вином. Едва я переступил порог, как он сказал: «Я написал стихи». И без долгих слов, забыв о своей прикрытой лишь волосяным покровом наготе, с выражением, бурно жестикулируя, прочитал стихи. Стихи были очень длинные, и я не понял в них ни слова.
* * *
Каждый народ создает тип, который вызывает его восхищение; и хотя в жизни редко встречаются люди, соответствующие этому типу, рассмотреть такое явление и поучительно, и забавно. Тип этот меняется вместе со временем. Это идеал, который писатели пытаются наделить телом и душой. Они приписывают плоду своего воображения черты, в которых в тот или иной момент воплощаются устремления нации, и со временем простодушные люди, подпав под обаяние вымышленных созданий, берут с них пример и в самом деле преобразуют себя, да так, что в жизни начинаешь встречать характеры, о которых читал в романах. И вот ведь что любопытно — писателям удается создать характеры, которые люди впоследствии присваивают себе. Считается, что бальзаковские герои больше походят на людей следующего поколения, чем на поколение, им описанное, и всякий, кто колесил по свету, не мог не встретить людей, подражающих героям Редьярда Киплинга. Можно сказать, что у них плохой вкус. Тип, пленивший воображение современных англичан, — сильный духом молчун. Сейчас уже не припомнить, когда он впервые пробил себе дорогу в английскую словесность; может статься, что впервые он появился в обличье Рочестера из «Джейн Эйр», а с тех пор стал бессменным любимцем пишущих дам. Он нравится им — равно как и дамам в целом — по двум причинам: им видится в нем сильная личность, на которую можно опереться, а они только об этом и мечтают, сверх того, несмотря на свой сильный характер, он им покорен, а это им льстит, потому что втайне они стремятся властвовать. Так как этот тип чаще встречается в литературе и на сцене, чем в жизни, а изобразить человека, не заставляя его произносить пространные речи, трудно, молчаливость — не самая заметная его черта; на самом деле он словоохотлив. Но в принципе он скуп на слова, лапидарен, его словарный запас небогат; он человек дельный — это явствует из того, что он сыплет техническими терминами, разговаривая с людьми, которые — и это ему отлично известно — не могут их понять; в обществе он робеет, манеры его далеко не безупречны; но вот что странно — с соотечественниками он не знает, как себя вести, зато с туземцами умеет обойтись как нельзя лучше, Он теряется в гостиной, но изворотливому сыну Востока не уступит ни в чем. Он обращается с ним по-доброму, но строго, как отец с детьми; он честен, справедлив, правдив. Читает он не много, но если читает, то добротную литературу — Библию, Шекспира, Марка Аврелия и «Уэверлийские» романы Вальтера Скотта. Его не назовешь блестящим собеседником, но в разговоре он без околичностей идет прямо к сути дела; он умен, но несколько ограничен. Знает, что дважды два — четыре, но ему и в голову никогда не приходит, что порой, бог весть почему, дважды два в сумме дают пять. Искусство его раздражает, его отношение к философии самое что ни на есть наивное. Относительно же «вещей поважнее» он не знает сомнений, неизменно видит лишь одну сторону вопроса и даже не подозревает о существовании других, и в этом не в последнюю очередь его сила. Характер у него крепкий, чего не скажешь об уме. Он обладает всеми мужскими достоинствами и плюс к ним — женской нежностью. Но не следует думать, будто он лишен недостатков: уже упоминалось, что манеры его не всегда на высоте, а порой он и вовсе ведет себя как невежа; вот отчего мы так ликуем, когда он умягчается под влиянием юной сероглазой англичанки, покорившей его верное сердце! Нрав его, хотя он превосходно держит себя в узде, частенько наводит страх; когда он пытается овладеть собой, на его впалых висках вздуваются жилы. По части морали он неустойчив. Порой его отличает высокая нравственность, порой, напротив, он, как это ни прискорбно, в прошлом предавался распутству. Он суров, когда требуется, возможно, даже беспощаден, но сердце у него золотое. Его наружность соответствует характеру. Рослый, смуглый, сильный, мускулистый, гибкий и стройный — вот он какой. У него ястребиный взгляд, курчавая шевелюра тронута, особенно на висках, сединой, подбородок у него квадратный, зато рот выдает чувственную натуру. Он властвует над людьми. Таков этот сильный молчаливый герой, который несет «бремя белого человека», этот оплот величия нашей страны, строитель империи, поддержка и опора нашей мощи. Он неустанно трудится в самых отдаленных и трудно доступных уголках мира; он охраняет границы империи; его видишь у врат Индии, на безлюдных просторах Великого Доминиона, в дебрях тропической Африки. Нет человека, который, глядя на него, не испытывал бы горделивого восторга. Он далеко-далеко, повсюду, где нас нет. И только это дает силы выносить его.
* * *
Литература никогда не дарила миру образа более обаятельного, чем Алеша Карамазов, и так же, как общение с ним доставляло радость людям, которые с ним общались, оно доставляет радость и читателям. Оно благотворно, как июньское утро в Англии, когда в воздухе разлит аромат цветов, щебечут птицы, с моря вглубь страны доносится свежий соленый ветерок. Жизнь радует. Радует она и в обаятельном обществе Алеши. Он наделен редчайшим и прекраснейшим качеством в мире — добротой, прирожденной наивной добротой, рядом с которой кажутся несущественными все интеллектуальные дарования. Ведь Алеша не так уж и умен, действия его не дают никаких результатов, а когда житейские неурядицы требуют более решительных поступков, он может вызвать и раздражение; он не человек действия, да и вообще человек ли он — так нечеловечески он свят. Добродетели его скорее пассивные, чем активные; он кроткий, терпеливый и смиренный; никогда никого не судит; он, возможно, не понимает людей, зато любит их безгранично. И это, как я полагаю, и есть та страсть, которая переполняет его душу, — бескорыстная, пылкая любовь, рядом с которой любовь плотская отвратительна, и даже материнская любовь к своему чаду слишком земная, «перст-ная». Достоевский, человек жестокий, в порядке исключения проявил доброту; Алеша у него хорош и телом, и душой. Он весел, как ангелы, не знающие земной юдоли. От него исходит солнечный свет. Его прелестная улыбка дороже любого остроумия. Он обладает чудесным даром утешать смятенные души. Его присутствие действует на страдальцев, как ласковое прикосновение прохладной руки любимого человека ко лбу, когда у тебя жар.
* * *
Сегодня в Александрийском театре начинает заседать Демократическое совещание. Это съезд рабочих, а, значит, по этим делегатам со всех концов России можно составить представление о тех слоях, которые их сюда послали. Обозрев их лица, я поразился: это были по преимуществу крестьянские лица; встречались, разумеется, и, во множестве, евреи, со сметливыми настороженными глазами; по моим предположениям, среди собравшихся (а в театре набилось чуть ли не две тысячи человек) немало проходимцев, но в целом, они произвели на меня впечатление людей не аморальных, а неразвитых и грубых; у них лица людей невежественных, на них написано отсутствие мысли, ограниченность, упрямство, мужицкая неотесанность; и хотя одни были в крахмальных воротничках и пиджаках, а другие в форме, меня не оставляло ощущение, что они недалеко ушли от медлительных землепашцев. Они безучастно слушали выступления. Ораторы говорили очень долго. Заседание, назначенное на четыре, началось лишь в пять и продолжалось чуть ли не до полуночи. За это время выступило всего пять человек, речи были примерно одной продолжительности. Ораторы говорили очень быстро, пылко, но однообразно; все были убийственно серьезны и не пытались оживить речь ни занимательной историей, ни шуткой; они даже не давали слушателям передохнуть, приведя простой факт, а ограничивались общими фразами и призывами; все речи были, в сущности, пустой болтовней. Один профессор права сказал как-то студентам: «Когда выступаете в суде, если в пользу вашего подзащитного говорят факты, вбивайте это в головы присяжных, если в его пользу говорит закон, вбивайте это в голову судье». «А что если и факты, и закон против нас?» — спросил один из студентов. «В таком случае бейте что есть мочи кулаком по столу», — ответствовал профессор. Эти ораторы без передышки били кулаком по столу. Но большого впечатления не производили. Точь-в-точь таких ораторов можно встретить на собрании в поддержку какого-нибудь кандидата радикальной партии одного из избирательных округов южного Лондона.
Чернова называют злым гением революции и все боятся; он, как полагают, пользуется невероятным влиянием и при этом не обладает ни силой характера, ни яркой индивидуальностью; он — коренастый, с крупными грубыми чертами лица и седой шевелюрой. Таких краснобаев-социалистов можно встретить по всему свету, говорил он невероятно долго, с утомительным пафосом. Церетели, министр иностранных дел, говорил четко и по делу, но невыразительно — заурядная речь заурядного человека. Удивляет, что такие посредственности правят огромной империей, и я задался вопросом: что их выдвинуло из этой толпы безликих людей, которых они, судя по всему, не превосходят ни характером, ни силой воли, ни умом.
Подлинный энтузиазм у собравшихся вызвал лишь Керенский. Любопытно было поглядеть на человека, за такое короткое время поднявшегося на вершину власти и славы; и тут я был вновь ошарашен: в Керенском не чувствуется силы, и это сразу бросается в глаза. Не возьму в толк, как его враги смогли угадать в нем наполеоновских масштабов замыслы. Он больше напоминает Сен-Жюста, чем Бонапарта. Керенский сидел посередине царской ложи, председательствующий объявил его выступление, и он проследовал по центральному проходу на сцену. Одет он был в костюм защитного цвета, за ним шли два адъютанта. Он немного грузнее, чем мне представлялось, без бороды и усов, волосы острижены ежиком; но прежде всего я обратил внимание на его цвет лица. Кому не доводилось читать о том, как лицо героя позеленело от ужаса, и я всегда считал это вымыслом романистов. Но именно такой цвет лица был у Керенского. Он стремительно поднялся на сцену, обошел вокруг стола, где сидел президиум, и по очереди поздоровался с каждым из делегатов за руку. Рукопожатие у него быстрое, порывистое, с лица его при этомне сходило выражение тревоги. Вид у него был, как ни странно, загнанный. Он явно нервничал. Он переживал опасный момент — его в открытую обвиняли в пособничестве мятежу генерала Корнилова, и большевики — это совещание организовали они — относились к нему враждебно; было известно, что здесь может решиться его судьба, и, если экстремисты окажутся в большинстве, его, как предполагалось, заставят подать в отставку. Никто не знал, что он предпримет, но складывалось мнение, что в отставку он не подаст, а переведет правительство в генеральный штаб и, отдав Петроград большевикам, будет править Россией, опираясь на армию. В начале речи Керенский практически поставил вопрос о вотуме доверия. Он говорил около часа, свободно, не заглядывая ни в какие заметки, хотя его постоянно прерывали. Говорил с большим подъемом. Над оркестровой ямой пролегали мостки для прохода на сцену, и он то и дело сбегал по ним, пока не оказался чуть ли не среди слушателей, — можно было подумать, что он хочет обратиться к каждому из них лично. Он взывал к чувствам, не к разуму. Ему все чаще аплодировали, попытки же прервать его пресекались все более раздраженно. Люди, похоже, почувствовали, что перед ними искренний, прямодушный человек, и, если он и допускал ошибки, это были ошибки честного человека. Голос его красивым не назовешь, говорит он на одной ноте, без модуляций; в его ораторских приемах нет контрастов и, я бы сказал, ничего вдохновляющего. Воздействовал он лишь своей серьезностью и объективностью. Закончив речь, он быстро обошел стол, пожал руки делегатам и ушел в ложу под гром аплодисментов. В ответ на рукоплескания он, уже из ложи, сказал несколько слов и покинул театр. В этот день победа осталась за ним.
* * *
Балет. Преходящая красота жеста танцовщицы символизирует для меня жизнь. Красота эта достигается ценой неимоверного труда, однако это скоротечное парение над сценой вопреки силам тяготения, эта дивная позитура, которую так и тянет обессмертить на барельефе, — она дается лишь на миг, от нее остается прекрасное воспоминание и только. Так и жизнь, прожитая разнообразно и размашисто, становится произведением искусства лишь тогда, когда она приходит к своему прекрасному завершению и обращается в ничто в тот самый миг, когда достигает совершенства.
Савинков сидел в трактире и пил чай, когда к нему подошел крестьянин и спросил: «Где найти Бога?» Он был крепко пьян. Савинков серьезно посмотрел на него, лишь глаза заулыбались. «В сердце твоем, брат», — ответил он. Крестьянин помолчал — его одурманенный мозг осваивал ответ Савинкова. «И как же мне в таком случае жить?» — спросил он. На его вопрос Савинков ответил вопросом: «Сколько тебе лет?» Крестьянин помялся, передернул могучими плечами. «Сорок», — ответил он не слишком уверенно. «Самое время довериться своему чутью, — сказал Савинков. — Сил тебе не занимать стать, ты здоров. Берись за работу, которая тебе знакома, а в остальном делай то, к чему у тебя лежит душа. Иного пути я не знаю». Крестьянин — он стоял, расставив ноги, устремив кроткие, добрые глаза на Савинкова, — почесал в бороде; затем низко поклонился и побрел прочь.
* * *
Савинков. Ему от сорока до пятидесяти, среднего роста, стройный, с наметившейся плешью; черты лица ничем не примечательные, глаза маленькие, пронзительные, сдвинутые к переносице. Легко представить, что порой они бывают жестокими. Одет тщательно: высокий воротничок, неброской расцветки галстук с булавкой, сюртук, лакированные ботинки. У него вид преуспевающего адвоката. Ничто в наружности Савинкова не говорит о его бешеном нраве. Он производит впечатление человека воспитанного, не слишком интересного, но обладающего некоторым весом. Манера поведения у него спокойная, сдержанная и скромная. Лишь когда он заговорил, я понял, что передо мной человек выдающийся. Он говорил по-русски и превосходно по-французски, свободно и правильно, разве что иногда употреблял не тот род, говорил неспешно — так, словно прежде обдумывает свои слова, но было ясно, что он обладает завидным умением как нельзя более точно выражать свою мысль. Голос у него тихий, приятный, выговор очень четкий. Более пленительного собеседника мне не доводилось встречать. Если тема требовала серьезности, он был серьезен, к месту шутлив; его высказывания были настолько обоснованны, что с ним нельзя было не согласиться; убеждать он умел как никто другой; притом и веская речь, и внушительная сдержанность говорили о железной воле — без нее его беспощадность была бы необъяснима. Я не встречал ни одного человека, от которого исходило бы такое ощущение уверенности в себе.
Он рассказал мне две любопытные истории. После боев 18 июля, когда русские потерпели позорное поражение, Керенский, который вместе с ним видел, как они бегут с поля боя, предложил Савинкову поехать в его машине. Савинков — а он был в ту пору военным министром, — решив, что Керенский хочет посоветоваться, как устранить последствия разгрома, сел в автомобиль, и они отправились в путь. Однако Керенский как в рот воды набрал. Вид у него был испуганный, убитый. Лишь раз он нарушил молчание, продекламировав затасканные строки второразрядного поэта; Савинков не поверил своим ушам. Что общего между этими сентиментальными стишками и трагедией их родины? Заключил он свой рассказ так: «Как характерно, что этот недоучка искал утешения у такого плохого поэта». Нечто подобное произошло и при падении Тернополя. Савинков, видя, что русские пустились наутек, кинулся к Корнилову — рассказать, что творится. У Корнилова ни один мускул не дрогнул в лице; без малейших колебаний он сказал: «Расстрелять их». По тому, как Савинков излагал эту историю, было видно: в Корнилове он узнал человека, равного ему силой духа.
А вот и другая история. Он возвращался с фронта с Керенским, и уже в Петрограде, на вокзале, премьеру вручили телеграмму. Он пробежал ее и передал Савинкову со словами: «Займитесь, пожалуйста, этим делом». Телеграмма была от жен-шины, которая просила помиловать сына — он дезертировал и подлежал расстрелу. Савинков никакого касательства к этому делу не имел: не он выносил приговор и помиловать дезертира было не в его власти. Керенский передал ему телеграмму, чтобы снять с себя ответственность, которой страшился. «И вот ведь что любопытно, — закончил свой рассказ Савинков, — Керенский никогда не возвращался к этому делу; он так и не набрался духу спросить, что же я предпринял».
Савинков описывал Керенского как человека не дела, а фразы, тщеславного, не терпящего возражений и окружающего себя подхалимами, болезненно многословного, который произносит речи с глазу на глаз со своими министрами и даже наедине с адъютантом в автомобиле, человека, у которого недостает ни образования, ни воображения, измотанного, с издерганными нервами. «Не будь он начисто лишен воображения, — сказал Савинков, — он никогда бы не водворился в Зимнем дворце со всеми своими домочадцами».
* * *
Керенский. Вид у него болезненный. Все знают, что он нездоров; он и сам, не без некоторой бравады, говорит, что жить ему осталось недолго. У него крупное лицо; кожа странного желтоватого оттенка, когда он нервничает, она зеленеет; черты лица недурны, глаза большие, очень живые; но вместе с тем он нехорош собой. Одет довольно необычно — на нем защитного цвета костюм, и не вполне военный, и не штатский, неприметный и унылый. Керенский стремительно вошел в комнату в сопровождении адъютанта, пожал мне руку — крепко, быстро, машинально. Он был до того взвинчен, что это даже пугало. Усевшись, он заговорил — и говорил без умолку, схватил портсигар, беспрестанно вертел его в руках, отпирал, запирал, открывал, закрывал, снова защелкивал, поворачивал то так, то сяк. Говорил торопливо, пылко, его взвинченность передалась и мне. Чувство юмора у него, как мне показалось, отсутствует, зато он непосредственно, совсем по-мальчишечьи любит розыгрыши. Один из его адъютантов — сердцеед, и ему часто звонят женщины по телефону, стоящему на столе Керенского. Керенский брал трубку, выдавал себя за адъютанта и бурно флиртовал с дамой на другом конце провода — это его очень забавляло. Подали чай, Керенскому предложили коньяку, и он уже было потянулся к рюмке, но адъютант запротестовал: спиртное Керенскому вредно, и я очень потешался, слушая, как он, точно избалованный ребенок, улещивал молодого человека, уговаривая разрешить ему хотя бы одну рюмочку. Он был очень весел, много смеялся. Я так и не уразумел, благодаря каким свойствам он молниеносно вознесся на такую невероятную высоту. Разговор его не свидетельствовал не только о большой просвещенности, но и об обычной образованности. Я не почувствовал в нем особого обаяния. Не исходило от него и ощущения особой интеллектуальной или физической мощи. Однако поверить, что своему возвышению он обязан исключительно случаю и занял такое положение лишь потому, что никого другого не нашлось, невозможно. На протяжении беседы — он все говорил и говорил так, словно не в силах остановиться, — в нем постепенно проступило нечто жалкое; он пробудил во мне сострадание, и я подумал: уж не в том ли сила Керенского, что его хочется защитить; он чем-то располагал к себе и тем самым вызывал желание помочь; он обладал тем же свойством, которым в высшей степени был наделен Чарльз Фроман, — умением пробуждать в окружающих желание расшибиться для него в лепешку.
Я не заметил в нем непомерного тщеславия, о котором так много говорили, напротив, мне показалось, что он держится просто, не позирует. Его искренность не вызывала во мне сомнений: я увидел в нем человека, который старается сделать все, что может, горящего бескорыстным желанием послужить не так отчизне, как соотечественникам. В России пылкость Керенского сослужила ему добрую службу — здесь любят непосредственное выражение чувств; у меня с моей английской сдержанностью это вызывало чувство неловкости. Меня коробило, когда его голос то и дело пресекался от волнения. Я конфузился от того, что такие благородные чувства выражаются в открытую. Но в этом и состоит одно из тех различий между русскими и англичанами, из-за которых мы никогда не сможем понять друг друга. В итоге он произвел на меня впечатление человека на пределе сил. Судя по всему, бремя власти ему непосильно. Это объясняет, почему он не способен ни на какие действия. Боязнь сделать неверный шаг, перевешивает желание сделать верный шаг и в результате он ничего не предпринимает до тех пор, пока его к этому не принуждают. И тогда к каким только уверткам он ни прибегает, чтобы не дай бог не понести ответственность за последствия этого шага.
* * *
Гоген. Натюрморт с плодами в галерее «Христианин». Плоды, манго, бананы, хурма, таких непривычных цветов, что слова бессильны передать ощущение тревоги, которое вселяет эта картина; тут тебе и тусклая зелень, матовая, как тонкая резная чаша китайского нефрита, и в то же время мерцающе поблескивающая, что заставляет предположить в ней пульсацию неведомой жизни; тут тебе и багровые тона, отвратительные, как гниющее сырое мясо, и в то же время воспаленно-чувственные, вызывающие в памяти Римскую империю эпохи Гелиогабала; тут тебе и красные тона, нестерпимо яркие, как ягоды остролиста, — при виде их вспоминается английское Рождество, и снег, и веселье, и детские забавы, — и в то же время пригашенные, словно по какому-то волшебству, до нежного цвета голубиной грудки; тут тебе и насыщенный желтый тон с противоестественным вожделением, сливающийся с зеленым, благоуханным, как весна, и чистым, как вода в горном ручье. Кто скажет, в каком истерзанном мозгу родились эти плоды? Им место лишь в каком-нибудь полинезийском саду Гесперид. В них есть нечто чуждое, можно подумать, они произросли в тот туманный период истории, когда земные предметы не обрели еще четкой формы. Они чрезмерно роскошны. От них исходит удушливый запах тропиков. Впечатление такое, что в них самих клокочут мрачные страсти. Это волшебные плоды, и, если их отведать, какие только душевные тайники и какие только волшебные замки воображения не откроются. Они чреваты неведомой опасностью, и, отведав их, человек может обратиться то ли в зверя, то ли в бога.
1919
Ему передали, что кто-то так отозвался о нем: «Он себе на уме, слова лишнего не проронит». Он сиял: счел это похвалой.
* * *
Она нырнула в море банальностей и мощным брассом опытного пловца, переплывающего Ла-Манш, уверенно направилась к белым скалам тривиальности.
* * *
Супружеская чета. Она обожала его себялюбиво, пламенно, преданно. Их жизнь была борьбой. Он защищал свою душу, она стремилась завладеть ею. Потом у него обнаружили туберкулез. Оба понимали, что теперь победа за ней, отныне ему от нее не спастись. Он покончил жизнь самоубийством.
* * *
Джейми и его жена. Вялые, кроме чтения романов ничем не занимаются. Жизнь ведут исключительно однообразную, зато в воображении переживают романтические приключения. Весь их опыт почерпнут из беллетристики. У них был ребенок, он умер. Джейми надеется, что жена больше не родит. Ребенок нарушал течение их жизни. После похорон оба со вздохом облегчения уселись за новые романы, только что полученные из библиотеки.
* * *
Арнольд. Он позировал тридцать лет кряду, и в конце концов поза стала его второй натурой. Тогда он ею наскучил, однако, заглянув в свое сердце в поисках настоящего «я», ничего не нашел. Кроме позы, там ничего не осталось. Он уехал во Францию в надежде, что его убьют, но в конце войны вернулся целый и невредимый, и тут перед ним распростерлась безграничная пустота.
* * *
Чикаго. Боровов загоняют в загон, они визжат так, словно знают наперед, что их ждет; их подвешивают за заднюю ногу к движущемуся колесу, которое доставляет их прямо к человеку с длинным ножом в заляпанном кровью синем комбинезоне. Это молодой человек с симпатичным лицом. Он притягивает борова к себе и вонзает ему нож в яремную вену; кровь бьет фонтаном, боров издыхает. На его место колесо доставляет другого. Боров следует за боровом с механической регулярностью — так движутся ступеньки эскалатора. Меня поразило, как невозмутимо и спокойно этот юноша с симпатичным лицом колол свиней. Это напоминало страшноватую пародию на танец смерти. Всех их — поэта, государственного мужа, торговца, принца, всех их, каковы бы ни были их идеалы, страсти или упования, всех их, как бы они ни упирались и ни вере-шали, влечет неумолимый рок и никому не дано избежать его.
Боров переходит из рук в руки; первый работник соскребает щетину, оставшуюся после обработки в машине, второй потрошит внутренности, третий отрезает окорока. Работа не прерывается ни на минуту, и я задался вопросом: что случилось бы, если бы кто-то забылся и не выполнил свою задачу. Мое внимание привлек седобородый старик — он отработанным движением заносил огромный топор и обрубал окорока. Во взмахе его топора, таком четком, размеренном и безостановочном, было нечто поразительно загадочное. Мне сказали, что старик выполняет эту работу тридцать лет кряду.
* * *
Уобаш-авеню. Многоэтажные дома, белые, красные, черные, но краска на них уже пооблупилась; с пожарными лестницами, которые кажутся диковинными паразитами на жутковатых, вымахавших чуть ли не под небо растениях. Длинная череда машин вдоль обочин. Приглушенный рев поездов над-земки, быстрые, подрагивающие вереницы битком набитых трамваев, оглашающих улицы грохотом, пронзительный вой клаксонов, резкие, повелительные свистки полицейских, регулирующих движение. Ни одного праздношатающегося. Все спешат. Дворники в белой форме, ремесленники в заношенных коричневых или синих комбинезонах. Мешанина рас — славяне, тевтонцы, ирландцы с улыбками от уха до уха и цветущими лицами, жители Среднего Запада с угрюмыми, постными физиономиями, робеющие так, словно они здесь незваные гости.
X. Б. поехал ненадолго в деревню. В доме по соседству жила тихонькая чопорная старушка; они познакомились — чем дальше, тем больше находил он в ней сходство с женщиной, заподозренной в убийстве, прогремевшем на весь мир полвека назад. Ее судили, признали невиновной, но улики настолько изобличали ее, что, несмотря на оправдательный приговор, общественное мнение посчитало убийцей именно ее. Она поняла, что X. Б. догадался, кто она, укорила его за любопытство, потом сказала: «Вы, вероятно, хотите знать, убийца я или нет. Да, убийца, более того, если бы время вернулось вспять, я бы поступила точно так же».
* * *
Итальянец, спасаясь от голода, приехал в Нью-Йорк и со временем достал работу уличного торговца. Он пылко любил свою жену, которая осталась в Италии. До него дошли слухи, что с ней спит его племянник. Он пришел в бешенство. Денег, чтобы возвратиться в Италию, у него не было, и он написал племяннику, чтобы тот приехал в Нью-Йорк: здесь, мол, можно хорошо заработать. Племянник приехал, и тем же вечером муж убил его. Мужа арестовали. Жену доставили в Америку и, чтобы спасти мужа, на суде она — вопреки истине — показала, что племянник был ее любовником. Мужа приговорили к тюремному заключению, но вскоре освободили досрочно. Жена ждала его. Он знал, что она хранила ему верность, но ее признание он перенес так же тяжело, как если бы она ему изменила. Оно мучило его. Позорило. Он устраивал жене страшные сцены, и в конце концов, в полном отчаянии, сознавая, что иного выхода нет, жена — а она любила его — попросила убить ее. Он вонзил ей нож в сердце. Защитил свою честь.
* * *
Путешествуя по Америке, я часто задавался вопросом, кто эти люди, с которыми я встречаюсь в салон-вагонах поездов или в гостиных отелей, где они сидят в креслах-качалках с плевательницей обок и глазеют в большие зеркальные окна на улицу. Я гадал, какую жизнь они ведут, о чем думают, каков их образ мыслей. В дурно сидящих готовых костюмах, крикливых рубашках и броских галстуках, раздобревшие, бритые, но с проступающей щетиной, в сбитых на затылок шляпах, жующие сигары, они были для меня все равно что китайцы, только еще более непроницаемые. Я не раз пытался вступить с ними в разговор, но не находил общего языка, на котором мог бы вести беседу. Я их робел. Теперь, прочтя «Главную улицу», я чувствую, что лучше узнал их. Мне понятно, кто они, как они ведут себя дома, о чем говорят. Мое знание человеческой природы обогатилось. Синклер Льюис не только точно описал обитателей городка Среднего Запада, он сделал нечто большее, и я так и не решил, произошло это сознательно или случайно. Он отобразил весьма любопытный факт — появление социальных различий, играющих столь важную роль в европейской жизни. Но в то время как в Европе война, по общему мнению, стерла многие классовые различия, здесь они нарождаются, и наблюдать это любопытно. Сюжет «Главной улицы» незамысловат: в ней повествуется о браке леди с мужчиной, которого нельзя назвать джентльменом. Он славный малый, и тем не менее она страдает — у него пошлые привычки, и она вынуждена вращаться среди людей невысокого пошиба. В Англии в таком случае женщина заранее представляет, какая пропасть между разными слоями общества, и вряд ли решится на подобный брак. Друзья скажут: «Голубушка, он милейший парень, никто этого не отрицает, но он не джентльмен, и ты будешь с ним несчастна». Костяк сюжета составляет расслоение, существующее в деревенском обществе: торговец смотрит свысока на фермера, фермер на наемного работника. Классовые различия здесь не менее сильны, чем в английской деревне. Но в английской деревне каждый человек знает свое место, и неравенство не вызывает у него озлобления. Видимо, всякая цивилизация по мере того как она усложняется и окостеневает порождает все более дробное классовое расслоение, и откровенное признание этого факта освобождает умы от многих пут. В обществе, изображенном в «Главной улице», каждый человек на словах допускает, что он ничем не лучше других, но в душе никогда с этим не согласится. Банкир ни за что не пригласит к себе зубного врача, зубной врач не станет якшаться с портновским подмастерьем. Пустые речи — а их произносится так много — о равенстве ведут к близости напоказ, но в итоге те, кто занимает низкое положение, еще более остро ощущают, что никакой внутренней близости нет; вот почему именно в Америке классовая ненависть в конечном итоге скорее всего переродится в жестокую вражду.
1921
Хэддон Чэмберс. Утром мне сообщили, что умер Хэддон Чэмберс и я сказал: «Бедняга, какая жалость», но тут же осознал, что платил дань дурацким условностям. Хэддон Чэмберс, по своим понятиям, преуспел. Жил в свое удовольствие. Но его время ушло, и человеку его склада будущее не сулило ничего хорошего, разве что по бойкости ума он обрел бы новую опору в философии. Он умер вовремя. Если его вообще не забудут, то благодаря не пьесам, а фразе «У случайности — длинные руки». Не исключено, что она умрет лишь вместе с языком. Маленький, сморщенный, франтоватый, он чем-то напоминал сухой лист; и, как и сухой лист, он влетал в злачные заведения, где вечно торчал, болтался там-сям, но нигде подолгу не задерживался, тут же вылетал — и его несло неведомо куда. Казалось, он ни к чему не привязан по-настоящему. Он и приходил, и уходил, не преследуя никакой цели, словно был игрушкой до крайности безразличного случая. На первый взгляд он казался моложавым, но вскоре обнаруживалось, что он стар, да-да, стар: глаза его, когда он давал себе передышку, выражали мертвенную усталость, лишь усилием воли он заставлял их оживать; его лицо отличалось неестественной гладкостью — видимо, его подолгу массировали и питали разными кремами; глядя на Хэддона Чэмберса, можно было подумать, что его давным-давно похоронили, а потом отрыли. Из-за этого он казался гораздо старше своих лет. Он скрывал свой возраст. Молодился с основательностью, которую ни в чем больше не проявлял. У него была слава Дон Жуана, и ею он дорожил куда больше, чем той, которую принесла ему любая из его пьес. Одна из его интрижек привлекла внимание общества, и он до последней возможности купался в лучах этой славы. Он любил делать вид, что переходит от одной интрижки к другой, и, недоговаривая, намекая, обрывая фразы, вскидывая брови, подмигивая, пожимая плечами и всплескивая руками, давал понять, что все еще пользуется успехом у женщин. Но когда он, одетый не по возрасту, уходил из клуба, всем своим видом показывая, что идет на свидание, ты смекал, что он идет обедать в задней комнате одного из ресторанчиков Сохо, где не рискуешь попасться на глаза кому-нибудь из знакомых. Он писал пьесы, а раз так, его, по всей вероятности, следует считать литератором, но трудно сыскать человека, менее интересовавшегося литературой. Не знаю, читал ли он вообще; но о книгах он определенно не разговаривал. Из искусств, если он что и любил, так только музыку. Своим пьесам он особого значения не придавал, однако его бесило, что лучшую его пьесу «Тирания слез» приписывают Оскару Уайльду. Со своей стороны я не представляю, каким образом этот слух мог получить такое широкое распространение, но ведь получил же. Никому из тех, кто понимает, что такое диалог и юмор, ничего подобного не могло прийти в голову. Диалог Оскара Уайльда емок и отточен, юмор тонок и изыскан; диалог в «Тирании слез» — рыхлый, скорее ловкий, чем блестящий, и начисто лишен афористичности, юмор отдает пивной, а не гостиной. Остроумие ее — это остроумие находчивости, а не словесной изощренности. На ней — отпечаток личности и склада ума Хэддона Чэмберса. Он был человек компанейский, и когда я думаю, что бы характерное вспомнить о нем на прощание, передо мной встает такая картина: крохотный щеголь добродушно болтает в баре со случайным знакомым о женщинах, лошадях и ковент-гарденской опере, при этом, однако, постоянно посматривает на дверь так, словно кого-то поджидает.
1922
Романистам прежних времен, воспринимавшим людей только в одном определенном свете, было легче. Как правило, их положительные герои были в высшей степени добродетельными, а негодяи насквозь гнусными. Но возьмем, к примеру, X. Она ведь не просто лгунья, она дня прожить не может, не сочинив очередных злобных, ни на чем не основанных небылиц, и рассказывает их так убедительно, в таких подробностях, что невольно думаешь: а ведь она сама в них верит. У нее железная хватка, она не задумываясь пойдет на любую уловку, лишь бы добиться своего. Стремясь пробиться в общество, она нагло навязывает свое знакомство людям, которые наверняка предпочли бы его избежать. X. страшно честолюбива, но в силу своей ограниченности довольствуется второразрядной добычей: обыкновенно ей достаются секретари влиятельных людей, а не сами великие мира сего. Она мстительна, ревнива и завистлива. Вздорна и неуживчива. Тщеславна, вульгарна и хвастлива. В этой женщине много по-настоящему дурного.
При этом она умна. Обаятельна. Обладает изысканным вкусом. Она великодушна и способна потратить все свои деньги, до последнего гроша, с тою же легкостью, с какой тратит чужие. Хлебосольная хозяйка, она радуется, доставляя удовольствие гостям. Ее глубоко трогает любая любовная история, она не пожалеет сил, пытаясь облегчить бедственное положение людей, до которых ей, в общем-то, нет никакого дела. Если кто заболеет, она будет самой образцовой и преданной сиделкой. Она веселый и приятный собеседник. Ее самый большой дар — способность сочувствовать другим. Она с искренним состраданием выслушает ваши жалобы на превратности судьбы и с непритворным добросердечием постарается их облегчить или поможет нести их бремя. Она проявит подлинный интерес ко всем вашим делам, вместе с вами порадуется вашему успеху и разделит горечь неудачи. Есть в ней, стало быть, и истинная доброта.
Она отвратительна и мила, алчна и щедра, жестока и добра, злобна и великодушна, эгоистична и бескорыстна. Каким же образом может писатель свести эти несовместимые черты в единое гармоничное целое, создавая достоверный образ?
В этой связи поучительно вспомнить «Кузена Понса» Бальзака. Понс — обжора. Чтобы утолить свою низменную страсть к еде, он в обеденный час навязывается к людям, которым его общество явно не по вкусу, и, не в силах обойтись без вкусной еды и хорошего вина, терпит откровенную холодность и неприветливость хозяев, насмешки слуг. Он падает духом, если приходится обедать дома и за собственный счет. Порок этот омерзителен, и наделенный им персонаж вызывает лишь отвращение. Но Бальзак стремится вызвать у читателя сочувствие к Понсу и добивается этого с большой изобретательностью. Во-первых, он рисует тех, за чей счет его герой предается чревоугодию, как людей гнусных и вульгарных; во-вторых, он наделяет своего героя, коллекционера, безупречным вкусом и страстью к прекрасному. Понс готов отказывать себе не только в роскоши, но и в самом необходимом, лишь бы купить картину, предмет обстановки или фарфоровую безделушку. Бальзак вновь и вновь подчеркивает доброту, простодушие Понса, его дружелюбие, и постепенно забываешь его постыдную жадность и ту низкую лесть, которую он расточает, пытаясь возместить съеденное, и даже преисполняешься к нему глубоким сочувствием, с ужасом взирая на его жертвы. Им, вообще-то говоря, приходилось несладко, но Бальзак не наделил их ни единым подкупающим свойством.
* * *
Я знаю миссис А. много лет. Она американка, замужем за дипломатом, который до войны служил в Петербурге. На днях я встретил ее в Париже. Она рассказала мне про приключившийся с нею странный случай, который лишил ее душевного равновесия. Какое-то время тому назад она столкнулась с одной своей русской приятельницей; миссис А. знала ее еще до революции; та была богата, и миссис А. частенько бывала на ее приемах. Теперь же она ужаснулась, увидев, как плохо одета, как жалко выглядит ее давняя знакомая. Миссис А. дала ей десять тысяч франков, чтобы та купила себе приличную одежду, в которой могла бы получить место продавщицы или что-то в том же роде. Когда неделю спустя она опять ее встретила, та была в прежнем стареньком платье, в ветхой шляпке и поношенных туфлях. «Почему же вы не купили себе новой одежды?» — спросила миссис А. Изрядно сконфузившись, ее русская знакомица сказала, что все ее друзья обнищали и ходят в отрепьях, и ей претит мысль, что она одна-единственная будет одета хорошо, а потому она пригласила своих друзей в «Тур д'Аржан» и угостила их роскошным обедом, после чего они еще заходили в разные кабачки, пока не истратили все до последнего франка. Домой вернулись в восемь утра без гроша за душой, усталые, но счастливые. Придя к себе в «Ритц», миссис А. рассказала эту историю мужу, и тот страшно рассердился на нее за выброшенные на ветер деньги. «Подобным типам не поможешь, — заявил он. — Это люди пропащие».
— Разумеется, он прав, — заметила она, завершая свой рассказ. — Я и сама была в ярости, но знаете, в глубине души я отчего-то ею невольно восхищаюсь. — Она покаянно взглянула на меня и вздохнула: — Тут чувствуется такая сила духа, какой у меня нет и не будет никогда.
* * *
Чарли Чаплин. У него приятная внешность. Изящная, восхитительно соразмерная фигура; руки и ноги маленькие, красивой формы. Правильные черты лица, довольно крупный нос, выразительный рот и прекрасные глаза. Густые темные вьющиеся волосы чуть тронуты сединой. Движения на редкость грациозные. Он застенчив. В речи слегка проскальзывает говорок лондонской черни, среди которой прошла его юность. Жизнерадостность бьет из него ключом. Когда он чувствует себя непринужденно, то дурачится с восхитительным самозабвением. Неистощим на выдумки, неизменно бодр и весел, у него незаурядные способности к подражанию: не зная ни слова по-французски или по-испански, он способен очень забавно и точно изобразить речь на любом из этих языков, вызывая безудержный смех окружающих. Он может без подготовки, по наитию, изобразить беседу двух кумушек из трущоб Лам бета, убийственно нелепую и трогательную одновременно. Комичность этих сценок, как и положено, держится на точно подмеченных деталях, а их верность правде жизни, со всеми ее особенностями, придает им трагизм, поскольку в них чувствуется близкое знакомство с нищетой и бездольем. Иной раз Чаплин принимается изображать то артистов мюзик-холла, блиставших лет двадцать назад, то певцов-любителей из пивной на Уолворт-роуд, участвующих в благотворительном концерте в пользу какого-нибудь извозчика. Но что толку перечислять, все равно не передашь того невероятного обаяния, которое присуще любому его движению. Чарли Чаплин способен без особых усилий заставить вас часами валяться от смеха; у него гениальный комический дар. Шутки его незатейливы, добры и непосредственны. И в то же время в них подспудно всегда ощущается глубокая грусть. Он подвержен смене настроений, и даже если вы никогда не слышали, как он шутливо бросает: «Фу ты, какая на меня вчера вечером хандра напала, я аж не знал, куда от нее удрать», и без того в его комиковании чувствуется печаль. Он не производит впечатления счастливого человека. Подозреваю, что его гложет тоска по трущобам. Обрушившиеся на него слава и богатство навязывают ему образ жизни, который его только стесняет. Мне кажется, он с грустью вспоминает свою трудную, но вольную юность, с ее скудостью и горькой нуждою, и жаждет вернуться туда, сознавая, что это невозможно. Улицы южного Лондона кажутся ему средоточием забав, веселья и невероятных приключений. Там для него ключом бьет жизнь, какой никогда не бывает на ухоженных авеню, застроенных нарядными домами, в которых обитают богачи. Легко могу себе представить, что, придя домой, он оглядывается, пытаясь понять, каким ветром занесло его в это чужое жилище. Подозреваю, что единственное место, которое он воспринимает как родной дом, — это квартирка на третьем этаже на задворках Кенсингтон-роуд. Однажды, прогуливаясь по Лос-Анджелесу, мы с ним нечаянно забрели в беднейший район города. Там стояли убогие дома со сдававшимися в наем квартирами, захудалые дешевые лавки торговали товарами, которые ежедневно покупает беднота. Чаплин просиял и, оживившись, воскликнул: «Слушай, вот она, настоящая-то жизнь, верно? А все остальное только так, для форсу!»
* * *
Саравак. На горизонте цепочкой выстроились маленькие белые облачка, других на небосклоне не было; в них чудилась какая-то странная веселость. Они походили на одетых в белые пачки балерин, резвых и жизнерадостных, которые, выстроившись вереницей в глубине сцены, ждут, когда поднимут занавес.
* * *
Небо было серое, на сером фоне чернели причудливые громады туч, а стоявшее в зените солнце, пробивая серую пелену, серебрило их края.
* * *
Закат. Дождь вдруг прекратился, и тяжелые тучи, беспорядочно сгрудившиеся над горой, внезапно двинулись на солнце с неистовством Титана, напавшего на божественного Аполлона, и солнце, даже в поражении не растерявшее величия, преобразило черные полчища своим блеском. Тучи замерли на миг, будто пораженные тем великолепием, которым их в предсмертных судорогах наделило божество, — и тут же настала ночь.
* * *
Река, широкая, желтая и мутная. Вдоль прибрежного песка растут казуарины, под легким ветерком их кружевная листва издает шелест, напоминающий звук человеческой речи. Туземцы зовут их говорящими деревьями; по местному поверью, если стать под ними в полночь, можно услышать голоса незнакомых людей, которые поведают вам тайны земли.
* * *
Зеленый холм. Джунгли взобрались на самую его вершину. Какое-то буйство растительности; от этой роскоши захватывало дух и становилось не по себе. Настоящая симфония в зеленых тонах, будто композитор, пользуясь цветом вместо звука, пытался варварскими средствами выразить нечто необычайно изысканное. Оттенки зеленого всевозможные, от светлого аквамарина до насыщенного нефрита. Изумрудно-зеленый звучал звонкой трубой, а бледно-шалфейный — трепетной флейтой.
* * *
Под замершим в зените полуденным солнцем мертвенно бледнела желтая река. Туземец греб против течения в верткой л од очке-долбленке, настолько крошечной, что она едва виднелась над поверхностью воды. По берегам реки там и сям стояли на сваях хижины малайцев.
* * *
Ближе к вечеру над рекой, очень низко, пролетела стая белых цапель и исчезла вдали. Это было похоже на мелодичный и звонкий, как родник, аккорд чистых нот — божественное арпеджио, которое невидимая рука извлекла из невидимой арфы.
С. Восемнадцатилетний юноша, только-только приехавший сюда. Весьма хорош собою: синие глаза и кудрявые каштановые волосы, густой гривой падающие на плечи. Пытается отрастить усы. Улыбка прелестная. Он бесхитростен и наивен. В нем сочетаются энтузиазм молодости и повадки кавалерийского офицера.
* * *
Мангровая топь. Берега и устье реки заросли мангровыми деревьями и нипой. Нипа — это карликовая пальма с длинными листьями, напоминающая те пальмы, которые на старинных картинах несли верующие в Вербное воскресенье. Растет она у кромки воды, осушая почву, и когда земля становится чистой и плодородной, нипа погибает, на ее место приходят джунгли. Первопроходцы нипы торят путь для торговцев и для идущей следом разношерстной толпы.
Река Саравак. Устье очень широкое. Вдоль берега на мелководье растут мангровые деревья и нипа, за ними зеленеют густые джунгли, а вдали, на фоне синего неба, темнеют неровные зубчатые очертания горы. От этого пейзажа веет не унынием, не замкнутостью, но простором и волей. Зелень сверкает под солнцем, небосвод безмятежен и радостен. Чувствуешь, что попал в дружелюбную благодатную страну.
* * *
Голубое небо, не поблекшее в долгой знойной истоме и не ярко-синее, как небеса Италии, но цвета берлинской лазури с молоком; подобно маленьким парусникам в море, по нему неспешно скользят, сверкая на солнце, белые облачка.
* * *
Комната. На некрашеных деревянных стенах висели фотогравюры с картин Королевской академии, даякские щиты, большие малайские ножи и огромные соломенные шляпы с яркими симметричными украшениями. Плетеные шезлонги. Медные изделия из Брунея. Орхидеи в вазе. Стол был покрыт несвежей даякской скатертью. На грубо сколоченной этажерке стояли дешевые издания романов и старинные описания путешествий в потрепанных кожаных переплетах. В углу полка, уставленная бутылками. На полу ротанговые циновки.
Комната выходила на веранду. До воды было всего несколько футов, и с базара на другом берегу реки доносились удары гонга по случаю какого-то китайского праздника.
* * *
Чик-чак. Это маленькая коричневая ящерка, издающая звуки, за которые и получила свое название. Трудно поверить, что столь громкий звук исходит из такого крохотного горлышка. Он часто слышен по ночам, этот прорезающий тишину клич, странным образом похожий на человеческий; в нем есть что-то насмешливое. Можно подумать, ящерка потешается над белыми людьми, которые приезжают и уезжают, а здесь все как всегда.
* * *
Ранним утром краски вокруг ярки и нежны, но к полудню вянут и блекнут, превращаясь в разные оттенки зноя. Это напоминает китайскую мелодию в минорном ключе, действующую на нервы своей монотонностью. Ухо ждет музыкального разрешения темы, но оно так и не наступает.
* * *
Заключенных используют на общественных работах; их ставят, под надзором сикха, на прокладку и ремонт дорог, но они не перетруждаются, и даже те, кто за предыдущий побег закован в цепи, не испытывают, по всей видимости, особых неудобств.
* * *
Джунгли. Не видно и намека на тропинку, земля усыпана толстым слоем гниющей листвы. Деревья стоят стеной, одни в гигантских листьях, у других легкая пушистая крона — это акации, кокосовые пальмы и пальмы арека с длинными прямыми белыми стволами, рядом бамбук и саговые пальмы, похожие на гигантские букеты страусовых перьев. Там и сям, ничем не прикрытий, белеет остов погибшего дерева; на фоне густой зелени его белизна ошеломляет. Кое-где, соперничая друг с другом за владычество в джунглях, возносят над остальной растительностью свои пышные густые кроны деревья-великаны.
Там же растут и паразиты: из развилки ствола торчат большие пучки листьев, вьющиеся растения убирают дерево цветущими плетьми, как подвенечной фатою; порой, сплетя вокруг ствола великолепную кольчугу, они перебрасывают усыпанные цветами ветви с одного сучка на другой.
Поутру вид этой зелени бодрит и радует. В здешних буйных диких зарослях нет ничего мрачного, гнетущего, напротив, это зрелище почему-то возбуждает. В нем чудится дерзкое самозабвение менады, беснующейся в свите бога.
Идем вверх по реке. Высоко над головой пролетает пара голубей, да зимородок стрелой проносится над водой — мгновенный проблеск ярких красок, оживший драгоценный камешек, сверкающий, как китайская фарфоровая безделушка. На дереве, свесив хвосты, сидят рядышком две обезьянки; еще одна прыгает с ветки на ветку. Без умолку, с какой-то яростью стрекочут цикады. Своей непрерывностью и монотонностью стрекот этот напоминает журчание бурного ручья по каменистому руслу. Затем треск цикад заглушает звонкая птичья трель, напоминающая песнь английского черного дрозда.
Ночью квакают, квакают, квакают лягушки, поднимая страшный гам; время от времени в лягушачий хор врезается короткая, из нескольких нот, песенка какой-то ночной птицы. От светляков кусты становятся похожими на рождественскую елку, украшенную крошечными свечками. Они мягко мерцают во тьме: это сияние умиротворенной души.
Река сужается, здесь пейзаж напоминает зеленые верховья Темзы.
* * *
Птица — вестница лихорадки. Высвистывает три ноты, до аккорда не хватает только четвертой, и ухо ждет ее исступленно.
* * *
Бор — приливный вал в устье реки. Мы заметили его издали — две или три высокие волны, шедшие одна за другой, но не казавшиеся очень уж опасными. С ревом, похожим на рев бушующего моря, они катили все быстрее и ближе, и я увидел, что волны эти гораздо больше, чем казалось поначалу. Вид их мне не понравился, и я потуже затянул пояс, чтобы не соскользнули брюки, если придется спасаться вплавь. И тут приливный вал настиг нас. Это была водяная громада высотою в восемь, десять, а то и двенадцать футов; стало совершенно ясно, что никакой корабль не выдержит ее натиска. Вот на палубу обрушилась первая волна, до нитки вымочив всех и наполовину затопив наше суденышко, следом нас накрыло второй волной. Закричали матросы; команду составляли одетые в арестантские робы заключенные из тюрьмы, находившейся в глубинных районах страны. Судно не слушалось руля; его несло на гребне вала бортом к волнам. Налетела очередная волна, и наш кораблик начал тонуть. Джеральд, Р. и я поспешно выбрались из-под тента, но палуба вдруг ушла из-под ног, и мы очутились в воде. Вокруг бушевала и ревела река. Я решил было плыть к берегу, но Р. крикнул нам с Джеральдом, чтобы мы ухватились за обшивку. Вцепившись во что попало, мы продержались минуты две-три. Я надеялся, что, когда приливный вал пройдет выше по течению, волнение уляжется и река вскоре снова успокоится. Но я забыл, что бор тащит нас с собою. Волны продолжали захлестывать. Мы висели, уцепившись за планшир и за крепления ротанговых циновок под палубным тентом. Тут мощный вал подхватил судно, оно, перевернувшись, накрыло нас, и мы разжали руки. Ухватиться было не за что, разве только за илистое речное дно, и когда поблизости всплыл киль, мы из последних сил рванулись к нему. Кораблик по-прежнему крутило колесом. Мы с облегчением вновь уцепились было за планшир, но судно опять перевернулось, утащив нас под воду, и все началось сначала.
Не знаю, сколько это продолжалось. Наше несчастье, как мне казалось, было в том, что все висели с одной и той же стороны судна. Я попытался убедить нескольких матросов перейти к другому борту — если часть останется с одного борта, а остальные переберутся к противоположному, думал я, нам удастся удержать лодку днищем вниз, и тогда всем станет легче, но я не мог им это втолковать. Волны перекатывали через наши головы, и всякий раз, когда планшир выскальзывал из рук, меня швыряло вглубь. Цепляясь за киль, я выныривал снова.
Вдруг я почувствовал, что с трудом перевожу дух и силы оставляют меня. Я понял, что долго мне не продержаться. Самое лучшее, решил я, это попытаться доплыть до берега, но Джеральд уговорил меня потерпеть еще. А ведь до берега, казалось, было не более сорока или пятидесяти ярдов. Нас все еще носило в бурлящих, бушующих волнах. Судно беспрерывно переворачивалось, и мы, как белки в клетке, кувыркались вокруг него. Я наглотался воды. Все, мне конец, понял я. Джеральд держался рядом и раза два или три приходил на выручку. Но и он мало что мог сделать, ведь когда лодка накрывала нас, все мы были равно в отчаянном положении. Потом, уж не знаю почему, минуты на три-четыре судно стало килем вниз, и, уцепившись за него, мы смогли немного передохнуть. Я решил, что опасность миновала. Какое счастье было наконец отдышаться! Но внезапно судно опять перевернулось, и все началось сначала. Недолгий отдых помог мне, я какое-то время продолжал бороться за жизнь. Затем снова задохнулся и страшно ослабел. Обессиленный, я не был уверен, что у меня теперь хватит пороху доплыть до берега. К этому времени Джеральд был измочален не меньше моего. Я сказал ему, что для меня единственный шанс спастись — это попытаться добраться до суши. Наверное, мы тогда оказались на более глубоком месте, потому что волны здесь были не такие бурные. По другую руку от Джеральда бултыхались два матроса, они каким-то образом поняли, что мы совсем выдохлись, и знаками показали нам, что теперь можно рискнуть добраться до берега. Я совсем выбился из сил. Матросы подхватили плывший мимо тонкий матрасик, один из тех, на которых мы лежали на палубе, и скатали его в некое подобие спасательного пояса. Ожидать от него большого толку не приходилось, тем не менее я одной рукой вцепился в него, а другой стал изо всех сил грести к берегу. Те двое плыли вместе со мною и Джеральдом, один — с моей стороны. Не знаю, как нам удалось доплыть. Но вдруг Джеральд крикнул, что у него под ногами дно. Я опустил ноги, но ничего не нащупал. Проплыв еще несколько ярдов, я попытался снова дотянуться ногами до дна, и мои ступни погрузились в густую тину. Я с ликованием чувствовал кожей эту мерзкую слякоть. Побарахтавшись еще немного, я выполз на берег, где мы по колено увязли в черной жиже.
Цепляясь за торчавшие из топи корни погибших деревьев, мы карабкались все выше и наконец добрались до маленькой ровной полянки, поросшей высокой густой травой. Обессилено рухнули и какое-то время лежали в полном изнеможении: измучились мы настолько, что не могли шевельнуться. С головы до ног покрыты грязью. Через некоторое время мы стянули с себя одежду, я соорудил из мокрой рубашки набедренную повязку. Тут у Джеральда прихватило сердце. Я уж думал, что он умрет. Сделать я ничего не мог, только велел ему лежать неподвижно и ждать, приступ-де скоро пройдет. Не знаю точно, сколько мы там пролежали, наверное, с добрый час, и сколько пробыли в воде, тоже не знаю, В конце концов приплыл в каноэ Р. и забрал нас.
Он перевез нас на другой берег к длинному, на несколько семей дому даяков, где нам предстояло ночевать; мы были в грязи от макушки до пят, но, хотя обычно купались по нескольку раз в день, на сей раз лишь слегка ополоснулись из ведра: не хватало духу войти в воду. Все промолчали, без слов понимая, что в реку нас теперь и палкой не загонишь.
Вспоминая тот случай, я с удивлением отмечаю, что ни минуты не испытывал страха. Видимо, борьба за жизнь шла такая отчаянная, что для эмоций времени не оставалось; уже чувствуя, что обессилел и мне вот-вот придет конец, я, помнится, не испугался и даже не огорчился при мысли, что сейчас утону. Я был настолько измучен, что смерть казалась мне своего рода избавлением. В тот же вечер, облаченный в сухой саронг, я сидел в доме даяков и смотрел на лежащий на спинке желтый месяц, испытывая от всего этого острое, почти чувственное наслаждение. Меня не покидала мысль о том, что в эту самую минуту приливный вал мог бы тащить мой труп вверх по реке. На следующее утро, когда мы вновь двинулись вниз, к устью, я с особым удовольствием смотрел на ярко-синее небо, на солнце и зелень деревьев. Вдыхать свежий воздух было необычайно приятно.
* * *
Дом даяков. Очень длинный, на сваях, с крытой тростником кровлей. Ко входу вели ступеньки, грубо вырубленные в стволе дерева. К дому была пристроена веранда, пол которой состоял из связанных ротанговыми волокнами стеблей бамбука; в доме имелась длинная общая комната с помостом и еще несколько комнат, в каждой из которых жило по семье. Вдоль стен общей комнаты стояли большие сосуды, где хранилось богатство даяков. Когда мы вошли в комнату, хозяева расстелили чистые циновки и усадили нас. Вокруг носились куры. К одному из опорных столбов была привязана обезьянка, По комнате бродили собаки. Спать нас уложили на помосте. Ночь напролет кукарекавшие петухи на рассвете совсем обезумели. Следом проснулись и зашумели домочадцы. Мужчины засобирались на рисовые поля. Женщины отправились к реке за водой. Солнце только-только поднялось, а дом уже гудел, как улей.
Даяки довольно малорослы, но очень хорошо сложены, у них коричневая кожа и приплюснутые носы; большие сияющие глаза сидят в глазницах неглубоко, как на коптских мозаиках. Даяки улыбчивы и очень располагают к себе. Женщины миниатюрны, застенчивы, в их неподвижных лицах чудится что-то жреческое. В молодости красивые и изящно сложенные, они быстро старятся, волосы седеют, морщинистая усохшая кожа бесплотными складками свисает с костей; высохшие груди бессильно болтаются. В углу, выпрямив спину, истуканом сидела на корточках старая-престарая совершенно слепая старуха, не обращавшая на окружающих ни малейшего внимания. Вокруг бурлила жизнь, а она сидела, погрузившись в воспоминания. Готовить рис — обязанность женщин. Даяки соблюдают четкое разделение труда, и мужчине в голову не придет взяться за то, что с незапамятных времен считается женской работой. Женщины носят лишь кусок ткани, прикрывающий их от талии до колен. От локтя до плеча руки у них обвиты серебряной проволокой, у многих такой же проволокой обвиты талии. Проволоки эти напоминают гигантские часовые пружины. Детей женщины носят на спине, сооружая им из обвязанной вокруг шеи шали нечто вроде сиденья. Мужчины украшают себя серебряными браслетами, серьгами и кольцами; принаряженные, они выглядят красиво, даже франтовато. У многих длинные, свисающие на спину волосы; это придает им несколько женственный вид, необычный и двусмысленный. При всей их улыбчивости и обходительности, в них ощущается скрытая до поры до времени дикарская жестокость, неожиданная и пугающая.
Под длинным домом возились, пожирая отбросы, свиньи, неумолчно галдели куры и утки. От дома к реке вела дорожка из грубо обтесанных плашек, чтобы не ходить по грязи, но во время отлива приходилось, увязая по колено, брести по скользкому прибрежному илу, темному и липкому.
Вернувшись в Кучунг, я написал письмо нашему министру-резиденту, у которого мы останавливались по прибытии в Малайю, прося его посодействовать смягчению наказания тем двум заключенным, что спасли мне жизнь. В ответном письме он сообщил, что одного ему удалось освободить, но выразил опасение, что ничем не сможет помочь второму, поскольку тот, возвращаясь в Симьянганг, остановился в родной деревушке и убил свою тещу.
* * *
Восточная река. По берегам тянулись густые джунгли, при полной луне казавшиеся непроглядно черными; в их молчании чудилось что-то зловещее. Дрожь охватывала при мысли о темных свирепых существах, укрывшихся в гуще зарослей. Казалось, джунгли затаились и ждут. Но по безоблачному небу неспешно плыла луна, похожая на жену английского помещика, когда, разодетая в лучшее платье, та величественно ступает по проходу деревенской церкви. Немного погодя на востоке, под рваной бахромой облаков, небо чуть заметно зарозовело. По речной глади неслышно скользил челн, а над прибрежной водою смутно виднелся силуэт рыбака. На берегу, среди диких джунглей дружелюбно поблескивал одинокий огонек: там, наверное, стоит, прижимаясь к реке, травяная хижина, которую со всех сторон теснят буйно разросшиеся пальмы, деревья со странными названиями, увитые ползучими растениями. Розовевшее на востоке небо тем временем жарко заалело. Бахрома облаков превратилась в жалкие лохмотья; солнце встало, словно ратник, ведущий отчаянную битву с неведомыми темными и безжалостными силами. При взгляде на реку казалось, что настал день, но, обернувшись, видишь, что опять безмятежно сияет луна и тихая ночь не торопится уйти.
* * *
Л. Ему чуть за сорок, росту он среднего, худой, очень смуглый, с черными, начинающими плешиветь волосами и большими глазами навыкате. С виду похож не на англичанина, а, скорее, на левантинца. Говорит монотонно, без модуляций. Столько лет прожил в глуши, что теперь на людях смущается и молчит. У него туземка-жена, которую он не любит, и четверо детей-полукровок, которых он отправил учиться в Сингапур, чтобы потом они поступили в Сараваке на службу в правительственные учреждения. Не имеет ни малейшего желания уехать в Англию, где чувствует себя чужаком. По-даякски и по-малайски говорит, как коренной житель; он здесь родился, и склад ума туземцев ему ближе и понятнее английского. В одну из деловых поездок в Англию он обручился с какой-то девушкой, но мысль о туземной семье не давала ему покоя, и он разорвал помолвку. Предпочел бы жить не в Кучунге, а на какой-нибудь затерянной в джунглях фактории. Улыбается редко. Замкнутый унылый человек, очень добросовестный, вечно опасающийся сделать или не то, или не так. Говорит без тени юмора, многословно и скучно. Не жизнь, а бездарное существование.
* * *
Базар в Кучунге. Базар состоит из узких улочек с пассажами, как в Болонье, в каждом домике лавка, в которой толкутся китайцы и бурлит типичная для китайских городов жизнь: работают, едят, разговаривают. По берегам реки стоят хижины, в них с незапамятных времен обитают, блюдя обычаи предков, малайцы. Бродишь ли в толпе, разглядываешь ли неспешно товары, не отпускает странное, волнующее ощущение напряженной жизни. Самый обычный счастливый быт. Рождение и смерть, любовь и утоление голода; повседневные людские занятия. И эту толчею прорезает белый человек, который правит ими. Он никогда не участвует в кипящей вокруг жизни. Покуда китайцы соблюдают законы и платят налоги, он ни во что не вмешивается, этот бледный чужестранец, проходящий сквозь здешнюю действительность, будто существо с другой планеты. На самом деле он только страж порядка, не более. Вечный изгнанник, он не испытывает к этой стране никакого интереса. Он лишь дожидается пенсии, зная, что когда наконец получит ее, то будет непригоден для житья где бы то ни было, кроме здешних мест. В клубе частенько возникают разговоры о том, где кто поселится по выходе на пенсию. Они надоели сами себе, надоели друг другу. Они мечтают освободиться от этой кабалы, но будущее приводит их в смятение.
* * *
Плантатор. Учился в Кембридже, а окончив, решил стать плантатором. Живет вдали от родины уже десять лет. Холостяк. Во время экономического спада разорился. Когда начинался подъем, он сколотил две тысячи долларов и поместил их в добычу каучука, но теперь те участки, куда он вложил деньги, большей частью опять превратились в джунгли. Маленького роста с неправильными чертами лица, добрыми темными глазами и тихим голосом, он очень застенчив, талантливо пародирует других и обожает музыку. Понемножку играет на разных музыкальных инструментах. Собирает малайское серебро. Есть в нем что-то трогательное. Живет один в очень запущенном бунгало. Стены увешаны бесчисленными картинками с изображением более или менее обнаженных женщин. На грубо сколоченных полках стоят современные романы.
* * *
Миссис Т. Блондинка. Из-за жары волосы прямые, но довольно красивые, очень светлые, льняные; глаза голубые; она бледновата и уже несколько увяла, хотя ей никак не более двадцати шести. Анфас она пленяет своеобразной неяркой красотою, но у нее очень маленький, слабый, невыразительный подбородок, и в профиль в ней чудится что-то овечье. Кожа всегда была чистая и свежая, но теперь выцвела, словно тропический день. Она носит бумажные или муслиновые платья, голубые и розовые, с глубоким вырезом и короткими рукавами. Неизменным украшением служат белые коралловые бусы. На голове филиппинская соломенная шляпа.
* * *
Миссис Н. Светловолосая, солидных размеров, сорока лет. Эта крупная загорелая женщина с блестящими глазами приветлива и уверена в себе. Почему-то кажется, что раньше она была хористкой; на самом деле она происходит из семьи, которая вот уже сто лет ведет дела на Востоке. Она дородна и становится, к собственному огорчению, все дороднее, но от еды отказаться не в силах и со смаком поглощает сливки, картошку и хлеб.
Сингапур: опиумный сон. Передо мной расстилалась обсаженная высокими тополями дорога, такие дороги не редкость во Франции, и уходила она, белая и прямая, невероятно далеко; я и не думал, что глаз мой способен охватить подобное расстояние — а дорога в зеленых тополях бежала еще дальше. И тогда я вроде бы помчался по ней, и тополя пролетали мимо быстрее, гораздо быстрее, чем мелькают телеграфные столбы, когда едешь на скоростном поезде, а они все тянулись впереди, эти длинные ряды тополей. Потом они вдруг кончились, вместо них появились тенистые деревья с крупными листьями, каштаны и платаны; они стояли на приличном расстоянии друг от друга, а я уже не мчался сломя голову, я ехал не спеша и внезапно оказался на открытом месте; глянул вниз — далеко подо мною раскинулось серое спокойное море. Там и сям рыбацкие парусники шли в гавань. Подальше, на другой стороне залива, стоял красивый опрятный гранитный дом, в прилежащем парке возвышался флагшток. Должно быть, это был пост береговой охраны.
* * *
Он двадцать лет был министром-резидентом в одном из штатов Малайской федерации. Жил почта по-королевски. Отличался большими странностями и лютым нравом. Был деспотичен, вспыльчив и чрезвычайно груб. У него была жена-малайка и от нее, а также от других женщин множество детей. Наконец он ушел на пенсию, женился на женщине из Челтнема, где и осел; с той поры его и ее единственным желанием стало пробиться в высшее общество.
* * *
Чета Д. пригласила меня на обед, желая познакомить с друзьями — мужем и женой, которые на несколько дней приехали в Сингапур. Муж работал управляющим где-то в северной части Британского Борнео. Миссис Д. сказала мне, что прежде он был жутким пьяницей: ложась спать, еженощно брал с собой бутылку виски и к утру приканчивал ее. Он стал настолько несносен, что губернатор отправил его в отпуск на родину, пригрозив, что если он до возвращения не протрезвеет, придется уволить. Поскольку он был холост, губернатор посоветовал ему подыскать себе в Англии хорошую девушку и жениться на ней, а уж она не даст вольничать. Из отпуска он вернулся женатым и совершенно перевоспитанным. К спиртному больше не притрагивался.
Эта пара и явилась на обед. Он оказался большим толстым мужчиной с крупным мясистым лицом и плешивой головой; скучный напыщенный тип. Она была довольно миниатюрная, смуглая женщина, не молодая и не красивая, но живая и явно сметливая. Очень благовоспитанная. Из тех дам, каких пруд пруди в Танбридж-Уэллсе, Челтнеме или Бате. Эти женщины рождаются на свет старыми девами; кажется, что они никогда не были молодыми и, похоже, никогда не состарятся. Те двое были женаты уже пять лет и производили впечатление очень счастливой парочки. Полагаю, она пошла за него, просто чтобы выйти замуж.
Больше я их никогда не встречал, и они так и не узнали, в какую историю ненароком влипли, придя тогда на обед. Они навели меня на мысль написать рассказ, который я назвал «За час до файфоклока».
* * *
Ява. На вокзале под конвоем солдат-яванцев стояла кучка удрученного вида людей, трое мужчин и две женщины, все в наручниках. Арестованные оказались туземцами-христианами. Ввосьмером они отправились обращать в христианство сельских жителей. В одной деревне они стали проповедовать свое учение о мире и доброжелательности ко всем людям, и тут вождь вздумал с ними поспорить. Разгорелась жаркая дискуссия, и неожиданно главный проповедник ударил вождя. Завязалась драка. В нее вступили и женщины, вождя в конце концов убили. Тут началась всеобщая свалка, в которой погибли семь жителей деревни и три самозванных миссионера.
* * *
Остров Тереди. Гостиницу держат муж и жена Брауны. Она — миниатюрная полненькая женщина, волосы подвиты щипцами, ходит неизменно в ажурных блузках. Обожает анекдоты. У нее острые хитренькие глазки и подозрительно красный нос. Возможно, в молодости была хорошенькой. Как и муж, она строит фантастические планы, мечтая разбогатеть. Муж среднего роста, ему около сорока, голова покрыта длинными жидкими волнистыми волосами. Руки и ноги у него странно болтаются, даже когда он жестикулирует, будто весь на пружинах. Чем он только не занимался! Начинал цирюльником, потом стал профессиональным бегуном, был и букмекером, и тренером, и рудокопом, и торговцем табаком, и, наконец, снова цирюльником. Очень откровенно рассказывает о своем прошлом бегуна, когда он зашибал большие деньги. Это, видимо, не слишком честный спорт: он рассказывал, что ему доводилось и бегать под чужим именем, и проигрывать, когда букмекер обещал ему барыш, и прочее в том же роде. О гостинице он совсем не радеет, его более всего занимает принадлежащий ему рудник на соседнем острове, где он надеется добыть золото. Спиртного не употребляет. От предыдущего брака у него есть дочь по имени Куини, она прислуживает за столом. Куини считает себя выше подобной работы и принимает заказы с таким видом, будто это замаскированные оскорбления. Но стоит кому-нибудь из постояльцев подтрунить над нею, она бьет его по голове карточкой блюд, приговаривая: «Да ну тебя!». Горничной работает тридцатилетняя высохшая старая дева с землистым, резко очерченным лицом. Она расхаживает по дому, накрутив челку на папильотки. Раньше она работала барменшей и считает для себя унижением заниматься домашним хозяйством. Обожает сплетничать про разных жителей острова.
* * *
С. Владеет двухмачтовым кечем водоизмещением в двадцать тонн и парой катеров, на которых добывал жемчуг, пока из-за экономического спада этот промысел не перестал приносить доход. Это мужчина шести футов росту, крепкого сложения, грузный, с круглым лицом и честными синими глазами. Держится немного застенчиво, но добродушен и внимателен. Волосы острижены коротко, только на лоб свисает небольшой завиток. Лет ему между тридцатью пятью и сорока. Выходя в море на кече, надевает старые потрепанные парусиновые брюки и майку, но на берегу носит желтые сапоги, серые брюки и белый китель, под ним форменную рубашку, которую оставляет расстегнутой, а также в любую жару крахмальный воротничок и черный вязаный галстук, который он хитрым способом цепляет за запонку воротничка, так что создается впечатление, что галстук обвивает шею. Когда С. слегка вразвалку шагает по городу, всякому видно: идет хозяин небольшого судна.
* * *
«Динтон» — кеч длиною в пятьдесят пять футов. Команда состоит из С. и четырех туземцев с островов в Торресовом проливе — все как один чернокожие, курчавые, великолепно сложенные. Одеты они в майки, залатанные грязные брюки и видавшие виды фетровые шляпы. Том Оби седой и степенный мужчина; остальные молодежь; Генри — молодой крепыш, довольно хорош собою, любит порисоваться и прихвастнуть. Утаи, в одной только юбочке лава-лава, топит в трюме хворостом очаг и стряпает еду, там же и койки матросов. Каюта находится на корме, сквозь нее проходит грот-мачта; потолок в каюте такой низкий, что невозможно встать в полный рост; вдобавок его дочерна закоптила подвесная лампа. Места там ровно столько, чтобы двое могли улечься вдоль стен, а один поперек двери. Между трюмом и фальшбортом втиснуты две шлюпки.
Выход в море был назначен на девять утра, но С. опоздал, а придя, обнаружил, что забыл прихватить запасной кливер, и отрядил за ним двух матросов. Наконец кеч отчалил и, пользуясь отливом, легко заскользил в открытое море. Дул крепкий бриз, но с ясного синего неба сияло солнце. Радостно было нестись под наполненными ветром гротом и кливером. К вечеру мы рассчитывали добраться до Мобиага. Предстояло пройти сорок пять миль. Проплывая между островами Тер-сди и Принца Уэльского, мы пообедали в рубке холодной говядиной с маринованными огурцами и вареной картошкой, напились чаю с бисквитным тортом. Когда кеч вышел из-под прикрытия островов, оказалось, что дует сильный муссон и море уже штормит. С. велел поднять фок и понадежнее закрепить бочонок с питьевой водой. Время от времени налетал шквал, и палубу окатывало дождем брызг. Увенчанные белыми барашками валы казались водяными горами, пучина была совсем рядом с палубой нашего утлого суденышка. Мы то и дело проходили мимо небольших островков; удастся ли мне доплыть до берега, всякий раз думал я, если мы перевернемся. Несколько часов спустя добрались до острова Баду, и С. объявил, что тут он бросит якорь, а к Мобиагу двинется на следующий день. Обойдя остров, мы оказались с подветренной стороны, где было гораздо спокойнее и тише. На этой якорной стоянке еще до нас укрылось от ненастья десять — двенадцать суденышек, промышлявших добычей жемчуга. В основном суда были японские, но одно, с туземной командой на борту, принадлежало австралийцу, и, бросив якорь, мы послали за его владельцем шлюпку. Напоили его чаем и пригласили приехать позже ужинать и играть в бридж. Потом сошли на берег и искупались. Обед наш состоял из выловленного по дороге мерланга, холодного мяса и пирога с яблоками. Выпили чаю, да еще и виски с содовой из жестяных стаканчиков; после чего сели в рубке под ярким фонарем «молния» играть в бридж. Т. (австралиец) рассказал, что севернее острова море разгулялось не на шутку и его судно чудом не перевернулось. Он предложил подождать, пока не утихнет шторм; все равно вода слишком взбаламучена, и добывать жемчуг невозможно. Т. был примерно моего роста, но, несмотря на молодость, весь иссох.
Худой, светловолосый, обветренное синеглазое лицо иссечено морщинами, зубы искусственные. На нем были темные штаны и майка. Около девяти всех нас стало клонить в сон, и он отправился к себе. Ночь была ясная и светлая, сияла чуть ущербная луна, под прикрытием острова ветра почти не чувствовалось. Мы соорудили из паруса навес, расстелили на палубе матрацы и улеглись.
На следующий день пораньше подняли якорь, чтобы воспользоваться отливом, но, пройдя немного, сели на песчаную мель. Отлив продолжался, и мы дожидались там начала прилива, который снял нас с мели. Пройдя между островами, мы вскоре вышли в открытое море. Вдали виднелись неровные, подернутые дымкой очертания Мобиага. Ветер дул еще сильнее, чем накануне, море штормило. Мы плыли между островами по взбаламученной воде, из которой то там, то сям торчали рифы. Один из матросов, стоя на гике, высматривал проход между ними. Всякий раз, когда волна захлестывала палубу, мы старались уклониться от тучи брызг. Внезапно раздался глухой скребущий звук, и стало ясно, что мы напоролись на риф. Потом, перевалившись через него, кеч снова оказался на глубине. Взмахивая поочередно руками, впередсмотрящий показывал стоявшему у штурвала С, куда править. С. был сам не свой от волнения. Мы снова наткнулись на риф и снова снялись с него. И тогда повернули в море, решив обойти гряду стороной.
Мобиаг окружен двойным рифовым барьером; мы направились к оконечности одного из них, чтобы, пользуясь попутным ветром, пройти между грядами, обогнуть остров и добраться до якорной стоянки. Проплыв вдоль всей внешней гряды, сменили галс и вскоре оказались в нескольких ярдах от внутреннего рифового барьера, затем круто изменили курс — кеч почти развернулся — и против ветра пошли к внешней гряде. Ветер крепчал, мы подняли все паруса. При смене галса они трепетали и громко хлопали. Этот маневр мы проделали раз пять или шесть, постепенно приближаясь к острову. Порванный в клочья кливер шумно бился о мачту. Мы промокли насквозь. В конце концов кеч двинулся к проливу между Мобиагом и небольшим островком, там и находилась наша стоянка. Ветер дул навстречу приливу, поднимая большую волну. Мне стало страшно. Кеч швыряло с боку на бок, но он всякий раз рывком выпрямлялся. Огромный вал воды с разбегу налетел на нас и, разбившись о борт, окатил всю палубу; следующий уж точно нас накроет, подумал я, кеч не успеет выровняться, но почти с человеческим проворством судно уклонилось от водяной громады и победно понеслось дальше. Тут нас прикрыл от ветра островок, и кеч бодро дошел до стоянки.
Мы сели в шлюпку и направились к берегу. Там, в лощине, среди кокосовых пальм, почти на самом берегу маленькой бухточки, стоял дом С. У двери лежал кошачий скелетик. Промокшие до нитки, мы с наслаждением переоделись в сухое и напились чаю. Потом пошли бродить по острову. Хижины островитян живописно и уютно примостились среди кокосовых пальм. Поднявшийся ночью неистовый ветер свистел и завывал в их кронах, шум стоял такой, что я не мог спать. На следующий день матросы все утро собирали на берегу камни и грузили их в шлюпку, чтобы придать ей остойчивость. Днем они ушли в деревню и вернулись только ночью. Зайдя к нам в дом, Том Оби сообщил, что сильно штормит, и С. решил подождать еще день. Ветер гнул и крутил пальмы, из морской дали налетел шквал, пролившийся на остров мелким дождем. По небу мчались тучи. Мы сели играть в карты. Несмотря на непогоду, туземцы вышли на катерах в море и к вечеру возвратились с тушами четырех дюгоней. Все островитяне собрались наблюдать за разделкой добычи, и каждому досталось по огромному куску красного мяса. По вкусу оно напоминает бифштекс, только не такой мягкий, как говяжий.
* * *
Школьный учитель. Лет ему от пятидесяти до шестидесяти; это высокий, худощавый мужчина с изборожденным морщинами лицом; на голове густая грива седых волос, усы тоже седые, на подбородке седая щетина недельной давности. Зубы щербатые, тусклые. Речь невнятная, отчасти из-за недостающих зубов, отчасти из-за пышных усов, так что слушать его нелегко. Одет в рубаху цвета хаки и обтрепанные темные в крапинку брюки, на ногах старые теннисные туфли, на голове бесформенная фетровая шляпа. Вид у него очень неряшливый и зачуханный. Пятнадцать лет он живет на Мобиаге в ветхом одноэтажном домишке, что стоит на самом берегу среди кокосовых пальм. Домишко дощатый, с рифленой железной крышей. Плетеные стулья шатаются. На стенах висят фотографии и красочные рекламные объявления. На небольшой полке все его книги — популярные романы в дешевых изданиях и несколько журналов. В жилах его жены есть примесь туземной крови. Это смуглая сутулая высохшая женщина с седыми курчавыми волосами. Ходит в рваной белой юбке и не очень свежей белой кофте. Когда я зашел к ним в дом, там на полу сидело человек двенадцать девушек-туземок, миловидных и шустрых; их обучали шитью.
* * *
Миссионер. Очень худой человек с гривой седых волос и синими глазами. Одет обычно в серые брюки и майку, а желая принарядиться, надевает поверх майки белый пасторский воротник, черную манишку и белый сюртук. В его библиотеке дешевые романы соседствуют с богословскими трудами. У него есть кеч, на котором он плавает с одного острова на другой, поскольку его приход составляют жители восьми островов. Дома бывает очень мало. У жены короткие вьющиеся волосы, и если б она не носила очков и приоделась, то была бы вполне хорошенькой. Готовит она скверно и хозяйство ведет спустя рукава. Незнакомых людей стесняется.
* * *
Возле веранды растут казуарины, сквозь них видно море и остров вдалеке. После заката солнца над морем долго еще пылало кроваво-красное небо, на его фоне темнели силуэты казуарин, кружевные, изящные, призрачные. Пейзаж напоминал японскую гравюру. Вдруг порыв ветра качнул деревья, и на небе появилась и тут же пропала белая звездочка.
Казуарины походили на ту пелену, что закрывает раскинувшийся перед глазами пейзаж, когда, дав волю воображению, наслаждаешься приятными мечтами.
* * *
На следующее утро мы направились на остров Деливеранс. С. хотел зайти туда, чтобы доставить припасы. По сравнению с предыдущим днем ветер несколько стих. Небо было затянуто тяжелыми темными, почти недвижными тучами, а ниже, как бы на их фоне, все еще неслись легкие обрывки облаков. Ярко сияло солнце. Босиком, в одной рубашке и парусиновых брюках, я сидел на палубе и читал. Какое-то время дул попутный ветер, и С. поднял грот и фок, казавшиеся крыльями огромной бабочки. Остров Деливеранс не сильно возвышается над водою, и сначала на горизонте появилось неясное пятно, затем показались верхушки деревьев. В поисках укромной стоянки пришлось обойти весь остров. В опоясывающей его гряде рифов не было прохода, и мы стали на якорь в миле или еще дальше от берега. Море было неспокойное, мы больше часа шли на веслах до мелководья. И все это время приходилось консервной банкой вычерпывать из шлюпки воду.
Вернувшись на судно, мы забросили крепкую леску, наживив на нее кусок дюгоня в качестве приманки для акул, и вскоре вода вокруг лески забурлила. Мы принялись тянуть леску. С. принес револьвер, и мы подтащили акулу поближе к поверхности возле борта. С. выстрелил, в воде расплылось кровавое пятно. Акула, однако, продолжала отчаянно биться, и С. выпустил в нее еще шесть пуль. Затем ее опутали веревкой, вокруг головы и за спинным плавником ближе к хвосту, и стали воротом вытаскивать из воды. Тушу подняли над бортом, и она рухнула на палубу. Акула была еще жива и судорожно била хвостом. Утан взял топорик и со всей силы несколько раз ударил ее по голове, затем длинным ножом рассек живот. В желудке акулы оказались кости черепахи. Мы вырезали огромную печень, затем нацепили кусок акульего мяса на крючок и бросили наживку за борт. Через считанные минуты на крюке билась вторая акула. За короткое время мы поймали трех гигантских акул, от четырнадцати до восемнадцати футов длиною. Вся палуба была жутко измазана рыбьим жиром и кровью. На рассвете следующего дня мы сбросили туши за борт и двинулись к острову Мерауке. С. решил вытопить из акульей печени жир, чтобы пропитать мачты и рангоуты, поэтому день-деньской на очаге двое матросов варили ломти печени в жестянке из-под керосина. Вонь стояла несусветная.
Между островами Деливеранс и Мерауке есть мели, так что напрямик плыть было невозможно, пришлось пятьдесят миль идти точно на юг. Дул боковой ветер, кеч жутко качало, он то и дело валился на борт чуть ли не по самый планширь и потом рывком выпрямлялся. Так продолжалось часами. Затем вода под нами помутнела, значит, мы подошли к мелям. Каждые четверть часа замеряли глубину, поглядывая, не видно ли поблизости бурунов. Волнение немного улеглось, и качало уже меньше. Земли нигде не было и в помине, не встретилось ни единого судна. В этой водной пустыне наш кеч казался совсем крохотным. День стал клониться к вечеру, и замеры показали, что под килем у нас глубина в восемь морских саженей; стало быть, мели мы прошли, и кеч взял курс на север. Дул попутный ветер, море успокаивалось; до чего же приятно было плыть без изнурительной качки. Дважды мы заметили на поверхности воды черепах, они грелись на солнышке. Бриз стихал. На горизонте громоздились тяжелые белые облака, но они стояли неподвижно, словно нарисованные. Солнце село, и небо постепенно померкло. Спустилась ночь, и одна за другой вспыхнули звезды. После ужина мы уселись на палубе покурить. Воздух был сладок и душист. Неспешно пробиваясь сквозь облака, взошла луна. Восхитительно было плыть в этой волшебной ночи. Я спал урывками и всякий раз, просыпаясь, испытывал блаженное чувство. Около двух часов ночи С. приказал убрать грот, и мы пошли под одним фоком.
На рассвете я снова проснулся. На палубе было свежо, но не холодно. Земли не виднелось нигде. Поднимавшееся солнце приятно пригревало. Каково наслаждение было сидеть ясным утром на палубе и курить! Час или два спустя мы заметили сушу. Берег был плоский и низкий. Мы шли прямо на него, и вот уже проступили очертания поросшего лесом острова, а в бинокль можно было различить маленькие рыбацкие деревушки. Мы двинулись вдоль берега, ища устье реки Мерауке. Где оно, мы не знали и потому чувствовали себя как первооткрыватели прежних лет; замеряли глубину и по очертаниям берега пытались понять, где находимся. Было известно, что в устье реки стоит маяк, его-то мы и высматривали. Так, со всеми предосторожностями, плыли несколько часов и наконец увидели на поверхности водоросли, вода стала заметно более мутной: значит, сказал С, где-то поблизости река. Пройдя еще немного, мы различили в береговой линии едва приметный прогал, а затем и тонкую белую вертикальную полоску, вроде флагштока, — это и был маяк. Поодаль увидели буй и двинулись к нему. Уже начался прилив, и, несмотря на слабый ветер, кеч шел ходко. Перед нами открылось устье, и на приливной волне мы лихо полетели вверх по реке.
Вдруг показались красные крыши города, стоящие на якоре суда и пирс. Мы убрали паруса и бросили якорь. Прибыли наконец.
* * *
Мерауке — по-голландски опрятный городок. Здесь нет того налета убожества, который так свойствен подобным городишкам в английских колониях. На берегу стоят крытые рифленым железом каркасные дома административных учреждений, один-два складских навеса и дом инспектора. Под прямым углом к ним отходит единственная улица городка, на ней живут торговцы-китайцы. Во время пребывания на острове мы ходили есть в одну китайскую лавку. После того, как мы неделю питались мясом дюгоня, солониной, грубой морской рыбой и консервированными фруктами, мы с великим удовольствием поглощали приправленные карри блюда.
* * *
Во влажной тине пересыхающих рукавов копошатся тьма ильных рыб, от мелочи длиною в пару дюймов до жирных восьми — десятидюймовых тварей. Сначала они сидят неподвижно, выпучив круглые злые глаза, и вдруг, прянув в сторону, мгновенно зарываются в норы. Удивительно, до чего быстро и ловко они передвигаются по илу на своих плавниках. Ил так и кишит ими. Они как бы воспроизводят в миниатюре картину жизни на земле в незапамятные времена, когда ее населяли такие же существа, только гигантских размеров. Есть в них что-то сверхъестественное и жуткое. Возникает препротивное ощущение, будто таинственным образом ожила сама эта жижа.
* * *
Добо (острова Ару). Это довольно убогий городишко, в нем всего две улицы, на которых расположены китайские и японские магазинчики. У самой воды ютится малайская деревня, все хижины на сваях. В гавани стоят на якоре катера ловцов жемчуга. В большом неопрятном каркасном здании располагается торговая компания «Селебес», но ее служащие едва ли не все время проводят на шхуне компании, возвращаясь в Добо только когда ожидается прибытие парохода с почтой.
* * *
Кардан. Сын английского эмигранта-неудачника, жившего на присылаемые с родины деньги, и полинезийки. Огромный толстый верзила со сверкающими глазами и очень белыми зубами; лысеет, но над ушами и на затылке пышно вьются волосы. Говорит охотно, какими-то приступами, захлебываясь от возбуждения. Искренне ко всем расположен, хохочет во все горло, а свою речь обильно пересыпает австралийскими ругательствами, грязными и непристойными.
* * *
Танал. Крошечный прибрежный городок из поднятых на сваях домиков, битком набитых китайцами, арабами и малайцами. С веранды дома для приезжих меж высоких стволов казу-арин видно воду, расположенный напротив остров и один-два домишки. Буйно, с безудержной пышностью цветут кусты. Над ними порхают гигантские яркие бабочки. В синем небе летают, сверкая оперением, зеленые попугаи с красными или желтыми головками. К вечеру начинают звонко петь птицы. Эти неистовые звуки непривычны нашему слуху. Издалека доносится барабанный бой да еще, может быть, свист деревянной дудки. На закате над островом напротив разливается багряное зарево.
Острова Кай. Идешь словно сквозь строй маленьких низких, заросших лесом островков. Кажется, будто пробираешься по лабиринту. Всходит солнце, море лежит голубое, тихое. Все вокруг так прекрасно, покойно и пустынно, что душа наполняется благоговейным трепетом. Кажется, что ты первым вторгся в эти безмолвные просторы, и дух захватывает, сам не знаешь, отчего.
* * *
Город Банда. Подходишь к нему через узкий пролив между двумя гористыми, густо поросшими лесом островами. Напротив города высится вулкан, весь покрытый косматым кустарником. Гавань глубокая, с прозрачной водою, на берегу стоят товарные склады и крытые тростником хижины на сваях.
Улицы Банды застроены одноэтажными домами, но город умер, в опустелых домах тишина. На улицах редкие прохожие ступают бесшумно, будто опасаясь разбудить эхо. Не слышно громких голосов. Дети играют беззвучно. Время от времени в воздухе сладко веет мускатным орехом. В магазинах, торгующих одним и тем же товаром — консервами, саронгами, одеждой из бумажных тканей, — все замерло; в некоторых лавках нет даже продавцов, как будто покупателей и ждать нечего. Не видно, чтобы кто-то хоть что-то покупал или продавал.
Китайцев мало: там, где торговля умирает, они не селятся, зато много арабов, некоторые в красивых каирских фесках и аккуратных полотняных костюмах, другие в белых кепках и саронгах. Арабы смуглокожи, с выраженной семитской внешностью и большими блестящими глазами. Очень много метисов с примесью малайской или папуасской крови, и, разумеется, множество малайцев. Изредка встречается бронзовый от загара голландец или дородная голландка в просторных блеклых одеяниях.
* * *
Высокие, островерхие крыши старинных голландских одноэтажных домов крыты тростником; с одного бока скат несколько удлинен и опирается на кирпичные оштукатуренные дорические или коринфские колонны, образуя просторную веранду. На веранде стоят круглые столы и жесткие голландские стулья, с потолка свисают лампы. Полы покрыты кафельной плиткой или белым мрамором. Комнаты в доме темные, обставлены сурово, по-голландски, на стенах скверные картины. Гостиная тянется через весь дом, по бокам от нее расположены спальни. Позади дома окруженный стеною сад. Побелка на стене осыпается, от сырости местами проступают зеленые пятна плесени. Сад одичал, его заполонили сорняки. Здесь буйно разрослись неухоженные розы и фруктовые деревья, ползучие растения, цветущие кусты, банановые деревья, одна-две пальмы, мускатный орех и хлебное дерево. В самой глубине помещение для прислуги.
Бродя по городу, то и дело натыкаешься на длинную белую полуобвалившуюся стену, за которой виднеются развалины зданий. Это бывший португальский монастырь. На берегу, за португальским фортом, видны чистенькие новые дома голландских чиновников.
Здесь два португальских форта. Один, расположенный в отдалении от моря, окружен рвом, в котором густо переплелись деревья и кусты; от форта остались только эти массивные стены, сложенные из огромных серых плит, а четырехугольный внутренний двор представляет собой сплошные заросли тропической растительности. Перед фортом до самого моря тянется большая незастроенная поляна, на которой растут могучие деревья — казуарины, миндаль и дикий инжир. Их насадили португальцы; вероятно, здесь они отдыхали вечерами, когда спадала жара.
На холме, на господствующей высоте, находится еще один форт, серый, открытый ветрам и окруженный глубоким рвом. Он сохранился очень неплохо. Единственная дверь расположена футах в двенадцати над землею, к ней надо взбираться по приставной лестнице. За прямоугольником стен прячется еше одно укрепление, в центре которого находится колодец. Внутри укрепления — просторные комнаты; окна и двери в них в стиле позднего Возрождения — великолепных пропорций, но почти без украшений; там, надо полагать, жили офицеры гарнизона.
* * *
Лес. В тени высоченных миндальных деревьев укрывается мускатный орех. Ноги не путаются в зарослях кустов, ступаешь только по слою гниющих листьев. Слышится гулкое воркованье огромных голубей размером с кур и верещание попугаев. Порою натыкаешься на жалкие лачуги, в которых живут нищие малайцы. Здесь влажно и душно.
* * *
Говорят, в прежние времена здесь жили очень богатые купцы, состязавшиеся друг с другом в мотовстве. У них были экипажи, и по вечерам они неспешно раскатывали вдоль берега и кружили по площади. Кораблей было столько, что порою гавань заполнялась до отказа, и вновь прибывшим приходилось ждать на рейде, пока не удалится какая-нибудь флотилия, давая им возможность войти в гавань. В качестве балласта суда обычно везли из Голландии мрамор и огромные куски льда, ведь они шли без груза, рассчитывая увезти с острова драгоценные пряности.
* * *
Полдень в тропиках. Пытаешься заснуть, но это дело безнадежное, и, оставив попытки, выходишь, отупевший и сонный, на веранду. Жарко, безветренно, душно. Голова продолжает работать, но вхолостую. Время тянется медленно-медленно. Впереди нескончаемый день. Пытаясь охладиться, принимаешь ванну, но толку от нее мало. На веранде слишком жарко, снова плюхаешься на кровать. Под москитным пологом воздух, кажется, недвижно застыл. Нет сил читать, думать, нет сил даже отдыхать.
* * *
Вечерняя свежесть. Воздух нежен и прозрачен, и охватывает острое чувство благодати. В воображении одна за другой возникают, не изнуряя, приятные картины. Кажется, будто обретаешь свободу бесплотного духа.
* * *
Гавань Макасар. Закат поразительной красоты: солнце, сначала желтое, начинает ярко рдеть и подергивается пурпуром; в сияющей дали плавает крошечный, поросший кокосовыми пальмами островок. Морской простор отливает полированной медью. Не подобрать слов для описания этого ослепительного зрелища. Его великолепие повергает в трепет, колени подкашиваются, но одновременно сердце полнится блаженством, и если бы умел петь, то не удержался бы. Что именно запел бы? Квинтет из «Мейстерзингеров»? Нет, какое-нибудь григорианское песнопение — о смерти, в которой нет печали, а одно лишь свершение предначертанного.
Вот что придает прелесть этим восточным городкам: гавани, полные военных кораблей, грузовых и пассажирских пароходов, диковинного вида шхун (в них что-то еще осталось от галеонов, когда-то впервые доплывших до этих дальних морей) и рыбацких лодок, а еще — восходы и закаты.
1923
Т. Отставник, после войны приехал на Цейлон, стал секретарем клуба в силу того, что прежде заведовал полковой столовой. Приземистый, коренастый, при длинном туловище слишком короткие ноги. В донельзя затасканных широченных брюках и длинном просторном домотканом балахоне вид у него нелепый. Дает понять, что служил в кавалерии, на самом же деле служил в йоркширском полку легкой пехоты. Темные, жидкие волосы прилизаны, зато усы — роскошные, распушенные. Гордится тем, что прекрасно играет в бридж, партнеров распекает. Любит поговорить о знатных особах, с которыми был знаком, о генералах и фельдмаршалах, с которыми на дружеской ноге.
* * *
Ворюга. Ему слегка за пятьдесят, но выглядит гораздо старше. Плешивый, волосы и усы совсем седые. Багровый, разбухший нос. Сидя, кажется сгорбленным и приземистым, но когда встает, неожиданно оказывается довольно рослым. Страстный рыбак, рыбная ловля — его конек. Носит в карманах наживку. Увлекается бабочками и готовит книгу о цейлонских бабочках. Много пьет и охотно повествует о пьянках, в которых участвовал. За что его прозвали Ворюгой, не знаю.
* * *
Джунгли. Прямо перед закатом бывает миг, когда кажется, что деревья отделяются от леса, обретают неповторимость; тогда деревья заслоняют лес. В этот колдовской миг чудится, что у деревьев начинается иная жизнь — легко представить, что в них обитают духи и что после захода солнца они способны перемещаться. Чувствуешь — в любой момент с ними может произойти нечто невероятное и они волшебно преобразятся. Еще миг, и вот уже опускается ночь — деревья возвращаются в джунгли; притихшие, безмолвные, они сливаются с лесом.
* * *
Дом плантатора. Двухэтажное бунгало на вершине холма, его окружает сад — в саду лужайки, поросшие какой-то жесткой травой, ярко-желтые индийские канны, гибискус, цвету-шие кустарники. За бунгало — раскидистое дерево, усыпанное красными цветами. С веранды видна узкая полоска холма, засаженная каучуконосами. С задней стороны дома имеется небольшая гостиная, но на самом деле гостиной служит просторная открытая веранда, обставленная мебелью местной работы — громоздкими креслами с откидными скамеечками для ног, тростниковыми стульями, одним-двумя столиками, немногочисленными полками с дешевыми затрепанными томиками нудных романов. Спальни наверху; они скудно обставлены железными кроватями, раскрашенными сосновыми комодами и умывальниками с надтреснутыми, разрозненными кувшинами и тазами. Стол сервирован толстенными стаканами, убогими ножами и вилками, самым дешевым фаянсом. К обеду подают много блюд — суп, рыбу, жаркое, десерт, но все дурно приготовлено и подается до того неряшливо, что есть не хочется.
* * *
Рангун. Отец и сын, оба капитаны сухогрузов, принадлежащих китайской фирме. Отец боготворил своего подтянутого, толкового, статного сына и пришел в ужас, когда тот влюбился в бирманку, мало сказать влюбился — влюбился безумно. До самозабвения. Стал жить, как живут туземцы, курить опиум и со временем потерял работу. Отец уверил себя, что девушка приворожила мальчика и решил спасти его. Однажды ее нашли мертвой — она утонула. Никто не знал, как это случилось, но в ее гибели винили отца. Сын был в отчаянии. Буквально убит горем, и пылкая любовь к отцу обернулась смертельной ненавистью.
* * *
Мандалай при луне, Белые ворота залиты серебряным светом, между очертаниями возвышающихся над ними зданий проступает небо. Впечатление упоительное: Ров в Мандалае — одно из малых чудес красоты в мире. В нем нет ни совершенства Килауэа, ни броской картинности озера Комо, ни томной прелести побережья южных островов Тихого океана, ни сурового величия, которое сплошь и рядом поражает в Пелопоннесе, но это красота такого рода, которая радует, дарит наслаждение и становится твоей. Она не ошеломляет, но не перестает восхищать. Для того чтобы оценить другие красоты и радоваться им, требуется определенное состояние ума, — эта красота радует в любое время года и в любом настроении. Она как стихи Херрика, за которые берешься, когда не в состоянии читать «Божественную комедию» или «Потерянный рай».
* * *
Ф. Крупный, грузный, редкие седые волосы, но цветущее лицо его округло, не изборождено морщинами, и оттого временами вид у него чуть ли не мальчишеский. Седые усишки щеточкой. Зубы скверные, посреди рта торчит один шаткий, длинный, пожелтевший зуб — кажется, дерни покрепче и вырвешь. Лицо блестит от пота. Когда не ходит в форме, носит костюм цвета хаки, тенниску с распахнутым воротом, без галстука. Одна нога у него не сгибается — он был тяжело ранен на войне и при ходьбе заметно припадает на одну ногу. Не интересуется ничем, кроме лошадей. Называет их «клячами» и с утра до вечера только о них и говорит. Много участвует в скачках, держит своих пони и стал притчей во языцех, потому что неизменно проигрывает. Свойский, сердечный, и при всем том чувствуешь: он пойдет на любые уловки, известные старожилам ипподрома, и ни перед чем не остановится, лишь бы добиться победы на скачках.
* * *
Е. Называет себя деревенщиной и, видимо, так натерпелся из-за своего деревенского происхождения, что тычет его всем в лицо. Отец его был помощником капитана на чайном клипере, ходившем в Китай, со временем обосновался в Моул-мейне и женился на бирманке. Е. в 1885 приехал в Мандалай в качестве переводчика и осел там, сначала был чиновником, потом обзавелся собственным делом, торговал нефритом, янтарем и шелком. Когда я пришел, меня провели в комнату,(служившую одновременно гостиной и лавкой. Она заставлена дешевой европейской мебелью, мягкими креслами и диванами, журнальными столиками и этажерками, там и сям стояли горки — в них выставлено немало нефрита и янтаря не лучшего качества. Вентилятора нет, в жаркой, душной комнате во множестве летали москиты. Он заставил себя ждать — одевался. И наконец вышел ко мне — высокий, тощий, совершенно седой, лицо темное, землистое, нос приплюснутый. Многоречив, голос громкий, скрипучий; видимо, ему доставляет удовольствие слушать себя. Говорит чинно, замысловато, сыплет словесами, которые в обыденной речи не встретишь. Длинное слово всегда предпочтет короткому. Испытывает пристрастие к банальностям. Кого бы и как часто ни упоминал, неизменно называл его титул полностью. К примеру, говорит: генерал сэр Джордж Уайт, герой Ледисмита, генерал сэр Гарри Прендер-гаст, кавалер креста Виктории.
* * *
Г. Очень высокий, футов шести с гаком, красивым его не назовешь, но наружность у него располагающая. Худое загорелое лицо с запавшими щеками; голубые, смеющиеся глаза. Бритый, носит лишь усы щеточкой. Коротко стриженные волосы почти не тронуты сединой. Движется свободно, легко, изящно. Одет без претензий, но хорошо, в просторный, отлично сшитый костюм. Он кавалерист, и можно представить, как он эффектен в форме. Выговаривает слова с оттяжкой, склонен к юмору. Сдержанно ироничен. Большой лошадник, страстный спортсмен, не стесняясь рассказывает о довольно своеобразных играх, в которых участвовал.
* * *
Т. Высокий, худой, с бледным, бритым лицом, в очках. Чем-то смахивает на студента, его скорее примешь за литератора, чем за бывалого жителя джунглей. Держится робко, виновато. Так долго жил один, что говорит мало. Одет в защитного цвета шорты, рубашку и носки гольф. По профессии горняк, открыл нефритовые залежи к северу от Бирмы, надеется нажить на них состояние. В Мандалай приезжает на дождливый сезон, весь остальной год проводит на карьере, где в округе радиусом семь миль нет ни одного белого.
1929
Борнео. X. ходит в рубашке и шортах защитного цвета. Носит коричневые башмаки и носки-гольф. Примерно среднего роста, толстый, с кирпично-красным блестящим от пота лицом и крючковатым носом. Голубые глаза, волосы довольно густые, со лба лысеет. Говорит почти исключительно штампами, особенно за выпивкой. Очевидно, хочет показать, что он не кичится. Впрочем, с глазу на глаз говорит более естественно, вполне как джентльмен; у него две кошки и собака. Из семьи священнослужителей.
* * *
А. Валлиец, говорит с сильным валлийским акцентом, худой, неопрятный, бритый, лопоухий, черты лица неправильные. Нехорош собой, болезненного вида. Склад ума сардонический, имеет привычку льстить людям, радуется, когда его фальшивые комплименты принимают за чистую монету. Одет дурно, неряшливо. Хорошо играет на рояле, любит классическую музыку. Когда не в духе, утешается музыкой. Производит впечатление деревенского парня из семьи более чем скромного достатка, которому благодаря усердной учебе в школе и умению сдавать экзамены удалось поступить на государственную службу. В его комнате множество школьных грамот, как водится, в рамках. Любит читать по-французски, собрал небольшую библиотечку современной французской литературы, однако говорит по-французски плохо.
* * *
Султан. Договорились, что султан даст нам аудиенцию в зале для приемов; подходя к залу, мы увидели, как он со свитой спускается из своих покоев, — нам пришлось посторониться, чтобы дать ему дорогу. Его сопровождали два почтенных мужа и разношерстная свита, один из придворных нес над его головой зонтик. Зал для приемов представлял собой комнату, в одном конце которой стоял аляповатый раскрашенный трон. Перед троном помещался стол, вокруг него шесть стульев, по обе стороны от него во всю длину залы тянулись два ряда стульев. Нас представили султану, затем двум его регентам. Султан — мальчик лет тринадцати, у него длинное лошадиное лицо, светлая матовая кожа, крупный рот, улыбка обнажает длинные зубы и десны, глаза-бусинки бегают по сторонам. Желтое шелковое одеяние — куртка, брюки и саронг, на голове черная феска с аппликациями золотой парчи, расшитой фальшивыми бриллиантами. На шее множество золотых шнуров, цепочек и большая золотая медаль. На регентах — они из числа близких родственников султана — какие-то голубовато-серые подобия тюрбанов, сделанные из шелковых платков, темные брюки, короткие малайские курточки и саронги. Один сильно косоглаз, носит очки с синими стеклами. Младшего брата султана, бледного мальчугана лет восьми, принес на руках придворный, мальчуган всю аудиенцию просидел у него на коленях. Султан время от времени вопрошал взглядом косоглазого регента, что делать дальше, но при этом казался вполне уверенным в себе и не тушевался. Он восседал в кресле в центре стола, регенты сидели по одну его руку, британский резидент и мы — по другую. Позади него сгрудились чиновники, одетые довольно убого. Один из них держал карающий меч, другой — копье, третий — подушку, четвертый — приспособления для жевания бетеля. Обносили крупными, размером со свечу, сигаретами местного производства из грубого местного табака, завернутого в пальмовые листья; однако раскуривались они легко и неспешно. Остальные советники разместились на стульях по обе стороны зала и, похоже, внимательно прислушивались к беседе, которая велась за круглым столом. Позади трона стояли две огромные свечи — они, по всей вероятности, должны были знаменовать чистоту помыслов султана. Мальчуган, брат султана, смотрел на нас во все глаза. Регент от лица султана отпустил нам затейливый комплимент, затем резидент от моего лица произнес пространную речь, изложив, кто я и что. После чего завязался бессвязный разговор, каждая сторона ломала голову над тем, что бы такое сказать. И наконец, после прощального комплимента регента и любезного ответа резидента, мы откланялись.
* * *
Какие только деревья ни растут на холме за резиденцией султана — они раскиданы беспорядочно, по прихоти природы, но кажется, будто их расположение тщательно продумано. Такие холмы видишь на старинных китайских картинах.
* * *
Мы обошли заводик по производству катеху. На берегу речки, у подножья холма, множество навесов на сваях из плохо обтесанных бревен, крытых рифленым железом. На холме растут бананы, папайи, самые разные деревья. Впечатление такое, будто навесы строили наспех, без всякого плана, по мере того, как в них возникала необходимость. Грязноватый, запущенный, заводик резко отличается от содержащихся в образцовом порядке английских и американских фабрик. Катеху употребляют для дубления, его добывают из коры мангрового дерева; во всех заводских помещениях попахивает танином. Повсюду расставлены огромные чаны, в которых кору, предварительно размолотую довольно сложной машиной, промывают водой и кипятят, пока не получат танин; готовый катеху вытекает из чана густой, рыжеватой, вязкой жижей, похожей на патоку. Когда катеху засохнет, из него формируют большие, очень твердые круги. Управляющий и два его помощника живут в отдельных бунгало на холме, есть здесь и маленький клуб, где они проводят вечера. Клуб размещается в одной комнате, большую часть ее занимает бильярдный стол; на оставшемся пространстве размещается небольшой бар, ломберный стол и стол, на котором лежит груда газет — «Дейли График», «Миррор», и журналы типа «Ройал» и «Стрэнд». Всю работу по клубу делает один парень, он и спиртное подает, и в промежутках исполняет обязанности маркера. Грязь в клубе несусветная. Управляющий — дебелый, в роговых очках, со вставными зубами, с бритым, бронзовым от загара квадратным лицом. Он уже четверть века живет здесь и, как говорят, обладает большим влиянием на туземцев. У него привычка пересыпать речь французскими словечками. Он слывет человеком отзывчивым и надежным. Троица, составляющая весь штат заводика, не ладит друг с другом. Они то и дело скандалят между собой. Инженеру под тридцать, у него такой сильный шотландский акцент, что англичанину не просто его понять. Примерно среднего роста, одет в поношенный серый тиковый костюм и драную тенниску. У него привлекательное, симпатичное лицо, с чертами не сказать, чтобы тонкими, но недурными, голубые глаза — по первому впечатлению, мутные от пьянства, но если вглядеться без предубеждения, увидишь в них и тайну, и трагизм. Они полны недоумения — можно подумать, что здесь, на Востоке, ему открылось такое, чего он не может постичь, и это лишило его равновесия и пустило плыть по воле волн в житейском море. Говорят, он беспробудно пьет, а когда напьется — бранчлив и буен. Третий — коротышка крепкого сложения, с рыжеватыми волосами и крупным носом, все больше помалкивает.
* * *
Лабуан. Высаживаешься на пирсе и выходишь на главную улицу, тянущуюся вдоль моря. Это сплошная стена китайских и еврейских лавочек, довольно необычных: часто у одной лавчонки два-три хозяина; по одну сторону двери у окна — парикмахерское или зубоврачебное кресло, по другую — у окна верстак часовщика, в глубине торгуют консервами. Есть здесь три-четыре лавчонки еврейских торговцев из Багдада. В одной, где торгуют всевозможным мелочным товаром, в глубине на скамье возлежит еврейка удивительной, почти немыслимой красоты. Полулежа-полусидя, прикрытая одним линялым розовым халатом, она предается лени. Ее белые ноги босы. Прелестное, овальное лицо, матовая кожа, копна иссиня-черных волос, великолепные коровьи глаза. Казалось, она сошла со страниц арабских сказок. И такая в ней томная нега и чувственность, что дух захватывает. Муж у нее — долговязый, тощий, бородатый еврей в очках, таких во множестве встречаешь в лондонском Ист-Энде; сметливый, продувной и раболепный.
* * *
Малайская федерация. Заря на море. Я проснулся, едва начало светать, и вышел на палубу. Горы Перака затянуты дымкой, над ними нависли сизые облака, солнце, показавшись на миг, окрашивает их в розовые и золотые тона — ни дать ни взять саронги Тренгану.
* * *
Рисовые трупиалы. Белая стая беспорядочно мечется туда-сюда, как нечаянные мысли, проносящиеся в голове без всякой на то причины и какого бы то ни было порядка.
Резидент, советник посольства. Маленького роста, лет пятидесяти — пятидесяти двух, седые волосы, кустистые седые брови. Отличный профиль — в молодости явно был хорош собой. Голубые глаза поблекли, тонкогубый рот сложен в брюзгливую гримасу. Говорит так, словно у него нет зубов — понять, что он бормочет, очень трудно. Его считают застенчивым, но у меня такое впечатление, что он просто не знает, как себя вести в обществе. Теряется, когда надо представить людей друг другу. Не осмеливается уйти из гостей первым, только вслед за кем-то. Добросовестный и трудолюбивый, но недалекий. Из тех чиновников, которые вечно боятся совершить ошибку и оттого привержены дурацким предубеждениям и бюрократической волоките. Хотя прожил здесь лет тридцать, еле-еле говорит по-малайски, не интересуется ни страной, ничем, кроме своей работы, — хочет делать ее так, чтобы начальникам было не к чему придраться и чтобы можно было уйти в отставку, едва выслужит пенсию. Всецело сосредоточен на пустяках, для более общих соображений у него просто нет времени. Интересуется исключительно местными делами: клуб, кто прибыл в округ, кто убыл из него.
* * *
Плантаторы. Делятся примерно на два класса. Большинство — грубые, примитивные люди, из низших слоев среднего класса, говорят со скверным выговором или сильнейшим шотландским акцентом. Склад ума пошлый, мысли заняты исключительно каучуком и ценами на него, а также клубными развлечениями. Что касается жен, то одни жеманятся, тщась выглядеть леди; другие — крикливые, шумные и разбитные. Плантатор второго класса окончил частную школу, а то и университет. Плантатором стал, потому что не мог заработать на жизнь в Англии, а выращиванием каучуконосов, как видно, можно заработать, не имея ни подготовки, ни опыта. Нередко слишком уж старается довести до сведения, что по рождению он джентльмен, однако по уровню беседы и по интересам ничем не отличается от других плантаторов, разве что в Англии, в отпуске, ведет несколько иной образ жизни. К государственным чиновникам все плантаторы относятся одинаково — со смесью страха, зависти, презрения и раздражения. Исподтишка насмехаются над ними, но прием в саду или обед в особняке резидента для них — целое событие. Отыскать среди плантаторов человека образованного, начитанного или утонченного — задача не из легких.
Малайская федерация. Мак остановился в пансионе; постоянно он живет на юге Голландского Борнео, а сюда приехал в надежде продать компании «Данлоп» плантации каучуконосов, принадлежащие каким-то голландским малайцам. Впрочем, готов торговать всем, чем угодно; ухлопал уйму времени — пытался всучить автомобиль молодому евразийцу и заинтересовать каких-то сингапурских евреев черными бриллиантами, заверяя их, что может выхлопотать права на ведение разработок в Борнео. За последние тридцать пять лет объездил чуть не весь Борнео и перепробовал множество занятий. Сначала был миссионером, затем государственным чиновником, занимался межеванием на Пераке; после чего стал плантатором, затем горняком, был представителем самых разных европейских фирм. Похоже, ни в чем не достиг успеха, теперь ему без малого шестьдесят. Высокий, крепкого сложения, ступает по-мужицки тяжело, так, будто пытается вывязить башмаки из глины. Бурое лицо, голубые глаза с покрасневшими веками. Производит впечатление мелкого пройдохи. Повествуя о Малайской федерации, рассказывает в основном о людях, которые так ли, сяк ли его надули, пытается внушить, что он — единственный честный человек в этом мире мошенников. Из всех его рассказов интерес представляет лишь один — о женщине, которая вскоре после свадьбы узнала, что трое-четверо полукровок в их деревне — дети ее мужа, и подговорила вождя племени утопить их. Возможно, история эта — вымысел от начала и до конца, но он рассказывал ее до того желчно и смешно, что я в нее поверил.
* * *
О. Секретарь клуба, маленький, сутулый, ему около пятидесяти. Владеет плантацией давно. По общему уровню и начитанности куда выше большинства местных, весьма остроумно и ядовито вышучивает плантаторских жен, ропщущих на тяготы жизни вдали от Англии. Говорит, что плантаторы, как я и предполагал, в основном, выходцы из нижних слоев среднего класса, и их жены в большинстве своем на родине стояли бы за прилавком, тогда как здесь у них дома, множество слуг и автомобили.
* * *
Дж. Р. Инженер, состоит на государственной службе. Низенький, щеголеватый, с четкими чертами лица, седой. Педантичен. С ног до головы солдат и джентльмен, имеет дом на острове Уайт и через год, когда выйдет в отставку, намерен поселиться там. Подыскивает себе занятие, подумывает о птицеферме — надеется, что так скоротает время и получит десять процентов дохода от вложенной в ферму суммы. Типичный отставник, все предрассудки военной касты для него незыблемы. Легко представить, как он сойдется с отставниками, в конце концов обосновавшись в Вентноре.
* * *
П. Дюжий, дебелый грубиян-ирландец с двойным подбородком. Лицо кирпично-красное, как и положено ирландцу, — кудрявый, голубоглазый, говорит с сильным акцентом. Тридцать пять лет на государственной службе, начинал простым полицейским. Теперь возглавляет полицию. Недавно женился во второй раз на смазливой девчонке из Белфаста, моложе его дочери, по виду типичной буфетчице. Весело, благодушно подшучивает над собой. Водил нас по тюрьме. Показал арестантов, приговоренных к длительным срокам; закованные в кандалы, они заняты на разных работах. Кто моет рис, кто плотничает. В двух тесных камерах содержатся смертники, они сидят по-турецки на койках, совершенно голые, если не считать тюремных саронгов — полоски замызганной белой с тюремным клеймом ткани, вытканной самими заключенными. Они ничего не делают. Смотрят прямо перед собой. Нам сказали, что за три дня до казни им дают по пять долларов в день, и они могут потратить их по своему усмотрению на еду, выпивку или курево. В день казни смертник идет через тюремный двор к водоему, там он моется, затем в комнату, где ему дают завтрак, затем по узкой лесенке в камеру, где приговор приводят в исполнение. На голову ему натягивают белый колпак и поворачивают лицом к стене. Вокруг шеи обертывают веревку, привязанную к железному кольцу в потолке, ставят на крышку люка и выдергивают засов. Это приспособление нам демонстрировал препошлейший кокни, приземистый, с почерневшими обломками зубов, женатый на японке. Я спросил, не ужасает ли его смертная казнь, он в ответ только засмеялся и сказал, что это не мешает ему спать. Он рассказал, что арестант, которого должны были казнить на следующий день, на вопрос, есть ли у него последнее желание, ответил: «Есть, я хочу женщину». Начальник полиции прыснул: «Молодчага, — сказал он. — Я, разумеется, не стал бы возражать, но, сами понимаете, это против правил. Местное общество сжило бы меня со свету».
Я с интересом наблюдал, как производится мытье арестантов — им полагается мыться два раза в день. Их партиями подводят к большому водоему, у каждого свой таз, по команде они четыре раза окатываются, растираются и, по команде же, снова четыре раза окатываются. Затем по-быстрому надевают сухие саронги и уступают место следующей партии.
* * *
В ночной тьме вырисовываются стройные, изящные очертания арековых пальм. В них суровая красота силлогизма.
* * *
Л. К. У него прозвище гнилушка Гей. Он учился в Бейлли-оле, более образован и начитан, чем плантаторы и государственные чиновники, с которыми вынужден проводить время. Учился в кадетском училище, готовился в офицеры, но стал школьным учителем. Отлично играет в бридж, прекрасно танцует. Местные считают его заносчивым и относятся к нему крайне недоброжелательно. Одевается не без шика, умеет занятно вести беседу на оксфордский манер. Остроумно пересыпает речь жаргонизмами и в то же время у него речь человека образованного. Говорит своеобычно. Хорош собой, лицо интеллектуала — мог бы сойти и за молодого преподавателя Оксфорда или Кембриджа и за профессионального танцора из ночного клуба.
* * *
С. Чопорный, старательный, педантичный, добропорядочный и скучный. Жена — легкомысленная вертушка. Благодаря своим способностям занял в Сингапуре видное положение. По соседству с ними жила одна супружеская пара. Муж — брызжущий энергией здоровяк, жена — ханжа, такая же добропорядочная и скучная, как С. Оба средних лет. В один прекрасный день эта дама и С, к удивлению всей колонии, сбежали вместе. Брошенные муж и жена затеяли бракоразводный процесс и, в конце концов, поженились. С. лишился работы, поселился в Англии, живет в бедности с женщиной, которую увел от мужа. Полное торжество сингапурской колонии омрачает лишь то обстоятельство, что, по слухам, они бесконечно счастливы.
* * *
Прогуливаясь, я думал о широкой дороге — иногда я вижу ее во сне — дороге, петляющей по холмам точь-в-точь, как та, по которой я шел; она ведет в город, куда я, сам не знаю почему, стремлюсь попасть. По ней торопливо идут мужчины и женщины, и, проснувшись, я нередко обнаруживаю, что стою посреди комнаты — так велико мое желание слиться с толпой. Я ясно вижу город на вершине горы, обведенный крепостными стенами, вижу и дорогу, широкую, белую; петляя по холму, она ведет к городским воротам. Свежий душистый ветерок, синее небо. Они идут и идут вперед, женщины и дети, не переговариваясь — они устремлены к цели, лица их озарены надеждой. Они не смотрят по сторонам. Они спешат, их глаза горят нетерпением. Я не знаю, на что они надеются. Знаю лишь, что их гонит вперед некая неотступная мечта. Город несколько напоминает города на картинах Эль Греко, вырастающие на отрогах гор, — «землю моей мечты», зыбкие видения, которые встают при свете молнии, вспарывающей ночную тьму. Но те города — с узкими, кривыми улочками, обложенные со всех сторон тяжелыми тучами. В городе же, который мне снится, светит солнце, а улицы — широкие и прямые. Что за люди живут в этих городах мистиков, уклад этих городов, умиротворение, которое они дают истерзанному сердцу, — я смутно представляю; но что за люди живут в моем городе и почему тех людей на дороге так страстно влечет к нему, я не знаю. Знаю только, что мне насущно необходимо туда попасть и что, когда я наконец войду в его врата, я обрету там счастье.
Стихи;
Невыносима мысль, что я теряю Тебя, и мы отныне будем порознь. Хотя в твоем непостоянном сердце Нет ни любви, ни нежности ко мне. Я вижу: ты налево и направо Непрошенные ласки раздаешь. Когда же я пытаюсь разорвать Цепь, что связала нас, ты оплетаешь Меня своими нежными руками, Чтоб удержать… Благодарю смиренно Тебя за все обманы и притворства, За все твои скупые поцелуи, Хотя за них я золотом платил. Но та любовь, как я мечтал, до гроба Не дожила. Она мертва сегодня. Ах, где твоя былая власть, когда Светлело небо от твоей улыбки, А от небрежно брошенного слова Средь полдня солнце покрывала хмарь? Не смерть и не разлука, а усталость Любовь казнят — и, как вода в реке. Во время засухи, она иссякла. Я заглянул в свое пустое сердце И в ужасе, в отчаяньи отпрянул: Моя душа — пустыня, дикий ветер Над нею дует, и ночные птицы Вьют гнезда среди царственных могил. Теперь я на тебя гляжу с печалью, И сожалею о своем страданьи, Восторгах, боли, муке и блаженстве.1930
Пансион в Никосии. Типично английская еда — так кормят в какой-нибудь гостиничке на Бейсуотер-роуд. Суп, рыба, жаркое, на десерт бисквит со сливками или горячий пудинг с заварным кремом, по воскресеньям плюс к тому закуска — фаршированные яйца. Две ванные комнаты, воду нагревают в колонке, топят ее дровами. В комнатах стоят узкие железные кровати и дешевая, крашенная белой краской мебель. На полу полоски ковра, смахивающие на лошадиные попоны. В гостиной — громоздкие, обитые английским ситцем кресла и столы, крытые мережевыми скатертями. Лампы яркие, но размещены так, что особо не почитаешь. По вечерам здесь собираются гости, играют по мелочи в карты, шумно подтрунивая друг над другом. Хозяин — толстячок-грек, дурно говорит по-английски, разносить еду ему помогает плюгавый греческий юнец с красивыми глазами и золотым зубом.
Жильцы. Военный, в прошлом драгун, джентльмен до мозга костей, отлично воспитан. У него туберкулез, и он то живет в пансионах Ривьеры, то кочует по Ближнему Востоку. Высокий, изможденный, с резкими чертами лица и жидкими, прилизанными волосами. Пожилая, полная дама, совершенно седая, но крайне веселая и кокетливая. Таких называют мужчинни-цами. Она то и дело хохочет и чрезвычайно игрива. Предприниматель из Египта со своей дородной женой. У него медно-красное лицо и седеющие, коротко, по-солдатски стриженные волосы; похоже, служил в армии. Старик в очках в золотой оправе, не спеша разъезжает по Европе, изучает, как обстоят дела с социальным обеспечением в разных странах. Пишет статьи для третьестепенных газетенок, собирает материал для книги об условиях жизни рабочего класса. Ни о чем другом разговаривать не может. У него большой запас затасканных анекдотов, которые он рвется рассказывать, но остальные жильцы идут на всевозможные уловки, чтобы его прервать. Две изящные дамы хрупкого здоровья — они практически не выходят из своих комнат. Другие женщины никак не могут взять в толк, почему им перед каждой едой подают в комнаты коктейли.
Тучный старичок с седой бородкой клинышком, в очках, прожил сорок два года в Японии. Его предприятие пострадало от землетрясения, перестало приносить доход и его пришлось ликвидировать. Он вернулся в Англию, решил поселиться с дочерью, купил дом в Харроу, предполагая до конца своих дней жить с ней и ее мужем. Дочь он почти не видел с тех пор, как ей исполнилось полгода, — ее тогда отправили в Европу — и, когда они поселились вместе, оказалось, что у них нет ничего общего. Начались нелады, и он, оставив ей дом, уехал на Ближний Восток. Тоскует по Японии и хотел бы туда вернуться, но понимает, что ему не по средствам жить там на широкую ногу, как прежде. Здесь он ходит в клуб, читает газеты, играет в бильярд. Вечерами в гостинице раскладывает пасьянс или слушает чужие разговоры. Сам вступает в разговор крайне редко, явно чувствует себя не в своей тарелке, но смеется, когда жильцы поддразнивают друг друга. Коротает свой век. Разговоры здесь сводятся к взаимному поддразниванию. Плата за пансион — десять шиллингов в день.
* * *
Нью-Йорк. Она служила секретаршей у богатой женщины и жила в небольшой гостинице; там жил и отец одного английского поэта. Пламенная поклонница поэта, она опекала ради него отца, обнищавшего, спившегося и довольно беспутного старикана. Он любил сына, гордился им. Затем поэт приехал в Нью-Йорк — погостить у ее хозяйки. Она считала, что поэт просто не знает, как нуждается его отец, и, едва его просветят на этот счет, непременно поможет старику. Но время шло, поэт не выказывал желания увидеть отца, и, в конце концов, в один прекрасный день, отвечая под диктовку поэта на письма, она рассказала ему, что знакома с его отцом, что они, к слову сказать, живут в одной гостинице и что отец очень хочет его повидать. «Вот как?» — сказал поэт и продолжал диктовать. Она пришла в ужас. Сочла своим долгом рассказать об этом старику. Старик расхохотался. «Стыдится меня», — сказал он. «Он никудышный поэт», — возмутилась она. «Нет, — ответил старик, — он никудышный человек, но это не мешает ему быть великим поэтом».
Писатель должен без устали изучать людей, а мне, увы, это порой наскучивает. Тут требуется невероятное терпение. Разумеется, встречаются люди с такой ярко выраженной индивидуальностью, что их видишь сразу во всех деталях, как завершенную картину; это «чудаки», впечатляющие, яркие фигуры; они рады случаю выставить свои странности напоказ, словно бы теша себя и желая нас потешить. Но их немного. Это люди необычные и, следовательно, им присущи все достоинства и изъяны натур исключительных. И чем более они колоритны, тем менее достоверны. Изучать рядового человека — совсем другое дело. Ему присуща поразительная неопределенность. Вот он, этот человек, со своим характером, самостоятельный, с множеством особенностей; но ясного и четкого образа из всех этих свойств не складывается. Раз он себя не знает, что он может рассказать о себе? И пусть он даже очень разговорчив, ничего передать он не может. И какими сокровищами он бы ни обладал, он таит их тем более успешно, что сам не ведает, чем владеет. Если вознамериться создать из этого нагромождения примет человека — подобно тому, как скульптор высекает статую из глыбы камня, — нужно время, терпение, китайское хитроумие и, как минимум, десяток тому подобных свойств. Придется часами слушать, как он пересказывает чужие мысли в надежде, что в конце концов он ненароком выдаст себя случайной фразой. И впрямь, чтобы знать людей, должно интересоваться ими ради них, а не ради себя, — должно интересоваться тем, что они говорят, только потому, что это говорят они.
* * *
Наружность. Как описать наружность персонажа — вот одна из трудностей, встающих перед романистом. Самый естественный путь — конечно же, простое перечисление: рост, цвет и форма лица, размер носа, цвет глаз. Перечислять можно скопом или по отдельности при удобном случае — характерная черта при уместном повторении врежется читателю в память. О ней можно упомянуть, когда персонаж предстает перед читателем впервые, или же, когда он уже успел возбудить интерес читателя. Так или иначе, я не верю, что читатель четко представляет себе наружность персонажа. В былые времена романисты очень подробно описывали внешность своих персонажей, и тем не менее случись читателю лицезреть во плоти особу, с таким тщанием описанную автором, думаю, он бы ее не узнал. По-моему, не взирая на пространные описания, точный образ почти никогда не складывается. Мы четко и ясно представляем себе как выглядели великие литературные персонажи лишь, когда иллюстратор ранга Физа навязывал нам свое видение мистера Пиквика, а Тэнниэл — Алисы. Читать перечень примет, разумеется, скучно, и, чтобы придать описаниям живость, многие писатели прибегали к импрессионистскому методу. Конкретными деталями они полностью пренебрегали. Отведут две-три более ли менее остроумных фразы наружности персонажа в расчете, что нескольких ядовитых замечаний да впечатления, которое он произвел, скажем, на любопытного прохожего, достаточно, чтобы у читателя составился портрет персонажа. Такие описания куда занятнее читать, чем сухой перечень примет, однако представления о наружности персонажа они не дают. Я полагаю, что живость этих описаний прикрывает отсутствие у авторов четкого представления об облике своего персонажа. Писатели бегут от трудностей. А некоторые из них и вовсе не подозревают о том, как важен внешний облик персонажа. Похоже, они никогда не замечали как наружность влияет на склад характера. Мужчина ростом в пять футов семь дюймов и мужчина ростом в шесть футов два дюйма живут в разных мирах.
1933
Монтсеррат. Он подобен суровой и сложной поэме поэта, понуждающего свой стих к необычной гармонии и преодолевающего сопротивление формы в стремлении передать многозначную мощь и красоту мысли, которую не выразишь словами.
* * *
Сарагоса. Часовню скудно освещают алтарные свечи, на ступенях алтаря преклонили колени две-три женщины и мужчина. Над алтарем раскрашенная статуя — Христос на кресте, чуть ли не в натуральную величину. Низким лбом, густыми черными волосами и небрежной черной бородкой он походит на астурийского крестьянина. В темном углу часовни, поодаль от молящихся, стоит на коленях женщина, она простирает чуть расставленные руки к алтарю так, словно подносит на незримом блюде свое истерзанное сердце. У нее продолговатое, гладкое без морщин лицо, большие глаза обращены к статуе Христа над алтарем. Ее поза — поза молитвенницы, беспомощной и беззащитной, взывающей о помощи в смятении и горе, — пробуждает сострадание. Кажется, она не понимает, за что ей ниспосланы такие муки. Я решил, что она молит не за себя, а за кого-то из близких. За кого: смертельно больного ребенка, мужа, любовника в тюрьме или ссылке? Она оставалась до странности неподвижной, ее немигающий взгляд был прикован к лицу умирающего Христа. Но молилась она не тому, кто смертью смерть попрал, и чье изображение — лишь грубый символ, пламенные молитвы она в буквальном смысле возносила жутковатой реалистической статуе, творению рук человеческих. Глаза ее говорили о безраздельном повиновении, подчинении воле Божией и вместе с тем о неколебимой, пламенной вере в то, что деревянная статуя поможет — удалось бы только тронуть деревянное сердце в деревянном теле. Вера озаряла ее лицо сиянием.
* * *
О Мурильо почти нечего сказать (разве только, что он не так плох, как Вальдес Леаль), кроме того, что его картинами очень хорошо обставлять храмы. Со всех других точек зрения они не представляют никакого интереса. У него недурная композиция, нежные, ласкающие глаз тона; он точен, чувствителен, изящен и поверхностен. И при всем при том, в картинах Мурильо, когда они, скудно освещенные, великолепно обрамленные, висят в тех местах, для которых и предназначены — скажем, в часовне, своими роскошными красками отлично их оттеняющей, — нельзя не согласиться, что в них что-то есть. Они созвучны лихорадочной болезненной набожности испанцев — оборотной стороне их буйства, грубости и жестокости. Созвучны способности среднего испанца легко пустить слезу, мимолетно восхититься хорошенькой девушкой, его любви к детям, его суеверной отзывчивости.
* * *
«Селестина». Она читается увлекательно, но сегодня уже не может взволновать. Важна лишь как памятник литературы. «Селестина», по всей видимости, предшественница и плутовского романа, и испанской драмы. Кое-какие из ее персонажей повторили и развили многие более поздние авторы. Однако литературоведы преувеличивают ее значение — называть «Селестину» великим произведением нелепо. Сюжет в ней дурацкий. Диалоги хвалят за естественность, и они, не приходится отрицать, написаны живым, сочным языком, однако все без исключения персонажи говорят одинаково, уснащают свою речь пословицами — этим проклятием испанской литературы, ими злоупотреблял и сам Сервантес. Юмор строится на одном приеме: в уста главного и самого живого персонажа трагикомедии, старой сводни, вкладываются нравственные максимы. Но этот прием даже улыбку вызывает крайне редко. Он может развеселить лишь очень смешливого человека. Кое-какие сцены отличают живость и достоверность. Они вполне приемлемы, но увлечь никак не могут. Хотя в трагикомедии речь идет о любви молодого дворянина к высокородной девице, и все только и делают, что говорят об их неистовой страсти, они от первой до последней страницы не обнаруживают ни малейших признаков чувства. В этой любовной истории любовь отсутствует. И при том — вот незадача! — Калисто — балбес, а Мелибея — слабоумная; однако, несмотря на это, утрет нос любому синему чулку: вне себя от горя после смерти возлюбленного, она — перед тем, как броситься с башни — пространно рассуждает, подражая Плутарху, о людском непостоянстве, приводя примеры из античной литературы. Слава «Селести-ны» объясняется своевременностью ее появления, а не художественным совершенством.
* * *
Севилья. За городом, под вечер, с неба струится такой же золотистый свет, какой исходит от святых на полотнах Мури-льо, а белые облачка на горизонте походят на херувимов, окружающих Богоматерь во славе ее.
* * *
Толпа на бое быков. В раскаленном воздухе порхают тысячи разноцветных вееров; впечатление такое, точно на свет разом народился целый рой бабочек.
* * *
Вальдес Леаль. Гладкопись. Размашистый, но нечеткий рисунок крайне невыразителен. Картина напоминает фотографию не в фокусе. Люди кажутся бескостными. У Вальдес Леаля нет дара композиции, его картины плохо построены; кажется, что эти огромные полотна заполнены наобум. Цвет тусклый, неестественный. Ему не откажешь в фантазии, но фантазия его — нелепая утрированная фантазия контрреформации.
* * *
Андалузия. Луна привалилась к небу, как клоун с запудренным добела лицом к стене цирка.
* * *
Машина мчалась по обсаженной деревьями дороге, и полная луна то пряталась за ними, то выныривала из-за них, как веселая толстуха, с нелепым, но милым лукавством играющая в прятки.
* * *
Гудки клаксонов и выхлопы моторов пронзали ночь подобно тому, как острые вершины японских гор прорезают безоблачное небо.
* * *
М. П. Он отпустил «хлеб свой по водам», твердо надеясь получить в четыре раза больше, но на всякий случай — а вдруг провидение запамятует его вознаградить — привязал к хлебу веревочку, чтобы, буде возникнет такая надобность, вытянуть его назад.
* * *
В развитии каждого искусства сушествует промежуток, отделяющий обаяние наивности от изыска изощренности, — вот тогда-то и рождается совершенство. Но этот промежуток порождает и посредственность. В эту пору художники уже овладели мастерством, и подняться над унылым реализмом удается лишь натурам неординарным.
Сравните свежую прелесть ранних работ Рафаэля и великолепие и мощь лоджий Ватикана с пустоватыми картинами того периода, когда он писал, как Джулио Романе
Совершенство всегда несет в себе опасность вырождения, неизбежно следующего за ним.
* * *
Художнику от природы даны и отрешенность, и свобода, мистик достигает их, умерщвляя плоть. Художник подобен мистику, стремящемуся постичь Бога, — он так же духовно отрешен от мирской суеты.
* * *
У энергичного, деятельного человека чувство греха притуплено; лишь когда энергия иссякает, в нем может пробудиться совесть.
* * *
Искусство Возрождения открывает всё, что в нем есть, сразу. А в нем есть покой, здоровье и душевная ясность. Оно гораздо ближе к совершенству, чем искусство любой другой эпохи. Оно не так будоражит воображение, как дает ощущение общего благополучия. Чуть ли не физически переполняет радостью, как солнечное утро по весне.
Кордова. Площадь дель Потро. Длинная, узкая, окруженная со всех сторон беленькими домишками, она упирается в реку. В верхней ее части фонтан, посреди него на пьедестале статуя гарцующей лошади. Жители соседних домов ходят к фонтану с кувшинами по воду. Наставляют на пляшущие струи стебли бамбука, и вода стекает по ним в кувшины. Ослов и лошадей поят прямо из чаши фонтана. Слева, если смотреть вверх от реки, постоялый двор. С фасада скромный по виду дом в два этажа, беленый известью, большие ворота на ночь запираются. Но у него просторный внутренний двор в колдобинах, вымощенный кое-как. Имеются конюшни — в каждой поместится всего одна лошадь, рядом с которой может прикорнуть грум или конюх. Сейчас там не больше двух-трех лошадей. Одну из конюшен занимает торговец цветами, о своем приходе он оповещает криком. В просторном проходе, ведущем с улицы во двор, девушки гладят белье. Имеются две кухоньки для общего пользования, на верхний этаж ведут грубые каменные ступени. Дом огибает широкая деревянная галерейка с шаткими перилами, вход в комнаты с галерейки. Здесь жил Сервантес.
* * *
Ла-Манча. Дубы. Они тянутся миля за милей по одному пологому холму за другим. Невысокие, отнюдь не величественные, зато очень крепкие на вид, стволы их такие корявые и кривые, что, кажется, они устояли лишь ценой невероятных усилий, стойко сопротивляясь натиску времени, ветра, дождя.
На много миль — насколько хватает глаз — тянутся однообразные ряды борозд.
Лишь изредка встретишь крестьянина, пашущего поле деревянным плугом, в который впряжены два мула, — такими плугами пахали еще при римлянах. Или крестьянина верхом на ослике, а то и на лошади, позади него обычно сидит сын. Они обмотаны бурыми одеялами, чтобы уберечься от пронизывающего ветра. Или закутанного пастуха, который охраняет стадо щиплющих чахлую траву овец или разбредающихся шустрых коз. Пастухи жилистые, старые, чисто выбриты, у них небольшие, проницательные, выцветшие глаза, землистого цвета костистые, изрезанные морщинами, умные лица; их иссушили пронзительные зимние холода и летний зной. Двигаются они неспешно и, сдается мне, слов на ветер не бросают. Дома в деревнях — цвета бесплодной земли, строят их из камня и глины; кажется, что эти времянки вскоре врастут в землю, на которой стоят.
* * *
Алькала-де-Энарес. Здесь есть большая площадь с пассажами, улица с пассажами и двухэтажными незатейливого вида домишками. Пустой, сонный городок. Улица пуста, если не считать двух-трех прохожих, запряженной мулом крытой повозки да мелочного торговца верхом на лошади, по обеим бокам которой свисают корзины. В университете прекрасный внутренний двор и аляповатый, не представляющий художественной ценности фасад. Остальные улицы — тесные, ничем не примечательные, тихие.
* * *
Las Metinas. Какая она радостная — вот что прежде всего поражает, потом замечаешь, что впечатление это создает теплый, дневной свет, загадочным образом обволакивающий фигуры. Ни в одной картине Веласкеса не проявился с такой силой его жизнерадостный, спокойный характер. «Молодые фрейлины» веселостью — лучшей и самой типичной чертой андалузцев.
Веласкес писал своих карликов и шутов в шекспировской манере, явно потешаясь, беспечально: ни их чудовищное уродство, ни несчастная судьба не вызывали у него ни малейшего сострадания. У него был светлый нрав, и поэтому он смотрел на эти жуткие исковерканные создания благодушно, понимая, что Господь сотворил их для забавы коронованных особ.
Ни в одном из портретов Веласкеса нет и намека на критическое отношение к модели. Он изображал людей такими, какими они хотели себя видеть. В его обаянии примесь бесшабашного бессердечия. Его замечательное мастерство, я думаю, общепризнанно; платья некоторых его инфант потрясают, но пока восхищаешься ими, не покидает чувство некоторой неловкости и преследует вопрос, а так ли ценно это замечательное мастерство? Веласкес походит на писателя, который говорит вещи на редкость здравые, но при этом довольно несущественные. К чему умалять значение широты в пользу глубины, но удержаться от этого трудно. Возможно, Веласкес поверхностен, но поверхностен масштабно. Он размещает фигуры на полотне так красиво, что они образуют узор, радующий глаз. Из всех придворных художников он самый великий.
Лондон. Парикмахер. Работает в этой парикмахерской с шестнадцати лет. Рослый юнец, он выдал себя тогда за восемнадцатилетнего; у него роскошная копна кудрей, что и побудило его заняться парикмахерским делом. Он любил читать стихи, и по воскресеньям — в те дни парикмахер работал по шесть дней в неделю — совершал паломничества в места, связанные с жизнью поэтов, которыми в то время увлекался. Когда читал «Потерянный рай», съездил в Чалфонт-Сент-Джайлс; посетил улицу, где родился Ките, дом, где жил Колридж; отправился в Стоук-Поджис, бродил по кладбищу, вдохновившему Грея на «Элегию». В его энтузиазме была прелесть простодушия. Все свободные деньги он тратил на книги. В обед перекусывал в кафе-кондитерской и, пока ел булочку с маслом и пил молоко, листал драгоценный том. Там же он познакомился с девушкой, ставшей впоследствии его женой. Она работала в портняжной мастерской на Дувр-стрит. Потом у него родился сын. Пока он ухаживал за своей будущей женой, она восхищалась его начитанностью, но после свадьбы ее стало раздражать, что он вечно сидит, уткнувшись в книгу. Когда он возвращался с работы, она требовала, чтобы после ужина он шел с ней гулять или в кино. Они прожили лет семь-восемь, когда разразилась война. Его призвали, но благодаря ходатайству одного из постоянных клиентов послали в Россию — сопровождать бронемашины. Всю войну он провел вдали от Англии. Конец войны застал его в Румынии. В итоге он возвратился в Англию, вернулся в парикмахерскую. Он был еще не стар. Ему шел тридцать четвертый год. Перспектива посвятить всю оставшуюся жизнь стрижке и бритью его страшила. Но чем бы еще заняться, он не знал. Кроме стрижки и бритья, он ничего не умел. Жена считала, что он должен радоваться: ведь за ним сохранили хорошую работу. До войны они друг с другом ладили, теперь их отношения испортились. Она считала, что он брюзга и привереда. Его раздражало, что она вполне довольна жизнью и ничего иного не хочет. Он понял, что обречен всегда обеспечивать жену и сына, чтобы они ни в чем не нуждались. Мальчику уже исполнилось десять лет. Парикмахеру со временем стали отвратны его клиенты. Я спросил, по-прежнему ли он много читает. Он покачал головой. «Зачем? — сказал он. — Что мне это даст?» — «Чтение поможет вам отвлечься от невзгод», — ответил я. «Возможно. Но все равно от них не уйти». У него осталось лишь одно желание — во что бы то ни стало обеспечить сыну свободу, которой он сам был лишен. Он потерпел поражение, распростился со своими надеждами, но со злопамятностью дикаря ждал, когда сын отомстит за его утраченные иллюзии. Сын вырос и стал парикмахером, только не мужским, а женским, так как это более прибыльно.
* * *
Рецепт. Молодежь склонна принимать все всерьез. Юнец с дерзким, но довольно приятным лицом и копной густых, темных, зачесанных назад волос, которые он пытался укротить и придать им модный зализанный вид, щедро смазывая их маслом. Он испытывал смутное влечение к литературе и однажды спросил меня, как сочинить эпиграмму. Так как он служил в авиации, мне показалось, что уместно будет ответить так: «Пикируйте на банальность, и приземляйтесь между строк». Наморша лоб, он осмысливал мой ответ. Такое серьезное отношение к моим словам, конечно, лестно, но мне было бы куда приятней, если бы он просто улыбнулся.
* * *
Как-то одна дама, у сына которой были литературные наклонности, спросила меня, что бы я посоветовал ее сыну, если бы он решил стать писателем; сочтя, что дама вряд ли воспользуется моими советами, я ответил: «Давайте ему по сто пятьдесят фунтов в год и пусть идет ко всем чертям». С тех пор я не раз вспоминал свой совет, и мне кажется, он совсем не плох. При таком доходе молодому человеку голод не грозит, и вместе с тем деньги это небольшие, в довольстве на них не поживешь, а что, как не довольство, злейший враг писателя. При таком доходе он сможет объехать весь мир но при его средствах жизнь предстанет перед ним такой разнообразной и пестрой, какой ее никогда не увидеть человеку более состоятельному. При таком доходе он часто будет сидеть без гроша, а следовательно, будет вынужден всячески изворачиваться, чтобы обеспечить себе пищу и кров. Будет вынужден попробовать свои силы на самых разных поприщах. Хотя прекрасные писатели жили весьма замкнуто, они писали хорошо вопреки этому обстоятельству, а не благодаря ему; немало старых дев, проводивших большую часть года в Бате, писали романы, но лишь одна из них — Джейн Остен. Писателю очень полезно побывать в таких обстоятельствах, в которых он будет подвергаться тем же злоключениям, что и большинство из нас. Не следует всецело отдаваться чему-то одному, надо испытать всего понемножку. По мне, ему следовало бы по очереди поработать сапожником, портным и т. д., любить и терять, голодать и пьянствовать, играть в карты с головорезами Сан-
Франциско, держать пари с жучками в Ньюмаркете, увиваться за герцогинями в Париже, дискутировать с философами в Бонне, скакать верхом с пикадорами в Севилье, плавать с канаками в Южных морях. Писателю интересен любой человек; любой пустячный случай у него идет в дело. Иметь дарование, иметь в своем распоряжении пять лет и доход в сто пятьдесят фунтов, притом в двадцать три года — что может быть лучше.
* * *
Оба они уже умерли, эти братья. Один был художник, другой — врач. Художник твердо верил, что он гений. Заносчивый, вспыльчивый, тщеславный, он презирал брата, считал его филистером, чувствительной размазней. Но он почти ничего не зарабатывал и, если бы не помощь брата, жил бы впроголодь. И вот какая странность — грубый и неотесанный, как внутренне так и внешне, он писал слащавые картинки. Время от времени он ухитрялся устраивать выставки и на них всегда продавал одну-другую картину. Но не больше. В конце концов до врача дошло, что брат отнюдь не гений, а всего лишь второразрядный художник. Жестокое разочарование после всех его жертв. Но он держал свое открытие при себе. Потом врач умер, свое достояние он оставил брату. Художник обнаружил в доме врача все картины, проданные за четверть века неизвестным покупателям. Поначалу он был озадачен. Долго ломал голову, как это следует понимать, и наконец его осенило: хитрый брат нашел выгодное вложение капитала.
* * *
Английскую публику неизменно смешат крайности любовной страсти. Любовь не должна выходить за известные рамки, иначе рискуешь попасть в глупое положение.
* * *
Средний возраст. Думается, я ощущал свой возраст острее, чем многие. Я не заметил, как пролетела юность: меня всегда тяготило ощущение, что я старею. Оттого что для своих лет я изрядно повидал, много путешествовал, обладал широкой начитанностью и интересовался предметами, обычно не занимающими людей моего возраста, я казался старше своих сверстников. Однако вплоть до войны 1914 года, мне и в голову не приходило, что я немолод, А тут я с сокрушением обнаружил, что в сорок лет уже стар. Стар лишь для военной службы, утешал я себя, но вскоре произошел случай, окончательно лишивший меня иллюзий. Я обедал с одной дамой, своей давней знакомой, и ее племянницей, девушкой семнадцати лет. После обеда мы взяли такси, собирались поехать куда-то еще. Первой в такси села знакомая, за ней племянница. Но села она на откидное сиденье, уступив место рядом с теткой мне. Отказавшись от привилегий своего пола, она отдала дань уважения возрасту джентльмена уже не первой молодости. И до меня дошло, что я для нее человек почтенного возраста. Не очень-то приятно сознавать, что для молодых ты уже не ровня. Принадлежишь к другому поколению. Они считают, что твои скачки закончены. Они могут тебя почитать, восхищаться тобой, но ты не из их числа, и в конечном счете они всегда предпочтут общество людей своего возраста — твоему. Однако у среднего возраста есть и свои преимущества. Юность по рукам и по ногам связана общественным мнением. Средний возраст наслаждается свободой. Помнится, когда я кончил школу, я дал себе зарок: «Отныне буду вставать и ложиться, когда заблагорассудится». Это я, разумеется, хватил, вскоре мне стало ясно, что цивилизованный человек может быть независим лишь в определенных пределах. Если у тебя есть цель, для ее достижения приходится отчасти поступиться свободой. Но, достигнув среднего возраста, открываешь: в какой-то мере стоит поступиться свободой ради того, чтобы достичь той или иной цели. В детстве я страдал от застенчивости — средний возраст в значительной мере избавил меня от нее. Я всегда был слабого здоровья и долгие прогулки меня утомляли, но я не отказывался от них, стыдясь признаться в своей слабости. Нынче я ничуть не стесняюсь своих слабостей, и благодаря этому освободил себя от множества неудобств. Холодная вода мне всегда была ненавистна, но долгие годы я, не желая отставать от других, принимал холодные ванны и купался в холодном море. Нырял с такой высоты, что у меня душа уходила в пятки. Отчаивался от того, что в спорте уступал многим. Если я что-то не знал — стыдился признаться в своем невежестве. Лишь на склоне лет я понял, что сказать: «Я не знаю», — проще простого. В среднем возрасте мне открылось: никто не ожидает, что я пройду сорок километров, сыграю в гольф без форы или нырну с девяти метров. И это только к лучшему, это делает жизнь куда более приятной. А если бы от меня этого и ожидали, я бы этим пренебрег. Юность — несчастливая пора именно потому, что ты из кожи вон лезешь, лишь бы быть таким, как другие; в среднем же возрасте принимаешь себя таким, как есть, и благодаря этому средний возраст — вполне сносная пора.
* * *
Если человек не до конца удовлетворен жизнью, он ищет утешения в фантазиях. Он вынужден вечно отказываться от осуществления своих основных инстинктов, но отказ этот дается ему нелегко; и если он не получил ни почестей, ни власти, ни любви — а как он их жаждал! — он обманывает себя, уходя в мир фантазии. Бежит от реальности в искусственный рай, где ничто не мешает ему осуществить свои желания. Ну а потом в своем тщеславии приписывает этому умственному упражнению исключительную ценность. Работа воображения ему кажется чуть ли не наивысшей формой человеческой деятельности. И все-таки предаваться фантазиям — значит, признать неудачу; признать поражение в схватке с жизнью.
* * *
Материал романиста. Чем больше романист узнает о жизни, из которой он черпает темы, чем лучше понимает ход вещей — а это помогает ему более стройно воплотить свой замысел, — чем выше его мастерство, тем сильнее опасность, что ему наскучат те разнообразные коллизии, которые собственно и дают ему материал. Если по причине преклонных лет, умудренности или пресыщенности его уже не так интересует то, что затрагивает большинство людей, — он пропал. Романисту надлежит сохранять детскую веру в значимость вещей, которым люди, наделенные здравым смыслом, не придают особого значения. Ему надлежит вечно сохранять некоторую детскость. Надлежит до конца дней интересоваться тем, что уже не волнует людей его возраста. Чтобы серьезно описывать пылкую любовь Эдвина к Анджелине, человек пятидесяти лет должен обладать не совсем обычным складом ума. В том, кому открылось, сколь заурядны дела людские, романист умирает. Мне не раз доводилось видеть, как утрата детской непосредственности повергала писателя в смятение и как он пытался найти из этого выход, порой переключаясь на другие темы, порой бросая реальность ради фантазии, а порой — в случае, если он так глубоко увяз в прошлом, что ему уже не освободиться от реальности, — ополчаясь на свои старые темы с убийственной иронией. Так Джордж Элиот и Г. Дж. Уэллс забросили соблазненную деву и любвеобильного клерка ради социологии, так Томас Харди от «Джуда Незаметного» перешел к «Ди-настам», а Флобер — от романов чувствительной провинциалки к диким начинаниям «Бувара и Пекюше».
* * *
Произведение искусства. Наблюдая за публикой на концерте или в картинной галерее, я иной раз задаюсь вопросом, как влияет на людей произведение искусства. Ясно, что нередко оно глубоко затрагивает их, но чувства эти, судя по моему опыту, не приводят к действиям, и, значит, особой ценности не имеют. В таком случае искусство — или развлечение, или убежище. Оно дает отдых от труда, в котором видится оправдание существования, или утешает, если жизнь разочаровала. Оно играет роль кружки пива, которую рабочий осушает, чтобы передохнуть, или стаканчика джина, который проститутка опрокидывает, чтобы забыть на минуту о мерзостях жизни. Искусство для искусства так же не имеет смысла, как джин для джина. Дилетант, упивающийся бесплодными чувствами, которые пробуждает в нем созерцание произведений искусства, ничуть не выше пьянчуги. У него пессимистическое отношение к жизни. Жизнь для него — или борьба за существование, или тщета, а раз так, он ищет в искусстве или отдохновения, или забвения. Пессимист отвергает реальность, художник принимает ее. Чувство, пробужденное произведением искусства, имеет ценность лишь в том случае, если оно формирует человека и побуждает его к действию. Но тот, на кого искусство влияет таким образом, сам художник. Произведение искусства воздействует и на ум, и на чувства художника, потому что у него чувства порождают мысли, связанные с его собственными задачами, и мыслить для него значит творить. Но я вовсе не хочу сказать, что только на художников, поэтов и музыкантов благотворно действуют произведения искусства; говорить так — значило бы умалять ценность искусства; к художникам я причисляю и тех, кто владеет самым мудреным, самым мало почитаемым, самым важным искусством — искусством жить.
* * *
Моя первая книга, опубликованная в 1897, имела некоторый успех. Эдмунду Госсу она понравилась, и он написал о ней хвалебную рецензию. После нее я издал немало других книг, стал популярным драматургом. Написал «Бремя страстей человеческих» и «Луну и грош». Госса я, как правило, встречал раза два в год на протяжении двадцати лет, при встрече он в своей елейной манере неизменно говорил: «Дорогой Моэм, мне так понравилась ваша "Лиза из Ламбета". Как мудро вы поступили, больше ничего не написав».
* * *
Поэт умирал. Он так расхворался, что друг, ходивший за ним, счел своим долгом послать телеграмму его жене. Посредственная художница, она уехала в Лондон — ей там устроили персональную выставку в одной из второстепенных галерей. Когда он сказал больному, что вызвал его жену, тот взъярился. «Ты, что, не мог дать мне умереть спокойно?» — завопил он. Поэт только что получил в подарок корзину персиков. «Первым делом она выберет лучший персик и, пока не доест его, будет распространяться о себе и о том, какой успех она имела в Лондоне»,
Друг поехал за женой поэта на вокзал, привез ее к нему.
«О, Франческо, Франческо», — восклицала она, влетая в комнату. Поэта звали Фрэнсис, но она называла его не иначе как Франческо. «Какое несчастье! О! Прекрасные персики! Кто тебе их прислал? — Выбрала персик и вонзила зубы в его сочную мякоть. — Вернисаж. Все хоть сколько-то известные люди пришли. Потрясающий успех. Мои картины привели всех в восторг. Мне буквально не давали проходу. Все в один голос говорили, что у меня большой талант».
И так далее, и тому подобное. В конце концов друг сказал, что уже поздно, и ее мужу надо поспать.
«Я совершенно измотана, — заныла она. — Такая трудная поездка. Я не ложилась всю ночь. Ужасно намаялась».
Она подошла к постели поцеловать больного. Он отвернулся.
* * *
Экспедитор, Работать начал в четырнадцать лет, двадцать два года прослужил в одной фирме. В двадцать восемь лет женился, жена через год-два заболела и стала калекой. Он был преданным мужем. И вскоре стал красть сберегательные марки, и даже не потому, что нуждался в деньгах, хотя кражи и давали ему возможность побаловать жену нехитрыми лакомствами, но прежде всего потому, что ему доставляло удовольствие обманывать нанимателей, считавших его солидным, ответственным служащим. Потом кражи раскрылись, и он, зная, что его уволят, а то и посадят, и жена останется без присмотра, убил ее. Подложил подушку ей под голову и накрыл ее пуховым одеялом. Отвел любимую собачку жены к ветеринару, чтобы ту безболезненно усыпили — убить ее у него не поднялась рука. После этого явился в полицейский участок с повинной.
* * *
Т. Рослый, худой, но отнюдь не изможденный, при ходьбе чуть горбится. Ему можно дать от сорока пяти до пятидесяти: его кудрявые, все еще густые волосы, почти совсем седые, а бритое, с четкими чертами лицо изборождено моршинами. Мертвенно-бледный. Очки в золотой оправе. Ненавязчив. Говорит тихим голосом и лишь когда к нему обращаются, и хотя никогда не говорит ничего умного, не говорит и глупостей. Доверенное лицо одной из самых крупных американских корпораций, обращает на себя внимание прежде всего своей надежностью. Ясно, что человек он очень умный, зато очень честный. Живет скромно. Имеет жену, к которой привязан, и двух детей, которыми, как и положено, гордится. Можно смело поручиться, что он в жизни не сделал ничего, о чем мог бы пожалеть. Он доволен фирмой, в которой работает, своим положением в ней — почетным, хотя и не слишком высоким, домом, в котором живет, городом, в котором работает, расписанием поездов, которыми ежедневно ездит на службу. Работник он отменно дельный. Винтик гигантской машины — он ничего другого и не желает. Зрелище огромных рычагов, вращающихся колес, колоссальных поршней не наводит его на мысль, что и он мог бы быть не только винтиком. Совершенно незауряден в своей поразительной заурядности.
* * *
Она гостит у друзей за городом. Приносят почту. Хозяйка дома передает ей письмо, она узнает почерк своего любовника. Вскрывает письмо, читает. Вдруг до нее доходит, что муж из-за ее спины тоже читает письмо. Она дочитывает письмо до конца и отдает хозяйке.
«Судя по всему, он влюблен по уши, — говорит она. — Но на твоем месте я запретила бы ему писать такие письма…»
* * *
Если ты хоть чуточку богаче других, окружающие неизменно станут тебя использовать, выуживать у тебя деньги — и это в порядке вещей; но вот что тягостно: они считают, будто ты настолько глуп, что не понимаешь, когда тебя хотят облапошить, и им это сходит с рук только благодаря твоему попустительству.
* * *
Эрнест П. Молодой француз из хорошей семьи, очень одаренный, семья надеялась, что он сделает блестящую карьеру. Его прочили в дипломаты. В двадцать лет он отчаянно влюбляется в девушку восьмью годами старше, но она выходит замуж за человека более подходящего. Это его подкосило. К ужасу семьи он прекращает готовиться к экзаменам, без которых нельзя поступить на дипломатическую службу, занимается социальной помощью жителям парижских трущоб. Обращается к религии, (он происходит из семьи вольнодумцев) и с головой погружается в мистические книги. В Марокко в ту пору неспокойно. Он присоединяется к одной опасной экспедиции и погибает. Его смерть — тяжкий удар для женщины, которую он любил, для его матери, для друзей. Они переживают глубокое потрясение. У них появляется ощущение, что рядом с ними жил едва ли не святой. Кротость, доброта, благочестие, благородство души покойного заставляют их устыдиться — и преисполняют страхом.
Я счел, что этих фактов достаточно для трогательного рассказа; мне хотелось понять, какое влияние оказала жизнь и смерть бедного мальчика на близких ему людей; но тема оказалась слишком для меня трудной, и рассказа я так и не написал.
* * *
Люди порой простят тебе добро, которое ты им сделал, но почти никогда не прощают зло, которое причинили тебе.
* * *
Писателю надлежит быть одновременно и занятным, и серьезным.
* * *
При виде световых бликов, мерцающих в пене, взбурленной кораблем, мерещилось, что это мертвецы, покоящиеся на дне моря, язвительно подмигивают тебе.
* * *
Солнце садится. Невиданный закат: плотные, изогнувшиеся наподобие арки грузные облака, а под аркой — точно врата в волшебные таинственные царства — сияет бледно-зеленое, золотистое небо. При виде его вспоминается картина Ватто «Отплытие на остров Цитеру». Но вот солнце уходит за горизонт, арка распадается, темные облака на фоне вечернего зарева теперь напоминают развалины огромного города — руины дворцов, храмов, гигантских зданий. И надежда и вера, только что обретенные, рушатся, как столбы в Газе, и в сердце водворяется отчаяние.
* * *
Грошовые бульварные романы. К их авторам относятся с пренебрежением, а ведь они в своем роде благодетели человечества. Для них не секрет, что их не слишком уважают, и они говорят о своей работе иронически, пожимая плечами и улыбаясь. Спешат обезоружить тебя, уверив, что не так уж они и глупы. К похвалам относятся настороженно. Опасаются поверить, что их хвалят всерьез. И тем не менее они заслуживают доброго слова. Случается, что ты не в состоянии воспринимать хорошую литературу; случается — ум устал, а все требует какой-то пищи; случается, классика наскучивает, а ты вымотан или несчастен; случаются и поездки на поезде и болезни — и что в эту пору может быть лучше увлекательного бульварного романчика? Окунаешься в мир убийств, грабежей, предательств, шантажа, тюремных камер, чудом удавшихся побегов, опиумных притонов, воровских хаз, мастерских художников, роскошных гостиниц, встречаешь фальшивомонетчиков, мошенников, бандитов, сыщиков, авантюристок, осведомителей, заключенных, попавших в беду героинь и ставших жертвами клеветы героев. Нельзя требовать от произведений этого жанра, чтобы они соответствовали меркам, с которыми мы подходим к другим видам искусства. Недостоверность здесь не мешает получать удовольствие, буйный полет фантазии — отнюдь не недостаток, изящный слог — неуместен, юмор — губителен. Нет ничего хуже, если они, помимо твоего желания, хоть раз заставят тебя улыбнуться; их должно читать на совершенном, полном, убийственном серьезе. Лихорадочно переворачивать страницы. Так ты побеждаешь время. А потом — черная неблагодарность! — с насмешкой отбрасываешь книгу и смотришь на автора свысока. Некрасиво.
* * *
Он был профессиональным философом, и поэтому я попросил его объяснить кое-что, чего никогда не мог понять. Я спросил, имеет ли какой-либо смысл утверждение «дважды два четыре». Мне казалось, что четыре — всего лишь удобное обозначение для суммы «два плюс два»- Если посмотреть в словаре синонимов Роже слово «violent» (неистовый), то обнаружишь не меньше пятидесяти его синонимов; они вызывают разные ассоциации, кое-какие из них по числу слогов, расположению букв или звучанию лучше употребить в том, а не в ином случае, но смысл у них один. Примерно один, разумеется, потому что по смыслу синонимы никогда в точности не совпадают; и «четыре» — синоним не только «два плюс два», но и «три плюс один» или «один плюс один плюс один плюс один». Философ ответил, что утверждение «дважды два четыре» имеет, как он полагает, определенный смысл, но какой точно, объяснить не смог, а когда я спросил, не является ли в конечном счете математика всего лишь до крайности усложненным словарем синонимов, он переменил тему.
1936
Сент-Лоран дю Марони. Начальник колонии, приземистый, грузный, с большими блестящими глазами, одет в безукоризненно белую форму, на кителе орден Почетного легиона. Бурно жестикулирует, говорит с сильным южным акцентом. Жизнерадостный, невежественный пошляк, но при этом незлобивый и благодушный. Пост получил благодаря своим политическим связям. Ему платят шестьдесят тысяч франков в год, но, по всей вероятности, он имеет побочные доходы и немалые. Своим местом доволен: жизнь здесь дешевая, можно копить деньги. Мечтает лет через десять уйти в отставку и построить дом на Ривьере. Жена пухленькая, довольно миловидная, но совершенно не следит за собой; ее мать держит табачную лавку в Сете; они с мужем дружат с детства. Она всегда ходит в одном и том же голубом фуляровом платье в белую крапинку. Оно выгодно оттеняет ее голубые глаза. Она простодушная, и хотя не прочь пококетничать, гордится своим толстяком-мужем и влюблена в него,
* * *
Комендант колонии. Рослый парижанин с темно-русыми волосами, серьезный, застенчивый, с отличными манерами. По-настоящему увлечен пенологией, начитан. Убежден, что многого можно достичь, воздействуя на лучшие стороны души заключенных. Верит, что они исправятся.
* * *
Старый надзиратель в Сен-Жане. Густой ежик седых волос, вислые седые усы. Дочерна загорелое лицо изрезано морщинами. Противник смертной казни: считает, что никто не имеет права отнимать жизнь. Любит рассказывать случай, очевидцем которого он, по его словам, был: врач попросил смертника, после того, как ему отрубят голову, если сможет, моргнуть три раза и уверяет, что тот моргнул дважды.
* * *
Смертный приговор утверждается в Париже министром. На воскресенье казни не назначают. Если в один день предстоит казнить двух-трех человек, первым казнят того, кто совершил менее тяжкое преступление, чтобы не мучить его еще и зрелищем смерти товарищей. О времени казни заключенный узнает, лишь когда надзиратель входит к нему в камеру со словами: «Мужайтесь» и т. д. В эти дни все заключенные подавлены, взвинчены.
Когда голова падает, палач поднимает ее за уши и показывает присутствующим со словами: «Во имя французского народа правосудие свершилось». Рядом с гильотиной стоит большая плетеная корзина, покрытая черной тканью, — в нее кладут тело. Нож гильотины падает с быстротой молнии, на палача хлещет кровь. После каждой казни ему выдают новую одежду.
* * *
Дом начальника. Большой белый каркасный дом, обставленный казенной мебелью, в каждой комнате со средины потолка свисает люстра, в гостиной — жесткие, неудобные кресла. Просторная веранда служит гостиной. В салу растут буган-виллеи, кротоны, кассии, папайи, иксора; сад запущенный, напоминает пригородный сад отошедшего от дел лавочника.
* * *
Карцеры. Длинные, узкие, в каждом деревянная койка, табуретка, прикрепленный к стене столик. В них жарко, свет проникает лишь через отверстие в толстенной двери. Арестанты, приговоренные к одиночному заключению, сидят взаперти, их выпускают на один час утром и вечером. В карцерах, расположенных в конце коридора, тьма кромешная, свет туда проходит только когда открывают дверь в коридор.
* * *
Большинство арестантов содержится в общих камерах на пять-десят-шестьдесят коек, но имеется некоторое количество одиночных камер, часть их размещается на втором этаже над общими камерами, другие — в отдельном дворике, и за примерное поведение заключенного могут перевести туда. Однако бывает и так, что заключенные тяготятся одиночеством и просятся назад в общую камеру. В одиночке нет ничего, кроме гамака и маленького столика, на нем заключенный раскладывает свои пожитки — кисточку для бритья, щетку для волос, одну-две фотографии. На стены они прикалывают картинки, вырезанные из иллюстрированных журналов.
Арестанты. Они одеты в пижамы в розовую и белую полоску, круглые соломенные шляпы, туфли на деревянной подошве с кожаным верхом на босу ногу. Волосы у них коротко и неаккуратно острижены. Их еда — две большие буханки скверного качества хлеба в день, мясной суп с картошкой и серой капустой, говядина, при примерном поведении добавляют немного сыра и вина. Курят они самокрутки, на них идет грубого помола табак в синих пакетах. Они сидят на веранде или на крыльце, чешут языки, курят или слоняются, кто сам по себе, кто в сопровождении надзирателя, или кое-как работают. Несмотря на обильную еду, они измождены, их треплет лихорадка, изнуряют глисты, у них пустые глаза. Вид не вполне нормальный. Ром здесь считается большой роскошью, у всех заключенных есть ножи.
Ночью, после того, как камеры запирают, ни один надзиратель туда и носа не сунет — живым ему не выйти.
Тюремные ворота весь день открыты и заключенные свободно ходят туда-сюда.
* * *
Тюремные сторожа, помощники надзирателей, без пяти минут чиновники, из хорошо зарекомендовавших себя заключенных; они живут отдельно и носят не соломенные шляпы, а фетровые. Заключенные их не любят, а случается, что и убивают.
* * *
У палача — он из заключенных — две дворняги, их обучили его охранять; по ночам они рыщут по колонии. Палач занимает отдельный домик рядом с домом начальника. Заключенные с ним не разговаривают, помощник приносит ему еду из тюремной кухни. В свободное время он бродит по общественному саду, удит рыбу, рыбу продает жене начальника.
Гильотина занимает тесную комнатушку в здании тюрьмы, но вход в нее отдельный, снаружи. Чтобы гильотина не дала сбоя, ее заранее проверяют на банановом стебле — он такой же толщины, как человеческая шея. От момента, когда смертника привязывают, до момента, когда его голова падает в корзину, проходит всего тридцать секунд. Палач получает по сто франков за каждую казнь.
* * *
Предшественник нынешнего палача пропал — в колонии решили, что он сбежал. Его нашли три недели спустя — он висел на дереве, тело его было исколото ножом, нашли его лишь потому, что над деревом кружила стая стервятников, точнее черных грифов. Палач знал, что заключенные хотят его убить, и просил перевести его в Кайенну или вернуть во Францию. Заключенные поймали его, кололи ножами, пока он не умер, потом оттащили в джунгли.
* * *
Ссыльных, закоренелых преступников, отправляют в Сен-Жан, но не по приговору, а с тем, чтобы оградить от них общество. Они ловят бабочек и жуков, насаживают их на булавки, помещают в шкатулки и продают или делают украшения из рога буйвола. На одном конце колонии имеется газетный киоск — такие киоски встречаются на вокзалах небольших французских городков — с книгами, которые можно брать на время за деньги, и аккуратно разложенными газетами месячной давности. Над киоском надпись «Кредит умер». На другом конце колонии — маленький театрик со сценой и грубо намалеванным задником кисти одного из ссыльных.
* * *
В море кишмя кишат акулы, заключенные с усмешкой говорят, что никаким тюремщикам с ними не сравниться.
* * *
Сегодня я весь день расспрашивал заключенных о том, что толкнуло их на убийство, за которое они приговорены практически к пожизненному заключению, и, к своему удивлению, обнаружил, что хотя на первый взгляд причиной убийства можно счесть ревность, ненависть, желание отомстить за обиду или просто приступ страсти, стоит копнуть поглубже и открывается, что в основе всех убийств исключительно корысть. Так или иначе, но мотив каждого убийства — из тех, о которых я расспрашивал, — деньги, за одним-единственным исключением. Исключение составил молодой парень, пастух, он изнасиловал девочку и, когда она стала кричать, задушил ее, опасаясь, что на крик сбегутся люди. Ему всего восемнадцать лет.
* * *
Мартиника. В 1902 извержение вулкана Монтань-Пеле стерло с лица земли город Сен-Пьер. Погибло сорок тысяч человек. Незадолго до извержения замечалась некоторая активность вулкана; к северу от Сен-Пьера произошло извержение, при этом погибли люди. А через несколько дней вулкан изрыгнул море пламени, что-то вроде огненного смерча пронеслось над Сен-Пьером и уничтожило корабли в бухте. Вслед за огненным смерчем хлынула раскаленная лава, посыпался пепел, город окутали густые газы, от которых задохнулись и те, кому удалось уцелеть. Все, кто мог, бежали из города целыми семьями, но вот какая странность — газы расстилались так неравномерно, что, скажем, группа людей спереди и сзади спаслась, группу же между ними обволокло газовое облако, и они погибли.
Я спросил друзей, как подействовала эта трагедия на тех, кто спасся. Мне хотелось знать, повлияли ли на них страшная опасность и чудесное спасение в плане духовном или нравственном, изменили ли они их последующую жизнь, укрепились ли они в вере или наоборот, стали по-человечески лучше или хуже. Все ответили одинаково. Эта трагедия никак на них не повлияла. Едва ли не все они разорились, но оправившись от потрясения, постарались — каждый в меру своих сил — жить по-прежнему, так, словно ничего не случилось. Они не стали ни более, ни менее набожными, ни хуже, ни лучше. Думаю, именно благодаря своей жизнестойкости, способности предать все забвению, а возможно, и просто тупости человек смог перенести бесчисленные бедствия, обрушивавшиеся на него на протяжении всей его истории.
* * *
Вест-Индия. Англичане, обосновавшиеся на острове, выписали из Англии гувернантку для своих детей, молодую девушку; спустя некоторое время местный плантатор сделал ей предложение. На первый взгляд о лучшей партии она не могла и мечтать: славный малый, при деньгах, цветущего здоровья. Правда, с небольшой примесью туземной крови, из-за чего его не приняли в клуб; но и по своим понятиям, и по образу жизни, и по манерам он ничем не отличался от белых. Девушка так же увлеклась им, как он ею, однако родители ее воспитанников настоятельно советовали ей не торопиться, а уехать на полгода в Англию — проверить себя. Через полгода она вернулась и вышла замуж за своего плантатора, но с уговором, что у них не будет детей. Плантатор оказался прекрасным мужем, пылким любовником, веселым и легким человеком, и она была совершенно счастлива. Через некоторое время он заболел брюшным тифом. Болезнь протекала очень тяжело, жена выхаживала его вместе со старой чернокожей няней. Но у нее было странное ощущение, что с ее мужем происходит нечто не поддающееся объяснению: он, как ей казалось, ослабел не так телесно, как душевно. Видимо, подпал под влияние суеверий. Как-то он отказался принять врача-англичанина. «Если кто меня и вылечит, так только моя старая нянька», — в сердцах заявил он жене. Когда она принялась его увещевать, он грубо обрезал ее: «Не говори о том, чего не понимаешь». Ночью нянька вошла к нему с тремя старыми неграми, один из них нес под мышкой белого петуха, а ее выставили из комнаты. Она стояла за дверью, слышала диковинные заклинания, затем хлопанье крыльев — и поняла, что это убивают белого петуха. Наконец цветные вышли из комнаты, ей разрешили войти, и она увидела, что лоб, щеки, подбородок, грудь, руки и ноги больного вымазаны кровью. И тут ей открылось, что несмотря на светлую кожу медового цвета и вьющиеся рыжие волосы, ее муж в глубине души — негр. Через два-три дня она поняла, что беременна.
1937
Быть непосредственным в суждениях о литературе донельзя трудно. Ведь практически невозможно, чтобы на твое мнение не повлияла оценка критики и общее мнение. Еще труднее это сделать, если речь идет об общепризнанно великих произведениях: ведь их величие в какой-то мере создано и общественным мнением. Попытаться прочесть стихи глазами их первого читателя — все равно, что попытаться увидеть ландшафт вне окутывающей его атмосферы.
* * *
Генри Джеймсу в высшей степени присуще то, что французы, которыми он непомерно восхищался, аттестуют, с пожиманием плеч, «литературностью». Он не жил, а наблюдал жизнь из окна, и слишком часто довольствовался рассказами своих друзей о том, что они видели из окна. Но что можно знать о жизни, если не жил сам? Если не играть роль в этой трагикомедии, непременно что-то упустишь. В конечном счете в Генри Джеймсе нас привлекает не мастерство и не глубина, а его личность — человек он был прелюбопытный, прелестный и чуточку нелепый.
* * *
Вряд ли кому взбредет в голову изучать автомобиль, прочитав роман, действие которого происходит на заводе, а персонажи — рабочие этого завода; уж не думаешь ли ты, что душа человека устроена менее сложно, чем мотор автомобиля?
По полагал, что можно добиться свежести и оригинальности путем долгих размышлений. Какая ошибка! Единственный способ быть новым — самому постоянно меняться; единственный способ быть оригинальным — самому стараться быть крупнее, масштабнее, глубже.
* * *
«Хлеб наш насущный даждь нам днесь», молят богобоязненные люди. Казалось бы, милосердного и всемогущего должно оскорблять, что его просят о самом что ни на есть необходимом. Если мы вежливо, как собственно и заведено, обходимся с нашим ближним, никакого благодеяния мы ему не оказываем: он имеет на это полное право.
* * *
Правда не только причудливее вымысла, она еще и куда сильнее впечатляет. Если знаешь, что речь идет о действительном событии, рассказ о нем больше волнует, трогает струны, которые вымысел никак не задевает. Чтобы тронуть эти струны, некоторые писатели на что только ни идут, лишь бы внушить, что в их произведениях неприкрашенная правда.
* * *
Встречаются замечательные книги, при этом очень скучные. Прежде всего, на ум приходят «Уолден» Торо, «Эссе» Эмерсона, «Адам Бид» Джордж Элиот, «Диалоги» Лэндора. Можно ли приписать случайности, что они написаны примерно в одно и то же время?
* * *
Писателю следует быть серьезно и разносторонне образованным, однако напичкивать произведения всевозможными сведениями было бы ошибкой. Только наивный человек станет излагать в романе свои взгляды на эволюцию, сонаты Бетховена или на «Капитал» Карла Маркса.
* * *
Застенчивость: смесь скромности и высокомерия.
* * *
В детстве на его долю выпало так мало любви, что впоследствии ему становилось не по себе, когда ему выказывали приязнь. И если ему говорили, что у него красивый нос и загадочный взгляд, он конфузился и испытывал неловкость. Не знал, что ответить, когда его хвалили, а от любого проявления симпатии чувствовал себя глупо.
Тридцать лет спустя. Изрезанное морщинами, изможденное, землистое лицо. Нудная трещотка. Нескончаемая, преглупая болтовня о детях, доме. Одна банальность за другой. Время от времени лукавый взгляд с целью напомнить, что она не забыла, как он сходил по ней с ума. Он содрогался от стыда при мысли, что ради этой дуры мерил шагами улицу в надежде случайно встретить ее, с замиранием сердца ждал стука почтальона в дверь: вдруг он принесет письмо от нее; чтобы быть рядом с ней, ходил на скучнейшие музыкальные комедии, притворно смеялся и восторгался — лишь бы ей угодить. Ради нее изображал интерес к актерам и актрисам, к глупейшим сплетням — и если бы только изображал! — хуже того, и впрямь интересовался ими, потому что они интересовали ее. Какую бы околесицу она ни несла, он зачарованно слушал. Ради нее опустился до того, что просил об одолжениях, о которых постеснялся бы попросить для себя.
* * *
Угрызения совести. Он был отчаянно влюблен в эту женщину и ревновал ее к другому, тоже влюбленному в нее. Человек чистоплотный, с правилами, он гордился своей честностью. Но из ревности сделал подлость своему сопернику и таким образом устранил его. Женщина вышла за него замуж. Но мало-помалу мысль о том, как низко, бесчестно он поступил, стала его снедать. Не давала ему покоя. И в конце концов он возненавидел женщину, ради которой совершил подлость.
* * *
В вестибюле одной из гостиниц Уэртинга двое мужчин обсуждали убийство, о котором в те дни писали все газеты. Мужчина, слышавший их разговор, — он сидел неподалеку — попросил разрешения присоединиться к ним. Сел, заказал выпивку. И поделился с ними своими соображениями насчет убийства, которое они обсуждали. «Главное в таких делах — докопаться до мотива, — сказал он. — Отыщется мотив, отыщется и преступник, это лишь вопрос времени». Затем без всякого предварения, так, словно речь шла о чем-то вполне обычном, сказал: «Признаюсь, я и сам однажды убил человека». Рассказал, что сделал это ради забавы, и описал, какое это захватывающее переживание. Он знал, что его никогда не найдут, так как у него не было никаких причин убить того человека. «Я его видел впервые», — сказал он. Допил рюмку, встал, откланялся, толкнул вращающуюся дверь — и был таков. Они оторопели.
1938
Индия. Майор С, высокий массивный мужчина с коротко стриженными каштановыми волосами. Трудно сказать, сколько ему лет. Может, и тридцати пяти не исполнилось, а может, и все пятьдесят. Чисто выбритое лицо, довольно крупное, но с мелкими чертами и куцым тупым носом. Выглядит безмятежно счастливым. Говорит медленно, но гладко и весьма громко. Охотно улыбается, часто хохочет. Держится этаким весельчаком. Отменно вежлив, жаждет всем угодить. Невозможно понять, умен он или глуповат. Начитанностью он явно не блещет. Что-то в нем есть обескураживающе мальчишеское: он совершенно по-детски радуется, когда к нему в комнату входит йог и садится на его стул; майор неоднократно уверял меня, что пользуется в индусской обители такими привилегиями, каких нет больше ни у кого. Он немного напоминает школьника, который хвастается расположением к нему директора школы.
Он живет в обители уже два года и с особого дозволения обзавелся собственной хибаркой с пристроенной сзади кухонькой, где орудует его повар. При этом С. не ест ни мяса, ни рыбы, ни яиц, но закупает в Мадрасе огромные запасы консервов, чтобы разнообразить блюда из овощей, приправленных карри, и творога, которые готовит повар. Не пьет ничего, кроме чая.
В его единственной комнате стоят убогая деревянная кровать, стол, кресло, стул и маленькая этажерка с книгами — штук пятьдесят, не больше. Это переводы веданты, упанишад и тому подобное, а также книги самого йога и книги о нем. На стенах небольшие картины: копия с Леонардова «Христа», несколько на редкость уродливых изображений Вишну, дешевые цветные гравюры и фотография йога. Стены окрашены в зеленый цвет. На полу ротанговая циновка. Майор ходит босиком, одетый в нечто вроде китайской белой куртки из хлопка и такие же брюки.
Он ревностно поклоняется йогу, считая его человеком высочайшей духовности, какую только знал мир со времен Христа. О своем прошлом он рассказывает довольно неохотно. По его словам, в Англии у него никого близких нет; прежде он много путешествовал, но, приехав сюда, понял, что достиг своей цели и больше никуда не поедет: здесь ему хорошо и покойно. Он уверял меня (притом неоднократно), что присутствие и самый вид йога сообщают ему ясность духа, которой нет цены. Я спросил, как он проводит день. В чтении, ответил он, в занятиях спортом (у него есть велосипед, и он ежедневно проезжает по восемь миль) и в медитации. Он часами сидит в комнате возле йога, при этом, бывает, за целую неделю обменивается с ним лишь несколькими словами. Но майор ведь был мужчина крепкий, в расцвете сил, и я поинтересовался, находит ли он достойный выход своей природной энергии. Он ответил, что ему очень повезло: он принадлежит к тем немногим, кто по-настоящему хочет и любит предаваться медитации, и занимается ею всю жизнь. Медитация требует большого напряжения сил, добавил он — после нескольких часов чувствуешь себя совершенно изнуренным, необходимо лечь отдохнуть. Но я так и не сумел добиться от него, что же он имеет в виду под медитацией. Не мог понять, сосредоточивается ли он сознательно на определенном предмете. Когда для сравнения я привел в пример иезуитов, размышляющих на заданную тему, скажем, Страстей Господних, то он заявил, что это совсем другое. По его словам, он стремится к тому, чтобы добиться слияния собственного духа с абсолютным духом, отделив мыслящее «я» от души, которая и есть беспредельность. И если ему это удастся и он в самом деле увидит, точнее, почувствует, что божественное в нем есть часть бесконечного божественного, то он достигнет просветления. С. решил жить там, пока это не произойдет или пока не умрет йог.
Нелегко понять, что он за человек. Во всяком случае, он очень счастлив. Я надеялся по внешнему виду и по речам хотя бы отчасти докопаться до его подлинной сущности, но ушел от него в полном замешательстве.
* * *
Хайдарабад. Проезжая на машине из Биды в Хайдарабад, я увидел большое стечение народу, типичную индийскую толпу: женщины в ярких сари, мужчины в набедренных повязках дхоти, быки, впряженные в повозки, коровы. Я было решил, что они съехались на базар, но сопровождавший меня носильщик объяснил, что тут живет целитель и все эти люди собрались из близлежащих деревень в надежде излечиться от своих хворей, а страдающие бесплодием женщины — в надежде забеременеть. Мне захотелось познакомиться со знахарем. Шофер рассказал, что раньше тот был зажиточным подрядчиком в Хайдарабаде, но, почувствовав призвание к святому отшельничеству, раздал свое состояние родне, а сам поселился здесь. Жил он под священным фикусом и ухаживал за небольшим придорожным святилищем Шивы. Мы протиснулись сквозь толпу человек в триста или четыреста. Больные лежали прямо на земле. Женщины держали на руках захворавших детей. Когда мы приблизились к святилищу, к нам вышел целитель и в знак приветствия смиренно и почтительно поклонился. На нем был несвежий белый тюрбан и рубаха без воротника, полы которой висели поверх дхоти. В ушах серебряные серьги. Лицо чисто выбритое, короткая щеточка седых усов. Маленький, бойкий, быстрый в движениях, веселый, суетливый и жизнерадостный, он с виду казался вовсе не святым, а типичным хитрым и хватким базарным торговцем. Можно было даже принять его за явного жулика, но ведь он и вправду отдал все, и дом, и пожитки, а за свои труды не брал ровно ничего. Питается он рисом и фруктами, которые ему приносят страждущие, и все, в чем сам не испытывает прямой нужды, раздает другим. Он настоял на том, чтобы мы взяли у него кокосовых орехов. Лечит он молитвою, которую творит в святилище, и наложением рук. Я собрался уходить, и он попросил у меня благословения, чем изрядно меня смутил. Я пытался объяснить, что для этого я человек вовсе не подходящий, но он стоял на своем, и под взглядами многочисленных страждущих, чувствуя себя очень глупо и стесняясь своей фальшивой роли, я исполнил его просьбу.
* * *
Суфий. Он жил в крошечном домишке в бедном квартале Хайдарабада. Почти в трущобе. Там мы и ждали, пока наш провожатый выяснял, примет нас святой человек или нет. Прежде чем войти, мы разулись, и нас провели в небольшую комнатку, разделенную, сколько я мог судить, на две части москитной сеткой; за сеткой, по-видимому, располагалась его спальня. Там, где сидели мы, много места занимало некое возвышение, или помост, высотою примерно в полметра, крытое дешевыми коврами, поверх была расстелена ротанговая циновка, а на ней сидел праведник — дряхлый, худущий, с косматой седой бородой; одет он был в белую бумажную куртку и белые брюки, на голове феска, на ногах не было ничего. Глаза на изможденном лице казались особенно большими, над запавшими щеками выпирали скулы. У него были длинные красивые руки, хотя одна кожа да кости, а жесты отличались широтой, изяществом и выразительностью. Несмотря на дряхлость и хилость, он казался исполненным энергии и разговаривал очень оживленно. От него веяло бодростью. Лицо светилось лаской и добротой. Не помню, чтобы он сказал что-нибудь значительное. О суфизме я не знаю ничего и, видимо, поэтому так удивился, услыхав от него рассуждения о единении духа с высшим духом, очень напоминавшие речи индусских проповедников. Он оставил у меня впечатление милейшего, чуткого, доброго, милосердного и терпимого старика.
* * *
Праведник. Сэр Акбар Хайдари послал за ним свою машину, и в назначенный час тот вошел в комнату. Одет он был богато, на плечах свободно висел большой алый плащ из дорогой материи. Это был высокий человек средних лет, красивой наружности, с изысканными манерами. Он не владел английским, и сэр Акбар взял на себя обязанности переводчика. Гость говорил звучным голосом, плавно и красиво. Излагал он то, что я уже слышал от других раз двадцать. В этом главная беда индийских мыслителей: они твердят одно и то же теми же самыми словами; и даже понимая, что нелепо от этого раздражаться — ведь если они обладают истиной (в чем они убеждены) и истина эта едина и неделима, то вполне естественно, что они повторяют ее, как попугаи, — все же неизбежно досадуешь, беспрерывно слушая одни и те же постулаты. Хорошо бы эти проповедники придумали хотя бы другие метафоры, сравнения и притчи, кроме тех, что приводятся в упа-нишадах. Тоска берет, когда тебе в очередной раз преподносят историю про змею и веревку. От слишком частого повторения притча эта изрядно поблекла.
Я спросил у праведника, как мне овладеть искусством медитации. Он посоветовал уединиться в затемненной комнате, сесть, скрестив ноги, на пол и пристально, не отводя глаз смотреть на пламя свечи, не думая абсолютно ни о чем, чтобы ум совершенно освободился от всяких мыслей. Если я буду это проделывать по пятнадцать минут ежедневно, сказал он, то вскоре испытаю необычайные переживания. «Делайте так в течение девяти месяцев, — заключил он, — а потом приезжайте, я дам вам другое упражнение».
В тот же вечер я исполнил все, как он учил. Долго готовился. Потом очень долго сидел в предписанной позе и наконец решил, что наверняка превысил положенные пятнадцать минут. Глянул на часы. Прошло ровно три минуты. Но они показались вечностью.
* * *
Неделю или две назад кто-то рассказал мне один случай, чтобы я написал на его основе рассказ, и с тех пор он не выходит у меня из головы. Ума не приложу, как тут быть. А случай такой. В горах, на чайной плантации работали два парня; почту туда возить было далеко, поэтому письма доставлялись довольно редко. Один из молодых людей, назовем его А., с каждой почтой получал множество писем, штук десять-двенадцать, а то и больше, другой же, Б., не получал ни единого. Он всякий раз с завистью смотрел, как А., взяв целую пачку, принимается за чтение — он мечтал тоже получить письмецо, хотя бы одно, и однажды, когда вот-вот должны были привезти почту, Б. сказал А.:
— Слушай, тебе всегда приходит целая куча писем, а мне вообще ни единого. Плачу пять фунтов, если отдашь мне одно письмо.
— Идет, — ответил А. и, получив почту, выложил перед Б. все свои письма: — Выбирай любое.
Вручив А. пять фунтов, Б. просмотрел письма, выбрал одно, а остальные вернул. Вечером, после ужина, за стаканчиком виски с содовой А. как бы между прочим поинтересовался:
— Кстати, а что там было, в том письме?
— И не собираюсь говорить, — отрезал Б.
Не ожидавший такого поворота А. все-таки спросил:
— Ну, хоть от кого оно?
— Это мое дело, — ответил Б.
Они немного поспорили, но Б. стоял на своем и наотрез отказывался сообщить что-либо о купленном письме. А. забеспокоился всерьез и в последующие недели всеми силами пытался убедить Б. показать ему письмо. Б. упорно не соглашался. В конце концов, измученный сомнениями, тревогой и любопытством, А. понял, что терпеть больше не в силах; он пришел к Б. и сказал:
— Слушай, вот твои пять фунтов, отдай мне мое письмо.
— Не отдам, хоть умри. Я купил его на свои кровные, это мое письмо, и отдавать его я не намерен.
Вот и все. Наверное, если бы я принадлежал к писателям современного толка, я бы описал все, как было, и тем удовольствовался бы. Но это противно моей натуре. Я хочу, чтобы рассказ был законченным по форме, а это, на мой взгляд, невозможно без развязки, дающей ответы на все вопросы. Ведь даже если у писателя хватит духу бросить читателей в полном недоумении, едва ли он захочет остаться в недоумении сам.
* * *
Как-то днем меня пригласили на обед к наследному принцу и принцессе Берара. За столом принц завел беседу о моем путешествии.
— Вы, полагаю, уже бывали в Бомбее? — спросил он.
— Да, — ответил я, — бывал.
— Останавливались в Яхт-клубе? — Да.
— А теперь едете в Калькутту? — Да.
— Остановитесь, наверное, в Бенгальском клубе?
— Надеюсь, — ответил я.
— А вы знаете, в чем между ними разница? — спросил принц.
— Нет, — ни о чем не подозревая, отозвался я.
— В Калькутте в Бенгальский клуб не пускают ни собак, ни индийцев, а в Бомбейском Яхт-клубе ничего не имеют против собак; туда не пускают только индийцев.
Я не нашелся тогда, что на это сказать, и по сию пору ничего путного так на ум и не приходит.
* * *
Индусский проповедник. На нем были монашеские одежды шафранового цвета, не желтого, а, скорее, розоватого оттенка, на голове такого же цвета тюрбан, на плечах накидка. Одеяние это выглядело чересчур жарким. На ногах у него были белые носки и очень изящные коричневые туфли, напоминавшие обувь для танцев. Он был довольно высок ростом, склонен к полноте, лицо большое, мясистое, за очками в золотой оправе сияли красивые глаза, рот крупный и чувственный. Говорил он громко, звучным голосом, становившимся, когда он выступал с поучениями, чуточку резковатым. Улыбка почти не сходила с его лица. Держался он с вкрадчивой благожелательностью. Он производил впечатление чрезвычайно самодовольного человека. Таял от примитивной лести и очень любил поговорить о себе. Как-то я спросил, не жалеет ли он об удовольствиях, доступных людям светским.
— С чего бы мне о них жалеть? — удивился он. — Я насладился ими в прошлой жизни.
* * *
Странствующие монахи-факиры. Церемония происходила на мусульманском кладбище, где за несколько веков до того был похоронен один из их святых. Главный монах — крепкий мужчина с крючковатым носом и умным, внушающим почтение лицом, одетый в белоснежный тюрбан и арабское одеяние из тонкой коричневой ткани — сидел на земле. Перед ним стояла маленькая жаровня с горящими углями, на которые он беспрестанно капал благовониями, и лежали разнообразные орудия, которыми положено пользоваться дервишам во время демонстрации своего могущества.
Напротив, метрах в четырех-пяти от него уселись в ряд остальные монахи. Они были самого разного возраста; одному на вид едва исполнилось лет четырнадцать, но были там и юноши, и молодые мужчины, однако наибольшим почтением, по индийским обычаям, пользовались длиннобородые седые старцы. Очень странное то было зрелище: все длинноволосые, украшенные цепочками и серьгами, закутанные в длинные разноцветные полотнища ткани.
Действо началось с долгой молитвы, которую главный монах читал нараспев, а остальные время от времени подкрепляли дружными возгласами. Затем один из дервишей вышел вперед и, взяв шпагу футов, наверное, двух длиною, поводил ею над благовонием, затем протянул главному монаху, чтобы тот коснулся ее, а потом проткнул ею щеку и толкал все дальше, пока она не вышла самое меньшее на пять сантиметров из другой щеки. Дервиш прошелся перед собратьями, демонстрируя им свое достижение, затем осторожно вынул шпагу, легонько потер те места, где шпага пронзала щеку — не было не только крови, но даже и намека на рану. Вперед вышел другой, взяв шпагу, проткнул ею шею позади дыхательного горла и вытащил обратно. Затем третий, нелепо помахав руками и издав несколько воплей, коротким тупым кинжалом выдавил себе глаз и принялся расхаживать перед остальными; глазное яблоко тем временем висело у его щеки — отвратительное зрелище. Потом он сунул глаз на место, немного потер и, судя по всему, перенес эти манипуляции безо всякого ущерба. Еще один воткнул кинжал себе в живот, другой пронзил себе язык. При этом они явно не испытывали боли. Действо продолжалось с полчаса и завершилось опять долгою молитвой. У одного-двух монахов показалось немного крови, капля-другая, но вскоре кровотечение прекращалось.
* * *
Мистик. Это был маленький человечек с круглой головой и круглыми глазками за стеклами очков, очень велеречивый. Он побывал на войне, дослужился до майора. Много поездил по свету. Он был христианином, усердно изучал работы Парацельса и Элифаса Леви. Различал белую магию и черную. Презирал чудеса, одновременно утверждая, что способен парить в воздухе. Неизменно повторял, что любой показ магических возможностей только для удовлетворения людского любопытства убавляет силу мистика. А сила его чисто духовного свойства. Уверял меня, что умеет исцелять больных, заметив вскользь, что жена его (пришедшая ко мне вместе с ним) обладает еще большими возможностями. Это была немолодая, одетая в сари индуска, молчаливая и настороженная. Уходя, она предупредила, что иногда будет мне являться, а является она-де людям всегда в темно-синем сари.
* * *
Вероятно, корень нашей испорченности именно в нашем «я», но ведь в нем же и источник создаваемой нами музыки, живописи, поэзии. Как тут быть?
* * *
Ахмед Али, секретарь сэра Акбара, рассказал мне следующую историю. К нему привели укушенную скорпионом женщину и сказали, что если он напишет на земле число 16, а потом сотрет его башмаком, то женщина исцелится. Хотя Ахмед и не поверил, но исполнил все в точности. Чуда не произошло. Женщина ушла, и тут кто-то заметил, что написал он не 16, а 13. С тех пор он всякий раз пишет только 16 и уже излечил несколько человек.
* * *
Йогу понадобилось перебраться через реку, но у него не было ни пенса, чтобы заплатить перевозчику, и тогда он просто зашагал по поверхности воды. Услышав эту историю, другой йог заявил, что такое чудо стоит ровно один пенс, цену переправы.
* * *
Йогу понадобилось съездить куда-то на поезде. Денег у него не было, и он спросил начальника станции, нельзя ли ему поехать бесплатно. Начальник станции отказал, и йог уселся на платформе. Настала пора отправления, но поезд не трогался с места. Решили, что в двигателе какие-то неполадки, и послали за механиками. Те сделали все, что было в их разумении, но поезд по-прежнему не двигался. Наконец начальник станции рассказал служащим про йога. Йога попросили сесть в поезд, и состав немедленно тронулся.
* * *
И мистик, и Ахмед Али дружно утверждали, будто на линии работает начальник станции, умеющий лечить от змеиных укусов; по их словам, ужаленный змеею человек имеет право бесплатно послать телеграмму этому начальнику станции, а уж тот, отбив ответную телеграмму, исцелит больного.
* * *
Я устроил небольшой званый обед. Гостей было всего шестеро — философы, брамины, ученые. Разговор зашел о тех возможностях, которые развивают в себе йоги дисциплиною и аскетизмом, и гости рассказали мне об одном йоге, который дал замуровать себя на дне высохшего колодца, велев открыть свой склеп через полгода. Если темя его будет теплым, предупредил он, значит, он жив, и тогда следует привести его в чувство, а если темя будет холодным, значит, он умер, и тогда его тело можно будет сжечь. Так и сделали, а открыв колодец, обнаружили, что йог жив. Его быстро привели в чувство, и он по сей день, шестнадцать лет спустя, крепок и бодр. Мои гости либо видели его сами, либо знали видавших его людей. Всю эту историю они считали совершенно достоверной.
* * *
Павлин. Мы ехали по джунглям. Заросли были не слишком густыми, и вдруг среди деревьев мы заметили павлина, распустившего свой роскошный хвост. Гордое великолепное создание, он ступал по земле чуть замедленно, с каким-то особым изяществом, и поступь его была столь изысканна, исполнена такой изумительной грации, что напомнила мне Нижинского, который ступал по сцене «Ковент-Гарден» ровно с тою же изысканностью, грацией и изяществом. Не припомню более восхитительного зрелиша, чем тот павлин, в одиночку расхаживавший по джунглям. Мой спутник приказал шоферу остановиться и схватил ружье.
— Попробую подстрелить.
Сердце у меня замерло. Он выстрелил. Промахнулся, с надеждой подумал я, но он не промахнулся. Выскочив из машины, шофер принес мертвую птицу, которая еще минуту назад радовалась жизни. Горько было смотреть на нее.
Вечером нам подали на ужин павлинью грудку. Мясо оказалось белым, нежным и сочным — приятное разнообразие после тощих кур, которыми из вечера в вечер потчуют в Индии.
* * *
Бенарес. Ни с чем не сравнимое впечатление оставляет лодочная прогулка по Гангу в предзакатную пору. Дух захватывает от вида на город. Особенно хороши два минарета мечети, высящиеся на фоне бледного неба. На душу нисходит удивительный покой. Вокруг стоит глубокая тишина.
Но вот едешь по городу на заре, до восхода солнца — магазины еще закрыты, на мостовой спят, прикрывшись ковриками, люди, несколько человек с медными сосудами в руках поодиночке тянутся к реке совершить положенное омовение в священных водах. Садишься в барку — целый плавучий дом, которым правят трое, и барка медленно, на веслах, плывет мимо гхатов. В рассветную пору еще прохладно. На священных площадках у воды кучками, где-то больше, где-то меньше, собрались люди. На одной почему-то целое столпотворение. Поразительное зрелище эта толчея на ступенях и у кромки воды. Купальщики по-разному совершают обряд омовения. Для многих мальчиков это лишь забава, они ныряют в воду, вылезают и ныряют снова. Для других это процедура, которую надо закончить поскорее; быстро бормоча молитвы, они механически проделывают ритуальные движения. Некоторые совершают обряд со всею серьезностью. Они кланяются восходящему солнцу и, воздев над головой руки, истово читают молитвы. После омовения кое-кто принимается болтать с друзьями, и становится понятно, что ежедневный религиозный долг дает им возможность обмениваться новостями и сплетнями. Другие сидят скрестив ноги и предаются медитации. Их неподвижность почему-то поражает: возникает ощущение, что среди толпы они сидят в храме уединенности. На лице у одного старика белым пеплом были нарисованы большие круги вокруг глаз, широкая полоса на лбу, квадратные пятна на щеках — казалось, он надел маску. Совершив омовение, многие тщательно скребли и начищали медные сосуды, в которых собирались нести домой святую воду.
Это трогательное, на редкость волнующее зрелище; суета, шум, снующие взад-вперед люди создают впечатление бьющей ключом жизни, а неподвижные, углубленные в самосозерцание фигуры кажутся по контрасту особенно безмолвными, оцепенелыми, совершенно отчужденными от мира.
Солнце все выше поднимается в небе, сероватый свет, окутывавший эту сцену, становится золотистым, и проступающие цвета придают ей пестрое великолепие.
* * *
Это был невысокий крепыш с развязной походкой самоуверенного бодрячка, круглая лысая голова, ярко-синие глаза в густой сетке морщин, лицо лучится радостью жизни. Он служил правительственным инженером, строил дороги, дамбы, мосты. Его одноэтажный домик выходил фасадом на реку. В гостиной удобные кресла, а посреди резной стол индийской работы; на стенах висели деревянные резные многофигурные изображения мифологических сцен, головы убитых им животных и фотографии в рамках. Между верандой и рекой тянулась узкая полоска сада, и одно из деревьев поразило меня своею красотой. Листва на нем была довольно редкая, и просвечивающие ветви создавали на фоне неба изысканный рисунок. Какое прелестное дерево, заметил я и по реакции хозяина понял, что до той поры он его вообще не замечал; думаю, он про себя удивился, что я завел речь о таком пустяке.
Разговор зашел об охоте, и он мимоходом сказал, что он как-то подстрелил обезьяну.
— Ни за что не стану их больше стрелять, — продолжал он. — Я тогда строил дорогу, а работяги, все шестьсот человек, забастовали: заболел десятник, и они испугались, что он умрет; вот и решили бросить работу и уйти вообще. Чего я только не делал, чтобы уговорить их остаться. Наконец они согласились, но при условии, что я убью обезьяну, а они кровью ее сердца вылечат десятника. Что поделаешь, не мог же я допустить остановку работ — взял ружье и пошел по дороге. Вокруг обычно резвилось множество обезьян, знаете, маленьких, с черными мордочками, и вскоре я приметил одну. Прицелился, выстрелил, но только ранил ее. Она бросилась ко мне, ища защиты, и все плакала, совсем как ребенок.
— А десятник-то выздоровел? — спросил я.
— Да, представьте, выздоровел. Одним словом, дорогу я тогда достроил.
* * *
Ван X. Ему около шестидесяти; это массивный мужчина с большим животом, крупным мясистым лицом, крупным носом, седобородый и седовласый. Говорит охотно, правильно, хотя и с небольшим акцентом. Едва ли он в молодости был хорош собою, а уж теперь, небрежно и убого одетый, да еще заплывший жиром, он, при всех своих солидных размерах, не внушает никакого почтения, даже грузность его не удивляет и не поражает. На Востоке он прожил свыше тридцати лет. Сначала поселился на Яве. Он неплохой языковед, знаток санскрита, хорошо разбирается в восточных религиях и в греческой философии. В последней его, естественно, более всех интересует Гераклит, и на полках у него собрана вся существующая ныне литература по Гераклиту. Квартира битком набита книгами. На стенах висят тибетские хоругви, там и сям стоят медные изделия тибетской работы. В Тибете он прожил довольно долго. Ван X. — большой любитель поесть, кружку-другую пива тоже выпивает с удовольствием. Под влиянием Ледбитера он стал теософом, отправился в Индию и несколько лет проработал библиотекарем в Адъяре, но потом поссорился с миссис Безант. Я его спросил, что он думает о теософском понятии «махатма». Он ответил, что, по его мнению, доказательств существования этих «посвященных» примерно столько же, сколько и доказательств противного. Хотя он давно разуверился в теософии, по-прежнему глубоко восхищается Ледбитером, считая, что тот обладал сверхъестественными возможностями. Теперь, мне кажется, он искренне верует в буддизм.
В молодости, еще на Яве, он как-то нанял слугу. Девять месяцев колесил с ним по острову, и однажды слуга поведал ему свою историю. Он оказался потомком одного яванского султана, имел жену и ребенка; жена с ребенком умерли, и, убитый горем, он удалился в джунгли, чтобы вести там праведную жизнь аскета. Потом он присоединился к артели угольщиков и несколько месяцев провел с ними. В конце концов они сказали ему, что негоже так жить потомку принца, и уговорили пойти к одному необыкновенному человеку. Это был яванец лет сорока, владелец чайной плантации; но согласно легенде, в него не просто перевоплотился знаменитый мятежник, таинственно исчезнувший после разгрома повстанцев (как то было с Нана Сахибом), нет, то был сам тот мятежник, собственной персоной, живой и здоровый спустя сто с лишним лет. Этот-то человек и велел юноше отправляться в Батавию; там он найдет-де белого человека, которому должен служить все девять месяцев, что он там пробудет. И назвал даже день, в который туда приедет его будущий хозяин. Подивившись, что все вышло в точности, как предсказывал чайный плантатор, Ван X. сам отправился к нему. Он увидел заурядного на вид человека, которого, однако, все очень почитали; сам он ничего о себе не рассказывал, не подтверждая, но и не отрицая того, что действительно является тем старинным героем, за которого его принимают. Ван X. спросил его, по какому наитию дал он указания, следуя которым будущий слуга Ван X. поехал в Батавию и поступил к нему на службу. Вот каков был ответ:
«Бывает знание, что приходит из головы, а бывает знание, что приходит из сердца. Я прислушался к сердцу и сказал то, что услышал».
* * *
Молодой офицер, возвращавшийся пароходом домой в Англию, изо дня в день усаживался на палубе и сосредоточенно читал книги о Тадж-Махале. На вопрос, почему он читает именно эти книги, он ответил:
— Понимаете, я четыре года прослужил в Агре, а Тадж-Махала так ни разу и не видел. Но я наверняка знаю, что дома меня непременно будут про него расспрашивать, вот и решил к приезду все это вызубрить.
Тадж-Махал. Я видел немало его изображений и ожидал многого, но когда он впервые предстал передо мною в полном блеске, с террасы главного входа, то ошеломил меня своей красотой. Я был по-настоящему потрясен и попытался разобраться в своих чувствах, пока они не утратили остроты. Я знаю по опыту, что слова «от этого захватывает дух» — вовсе не пустая метафора. В те минуты я в самом деле испытывал нечто вроде одышки. В сердце возникло необычное восхитительное ощущение, будто оно вдруг резко расширилось. Меня охватили сразу изумление и радость, а еще, мне кажется, чувство освобождения. Правда, как раз в ту пору я читал книги про философию самкхья, а в ней искусство рассматривается как некое временное освобождение, сродни тому, которое считается высшей целью любой индийской религии; не исключено, что я просто перенес впечатление от прочитанного на собственные ощущения.
Однако я не способен испытывать экстаз при повторном созерцании шедевра, и на следующий день, придя в Тадж ровно в тот же час, уже чисто рассудочно восхищался этим зрелищем. Впрочем, я был вознагражден и совсем новым впечатлением. На закате я забрел в мечеть. Там не было ни души. Я окинул взглядом приделы, и от их пустоты и безмолвия меня охватило жутковатое, непостижимое чувство. Я даже слегка испугался. Выразить испытанное я могу только следующим, не очень осмысленным образом: мне казалось, я слышу бесшумную поступь беспредельности.
* * *
Сундарам. Описывать индийца невероятно трудно. Возможно, потому, что очень мало знаешь о его прошлом, об окружавшей его обстановке; возможно, потому, что вообще знаешь сравнительно мало индийцев, так что не с кем сравнивать; может быть, потому, что натура у них очень гибкая, словно лишенная четко выраженных особенностей; а скорее всего, они приоткрывают тебе лишь то, что хотят, или то, что, по их представлениям, тебе понравится либо вызовет у тебя интерес. Сундарам, мадрасец по происхождению, был коренаст, довольно толст, среднего по европейским меркам роста, не слишком смуглокож; ходил он в набедренной повязке, белой рубахе и шапочке, как у Ганди. У него был короткий толстый нос и крупный рот с мясистыми губами. На лице то и дело вспыхивала сияющая улыбка. Он, как я заметил, не без удовольствия упоминает в разговоре знакомых ему знатных персон — единственное, пожалуй, проявление его тщеславия. Он отличался бесконечной добротою. Воспитанный в пуританской строгости, он, по его собственным словам, ни разу в жизни не был ни в театре, ни в кино. При этом обладал тонкой поэтической натурой: красивый пейзаж, реки, цветы, дневное небо и небо ночное вызывали у него восторг. Чуждый логике, он не проявлял ни малейшего интереса к ученым спорам. Свои взгляды и верования он воспринял из многовековой индийской культуры, а также непосредственно от своего гуру; Сундарам охотно и подолгу рассуждал об этих верованиях, но их обоснованность его ничуть не заботила. Не смущало и то, что его взгляды противоречат друг другу. Он руководствовался чувствами и интуицией, в них он верил слепо. Как правоверный индус неукоснительно соблюдал все обычаи касательно пищи, омовений, медитации и прочего. Питался главным образом молоком, фруктами и орехами. Однажды, рассказывал он, занимаясь серьезной работой, требовавшей умственного напряжения, он полгода жил на одном молоке и хранил полное молчание. Он с проникновенной искренностью толковал мне о самоотречении, об Абсолюте и о Боге, живущем в каждом из нас: Бог есть все, мы все — тоже Бог. По любому поводу у него было наготове несколько образных выражений, которые в ходу у индийцев уже много столетий, пользовался он ими очень к месту, и было ясно, что в его представлении это вполне убедительные аргументы. Красивый оборот речи, в котором упоминается Ганг, обладал для него неопровержимостью силлогизма. Он гордился своим семейством и был несомненно предан жене и детям. Дети были воспитаны превосходно. Сам он встает в пять утра и предается медитации. Он убежден, что этот ранний час — самое подходящее время для такого занятия. Я видел его в компании студентов университета. Он был с ними очень внимателен и любезен, но без приторности, порою свойственной миссионерам по отношению к новообращенным, — он держался естественно и просто.
* * *
Создатель империи. Седой генерал с белой щеточкой усов, мускулистый, но не толстый, с багровым лицом, голубыми глазами и яйцевидной головой. Каждое утро он в шесть часов выезжал на верховую прогулку; в комнате у него стоял гребной станок, на котором он тренировался, прежде чем принять ванну; как только жара чуточку спадала, он уже был на теннисном корте и играл напористо, с изрядным мастерством (он хвастался, что способен достойно сражаться с соперниками вдвое его моложе, и предпочитал одиночную игру, поскольку в ней физическая нагрузка больше), играл до темноты, когда уже и мяча не видно; вернувшись к себе, садился за гребной станок и еще четверть часа тренировался в гребле, а уж потом принимал ванну. «В этой стране необходимо поддерживать форму, — говаривал он и недовольно добавлял: — Нагрузки мне здесь не хватает». Он прожил в Индии тридцать лет. «Единственное, что делает жизнь в Индии сносной, это охота. Я знавал много охотников-туземцев, парни были первый класс; поверьте, на них можно было положиться, почти как на англичан, и стрелки первостатейные, дело свое знали до тонкостей, одним словом, если бы не цвет кожи, настоящие белые люди. Я, поверьте, не преувеличиваю. Факт».
* * *
Ашварт. Он мне рассказывал, что, изучая в колледже философию, никак не мог понять слова учителя о том, что все окружающее и есть ты сам. Разве можно утверждать, что ты есть вон тот стол, а стол — это ты? Это казалось бессмыслицей. Но однажды он это постиг. Отправился он как-то в Майсур полюбоваться великими водопадами и долго ехал на автобусе через джунгли. До того он никогда не видал больших деревьев, а тут автобус шел по дороге, будто проложенной сквозь зеленый туннель, и кроны смыкались высоко над головою; Ашварта охватил трепет восторга, Прибыли к водопаду. Подойдя к краю огромной круглой впадины, он увидел перед собой гигантскую массу воды — дело было после сезона дождей, — падавшую с чудовищной высоты. Он испытал необычайное чувство: ему казалось, что он и есть вода, что он падает, как вода, что вода это он; он и вода — одно целое, понял он. Сейчас ему тридцать восемь лет, для индийца с Деканского плоскогорья он довольно высок, сантиметров, наверное, на пять выше меня; волосы у него черные, волнистые от природы, только начинающие седеть, но лицо по-прежнему очень молодое, на лбу почти ни единой складки, под глазами ни морщинки; глаза большие и влажные, нос короткий, но красивой формы, рот довольно большой, полногубый; маленькие уши прижаты к черепу, но мочки длинные, мясистые, напоминающие мочки ушей Гаутамы на его многочисленных изображениях, но, разумеется, не такие огромные. Лицо чисто выбрито, но волосы на подбородке растут так буйно, что даже после бритья сквозь его смуглую, медового цвета кожу чернеет щетина. Он не красив, но выражение глубокой искренности придает ему какую-то особую привлекательность. У него великолепные зубы, очень белые и ровные. Руки крупнее, чем у большинства индийцев.
Он носит дхоти из самого дешевого хлопка, такую же рубаху и шапочку, вроде той, что носил Ганди; как всякий индиец, добившийся высокого общественного положения, носит шарф; на ногах кожаные сандалии. По-английски говорит бегло, хотя в Англии не бывал никогда, голос у него звучный и приятный. Его искренность и добросердечие бросаются в глаза, а вот в его уме я не был столь же уверен. Все свои идеи он выносил сам и понятия не имеет, сколь многие из них, рожденные им в долгих размышлениях, — увы, банальны и убоги. Неловко становится, когда он с неподдельным чувством изрекает донельзя плоские истины. Впрочем, время от времени его осеняет недурная и даже свежая мысль.
За несколько бунтарских статей, которые он опубликовал в собственной газете, его арестовали и приговорили к году тюремного заключения. Посадили в одиночную камеру, чтобы он своими разговорами не оказывал пагубного влияния на других заключенных; к работе его не принуждали, он вызывался сам и вместе с другими плел в цехе ковры. Свое заключение переживал очень тяжело. По его рассказам, он часами плакал, а порою его охватывало неодолимое желание вырваться на волю, он с воплями бился в окованную железом дверь, пытаясь ее взломать, пока наконец не падал без сил на циновку и тут же засыпал. За четыре месяца заключения он так разболелся от тюремной еды, что его положили в больницу, где он и провел остававшиеся по приговору месяцы. Там-то он и принял решение отказаться от всего, чем владел. Но судебное разбирательство обошлось ему очень дорого, в газете, пока он сидел в тюрьме, дела шли все хуже, а потому, выйдя на свободу, он оказался по уши в долгах. Несколько лет ушло на то, чтобы вернуть деньги кредиторам. А затем, собрав всех своих служащих, он передал им и газету, и печатные станки, все, поставив одно-единственное условие: выплачивать его матери тридцать рупий в месяц на прокормление ее самой, а также его жены, сестры и двоих детей.
Я попытался выяснить, как восприняли такое решение его домочадцы.
— Оно им не понравилось, — спокойно, даже небрежно бросил он, — но тут уж ничего не попишешь. Поступая так, как считаешь верным, непременно доставишь кому-нибудь страдания или неудобства.
Когда он родился, астролог составил гороскоп и предрек, что он станет либо очень богатым, преуспевающим человеком, повелевающим другими людьми, либо святым отшельником. В течение многих лет Ашварт стремился добиться богатства и славы, но когда он решил отказаться от всего, чем владел, его мать, помня предсказание астролога, не удивилась, хотя опечалилась сильно. Что же он скажет сыну, спросил я, когда мальчик вырастет и упрекнет отца за то, что, родив на свет, он лишил его приличного положения в обществе и хорошего образования, предоставив ему вместо этого получать лишь очень примитивные знания и навыки, с которыми ему не подняться выше простого работника? Ашварт спокойно улыбнулся в ответ.
— Наверное, упрекнет, — сказал он, — но ведь у него будет крыша над головой и пища, которые ему обеспечил я. Не понимаю, почему, родив на свет сына, надо непременно тратить свою жизнь только на то, чтобы его жизнь стала лучше твоей. У меня прав не меньше, чем у него.
Он рассказал историю, которая мне понравилась. Раздав все свое имущество, он на следующий день отправился навестить друга, жившего в нескольких милях от Бангалура. Туда он пошел пешком, а на обратном пути, устав, сел на проходящий автобус, но внезапно вспомнил, что в кармане у него пусто. Пришлось остановить автобус и сойти. Я спросил его, где он находит пристанище.
— Если мне предлагают кров, сплю на веранде, если не предлагают, ночую под деревом.
— А еда?
— Если мне предлагают поесть, ем, если не предлагают, обхожусь без еды, — просто ответил он.
Познакомился я с ним довольно любопытным образом. Я уже во второй раз жил в Бомбее; он прислал из Бангалура письмо с просьбой разрешить ему приехать ко мне, поскольку он был уверен, что я открою ему нечто для него очень важное.
— Я человек самый обыкновенный, — ответил я, — просто писатель и не более того, так что вряд ли стоит пускаться в двухдневное путешествие, только чтобы встретиться со мною.
Он, тем не менее, приехал. Я спросил, где он достал денег на дорогу, он ответил, что пошел на станцию и стал ждать. Через некоторое время он разговорился с человеком, ожидавшим своего поезда, и сказал, что направляется ко мне, но не имеет денег на проезд. Тот человек купил ему билет. Я предложил оплатить ему дорогу домой, но брать у меня деньги он не пожелал.
— Доберусь как-нибудь, — улыбаясь, сказал он.
Два дня подряд мы вели долгие беседы. Все это время меня терзала мысль, что он ждет от меня каких-то откровений или хотя бы глубокой идеи. Мне нечего было ему предложить. Он, конечно же, был сильно разочарован; вероятно, следовало наговорить ему трескучей напыщенной чуши, но это было свыше моих сил.
* * *
Гоа. Едешь через рощи кокосовых пальм, среди них там и сям виднеются развалины домов. В лагуне плавают рыбацкие лодки, их треугольные паруса ярко белеют под ослепительным солнцем. В рощах высятся большие белые церкви, украшенные с фасада каменными пилястрами медового цвета. Высокие просторные церкви совершенно пусты; кафедры в стиле португальского барокко покрыты изысканнейшей резьбой, так же отделаны и алтари. В одном из храмов, в боковом приделе священник-индиец совершал у алтаря мессу, ему прислуживал смуглолицый псаломщик. Во всей церкви не было ни единого прихожанина. Во францисканском храме приезжим показывают деревянное распятие, и проводник сообщает, что за полгода до разрушения города из глаз Христа катились слезы. В кафедральном соборе шла служба, играл орган, пел стоявший рядом небольшой хор из местных жителей; голоса их звучали резко, и от этого католические песнопения почему-то приобретали непостижимо языческий, индийский характер. Зрелище огромных пустых церквей в безлюдном городе производило странное, но сильное действие, особенно от сознания того, что изо дня в день священники служат в них мессу, которой не слушает ни единая живая душа.
* * *
Священник. Он приехал в гостиницу специально познакомиться со мною. Это был высокий индиец, не худой и не толстый, лицо красивое, чуть грубоватое, глаза большие, темные, влажные, со сверкаюшими белками. Одет в сутану. Поначалу он очень нервничал, руки его беспокойно двигались, но я всячески старался создать непринужденную обстановку, и наконец его руки замерли. Он великолепно говорил по-английски. Рассказал, что родом из семьи браминов, одного его предка, тоже брамина, обратил в христианство кто-то из спутников Св. Франциска Ксаверия. Священнику едва перевалило за тридцать, он был могучего сложения и хорош собою. Обладал низким и мелодичным голосом. Шесть лет он прожил в Риме, во время пребывания в Европе много путешествовал. Ему хотелось вновь поехать туда, но его престарелая мать пожелала, чтобы он оставался в Гоа до ее смерти. Он работал в школе и читал проповеди. Большую часть времени занимался тем, что обращал в христианство индийцев шудра. Индусов же, принадлежащих к высшим кастам, бесполезно пытаться обратить в истинную веру, утверждал он. Я решил вызвать его на разговор о религии. По его мнению, христианство способно объять все прочие вероучения, но жаль, сказал он, что Рим не позволил индийской церкви развиваться в соответствии с местными особенностями. Насколько я мог судить, он принимает догматы христианства без излишнего рвения, скорее как епитимью; быть может, если докопаться до самых основ его убеждений, там обнаружится, как минимум, изрядный скептицизм. И хотя за его спиною четыре столетия католицизма, в глубине души, мне кажется, он остался приверженцем веданты. Не сливается ли, думал я, пусть не в сознании, но хотя бы где-то в тайных глубинах его подсознания христианский Бог с Брахманом из упанишад? Он мне рассказал, что даже среди христиан кастовая система еще настолько сильна, что ни один индиец не женится на девушке другой касты. Немыслимо, чтобы христианин из рода браминов женился на христианке-шудре. Он не без удовольствия сообщил мне, что в его жилах нет ни капли крови белого человека: в семье всегда твердо блюли чистоту крови.
— Мы, конечно, христиане, — заключил он, — но прежде всего мы индусы.
К индуизму он относился терпимо и сочувственно.
* * *
Заводи Траванкура. Это узкие каналы, более или менее искусственные; вернее, естественные протоки здесь соединили каналами, чтобы проложить водный путь от Тривандрама до Кочина. По берегам высятся кокосовые пальмы, у самой воды стоят лачуги из камыша с глинобитными крышами, при каждой лачуге свой огороженный участок, на котором растут банановые деревья, папайи, кое-где хлебное дерево. Дети играют, женщины сидят праздно или толкут рис, в легких одновесельных лодчонках снуют туда-сюда мужчины и подростки, частенько перевозя груды кокосов, листьев или корма для скота, многие с берега рыбачат. Мне повстречался один такой рыбак с луком, стрелами и небольшой низкой подстреленной рыбы. Все, от мала до велика, здесь же и купаются. Вокруг зелено, прохладно, тихо. Возникает странное ощущение: неспешно идет мирная пасторальная жизнь, простая и не слишком тяжкая. Время от времени проплывает большая баржа, которую двое вооруженных шестами мужчин ведут из одного города в другой. Кое-где проглядывает скромный маленький храм или часовенка, ведь население здесь в большинстве христиане.
* * *
Река заросла водяными гиацинтами. Эти растения с нежными розовато-лиловыми цветами растут не из почвы, а прямо из воды; они плавают на поверхности, и лодка раздвигает их, оставляя за собой полосу чистой воды; но не успеет она отплыть, как течением и ветром их сносит на прежнее место, и от появления лодки не остается и следа. Не ждет ли и нас то же самое, после того как мы слегка нарушим равномерное течение жизни?
* * *
Премьер-министр одного индийского княжества. Мне говорили, что он политик не только хитрый, но и беззастенчивый. Его считали умным и в той же мере лукавым. Это был коренастый крепыш, не выше меня ростом, с живыми, не очень большими глазами, широким лбом, крючковатым носом, полными губами и маленьким круглым подбородком. У него густые, пушистые, коротко стриженные волосы. Ходил он в белом дхо-ти, белом кителе, воротник которого туго охватывал его шею, и в белом шарфе; на босых ногах сандалии, которые он то сбрасывал, то надевал снова. Он обладал тою сердечностью, что свойственна политикам с многолетним стажем, привычно старающимся проявлять душевность по отношению к каждому встречному. По-английски говорил прекрасно, бегло, запас слов богатейший, мысли свои выражал ясно и логично. У него был звучный голос и непринужденные манеры. Он часто не соглашался с моими высказываниями и решительно поправлял меня, но делал это с тою учтивостью, которая как бы подразумевает, что я слишком умен, чтобы обижаться на возражения. Он был, естественно, очень занятым человеком, ведь на нем лежал груз государственных дел, однако мог битый час рассуждать об индийской метафизике и религии с таким увлечением, словно этот предмет интересовал его более всего. Он обнаруживал глубокие познания не только в индийской, но и в английской литературе, однако ничто не говорило о его хотя бы поверхностном знакомстве с литературой или научной мыслью других европейских стран.
Когда я заговорил о том, что религия в Индии является основой всей здешней философии, он меня поправил:
— Нет, это не совсем так, в Индии вообще нет религии в вашем понимании этого слова. Здесь существуют философские учения и теизм, а одним из вариантов теизма является индуизм.
Я спросил его, по-прежнему ли образованные культурные индусы верят в карму и переселение душ.
— Я и сам безоговорочно, всем моим существом в это верю, — убежденно сказал он. — Ничуть не сомневаюсь, что до этой жизни я прожил бесчисленное количество других, и не знаю, сколько их еще придется прожить, прежде чем я получу избавление. В учении о карме и переселении душ я только и могу найти объяснение неравенству людей и мировому злу. Без этой веры все на земле для меня лишилось бы смысла.
— Может быть, благодаря своей вере индус меньше боится смерти, чем европеец, — предположил я.
Он не спешил с ответом и, как это за ним, по моим наблюдениям, водилось, заговорил о чем-то другом; я уж было решил, что он не ответит вовсе. И тут он сказал:
— Индиец не похож на японца. Тому ведь с раннего детства внушают, что жизнь не стоит ломаного гроша и есть несколько высших целей, ради которых он должен быть готов без малейших колебаний пожертвовать ею. Индиец смерти боится, но не потому, что она положит конец его жизни. Он боится ее из-за полной неизвестности, в каком обличье он возродится снова. У него нет ни малейшей уверенности, что в новой жизни он станет брамином, ангелом или тем более богом — он может возродиться шудрой, собакой или червем. При мысли о смерти он боится будущего.
* * *
Музыкант, игравший на вине. Полноватый сорокалетний мужчина с чисто выбритым лицом; спереди полголовы у него было тоже обрито, на затылке длинные волосы стянуты в узел. Одет в дхоти и рубаху без воротника. Играл он, сидя на полу. Инструмент его был затейливо разукрашен, покрыт рельефной резьбой и оканчивался драконьей головою: Он играл часа два, время от времени перемежая игру несколькими тактами старинной, из глубины веков дошедшей до нас песни, но чаще сравнительно недавними сочинениями прошлого века: в правление махараджи Траванкура, который сам был тонким музыкантом, искусство очень почиталось. Это музыка сложная, требующая сосредоточенного внимания, и я, пожалуй, не смог бы ее воспринимать, не будь немного знаком с нынешними индийскими сочинениями. Ей свойствен замедленный ритм, но, вслушавшись, замечаешь ее разнообразие и мелодичность.
В последние годы на местных композиторов немалое влияние оказывает современная, главным образом европейская музыка; странно бывает неожиданно улавливать в этих восточных мелодиях слабые отголоски волынок или бравурный гром военного оркестра.
* * *
Дом индуса. Принадлежал он судье, к которому дом перешел по наследству. Судья уже умер, и меня принимала его вдова, толстая босоногая женщина в белом, с седыми волосами, курчавившимися у нее за спиной. В дом ведет дверь в глухой стене, и войдя, оказываешься в помещении наподобие лоджии, с резным потолком из хлебного дерева. Основу орнамента составляют листья лотоса, а в центре рельефное изображение танцующего Шивы. Из лоджии попадаешь в маленький пыльный дворик, где растут кусты кротона и коричные деревья, а за ними дом. Спереди веранда с длинным, необшитым снизу карнизом, так что видна деревянная крыша с искусно пригнанными друг к другу досками; потолок на веранде тоже резной, густо-коричневого цвета, как в лоджии. В обоих концах веранды имеются возвышения, где хозяин обычно хранил одежду; они же служат сиденьями. Здесь владелец дома принимал гостей. В глубине две двери с дорогими разукрашенными медными замками и петлями; они ведут в две маленькие темные комнатки, в каждой по кровати, в одной из них спал хозяин дома. Сбоку от дверей проем, который ведет в помещение, где хранится зерно. Пройдя сквозь маленькую дверку с другого боку, попадаешь в еще один дворик, в глубине его расположены женские покои, к которым пристроены кухня и еще комнатушки. Меня провели в одну, обставленную дешевой, облезлой и старомодной европейской мебелью.
Ночью первый дворик, скорее всего, утрачивает свою пыльную неприглядность и в лунном свете, под сияющими звездами, прохладный и безмолвный, наверняка приобретает романтический вид. Я бы охотно послушал там игру на вине, глядя в сосредоточенное и отрешенное лицо музыканта, освещенное пламенем медной лампы, чей коптящий фитилек плавает в кокосовом масле.
* * *
Йог. Он был среднего, по индийским меркам, роста; кожа цвета темного меда, коротко стриженные волосы и короткая седая борода. Не толстый, но пухлый. Хотя ходил он в одной только набедренной повязке и при этом казался одетым опрятно, очень чисто, почти щегольски. Передвигался медленно, опираясь на палку и слегка прихрамывая. Рот у него был несколько крупноват, губы довольно толстые, а глаза, в отличие от глаз большинства индийцев, не отличались ни величиной, ни блеском; белки были налиты кровью. Держался он просто и в то же время с достоинством. Неизменно бодрый, улыбающийся, вежливый, он производил впечатление не философа, а, скорее, добродушного старика-крестьянина. В сопровождении двух-трех учеников он вошел в комнату, где я лежал на деревянной кровати, и, сказав мне несколько ласковых приветственных слов, сел рядом. Я чувствовал себя неважно, незадолго до того потерял сознание. Йогу уже сообщили, что я нездоров и не могу прийти в зал, где он обычно сидел, поэтому он сам пришел в комнатушку, в которой меня уложили.
Очень скоро он перестал смотреть на меня и искоса устремил необычайно пристальный взгляд куда-то поверх моего плеча. Сидел он совершенно недвижимо, но одна ступня время от времени слегка постукивала по полу. Пробыл он в этой позе, наверное, с четверть часа и, как потом мне объяснили, во время медитации все свои силы сосредоточил на мне. Потом, прервавшись, йог спросил, не хочу ли я ему что-либо сказать или о чем-нибудь спросить. Я чувствовал себя больным и разбитым, что ему и сообщил. Улыбнувшись, йог заметил:
— Молчание это тоже беседа.
Слегка отвернув от меня голову и снова глядя как бы поверх моего плеча, он опять погрузился в глубокую медитацию. Так, не произнеся ни единого слова, он просидел еще с четверть часа; все, кто был в комнате, не сводили с него глаз; затем йог встал, поклонился, улыбнулся на прощание и медленно, опираясь на палку, захромал в сопровождении учеников прочь из комнаты.
Не знаю, что было тому причиною — то ли я просто отлежался, то ли подействовала медитация йога, но я почувствовал себя гораздо лучше и немного спустя пошел в зал, где он сидел днем и спал ночью. Это длинная пустая комната метров пятнадцати длиною и вдвое меньше в ширину. Окна есть во всех стенах, но низко нависающий карниз загораживает свет. Йог сидел на низком, крытом тигровой шкурой помосте, перед ним в небольшой жаровне курилось благовоние; по комнате плыл приятный аромат. Время от времени один из учеников зажигал новую палочку. Верующие сидели на полу. Некоторые читали, другие предавались медитации. Внезапно вошли два незнакомца с корзиной фруктов, простерлись перед йогом на полу и предложили свое подношение. Слегка наклонив голову, йог дал понять, что принимает его, и знаком велел ученику унести корзину; он ласково, хотя и недолго побеседовал с незнакомцами, потом снова слегка наклонил голову, давая понять, что им пора удалиться. Те опять простерлись ниц, потом, отойдя, сели среди прочих верующих, а йог полностью погрузился в медитацию. Легкая дрожь, казалось, охватила всех сидевших, и я на цыпочках вышел из залы.
Позднее я узнал, что мой обморок породил фантастические слухи, которые облетели не только всю Индию, но достигли даже Америки. Меня якобы охватил благоговейный трепет оттого, что я должен был предстать перед этим святым человеком, уверяли одни. Другие утверждали, что еще до встречи с йогом я находился под его воздействием и на несколько минут был унесен в беспредельность. Когда меня об этом расспрашивали, я только улыбался и пожимал плечами. На самом деле это был у меня не первый и не последний обморок. Врачи говорят, что происходят они из-за повышенной чувствительности моего солнечного сплетения, которое давит на диафрагму возле сердца и что однажды давление может слишком затянуться. Несколько минут чувствуешь себя плохо, а потом не ощущаешь ничего, пока не приходишь в себя, — если, конечно, приходишь.
* * *
Мадурай. Храм ночью. В Индии шум слышится постоянно. Целыми днями люди разговаривают в полный голос, а в храме — еще громче. Гомон стоит страшный. Здесь молятся и читают литании, окликают друг друга, громогласно спорят, ссорятся или приветствуют знакомых. На благоговение и намека нет. Тем не менее все пропитано острым, неодолимым ощущением божественного, так что холодок бежит по спине. Боги там, как ни странно, кажутся близкими и живыми.
Толпа густая, плотная — мужчины, женщины, дети. Мужчины до пояса обнажены, их лбы, а нередко и руки до плеч, и грудь покрыты слоем белого пепла от сгоревшего коровьего навоза. Днем, занимаясь своими обычными делами, многие носят европейское платье, но здесь они отрекаются от западной одежды, от западной цивилизации и западного образа мыслей. Здесь, в храме, обретается исконная Индия, которая знать не знает никакого Запада. Вот они молятся то у одного святилища, то у другого, порою распростершись ничком на полу, в ритуальной позе полной покорности.
Идешь из одного длинного зала в другой, свод опирается на скульптурные колонны, у подножия каждой сидит нищенствующий монах. Среди монахов есть и бородатые старцы, некоторые жутко истощены, есть и молодые — мускулистые и волосатые. Перед каждым стоит чаша для подношений или лежит небольшая циновка, на которую верующие нет-нет да бросят мелкую монетку. Некоторые закутаны в полотнища красной ткани, другие почти голые. Одни смотрят на вас безучастно, кто-то читает вслух или про себя, не обращая внимания на текущую мимо толпу. Поодаль от святая святых на полу сидит группа священнослужителей; у всех череп спереди обрит, на затылке волосы связаны в пучок, все изрядно грузные, у каждого на безволосой коричневой груди и на толстых руках полосы белого пепла. Вот идет в сопровождении двух или трех учеников известный своей святостью философ, в красном тюрбане и пестрой набедренной повязке, с браслетами на руках; седобородый и властный, он творит молитву у святилища, а затем, с достоинством почитаемого человека, шагает сквозь раздвигаемую учениками толпу прямиком в святая святых.
Храм освещен свисающими с потолка голыми электрическими лампочками; они бросают резкий свет на скульптурные украшения, а там, куда свет не достигает, тьма кажется еще таинственней. Невзирая на огромное шумное скопление людей, от увиденного остается впечатление чего-то загадочного и грозного.
* * *
Когда я уезжал из Индии, многие спрашивали меня, что именно из увиденного поразило меня более всего. В ответ я говорил им то, что они ожидали услышать. Но на самом деле душу мою тронул не Тадж-Махал, не священные гхаты Бенареса, не храм в Мадурае и не горы Траванкура. Меня глубоко поразил крестьянин, страшно изможденный, почти нагой, в одной обмотанной вокруг бедер тряпице цвета пропеченной солнцем земли, на которой он трудится; крестьянин, дрожащий от рассветного холода, обливающийся потом в полдневный зной, не разгибающий спины и тогда, когда багровое солнце садится за иссохшими полями; изнуренный тяжким трудом крестьянин, неустанно возделывающий землю на севере и на юге, на западе и на востоке — на просторах бескрайней Индии работает он, не покладая рук, как работал его отец, и отец его отца, и так три тысячелетия, с тех пор как появились в этих краях арийцы; и трудится он ради скудного пропитания, чтобы только не умереть с голоду. Вот какое зрелище сильнее всех других острой жалостью обожгло мне душу.
1939
Ланс. Обед в пансионе. За длинным столом сидит много еще нестарых мужчин, одетых в добротные темные костюмы, при этом ощущение такое, что им не мешало бы принять ванну. Школьные учителя, страховые агенты, приказчики — кого только нет. Чуть не все за обедом читают вечернюю газету. Едят жадно, с большим количеством хлеба, пьют столовое вино. Друг с другом почти не разговаривают. Но тут в столовую влетает еще один жилец. «Вот и Жюль» — кричат сотрапезники, словно пробудившись от спячки. Жюль всех расшевелил. Худой, лет тридцати, с остренькой, кирпичного цвета забавной мордочкой; его легко представить клоуном в цирке. Он веселит общество, бросая хлебные шарики во всех без исключения; тот, в кого он попадает, выкрикивает: «А вот и снаряд с неба». Все запанибрата с официантом — к нему обращаются на «ты», он отвечает им тем же. Девушка, дочь хозяина, примостившись на скамеечке, вяжет шарф, они довольно благодушно подтрунивают над ней; складывается впечатление, что они ждут не дождутся, когда она войдет в возраст и к ней можно будет приставать.
* * *
Шахтерский поселок. Ряды двухэтажных кирпичных домишек с красными черепичными крышами и большими окнами. За домами крошечные садики, шахтеры выращивают в них овощи и фрукты. В каждом доме четыре комнаты; гостиная по фасаду, окна в ней затянуты плотными кружевными занавесками с цветочным узором, гостиной практически не пользуются; за гостиной кухня, на втором этаже две спальни. В гостиной — неизменный круглый стол, накрытый скатертью, три-четыре кресла с прямыми спинками, на стенах увеличенные фотографии членов семьи. Жизнь семьи проходит в кухне. Здесь на стене висит ружье и фотографии любимых киноактеров. Плита, радиоприемник, стол, накрытый клеенкой, на полу линолеум. Через кухню протянута веревка для сушки белья. Пахнет стряпней. Радио не выключают с утра до позднего вечера. Тито Рос-си, «Ламбет-уок», танцевальные мелодии. В дни стирки на плиту ставится огромный бак.
Гостей угощают ромом. Разговор ведется о деньгах, о ценах на то-се, о том, кто на ком женился, кто чем занимается.
Поутру шахтер спускается в кухню, пьет кофе с ромом — это его завтрак. Идет к раковине, моет лицо и руки. Он уже полностью одет, за исключением сапог и куртки — их ему подает жена.
Сестра Л. Высокая, худощавая брюнетка, с красивыми чертами лица и красивыми глазами. У нее недостает двух-трех зубов. Ей тридцать два, но на вид можно дать все пятьдесят; изможденная, с загрубевшей, изрезанной морщинами кожей. Ходит в черной юбке с блузкой и синем переднике. Четверо ребятишек — замурзанные, одетые в убогое тряпье, переделанное матерью из старья. У одной девчушки болит ухо, голова у нее замотана шарфом. Зять Л. Ему тридцать пять, но он выглядит гораздо старше. Лицо почти квадратное, с неправильными чертами, обветренное; он производит впечатление человека добродушного, дружелюбного и при том упрямого. Говорит мало, с расстановкой, голос у него приятный. На местном наречии изъясняется лучше, чем по-французски. У него большие, черные от угольной пыли руки; судя по всему, очень силен. Кроткое, чуть не жалостное выражение серых глаз усугубляет осевшая на ресницах несмываемая угольная пыль.
* * *
Штейгер. Весельчак с трубным голосом, компанейский, что типично для фламандских толстяков. Ценит жизненные блага — кофе, ром, стаканчик вина. Жена крупная, грузная, с растрепанными седыми волосами, с багровым, неизменно жизнерадостным лицом. Любит поесть, и на Рождество они погуляли на славу. Она сообщает нам, сколько стоил цыпленок, и со смаком перечисляет одно блюдо за другим. Не ложились до четырех утра — болтали, слушали радио, пели.
У них двое сыновей. Они не хотели, чтобы старший был шахтером, выучили его на плотника, — в первую же неделю ему отрезало руку циркулярной пилой, и теперь ему (он очкарик) дали какое-то место в шахте. Младший сын без долгих разговоров стал шахтером.
* * *
Прежде мальчишки шли работать в двенадцать лет, теперь не раньше четырнадцати, но работают они по восемь часов в день в три смены — отсортировывают пустую породу от угля. Уголь движется мимо них по лотковому конвейеру, группа мальчишек стоит плечом к плечу и, пока лоток проплывает мимо, спешит вынуть обломки породы. Выглядят они диковато: низко надвинутые шапки, синие комбинезоны, лица черные, в цвет одежде, лишь белки глаз сверкают.
* * *
Шахтер набирает опыт только к тридцати, к сорока пяти силы у него уже не те, и его переводят на работу полегче, за которую платят меньше. В пятьдесят пять он получает пенсию — три тысячи франков на себя и столько же на жену, но пожить в свое удовольствие долго ему, как правило, не удается — год-два, не больше. О том, что ему скорее всего суждено умереть от пятидесяти пяти до шестидесяти пяти, шахтер говорит спокойно, так, словно это в порядке вещей.
Ему предоставляют дом за символическую плату (восемь — десять франков в месяц) и четыреста килограммов угля. Он работает пять дней в неделю за шестьдесят франков в день плюс прибавка в двадцать пять процентов, но если его попросят поработать сверхурочно, а он откажется, прибавку не выплачивают.
Медицинское обслуживание бесплатное, но шахтеры жалуются, что врачи невнимательны: если у них много пациентов, они приходят лишь на следующий день после того, как их вызвали, лекарств не хватает.
* * *
Шахтеры — народ приветливый, доброжелательный, отзывчивый. Они понимают, что в своей работе зависят от других и, естественно, относятся друг к другу по-товарищески. Некоторые из них живут в часе, а то и больше ходьбы от шахты и приезжают на работу на велосипедах. Они любят свой уродливый поселок, и даже если могут переехать поближе к шахте, не хотят расставаться с ним.
* * *
Кроме квалифицированных шахтеров, которые добывают уголь, продвигают забой, проходят штольни, есть и чернорабочие — они чинят электропроводку, водят вагонетки, которые свозят уголь к подъемникам, втаскивают груженые вагонетки в подъемник. Вагонетку надо отцепить, вручную довезти по извилистым рельсам до подъемника и втолкнуть в него. За смену шахтер подвозит тысячу двести вагонеток. Работа эта очень тяжелая, он получает за нее двадцать франков в день. До последней забастовки платили всего четырнадцать.
Подъемник тряский. Движется вверх-вниз очень быстро, с чудовищным лязгом. Когда подъемник опускается в шахту, рабочие вытаскивают из него порожние вагонетки.
«У Анжелики». Небольшая квадратная комнатка, в глубине бар, на полках множество бутылок. Три-четыре квадратных столика, посетители сидят на скамейках, расставленных вдоль стен, и на стульях, посреди комнаты круглый стол. За ним несколько шахтеров, здоровенный солдат в форме, он в увольнении. Один из них показывает фокус с мотком шерсти, нехитрый фокус, но они в полном восторге, и в честь этого угощают друг друга. Атмосфера дружелюбия и сердечности. За другим столом мужчины играют в карты. Говорят мало, в основном о работе и ценах на то-се.
Семья хозяина живет в комнате за баром. Больной поляк не встает с постели, около него толчется человек шесть. Воздух спертый.
* * *
Поляков сразу отличишь от французов. Они коренастые, с квадратной формы головами, даже несмотря на угольную пыль, видно, какая у них белая кожа. С французами они ладят, но держатся особняком. Едят мало, еще меньше, чем французы, откладывают деньги и отсылают их домой, чтобы купить усадьбу. Пьют в основном по праздникам и на свадьбах, тогда собираются большими компаниями и просаживают все деньги. Затем долгие месяцы снова во всем себе отказывают, чтобы восполнить растраченное. По-французски говорят, подбирая слова, с сильным акцентом.
* * *
Мытье здесь — сложная процедура. В медном баке для стирки белья нагревают воду, в нем шахтер и моется. Молодые шахтеры гордятся тем, что работают в шахте, и вообще практически не умываются. Холостые шахтеры снимают комнату или койку у вдовы или у многодетной семьи. В Ланс ездят, чтобы сходить в тамошний бордель, автобусом или на велосипеде.
* * *
Штольни чуть выше среднего человеческого роста. Очень длинные, освещены холодным светом голых лампочек, по ним гуляют пронизывающие сквозняки. Штольни извиваются, петляют, сообщаются между собой, диву даешься, как тут не заблудиться; но Штейгер сказал, что найдет выход и с завязанными глазами.
* * *
Когда внезапно натыкаешься на группу работающих шахтеров, ощущение такое, словно при тебе совершается какое-то таинство. Пролезаешь через отверстие в стене штольни, протискиваешься или проползаешь по узкому штреку, порой и на четвереньках, пока перед тобой не возникнут шахтеры, продвигающие забой или рубящие уголь. Отбойный молоток такой тяжелый, что одному человеку поднять его не под силу, от него адский грохот.
В тусклом свете шахтеры, голые до пояса, в касках, чтобы защитить голову, и на людей-то непохожи. В середине смены у них получасовой перерыв. Они садятся на кучу угольной пыли и подкрепляются принесенным из дому в жестяной коробке здоровенным ломтем хлеба с маслом или с куском колбасы и жидким кофе из фляги.
* * *
Еда, как правило, такая, Поутру черный кофе, хлеб с маслом. В полдень, если шахтер дома, суп, кусок говядины или телятины с овощами из супа и картошкой. Пиво, часто домашней варки и практически безалкогольное, с необычным вкусом, к нему требуется привычка. На ужин снова кофе, хлеб с маслом, ну а если уж очень захочется побаловать себя — ломтик ветчины. Ни в одном из домов нет и намека на уют, и не заметно никакого стремления к уюту. Шахтеры довольны своими заработками и хотят лишь одного: чтобы все осталось, как есть. Работа, еда, сон, радио; таков уклад их жизни.
* * *
Управляющий предупредил меня, что работа эта не такая тяжелая, какой представляется постороннему глазу. Привычка, если и не облегчает ее, то по крайней мере помогает с ней примириться. Низенький, бритый, франтоватый управляющий еще молод; у него довольно миловидная длинноносая жена в красном платье и двое детей. Увлечен делом, производит впечатление человека умного, приятного и начитанного. У них гостит его тесть, генеральный прокурор Амьена, щуплый старичок с седой окладистой бородой. Он словоохотлив и с большой убежденностью излагает то, что уже лет сто стало общим местом, так, словно это выношенные суждения, к которым он пришел в итоге напряженных раздумий. Донельзя порядочный, достойный, ограниченный и нудный человек.
* * *
Убийство на Ривьере. Джек лежал с пневмонией, когда пришла телеграмма с сообщением, что его мать — она в это время жила в Сан-Рафаэле — убита. Ему не разрешили встать, и в Сан-Рафаэль вылетела его жена. Она, естественно, была потрясена, но, несмотря на это, испытывала блаженное чувство облегчения. Свекровь всячески отравляла ей жизнь. Бранила Мэри за то, что та любит ходить в гости и на балы, за то, что переводит деньги на тряпки, порицала за то, как она ведет дом и воспитывает детей. В довершение всего Джек восхищался матерью и боготворил ее. Мэри не вынесла бы такой жизни, если бы миссис Альберт не имела обыкновения проводить зиму в Сан-Рафаэле.
Мэри прилетела в Канны, где ее встретил английский консул — Джек дал ему телеграмму. По дороге в Сан-Рафаэль консул изложил, при каких обстоятельствах произошло убийство.
— Раньше или позже вы и так все узнаете. Местные газеты только и пишут, что об этом убийстве.
Миссис Альберт нашли мертвой в постели — ее задушили, а деньги и жемчуга похитили. Она была совершенно голая.
Миссис Альберт в Сан-Рафаэле хорошо знали. Она была постоянной посетительницей баров и кафе, где танцевали, и якшалась там с последним отребьем. Старуха не скупилась, охотно всех поила, над ней посмеивались, но относились к ней с симпатией. Два-три раза в неделю она уводила какого-нибудь головореза в свою гостиницу и утром неизменно вручала ему тысячу франков. Ее убил кто-то из любовников.
Мэри выслушала рассказ консула с ужасом, но и не без злорадства. Наконец-то ей представился случай рассчитаться с женщиной, долгие годы изводившей ее. Какая великолепная месть — рассказать Джеку, что его мать, которую он ставил ей в пример, этот образец добродетели, просто-напросто старая блудница.
— Известно, кто ее убил? — спросила Мэри.
— На подозрении по меньшей мере человек десять. Она была не слишком разборчива.
— Какой удар для моего мужа!
— А зачем ему это знать? Здешние власти будут рады замять скандал, выдать все за ограбление с убийством. Для зимнего курорта типа Сан-Рафаэля такой постыдный скандал крайне нежелателен.
— Почему вы считаете, что эту историю следует замять?
— Ради вас и вашей свекрови. Надо полагать, в Англии она жила очень скучно. Надеюсь, вы не очень строго ее осуждаете за то, что она решила чуточку порезвиться перед смертью?
Мэри долго молчала. А когда наконец прервала молчание, неожиданно для себя ответила:
— Я ненавидела старую мерзавку. Готова была задушить ее своими руками, и порой сама не понимаю, почему не сделала этого. Но теперь, когда я знаю все, впервые с тех пор, как я вышла замуж, во мне пробудилось что-то вроде симпатии к ней.
* * *
Паскье умирает. Он владелец небольшого кафе в одном из проулков Ниццы; позади кафе — тесная, затхлая комнатушка, там посетители танцуют. Паскье то ли владеет этажом дома над кафе, то ли снимает его; на верхний этаж ведет отдельный вход с торца. Паскье живет там, но еще сдает комнаты на час или на ночь мужчинам, подцепившим женщин в его кафе. Теперь Паскье так расхворался, что в кафе хозяйничает его сын Эдмон с женой. Эдмон женился на одной из постоянных посетительниц кафе, и Паскье, разгневавшись на сына за такой мезальянс, выгнал его с женой из дому, но будучи не из тех, для кого честь всего превыше, вернул Эдмона, потому что этого требовали интересы дела. В тот вечер, когда я зашел в кафе, там было полно народу. Моряки гуляли, и деньги текли рекой. Я справился у Эдмона о здоровье отца, и он сказал, что врачи потеряли надежду — отцу осталось жить от силы день-два, — и попросил меня навестить его. Я обогнул дом, Жанна, женщина, которая распределяла клиентов по комнатам, отвела меня к Паскье. Он лежал в широченной кровати со стойками и пологом — ссохшийся старичок в ночной рубашке, с землистым опухшим лицом, с отечными руками.
— Мне каюк, — сказал он.
— Глупости, — возразил я с напускной бодростью, с какой обычно разговаривают с больными. — Вы поправитесь.
— Да я не боюсь. Как дела там, внизу? Много народу?
— Битком набито. Паскье взбодрился.
— Будь у меня вдвое больше комнат, сегодня ни одна не пустовала бы. — Он тряхнул колокольчик. — А я должен лежать и не могу за всем присмотреть сам, вот беда. — Вошла горничная. — Постучите во все двери, — распорядился он, — и велите им поторапливаться. Люди ждут, Господи, ведь для того, за чем они сюда пришли, много времени не требуется. — А когда дверь за служанкой закрылась, добавил: — Думая о моей бедной жене, я радуюсь, что ее нет в живых: женитьба Эдмона на шлюхе ее бы убила. И это при том, что он получил хорошее воспитание. Знаете, что они сделают, когда я умру? Женщин вышвырнут, а комнаты будут сдавать помесячно чиновникам и приказчикам. Они, видите ли, не желают зарабатывать деньги таким путем. Ну что бы ему жениться на дочери почтенных торговцев, она бы понимала, что дело есть дело. До чего же тяжко лежать и сознавать, что не успеют меня похоронить, как они развалят дело, которое я создал своими руками. — Две тяжелые слезы скатились по его щекам. — А чего ради? — Он зашмыгал носом. — Ради того, чтобы эта сучонка стала почтенной дамой. Можно подумать, люди раскошелятся из уважения к вам. Чтоб ее!..
Он умер два-три дня спустя. Катафалк утопал в цветах, на похороны пришли чуть не все постоянные посетительницы кафе.
— Сразу видно, они добрые девушки, — сказала мне после похорон жена Эдмона.
* * *
История любви. Герцог Йоркский, брат Георга III, приплыл в Монако на яхте и тут тяжело заболел. Он попросил тогдашнего князя Монако оказать ему гостеприимство. Герцога князь пригласил, однако любовницу герцога, приехавшую с ним на яхте, принять отказался. Она сняла дом в Рокбрюне и каждый день ходила на мыс — смотреть, реет ли флаг над дворцом. Однажды увидев, что флаг приспущен, она поняла, что ее возлюбленный умер. И бросилась в море.
* * *
На днях, после обеда на Гроувенор-сквер, я слушал, как один уже немолодой писатель сетовал, что в Англии литераторы нынче не пользуются особым уважением. Он доказывал, что их сегодняшнее положение невыгодно отличается от положения литераторов в восемнадцатом веке — тогда они были законодателями вкусов в кофейнях, а щедрость покровителей избавляла их от необходимости продавать свой талант за презренный металл. Я удивился, как ему не пришло в голову, что в восемнадцатом веке, если б нас вообще пустили в этот дом, нам пришлось бы войти в него с черного хода, а если бы нас решили покормить, нам пришлось бы довольствоваться кружкой пива и куском холодного мяса в комнате экономки.
Поль. Он убил свою жену. Его судили, приговорили к смерти. Приговор он перенес очень тяжело. Потерял себя. Перестал спать. Жалко трусил. Алана попросили навестить Поля — попытаться немного успокоить его и, если не утешить, то хотя бы примирить со своей участью. Алан навещал Поля каждый день. Однажды он сказал мне, что Поль хочет прочитать книгу, которой нет в тюремной библиотеке, и спросил, не могу ли я купить ее. Я, естественно, охотно согласился и спросил, о какой книге идет речь. Его ответ меня ошарашил. Я не мог взять в толк, почему вдруг смертник перед тем, как его повесят, загорелся желанием прочесть именно эту книгу. Поль попросил «Сентиментальное путешествие» Стерна.
* * *
Гостиничные номера. В одном остановился человек, в представлении которого гостиница символизирует свободу. Он вспоминает, какие истории приключались с ним в таких номерах, каким приятным раздумьям он предавался, и на него нисходит такое блаженное умиротворение, что его пронзает мысль: более счастливого мига в его жизни не будет, и он принимает смертельную дозу снотворного. В другом номере живет женщина, которая долгие годы кочует из гостиницы в гостиницу. Она воспринимает это как несчастье. У нее нет своего дома. Выбираться из гостиницы ей удается, лишь если друзья под большим нажимом пригласят ее на недельку-другую. Ее зовут погостить из жалости, расстаются с ней с облегчением. Она чувствует, что влачить такую жалкую жизнь у нее нет сил, и в свою очередь принимает смертельную дозу снотворного. Для гостиничной прислуги и газетчиков эти две смерти представляются неразрешимой загадкой. Они подозревают, что у этих двух был роман. Ищут, что их связывало, но ничего не находят.
* * *
Процветающий адвокат — ни семья, ни друзья не могли поверить, что он наложил на себя руки. Бодрый, деятельный, полный сил, вот уж про кого никогда не подумаешь, что он может покончить с собой. Любил жизнь со всеми ее радостями. Выходец из низов, он за военные заслуги получил титул баронета. Обожал своего единственного сына, который должен был унаследовать его титул, его дело и баллотироваться в парламент. Все ломали голову, что побудило его покончить с собой. Он принял меры для того, чтобы его самоубийство приняли за несчастный случай, и если бы не незначительный промах, никто ничего не заподозрил бы. Правда, жена давала ему поводы для беспокойства. У нее был климакс, рассудок ее помутился — она не настолько тронулась умом, чтобы поместить ее в сумасшедший дом, но и вполне нормальной считаться не могла. Страдала сильнейшей меланхолией. От нее скрыли, что муж покончил с собой — сказали, что он погиб в дорожной аварии. Она перенесла это лучше, чем можно было ожидать. Сообщить ей это известие поручили врачу. «Слава Богу, я успела открыться мужу, — сказала она. — Иначе я не знала бы ни минуты покоя». Доктор полюбопытствовал, о чем идет речь. Она, хоть и не сразу, но сказала: «она призналась мужу, что сын, которого он боготворит, на которого возлагает все надежды, не от него».
* * *
Бермондзи. Чета отошедших от дел торговцев зовет водопроводчика что-то починить. У них полдома в Кеннингтоне. Водопроводчик — видный малый, их дочь в него влюбляется. По вечерам они встречаются. Но водопроводчика не покидает чувство, что она считает его себе неровней, и ему мнится, что она обходится с ним, как со слугой. Он решает сквитаться с ней. Делает ей ребенка. Родители выгоняют ее из дому. Водопроводчик отказывается жениться на ней, но она поселяется у него, а после рождения поступает работать на кондитерскую фабрику. Ребенка отдают на воспитание. Один из фабричных рабочих влюбляется в нее и предлагает выйти за него замуж. Она знает, что водопроводчик ее не любит, и уходит от него; водопроводчик приходит в бешенство; когда же ему сообщают, что она собирается выйти замуж за другого, то идет к ее жениху и рассказывает, что у них есть ребенок. Жених от нее отказывается.
* * *
Бермондзи. Человек, отравленный газами на войне, живет на пенсию, ютится с женой в двух комнатенках в полуподвальном этаже четырехэтажного дома. Оба они члены похоронного клуба. Он долго хворает и в конце концов осознает, что скоро конец, жить ему осталось всего несколько дней. Ему удается уговорить жену на те деньги, которые она получит на его похороны, устроить напоследок кутеж. Они приглашают всех друзей, угощают их роскошным ужином с шампанским. Он умирает на следующую ночь. Деньги, полученные от похоронного клуба, потрачены, но друзья хотят устроить ему пышные похороны в складчину; вдова и слышать об этом не хочет, и друзья в полном составе провожают его до нищенской могилы. Позже в тот же день один из друзей навещает вдову и предлагает ей выйти за него замуж. Оправившись от удивления, она, после не слишком долгих раздумий, дает согласие; однако считая, что выйти замуж раньше, чем через год после смерти мужа, неприлично, предлагает ему тем временем переехать к ней и снимать у нее комнату.
* * *
Бермондзи. Бывший солдат и девушка, фабричная работница, безумно влюбляются друг в друга. Он несчастлив в браке, у него сварливая, ревнивая жена. Парочка убегает вместе, снимает жилье в Степни. Из газет девушка с ужасом узнает, что ее возлюбленный убил свою жену. Ему не миновать ареста, но пока его не нашли, они предаются страсти. Она не сразу осознает, что он, лишь бы не сесть в тюрьму, намерен убить не только себя, но и ее. Она напугана, хочет бежать от него, но так любит его, что не в состоянии расстаться с ним. Откладывает это до последней минуты. За ним приходит полиция, и он стреляет сначала в нее, потом в себя.
* * *
Бермондзи. Дэн несколько месяцев сидит без работы. Он подавлен, унижен, и его брат Берт — а у него есть работа — над ним издевается. Попрекает Дэна тем, что тот живет на его деньги. Вымещает на нем злобу, гоняет его по разным поручениям. Дэн до того угнетен, что готов покончить с собой, и мать с огромным трудом убеждает его подождать с этим: вдруг что-нибудь да и подвернется. Мать, миссис Бейли, уборщица в каком-то правительственном учреждении Уайтхолла. Она ежедневно уходит из дому в шесть утра, а приходит лишь в шесть вечера. Однажды Берт, возвратившись домой, набрасывается на Дэна с руганью — тот не забрал его рубашку из прачечной, и ему не в чем идти на свидание. Завязывается драка, Берт задает Дэну трепку — тот и более щуплый, и более слабый, и недокормленный. Приход миссис Бейли прекращает потасовку. Она резко отчитывает Берта. Берт говорит, что ему все опостылело, он сыт по горло и вскоре женится. Они в ужасе — без тех денег, которые Берт еженедельно дает на хозяйство, при том, что Дэн ничего не зарабатывает, миссис Бейли не прокормить себя, Дэна и двух младшеньких. Им грозит голод. Они внушают Берту, что он не имеет права жениться, во всяком случае до тех пор, пока Дэн не подыщет работу. Берт говорит, что у него нет другого выхода — его девушка беременна. Он убегает из дому. Все плачут. Миссис Бейли падает на колени и велит Дэну и двум младшеньким тоже встать на колени и молить Господа смилостивиться и помочь им. Они все еще молятся, когда Берт возвращается из прачечной — он сам сходил за рубашкой. Берт злобно зыркает на них. «Будет вам, будет, — кричит он. — Я дам ей десять шиллингов, пусть избавится от ублюдка».
* * *
Миссис Бейли. Довольно высокая, с рыжеватыми, вечно растрепанными, жидкими волосами, когда открывает рот, видно, что у нее нет двух передних зубов. Одно ухо надорвано — это муж постарался, на лбу шрам — как-то раз он выкинул ее из окна. Муж, крупный, здоровенный грубиян, на войне был тяжело ранен, и миссис Бейли прощает ему буйные выходки, потому что его нередко жестоко мучают раны. У них четверо детей, все они смертельно боятся отца. Тем не менее миссис Бейли не теряет чувства юмора, удивительно характерного юмора кокни, и когда не опасается за свою жизнь, очень забавная. Ее хлебом не корми, дай только посмеяться. Наконец Бейли умер. Я навестил ее после его смерти, и вот что она мне рассказала: «На самом деле он не такой уж и плохой. Знаете, что он сказал? Это были, почитай что, его последние слова. "Ты ведь от меня здорово натерпелась? Будешь рада от меня избавиться". — "Да что ты, Нед, — говорю я ему, — ты знаешь, я всегда любила тебя". Он на меня так чудно посмотрел, и знаете, что сказал: "Ты, старая калоша", — говорит. Значит, он и впрямь меня любил — иначе разве б он назвал меня старой калошей?»
Эти записи я сделал, когда собирался писать роман о жителях Бермондзи.
1940
На днях разговорился с одним французским офицером, само собой разумеется, мы говорили о поражении Франции. «Надо же, чтобы нас побили дураки» — сказал он. Его слова повергли меня в уныние. Французы, как видно, неспособны понять, что они потерпели позорное поражение не вопреки тому, что немцы дураки, а благодаря тому, что они умны. У французов — оттого, что они такие учтивые, речистые и остроумные — достало глупости счесть, будто они семи пядей во лбу. Из-за своей гордыни, побуждающей их на все нефранцузское смотреть свысока, они стали самым замкнутым народом Европы. Они искренне верили, что выпутаются из любой передряги с помощью шутки. Но если у тебя сломалась машина, для ее починки требуется не хорошее знание античной культуры и не остроумный афоризм, а механик, и тут выручат не твои знания, а его. Так ли неразумно поступили немцы, основательно освоив современные методы ведения войны и обзаводясь современным оружием? И не мудро ли они поступили, сделав все для того, чтобы их военная машина не давала сбоев? И не проявили ли они дальновидность, ознакомившись детально с обстановкой во Франции, благодаря чему сумели воспользоваться разбродом, неподготовленностью и нетвердостью духа? Нет, если кто и вел себя как нельзя более глупо в этой войне, так это французы, а не немцы, и можно ли питать надежды на возрождение Франции, если даже после такого сокрушительного разгрома французов, невзирая ни на что, обуревает гордыня? Союзники могут до посинения говорить о необходимости вернуть Франции подобающее ей место в ряду великих держав; несмотря на их старания, этому не бывать, пока французы не научатся смотреть правде в глаза и видеть себя в истинном свете. И в первую голову им надо учиться не смирению — от него им не будет никакого проку, а здравому смыслу.
1941
Нью-Йорк. Приезжал Г. Дж. Держится он с прежней живостью, но видно, что это дается ему нелегко. Он постарел, ссохся, выглядит усталым. Его лекции потерпели полный провал. Аудитория не могла расслышать, что он говорил, и не желала слушать то, что могла расслышать. Народ валом валил из зала. Он был и обижен, и разочарован. Не мог понять, чем им не угодил: ведь он говорил примерно то же, что говорил лет тридцать кряду. Река потекла дальше, а его выбросила на берег. Писателю выпадает (и то, если повезет) час, но долго ли он длится? В конце концов Г. Дж. выпал свой час, ему не на что жаловаться. Настал черед других, и это только справедливо. Казалось бы, когда, как не теперь, Г. Дж. осмыслить то влияние, которое он оказал на целое поколение, те серьезные изменения, которые он произвел в общественном климате. Но он всегда был слишком занят, поэтому философ из него никакой.
* * *
Она до ужаса банально переживает самые заурядные чувства — не только с редкой искренностью, но и с почти невероятной убежденностью в том, что до нее никто не испытывал ничего подобного. Простодушие этой далеко не первой молодости светской дамы настолько смехотворно, что кажется не нелепым, а трогательным. Она умна настолько, насколько это ей доступно, и настолько глупа, что подмывает ее поколотить.
* * *
Корпишь над стилем. Стараешься писать как можно лучше. Не жалеешь сил, добиваясь простоты, ясности. Радеешь о ритме и соразмерности. Читаешь фразу вслух, чтобы проверить, хорошо ли она звучит. Выматываешь все жилы. Однако четыре величайших за всю историю человечества романиста — Бальзак, Диккенс, Толстой и Достоевский — писали не слишком хорошо, и от этого факта никуда не уйти. А это доказывает, что если ты умеешь рассказать историю, создать характер, развернуть действие, если у тебя есть искренность и темперамент, неважно, как ты пишешь. И тем не менее, лучше писать хорошо, чем плохо.
* * *
Чувствительность — это всего-навсего чувство, от которого коробит.
* * *
В мире всегда царила неурядица. Короткие периоды мира и благоденствия случались лишь в порядке исключения, и то, что кое-кому из нас довелось жить в такой период — последние годы девятнадцатого века, первое десятилетие двадцатого, — не лает нам права считать подобное положение вещей нормальным. «Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх», это нормально, и следует принять это как должное. Тогда мы можем взирать на мир со сдобренным юмором смирением, и лучшей зашиты у нас, по всей вероятности, быть не может.
* * *
Почему, когда слышишь, как юнец несет сущий вздор самоуверенно, доктринерски и нетерпимо, выходишь из себя и коришь его за глупость и невежество? Неужели ты забыл, что в его годы был таким же глупым, заносчивым и высокомерным доктринером? Под «ты», я, естественно, подразумеваю «я».
* * *
Он был бы потрясен, если б ему сказали, что он мошенник. При сделке исполу он искренне полагает, что три четверти пойдут ему, а четверть придется отдать,
* * *
В основе своей человек — существо неразумное. Вот почему так трудно писать беллетристику: читатель или зритель, если речь идет о пьесе, нынче требует, чтобы герой при всех обстоятельствах вел себя разумно. Мы сердимся, если персонажи исходят из мотивов, которые нам кажутся нерезонными. Мы хотим, чтобы в их поступках наличествовала логика, мы говорим: «Люди так себя не ведут». Мы все более и более настойчиво требуем достоверности. Совпадения и случайности нас отвращают. Мы хотим, чтобы герои были неизменно верны себе.
Поведение персонажей «Отелло» — прежде всего, самого Отелло и, пусть в меньшей степени, почти всех персонажей пьесы — до крайности неразумно. Критики из кожи вон лезли, стараясь доказать обратное. Тщетно. Лучше было бы сразу признать, что это великолепный пример исконной неразумности человека. Я охотно верю, что современники Шекспира не видели в поступках его персонажей ничего из ряда вон выходящего.
* * *
Не знаю, почему верующие никогда не наделяют Бога здравым смыслом.
* * *
В молодости я делал вид, что знаю все. Из-за этого я часто попадал впросак и выглядел как нельзя более глупо. В конце концов я понял, что сказать: «Я не знаю» — проще простого. Более полезного открытия, как мне кажется, я не сделал за всю свою жизнь. По моим наблюдениям, никто не изменил обо мне мнения в худшую сторону. Правда, одно неудобство тут есть: порой нарываешься на людей, которые от нечего делать нудно и пространно приобщают тебя к тому, в незнании чего ты только что признался. Но ведь есть много такого, о чем я решительно ничего не хочу знать.
* * *
Сослагательное наклонение. Американские писатели употребляют его гораздо чаще, чем мы. Думается, в силу привычки оно кажется им естественным, нам же всегда видится в нем оттенок педантизма, при всем том я не замечал, чтобы они употребляли его в разговоре, — по-моему, в школе им внушили, что сослагательным наклонением следует пользоваться при письме. Из этого я вывожу, что к языковому педантизму, вдалбливаемому в нас, учителей понуждает неряшливая и неправильная речь, присущая, как правило, их ученикам.
Но они плюют против ветра: сослагательное наклонение при последнем издыхании, милосерднее было бы не длить его муки. В конце концов, писатель исходит из обычной речи, и не следует забывать, что небрежность и неправильность, которые режут ухо педагога, порождают удачные обороты и колоритные речения. Любой американец, будь то мужчина или юнец, скажет не: «Я наведаюсь к вам, если мне доведется быть в городе», а: «Буду в городе — заскочу к вам». Хорошо бы и писать так. Конечно, вовсе не просто решить, когда правильному слову или выражению следует предпочесть расхожее*.
Думаю, разумный писатель употребит слово покороче, другое же оставит прозябать в неупотреблении.
* * *
Если романист не заставит поверить себе, плохо его дело, но если он во всем достоверен, более чем вероятно, что он скучноват. Именно полная достоверность — по меньшей мере одна из тех причин, из-за которых читатель обращается к детективной литературе. Она держит читателя в напряжении, возбуждает его любопытство, щекочет нервы, и в благодарность за все это читатель не очень-то требует от писателя правдоподобия. Читатель хочет знать, кто убийца, и готов принять на веру самую маловероятную и немыслимую причину, побудившую убийцу пойти на преступление.
* * *
Писателю нет нужды есть всего барана целиком, чтобы описать, каков вкус баранины. Вполне достаточно съесть баранью котлетку. Но ее съесть надо.
* * *
Нам привелось заночевать в небольшом техасском городке. В нем обычно останавливались те, кто пересекал Америку на машине, и гостиница была полным-полна. Все рано легли спать. В десять часов дама в одном из номеров заказала разговор с Вашингтоном. Стены в гостинице тонкие, и каждое слово слышно. Она просит соединить ее с майором Томпкинсом, при этом номера его телефона она не знает. Сообщает телефонистке только, что он работает в Военном ведомстве. Ее соединяют с Вашингтоном, но когда телефонистка говорит, что не может найти майора Томпкинса, дама взвивается и заявляет, что в Вашингтоне буквально все его знают. У нее очень важное дело, говорит она, и ей во что бы то ни стало необходимо переговорить с ним. Связь прерывается, через несколько минут она снова заказывает Вашингтон. И проделывает это каждые четверть часа. Распекает местную телефонистку, клянет эту чертову дыру, куда ее занесло. Распекает вашингтонскую телефонистку. Кричит все громче и громче. Никто не может заснуть. Возмущенные жильцы звонят ночному администратору, он поднимается к ней в номер и пытается ее утихомирить. Мы слушаем, как она злобно огрызается в ответ на его мягкие увещевания; он, так ничего и не добившись, уходит, а она снова принимается названивать на телефонную станцию. Звонит без передышки. Вопит. Взбешенные мужчины в халатах и встрепанные дамы в пеньюарах выскакивают в коридор, барабанят в дверь, требуют, чтобы она прекратила звонить — они не могут заснуть. Она огрызается с такой словесной изощренностью, что дамы приходят в ярость. Снова обращаются к администратору, и тот, не зная, как быть, посылает за шерифом. Шериф является, но и он ничего не может с ней поделать и в полной растерянности посылает за врачом. Она тем временем все названивает в Вашингтон, обзывая телефонисток последними словами. Является врач, и посмотрев на нее, пожимает плечами и говорит, что ничем помочь не может. Шериф просит его увезти ее в больницу, но по непонятной мне причине врач отказывается принять какие-либо меры: связано это с тем, что раз она не в своем уме, как в один голос утверждают доведенные до белого каления жильцы, попечение о ней придется взять на себя округу, а она в этом штате лишь проездом. Она продолжает названивать. Вопит, что ей необходимо поговорить с майором Томпкинсом: это вопрос жизни и смерти. В конце концов его разыскивают. Уже четыре часа утра, и всю ночь ни один человек в гостинице не сомкнул глаз. «Вы разыскали майора Томпкинса? — спрашивает она телефонистку. — Вы уверены, что это именно он? Он на проводе?» И тогда с лютой злобой, медленно роняя слова, чтобы придать им вес: «Скажите — майору — Томпкинсу — что — я — не желаю — с ним — разговаривать!» И швыряет трубку.
* * *
У патриотизма есть одна странная особенность: он не переносит расстояний. Давным-давно я написал пьесу «Жена цезаря», в Англии она имела успех, в других странах, провалилась. Пьеса была совсем недурная. Но то, что англичане жертвуют собой ради родины, почитая это своим долгом, неангличанам казалось маловероятным и несколько нелепым. С нынешними военными пьесами, по моим наблюдениям, происходит то же самое. Не приходится отрицать, что все они донельзя душещипательные, однако американскую публику, если в них идет речь о героизме и самопожертвовании американцев, это не отвращает; но те же самые мужество и самопожертвование англичан вызывают у них не восхищение, а смех. Их выводят из себя стойкость, проявленная англичанами при бомбежках Лондона, а поражение в Греции, которое, как считали все участники этой операции, было неизбежно, и безнадежная защита острова Крит вызывают у них лишь раздражение.
* * *
Южная Каролина. Вой ветра в соснах схож с далеким пением негров, обращающих свои горестные песнопения к безучастному, а то и бессильному Богу.
* * *
Я задаюсь вопросом, не является ли композиция рассказа своего рода мнемоническим приемом, благодаря которому рассказ западает в память. Почему лучшие рассказы Мопассана — «Пышка», «Заведение Телье», «Наследство» — помнишь и сорок лет спустя. Анекдотичность сюжета тут не при чем. Сами по себе эти анекдоты ничуть не лучше анекдотов, которые встречаются во множестве других рассказов, давно позабытых. На эту мысль меня навел рассказ Дж. Он вошел в несколько антологий, и Дж., надо полагать, был несколько задет тем, что я не включил его в мою. Он обладает отличным слогом и характерным для американцев даром передавать настроение, аромат, атмосферу места действия. Рассказ был интересный, сложный, но он распадался на две части — любой из этих частей достало бы на хороший рассказ, а Дж. не настолько владеет композицией, чтобы спаять их воедино.
Я полагаю, что в рассказе ни в коем случае нельзя разбрасываться. Чехов, хотя порой и кажется, что он не продумывал свои рассказы заранее, никогда этого не допускал. Вообще-то в рассказе, как и в пьесе, необходимо с самого начала решить, какую цель ставишь перед собой, и преследовать ее неотступно, как «призрак смерти». Иными словами, рассказ требует четкой формы.
* * *
Кое-какие заблуждения американцев:
1. Америка свободна от классовых предрассудков.
2. В Америке превосходно варят кофе.
3. Американцы очень деловитые.
4. Американцы очень страстные, а рыжие еще более страстные, чем остальные.
* * *
Из всей сентиментальной чепухи, с которой в этой стране сталкиваешься на каждом шагу, наиболее несусветным мне представляется весьма распространенное убеждение, что в Америке нет классовых различий. Однажды меня пригласили отобедать с одной дамой, обладательницей, как мне сказали, состояния в двадцать миллионов. Ни перед одним герцогом в Европе так не лебезили, как перед этой дамой. Можно было подумать, что любое слово, которое роняют ее драгоценные уста — стодолларовая купюра, и гостям будет позволено унести ее с собой. Правда, здесь принято делать вид, что все люди равны, но это одна видимость. Банкир в салон-вагоне будет говорить с коммивояжером как с равным, но я подозреваю, что ему и в голову не придет пригласить коммивояжера к себе домой. А в таких городах, как Чарлстон или Санта-Бар-бара, жену коммивояжера, пусть и самую что ни на есть обаятельную и благовоспитанную, общество не примет. Социальные различия, в конечном счете, основываются на деньгах. С высокородными английскими лордами люди низшего звания обращались с такой подобострастностью, от которой нас сегодня с души воротит, не из-за их титулов, а из-за богатства, которое, вкупе с влиянием, тем же богатством обеспеченным, позволяло оделять щедротами друзей и нахлебников. Промышленная революция в Англии лишила аристократию большей части богатства, а вместе с ним и влияния. И если она в какой-то мере сохранилась как особое сословие, это объясняется лишь врожденным консерватизмом англичан. Но былым почетом аристократов уже не окружают. Обожать лорда, когда от него можно что-то получить, было в порядке вещей; теперь же, когда он ничем не может облагодетельствовать, это считается предосудительным.
Однако было бы ошибкой предполагать, что классовые различия существуют лишь в высших и средних слоях общества. В Англии жена квалифицированного ремесленника считает себя выше жены разнорабочего и общаться с ней не будет. Мне рассказывали об одном из быстро, как грибы, растущих городков на Дальнем Западе, который построили всего несколько лет назад, чтобы поселить в нем рабочих и служащих большого завода. Кварталы, где живут конторские служащие, и рабочие кварталы расположены рядом, дома в них одной планировки и неотличимы друг от друга, как горошины в одном стручке; жильцы этих домов едят одни и те же консервы, читают одни и те же газеты, ходят в одни и те же кинотеатры, ездят на одних и тех же автомобилях; однако жены конторских служащих никогда не станут играть в бридж с женами заводских рабочих. Похоже, классовые различия неизбежны при любом общественном устройстве, и было бы гораздо честнее признать их существование, чем отрицать его.
Удивляюсь, почему людей, которые пекутся о сохранении демократии, не заботит, какую непомерную власть приобрело при ней краснобайство. Человек, наделенный бескорыстным желанием служить стране, мудростью, осмотрительностью, мужеством и знанием дела, никогда не достигнет такого положения в политике, где он мог бы проявить себя, если у него плохо подвешен язык. На днях при мне обсуждали, есть ли у Л. шансы стать премьер-министром, и все сошлись на том, что никаких: он не речист. Наверное, это так, но разве не опасно, когда от политика, которому доверена сложнейшая задача вести за собой нацию в современном мире, требуется прежде всего зычный голос или навык к сочинению эффектных фраз? И лишь по счастливой случайности ему наряду с этим бывает присущ здравый смысл, честность и дальновидность. Краснобай взывает не к разуму, а к чувствам; казалось бы, если речь идет о мерах, которые могут решить судьбу нации, чистое безумие идти на поводу чувств вместо того, чтобы руководствоваться разумом. Демократия пережила одно из наиболее сильных потрясений, когда благодаря фразе «Мы не позволим распять человечество на золотом кресте» невежественный дурак и зазнайка едва не попал в Белый дом.
* * *
День матери, конечно же, хитроумная затея производителей, цель которой сбыть товары, однако они не стали бы платить большие деньги за рекламу в газетах, если бы реклама не действовала на публику. Они наживаются на чувствах. По моим наблюдениям, любовь к родным у американцев гораздо сильнее, чем у нас. Здесь положено ее испытывать — и ее, безусловно, испытывают. Я удивился, когда мне рассказали, как один человек, у которого дел выше головы, работавший в конторе, где дел выше головы, неделю отсутствовал: уехал с женой хоронить ее мать в какой-то городок, находящийся от Нью-Йорка не дальше, чем Бристоль от Лондона. В Англии он, по всей вероятности, поехал бы на похороны, но вернулся самое позднее на следующий день. Удивило меня не только то, что он счел необходимым так надолго забросить неотложные дела, чтобы поддержать жену в горе (а она, насколько мне известно, действительно была потрясена горем), но что и владелец фирмы, невзирая на все связанные с его отсутствием неудобства, принял это как должное. Во время войны мне случалось видеть проявления пылкой сыновней и материнской любви. Однажды, ожидая поезда на Пенсильванском вокзале, я увидел кучку новобранцев, которые ехали в лагерь. Мое внимание привлекла полная, невзрачная, седая женщина — она припала к сыну, обхватив его руками за талию, лицо ее выражало отчаяние. Так впору только любовнице прощаться с любовником, однако мальчика везли в учебный лагерь, и ему по крайней мере еще несколько месяцев не грозила отправка в Европу. В Англии эта мать, если бы она и пришла проводить сына на вокзал, когда двери вагона открылись, коснулась бы его щеки губами и сказала: «Всего, старина. Будь молодцом!» Улыбнулась бы ему, помахала рукой — и была такова. Мне случалось видеть, как солдаты в клубах Организации обслуживания армии так тоскуют по дому, что на них жалко смотреть.
В Англии матери уже добрых три сотни лет расстаются с сыновьями, порой зная, что больше их не увидят — для них это в порядке вещей, и они не делают из этого трагедию. Правда, американцы прокладывали дорогу на Запад целыми семьями, и трудности и опасности, которые им приходилось преодолевать, укрепляли семейные узы; впрочем, нельзя забывать, что тысячи охочих до приключений людей отправлялись в путь и в одиночку, и ни в письмах, ни в мемуарах того времени не найдешь упоминаний о том, что это лишало их родителей покоя.
Да и жены китобоев Нью-Бедфорда и Нантакета, остававшиеся на берегу, когда их мужья ухолили на промысел, стойко сносили разлуку, и до нас не дошло никаких свидетельств их страданий. Не иначе, как эта пылкость чувств — недавнего происхождения. Полагаю, никто не сомневается, что нынешние американцы более эмоциональны, чем англичане. Однако, насколько я могу судить, сто лет назад они были другими. Чем обусловлена такая перемена? Можно только предположить, что причина кроется в смешанных браках, преобладавших на протяжении жизни последних двух-трех поколений. Эмоциональность заразительна — немецкая сентиментальность, итальянская возбудимость, ирландская горячность, еврейская впечатлительность возобладали над сдержанностью и самообладанием жителей Новой Англии и чувством достоинства виргинцев. Умение владеть собой нынче считается признаком тупой бесчувственности, служит мишенью для насмешек или острот.
* * *
Я часто думаю, насколько я облегчил бы себе жизнь и сколько времени сберег бы, зазубри я алфавит. Чтобы определить, следует ли «I» после «J» или наоборот, я должен начать с «G» и «Н». Я не знаю, идет ли «Р» за «R» или «R» за «Р», а за чем следует «Т», до сих пор никак не могу запомнить.
* * *
Ни о чем мужчины так не склонны прилгнуть, как о своей половой мощи. По крайней мере тут любой мужчина представляется тем, кем видит себя в мечтах, а именно Казановой.
* * *
Удачливая, благополучная, окруженная поклонниками, с целым сонмом друзей. Кому, как не ей, быть счастливой — так нет же, несчастная, издерганная, она тяготится жизнью. Психоаналитики бессильны ей помочь. Она не может им объяснить, что ее точит — она и сама не знает. Она жаждет трагедии. Потом она влюбляется в молодого авиатора, много моложе ее, становится его любовницей. Он летчик-испытатель, и однажды на испытаниях его самолет из-за каких-то неполадок разбивается. Летчик погибает на ее глазах. Друзья опасаются, что она покончит с собой. Ничего подобного. Она счастлива, довольна, толстеет. Обретает наконец свою трагедию.
Любопытно, что, сталкиваясь со своими недостатками у других, люди оказываются перед ними беззащитны. Мошенник становится жертвой чужого мошенничества, льстец принимает за чистую монету чужую лесть. Самая отъявленная лгунья из всех, кого я когда-либо знал, как-то написала мне возмущенное письмо: кто-то оболгал ее дочь. Не понимаю, почему в ответном письме я не спросил ее: неужели она думает, что в мире нет других отъявленных лжецов кроме нее. Р., бахвал, каких мало, неизменно принимает на веру чужое бахвальство. Он всегда старается придать себе вес в чужих глазах и, не взирая на череду разочарований, продолжает верить любому хвастуну. В достоверности Т. Э. Лоуренса более всего меня заставило усомниться то, что он полностью доверял двум типам, известным мне как очковтиратели.
* * *
Иностранца в США помимо всего прочего должно поразить, что у большинства американцев тьма-тьмущая знакомых, а друзей почти ни у кого нет. У американцев есть деловые знакомые, партнеры по игре в бридж или в гольф, приятели, с которыми ловят рыбу, охотятся или ходят на яхтах, собутыльники, с которыми выпивают, товарищи, с которыми воюют бок о бок, — и точка… Из всех моих знакомых в Америке лишь двое — близкие друзья. Они выкраивают время, чтобы пообедать и провести вечер в бесцельных разговорах, потому что любят бывать вместе. У них нет тайн друг от друга, и каждый из них интересуется делами другого лишь потому, что это дела его друга. Это тем более странно, что американцы общительны, дружелюбны и сердечны. И вот какое объяснение этому я нашел для себя: темп жизни в США настолько стремителен, что почти ни у кого не остается времени на дружбу. Для того чтобы знакомство переросло в дружбу, необходим досуг. Впрочем, вполне вероятно, что этому можно подыскать и еще одно объяснение: в Америке после свадьбы жена завладевает мужем целиком. Она требует, чтобы он безраздельно принадлежал ей, и превращает его в домашнего узника.
Женские дружбы непрочны повсеместно. Женщины никогда не могут полностью довериться друг другу, и даже самая близкая дружба ограничена недомолвками, опаской и утайками.
* * *
Друг из тех, что познаются в беде. Средних лет, но очень подтянутая, ладная и элегантная, из женщин, про которых говорят: «В молодости она, наверное, была очень хорошенькая»; но если поинтересоваться, почему она не вышла замуж, в ответ услышишь: «Она такая преданная дочь». На редкость отзывчивая. Сама доброта. Когда твоего мужа судят за мошенничество, она, пока идет процесс, не отходит от тебя ни на шаг, а когда его приговорят к тюремному заключению, переселится к тебе, и не съедет до тех пор, пока ты не свыкнешься со своим положением. Если же по несчастной случайности ты неожиданно разоришься, она неделю пробудет с тобой, чтобы помочь тебе собраться с мыслями, а если ты очутишься в Рино, и вдруг почувствуешь, что явиться в суд — выше твоих сил, она мигом вскочит в самолет и будет поддерживать тебя, пока ты не получишь постановление суда о разводе. Но где ей поистине нет равных — это в случае смерти кого-то из твоих близких. Если твой муж скончался от коронарного тромбоза, дочь умерла родами или сын погиб в автомобильной катастрофе, она уложит один-другой чемодан и на поезде, а то и на самолете примчится к тебе. Расстояние для нее — не помеха. Ее не устрашит суровый климат Дакоты, не остановит знойное лето Техаса, не отвратит даже Майами в разгар сезона с его неуместными увеселениями. Она не отступится, даже если твое несчастье обретет нежеланную огласку; она приветлива с репортерами и корит себя за то, что упустила из виду попросить их не упоминать ее имя в статьях. Она с бесконечным терпением слушает, как ты снова и снова в мельчайших подробностях скорбно повествуешь о последних минутах дорогого усопшего. Она возьмет на себя все хлопоты. Позаботится о цветах. Ответит на соболезнующие письма, на которые ты и не подумала бы ответить. Будет молиться в церкви плечом к плечу с тобой; будет стоять, рыдая, рядом с тобой у разверстой могилы. По возвращении с кладбища настоит на том, чтобы ты отдохнула, затем, после плотного обеда, — «Милая, тебе просто необходимо поддержать силы!» — предложит партию в кункен. На следующий день после похорон она непременно уедет — у нее масса дел в Нью-Йорке, «А тебе, дорогая, уже пора стоять на своих ногах!» Вернувшись домой, она — при том что, конечно же, совершенно вымотана после всех тягот, выпавших на ее долю, — первым делом хватает телефон и живописует друзьям, одному за другим, какой это был ужас.
* * *
Само собой разумеется, американцам не по вкусу, когда англичане критикуют Америку, было бы естественно услышать от них в ответ: «Раз вам здесь не нравится, почему вы не уезжаете?» Вместо этого они вынашивают обиду. Однако, если американцы критикуют Англию, а ты не только не возмущаешься, но и, что вполне вероятно, поддакиваешь им, они приписывают это твоему высокомерию — вот что тягостнее всего. И оскорбляются: им чудится, что тебе на все наплевать. А это далеко не так.
* * *
За последнее время ко мне два-три раза обращались с просьбой написать что-нибудь для французских газет и журналов, возникших в Англии и Америке после падения Франции. Я всякий раз отказывался, но не потому, что плохо отношусь к Франции, — я перед ней в долгу: Франции я обязан своим воспитанием, Франция научила меня ценить красоту, ясность, остроумие и здравый смысл, Франция научила меня писать. Во Франции я прожил много счастливых лет. Отказался же я вот по какой причине: я счел, что статьи, которых от меня ждут, окажут Франции плохую услугу. С тех пор немало видных писателей ответили согласием на предложение, которое я отверг. На мой взгляд, от их статей не было никакого проку. Они поведали французам, что те на протяжении веков были самым просвещенным народом Европы, что их культура выше всех; рассказывали о величии их истории, великолепии литературы, о не знающей себе равных живописи; оповещали французов о том, что они живут в красивейшем, изобильном краю, что Париж — дивный город, побывать в котором мечтают люди во всем мире. Французам и без них все это слишком хорошо известно. И это-то их и погубило: они о себе возомнили. В начале девятнадцатого века Франция была самой богатой и густонаселенной страной Европы; наполеоновские войны разорили Францию и выкосили ее население. И вот уже сто с лишним лет, как она превратилась во второразрядную державу, притворяющуюся перворазрядной. Это сослужило ей вдвойне плохую службу: во-первых, потому что побуждало претендовать на то положение, поддерживать которое у нее не хватало сил, и, во-вторых, потому что великие державы опасались ее притязаний, осуществить которые она, кстати говоря, никогда не смогла бы. Война выявила то, что до нее прозревали лишь самые проницательные. Франции пришла пора посмотреть правде в глаза и решить, как выйти из тупика. Она может ограничиться тем, что станет более богатой Испанией, более обширной Голландией или столь же прелестным курортом, как Италия; но если такая участь ей не по нутру и она хочет снова стать перворазрядной державой — судьба Франции в ее руках. У нее плодородные земли, выгодное месторасположение, смышленый, мужественный и трудолюбивый народ, но ей пора перестать опираться на былое величие; пора отказаться от самодовольства; пора смело и трезво посмотреть правде в глаза. Пора поставить общее благо выше блага отдельного человека, пора перенять опыт народов, на которые она слишком долго смотрела с пренебрежением, и осознать, что нация не бывает сильной без жертв, действенной без честности, свободной без самоограничения. Франция поступила очень умно, пропустив мимо ушей статьи этих литераторов, потому что ее спасет не лесть, но правда. И помочь себе может лишь она сама.
* * *
Мой друг ошарашил меня, обронив, что редактирует только что законченный им рассказ, чтобы придать ему утонченность; я не сказал ему — не мое это дело, — что утонченности не обрести путем мыслительных усилий. Утонченность — свойство врожденное, и, если ты ею наделен, она проявится, хочешь не хочешь. Она сродни оригинальности — надрывайся не надрывайся оригинальным не стать. Оригинальный художник всегда остается собой; и жизнь он изображает самым по его мнению естественным и единственно возможным способом: нам же он видится неожиданным и новым, и поэтому мы называем его оригинальным. Он не понимает, что мы имеем в виду. До чего же глупы те, к примеру, второразрядные художники, которые могут класть краски на полотно лишь самым унылым и шаблонным манером и рассчитывают потрясти мир своей оригинальностью, изображая невесть почему собранные вместе предметы на вполне академическом фоне.
* * *
Я давно пришел к выводу, что жизнь слишком коротка, а значит, не стоит делать ничего того, что вместо меня могут за деньги сделать другие. Теперь я исключил бы из этого перечня дел бритье. Я изумляюсь, когда вижу, как занятые люди, твердящие, что им дорога каждая минута, шесть дней в неделю подвергают себя долгой, скучной и сложной процедуре, в которую превратили бритье американские парикмахеры.
* * *
Не стану отрицать, быть членом любящей, сплоченной семьи приятно, но, на мой взгляд, это не подмога человеку в жизни. Взаимное восхищение, непременное в таких семьях, создает ошибочное представление о своих способностях — и от этого человек хуже других подготовлен к жестокой жизненной схватке. Но если для обычного человека это не более, чем помеха, для художника это пагубно. Художник — одинокий волк. У него свой особый путь. И если стая изгоняет его, ему это во благо. Неумеренные хвалы обожающей родни начинаниям, которые, в лучшем случае, свидетельствуют лишь о задатках способностей, ему лишь во вред: если он поверит, что его работы хороши, у него не будет стимула работать лучше. Самодовольство — смерть для художника.
* * *
Заметив, что от былой любви к риску в этой стране, судя по всему, практически не осталось и следа, я немало удивился. Я знаю, что множество людей бежали из Европы от нищеты, однако еще больше людей остались на родине и сносили нищету; эмигрировали те, кто не боялся рискнуть. Я знаю, что множество людей покинуло родину, чтобы не испытывать религиозного или политического гнета, однако едва ли не больше не сдвинулись с места, так как были готовы смириться с тяготившими их обстоятельствами. Я знаю, что из тех, кто покинул обжитое Восточное побережье, чтобы обосноваться на Среднем Западе, многие уехали с семьями; но тысячи тысяч мужчин — и молодых, и средних лет, и старых — уезжали в одиночку.
Они стекались к месторождениям Невады и Калифорнии. Когда Хорас Грили провозгласил: «Держи путь на Запад, парень!» — к чему он взывал, как не к юношеской любви к риску. Я разговаривал со множеством юношей, которые идут на войну. Большинство идет на войну, так как не могут этого избежать, кое-кто — так как считает это своим долгом, но мне не довелось встретить ни одного, который видит в войне волнующее приключение. Можно подумать, что молодые люди мечтают лишь покойно жить в родном городе и получить работу в конторе или магазине, где ничто не угрожает их безопасности.
* * *
Нравственные ценности. Вполне естественно впасть в некоторый трепет, когда приходишь к выводу, что теория, согласно которой нравственные ценности абсолютны и не являются плодом нашей умственной деятельности, ошибочна: ведь ее, как известно, придерживались многие философы. Казалось бы: будь нравственные ценности и впрямь абсолютными, а не плодом нашей умственной деятельности, человечество давным-давно определило бы, каковы они, и, сочтя их незыблемыми, неизменно ориентировалось на них. Однако отношение к нравственным ценностям меняется в зависимости от обстоятельств. А они могут меняться вместе со сменой поколений. У греков гомеровской эпохи были совсем иные ценности, чем у греков периода Пелопонесской войны, В разных странах они разные. Отстраненность, высоко ценимая индусами, как мне кажется, ничуть не ценится, европейцами; смирение, столь ценимое христианами, не имеет никакой ценности в глазах людей, исповедующих другую веру. В течение жизни я не раз видел, как нравственные ценности переставали считаться таковыми. В пору моей молодости понятию джентльмен придавали большую ценность; теперь же не только все, с этим понятием связанное, но и само это слово приобрело предосудительный оттенок. В уборных на одной двери часто видишь надпись «Дамы», на другой просто «Мужчины». Если правда все, о чем я слышу и читаю, то ценность целомудрия у незамужних женщин в англосаксонских странах за последние тридцать лет резко упала. В латинских же странах его до сих пор ценят весьма высоко. Впрочем, утверждать, что нравственные ценности должны, раз уж они не абсолютны, зависеть от наших предрассудков или предпочтений, было бы нечестно. Язык — и это общеизвестно — появился потому, что в нем возникла биологическая потребность. Так почему бы и нравственным ценностям не появиться по этой же причине? Разве не напрашивается вывод, что нравственные ценности родились в процессе эволюции человечества, потому что были ему насущно необходимы? Эта война преподнесла нам лишь один урок: если нация не уважает некоторые ценности, она неминуемо погибнет. И пусть эти ценности уважают лишь потому, что без них не выжить не только государству, но и отдельному человеку — они существуют и все тут.
* * *
Когда мы выиграем войну, я всей душой надеюсь, что мы не настолько поглупеем, чтобы вообразить, будто победили благодаря неким достоинствам, которых нет у наших врагов. Было бы большой ошибкой уверить себя, что мы одержали победу благодаря нашему патриотизму, храбрости, верности, честности и бескорыстию; они бы нам не помогли, не имей мы возможности производить в огромных количествах оружие и обучать колоссальные армии. Победила не правота, а сила. Что еще можно сказать о нравственных ценностях: только то, что если нация в целом не блюдет их, она, как видно на примере Франции, упустит, а то и вовсе не сочтет нужным обеспечить себя средствами защиты, без которых не отразить врага. Глупо было бы отрицать, что у наших врагов в почете кое-какие из тех же нравственных ценностей, что и у нас: это, как минимум, храбрость, верность и патриотизм. Но в почете у них и кое-какие ценности, которые мы отрицаем. Не исключено, что получи они власть над миром — что и было их целью — через сто лет их нравственные ценности мы приняли бы так же безоговорочно, как и те, что мы почитаем сегодня. «Сила права» — жестокие слова, и поэтому мы относимся к ним с предубеждением, тем не менее они неоспоримы. Из этого следует вывод: нация должна быть уверена, что у нее есть сила защитить свою правоту, как она ее понимает.
* * *
Олдос в первой из своих «Семи медитаций» пишет: «Бог есть. Это изначальная данность. Благодаря этому мы можем открыть сами, путем непосредственного опыта, что мы существуем». Бог у него выглядит круглым дураком!
* * *
Нелегкую задачу ставят перед собой те философы, которые стремятся поместить прекрасное в ряд других абсолютных ценностей. Называя нечто прекрасным, подразумеваешь, что оно вызывает в тебе некое чувство; но что такое это нечто, зависит от самого разного рода обстоятельств. Однако что это за абсолют, если он зависит от склада ума, впечатлений, моды, привычек, полового инстинкта и новизны? Казалось бы, раз некий предмет признан прекрасным, он, по самой своей природе, должен вечно сохранять красоту в наших глазах. Так нет же. Нам он прискучивает. Привычка порождает если не презрение, то безразличие; а безразличие — смерть для эстетического чувства.
* * *
Красота ценна, какой бы предмет ни был ею наделен, но подлинно ценной она становится лишь если возвышает душу и помогает воспринимать вещи более значительные, или вызывает чувства, помогающие их воспринимать. Но что такое, черт меня подери, душа?
* * *
Некоторые ощущения, вызванные событиями внешней жизни, способны пробудить то, что принято называть эстетическим восторгом. Но у него есть одна странная особенность: восторг может пробуждать и искусство не слишком высокого пошиба. Нет оснований полагать, что «Цыганка» Балфа вызывает менее искренний, подлинный и благотворный восторг, чем «Пятая симфония» Бетховена.
Теоретики искусства, которые объявляют абсолютом красоты то, что почитается таковым людьми с тонким, развитым просвещенным вкусом, слишком самонадеянны. У Хэзлитта, несомненно, был просвещенный, развитый и тонкий вкус, и тем не менее он ставил Корреджо вровень с Тицианом. Когда в пример приводят художников, чьи прекрасные творения представляются верхом совершенства, чаще всего называют Шекспира, Бетховена (а если это высоколобые знатоки искусства — Баха) и Сезанна. В случае с первыми двумя (или тремя) их, наверное, нельзя опровергнуть, но на чем зиждется их уверенность, что Сезанн будет восхищать последующие поколения также, как наше? Не исключено, что наши внуки отнесутся к нему так же холодно и равнодушно, как мы сегодня относимся к художникам Барбизонской школы, которыми некогда восхищались.
За мою жизнь эстетические оценки не раз круто менялись, так что суждения современников не представляются мне вескими. В отличие от Китса, я не считаю, что «Прекрасное пленяет навсегда». Прекрасное вызывает особое чувство в определенный момент и, если уж так случилось, дает все, чем может одарить. Глупо презирать людей, которые не разделяют наших эстетических пристрастий. Все мы этим грешим.
Видимо, физический облик расы, а с ним и идеал красоты, может измениться за жизнь одного-двух поколений. В пору моей юности красивой считалась англичанка с высокой грудью, тонкой талией и широкими бедрами. В ней виделась будущая многодетная мать. Теперь красивой считается англичанка тоненькая, узкобедрая, плоскогрудая и длинноногая. Не исключено, что такие фигуры вызывают восхищение, так как нынешние экономические обстоятельства не позволяют иметь много детей, и сложение, приближающееся к мужскому, привлекательно тем, что предполагает бесплодие.
Если судить по картинам и фотографиям, американец прошлого столетия был поджарым и долговязым, с резкими чертами лица, крупным носом, тонкими губами и волевым подбородком. Теперь пришлось бы немало потрудиться, чтобы найти человека, обладающего сходством с тем дядей Сэмом, какого любили изображать английские карикатуристы. Сегодняшний американец — пухлый, круглолицый, черты лица у него мелкие, чуть смазанные. Старится он плохо. В Америке встречаешь множество красивых молодых людей; но лишь немногие из них сохраняют привлекательность в пожилом возрасте.
* * *
Перечел Сантаяну. Приятное занятие, но когда, дочитав главу, остановишься и задашь себе вопрос: стал ли ты, прочтя ее, лучше или умнее, — не знаешь, что и ответить. Сантаяну принято хвалить за хороший слог, но слог хорош, когда фраза проясняет смысл, в случае Сантаяны она его лишь затемняет. Ему многое дано: фантазия, образность, умение подыскать удачное сравнение, блестящий пример; но не уверен, что философия нуждается в таком роскошном и пышном украшательстве. Оно отвлекает внимание читателя от хода авторской мысли, и у него может создаться неприятное впечатление, что автор не стал бы излагать свои умозаключения столь затейливо, будь они более убедительны.
По-моему, Сантаяна обязан своей репутацией в Америке достойной жалости убежденности американцев, что все иностранное гораздо выше отечественного. Так они с гордостью будут потчевать вас французским камамбером, хотя их собственные сыры ничуть не хуже, а то и лучше привозных. Я полагаю, Сантаяна сбился с пути. При его иронии, остроумии, здравом смысле, житейской умудренности, чуткости и восприимчивости, ему, мне кажется, следовало бы писать романы с философским уклоном на манер Анатоля Франса, и они бы еще долго доставляли удовольствие читателям. Образованностью он превосходит француза, язвительным остроумием равен ему, кругозор у него шире, ум изощреннее. Американская литература понесла урон от того, что Сантаяна предпочел стать философом, а не романистом. Но раз уж так случилось, лучше всего читать небольшие эссе, которые Пирсолл Смит выбрал из его произведений.
* * *
Смирение — это добродетель, которую нам предписывают. И если речь идет о художнике — не без оснований; и впрямь, когда художник сравнивает то, что сделал, с тем, что замыслил, когда сравнивает свои не оправдавшие ожиданий достижения с великими мировыми шедеврами, эта добродетель дается ему лучше всего. Без смирения он вряд ли мог бы надеяться работать лучше. Самодовольство для него губительно. Но вот что странно — чужое смирение обескураживает. Нам не по себе, когда кто-то унижает себя перед нами. Наверное, нам видится в этом нечто сервильное, оскорбляющее наше человеческое достоинство, иного объяснения подыскать не могу. Я решил нанять двух цветных горничных, и надсмотрщик плантации, которого я попросил подобрать мне прислугу, желая отрекомендовать их как нельзя лучше, сказал: «Это хорошие негритоски, смирные».
Иной раз, когда одна из них, прикрывая лицо рукой или нервно хихикая, спрашивает, нельзя ли взять какую-то выброшенную мной ерунду, я с трудом удерживаюсь, чтобы не крикнуть: «Бога ради, да не унижайтесь вы так!»
А что если чужое смирение напоминает нам о собственном ничтожестве?
* * *
Но почему человеку надлежит смириться, когда он явится пред лицом Господа? Потому что Господь превосходит его и мудростью, и силой? Это еще не основание. Точно так же и моей горничной нет нужды унижаться передо мной только потому, что у меня кожа белее, денег больше и образование получше. По-моему, это Богу следует испытывать смирение при мысли о том, что из сотворения человека у него ничего путного не вышло.
* * *
Не знаю, почему критики полагают, что писатели всегда пишут в полную силу своего дарования. Писателю редко удается написать так, как хотелось бы: выше головы не прыгнешь.
Шекспироведы меньше ломали бы головы, если бы, наталкиваясь в его пьесах на явную несуразицу, не искали ему оправдания вопреки здравому смыслу, а признали бы, что Шекспир там-сям дал маху. По-моему мнению, и тут меня никто не переубедит, он и сам сознавал, что из-за слабых мотивировок кое-какие его пьесы совершенно неправдоподобны. С какой стати критики утверждают, будто он не придавал этому значения? На мой взгляд, это не так, и тому имеются доказательства. Иначе с какой стати он заставил бы Отелло объяснять, что пресловутый платок подарил его матери египтянин, если б не сознавал, что эпизод с платком уж слишком неуклюжий? Думаю, критики сберегли бы много времени, признав, что Шекспир и рад был бы придумать что-нибудь получше, да не сумел.
* * *
Рослый, крепко сколоченный, с копной вьющихся золотистых волос, поблескивающих на солнце, с ярко-синими глазами и приветливым, открытым выражением лица. Не получил почти никакого образования, чудовищно говорит по-английски. Однако ничуть не тушуется. Держится непринужденно, легко завязывает разговор, знакомится. Он летчик. Как-то он рассказывал об одном случае из своей жизни. «До этого я не верил в Бога, но, попав в переплет, стал молиться. Господи, сказал я, дай мне дожить до завтрашнего дня». И повторял это снова и снова.
* * *
Миниатюрная, с темными волосами, темными глазами; свеженькая, подтянутая. Из-за превратностей войны ей пришлось уехать далеко на юг, до тех пор она всегда жила в Портленде, что в штате Орегон, и обо всем судит, исходя из правил и обычаев, принятых в тех местах. Ко всему, что не подходит под эти мерки, относится с неприязнью и презрением. Считает, что ни в чем другим не уступает и будет поумнее многих, и тем счастлива, но совершенно теряется, когда вот как здесь — попадает в общество людей классом выше, что ей не без смущения приходится признать. Она и робеет, и нахальничает одновременно; робеет, так как боится, что ее не оценят по достоинству, а нахальничает, так как решила, что помыкать собой не позволит. До замужества работала секретаршей у бизнесмена и у нее никогда не было слуг. В ней борются гнев и смятение, она считает, что держать прислугу недемократично, но почему она полагает менее демократичным, когда за тебя варят обед, чем пишут письма, не вполне понятно. Заботы хозяев она расценивает как обидное покровительство и все, что для нее делают, принимает как должное: ведь ей пришлось покинуть родной город. Жителей восточных штатов она недолюбливает; считает их заносчивыми, напыщенными, чванными воображалами; по сути, она испытывает к ним такое же отвращение, как американцы к англичанам. Она сравнивает южан с жителями Портленда, и сравнение не в их пользу.
* * *
Будет весьма прискорбно, если из-за эгоизма, недальновидности или глупости союзники, ужаснувшись немецким злодеяниям, не захотят после войны перенять положительные свойства немцев. Немцы беспощадны, жестоки, вероломны, коварны, деспотичны, бесчестны и продажны. Все так, именно так. Но они привили народу прилежание и дисциплину. Они постарались, чтобы их молодежь стала сильной, мужественной и смелой. Приучили их бестрепетно жертвовать собой ради общего блага. (Неважно, что они понимают общее благо иначе, чем мы.) Патриотизм у них стал мощной и действенной силой. Все это хорошие черты, и нам надо бы их перенять. Историю следует знать. Итальянские республики надеялись сохранить свободу, покупая за звонкую монету своих врагов и препоручая охрану границ наемникам. История итальянских республик учит: если граждане не готовы сражаться за свое государство, если они не хотят тратить деньги, чтобы обеспечить себя оружием, им не удержать свободу.
* * *
Сентенцию — не видать свободы тому, кто не готов хоть отчасти ею поступиться, — затрепали. Ее всегда забывают.
* * *
Мне приятно, когда друг хлопает меня рукой по спине и говорит, что я славный малый, но мне не по душе, если он одновременно запускает другую руку мне в карман.
* * *
Мошенник, сидел в тюрьме. Сейчас он в армии и очень этим тяготится. Ему только что снова присвоили очередной чин, и он от этого впал в тоску; ненавидит жизнь, говорит, что всегда терпел одно разочарование за другим: все его планы неизменно осуществлялись, и ему не для чего жить.
* * *
Захлебываясь от восторга, она спросила: «Каково быть знаменитостью?»
Мне задавали этот вопрос раз, наверно, двадцать, и я всегда терялся, но тут — слишком поздно — меня осенило:
«Это все равно, что получить в подарок нитку жемчуга. Приятный подарок, ничего не скажешь, но спустя некоторое время о нем забываешь, разве что порой кольнет мысль: а настоящий это жемчуг или поддельный?»
Теперь этот вопрос не застигнет меня врасплох, но скорее всего, больше мне его никто не задаст.
* * *
Канализация. Как подумаешь, до чего равнодушны американцы к качеству приготовления пищи и самих продуктов, которыми они насыщаются, поневоле поразишься тому, сколько внимания они уделяют механизмам, предназначенным для выведения пищи из организма.
* * *
Жизнь одновременно и трагична и банальна: она не что иное, как мелодрама, в которой благороднейшие чувства служат лишь для того, чтобы возбуждать низкопробные переживания у пошлой публики.
* * *
Будем есть, пить, веселиться, все равно завтра умрем. Да, но умирать нам предстоит в отчаянии и муках; правда, не всегда — порой мы умираем, покойно сидя в кресле, прихлебывая виски с содовой после отличной партии в гольф, или в своей постели, во сне, даже не осознав, что нам пришел конец. В таких случаях, надо полагать, мы посмеиваемся над теми, кто не знали отдыха и не оставляли усилий, пока их не настигала смерть, когда они еще столько хотели сделать.
* * *
Ему приписывают всемогущество, всеведение и все, что угодно; меня поражает, что его никогда не наделяют здравым смыслом и отказывают ему в терпимости. Знай он так хорошо природу человека, как я ее знаю, он знал бы, как слаб человек, как не властен над своими страстями, знал бы, какой страх в нем живет, как он жалок, знал бы, как много хорошего таится в сердце самого дурного человека и как много дурного в лучшем из них. Если он способен чувствовать, значит, он способен и сожалеть, и если он размышляет о том, что с сотворением рода человеческого у него вышла незадача, он должен испытывать не что иное, как сожаление. Диву даешься, почему он не использует свое всемогущество, чтобы упразднить себя. А может быть, он так и сделал.
Что толку в знании, если оно не помогает поступать правильно? Но что значит поступать правильно?
* * *
Обмануть меня один раз может любой; я не в претензии, я предпочитаю быть обманутым, чем обманывать сам, и только смеюсь над тем, как меня одурачили. Но я приму меры, чтобы тот же самый человек не обманул меня во второй раз.
* * *
Что так огорчает, когда друг поступает с тобой дурно? Собственная наивность или самолюбие?
* * *
Писателю следует помнить: нельзя слишком много разъяснять.
* * *
Г. К. Он знал, что X. мошенник, но считал, что тот обжулит кого угодно, только не его. Он не знал, что мошенник — сначала мошенник, и лишь затем друг. И вместе с тем в мошенничестве X. для меня есть какое-то жутковатое очарование. Он разорил Г. К. и улизнул в Америку, чтобы избежать суда. Я встретил его в Нью-Йорке, он обедал в дорогом ресторане, был, как всегда, весел, приветлив, бодр и благожелателен. Судя по всему, искренне обрадовался мне. Никакой неловкости не чувствовал, и если кому и было не по себе, так это мне, а не ему. Уверен, угрызения совести не терзают его по ночам.
* * *
Казалось бы, нет ничего легче, чем поблагодарить человека, оказавшего услугу, и тем не менее большинство всячески этого избегает. Наверное, их гордость подсознательно восстает при мысли, что теперь они у тебя в долгу.
* * *
Только что закончил перечитывать «Что мы знаем о внешнем мире» Рассела. Допускаю, что философия, как он утверждает, не решает или не пытается решить проблему человеческого предназначения; допускаю, что она не должна питать надежд найти ответ на практические житейские вопросы: у философов и без того хватает дел. Но кто, в таком случае, объяснит нам, есть ли в жизни смысл и что такое человеческое существование: не трагическая ли это — да нет, «трагическая» — слишком возвышенное определение, — так вот, не нелепая ли это оплошность?
Живя в Америке, скоро начинаешь замечать, что главный здесь грех — зависть. Последствия ее плачевны: здесь подвергают осуждению вещи, сами по себе хорошие. Как ни странно, но отличные манеры, умение одеваться, безукоризненный английский, изящество в быту здесь считается признаком претенциозности и даже вырождения! Тому, кто учился в хорошей закрытой школе, в Гарварде или Йеле, следует вести себя крайне осмотрительно, если он не хочет возбудить недобрые чувства в тех, кто был лишен этих преимуществ. Когда видишь, как просвещенный человек держится со всеми запанибрата и говорит в несвойственной ему манере, чтобы его не сочли — напрасная надежда! — зазнайкой, на него жалко смотреть. Все бы ничего, если бы завистники стремились подтянуться до уровня тех, кому завидуют, так нет же — они стремятся опустить их до своего уровня. Их идеал «славного парня» — человек с волосатой грудью, который, сняв пиджак, рыгая поедает пироги.
* * *
Где-то в «Мелочах» Пирсолл Смит не без самодовольства заметил, что авторы бестселлеров питают зависть к хорошим писателям. Это заблуждение. Они относятся к ним с полным безразличием. Смит имеет в виду писателя иного толка: его произведения хотя и хорошо продаются, но вовсе не в таких количествах, как настоящие бестселлеры, к тому же он считает себя писателем и его убивает, что критика недооценивает его. Таков был Хью Уолпол; я не сомневаюсь, что он с радостью променял бы свою популярность на уважение интеллигентов. Он униженно стучался в их двери, умоляя впустить его, но они, что его крайне огорчало, лишь смеялись над ним. У автора настоящих бестселлеров таких желаний быть не может. Я знал покойного Чарльза Гарвайса. Его читали все служанки и продавщицы Англии и далеко не только они. Как-то раз в «Гаррике» Гарвайса при мне спросили, каков общий тираж его книг. Поначалу он уклонился от ответа. «Стоит ли об этом говорить», — сказал он, но от него не отставали, и он, раздраженно передернув плечами, в конце концов ответил: «Семь миллионов». Человек он был скромный, непритязательный, с отличными манерами. Я убежден: когда он усаживался за стол, чтобы накатать одну из своих бесчисленных книженций, он писал в порыве вдохновения, вкладывая в очередной роман всю душу.
И в этом вся штука: никому из тех, кто ставил перед собой задачу написать бестселлер, это не удавалось. Писать надо с предельной искренностью; уморительные штампы, стертые образы, затрепанные ходы, до невозможности избитый сюжет автору бестселлеров не кажутся ни стертыми, ни затрепанными, ни избитыми. Напротив, он считает их новыми и подлинными. Он ничуть не менее увлечен творениями своей фантазии, чем Флобер — мадам Бовари. Много лет тому назад мы с Эдуардом Ноблоком решили написать сценарий. Это была леденящая кровь мелодрама; нагромождая один захватывающий эпизод на другой, мы смеялись до упаду. Работа над сценарием заняла у нас две недели, мы повеселились вволю. Сценарий вышел вполне профессиональный, ловко построенный и увлекательный; но никто, не взирая на наши старания, не захотел его поставить. Все, кому мы показывали наш сценарий, говорили одно и то же: «Судя по всему, вы потешились вволю, когда его писали». Так оно и было. Вывод ясен: если сам не веришь в то, что пишешь, никто в это не поверит. Бестселлер идет нарасхват, потому что автор пишет кровью сердца. По самой своей природе он искренне разделяет чаяния, предрассудки, чувства и взгляды большинства читателей. Он дает им то, что они хотят, потому что сам хочет того же. Читатели мигом уловят малейшую неискреннюю ноту в произведении и отторгнут его.
* * *
До чего же не повезло людям: плотские желания у них сохраняются еще долгое время после того, как они перестают возбуждать желания. Не вижу ничего дурного в том, что они удовлетворяют их, но лучше бы им об этом помолчать.
* * *
Он сказал, что его жена молчунья, и он не знает, как ее разговорить. «За чем же дело стало? — спросил я. — Возьмитесь за газету. И она застрекочет, как сорока».
* * *
Век за веком сатирики высмеивают стареющую женщину, которая преследует избегающего ее домогательств юношу, тем не менее, стареющая женщина никак не оставляет своих домогательств.
* * *
Ее не назовешь глупой, она умна. Она не читает газет, не слушает радио: раз она не может остановить войну, говорит она, так что толку засорять себе голову. Искренне не понимает, почему ты предпочитаешь последние новости ее рассказам о себе.
* * *
Я дал ей прочесть сигнальный экземпляр моей книги. Она рассыпалась в похвалах, но каждое ее похвальное слово убивало меня. Понадобилась вся выдержка, чтобы не оборвать ее, а наоборот, сделать вид, что я благодарен и польщен. Сколько я думал, сколько бился над этой книгой, сколько трудов проштудировал, готовясь к ней, — и если в ней есть лишь то, что вычитала эта дама, — значит, все впустую. Я пытался убедить себя, что она увидела в моей книге лишь суетность и легковесность, так как она сама суетна и легковесна. Не исключено, что от книги получаешь лишь то, что вкладываешь в нее, и видишь в ней лишь то, что сам собой представляешь. Так что оценить душевную ясность «Федона» можно лишь в том случае, если и в тебе самом есть хоть крупица ясности, а благородство «Потерянного рая» — если сам не совсем лишен благородства. Это совпадает с моей старой мыслью о том, что в художественном произведении писателю удаются лишь те персонажи, в которых отражены какие-то черты его личности. Других персонажей он не создает, а описывает, и они получаются не слишком убедительными. В случае, если это утверждение верно, из него следует вывод: изучая наиболее удавшихся автору персонажей, написанных с наибольшим сочувствием и пониманием, гораздо объемнее представляешь личность автора, чем по любой из его биографий.
1944
Вместо постскриптума.
Вчера мне исполнилось семьдесят лет. Перешагивая порог очередного десятилетия, естественно, пусть и вопреки здравому смыслу, рассматривать это как значительное событие. Когда мне исполнилось тридцать, брат сказал: «Ты теперь не юнец, а мужчина — веди себя соответственно». Когда мне стукнуло сорок, я сказал себе: «Молодость прошла». В пятьдесят я сказал: «Не надо строить иллюзий — ты теперь пожилой человек, и с этим придется смириться». В шестьдесят я сказал: «Настала пора привести дела в порядок, наступает старость — надо расплатиться с долгами». Я решил оставить театр и написал «Подводя итоги»; в этой книге я попытался обозреть — прежде всего для себя самого — все, что узнал о жизни и литературе, что успел написать и какое удовольствие от этого получил. Но из всех годовщин семидесятая, по-моему, самая значительная. Считается, что такой срок отмерен человеку — «Дней наших семьдесят лет», — и можно сказать, что оставшиеся годы ты исхитрился украсть, когда старуха с косой ненароком отвернулась. В семьдесят ты уже не на пороге старости. Ты старик.
В континентальной Европе существует славный обычай отмечать эту дату в жизни именитого человека. Его друзья, коллеги, ученики (если таковые имеются), объединив усилия, издают книгу эссе, написанных в его честь. В Англии не принято отдавать такую лестную дань нашим знаменитым людям. В лучшем случае в их честь устраивают обед, да и то, если они уж очень знамениты. Я был на одном таком обеде в честь семидесятилетия Герберта Уэллса. На обеде присутствовала не одна сотня гостей. Бернард Шоу, великолепный — высоченный, с белоснежной бородой и шевелюрой, свежим цветом лица и горящими глазами, произнес речь. Он стоял, очень прямой, скрестив руки на груди, и с присущим ему лукавым юмором сумел наговорить много колкостей — как почетному гостю, так и кое-кому из присутствующих. Поздравление получилось в высшей степени занятное, произносил он его зычным голосом, по всем правилам ораторского искусства, и его ирландский акцент одновременно и подчеркивал, и скрадывал ядовитые выпады. Потом Уэллс, чуть не водя носом по бумажке, пискливым голосом прочитал свою речь. Он брюзгливо говорил о своем преклонном возрасте и с присущей ему сварливостью напал на тех присутствующих, кому, возможно, взбрело в голову, будто юбилей и сопровождающий его банкет означают, что он намерен отойти от дел. И заверил их, что он, как всегда, готов направлять человечество на путь истинный.
Мой день рождения прошел вполне буднично. Утром я, как обычно, работал, днем гулял в пустынном леске за домом. Мне так и не удалось разгадать, что придает этому леску его таинственную притягательность. Второго такого я в жизни не видал, такой глубокой тишины я нигде больше не встречал. С густолиственных виргинских дубов причудливыми гирляндами, точно клочья рваного савана, свисал бородатый мох, эвкалипты в эту пору уже оголились, а ягоды на мыльном дереве съежились и пожелтели; там-сям над низкорослыми деревьями высились сосны с их сочной сверкающей на солнце зеленью.
В этом заглохшем безлюдном леске есть нечто странное, и хотя кроме тебя тут никого нет, не покидает жутковатое чувство, что где-то рядом шныряют незримые существа — не люди, но и не звери. Чудится, что какая-то тень, выглянув из-за ствола, безмолвно следит за тобой. Вокруг разлита тревога — кажется, все затаилось и чего-то ждет.
Я вернулся домой, приготовил себе чашку чая и до обеда читал. После обеда снова читал, два-три раза разложил пасьянс, послушал по радио последние известия, в постели перед сном читал детективный роман. Окончив его, я заснул. За исключением двух моих служанок, я за весь день ни с кем не перемолвился ни словом.
Вот как я провел свой семидесятый день рождения, да я и не желал бы провести его иначе. Я размышлял.
Два-три года назад я гулял с Лизой, и она завела речь, уж не помню в связи с чем, о том, каким ужасом преисполняет ее мысль о старости.
— Не забывай, — сказал я ей, — многое из того, что так радует тебя сейчас, в старости тебе будет не нужно. Зато у старости есть свои преимущества.
— Какие? — спросила она.
— Тебе практически не придется делать ничего, чего не хочется. Музыка, искусство и литература будут радовать тебя иначе, чем в молодости, но никак не меньше. Потом очень любопытно наблюдать за событиями, которые больше не касаются тебя непосредственно. И пусть наслаждения теряют былую остроту, зато и горе переживается не так мучительно.
Я видел, что мои слова не слишком утешили ее, и, еще не закончив свою тираду, осознал, что перспективу нарисовал не слишком вдохновляющую. Позже, предаваясь размышлениям на эту тему, я пришел к выводу, что главное преимущество старости — духовная свобода. Наверное, это не в последнюю очередь объясняется безразличием, с которым в старости относишься ко многому из того, что в расцвете сил представлялось важным. Другое преимущество заключается в том, что старость освобождает от зависти, ненавистничества и злости. Пожалуй, я никому не завидую. Я не зарыл в землю таланты, которыми меня одарила природа, и не завидую тем, кого она одарила щедрее; я знал успех, большой успех, и не завидую чужому успеху. Я вполне готов освободить ту небольшую нишу, которую так долго занимал, и отдать ее другому. Мне теперь безразлично, что думают обо мне. Нравлюсь — хорошо, нет — так нет. Если я нравлюсь людям — мне приятно, если нет — меня это ничуть не трогает. Я давно заметил, что у определенного рода людей я вызываю неприязнь; это в порядке вещей, всем мил не будешь, и их недоброжелательство меня скорее занимает, чем обескураживает. Мне лишь любопытно, чем вызван их антагонизм. Безразлично мне и мнение о моих книгах. В общем и целом, я осуществил все свои замыслы, ну а там будь что будет. Я никогда не жаждал такого шумного успеха, каким пользуются некоторые писатели и который многие из нас в простоте душевной принимают за славу, и не раз жалел, что не взял псевдоним — лишнее внимание только помеха. Вообще-то свой первый роман я намеревался подписать псевдонимом и свое имя поставил лишь после того, как издатель предупредил меня, что на книгу обрушится лавина нападок, и мне не захотелось скрываться под вымышленной фамилией. Я полагаю, многие авторы в глубине души питают надежду, что их не забудут и после смерти, я и сам подчас тешился, взвешивая свои шансы на посмертную известность, пусть и недолговечную.
Моей лучшей книгой, как правило, считают «Бремя страстей человеческих». Судя по количеству проданных экземпляров, у романа все еще широкий круг читателей, а ведь он был издан тридцать лет тому назад. Для романа это большой срок. Но романы такого объема редко живут долго, и, надо полагать, с уходом нынешнего поколения, которому он, к моему удивлению, чем-то близок, его забудут вкупе с другими книгами, посущественнее его. Думаю, одна-две мои комедии некоторое время еще кое-как продержатся на сцене: они написаны в традициях английской комедии и по этой причине им отыщется место в длинном ряду, начало которому положили драматурги эпохи Реставрации и который так прелестно продолжает своими пьесами Ноэль Коуард. Не исключено, что пьесы обеспечат мне строчку-другую в истории английского театра. Думаю, несколько моих лучших рассказов еще долгие годы будут включать в антологии, хотя бы по той причине, что в кое-каких из них речь идет и о местах, и о коллизиях, которые течение времени и развитие цивилизации окружат романтическим ореолом. Две-три пьесы, да дюжина рассказов — не слишком внушительный багаж для путешествия в будущее, но все же лучше, чем ничего. А если я заблуждаюсь и меня забудут через неделю после смерти, я об этом не узнаю.
Прошло десять лет с тех пор, как я отвесил последний поклон в театре (фигурально выражаясь: после первых пьес я перестал выходить на сцену, сочтя эту процедуру слишком унизительной); журналисты и друзья решили, что это пустые разговоры и через год-другой я передумаю и вернусь в театр; но я не изменил своего решения и не намерен его менять. Несколько лет назад я лелеял планы написать еще четыре романа, а потом вообще отойти от литературы. Один я написал (я не беру в расчет роман о войне, который, насилуя себя, написал, чтобы сделать что-то для нашей победы) в бытность мою в Америке, но теперь понимаю, что остальные три вряд ли когда-либо напишу. В одном речь должна была идти о чуде, совершившемся в XVI веке в Испании; во втором — о пребывании Макиавелли у Чезаре Борджиа в Романье — этот визит дал ему замечательный материал для «Государя»; я намеревался вплести в их беседы материал, легший в основу макиа-веллиевой «Мандрагоры». Зная, как часто авторы используют в произведениях эпизоды собственной жизни, порой вполне несущественные, интерес и значительность которым придает лишь сила их воображения, я решил, что было бы забавно, оттолкнувшись от пьесы, восстановить события, породившие ее к жизни. Последний роман я собирался написать о рабочей семье из трущоб Бермондзи. Меня прельщала мысль завершить путь романом о непутевых обитателях трущоб — полвека назад я начал его романом о них же. Но теперь довольствуюсь тем, что коротаю часы досуга, размышляя об этих романах. Впрочем, именно так писатель получает больше всего радости от своих книг: когда книги написаны, они ему уже не принадлежат, и его больше не забавляют разговоры и поступки созданий его фантазии. Думается, на восьмом десятке я уже вряд ли напишу нечто подлинно великое. Вдохновение не то, силы не те, воображение не то. Историки литературы с жалостливым сочувствием, а чаще с жестоким равнодушием отвергают произведения даже самых великих писателей, написанные на склоне лет, да я и сам огорчался, читая недостойные творения, выходившие из-под пера тех моих друзей, даже очень талантливых, которые продолжали писать после того, как от их былого таланта осталась лишь жалкая тень. Писатель прежде всего находит отклик в своем поколении, и он поступит мудро, предоставив следующим поколениям самим отыскивать выразителей своих настроений. Впрочем, что бы он ни делал, этого все равно не миновать. Его язык будет для следующих поколений тарабарщиной. Думаю, представление о моей жизни и деятельности, которое я хотел бы оставить после себя, уже сложилось, и мне не написать ничего такого, что его существенно дополнило бы. Я выполнил свое предназначение и готов поставить точку.
Не так давно я обнаружил, что если раньше больше жил будущим, чем настоящим, теперь меня все больше занимает прошлое, а это явно свидетельствует, что я поступил мудро. Наверное, это в порядке вещей, если впереди у тебя от силы лет десять, а позади такая долгая жизнь.
Я всегда любил строить планы, и, как правило, выполнял их; но можно ли строить планы сегодня? Кто скажет, что тебя ждет через год, через два года? Каковы будут твои обстоятельства, сможешь ли ты жить по-прежнему? Мою парусную яхту, на которой я ходил по Средиземному морю, реквизировали немцы, мой автомобиль — итальянцы, на моей вилле сначала поселились итальянцы, потом немцы, и мебель, книги, картины — те, которые не расхитили, где только ни разбросаны. Однако все это меня решительно не волнует. Я успел пожить в роскоши, о которой можно только мечтать. И теперь мне вполне достаточно двух комнат, трехразового питания и возможности пользоваться хорошей библиотекой.
Мыслями я все чаще уношусь в давно ушедшие годы юности. О многих своих тогдашних поступках я сожалею, но стараюсь, чтобы это не слишком портило мне жизнь; я говорю себе: это сделал не ты, а тот другой человек, которым ты некогда был. Я причинил зло разным людям, но раз этого не исправить, я стараюсь искупить свою вину, делая добро другим людям. Временами я не без сокрушения думаю о плотских радостях, упущенных в те годы, когда мог ими наслаждаться; но я знаю, что не упустить их я не мог — я всегда был брезглив, и когда доходило до дела, физическое отвращение удерживало меня от приключений, которые я предвкушал в своем воспаленном воображении. Я был более целомудрен, чем мне хотелось бы. Люди в большинстве своем очень словоохотливы, а старики и вовсе болтливы, и хотя я больше люблю слушать, чем говорить, недавно мне показалось, что я впадаю в грех многоречивости; едва заметив это, я стал себя одергивать. Стариков выносят с трудом, поэтому надо вести себя крайне осмотрительно. Стараться никому не быть в тягость. Не навязывать своего общества молодым — при тебе они чувствуют себя скованно, не в своей тарелке, и надо быть очень толстокожим, чтобы не заметить, как они радуются, когда ты уходишь. Если у старика есть имя, молодые порой ищут знакомства с ним, но надо понимать, что с ним хотят познакомиться не ради него самого, а ради того, чтобы посудачить о нем с приятелями своего возраста. Для молодых старик — гора, на которую взбираются не ради покорения высоты или ради открывающегося с нее вида, а ради того, чтобы, спустившись с нее, похвастаться своим подвигом. Старику надлежит проводить время среди своих сверстников, и если он получает от этого удовольствие, значит, ему очень повезло. Грустно, конечно, бывать на сборищах, где все без исключения стоят одной ногой в могиле. Дураки в старости не умнеют, а старый дурак куда зануднее молодого. Не знаю, кто невыносимее — те старики, которые отказываются считаться с возрастом и ведут себя с тошнотворной игривостью, или же те, которые завязли в давно прошедшем времени и брюзжат на мир, который не завяз там вкупе с ними. Что и говорить, перспективы у стариков не слишком привлекательные: молодые избегают их общества, а в обществе сверстников им скучно. Им не остается ничего другого, как довольствоваться собственным обществом, и мне это на руку: собственное общество мне никогда не надоедало. Я всегда не любил большие сборища, и для меня не последнее преимущество старости — возможность под благовидным предлогом отказаться от приглашения на какой-нибудь вечер или, соскучась, улизнуть с него. Теперь, когда я вынужден все чаще пребывать в одиночестве, оно меня все больше радует. В прошлом году я несколько недель прожил в небольшом домике на берегу Комбахи-ривер; там не было ни одной живой души, но я не испытывал ни тоски, ни скуки. И когда жара и комары вынудили меня покинуть мое прибежище, я с неохотой вернулся в Нью-Йорк.
Удивительно, до чего поздно начинаешь понимать, какими милостями осыпала меня природа. Я лишь недавно осознал, до чего же мне повезло: у меня никогда не болели ни голова, ни живот, ни зубы. В автобиографии Кардано — он написал ее, когда ему было под восемьдесят, — я прочел, что у него сохранилось пятнадцать зубов, с чем он себя и поздравляет. Я в свою очередь пересчитал зубы и обнаружил, что у меня их двадцать шесть. Я перенес много тяжелых болезней — туберкулез, дизентерию, малярию и много чего еще, но был умерен в выпивке и еде и в результате здоров телом и душой. Само собой разумеется, в старости не пожить в свое удовольствие, если нет ни здоровья, ни денег. Причем не обязательно больших денег — старикам не так много нужно. Дорого обходятся пороки, в старости же сохранять добродетель не трудно. А вот быть бедным в старости плохо; ради самых насущных своих потребностей прибегать к чужой помощи — еще хуже; и я очень признателен своим читателям: их благосклонность позволяет мне не только не испытывать лишений, но и удовлетворять свои прихоти и оказывать помощь тем, кто вправе ожидать ее от меня. Старикам свойственна скаредность. Для них деньги — средство властвовать над теми, кто от них зависит. До сих пор я не замечал в себе таких дурных наклонностей. Если не считать имен и лиц, память, как правило, мне не изменяет — все, что читал, я помню. Правда, есть в этом и свое неудобство: я прочитал все великие романы по два-три раза и уже не получаю от них прежнего удовольствия. Современные же писатели не вызывают у меня интереса, и не знаю, что бы я делал, если бы не бесчисленные детективы, которые помогают не без приятности коротать время, а по прочтении тут же улетучиваются из головы. Я никогда не испытывал желания прочесть книгу о далеких от моих интересов материях, и по сей день не могу заставить себя прочесть занимательную, равно как и познавательную книгу о людях или странах, мало что для меня значащих. Я не хочу ничего знать про историю Сиама, про обычаи и нравы эскимосов. У меня нет никакого желания прочесть биографию Мандзони, а про бравого Кортеса мне достаточно знать, что он стоял на вершине Да-рьена. Я с наслаждением читаю поэтов, которых читал в юности, и с интересом — современных поэтов. Я рад, что благодаря долгой жизни смог прочесть поздние поэмы Йетса и Элиота. Мне по-прежнему любопытно все, что пишут о докторе Джонсоне и почти все, что пишут о Колридже, Байроне и Шелли. Старость много отнимает — того трепета, с каким впервые читал шедевры мировой литературы, уже не испытываешь — чего не вернешь, того не вернешь. Грустно, конечно, прочитать, скажем, стихи, которые когда-то вызывали у тебя такой же восторг, какой охватывал «астронома» Китса, и прийти к заключению, что не так уж они и хороши.
Но есть один предмет, ничуть не менее увлекательный для меня, чем прежде, — это философия, но не философия отвлеченных аргументов и скучнейшей терминологии — «Бесплодно слово философа, если оно не врачует людские страдания», — а философия, которая пытается найти ответ на вопросы, встающие перед каждым из нас. Платон, Аристотель (говорят, что он суховат, но те, у кого есть чувство юмора, найдут в нем немало забавного), Плотин, Спиноза и кое-кто из современных философов, в их числе Брэдли и Уайтхед тешат меня и побуждают к размышлениям. В конечном счете лишь они и древнегреческие трагики говорят о самом для нас важном. Они возвышают и умиротворяют. Читать их все равно, что плыть при легком ветерке по морю, усыпанному бесчисленными островками.
Десять лет назад я сбивчиво изложил в «Подводя итоги» свои суждения и воззрения, рожденные жизнью, чтением и размышлениями о Боге, бессмертии, смысле и ценности жизни, и, по-моему, с тех пор не находил причин их изменить. Если бы мне пришлось переписать «Подводя итоги» заново, я бы не так поверхностно коснулся столь насущной темы, как нравственные ценности и, вероятно, сумел бы сказать что-нибудь более основательное об интуиции — тема эта послужила некоторым философам основой, на которой они возвели из догадок целые построения, притом весьма внушительные; мне же кажется, что на фундаменте, таком же неустойчивом, как пинг-понговый шарик в тире, подбрасываемый струйкой воды, можно возвести разве что воздушный замок. Теперь, когда я на десять лет ближе к смерти, я боюсь ее ничуть не больше, чем десять лет назад. Выпадают дни, когда меня не покидает чувство, что в моей жизни все повторялось уже слишком много раз: не счесть, скольких людей я знал, сколько книг прочел, сколько картин, церквей, особняков перевидал, сколько музыки переслушал. Я не знаю, есть Бог или его нет. Ни одно из тех доказательств, которые когда-либо приводились, чтобы обосновать его существование, меня не убедило, а вера должна покоиться, как некогда сказал Эпикур, на непосредственном ощущении. Со мной такого не случилось. Вместе с тем никто не сумел хоть сколько-нибудь удовлетворительно объяснить мне, как совмещается зло с идеей всемогущего и всеблагого Бога. Какое-то время меня привлекала индуистская концепция таинственного безличного начала, которое есть жизнь, знание и блаженство, не имеющее ни начала, ни конца, и, пожалуй, эта концепция представляется мне более приемлемой, чем любой другой Бог, сотканный из людских упований. Но вообще-то я считаю, что это не более чем впечатляющая фантазия. Многообразие мира первопричиной логически не объяснить. Когда я думаю об огромной вселенной с ее бесчисленными звездами и измеряемыми тысячью тысяч световых лет расстояниями, меня охватывает трепет, но вообразить ее Творца — задача для меня непосильная. Впрочем, я, пожалуй, готов счесть существование вселенной загадкой, неразрешимой для человеческого разума. Что же касается жизни на земле, наименее неприемлемой представляется мне концепция, утверждающая, что существует психофизическая материя, в которой содержится зародыш жизни, и ее психическая сторона и есть источник такого непростого процесса как эволюция. Но в чем ее цель, если она вообще имеется, в чем смысл, если он вообще имеется, для меня так же темно и неясно, как и всегда. Могу сказать одно: что бы ни говорили об этом философы, теологи или мистики, меня они не убедили. Но если Бог есть и его заботят людские дела, в таком случае у него должно достать здравого смысла отнестись к ним с той же снисходительностью, с какой разумный человек относится к людским слабостям.
Что сказать о душе? Индуисты называют ее Атман и считают, что она существует от века и будет существовать в веках. В это куда легче поверить, чем в то, что ее сотворение обусловлено зачатием или рождением человека. Индуисты считают, что Атман — часть Абсолюта и, истекая из него, в конечном счете в него же и возвращается. Греющая душу фантазия; а вот фантазия ли это или нечто большее — никому знать не дано. Из нее исходит вера в переселение душ, а из него, в свою очередь, выводится объяснение природы зла — единственно вероятное из всех, которые когда-либо изобретало людское хитроумие: оно рассматривает зло как возмездие за прошлые грехи. Однако оно не объясняет, почему всеведущему и всеблагому Создателю захотелось или удалось сотворить грехи.
Что же такое душа? Начиная с Платона, многие пытались дать ответ на этот вопрос, но в большинстве случаев они излагали его предположения, лишь несколько видоизменяя их. Мы то и дело употребляем слово «душа» — следовательно, оно что-то для нас означает. Христианство считает, что душа — просто духовная субстанция, сотворенная Богом и наделенная бессмертием, и это один из его догматов. Но и для тех, кто в это не верит, слово «душа» имеет некий смысл. Когда я задаюсь вопросом, какое значение я вкладываю в слово «душа» — могу ответить только, что для меня оно означает осознание самого себя, «я» во мне, ту личность, которая и есть я; а личность эта состоит из моих мыслей, чувств, опыта и особенностей моего телосложения. Мысль, что случайные особенности телесной организации могут влиять на душевную конституцию, многим придется не по вкусу. Что касается меня, я уверен в этом, как ни в чем другом. Моя душа была бы совершенно иной, не заикайся я и будь дюймов на пять выше ростом; зубы у меня чуть торчат вперед, в моем детстве еще не знали, что, если надеть золотую пластину, пока кости формируются, этот дефект можно исправить; будь это известно, мой облик был бы иным, я вызывал бы в людях иные чувства, а следовательно, и мой характер и взаимоотношения с людьми тоже были бы иными. Но что это за штука такая — душа, если она может измениться из-за какой-то пластины? Каждый из нас по своему опыту знает, что жизнь приняла бы иной оборот, не повстречайся нам по воле случая этот или тот человек или не окажись мы в такое-то время на таком-то месте; а значит, и характер и душа у нас тоже были бы иные.
Потому что чем бы ни была душа — мешаниной свойств, склонностей, особенностей и сам не знаю чего еще или просто духовной субстанцией, она ощутимо проявляет себя в характере. Полагаю, никто не станет оспаривать, что страдания, как душевные, так и телесные, влияют на характер. Мне случалось встречать людей в бедности и безвестности завистливых, злобных и низких, которые, достигнув успеха, становились благодушными и добрыми. Разве не странно, что величие души было обретено ими благодаря некой сумме в банке и вкусу славы? И напротив, мне случалось встречать людей приличных и порядочных, которых болезни и безденежье делали лживыми, коварными, склочными и недоброжелательными. Вот почему я не склонен верить, что душа — раз она так зависима от тела — может существовать отдельно от него. Когда видишь мертвых, поневоле думаешь: жуть до чего они мертвы.
Мне иногда задавали вопрос: не хотел бы я прожить жизнь снова. В общем и целом, я прожил жизнь неплохо, лучше многих, но повторять ее нет смысла. Это все равно, что перечитывать уже раз читанный детектив — такое же праздное времяпрепровождение. Но если предположить, что переселение душ существует — а в него безоговорочно верит три четверти человечества — и была бы возможность выбирать, прожить или нет еще одну жизнь, прежде я, как мне порой казалось, согласился бы на такой эксперимент при условии, что открою для себя те сферы жизни, насладиться которыми мне не позволили обстоятельства или моя собственная брезгливость, как духовная, так и телесная, и узнаю многое из того, на что у меня не было ни времени, ни возможности. Но теперь я ни за что не пошел бы на это. С меня довольно. Я не верю в бессмертие и не желаю его. Я предпочел бы умереть быстро и безболезненно и хотел бы верить, что с последним дыханием моя душа, со всеми ее порывами и несовершенствами, растворится в небытии. Во мне находят отклик слова Эпикура, обращенные к Менекею: «Приучай себя к мысли, что смерть не имеет к нам никакого отношения. Ведь все хорошее и дурное заключается в ощущении, а смерть есть лишение ощущения. Поэтому правильное знание того, что смерть не имеет к нам никакого отношения, делает жизнь усладительной — не потому, чтобы оно прибавляло к ней безграничное количество времени, но потому, что отнимает жажду бессмертия. И действительно, нет ничего страшного в жизни тому, кто всем сердцем постиг, что в не жизни нет ничего страшного».
Этими словами я почитаю уместным завершить в этот день эту книгу.
Прошло пять лет с того времени, как я окончил эту главу. Я не стал ничего в ней менять, хотя и написал с тех пор три из четырех упомянутых в ней романов; четвертый я счел за благо не писать. Когда после долгого пребывания в Соединенных Штатах я вернулся в Англию и посетил тот район Лондона, где должно было происходить действие моего романа, я возобновил знакомство с людьми, которых предполагал сделать прототипами моих персонажей, и увидел, что их жизнь переменилась до неузнаваемости. Бермондзи было уже совсем не то Бермондзи, которое я знал. Война причинила множество разрушений, унесла множество жизней; и вместе с тем она положила конец безработице, страх которой подобно черной туче висел над моими друзьями; теперь они жили уже не в жалких клоповниках, а в чистеньких, опрятных муниципальных квартирках. Обзавелись радиоприемниками и фортепиано, дважды в неделю ходили в кино. Это были уже не пролетарии, а мелкие собственники. Но этими переменами — несомненно к лучшему — дело не ограничилось. Я не узнавал здешних жителей. Прежде, в плохие времена, несмотря на тяготы и лишения, они были веселыми и добродушными. Теперь в них появилась ожесточенность, их грызли зависть, ненавистничество и недоброжелательство. Раньше они безропотно несли свой крест, теперь в. них клокотала злоба на тех, кто имел больше благ, чем они. Они были подавлены, недовольны жизнью. Мать семейства, уборщица, с которой я знаком не один десяток лет, сказала: «Трущобы и грязь исчезли, а вместе с ними исчезли радость и веселье». Я столкнулся с неведомым мне миром. Не сомневаюсь, что и в нем достаточно материала для романа, но я вынашивал другой замысел, а той жизни, о которой мне хотелось писать, не стало, и этот замысел не осуществился.
За последние пять лет я, как мне кажется, прибавил малую толику к накопленным ранее знаниям. Случайная встреча с выдающимся биологом дала мне возможность, пусть и весьма поверхностно, ознакомиться с философией организма. Поучительный и захватывающий предмет. Он высвобождает дух. По единогласному, насколько я могу судить, мнению мужей науки, в некий весьма отдаленный период наша с вами Земля прекратит поддерживать жизнь даже простейших организмов, но еще задолго до этого человечество вымрет, как вымерли многие виды живых существ, не сумевшие приспособиться к изменившимся условиям. Поневоле приходишь к выводу, что в таком случае пресловутый процесс эволюции совершенно напрасен и прогресс, приведший к появлению человека, — грандиозная бессмыслица со стороны природы, грандиозная в том смысле, в каком грандиозны извержение вулкана Ки-лауэа или разлив Миссисипи, но тем не менее бессмыслица. Ведь ни один разумный человек не станет отрицать, что на всем протяжении истории человеческое горе намного перевешивало счастье. Человек чуть не постоянно жил в вечном страхе и под угрозой смерти, и не только в первобытном состоянии жизнь его, как утверждал Гоббс, была одинокой, нищей, убогой, скотоподобной, недолгой. Испокон века вера в потустороннюю жизнь очень многим возмещала тяготы кратковременного пребывания в земной юдоли. Им можно только позавидовать. Вера — тем, кому она дана, — помогает найти ответ на неразрешимые вопросы, перед которыми разум останавливается. Некоторые видят в искусстве ценность, которая и есть самооправдание, и они убедили себя, что злосчастный удел обычных людей — не слишком высокая плата за блистательные шедевры художников и поэтов.
Мне эта точка зрения не близка. На мой взгляд, правы те философы, которые измеряют ценность искусства силой его воздействия и из этого делают вывод, что его ценность не в красоте, а в положительном влиянии. Но что это за воздействие, если оно не действенно? Искусство, которое всего лишь доставляет наслаждение, пусть и самое что ни на есть духовное, не может считаться значительным: оно сродни скульптурам на капителях колонн, держащих мощный свод, — их изящество и своеобразие радуют глаз, но функциональной нагрузки они не несут. Искусство, если оно не оказывает положительного влияния, всего лишь опиум для интеллигенции.
И не искусство помогает утолить скорбь, еще в незапамятные времена с непреходящей силой воплощенную в Книге Екклесиаста. По-моему, та поистине героическая отвага, с какой человек противостоит абсурдности мира, своей красотой превосходит красоту искусства. Я вижу ее в бесшабашности Пэдди Финьюкейна, передавшего по радио летчикам своей эскадрильи, когда его самолет сбили: «Тютелька в тютельку, братцы!» В хладнокровной решимости капитана Оутса, который ушел в полярную ночь навстречу смерти, чтобы не быть обузой своим товарищам. В верности своим друзьям Элен Ва-лиано, женщины не такой уж молодой, красивой и умной, которая выдержала чудовищные пытки и приняла смерть, притом не за свою родину, лишь бы никого не предать. Паскаль в отрывке, который чаше всего цитируют, писал: «Человек — всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он — тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не надо всей вселенной: достаточно дуновения ветра, капли воды. Но пусть даже его уничтожит вселенная, человек все равно возвышеннее, чем она, ибо сознает, что расстается с жизнью и что слабее вселенной, а она ничего не сознает. Итак, все наше достоинство — в способности мыслить»*.
* * *
Прав ли он? Конечно же, нет. Мне кажется, к понятию «достоинство» сейчас относятся с некоторым пренебрежением, и, по-моему, правильнее было бы перевести его как благородство. Бывает и такое благородство, которое порождается не мыслью. Оно дается от природы. Вне зависимости и от культуры, и от воспитания. Оно восходит к изначальным инстинктам человека. Перед его лицом Богу, если он и сотворил человека, следовало бы устыдиться и закрыть лицо руками. И лишь уверенность в том, что человек, при всех своих слабостях и пороках, порой способен проявить редкое величие духа, помогает превозмогать отчаяние.
Но все это очень серьезные вопросы, и здесь, даже будь я способен их разрешить, они неуместны. Ведь я подобен пассажиру, ожидающему во время войны корабль в порту. Мне неизвестно, на какой день назначено отплытие, но я готов в любой момент сесть на корабль. Многие достопримечательности я так и не осмотрел. Меня не тянет поглядеть ни на отличную новую автостраду, по которой мне не ездить, ни на великолепный новый театр с наисовременнейшими приспособлениями, который мне не посещать. Я просматриваю газеты, перелистываю журналы, но когда мне дают почитать книгу, я отказываюсь: что если я не успею ее закончить, да и предстоящее путешествие не располагает интересоваться книгами. Я завожу новых знакомых в баре или за картами, но не стараюсь с ними подружиться — слишком скоро нам суждено расстаться. Я вот-вот отбуду.
Комментарии Записные книжки
Предисловие
Ренар Жюль (1864–1910) — французский писатель. Наиболее известные произведения — повесть «Рыжик» (1894) и «Дневник» (опубл. в 1925–1927 гг.).
Ростан Эдмон (1868–1918) — французский поэт и драматург, автор известной пьесы «Сирано де Бержерак» (1897).
Капю Альфред (1857–1922) — французский драматург, публицист, романист.
Патер Уолтер (1839–1894) — английский писатель, критик, близкий прерафаэлитам; автор философского романа «Марий-эпикуреец».
1892
Джордж Мередит (1828–1909) — английский поэт и романист.
Джон Генри Ньюмен (1801–1890) — английский теолог, педагог, публицист и церковный деятель, перешедший из англиканства в католичество.
Бромптонская молельня — римско-католическая церковь в Лондоне.
Джакомо Леопарды (1798–1837) — итальянский поэт-романтик.
1894
Мари-Франсуа-Сади Карно (1837–1894) — французский политический деятель, президент Франции с 1887 г.
Лорд Розбери (1847–1929) — английский политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1894–1895 гг.
Креси, Азенкур — селения во Франции, где во время Столетней войны (1337–1453) англичане нанесли поражение французским войскам.
Уильям Питт Младший (1759–1806) — английский государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1783–1801 и 1804–1806 гг.
Артур Уэлсли Веллингтон (1769–1852) — английский военачальник и государственный деятель.
1896
Герберт Спенсер ^1820–1903) — английский философ и социолог.
Уэслианское воспитание — воспитание в строгих нравах уэслианских методистов, к которым одно время принадлежал отец Г. Спенсера; секта названа по имени основателя методизма Дж. Уэсли (1703–1791).
1900
Певец ада и смерти — Данте Алигьери (1265–1321).
Пьетро Перуджино (между 1445 и 1452–1523) — итальянский живописец.
Никола Пуссен (1594–1665) — французский живописец.
Клод Лоррен (1600–1682) — французский живописец и график.
Стрэнд — одна из центральных улиц Лондона.
Пламенный меч — после изгнания Адама и Евы из Рая Господь поставил у врат Эдема херувима с пламенным мечом (Ветх. Завет, Бытие, III, 24).
1901
Елизаветинцы — условное название английских писателей, музыкантов и архитекторов, творивших в годы правления королевы Елизаветы I (правила с 1558 по 1603) и в начале царствования короля Иакова I.
Джереми Тейлор (1613–1667) — английский церковный деятель и писатель.
«Стиль — это человек» — слова Жоржа Луи Леклерка Бюффона (1707–1788), французского естествоиспытателя и писателя.
Томас Браун (1605–1682) — английский врач и писатель, славившийся строгостью и простотой слога.
Эдуард Гиббон (1737–1794) — английский историк.
Томас Карлейль (1795–1881) — английский публицист, историк и философ.
Альфред Теннисон (1809–1892) — английский поэт.
Патан — представитель одного из воинственных афганских племен.
Чезаре Борджа (1476–1507) — итальянский религиозный и политический деятель.
Франциск Ассизский (1181 или 1182–1226) — итальянский религиозный деятель и писатель, основатель ордена францисканцев, причислен к лику святых.
Томас Торквемада (ок. 1420–1498) — глава испанской инквизиции.
Бернард Мандевиль (1670–1733) — английский писатель. Фраза «Частные пороки — общая выгода» является подзаголовком его сатиры «Басня о пчелах», первоначально вышедшей под названием «Ропщущий улей, или Мошенники, ставшие честными» (1705).
Канаки — жители тихоокеанских островов, преимущественно Гавайских.
Библейская Рахиль, жена Иакова, почитается как праматерь израильтян; изображая бедствия и пленение иудеев, пророк Иеремия представляет Рахиль осиротевшею и оплакивающею детей своих (Ветх. Завет, Иер., 31, 15).
Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан (ок. 160 — после 220) — христианский теолог и писатель.
1902
Иаков — библейский патриарх, был вторым сыном, но хитростью, за чечевичную похлебку, выкупил у брата себе первородство (Бытие, 25, 29–34).
Иисус Навин, ставший после смерти пророка Моисея во главе израильского народа, без боя взял город Иерихон — его стены чудесным образом пали — и предал все в нем огню и мечу (Иисус Навин, 6, 20.)
Желая убедиться в истинном благочестии Иова, Бог позволил Сатане наслать на Иова различные несчастья, в частности жестоко умертвить его детей (Иов, 1).
Царица Астинь отказалась явиться по приказу царя Артаксеркса на пир в Сузах; разгневавшийся царь лишил ее царского достоинства и впоследствии сделал царицею Есфирь (Есфирь, 1–2).
1904
Антуан Ватто (1684–1721) — французский живописец и рисовальщик.
Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье (1626–1696) — образованная утонченная дама французского высшего света, после смерти на дуэли мужа удалившаяся в Бретань, откуда она посылала дочери и друзьям множество писем, живых, изящных и остроумных. Они были изданы посмертно, в 1726 г.
Анджело Брозино (1503–1572) — итальянский живописец.
1914
Стиль «буль» — стиль мебели XVIII в., названный по имени французского мастера художественной мебели Андре-Шар-ля Буля (1642–1732); строгая по формам мебель украшалась
сложным мозаичным узором, с инкрустацией из бронзы, перламутра и т. п.
«Дон Гусман де Альфараче» — плутовской роман испанского писателя Матео Алеман-и-де-Энеро (1547 — ок. 1614).
«Записки знатного человека» — полное название «Записки и приключения знатного человека, удалившегося от света» (1728–1733) — роман французского писателя Антуана Франсуа Прево д'Экзиля (1697–1763).
Жак Бенинъ Боссюэ (1627–1704) — французский писатель, епископ.
Жан-Батист Массийон (1663–1742) — французский проповедник.
Рене Декарт (1596–1650) — французский философ, математик, физик и физиолог.
Дэвид Юм (1711–1776) — английский философ, историк, экономист.
1916
Король Калакауа (1836–1891) — с 1873 г. конституционный монарх Гавайев.
Самюэль Девилъде (1748–1832) — голландский художник.
Рассказ Джека Лондона «Чуй А-чун», впервые появившийся в печати в 1910 г.
Ноттинг-Хилл-Гейт и Западный Кенсингтон — районы в западной части Лондона, где жили зажиточные англичане.
«Суон энд Эдгар» — известный старинный магазин мужской одежды в Лондоне.
Немецкая оккупация. — В 1899 г. острова Самоа были поделены между Германией (западная часть) и США (восточная часть).
Лестница Иакова. — Библейскому Иакову однажды приснилась лестница от земли до неба, по ней спускались и поднимались ангелы, а наверху стоял Бог, и Он отдал землю Иакову и его потомкам (Бытие, 28, 12).
Чаринг-Кросс — перекресток между Трафальгарской площадью и улицей Уайполл, принятый за центр Лондона при отсчете расстояний.
Уильям Вордсворт (1770–1850) — английский поэт.
Парео — яркая набедренная повязка жителей Океании.
Печать Сулеймана. — Согласно мусульманскому преданию, на перстне у библейского царя Соломона, объявленного в Коране пророком, было вырезано величайшее из 99 имен Аллаха, знание которого, подобно магическому заклятью, давало власть над людьми и духами, птицами и ветрами.
1917
Энтони Троллоп (1815–1882) — английский писатель.
Уильям Коллинз (1721–1759) — английский поэт.
Джон Ките (1795–1821) — английский поэт.
Фрэнсис Дрейк (1540–1596) — английский мореплаватель.
Том Джонс — герой романа английского писателя и драматурга Генри Филдинга (1707–1754) «История Тома Джонса, найденыша» (1749).
Сэмюэл Джонсон (1709–1784) — английский лексикограф, прозаик, поэт, критик.
Мэтью Арнолд (1822–1888) — английский поэт и критик.
«Куда ты, красавец-корабль» — строки из стихотворения английского поэта и критика Роберта Бриджеса (1844–1930) «Прохожий».
Симон Соломон (1840–1905) — английский художник.
Мсье Омэ — персонаж романа Гюстава Флобера (1821–1880) «Госпожа Бовари» (1857), воплощение буржуазного филистерства.
Томас Мур (1779–1852) — английский поэт.
Джордж Элиот (1819–1880) — псевдоним Мэри Анн Эванс, английской писательницы.
Джордж Мередит (1828–1909) — английский поэт и прозаик.
Библия короля Иакова, иначе «авторизованная» Библия — перевод, осуществленный 47 учеными по заказу короля Якова I. Опубликована в 1611 г.
«Сид» (1637) — пьеса французского драматурга Пьера Кор-неля (1606–1684).
Уильям Конгрив (1670–1729) — английский драматург.
Уильям Утерли (1640–1716) — английский драматург.
Оливер Гольдсмит (1728–1774) — английский драматург, поэт, прозаик и эссеист.
«Школа злословия» (1780) — комедия английского драматурга Ричарда Бринсли Шеридана (1751–1816).
«Захолустье» — пьеса немецкого прозаика и драматурга Августа Коцебу (1761–1819).
Арнолд Беннетт (1867–1931) — английский прозаик, драматург, критик, долго жил во Франции.
Руритания — воображаемое государство в Европе, место действия романа английского писателя Энтони Хоупа (1863–1933)
«Узник Зенды» (1894); стало нарицательным обозначением маленькой страны, где бурлят политические, любовные и прочие интриги.
Бейсуотер-роуд — одна из центральных улиц Лондона.
Мсье де Вальмон — герой романа французского писателя и политического деятеля Пьера Амбруаза Франсуа Шодерло де Лакло (1741–1803) «Опасные связи» (1782), растленный аристократ.
«Пращи и стрелы…» — цитата из монолога «Быть или не быть» В. Шекспира «Гамлет». Пер. М. Лозинского.
Леопольд Захер-Мазох (1836–1895) — австрийский писатель, по национальности русин.
«Небесный пес» — короткая поэма английского поэта Фрэнсиса Томпсона (1856–1907), написана в 1893 г. В ней описывается, как поэт бежал от Бога, как Бог преследовал его и наконец одолел.
«Тьма внешняя» и «скрежет зубов» — Новый Завет, Евангелие от Матфея, 22,13.
Массачусетсский евангелист Дуайт Лайман Муди (1837–1899) вместе с органистом и певцом Айрой Дэвидом Сэнки (1840–1908) в 1870-х годах разъезжали по Америке и Англии, проповедуя Евангелие и устраивая собрания с пением религиозных гимнов.
Эмиль Габорио (1832–1873) — французский писатель, один из родоначальников детективного жанра.
Эжен Сю (1804–1857) — французский писатель. В его наиболее известных романах «Парижские тайны» (1842–1843) и «Вечный жид» (1844–1845) социальные мотивы сочетаются с авантюрно-приключенческим сюжетом.
Жан Расин (1639–1699) — французский поэт, драматург.
Болонская школа — одна из главных школ итальянской живописи эпохи барокко (конец XVI–XVII вв.).
«Характеры, или Нравы нашего века» (1688) — книга Жана де Лабрюйера (1645–1696).
Жюльен Сорель — герой романа Стендаля (1783–1842) «Красное и черное» (1831).
Доменико Эль Греко (1541–1614) — испанский живописец.
Октав Фейе (1821–1890) — французский писатель, автор занимательных, но поверхностных романов.
Виктор Шербюйе (1829–1899) — французский писатель и эссеист, бытописатель космополитических нравов.
Братья Эдмон (1822–1896) и Жюлъ (1830–1870) Гонкуры — французские писатели.
Шарль Мари Жорж Гюисманс (1848–1907) — французский писатель.
Матильда (1820–1904) — дочь Жерома Бонапарта, брата Наполеона, во время Второй империи — хозяйка блестящего салона, который в числе прочих посещали Мериме, Флобер, Тургенев.
Епископ Прауди — персонаж цикла романов Э. Троллопа «Барчестерские хроники».
Кора Перл, настоящее имя Эмма Элизабет Крауч (1842–1886) — французская кокотка, родом англичанка, была связана с многими влиятельными лицами Второй империи. Прототип Люси Стюарт в романе Э. Золя «Нана».
Гортензия Шнайдер (1838–1920) — французская актриса и певица.
Морис Кантен де Латур (1704–1788) — французский живописец.
Эдуард Рочестер — герой романа Шарлотты Бронте (1816–1855) «Джейн Эйр» (1847).
Марк Аврелий (121–180) — римский философ, император с 161 г.
«Уэверлийскими» романами принято называть романы Вальтера Скотта (1771–1832), написанные с 1814 г. по 1827 г. Первый роман «Уэверли» (1814) появился анонимно, следующие романы (в том числе «Пуритане», «Роб Рой», «Айвенго», «Квентин Дорвард») вплоть до 1827 г. выходили как сочинения автора «Уэверли».
«Вещи поважнее» — ходячая цитата из шутливого стихотворения Вильды Совидж Оуэне «Что создала Англия»: «Будь время для дел поважнее, / Мой адрес звучал бы так: / Сад «Швабра», Ров-у-Замка, / Крапивный овраг».
«Перстная» — Новый Завет, Первое послание коринфянам 15,47: «Первый человек из земли, перстный».
Демократическое совещание было созвано 14.09–22.09 (27.09 — 5.10) 1917 г. с целью создать новое коалиционное правительство.
Ираклий Георгиевич Церетели (1881–1959) — один из лидеров меньшевиков. В 1917 г. — министр Временного правительства, но не иностранных дел, а вначале почт и телеграфа, затем внутренних дел.
Савинков был товарищем военного министра.
Луи Сен-Жюст (1767–1794) — один из деятелей Великой французской революции.
Чарльз Фроман (1860–1915) — американский театральный продюсер.
Гелиогабал (204–222) — римский император в 218–222 гг.
1919
«Главная улица» (1920) — роман американского писателя Синклера Льюиса (1885–1951).
1921
Чарльз Хэддон Чэмберс (1860–1921) — английский драматург.
1922
Ламбет — бедный район Лондона.
Академия — Королевская академия искусств в Лондоне.
Даяки — группа народов Индонезии.
«Мейстерзингеры» — «Нюрнбергские мейстерзингеры», опера немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813–1883).
Григорианские песнопения — католические хоралы; их отбор и канонизация были начаты в конце VI в. при Папе Григории I.
1923
Роберт Херрик (1591–1674) — английский поэт.
Ледисмит — город в Западном Натале, который во время англо-бурской войны (1899–1902) осадили буры, блокировав там английский отряд во главе с генералом Уайтом.
1929
Бейллиол — один из колледжей Оксфордского университета. «Земля моей мечты» — «Паломничество Чайльд Гарольда» Байрона, перевод В. Левика.
1930
Физ — псевдоним Хэблота Найта Брауна (1815–1880), известного прежде всего как иллюстратора произведений Ч. Диккенса.
Джон Тэнниель (1820–1914) — карикатурист и книжный иллюстратор.
1933
Бартоломе Эстебан Мурильо (1618–1682) — испанский живописец.
Хуан де Вальдес Леаль (1622–1690) — испанский живописец.
«Селестина» — роман-драма, появилась в 1499 г. анонимно под названием «Трагикомедия о Калисто и Мелибее». Ныне считается, что «Селестину» написал крещеный еврей Фернандо де Рохас (? — 1541).
«Хлеб по водам» — Ветхий Завет, книга Екклесиаста 11,1: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его».
Лоджии Ватикана расписывал Рафаэль (1483–1520).
Джулио Романа (1492 или 1499–1546) — итальянский живописец и архитектор. Ученик и помощник Рафаэля, после смерти Рафаэля заканчивал начатые им работы.
«Молодые фрейлины» — групповой портрет в виде жанровой сцены из придворного быта испанского художника Диего Родригеса Веласкеса (1599–1660).
Чалфонт-Сент-Джайлс — место рождения Джона Мильтона.
Сэмюэл Тейлор Кольридж (1772–1834) — английский поэт и критик.
«Элегия, написанная на сельском кладбище» (1751) — хрестоматийное стихотворение английского поэта Томаса Грея (1716–1771).
Эдвин и Анджелина — чувствительные любовники, герои баллады Оливера Гольдсмита «Пустынник» (1765).
Эдмунд Уильям Госс (1849–1928) — английский критик, эссеист, биограф, переводчик, мемуарист.
«Столбы в Газе» — Ветхий Завет, книга Судей Израилевых, 16, 26–30; в Газе Самсон сдвинул столбы, на которых был утвержден дом, и обрушил дом на ослепивших его филистимлян.
«Роже» — популярный идеографический словарь английского языка, используется также как словарь синонимов. Составлен в 1852 г. английским лексикологом и врачом Питером Роже (1779–1869).
«Бувар и Пекюше» (1881) — неоконченный роман Гюстава Флобера, разоблачающий псевдонауку.
1937
Генри Джеймс (1843–1916) — американский писатель, прозаик, эссеист, драматург, критик.
«Уолден, или Жизнь в лесу» (1854) — философское и автобиографическое эссе американского философа, прозаика, поэта Генри Дейвида Торо (1817–1862).
«Эссе» (1841, 1844) — сборник эссе американского поэта и мыслителя Ралфа Уолдо Эмерсона (1803–1882).
«Адам Бид» (1859) — роман Джордж Элиот.
«Диалоги», точнее «Воображаемые разговоры» (1824–1829) английского писателя Уолтера Сэвиджа Лзндора (1775–1864).
1938
Парацельс (1493–1541) — немецкий врач, естествоиспытатель и алхимик, один из основоположников ятрохимии, объясняющей многие болезни нарушением химического равновесия в организме.
Элифас Леей (1810–1875) — французский писатель, теолог и мистик.
Гераклит Эфесский (кон. VI — нач. V вв. до н. э.) — древнегреческий философ.
Чарльз Ледбитер (1848–1934) — английский теософ.
Анни Безант (1847–1933) — англичанка, участница индийского национально-освободительного движения, президент Теософского общества.
Нана Сахиб (1825–1862) — индийский раджа, возглавивший в 1857 г. восстание сипаев.
Св. Франциск Ксаверий (1506–1552) — испанский миссионер, работавший в Индии и Японии.
Шудры — низшая из 4-х древнеиндийских каст-варн; ныне шудры в кастовой иерархии выше лишь «неприкасаемых».
Вит — индийский струнный музыкальный инструмент.
1939
Тито Росси, правильно — Тино (Константин) Росси, (родился в 1907) — французский певец, итальянец по происхождению, популярный исполнитель лирических песен.
«Ламбет-уок» (буквально «Ламбетское гулянье») — темпераментный танец, популярный в 1930-е годы.
«Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768) — роман английского писателя Лоренса Стерна (1713–1768).
Бермондзи — жилой и промышленный район Лондона на южном берегу Темзы. Доки, склады, кожевенные заводы.
Кеннингтон — рабочий район Лондона.
Степни — рабочий район в лондонском Ист-Энде.
Уайтхолл — улица в Лондоне, на которой находятся правительственные учреждения; в переносном смысле — английское правительство.
1941
«Человекрождается на страдание…» — Ветхий Завет, книга Иова, V,7.
«Призрак смерти» — вошедшая в язык цитата из пьесы «Римский актер» английского драматурга Филипа Мессинд-жера (1583–1640).
«Мы не позволим…» — Речь идет об Уильяме Дженнингсе Брайане (1860–1925), американском политическом деятеле, идеологе протестантского фундаментализма, трижды баллотировавшемся в президенты. С. Моэм приводит фразу из нашумевшей речи Брайана, в которой тот предлагал отказаться от золотого стандарта.
Стр. 683. Далее в этой записи Моэма идет четырнадцать строк об употреблении синонимов в английском языке. Их невозможно перевести, и потому они тут опушены. — Издатель.
День матери — официальный праздник, отмечается во второе воскресенье мая.
Томас Эдуард Лоуренс (1888–1935) — английский разведчик и писатель, известен более как Лоуренс Аравийский.
Рино — город на западе штата Невада, США, где можно быстро и без лишних формальностей оформить брак или развод.
Хорас Грили (1811–1872) — журналист, политический деятель. Обращаясь к молодым людям, желающим пробиться в жизни, призывал тех из них, у кого нет ни семьи, ни связей, держать путь на Запад — «там обретете вы и дом и состояние».
Олдос — очевидно, Олдос Хаксли (1894–1963) — английский прозаик и эссеист.
«Цыганка» (1843) — опера ирландского композитора Майкла Уильяма Балфа (1808–1870).
Ульям Хэзлитт (1778–1830) — английский критик и публицист.
Антонио Корреджо (ок. 1489–1534) — итальянский живописец.
Тициан (ок. 1476/77 или 1489/90 — 1576) — итальянский живописец.
Поль Сезанн (1839–1906) — французский живописец.
Барбизонская школа — группа французских живописцев-пейзажистов (Т. Руссо, Ж. Дюпре и др.), работавших в деревушке Барбизон в 30 — 60-е гг. XIX в.
«Прекрасное пленяет…» — «Эндимион» Джона Китса: «Прекрасное пленяет навсегда. / К нему не остываешь. Никогда / Не впасть ему в ничтожество…» {пер. Б. Пастернака).
Джордж Сантаяна (1863–1952) — американский философ и писатель.
Логан Пирсолл Смит (1865–1946) — прозаик, поэт, эссеист, родился в Америке, с 1888 г. жил в Европе.
Хью Уолпол (1884–1941) — английский писатель и общественный деятель, автор приключенческих романов и романов ужасов.
Чарлз Гарвайс — автор душещипательных романов, издававшихся в дешевых массовых сериях.
«Гаррик» — лондонский клуб актеров, писателей, журналистов. Основан в 1831 г., назван в честь знаменитого английского актера и драматурга Дейвида Гаррика (1717–1779).
Эдуард Ноблок (1874–1945) — американский драматург.
«Федон», или «О душе» — один из сократических диалогов древнегреческого философа Платона (428 или 427–348 или 347 до н. э.).
1944
«Дней наших семьдесят лет» — Ветхий Завет, Псалтырь, 89,9.
Лиза — дочь С. Моэма.
Ноэл Пирс Кауард (1899–1973) — английский драматург, актер и композитор.
Джероламо Кардана (1501 или 1506–1576) — итальянский философ, врач, математик и изобретатель, изобрел прообраз карданного вала.
Алессандро Мандзони (1785–1873) — итальянский поэт, писатель, драматург.
Эрнан Кортес (1485–1547) — испанский конкистадор, завоевал государство ацтеков.
Уильям Батлер Йетс (1865–1939) — ирландский поэт и драматург.
Томас Стернз Элиот (1888–1965) — поэт, родился в Америке, с 1915 жил в Англии.
Плотин (ок. 204/205 — 269/270) — греческий философ.
Бенедикт Спиноза (1632–1677) — нидерландский философ.
Фрэнсис Герберт Брэдли (1846–1924) — английский философ.
Алфред Порт Уайтхед (1861–1947) — англо-американский логик, философ и математик.
Эпикур (341–270 до н. э.) — древнегреческий философ
Томас Гоббс (1588–1679) — английский философ.
Капитан Лоуренс Эдуард Грече Оутс (1880–1912) — английский исследователь Антарктики.
Блез Паскаль (1623–1662) — французский религиозный философ, писатель, математик и физик.
Стр. 719. «…все наше достоинство — в способности мыслить» — Пер. Э. Липецкой.
Оглавление
1892
1894
1896
1897
1900
1901
1902
1904
1908
1914
1915
1916
1917 (про русских писателей!)
1919
1921
1922
1923
1929
1930
1936
1937
1938
1939
1940
1944
Комментарии
Примечания
1
Да здравствует анархия! (фр.)
(обратно)2
Это мой друг, потому что я его люблю, а люблю я его, потому что он мой друг (фр.).
(обратно)3
1 шиллинг = 12 пенсов.
(обратно)4
Крик души (фр.).
(обратно)5
Паслен каролингский.
(обратно)6
Верю, ибо абсурдно (лат.).
(обратно)7
Кто украшает цветами комнату, украшает собственную душу (фр.).
(обратно)8
«Дорогу гвардейцам гасконским» — из «Сирано де Бержерак» Э.Ростана.
(обратно)9
Да и суп выходит отменный (фр.).
(обратно)10
Отупение (фр.).
(обратно)11
Гардения «Флорида», душистый тропический цветок (фр.).
(обратно)12
Местный начальник (нем.).
(обратно)13
Ваше здоровье (нем.).
(обратно)14
Делоникс царский, тропический цветок (фр.).
(обратно)
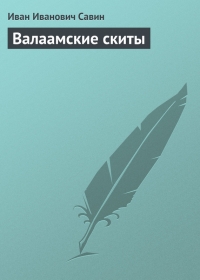

Комментарии к книге «Записные книжки», Уильям Сомерсет Моэм
Всего 0 комментариев