Николай Бердяев Судьба России (Сборник)
Судьба России
Мировая опасность (Вместо предисловия)
С горьким чувством перечитывал я страницы сборника статей, написанных за время войны до революции. Великой России уже нет, и нет стоявших перед ней мировых задач, которые я старался по-своему осмыслить. Война внутренне разложилась и потеряла свой смысл. Все переходит в совершенно иное измерение. Те оценки, которые я применял в своих опытах, я считаю внутренне верными, но неприменимыми уже к современным событиям. Все изменилось вокруг в мире, и нужны уже новые реакции живого духа на все совершающееся. Эти новые реакции нужны и для духа, оставшегося верным своей вере, своей идее. Не вера, не идея изменилась, но мир и люди изменили этой вере и этой идее. И от этого меняются суждения о мировых соотношениях. Ни одна из задач мировой войны не может быть положительно разрешена, и прежде всего не может быть разрешен восточный вопрос. Выпадение России из войны – факт роковой для судьбы войны. И роковой смысл этого выпадения я вижу даже не в том, что он дает перевес враждебной нам стороне. Смысл этого события лежит глубже. Русское падение и бесчестье способствовало военным успехам Германии. Но успехи эти не слишком реальны, в них много призрачного. Германские победы не увеличили германской опасности для мира. Я даже склонен думать, что опасность эта уменьшается. Воинственный и внешне могущественный вид Германии внушает почти жалость, если всмотреться глубже в выражение германского лица. Германия есть в совершенстве организованное и дисциплинированное бессилие. Она надорвалась, истощилась и принуждена скрывать испуг перед собственными победами. Ее владычество над огромной таинственной хаотической стихией, в прошлом именовавшейся Великой Россией, не может не пугать ее. Она не в силах совладать с больным и павшим колоссом. Она должна будет отступить перед ним, истощив свои силы. Силы германского народа истощаются все более и более, как и силы всех народов Европы. И ныне перед европейским миром стоят более страшные опасности, чем те, которые я видел в этой войне. Будущее всей христианской культуры старой Европы подвергается величайшей опасности. Если мировая война будет еще долго продолжаться, то все народы Европы со старыми своими культурами погрузятся во тьму и мрак. С Востока, не арийского и не христианского, идет гроза на всю Европу. Результатами войны воспользуются не те, которые на это рассчитывают. Никто не победит. Победитель не в состоянии уже будет пользоваться своей победой. Все одинаково будут побеждены. Скоро наступит такое время, что все равно уже будет, кто победит. Мир вступит в такое измерение своего исторического бытия, что эти старые категории будут уже неприменимы.
Все время войны я горячо стоял за войну до победного конца. И никакие жертвы не пугали меня. Но ныне я не могу не желать, чтобы скорее кончилась мировая война. Этого д́олжно желать и с точки зрения судьбы России, и с точки зрения судьбы всей Европы. Если война еще будет продолжаться, то Россия, переставшая быть субъектом и превратившаяся в объект, Россия, ставшая ареной столкновения народов, будет продолжать гнить, и гниение это слишком далеко зайдет к дню окончания войны. Темные разрушительные силы, убивающие нашу родину, все свои надежды основывают на том, что во всем мире произойдет страшный катаклизм и будут разрушены основы христианской культуры. Силы эти спекулируют на мировой войне, и не так уж ошибочны их ожидания. Всей Европе грозит внутренний взрыв и катастрофа, подобная нашей. Жизнь народов Европы будет отброшена к элементарному, ей грозит варваризация. И тогда кара придет из Азии. На пепелище старой христианской Европы, истощенной, потрясенной до самых оснований собственными варварскими хаотическими стихиями, пожелает занять господствующее положение иная, чужая нам раса, с иной верой, с чуждой нам цивилизацией. По сравнению с этой перспективой вся мировая война есть лишь семейная распря. Теперь уже в результате мировой войны выиграть, реально победить может лишь крайний Восток, Япония и Китай, раса, не истощившая себя, да еще крайний Запад, Америка. После ослабления и разложения Европы и России воцарится китаизм и американизм, две силы, которые могут найти точки сближения между собой. Тогда осуществится китайско-американское царство равенства, в котором невозможны уже будут никакие восхождения и подъемы.
Русский народ не выдержал великого испытания войны. Он потерял свою идею. Но испытания этого может не выдержать и вся Европа. И тогда может наступить конец Европы не в том смысле, в каком я писал о нем в одной из статей этой книги, а в более страшном и исключительно отрицательном смысле слова. Я думал, что мировая война выведет европейские народы за пределы Европы, преодолеет замкнутость европейской культуры и будет способствовать объединению Запада и Востока. Я думал, что мир приближается путем страшных жертв и страданий к решению всемирно-исторической проблемы Востока и Запада и что России выпадет в этом решении центральная роль. Но я не думал, что Азия может окончательно возобладать над Европой, что сближение Востока и Запада будет победой крайнего Востока и что свет христианской Европы будет угасать. А это ныне угрожает нам. Русский народ не захотел выполнить своей миссии в мире, не нашел в себе сил для ее выполнения, совершил внутреннее предательство. Значит ли это, что идея России и миссия России, как я ее мыслю в этой книге, оказалась ложью? Нет, я продолжаю думать, что я верно понимал эту миссию. Идея России остается истинной и после того, как народ изменил своей идее, после того, как он низко пал. Россия, как Божья мысль, осталась великой, в ней есть неистребимое онтологическое ядро, но народ совершил предательство, соблазнился ложью. В опытах по психологии русского народа, собранных в этой книге, можно найти многое, объясняющее происшедшую в России катастрофу. Я чувствовал с первых дней войны, что и Россия и вся Европа вступают в великую неизвестность, в новое историческое измерение. Но я верил и надеялся, что в решении таинственных судеб человечества Великой России предстоит активная и творческая роль. Я знал, что в русском народе и в русской интеллигенции скрыты начала самоистребления. Но трудно было допустить, что действие этих начал так далеко зайдет. Вина лежит не на одних крайних революционно-социалистических течениях. Эти течения лишь закончили разложение русской армии и русского государства. Но начали это разложение более умеренные либеральные течения. Все мы к этому приложили руку. Нельзя было расшатывать исторические основы русского государства во время страшной мировой войны, нельзя было отравлять вооруженный народ подозрением, что власть изменяет ему и предает его. Это было безумие, подрывавшее возможность вести войну.
Теперь уж иная задача стоит перед нами, да и перед всем миром. Русская революция не есть феномен политический и социальный, это прежде всего феномен духовного и религиозного порядка. И нельзя излечить и возродить Россию одними политическими средствами. Необходимо обратиться к большей глубине. Русскому народу предстоит духовное перерождение. Но русский народ не должен оставаться в одиночестве, на которое обрекает его происшедшая катастрофа. Во всем мире, во всем христианском человечестве должно начаться объединение всех положительных духовных, христианских сил против сил антихристианских и разрушительных. Я верю, что раньше или позже в мире должен возникнуть «священный союз» всех творческих христианских сил, всех верных вечным святыням. Начнется же он с покаяния и с искупления грехов, за которые посланы нам страшные испытания. Виновны все лагери и все классы. Исключительное погружение Европы в социальные вопросы, решаемые злобой и ненавистью, есть падение человечества. Решение социальных вопросов, преодолевающее социальную неправду и бедность, предполагает духовное перерождение человечества. Целое столетие русская интеллигенция жила отрицанием и подрывала основы существования России. Теперь должна она обратиться к положительным началам, к абсолютным святыням, чтобы возродить Россию. Но это предполагает перевоспитание русского характера. Мы должны будем усвоить себе некоторые западные добродетели, оставаясь русскими. Мы должны почувствовать и в Западной Европе ту же вселенскую святыню, которой и мы сами были духовно живы, и искать единения с ней. Мир вступает в период длительного неблагополучия и великих потрясений. Но великие ценности должны быть пронесены через все испытания. Для этого дух человеческий должен облечься в латы, должен быть рыцарски вооружен.
В статьях этих я жил вместе с войной и писал в живом трепетании события. И я сохраняю последовательность своих живых реакций. Но сейчас к мыслям моим о судьбе России примешивается много горького пессимизма и острой печали от разрыва с великим прошлым моей родины.
I. Психология русского народа
Душа России
I
Мировая война остро ставит вопрос о русском национальном самосознании. Русская национальная мысль чувствует потребность и долг разгадать загадку России, понять идею России, определить ее задачу и место в мире. Все чувствуют в нынешний мировой день, что Россия стоит перед великими мировыми задачами. Но это глубокое чувство сопровождается сознанием неопределенности, почти неопределимости этих задач. С давних времен было предчувствие, что Россия предназначена к чему-то великому, что Россия – особенная страна, не похожая ни на какую страну мира. Русская национальная мысль питалась чувством богоизбранности и богоносности России. Идет это от старой идеи Москвы как Третьего Рима, через славянофильство – к Достоевскому, Владимиру Соловьеву и к современным неославянофилам. К идеям этого порядка прилипло много фальши и лжи, но отразилось в них и что-то подлинно народное, подлинно русское. Не может человек всю жизнь чувствовать какое-то особенное и великое призвание и остро сознавать его в периоды наибольшего духовного подъема, если человек этот ни к чему значительному не призван и не предназначен. Это биологически невозможно. Невозможно это и в жизни целого народа.
Россия не играла еще определяющей роли в мировой жизни, она не вошла еще по-настоящему в жизнь европейского человечества. Великая Россия все еще оставалась уединенной провинцией в жизни мировой и европейской, ее духовная жизнь была обособлена и замкнута. России все еще не знает мир, искаженно воспринимает ее образ и ложно и поверхностно о нем судит. Духовные силы России не стали еще имманентны культурной жизни европейского человечества. Для западного культурного человечества Россия все еще остается совершенно трансцендентной, каким-то чуждым Востоком, то притягивающим своей тайной, то отталкивающим своим варварством. Даже Толстой и Достоевский привлекают западного культурного человека, как экзотическая пища, непривычно для него острая. Многих на Западе влечет к себе таинственная глубина русского Востока. Но все еще не наступало время признания за духовной жизнью христианского Востока равноправия с духовной жизнью Запада. На Западе еще не почувствовали, что духовные силы России могут определять и преображать духовную жизнь Запада, что Толстой и Достоевский идут на смену властителям дум Запада для самого Запада и внутри его. Свет с Востока видели лишь немногие избранные индивидуальности. Русское государство давно уже признано великой державой, с которой должны считаться все государства мира и которая играет видную роль в международной политике. Но духовная культура России, то ядро жизни, по отношению к которому сама государственность есть лишь поверхностная оболочка и орудие, не занимает еще великодержавного положения в мире. Дух России не может еще диктовать народам тех условий, которые может диктовать русская дипломатия. Славянская раса не заняла еще в мире того положения, которое заняла раса латинская или германская. Вот что должно в корне измениться после нынешней великой войны, которая являет собой совершенно небывалое историческое соприкосновение и сплетение восточного и западного человечества. Великий раздор войны должен привести к великому соединению Востока и Запада. Творческий дух России займет, наконец, великодержавное положение в духовном мировом концерте. То, что совершалось в недрах русского духа, перестанет уже быть провинциальным, отдельным и замкнутым, станет мировым и общечеловеческим, не восточным только, но и западным. Для этого давно уже созрели потенциальные духовные силы России. Война 1914 года глубже и сильнее вводит Россию в водоворот мировой жизни и спаивает европейский Восток с европейским Западом, чем война 1812 года. Уже можно предвидеть, что в результате этой войны Россия в такой же мере станет окончательно Европой, в какой Европа признает духовное влияние России на свою внутреннюю жизнь. Бьет тот час мировой истории, когда славянская раса во главе с Россией призывается к определяющей роли в жизни человечества. Передовая германская раса истощит себя в милитаристическом империализме. Призванность славянства предчувствовали многие чуткие люди на Западе. Но осуществление мировых задач России не может быть предоставлено произволу стихийных сил истории. Необходимы творческие усилия национального разума и национальной воли. И если народы Запада принуждены будут, наконец, увидеть единственный лик России и признать ее призвание, то остается все еще неясным, сознаем ли мы сами, чт́о есть Россия и к чему она призвана? Для нас самих Россия остается неразгаданной тайной. Россия – противоречива, антиномична. Душа России не покрывается никакими доктринами. Тютчев сказал про свою Россию:
Умом России не понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная стать — В Россию можно только верить.И поистине можно сказать, что Россия непостижима для ума и неизмерима никакими аршинами доктрин и учений. А верит в Россию каждый по-своему, и каждый находит в полном противоречий бытии России факты для подтверждения своей веры. Подойти к разгадке тайны, сокрытой в душе России, можно, сразу же признав антиномичность России, жуткую ее противоречивость. Тогда русское самосознание освобождается от лживых и фальшивых идеализаций, от отталкивающего бахвальства, равно как и от бесхарактерного космополитического отрицания и иноземного рабства.
Противоречия русского бытия всегда находили себе отражение в русской литературе и русской философской мысли. Творчество русского духа так же двоится, как и русское историческое бытие. Это яснее всего видно на самой характерной нашей национальной идеологии – славянофильстве и на величайшем нашем национальном гении – Достоевском – русском из русских. Вся парадоксальность и антиномичность русской истории отпечатлелась на славянофилах и Достоевском. Лик Достоевского так же двоится, как и лик самой России, и вызывает чувства противоположные. Бездонная глубь и необъятная высь сочетаются с какой-то низостью, неблагородством, отсутствием достоинства, рабством. Бесконечная любовь к людям, поистине Христова любовь, сочетается с человеконенавистничеством и жестокостью. Жажда абсолютной свободы во Христе (Великий Инквизитор) мирится с рабьей покорностью. Не такова ли и сама Россия?
Россия – самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире. И русский народ – самый аполитический народ, никогда не умевший устраивать свою землю. Все подлинно русские, национальные наши писатели, мыслители, публицисты – все были безгосударственниками, своеобразными анархистами. Анархизм – явление русского духа, он по-разному был присущ и нашим крайним левым, и нашим крайним правым. Славянофилы и Достоевский – такие же в сущности анархисты, как и Михаил Бакунин или Кропоткин. Эта анархическая русская природа нашла себе типическое выражение в религиозном анархизме Льва Толстого. Русская интеллигенция, хотя и зараженная поверхностными позитивистическими идеями, была чисто русской в своей безгосударственности. В лучшей, героической своей части она стремилась к абсолютной свободе и правде, не вместимой ни в какую государственность. Наше народничество – явление характерно-русское, незнакомое Западной Европе, – есть явление безгосударственного духа. И русские либералы всегда были скорее гуманистами, чем государственниками. Никто не хотел власти, все боялись власти, как нечистоты. Наша православная идеология самодержавия – такое же явление безгосударственного духа, отказ народа и общества создавать государственную жизнь. Славянофилы сознавали, что их учение о самодержавии было своеобразной формой отрицания государства. Всякая государственность представлялась позитивистической и рационалистической. Русская душа хочет священной общественности, богоизбранной власти. Природа русского народа сознается, как аскетическая, отрекающаяся от земных дел и земных благ. Наши левые и революционные направления не так уже глубоко отличаются в своем отношении к государству от направлений правых и славянофильских, – в них есть значительная доза славянофильского и аскетического духа. Такие идеологи государственности, как Катков или Чичерин, всегда казались не русскими, какими-то иностранцами на русской почве, как иностранной, не русской всегда казалась бюрократия, занимавшаяся государственными делами – не русским занятием. В основе русской истории лежит знаменательная легенда о призвании варяг-иностранцев для управления русской землей, так как «земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет». Как характерно это для роковой неспособности и нежелания русского народа самому устраивать порядок в своей земле. Русский народ как будто бы хочет не столько свободного государства, свободы в государстве, сколько свободы от государства, свободы от забот о земном устройстве. Русский народ не хочет быть мужественным строителем, его природа определяется как женственная, пассивная и покорная в делах государственных, он всегда ждет жениха, мужа, властелина. Россия – земля покорная, женственная. Пассивная, рецептивная женственность в отношении государственной власти – так характерна для русского народа и для русской истории[1]. Нет пределов смиренному терпению многострадального русского народа. Государственная власть всегда была внешним, а не внутренним принципом для безгосударственного русского народа; она не из него созидалась, а приходила как бы извне, как жених приходит к невесте. И потому так часто власть производила впечатление иноземной, какого-то немецкого владычества. Русские радикалы и русские консерваторы одинаково думали, что государство – это «они», а не «мы». Очень характерно, что в русской истории не было рыцарства, этого мужественного начала. С этим связано недостаточное развитие личного начала в русской жизни. Русский народ всегда любил жить в тепле коллектива, в какой-то растворенности в стихии земли, в лоне матери. Рыцарство кует чувство личного достоинства и чести, создает закал личности. Этого личного закала не создавала русская история. В русском человеке есть мягкотелость, в русском лице нет вырезанного и выточенного профиля. Платон Каратаев у Толстого – круглый. Русский анархизм – женственный, а не мужественный, пассивный, а не активный. И бунт Бакунина есть погружение в хаотическую русскую стихию. Русская безгосударственность – не завоевание себе свободы, а отдание себя, свобода от активности. Русский народ хочет быть землей, которая невестится, ждет мужа. Все эти свойства России были положены в основу славянофильской философии истории и славянофильских общественных идеалов. Но славянофильская философия истории не хочет знать антиномичности России, она считается только с одним тезисом русской жизни. В ней есть антитезис. И Россия не была бы так таинственна, если бы в ней было только то, о чем мы сейчас говорили. Славянофильская философия русской истории не объясняет загадки превращения России в величайшую империю в мире или объясняет слишком упрощенно. И самым коренным грехом славянофильства было то, что природно-исторические черты русской стихии они приняли за христианские добродетели.
Россия – самая государственная и самая бюрократическая страна в мире, все в России превращается в орудие политики. Русский народ создал могущественнейшее в мире государство, величайшую империю. С Ивана Калиты последовательно и упорно собиралась Россия и достигла размеров, потрясающих воображение всех народов мира. Силы народа, о котором не без основания думают, что он устремлен к внутренней духовной жизни, отдаются колоссу государственности, превращающему все в свое орудие. Интересы созидания, поддержания и охранения огромного государства занимают совершенно исключительное и подавляющее место в русской истории. Почти не оставалось сил у русского народа для свободной творческой жизни, вся кровь шла на укрепление и защиту государства. Классы и сословия слабо были развиты и не играли той роли, какую играли в истории западных стран. Личность была придавлена огромными размерами государства, предъявлявшего непосильные требования. Бюрократия развилась до размеров чудовищных. Русская государственность занимала положение сторожевое и оборонительное. Она выковывалась в борьбе с татарщиной, в смутную эпоху, в иноземные нашествия. И она превратилась в самодовлеющее отвлеченное начало; она живет своей собственной жизнью, по своему закону, не хочет быть подчиненной функцией народной жизни. Эта особенность русской истории наложила на русскую жизнь печать безрадостности и придавленности. Невозможна была свободная игра творческих сил человека. Власть бюрократии в русской жизни была внутренним нашествием неметчины. Неметчина как-то органически вошла в русскую государственность и владела женственной и пассивной русской стихией. Земля русская не того приняла за своего суженого, ошиблась в женихе. Великие жертвы понес русский народ для создания русского государства, много крови пролил, но сам остался безвластным в своем необъятном государстве. Чужд русскому народу империализм в западном и буржуазном смысле слова, но он покорно отдавал свои силы на создание империализма, в котором сердце его не было заинтересовано. Здесь скрыта тайна русской истории и русской души. Никакая философия истории, славянофильская или западническая, не разгадала еще, почему самый безгосударственный народ создал такую огромную и могущественную государственность, почему самый анархический народ так покорен бюрократии, почему свободный духом народ как будто бы не хочет свободной жизни? Эта тайна связана с особенным соотношением женственного и мужественного начала в русском народном характере. Та же антиномичность проходит через все русское бытие.
Таинственное противоречие есть в отношении России и русского сознания к национальности. Это – вторая антиномия, не меньшая по значению, чем отношение к государству. Россия – самая не шовинистическая страна в мире. Национализм у нас всегда производит впечатление чего-то нерусского, наносного, какой-то неметчины. Немцы, англичане, французы – шовинисты и националисты в массе, они полны национальной самоуверенности и самодовольства. Русские почти стыдятся того, что они русские; им чужда национальная гордость и часто даже – увы! – чуждо национальное достоинство. Русскому народу совсем не свойственен агрессивный национализм, наклонности насильственной русификации. Русский не выдвигается, не выставляется, не презирает других. В русской стихии поистине есть какое-то национальное бескорыстие, жертвенность, неведомая западным народам. Русская интеллигенция всегда с отвращением относилась к национализму и гнушалась им, как нечистью. Она исповедовала исключительно сверхнациональные идеалы. И как ни поверхностны, как ни банальны были космополитические доктрины интеллигенции, в них все-таки хоть искаженно, но отражался сверхнациональный, всечеловеческий дух русского народа. Интеллигенты-отщепенцы в известном смысле были более национальны, чем наши буржуазные националисты, по выражению лица своего похожие на буржуазных националистов всех стран. Человек иного, не интеллигентского духа – национальный гений Лев Толстой – был поистине русским в своей религиозной жажде преодолеть всякую национальную ограниченность, всякую тяжесть национальной плоти. И славянофилы не были националистами в обычном смысле этого слова. Они хотели верить, что в русском народе живет всечеловеческий христианский дух, и они возносили русский народ за его смирение. Достоевский прямо провозгласил, что русский человек – всечеловек, что дух России – вселенский дух, и миссию России он понимал не так, как ее понимают националисты. Национализм новейшей формации есть несомненная европеизация России, консервативное западничество на русской почве. И Катков, идеолог национализма, был западником, никогда не был выразителем русского народного духа. Катков был апологетом и рабом какой-то чуждой государственности, какого-то «отвлеченного начала». Сверхнационализм, универсализм – такое же существенное свойство русского национального духа, как и безгосударственность, анархизм. Национален в России именно ее сверхнационализм, ее свобода от национализма; в этом самобытна Россия и не похожа ни на одну страну мира. Россия призвана быть освободительницей народов. Эта миссия заложена в ее особенном духе. И справедливость мировых задач России предопределена уже духовными силами истории. Эта миссия России выявляется в нынешнюю войну. Россия не имеет корыстных стремлений.
Таков один тезис о России, который с правом можно было высказать. Но есть и антитезис, который не менее обоснован. Россия – самая националистическая страна в мире, страна невиданных эксцессов национализма, угнетения подвластных национальностей русификацией, страна национального бахвальства, страна, в которой все национализировано вплоть до вселенской церкви Христовой, страна, почитающая себя единственной призванной и отвергающая всю Европу, как гниль и исчадие дьявола, обреченное на гибель. Обратной стороной русского смирения является необычайное русское самомнение. Самый смиренный и есть самый великий, самый могущественный, единственный призванный. «Русское» и есть праведное, доброе, истинное, божественное. Россия – «святая Русь». Россия грешна, но и в грехе своем она остается святой страной – страной святых, живущей идеалами святости. Вл. Соловьев смеялся над уверенностью русского национального самомнения в том, что все святые говорили по-русски. Тот же Достоевский, который проповедовал всечеловека и призывал к вселенскому духу, проповедовал и самый изуверский национализм, травил поляков и евреев, отрицал за Западом всякие права быть христианским миром. Русское национальное самомнение всегда выражается в том, что Россия почитает себя не только самой христианской, но и единственной христианской страной в мире. Католичество совсем не признается христианством. И в этом всегда был один из духовных источников ложного отношения к польскому вопросу. Россия, по духу своему призванная быть освободительницей народов, слишком часто бывала угнетательницей, и потому она вызывает к себе вражду и подозрительность, которые мы теперь должны еще победить.
Русская история явила совершенно исключительное зрелище – полнейшую национализацию церкви Христовой, которая определяет себя, как вселенскую. Церковный национализм – характерное русское явление. Им насквозь пропитано наше старообрядчество. Но тот же национализм царит и в господствующей церкви. Тот же национализм проникает и в славянофильскую идеологию, которая всегда подменяла вселенское русским. Вселенский дух Христов, мужественный вселенский логос пленен женственной национальной стихией, русской землей в ее языческой первородности. Так образовалась религия растворения в матери-земле, в коллективной национальной стихии, в животной теплоте. Русская религиозность – женственная религиозность – религиозность коллективной биологической теплоты, переживаемой, как теплота мистическая. В ней слабо развито личное религиозное начало; она боится выхода из коллективного тепла в холод и огонь личной религиозности. Такая религиозность отказывается от мужественного, активного духовного пути. Это не столько религия Христа, сколько религия Богородицы, религия матери-земли, женского божества, освещающего плотский быт. В. В. Розанов в своем роде гениальный выразитель этой русской религии родовой плоти, религии размножения и уюта. Мать-земля для русского народа есть Россия. Россия превращается в Богородицу. Россия – страна богоносная. Такая женственная, национально-стихийная религиозность должна возлагаться на мужей, которые берут на себя бремя духовной активности, несут крест, духовно водительствуют. И русский народ в своей религиозной жизни возлагается на святых, на старцев, на мужей, в отношении к которым подобает лишь преклонение, как перед иконой. Русский народ не дерзает даже думать, что святым можно подражать, что святость есть внутренний путь духа, – это было бы слишком мужественно-дерзновенно. Русский народ хочет не столько святости, сколько преклонения и благоговения перед святостью, подобно тому как он хочет не власти, а отдания себя власти, перенесения на власть всего бремени. Русский народ в массе своей ленив в религиозном восхождении, его религиозность равнинная, а не горная; коллективное смирение дается ему легче, чем религиозный закал личности, чем жертва теплом и уютом национальной стихийной жизни. За смирение свое получает русский народ в награду этот уют и тепло коллективной жизни. Такова народная почва национализации церкви в России. В этом есть огромная примесь религиозного натурализма, предшествующего христианской религии духа, религии личности и свободы. Сама христианская любовь, которая существенно духовна и противоположна связям по плоти и крови, натурализировалась в этой религиозности, обратилась в любовь к «своему» человеку. Так крепнет религия плоти, а не духа, так охраняется твердыня религиозного материализма. На необъятной русской равнине возвышаются церкви, подымаются святые и старцы, но почва равнины еще натуралистическая, быт еще языческий.
Большое дело, совершенное Владимиром Соловьевым для русского сознания, нужно видеть прежде всего в его беспощадной критике церковного национализма, в его вечном призыве к вселенскому духу Христову, к освобождению Христова духа из плена у национальной стихии, стихии натуралистической. В реакции против церковного национализма Вл. Соловьев слишком склонялся к католичеству, но великая правда его основных стремлений и мотивов несомненна и будет еще признана Россией. Вл. Соловьев есть истинное противоядие против националистического антитезиса русского бытия. Его христианская правда в решении вопроса польского и еврейского всегда должна быть противопоставляема неправде Достоевского. Церковный национализм приводил к государственному порабощению церкви. Церковь, которая есть духовный, мистический организм, пассивно отдавалась синодальной власти немецкого образца. Загадочная антиномичность России в отношении к национальности связана все с тем же неверным соотношением мужественного и женственного начала, с неразвитостью и нераскрытостью личности, во Христе рожденной и призванной быть женихом своей земли, светоносным мужем женственной национальной стихии, а не рабом ее.
Ту же загадочную антиномичность можно проследить в России во всем. Можно установить неисчислимое количество тезисов и антитезисов о русском национальном характере, вскрыть много противоречий в русской душе. Россия – страна безграничной свободы духа, страна странничества и искания Божьей правды. Россия – самая не буржуазная страна в мире; в ней нет того крепкого мещанства, которое так отталкивает и отвращает русских на Западе. Достоевский, по которому можно изучать душу России, в своей потрясающей легенде о Великом Инквизиторе был провозвестником такой дерзновенной и бесконечной свободы во Христе, какой никто еще в мире не решался утверждать. Утверждение свободы духа, как чего-то характерно-русского, всегда было существенной особенностью славянофильства. Славянофилы и Достоевский всегда противополагали внутреннюю свободу русского народа, его органическую, религиозную свободу, которую он не уступит ни за какие блага мира, внутренней несвободе западных народов, их порабощенности внешним. В русском народе поистине есть свобода духа, которая дается лишь тому, кто не слишком поглощен жаждой земной прибыли и земного благоустройства. Россия – страна бытовой свободы, неведомой передовым народам Запада, закрепощенным мещанскими нормами. Только в России нет давящей власти буржуазных условностей, нет деспотизма мещанской семьи. Русский человек с большой легкостью духа преодолевает всякую буржуазность, уходит от всякого быта, от всякой нормированной жизни. Тип странника так характерен для России и так прекрасен. Странник – самый свободный человек на земле. Он ходит по земле, но стихия его воздушная, он не врос в землю, в нем нет приземистости. Странник – свободен от «мира», и вся тяжесть земли и земной жизни свелась для него к небольшой котомке на плечах. Величие русского народа и призванность его к высшей жизни сосредоточены в типе странника. Русский тип странника нашел себе выражение не только в народной жизни, но и в жизни культурной, в жизни лучшей части интеллигенции. И здесь мы знаем странников, свободных духом, ни к чему не прикрепленных, вечных путников, ищущих невидимого града. Повесть о них можно прочесть в великой русской литературе. Странников в культурной, интеллигентной жизни называют то скитальцами русской земли, то отщепенцами. Есть они уже у Пушкина и Лермонтова, потом у Толстого и Достоевского. Духовные странники все эти Раскольниковы, Мышкины, Ставрогины, Версиловы и князь Андрей и Пьер Безухов. Странники града своего не имеют, они града грядущего ищут. Вл. Соловьев всегда чувствовал себя не обывателем и мещанином этой земли, а лишь пришельцем и странником, не имеющим своего дома. Таков был Сковорода – странник-мудрец из народа в XVIII веке. Духовное странствование есть в Лермонтове, в Гоголе, есть в Л. Толстом и Достоевском, а на другом конце – у русских анархистов и революционеров, стремящихся по-своему к абсолютному, выходящему за грани всякой позитивной и зримой жизни. То же есть и в русском сектантстве, в мистической народной жажде, в этом исступленном желании, чтобы «накатил Дух». Россия – фантастическая страна духовного опьянения, страна хлыстов, самосожигателей, духоборов, страна Кондратия Селиванова и Григория Распутина, страна самозванцев и пугачевщины. Русской душе не сидится на месте, это не мещанская душа, не местная душа. В России, в душе народной есть какое-то бесконечное искание, искание невидимого града Китежа, незримого дома. Перед русской душой открываются дали, и нет очерченного горизонта перед духовными ее очами. Русская душа сгорает в пламенном искании правды, абсолютной, божественной правды и спасения для всего мира и всеобщего воскресения к новой жизни. Она вечно печалуется о горе и страдании народа и всего мира, и мука ее не знает утоления. Душа эта поглощена решением конечных, проклятых вопросов о смысле жизни. Есть мятежность, непокорность в русской душе, неутолимость и неудовлетворимость ничем временным, относительным и условным. Все дальше и дальше должно идти, к концу, к пределу, к выходу из этого «мира», из этой земли, из всего местного, мещанского, прикрепленного. Не раз уже указывали на то, что сам русский атеизм религиозен. Героически настроенная интеллигенция шла на смерть во имя материалистических идей. Это странное противоречие будет понято, если увидеть, что под материалистическим обличьем она стремилась к абсолютному. Славянский бунт – пламенная, огненная стихия, неведомая другим расам. И Бакунин в своей пламенной жажде мирового пожара, в котором все старое должно сгореть, был русским, славянином, был мессианистом. Таков один из тезисов о душе России. Русская народная жизнь с ее мистическими сектами, и русская литература, и русская мысль, и жуткая судьба русских писателей, и судьба русской интеллигенции, оторвавшейся от почвы и в то же время столь характерно национальной, все, все дает нам право утверждать тот тезис, что Россия – страна бесконечной свободы и духовных далей, страна странников, скитальцев и искателей, страна мятежная и жуткая в своей стихийности, в своем народном дионисизме, не желающем знать формы.
А вот и антитезис. Россия – страна неслыханного сервилизма и жуткой покорности, страна, лишенная сознания прав личности и не защищающая достоинства личности, страна инертного консерватизма, порабощения религиозной жизни государством, страна крепкого быта и тяжелой плоти. Россия – страна купцов, погруженных в тяжелую плоть, стяжателей, консервативных до неподвижности, страна чиновников, никогда не переступающих пределов замкнутого и мертвого бюрократического царства, страна крестьян, ничего не желающих, кроме земли, и принимающих христианство совершенно внешне и корыстно, страна духовенства, погруженного в материальный быт, страна обрядоверия, страна интеллигентщины, инертной и консервативной в своей мысли, зараженной самыми поверхностными материалистическими идеями. Россия не любит красоты, боится красоты, как роскоши, не хочет никакой избыточности. Россию почти невозможно сдвинуть с места, так она отяжелела, так инертна, так ленива, так погружена в материю, так покорно мирится со своей жизнью. Все наши сословия, наши почвенные слои: дворянство, купечество, крестьянство, духовенство, чиновничество, – все не хотят и не любят восхождения; все предпочитают оставаться в низинах, на равнине, быть «как все». Везде личность подавлена в органическом коллективе. Почвенные слои наши лишены правосознания и даже достоинства, не хотят самодеятельности и активности, всегда полагаются на то, что другие все за них сделают. И наш политический революционизм как-то несвободен, бесплоден и инертен мыслью. Русская радикально-демократическая интеллигенция, как слой кристаллизованный, духовно консервативна и чужда истинной свободе; она захвачена скорее идеей механического равенства, чем свободы. Иным кажется, что Россия обречена на рабство и что нет выхода для нее к свободной жизни. Можно подумать, что личность не проснулась еще не только в России консервативной, но и в России революционной, что Россия все еще остается страной безличного коллектива. Но необходимо понять, что исконный русский коллективизм есть лишь преходящее явление первоначальной стадии натуральной эволюции, а не вечное явление духа.
Как понять эту загадочную противоречивость России, эту одинаковую верность взаимоисключающих о ней тезисов? И здесь, как и везде, в вопросе о свободе и рабстве души России, о ее странничестве и ее неподвижности, мы сталкиваемся с тайной соотношения мужественного и женственного. Корень этих глубоких противоречий – в несоединенности мужественного и женственного в русском духе и русском характере. Безграничная свобода оборачивается безграничным рабством, вечное странничество – вечным застоем, потому что мужественная свобода не овладевает женственной национальной стихией в России изнутри, из глубины. Мужественное начало всегда ожидается извне, личное начало не раскрывается в самом русском народе. Отсюда вечная зависимость от инородного. В терминах философских это значит, что Россия всегда чувствует мужественное начало себе трансцендентным, а не имманентным, привходящим извне. С этим связано то, что все мужественное, освобождающее и оформляющее было в России как бы не русским, заграничным, западноевропейским, французским или немецким или греческим в старину. Россия как бы бессильна сама себя оформить в бытие свободное, бессильна образовать из себя личность. Возвращение к собственной почве, к своей национальной стихии так легко принимает в России характер порабощенности, приводит к бездвижности, обращается в реакцию. Россия невестится, ждет жениха, который должен прийти из какой-то выси, но приходит не суженый, а немец-чиновник и владеет ею. В жизни духа владеют ею: то Маркс, то Кант, то Штейнер, то иной какой-нибудь иностранный муж. Россия, столь своеобразная, столь необычайного духа страна, постоянно находилась в сервилистическом отношении к Западной Европе. Она не училась у Европы, что нужно и хорошо, не приобщалась к европейской культуре, что для нее спасительно, а рабски подчинялась Западу или в дикой националистической реакции громила Запад, отрицала культуру. Бог Аполлон, бог мужественной формы, все не сходил в дионисическую Россию. Русский дионисизм – варварский, а не эллинский. И в других странах можно найти все противоположности, но только в России тезис оборачивается антитезисом, бюрократическая государственность рождается из анархизма, рабство рождается из свободы, крайний национализм из сверхнационализма. Из этого безвыходного круга есть только один выход: раскрытие внутри самой России, в ее духовной глубине мужественного, личного, оформляющего начала, овладение собственной национальной стихией, имманентное пробуждение мужественного, светоносного сознания. И я хочу верить, что нынешняя мировая война выведет Россию из этого безвыходного круга, пробудит в ней мужественный дух, покажет миру мужественный лик России, установит внутренне должное отношение европейского Востока и европейского Запада.
II
Ныне разразилась, наконец, давно жданная мировая борьба славянской и германской расы. Давно уже германизм проникал в недра России, незаметно германизировал русскую государственность и русскую культуру, управлял телом и душой России. Ныне германизм открыто идет войной на славянский мир. Германская раса – мужественная, самоуверенно и ограниченно мужественная. Германский мир чувствует женственность славянской расы и думает, что он должен владеть этой расой и ее землей, что только он силен сделать эту землю культурной. Давно уже германизм подсылал своих свах, имел своих агентов и чувствовал Россию предназначенной себе. Весь петербургский период русской истории стоял под знаком внутреннего и внешнего влияния немцев. Русский народ почти уже готов был примириться с тем, что управлять им и цивилизовать его могут только немцы. И нужна была совершенно исключительная мировая катастрофа, нужно было сумасшествие германизма от гордости и самомнения, чтобы Россия осознала себя, стряхнула с себя пассивность, разбудила в себе мужественные силы и почувствовала себя призванной к великим делам в мире. В мировой борьбе с германской расой нельзя противопоставить ей одну женственность и покорность славян. Нужно раскрыть в себе мужественный лик под угрозой поглощения германизмом. Война мира славянского и мира германского не есть только столкновение вооруженных сил на полях битвы; она глубже, это – духовная война, борьба за господство разного духа в мире, столкновение и переплетение восточного и западного христианского мира. В этой великой, поистине мировой брани Россия не может не осознать себя. Но самосознание ее должно быть и ее самоочищением. Самосознание предполагает самокритику и самообличение. Никогда бахвальство не было самосознанием, оно может быть лишь полным затмением. Блестящий пример полной утери истинного самосознания и полной тьмы от бахвальства и самомнения являет ныне Германия. Мужественное, светоносное сознание народа – всегда критическое, всегда освобождающее от собственной тьмы и порабощенности, всегда есть овладение хаотическими в себе стихиями. И самосознание России должно быть прежде всего освобожденным от подвластности и порабощенности у собственной национальной стихии. А это значит, что русский народ в отношении к своей русской земле должен быть мужествен и светоносен, должен владеть землей и оформлять ее хаотические стихии, а не растворяться в ней, не пассивно ей отдаваться. Это значит также, что человеческое призвано господствовать над природным, а не природное над человеческим. Россия жила слишком природной, недостаточно человеческой жизнью, слишком родовой, недостаточно личной жизнью. Личное человеческое начало все еще не овладевало безличными природными стихиями земли. Эту свою исконную родовую биологию Россия переживала как исконную свою коллективную мистику и в лице иных своих идеологов видела в этом свое преимущество перед Западной Европой. Россия в массе своей исповедовала религию родовой плоти, а не религию духа, смешивала родовой, природный коллективизм с коллективизмом духовным, сверхприродным. Но таинственная страна противоречий, Россия таила в себе пророческий дух и предчувствие новой жизни и новых откровений.
В этот решительный для русского сознания час необходимо ясно и мужественно сознать подстерегающие нас опасности. Война может принести России великие блага, не материальные только, но и духовные блага. Она пробуждает глубокое чувство народного, национального единства, преодолевает внутренний раздор и вражду, мелкие счеты партий, выявляет лик России, кует мужественный дух. Война изобличает ложь жизни, сбрасывает покровы, свергает фальшивые святыни. Она – великая проявительница. Но она несет с собой и опасности. Россия может попасть в плен ложного национализма и истинно немецкого шовинизма. Она может плениться идеалами мирового господства не русского по духу, чуждого славянской расе. Война несет с собой опасность огрубения. И всего более должна быть Россия свободна от ненависти к Германии, от порабощающих чувств злобы и мести, от того отрицания ценного в духовной культуре врага, которое есть лишь другая форма рабства. Хочется верить, что всего этого не будет, но нехорошо закрывать себе глаза на эти возможности. В русской национальной стихии есть какая-то вечная опасность быть в плену, быть покорной тому, что вне ее. И истинным возрождением России может быть лишь радикальное освобождение от всякого плена, от всякой подавленности и порабощенности внешнему, внеположному, инородному, т. е. раскрытие в себе внутренней мужественности, внутреннего света, духа царственного и творящего. Война должна освободить нас, русских, от рабского и подчиненного отношения к Германии, от нездорового, надрывного отношения к Западной Европе, как к чему-то далекому и внешнему, предмету то страстной влюбленности и мечты, то погромной ненависти и страха. Западная Европа и западная культура станет для России имманентной; Россия станет окончательно Европой, и именно тогда она будет духовно самобытной и духовно независимой. Европа перестанет быть монополистом культуры. Мировая война, в кровавый круговорот которой вовлечены уже все части света и все расы, должна в кровавых муках родить твердое сознание всечеловеческого единства. Культура перестанет быть столь исключительно европейской и станет мировой, универсальной. И Россия, занимающая место посредника между Востоком и Западом, являющаяся Востоко-Западом, призвана сыграть великую роль в приведении человечества к единству. Мировая война жизненно подводит нас к проблеме русского мессианизма.
Мессианское сознание не есть националистическое сознание; оно глубоко противоположно национализму; это – универсальное сознание. Мессианское сознание имеет свои корни в религиозном сознании еврейского народа, в переживании Израилем своей богоизбранности и единственности. Мессианское сознание есть сознание избранного народа Божьего, народа, в котором должен явиться Мессия и через который должен быть мир спасен. Богоизбранный народ – мессия среди народов, единственный народ с мессианским призванием и предназначением. Все другие народы – низшие народы, не избранные, народы с обыкновенной, не мистической судьбой. Все народы имеют свое призвание, свое назначение в мире, – но только один народ может быть избран для мессианской цели. Народ мессианского сознания и назначения также один, как один Мессия. Мессианское сознание – мировое и сверхнациональное. В этом есть аналогия с идеей римской империи, которая также универсальна и сверхнациональна, как и древнееврейский мессианизм. Это всемирное по своим притязаниям мессианское сознание евреев было оправдано тем, что Мессия явился в недрах этого народа, хотя и был отвергнут им. Но, после явления Христа, мессианизм в древнееврейском смысле становится уже невозможным для христианского мира. Для христианина нет ни эллина, ни иудея. Одного избранного народа Божьего не может быть в христианском мире. Христос пришел для всех народов, и все народы имеют перед судом христианского сознания свою судьбу и свой удел. Христианство не допускает народной исключительности и народной гордости, осуждает то сознание, по которому мой народ выше всех народов и единственный религиозный народ. Христианство есть окончательное утверждение единства человечества, духа всечеловечности и всемирности. И это было вполне осознано католичеством, хотя и скреплено с относительными телесно-историческими явлениями (папизм). Мессианское сознание есть сознание пророческое, мессианское самочувствие – пророческое самочувствие. В нем – соль религиозной жизни, и соль эта получена от еврейского народа. Это пророческое мессианское сознание не исчезает в христианском мире, но претворяется и преображается. И в христианском мире возможен пророческий мессианизм, сознание исключительного религиозного призвания какого-нибудь народа, возможна вера, что через этот народ будет сказано миру слово нового откровения. Но христианский мессианизм должен быть очищен от всего не христианского, от национальной гордости и самомнения, от сбивания на путь старого еврейского мессианизма, с одной стороны, и нового исключительного национализма – с другой. Христианское мессианское сознание не может быть утверждением того, что один лишь русский народ имеет великое религиозное призвание, что он один – христианский народ, что он один избран для христианской судьбы и христианского удела, а все остальные народы – низшие, не христианские и лишены религиозного призвания. В таком самомнении нет ничего христианского. Ничего христианского не было в вечном припеве славянофилов о гниении Запада и отсутствии у него христианской жизни. Такая юдаизация христианства возвращает нас от Нового Завета к Ветхому Завету. Юдаизм в христианстве есть подстерегающая опасность, от которой нужно очищаться. А всякий исключительный религиозный национализм, всякое религиозно-национальное самомнение есть юдаизм в христианстве. Крайняя национализация церкви и есть юдаизм внутри христианства. И в русском христианстве есть много юдаистических элементов, много ветхозаветного.
Христианское мессианское сознание может быть лишь сознанием того, что в наступающую мировую эпоху Россия призвана сказать свое новое слово миру, как сказал его уже мир латинский и мир германский. Славянская раса, во главе которой стоит Россия, должна раскрыть свои духовные потенции, выявить свой пророчественный дух. Славянская раса идет на смену другим расам, уже сыгравшим свою роль, уже склоняющимся к упадку; это – раса будущего. Все великие народы проходят через мессианское сознание. Это совпадает с периодами особенного духовного подъема, когда судьбами истории данный народ призывается совершить что-либо великое и новое для мира. Такое мессианское сознание было в Германии в начале XIX века. А ныне мы присутствуем при конце германского мессианизма, при полном исчерпании его духовных сил. В христианской истории нет одного избранного народа Божьего, но разные народы в разное время избираются для великой миссии, для откровений духа. В России давно уже нарождалось пророческое чувствование того, что настанет час истории, когда она будет призвана для великих откровений духа, когда центр мировой духовной жизни будет в ней. Это не еврейский мессианизм. Такое пророческое чувствование не исключает великого избрания и предназначения других народов; оно есть лишь продолжение и восполнение дел, сотворенных всеми народами христианского мира. Это русское мессианское сознание было замутнено, пленено языческой национальной стихией и искажено пережитками сознания юдаистического. Русское сознание должно очиститься и освободиться от этого языческого и юдаистического плена. А это значит, что русская мысль и русская жизнь должны быть радикально освобождены от мертвенных и мертвящих сторон славянофильства, не только официального, но и народного. В славянофильстве была своя правда, которую всегда хорошо было противопоставлять западничеству. Она сохранится. Но много было фальши и лжи, много рабства у материального быта, много «возвышающих обманов» и идеализаций, задерживающих жизнь духа.
Россия не может определять себя как Восток и противополагать себя Западу. Россия должна сознавать себя и Западом, Востоко-Западом, соединителем двух миров, а не разделителем. Владимир Соловьев духовно покончил со старым славянофильством, с его ложным национализмом и исключительным восточничеством. И после дела Вл. Соловьева христианский универсализм должен считаться окончательно утвержденным в сознании. Всякий партикуляризм по существу не христианской природы. Исключительное господство восточной стихии в России всегда было рабством у женственного природного начала и кончалось царством хаоса, то реакционного, то революционного. Россия, как самоутверждающийся Восток, Россия национально самодовольная и исключительная – означает нераскрытость, невыявленность начала мужественного, человеческого и личного рабства у начала природно-стихийного, национально родового, традиционно-бытового. В сознании религиозном это означает абсолютизацию и обожествление телесно-относительного, довольство животной теплотой национальной плоти. В этом – вечный соблазн и великая опасность России. Женственность славян делает их мистически чуткими, способными прислушиваться к внутренним голосам. Но исключительное господство женственной стихии мешает им выполнить свое призвание в мире. Для русского мессианизма нужен мужественный дух, без него опять и опять будет провал в эту пленительную и затягивающую первородную стихию русской земли, которая ждет своего просветления и оформления. Но конец славянофильства есть также конец и западничества, конец самого противоположения Востока и Запада. И в западничестве был партикуляризм и провинциализм, не было вселенского духа. Западничество означало какое-то нездоровое и немужественное отношение к Западу, какую-то несвободу и бессилие почувствовать себя действенной силой и для самого Запада. Русское самосознание не может быть ни славянофильским, ни западническим, так как обе эти формы означают несовершеннолетие русского народа, его незрелость для жизни мировой, для мировой роли. На Западе не может быть западничества, там невозможна эта мечта о Западе, как о каком-то высшем состоянии. Высшее состояние не есть Запад, как не есть и Восток; оно не географично и материально ничем не ограничено. Мировая война должна преодолеть существование России, как исключительного Востока, и Европы, как исключительного Запада. Человечество выйдет из этих ограничений. Россия выйдет в мировую жизнь определяющей силой. Но мировая роль России предполагает пробуждение в ней творческой активности человека, выход из состояния пассивности и растворенности. Уже в Достоевском, вечно двоящемся, есть пророчество об откровении человека, об исключительном по остроте антропологическом сознании. Истинный русский мессианизм предполагает освобождение религиозной жизни, жизни духа от исключительной закрепощенности у начал национальных и государственных, от всякой прикованности к материальному быту. Россия должна пройти через религиозную эмансипацию личности. Русский мессианизм опирается прежде всего на русское странничество, скитальчество и искание, на русскую мятежность и неутолимость духа, на Россию пророческую, на русских – града своего не имеющих, града грядущего взыскующих. Русский мессианизм не может быть связан с Россией бытовой, инертно-косной, Россией, отяжелевшей в своей национальной плоти, с Россией, охраняющей обрядоверие, с русскими – довольными своим градом, градом языческим, и страшащимися града грядущего.
Все своеобразие славянской и русской мистики – в искании града Божьего, града грядущего, в ожидании сошествия на землю Небесного Иерусалима, в жажде всеобщего спасения и всеобщего блага, в апокалиптической настроенности. Эти апокалиптические, пророчественные ожидания находятся в противоречии с тем чувством, что русские уже град свой имеют и что град этот – «святая Русь». А на этом бытовом и удовлетворенном чувстве основывалось в значительной степени славянофильство и основывается вся наша правая религиозно-национальная идеология. Религия священства – охранения того, что есть, сталкивается в духе России с религией пророчества – взыскания грядущей правды. Здесь одно из коренных противоречий России. И если можно многое привести в защиту того тезиса, что Россия – страна охранения религиозной святыни по преимуществу и в этом ее религиозная миссия, то не меньше можно привести в защиту того антитезиса, что Россия по преимуществу страна религиозного алкания, духовной жажды, пророческих предчувствий и ожиданий. В лице Достоевского воплощена эта религиозная антиномия России. У него два лика: один обращен к охранению, к закрепощению национально-религиозного быта, выдаваемого за подлинное бытие, – образ духовной сытости, а другой лик – пророческий, обращенный к граду грядущему, – образ духовного голода. Противоречие и противоборство духовной сытости и духовного голода – основное для России, и из него объяснимы многие другие противоречия России. Духовная сытость дается пассивной отдачей себя женственной национальной стихии. Это не есть еще насыщение Божественной пищей, это все еще натуралистическое насыщение. Духовный голод, неудовлетворенность натуралистической национальной пищей, есть знак освобождения мужественного начала личности. То же противоречие, которое мы видим в национальном гении Достоевского, видим мы и в русской народной жизни, в которой всегда видны два образа. Духовная сытость, охранение старого, бытовое и внешне-обрядовое понимание христианства – один образ народной религиозной жизни. Духовный голод, пророческие предчувствия, мистическая углубленность на вершинах православия в иных сторонах нашего сектантства и раскола, в странничестве – другой образ народной религиозной жизни. Русская мистика, русский мессианизм связаны со вторым образом России, с ее духовным голодом и жаждой божественной правды на земле, как и на небе. Апокалиптическая настроенность глубоко отличает русскую мистику от мистики германской, которая есть лишь погружение в глубину духа и которая никогда не была устремлением к Божьему граду, к концу, к преображению мира. Но русская апокалиптическая настроенность имеет сильный уклон к пассивности, к выжидательности, к женственности. В этом сказывается характерная особенность русского духа. Пророчественная русская душа чувствует себя пронизанной мистическими токами. В народной жизни это принимает форму ужаса от ожидания антихриста. В последнее время эти подлинные народные религиозные переживания проникли и в наши культурные религиозно-философские течения, но уже в отраженной и слишком стилизованной, искусственной форме. Образовался даже эстетический культ религиозных ужасов и страхов, как верный признак мистической настроенности. И в этом опять нет того мужественного, активного и творящего духа, который всего более нужен России для выполнения мировой задачи, к которой она призвана. Россия пророческая должна перейти от ожидания к созиданию, от жуткого ужаса к духовному дерзновению. Слишком ясно, что Россия не призвана к благополучию, к телесному и духовному благоустройству, к закреплению старой плоти мира. В ней нет дара создания средней культуры, и этим она действительно глубоко отличается от стран Запада, отличается не только по отсталости своей, а по духу своему.
Здесь тайна русского духа. Дух этот устремлен к последнему и окончательному, к абсолютному во всем; к абсолютной свободе и к абсолютной любви. Но в природно-историческом процессе царит относительное и среднее. И потому русская жажда абсолютной свободы на практике слишком часто приводит к рабству в относительном и среднем и русская жажда абсолютной любви – к вражде и ненависти[2]. Для русских характерно какое-то бессилие, какая-то бездарность во всем относительном и среднем. А история культуры и общественности вся ведь в среднем и относительном; она не абсолютна и не конечна. Так как царство Божие есть царство абсолютного и конечного, то русские легко отдают все относительное и среднее во власть царства дьявола. Черта эта очень национально-русская. Добыть себе относительную общественную свободу русским трудно не потому только, что в русской природе есть пассивность и подавленность, но и потому, что русский дух жаждет абсолютной Божественной свободы. Поэтому же трудно русским создавать относительную культуру, которая всегда есть дело предпоследнее, а не последнее. Русские постоянно находятся в рабстве в среднем и в относительном и оправдывают это тем, что в окончательном и абсолютном они свободны. Тут скрыт один из глубочайших мотивов славянофильства. Славянофилы хотели оставить русскому народу свободу религиозной совести, свободу думы, свободу духа, а всю остальную жизнь отдать во власть силы, неограниченно управляющей русским народом. Достоевский в легенде о «Великом Инквизиторе» провозгласил неслыханную свободу духа, абсолютную религиозную свободу во Христе. И Достоевский же готов был не только покорно мириться, но и защищать общественное рабство. По-иному, но та же русская черта сказалась и у наших революционеров-максималистов, требующих абсолютного во всякой относительной общественности и не способных создать свободной общественности. Тут мы с новой стороны подходим к основным противоречиям России. Это все та же разобщенность мужественного и женственного начала в недрах русской стихии и русского духа. Русский дух, устремленный к абсолютному во всем, не овладевает мужественно сферой относительного и серединного, он отдается во власть внешних сил. Так в серединной культуре он всегда готов отдаться во власть германизма, германской философии и науки. То же и в государственности, по существу серединной и относительной. Русский дух хочет священного государства в абсолютном и готов мириться с звериным государством в относительном. Он хочет святости в жизни абсолютной, и только святость его пленяет, и он же готов мириться с грязью и низостью в жизни относительной. Поэтому святая Русь имела всегда обратной своей стороной Русь звериную. Россия как бы всегда хотела лишь ангельского и зверского и недостаточно раскрывала в себе человеческое. Ангельская святость и зверская низость – вот вечные колебания русского народа, неведомые более средним западным народам. Русский человек упоен святостью, и он же упоен грехом, низостью. Смиренная греховность, не дерзающая слишком подыматься, так характерна для русской религиозности. В этом чувствуется упоение от погружения в теплую национальную плоть, в низинную земляную стихию. Так и само пророческое мессианское в русском духе, его жажда абсолютного, жажда преображения, оборачивается какой-то порабощенностью. Я пытался характеризовать все противоречия России и свести их к единству. Это путь к самосознанию, к осознанию того, что нужно России для раскрытия ее великих духовных потенций, для осуществления ее мировых задач.
Как человек должен относиться к земле своей, русский человек к русской земле? Вот наша проблема. Образ родной земли не есть только образ матери, это также образ невесты и жены, которую человек оплодотворяет своим логосом, своим мужественным светоносным и оформляющим началом, и образ дитяти. Прежде всего человек должен любить свою землю, любить во всех ее противоречиях, с ее грехами и недостатками. Без любви к своей земле человек бессилен что-нибудь сотворить, бессилен овладеть землей. Без стихии земли мужественный дух бессилен. Но любовь человека к земле не есть рабство человека у земли, не есть пассивное в нее погружение и растворение в ее стихии. Любовь человека к земле должна быть мужественной. Мужественная любовь есть выход из натуралистической зависимости, из родовой погруженности в стихийный первородный коллективизм. В России все еще слишком господствует не только натуральное хозяйство в ее материальной жизни, но и натуральное хозяйство в ее духовной жизни. Из этого периода натурального хозяйства в муках выходит русский народ, и процесс этот болезнен и мучителен. Русское отщепенство и скитальчество связано с этим отрыванием от родовой натуралистической зависимости, принятой за высшее состояние. Отрыв этот не есть отрыв от родной земли. И русские отщепенцы и скитальцы остаются русскими, характерно национальными. Наша любовь к русской земле, многострадальной и жертвенной, превышает все эпохи, все отношения и все идеологические построения. Душа России – не буржуазная душа, – душа, не склоняющаяся перед золотым тельцом, и уже за одно это можно любить ее бесконечно. Россия дорога и любима в самих своих чудовищных противоречиях, в загадочной своей антиномичности, в своей таинственной стихийности. Это все почувствовали, когда началась война.
Но русская стихия требует оформляющего и светоносящего логоса. Недостаток мужественного характера и того закала личности, который на Западе вырабатывался рыцарством, – самый опасный недостаток русских, и русского народа и русской интеллигенции. Сама любовь русского человека к родной земле принимала форму, препятствующую развитию мужественного личного духа. Во имя этой любви, во имя припадания к лону матери отвергалось в России рыцарское начало. Русский дух был окутан плотным покровом национальной материи, он тонул в теплой и влажной плоти. Русская душевность, столь хорошо всем известная, связана с этой теплотой и влажностью; в ней много еще плоти и недостаточно духа. Но плоть и кровь не наследуют вечности, и вечной может быть лишь Россия духа. Россия духа может быть раскрыта лишь путем мужественной жертвы жизнью в животной теплоте коллективной родовой плоти. Тайна России может быть разгадана лишь освобождением ее от искажающего рабства у темных стихий. В очистительном огне мирового пожара многое сгорит, истлеют ветхие материальные одежды мира и человека. И тогда возрождение России к новой жизни может быть связано лишь с мужественными, активными и творящими путями духа, с раскрытием Христа внутри человека и народа, а не с натуралистической родовой стихией, вечно влекущей и порабощающей. Это – победа огня духа над влагой и теплом душевной плоти. В России в силу религиозного ее характера, всегда устремленного к абсолютному и конечному, человеческое начало не может раскрыться в форме гуманизма, т. е. безрелигиозно. И на Западе гуманизм исчерпал, изжил себя, пришел к кризису, из которого мучительно ищет западное человечество выхода. Повторять с запозданием западный гуманизм Россия не может. В России откровение человека может быть лишь религиозным откровением, лишь раскрытием внутреннего, а не внешнего человека, Христа внутри. Таков абсолютный дух России, в котором все должно идти от внутреннего, а не внешнего. Таково призвание славянства. В него можно только верить, его доказать нельзя. Русский народ нужно более всего призывать к религиозной мужественности не на войне только, но и в жизни мирной, где он должен быть господином своей земли. Мужественность русского народа не будет отвлеченной, оторванной от женственности, как у германцев. Есть тайна особенной судьбы в том, что Россия с ее аскетической душой должна быть великой и могущественной. Не слабой и маленькой, а сильной и большой победит она соблазн царства этого мира. Лишь жертвенность большого и сильного, лишь свободное его уничтожение в этом мире спасает и искупляет. Русское национальное самосознание должно полностью вместить в себя эту антиномию: русский народ по духу своему и по призванию своему сверхгосударственный и сверхнациональный народ, по идее своей не любящий «мира» и того, что в «мире», но ему дано могущественнейшее национальное государство для того, чтобы жертва его и отречение были вольными, были от силы, а не от бессилия. Но антиномия русского бытия должна быть перенесена внутрь русской души, которая станет мужественно-жертвенной, в себе самой изживающей таинственную свою судьбу. Раскрытие мужественного духа в России не может быть прививкой к ней серединной западной культуры. Русская культура может быть лишь конечной, лишь выходом за грани культуры. Мужественный дух потенциально заключен в России пророческой, в русском странничестве и русском искании правды. И внутренне он соединится с женственностью русской земли.
О «вечно бабьем» в русской душе
I
Вышла книга В. В. Розанова «Война 1914 года и русское возрождение». Книга – блестящая и возмущающая. Розанов – сейчас первый русский стилист, писатель с настоящими проблесками гениальности. Есть у Розанова особенная, таинственная жизнь слов, магия словосочетаний, притягивающая чувственность слов. У него нет слов отвлеченных, мертвых, книжных. Все слова – живые, биологические, полнокровные. Чтение Розанова – чувственное наслаждение. Трудно передать своими словами мысли Розанова. Да у него и нет никаких мыслей. Все заключено в органической жизни слов и от них не может быть оторвано. Слова у него не символы мысли, а плоть и кровь. Розанов – необыкновенный художник слова, но в том, что он пишет, нет аполлонического претворения и оформления. В ослепительной жизни слов он дает сырье своей души, без всякого выбора, без всякой обработки. И делает он это с даром единственным и неповторимым. Он презирает всякие «идеи», всякий логос, всякую активность и сопротивляемость духа в отношении к душевному и жизненному процессу. Писательство для него есть биологическое отправление его организма. И он никогда не сопротивляется никаким своим биологическим процессам, он их непосредственно заносит на бумагу, переводит на бумагу жизненный поток. Это делает Розанова совершенно исключительным, небывалым явлением, к которому трудно подойти с обычными критериями. Гениальная физиология розановских писаний поражает своей безыдейностью, беспринципностью, равнодушием к добру и злу, неверностью, полным отсутствием нравственного характера и духовного упора. Все, что писал Розанов, – писатель богатого дара и большого жизненного значения, – есть огромный биологический поток, к которому невозможно приставать с какими-нибудь критериями и оценками.
Розанов – это какая-то первородная биология, переживаемая, как мистика. Розанов не боится противоречий, потому что противоречий не боится биология, их боится лишь логика. Он готов отрицать на следующей странице то, что сказал на предыдущей, и остается в целостности жизненного, а не логического процесса. Розанов не может и не хочет противостоять наплыву и напору жизненных впечатлений, чувственных ощущений. Он совершенно лишен всякой мужественности духа, всякой активной силы сопротивления стихиям ветра, всякой внутренней свободы. Всякое жизненное дуновение и ощущение превращают его в резервуар, принимающий в себя поток, который потом с необычайной быстротой переливается на бумагу. Такой склад природы принуждает Розанова всегда преклоняться перед фактом, силой и историей. Для него сам жизненный поток в своей мощи и есть Бог. Он не мог противостоять потоку националистической реакции 80-х годов, не мог противостоять потоку декадентства в начале XX века, не мог противостоять революционному потоку 1905 г., а потом новому реакционному потоку, напору антисемитизма в эпоху Бейлиса, наконец, не может противостоять могучему потоку войны, подъему героического патриотизма и опасности шовинизма.
Многих пленяет в Розанове то, что в писаниях его, в своеобразной жизни его слов чувствуется как бы сама мать-природа, мать-земля и ее жизненные процессы. Розанова любят потому, что так устали от отвлеченности, книжности, оторванности. В его книгах как бы чувствуют больше жизни. И готовы простить Розанову его чудовищный цинизм, его писательскую низость, его неправду и предательство. Православные христиане, самые нетерпимые и отлучающие, простили Розанову все, забыли, что он много лет хулил Христа, кощунствовал и внушал отвращение к христианской святыне. Розанов все-таки свой человек, близкий биологически, родственник, дядюшка, вечно упоенный православным бытом.
Он, в сущности, всегда любил православие без Христа и всегда оставался верен такому языческому православию, которое ведь много милее и ближе, чем суровый и трагический дух Христов. В Розанове так много характерно-русского, истинно русского. Он – гениальный выразитель какой-то стороны русской природы, русской стихии. Он возможен только в России. Он зародился в воображении Достоевского и даже превзошел своим неправдоподобием все, что представлялось этому гениальному воображению. А ведь воображение Достоевского было чисто русское, и лишь до глубины русское в нем зарождалось. И если отрадно иметь писателя, столь до конца русского, и поучительно видеть в нем обнаружение русской стихии, то и страшно становится за Россию, жутко становится за судьбу России. В самых недрах русского характера обнаруживается вечно бабье, не вечно женственное, а вечно бабье. Розанов – гениальная русская баба, мистическая баба. И это «бабье» чувствуется и в самой России.
II
Книга Розанова о войне заканчивается описанием того потока ощущений, который хлынул в него, когда он однажды шел по улице Петрограда и встретил полк конницы. «Я все робко смотрел на эту нескончаемо идущую вереницу тяжелых всадников, из которых каждый был так огромен сравнительно со мной!.. Малейшая неправильность движения – и я раздавлен… Чувство своей подавленности более и более входило в меня. Я чувствовал себя обвеянным чужою силой, до того огромною, что мое „я“ как бы уносилось пушинкою в вихрь этой огромности и этого множества… Когда я вдруг начал чувствовать, что не только „боюсь“, но и обворожен ими, зачарован странным очарованием, которое только один раз – вот этот – испытал в жизни. Произошло странное явление: преувеличенная мужественность того, что было предо мною, как бы изменила структуру моей организации и отбросила, опрокинула эту организацию – в женскую. Я почувствовал необыкновенную нежность, истому и сонливость во всем существе… Сердце упало во мне – любовью… Мне хотелось бы, чтобы они были еще огромнее, чтобы их было еще больше… Этот колосс физиологии, колосс жизни и должно быть источник жизни – вызвал во мне чисто женственное ощущение безвольности, покорности и ненасытного желания „побыть вблизи“, видеть, не спускать глаз… Определенно – это было начало влюбления „девушки“ (с. 230—232)». И Розанов восклицает: «Сила – вот одна красота в мире… Сила – она покоряет, перед ней падают, ей, наконец, – молятся… Молятся вообще „слабые“ – „мы“, вот „я“ на тротуаре… В силе лежит тайна мира… Огромное сильное… Голова была ясна, а сердце билось… как у женщины. Суть армии, что она всех нас превращает в женщин, слабых, трепещущих, обнимающих воздух…» (с. 233—234). Это замечательное описание дает ощущение прикосновения если не к «тайне мира и истории», как претендует Розанов, то к какой-то тайне русской истории и русской души. Женственность Розанова, так художественно переданная, есть также женственность души русского народа. История образования русской государственности, величайшей в мире государственности, столь непостижимая в жизни безгосударственного русского народа, может быть понята из этой тайны. У русского народа есть государственный дар покорности, смирения личности перед коллективом. Русский народ не чувствует себя мужем, он все невестится, чувствует себя женщиной перед колоссом государственности, его покоряет «сила», он ощущает себя розановским «я на тротуаре» в момент прохождения конницы. Сам Розанов на протяжении всей книги остается этим трепещущим «я на тротуаре». Для Розанова не только суть армии, но и суть государственной власти в том, что она «всех нас превращает в женщин, слабых, трепещущих, обнимающих воздух…». И он хочет показать, что весь русский народ так относится к государственной власти. В книге Розанова есть изумительные, художественные страницы небывалой апологии самодовлеющей силы государственной власти, переходящей в настоящее идолопоклонство. Подобного поклонения государственной силе, как мистическому факту истории, еще не было в русской литературе. И тут вскрывается очень интересное соотношение Розанова со славянофилами.
III
Книга Розанова свидетельствует о возрождении славянофильства. Оказывается, что славянофильство возродила война, и в этом – основной смысл войны. Розанов решительно начинает за здравие славянофильства. И сам он повторяет славянофильские зады, давно уже отвергнутые не «западнической» мыслью, а мыслью, продолжавшей дело славянофилов. После В. Соловьева нет уже возврата к старому славянофильству. Но еще более, чем мыслью, опровергнуты славянофильские зады жизнью. Розанову кажется, что патриотический и национальный подъем, вызванный войною, и есть возрождение славянофильства. Я думаю, что нынешний исторический день совершенно опрокидывает и славянофильские, и западнические платформы и обязывает нас к творчеству нового самосознания и новой жизни. И мучительно видеть, что нас тянут назад, к отживающим формам сознания и жизни. Мировая война, конечно, приведет к преодолению старой постановки вопроса о России и Европе, о Востоке и Западе. Она прекратит внутреннюю распрю славянофилов и западников, упразднив и славянофильство, и западничество, как идеологии провинциальные, с ограниченным горизонтом.
Неужели мировые события, исключительные в мировой истории, ничему нас не научат, не приведут к рождению нового сознания и оставят нас в прежних категориях, из которых мы хотели вырваться до войны? Русское возрождение не может быть возрождением славянофильства, оно будет концом и старого славянофильства и старого западничества, началом новой жизни и нового осознания. Розанова же война вдохновила лишь на повторение в тысячный раз старых слов, потерявших всякий вкус и аромат: вся русская история есть тихая, безбурная; все русское состояние – мирное, безбурное. Русские люди – тихие. В хороших случаях и благоприятной обстановке они неодолимо вырастают в ласковых, приветных, добрых людей. Русские люди – «славные» (с. 51). Но с не меньшим основанием можно было бы утверждать, что русская душа – мятежная, ищущая, душа странническая, взыскующая нового Града, никогда не удовлетворяющаяся ничем средним и относительным. Из этой прославленной и часто фальшиво звучащей «тихости, безбурности и славности» рождается инерция, которая мила вечно бабьему сердцу Розанова, но никогда не рождается новой, лучшей жизни. В розановской стихии есть вечная опасность, вечный соблазн русского народа, источник его бессилия стать народом мужественным, свободным, созревшим для самостоятельной жизни в мире. И ужасно, что не только Розанов, но и другие, призванные быть выразителями нашего национального сознания, тянут нас назад и вниз, отдаются соблазну пассивности, покорности, рабству у национальной стихии, женственной религиозности. Не только вечное, но и слишком временное, старое и устаревшее в славянофильстве хотели бы восстановить С. Булгаков, В. Иванов, В. Эрн. Огромной силе, силе национальной стихии, земли не противостоит мужественный, светоносный и твердый дух, который призван овладеть стихиями. Отсюда рождается опасность шовинизма, бахвальство снаружи и рабье смиренье внутри. И мир внутри России, преодоление вражды и злобы делают невозможным именно Розанов и ему подобные. Эти люди странно понимают взаимное примирение и воссоединение враждующих партий и направлений, так понимают, как понимают католики соединение церквей, т. е. исключительно присоединение к одной стороне, на которой вся полнота истины. Этот старый способ не замирит исторической распри «правого» и «левого» лагеря. Покаяние должно быть взаимным, и амнистия должна быть взаимной, и согласие на самоограничение и жертву должно быть взаимным. Верилось, что война приведет к этому, но пока этого нет, и наши националистические идеологи мешают этому. Розановские настроения служат делу злобы, а не мира.
Начав за здравие славянофилов, Розанов кончает за упокой. Он отдает решительное предпочтение России официальной и государственной перед Россией народной и общественной, и славянофильству официальному перед славянофильством общественным. Славянофилы считали русский народ – народом безгосударственным, и очень многое на этом строили. Розанов, напротив, считает русский народ народом государственным по преимуществу. В государственности Розанова, которая для него самого является неожиданностью, ибо в нем самом всего менее было государственности и гражданственности, – он всегда был певцом частного быта, семейного родового уклада, – чувствуется приспособление к духу времени, бабья неспособность противостоять потоку впечатлений нынешнего дня. Мнение славянофилов о безгосударственности русского народа требует больших корректоров, так как оно слишком не согласуется с русской историей, с фактом создания великого русского государства.
Но способ, которым Розанов утверждает государственность и поклоняется его силе, совсем не государственный, совсем не гражданский, совсем не мужественный. Розановское отношение к государственной власти есть отношение безгосударственного, женственного народа, для которого эта власть есть всегда начало вне его и над ним находящееся, инородное ему. Розанов, как и наши радикалы, безнадежно смешивает государство с правительством и думает, что государство – это всегда «они», а не «мы». Что-то рабье есть в словах Розанова о государственности, какая-то вековая отчужденность от мужественной власти. Это какое-то мление, недостойное народа, призванного к существованию совершеннолетнему, мужественно-зрелому. В своем рабьем и бабьем млении перед силой государственности, импонирующей своей далекостью и чуждостью, Розанов доходит до того, что прославляет официальную правительственную власть за ее гонения против славянофилов. Новый поток впечатлений хлынул на Розанова. Славянофилы, которые в начале книги выражали Россию и русский народ, в конце книги оказываются кучкой литераторов, полных самомнения и оторванных от жизни. Истинным выразителем России и русского народа было официальное правительство, которому славянофилы осмеливались оказывать оппозицию. «Славянофильство умерло, потому что оно оказалось не нужным и напрасным, только мешающим в параллельной мысли тому „официальному правительству“, которое одно и могло сделать… Они (славянофилы) были именно малодушны о Русской истории, твердя, но отвлеченно, о ней, что она святая… Святая Русь им казалась менее умной и менее правдивой, чем их литературная и общественная партия. И вот откуда на них гонение, довольно понятное» (с. 122). Возрождение славянофильства оказывается совсем ненужным. Государственная власть и была истинным славянофильством, рядом с которым жалко и не нужно славянофильство литературное, идеологическое. Славянофильство воскреснет лишь под тем условием, что оно покается перед официальным правительством и пойдет за ним. Идолопоклонство перед фактом, как силой, достигло завершения.
Славянофилы не были способны на такое идолопоклонство и потому были бессильны. «Пятном на славянофильстве было то, что они за официальностью не видели сердца, которое всегда билось. Мундир распахнулся, – и мы увидели сердце, которое всегда болело. И болело по-своему, никому не подражая, болело из себя» (с. 127). «Несчастье, ошибка и порок славянофилов заключался именно в таком воздушном представлении своей якобы воздушной истории, якобы без – материальной истории» (с. 125). Славянофильство оказывается нисколько не лучше западничества, оно – так же отвлеченно, литературно, идеологично, оторвано от подлинной жизни, которая есть Россия «официальная». Славянофилы, действительно, преклонялись больше перед русской «идеей», чем перед фактом и силой. Розанов завершает славянофильство преклонением перед силой и фактом. Презрение Розанова к идеям, мыслям, литературе не имеет пределов. Чиновник для него выше писателя. Чиновничья служба – дело серьезное, а литература – забава. Русский народ – государственный и серьезный народ. «Ему было любо государство в самих казнях, – ибо, казня, государство видело в нем душу и человека, а не игрушку, с которой позабавиться. Увы, литература только „забавилась“ около человека» (с. 135). Розанов хочет с художественным совершенством выразить обывательскую точку зрения на мир, тот взгляд старых тетушек и дядюшек, по которому государственная служба есть дело серьезное, а литература, идеи и пр. – пустяки, забава. Но до чего все это литература у самого Розанова. Он сам насквозь литератор, и литератор болтливый. Розанов был когда-то чиновником контрольного ведомства. Но вряд ли он захочет остаться в истории в таком качестве. Он захочет остаться в истории знаменитым литератором и ни от одной строчки, написанной им, не откажется. Как много литературы в самом чувстве народной жизни у Розанова, как далек он от народной жизни и как мало ее знает.
Народ и государственность в ослепительно талантливой литературе Розанова так же отличается от народа и государственности в жизни, как прекраснодушная война его книги отличается от трагической войны, которая идет на берегах Вислы и на Карпатах. Органичность, народность, объективная космичность Розанова лишь кажущиеся. Он совершенно субъективен, импрессионистичен и ничего не знает и не хочет знать, кроме потока своих впечатлений и ощущений. Само преклонение Розанова перед фактом и силой есть лишь перелив на бумагу потока его женственно-бабьих переживаний, почти сексуальных по своему характеру. Он сам изобличил свою психологию в гениальной книге «Уединенное», которая должна была бы быть последней книгой его жизни и которая навсегда останется в русской литературе. Напрасно Розанов взывает к серьезности против игры и забавы. Сам он лишен серьезного нравственного характера, и все, что он пишет о серьезности официальной власти, остается для него безответственной игрой и забавой литературы. Он никогда не возьмет на себя ответственности за все сказанное им в книге о войне.
IV
Есть что-то неприятное и мучительное в слишком легком, благодушном, литературно-идеологическом отношении к войне. Мережковский справедливо восстал против «соловьев над кровью». Можно видеть глубокий смысл нынешней войны и нельзя не видеть в ней глубокого духовного смысла. Все, что совершается ныне на войне материально и внешне, – лишь знаки того, что совершается в иной, более глубокой, духовной действительности. Можно чувствовать, что огонь войны очистителен. Но война – явление глубоко трагическое, антиномическое и страшное, а нынешняя война более, чем какая-либо из войн мировой истории. «Кровь – жидкость совсем особенная», – говорит Гёте в «Фаусте». И нужно самому приобщиться к мистерии крови, чтобы иметь право до конца видеть в ней радость, благо, очищение и спасение. Кабинетное, идеологическое обоготворение стихии войны и литературное прославление войны, как спасительницы от всех бед и зол, нравственно неприятно и религиозно недопустимо. Война есть внутренняя трагедия для каждого существа, она бесконечно серьезна. И мне кажется, что Розанов со слишком большой легкостью и благополучием переживает весну от войны, сидя у себя в кабинете. Он пишет о героическом подъеме, хотя героизм чужд ему окончательно, и он отрицает его каждым своим звуком. Но он так же не может противиться наплыву героизма, как не может противиться разгрому германского посольства, которое старается защитить. Нужно помнить, что природа войны отрицательная, а не положительная, она – великая проявительница и изобличительница. Но война, сама по себе, не творит новой жизни, она – лишь конец старого, рефлексия на зло. Обоготворение войны так же недопустимо, как недопустимо обоготворение революции или государственности.
V
Есть в книге Розанова еще одна неприятная и щекотливая для него сторона. Розанов всюду распинается за христианство, за православие, за церковь, всюду выставляет себя верным сыном православной церкви. Он уверяет, что славянофилов не любили потому, что они были христианами. Он повторяет целый ряд общих мест об измене христианству, об отпадении от веры отцов, поминает даже «Бюхнера и Молешотта», о которых не особенно ловко и вспоминать теперь, до того они отошли в небытие. Но я думаю, что христианская религия имела гораздо более опасного, более глубокого противника, чем «Бюхнер и Молешотт», чем наивные русские нигилисты, и противник этот был – В. В. Розанов. Кто написал гениальную хулу на Христа «об Иисусе Сладчайшем и о горьких плодах мира», кто почувствовал темное начало в Христе, источник смерти и небытия, истребление жизни, и противопоставил «демонической» христианской религии светлую религию рождения, божественное язычество, утверждение жизни и бытия?[3]
О, как невинно, как неинтересно и незначительно отношение к христианству Чернышевского и Писарева, Бюхнера и Молешотта по сравнению с отрицанием Розанова. Противление Розанова христианству может быть сопоставлено лишь с противлением Ницше, но с той разницей, что в глубине своего духа Ницше ближе ко Христу, чем Розанов, даже в том случае, когда он берет под свою защиту православие. Лучшие, самые яркие, самые гениальные страницы Розанова написаны против Христа и христианства. Розанов, как явление бытия, есть глубочайшая, полярная противоположность всему Христову. Конечно, с Розановым мог произойти духовный переворот, в нем могло совершиться новое рождение, из язычника он мог стать христианином. Нехорошо попрекать человека тем, что раньше он был другим. Но с Розановым не в этом вопрос. Каждая строка Розанова свидетельствует о том, что в нем не произошло никакого переворота, что он остался таким же язычником, беззащитным против смерти, как и всегда был, столь же полярно противоположным всему Христову. Есть документы его души: «Уединенное» и «Опавшие листья», которые он сам опубликовал для мира. Розанов пережил испуг перед ужасом жизни и смерти. О смерти он раньше не удосуживался подумать, так как исключительно был занят рождением и в нем искал спасение от всего. И Розанов из страха принял православие, но православие без Христа, – православный быт, всю животную теплоту православной плоти, все языческое в православии. Но ведь это он всегда любил в православии и всегда жил в этой коллективной животной теплоте, – не любил он и не мог принять лишь Христа. Нет ни единого звука, который свидетельствовал бы, что Розанов принял Христа и в Нем стал искать спасение. Розанов сейчас держится за христианство, за православную церковь по посторонним, не религиозным соображениям и интересам, по мотивам национальным, житейско-бытовым, публицистическим. Нельзя быть до того русским и не иметь связи с православием! Православие так же нужно Розанову для русского стиля, как самовар и блины. Да и с «левыми», с интеллигентами и нигилистами, легче расправляться, имея в руках орудие православия. Но я думаю, что иные русские интеллигенты-атеисты на какой-то глубине ближе ко Христу, чем Розанов. Русские интеллигенты, в лучшей, героической своей части, очень национальны и в своем антинационализме, в своем отщепенстве и скитальчестве и даже в своем отрицании России. Это – явление русского духа, более русского, чем национализм западно-немецкого образца. Сам же Розанов видит в русском западничестве чисто русское самоотречение и смирение (с. 53). И невозможно все в жизни русской интеллигенции отнести на счет «Бюхнера и Молешотта», «Маркса и Энгельса». Ни Маркс, ни Бюхнер никогда не сидели глубоко в русской душе, они заполняли лишь поверхностное сознание.
Великая беда русской души в том же, в чем беда и самого Розанова, – в женственной пассивности, переходящей в «бабье», в недостатке мужественности, в склонности к браку с чужим и чуждым мужем. Русский народ слишком живет в национально-стихийном коллективизме, и в нем не окрепло еще сознание личности, ее достоинства и ее прав. Этим объясняется то, что русская государственность была так пропитана неметчиной и часто представлялась инородным владычеством. «Розановское», бабье и рабье, национально-языческое, дохристианское все еще очень сильно в русской народной стихии. «Розановщина» губит Россию, тянет ее вниз, засасывает, и освобождение от нее есть спасение для России. По крылатому слову Розанова, «русская душа испугана грехом», и я бы прибавил, что она им ушиблена и придавлена. Этот первородный испуг мешает мужественно творить жизнь, овладеть своей землей и национальной стихией. И если есть желанный смысл этой войны, то он прямо противоположен тому смыслу, который хочет установить Розанов. Смысл этот может быть лишь в выковывании мужественного, активного духа в русском народе, в выходе из женственной пассивности. Русский народ победит германизм, и дух его займет великодержавное положение в мире, лишь победив в себе «розановщину». Мы давно уже говорили о русской национальной культуре, о национальном сознании, о великом призвании русского народа. Но наши упования глубоко противоположны всему «розановскому», «вечно-бабьему», шовинизму и бахвальству и этому духовно-вампирическому отношению к крови, проливаемой русскими войсками. И думается, что для великой миссии русского народа в мире останется существенной та великая христианская истина, что душа человеческая стоит больше, чем все царства и все миры…
Война и кризис интеллигентского сознания
I
В огромной массе русской интеллигенции война должна породить глубокий кризис сознания, расширение кругозора, изменение основных оценок жизни. Привычные категории мысли русской интеллигенции оказались совершенно непригодны для суждения о таких грандиозных событиях, как нынешняя мировая война. Сознание нашей интеллигенции не было обращено к исторически-конкретному и не имеет органа для суждений и оценок в этой области. Это сознание фатально пользуется суждениями и оценками, взятыми из совсем других областей, более для него привычных. Традиционное интеллигентское сознание было целиком обращено на вопросы внутренней политики и ориентировано исключительно на интересах социальных. Мировая война неизбежно обращает сознание к политике международной и вызывает исключительный интерес к роли России в мировой жизни. Кругозор сознания делается мировым. Преодолевается провинциализм сознания, провинциализм интересов. Мы, волей судьбы, выводимся в ширь всемирной истории. Многие традиционно настроенные русские интеллигенты, привыкшие все оценивать по своим отвлеченно-социологическим и отвлеченно-моралистическим категориям, почувствовали растерянность, когда от них потребовалась живая реакция на мировые события такого масштаба. Привычные доктрины и теории оказались бессильны перед грозным лицом всемирно-исторического фатума. Провинциальный кругозор русского радикализма, русского народничества и русского социал-демократизма не вмещал таких мировых событий. Традиционное сознание привыкло презирать все «международное» и целиком отдавать его в ведение «буржуазии». Но после того, как началась мировая война, никто уже не может с презрением отвращаться от «международного», ибо ныне оно определяет внутреннюю жизнь страны. В русской интеллигенции пробудились инстинкты, которые не вмещались в доктрины и были подавлены доктринами, инстинкты непосредственной любви к родине, и под их жизненным воздействием начало перерождаться сознание. Многими это изменение сознания переживается трагически и сопровождается чувством выброшенности за борт истории. С миром происходит не то, что привыкли предвидеть, что должно было с ним происходить по традиционным доктринам и теориям. Приходится ломать не только свое «мировоззрение», но и свои привычные традиционные чувства. Вынужденное всемирной историей обращение к интересам международным, к историческим судьбам народов и их взаимоотношениям обращает также и внутрь жизни каждого народа, повышает и укрепляет национальное самочувствие и самосознание. Обращение к международному и всемирно-историческому обостряет чувство ценности собственной национальности и сознание ее задач в мире. А поглощенность борьбой партий и классов ослабляет чувство национальности. Широким кругам интеллигенции война несет сознание ценности своей национальности, ценности всякой национальности, чего она была почти совершенно лишена. Для традиционного интеллигентского сознания существовала ценность добра, справедливости, блага народа, братства народов, но не существовало ценности национальности, занимающей совершенно особенное место в иерархии мировых ценностей. Национальность представлялась не самоценностью, а чем-то подчиненным другим отвлеченным ценностям блага. И это объясняется прежде всего тем, что традиционное сознание интеллигенции никогда не было обращено к исторически-конкретному, всегда жило отвлеченными категориями и оценками. Исторические инстинкты и историческое сознание у русских интеллигентов почти так же слабы, как у женщин, которые почти совершенно лишены возможности стать на точку зрения историческую и признать ценности исторические. Это всегда означает господство точки зрения блага над точкой зрения ценности.
Ведь последовательно проведенная точка зрения блага людей ведет к отрицанию смысла истории и исторических ценностей, так как ценности исторические предполагают жертву людским благам и людскими поколениями во имя того, что выше блага и счастья людей и их эмпирической жизни. История, творящая ценности, по существу трагична и не допускает никакой остановки на благополучии людей. Ценность национальности в истории, как и всякую ценность, приходится утверждать жертвенно, поверх блага людей, и она сталкивается с исключительным утверждением блага народа, как высшего критерия. Достоинство нации ставится выше благополучия людей. С точки зрения благополучия нынешнего поколения можно согласиться на постыдный мир, но это невозможно с точки зрения ценности национальности и ее исторической судьбы.
II
Сущность кризиса, совершающегося у нас под влиянием войны, можно формулировать так: нарождается новое сознание, обращенное к историческому, к конкретному, преодолевается сознание отвлеченное и доктринерское, исключительный социологизм и морализм нашего мышления и оценок. Сознание нашей интеллигенции не хотело знать истории, как конкретной метафизической реальности и ценности. Оно всегда оперировало отвлеченными категориями социологии, этики или догматики, подчиняло историческую конкретность отвлеченно-социологическим, моральным или догматическим схемам. Для такого сознания не существовало национальности и расы, исторической судьбы и исторического многообразия и сложности, для него существовали лишь социологические классы или отвлеченные идеи добра и справедливости. Задачи исторические, всегда конкретные и сложные, мы любили решать отвлеченно-социологически, отвлеченно-морально или отвлеченно-религиозно, т. е. упрощать их, сводить к категориям, взятым из других областей. Русское сознание имеет исключительную склонность морализировать над историей, т. е. применять к истории моральные категории, взятые из личной жизни.
Можно и должно открывать моральный смысл исторического процесса, но моральные категории истории существенно отличаются от моральных категорий личной жизни. Историческая жизнь есть самостоятельная реальность, и в ней есть самостоятельные ценности. К таким реальностям и ценностям принадлежит национальность, которая есть категория конкретно-историческая, а не отвлеченно-социологическая. В русской потребности все в мире осмыслить морально и религиозно есть своя правда. Русская душа не мирится с поклонением бессмысленной, безнравственной и безбожной силе, она не принимает истории, как природной необходимости. Но тут здоровое и ценное зерно должно быть выделено из ограниченного, упрощающего и схематизирующего сознания. Мы должны раскрыть свою душу и свое сознание для конкретной и многообразной исторической действительности, обладающей своими специфическими ценностями. Мы должны признать реальность нации и ценность национально-исторических задач. Вопрос о мировой роли России, о ее судьбе приобретает огромное значение, он не может быть растворен в вопросе о народном благе, о социальной справедливости и т. п. вопросах. Кругозор становится мировым, всемирно-историческим. А всемирную историю нельзя втиснуть ни в какие отвлеченно-социологические или отвлеченно-моральные категории, она знает свои оценки. Россия есть самостоятельная ценность в мире, не растворимая в других ценностях, и эту ценность России нужно донести до божественной жизни.
Традиционное применение русской интеллигенции отвлеченно-социологических категорий к исторической жизни и историческим задачам всегда было лишь своеобразной и прикрытой формой морализирования над историей. Когда разразилась война, то многие русские интеллигенты делали попытки оценить ее с точки зрения интересов пролетариата, применить к ней категории социологической доктрины экономического материализма или социологической и этической теории народничества. Также интеллигенты другого лагеря начали применять доктрины славянофильские и рассматривать ее исключительно с точки зрения православно-догматической. А толстовцы бойкотировали войну с позиций своего отвлеченного морализма. Русские социал-демократы или народники также упрощенно морализовали над историей при помощи своих социологических схем, как и славянофилы, как и толстовцы, при помощи схем религиозно-онтологических и религиозно-моральных. Все эти традиционные и доктринерские точки зрения не признают самостоятельной исторической реальности и самостоятельных исторических ценностей. Душа не раскрывается перед многообразной исторической действительностью, и энергия мысли не работает над новыми творческими задачами, поставленными жизнью и историей. Мысль не работает над новыми явлениями и темами, не проникает в конкретность мировой жизни, а упрощенно применяет свои старые схемы, свои сокращенные категории, социологические, моральные или религиозные. Но мировые события требуют погружения в конкретное, повышения энергии мысли, совершающей новую работу над всяким новым явлением жизни. Славянофильские, народнические или социал-демократические доктринерские схемы совершенно не приспособлены для новых событий мировой истории, ибо они выработаны для более простой и элементарной действительности. Русское мышление всегда было слишком монистично, слишком поглощено единым и враждебно множественности, закрыто для конкретного многообразия. Мировая война вызывает кризис этого исключительного монизма русского мышления, всегда склонного насиловать бесконечную сложность бытия. Нужно начать мыслить не по готовым схемам, не применять традиционные категории, а мыслить творчески над раскрывающейся трагедией мировой истории. Ибо огромный моральный и духовный смысл мировой войны ускользает от того, кто насилует историю доктринерской точкой зрения. Абсолютное неприменимо к относительному, к исторически-телесному, не вместимо в нем. Вся относительность природного и исторического процесса сводима к единству с абсолютным лишь в глубине духа, а не во внешней действительности.
III
Другим результатом войны для нашей интеллигенции должен быть переход от сознания по преимуществу отрицательного к сознанию положительному. В традиционном интеллигентском сознании господствовало распределительное, а не производительное отношение к жизни, бойкотирующее, а не созидающее. Наше социальное сознание не было творческим. Война горьким опытом своим научает тому, что народ должен стяжать себе положительную силу и мощь, чтобы осуществить свою миссию в мире. В русском народе и русском обществе должна пробудиться производящая и созидающая энергия. В народной жизни моменты положительные должны победить моменты отрицательные. А это предполагает иное состояние сознания – более мужественное, ответственное, свободное и независимое. Историческое творчество ставится выше отрицательной борьбы партий, направлений, лагерей и групп. Только созидая, можно справедливо распределять. Русская интеллигенция не была еще призвана к власти в истории и потому привыкла к безответственному бойкоту всего исторического. В ней должен родиться вкус к тому, чтобы быть созидательной силой в истории. Будущее великого народа зависит от него самого, от его воли и энергии, от его творческой силы и от просветленности его исторического сознания. От «нас», а не от «них» зависит наша судьба. Сведение старых счетов не должно так исключительно владеть нашим сознанием и волей. И отрицательная реакция не должна связывать нашу творческую энергию. В сознании народов расслабляющая идея блага и благополучия должна быть побеждена укрепляющей идеей ценности. Цель жизни народов – не благо и благополучие, а творчество ценностей, героическое и трагическое переживание своей исторической судьбы. А это предполагает религиозное отношение к жизни.
Либеральный империализм являет у нас опыт положительного, созидательного сознания, и в нем есть обращение к исторически-конкретному. Но либеральный империализм слишком уж создается по образцам западноевропейским, слишком уж мало русский и национальный по духу. Душа русской интеллигенции отвращается от него и не хочет видеть даже доли правды, заключенной в нем. Сознание нашей интеллигенции должно быть реформировано, перерождено и обогащено новыми ценностями. Я верю, что это совершится под влиянием войны. Но в душе русской интеллигенции есть своя непреходящая ценность, и эта ценность – глубоко русская. Она должна остаться и пробыть в неизбежном процессе европеизации России и ее вовлечения в круговорот всемирной истории. Эта ценность должна быть лишь освобождена от отрицательной связанности и ограниченности. Русская интеллигенция, освобожденная от провинциализма, выйдет, наконец, в историческую ширь и туда понесет свою жажду правды на земле, свою часто неосознанную мечту о мировом спасении и свою волю к новой, лучшей жизни для человечества.
Темное вино
I
В русской политической жизни, в русской государственности скрыто темное иррациональное начало, и оно опрокидывает все теории политического рационализма, оно не поддается никаким рациональным объяснениям. Действие этого иррационального начала создает непредвиденное и неожиданное в нашей политике, превращает нашу историю в фантастику, в неправдоподобный роман. Что в основе нашей государственной политики лежат не государственный разум и смысл, а нечто иррациональное и фантастическое, – это особенно остро чувствуется в последнее время. Иррациональное начало все перемешивает и создает самые фантастические соотношения. Правое, консервативное, даже реакционное московское дворянство ставится в положение оппозиционное и принуждено прибегать к действиям демонстративным. Единственный общественный слой, который мог быть опорой старой власти, ускользает из-под ее ног. Даже Московская духовная академия, столь привыкшая к раболепству, демонстративно выражает свой испуг за судьбу святой церкви, подавленной темными влияниями. Настоящий консерватизм, настоящая церковность содрогаются от власти темной стихии над русским государством и русской церковью.
Интересно было назначение А. Д. Самарина обер-прокурором Святейшего Синода. С этим назначением подлинные православные связывали надежды на то, что будет отстаиваться независимость церкви и будут сделаны шаги к обновлению церкви. То были консервативные надежды, надежды искренних, идейных церковных консерваторов, которых приводило в отчаяние разрушение церковной жизни, господство над нею темных сил. Тяжело было смотреть верующему православному на рабскую зависимость церковной политики от посторонних влияний, чуждых внутренней святыне церкви. Недолго пробыл г. Самарин у власти, и отставка его еще интереснее, чем его назначение. А. Д. Самарин – правый, консерватор-церковник. Отставка его не могла быть результатом столкновения с правой и даже реакционной политикой. Он, по всей вероятности, и сам не чужд реставрационных тенденций, и вдохновляющие его идеалы обращены назад, а не вперед. Но А. Д. Самарин столкнулся с темным, иррациональным началом в церковной жизни, в точке скрепления церкви и государства, с влияниями, которые не могут быть даже названы реакционными, так как для них нет никакого разумного имени. Как убежденный церковный человек и как человек чести, г. Самарин не мог перенести сервилизма. Он должен был оказаться в оппозиции, в качестве правого и консерватора, крепкого православного и церковника. Государство в опасности – это вызывает в нас патриотическую тревогу. Но и церковь в опасности. Это вызывает тревогу религиозную. Положение России небывало трагическое.
Она должна одолеть не только внешнего врага, но и внутреннее темное начало. Трудно даже сказать, что сейчас происходит планомерная реакция. Это – не реакция, а опьяненное разложение. Даже сколько-нибудь осмысленные реакционеры против того, что происходит. Правые все-таки могут признавать государственный разум, овладение темными стихиями. А. Д. Самарин, по-видимому, и является разумным, осмысленным правым, довольно трезвым, даже слишком трезвым. Он, вероятно, боится всякого слишком иррационального начала. И его разумная и трезвая правость, его рационалистическое славянофильство столкнулись лицом к лицу со скрытой силой, безумной и опьяненной, с темным вином русской земли. Разумный, культурный консерватизм бессилен в России, не им вдохновляется русская власть. И только беспредельная приспособляемость русской бюрократии, ее рабья готовность служить чему угодно может ладить с темными влияниями. Русская бюрократия есть корректив русской темной иррациональности, ее рассудочно-деловое дополнение, без которого эта русская стихия окончательно бы погибла. Бюрократия умеряет иррациональное начало и, приспособляясь к темной стихии, устраивает для нее дела мира сего. И у нас фактически сочетается сухой, рассудочный петроградский бюрократизм со скрывающейся за властью темной, иррациональной, пьяной силой.
II
Самое правое, консервативное направление может защищать известный тип культуры. В самом консервативном типе культуры темная стихия проходит через работу и преодоление человеческого духа и сознания. Но в России почти нет такого культурного консерватизма. Русская реакция по существу всегда враждебна всякой культуре, всякому сознанию, всякой духовности, за ней всегда стоит что-то темно-стихийное, хаотическое, дикое, пьяное. Реакция всегда у нас есть оргия, лишь внешне прикрытая бюрократией, одетой в европейские сюртуки и фраки. В России есть трагическое столкновение культуры с темной стихией. В русской земле, в русском народе есть темная, в дурном смысле иррациональная, непросветленная и не поддающаяся просветлению стихия. Как бы далеко ни заходило просветление и подчинение культуре русской земли, всегда остается осадок, с которым ничего нельзя поделать. В народной жизни эта особенная стихия нашла себе яркое, я бы даже сказал, гениальное выражение в хлыстовстве. В этой стихии есть темное вино, есть что-то пьянящее и оргийное, и кто отведал этого вина, тому трудно уйти из атмосферы, им создаваемой. Хлыстовство очень глубокое явление, и оно шире секты, носящей это наименование. Хлыстовство, как начало стихийной оргийности, есть и в нашей церковной жизни. Всякая опьяненность первозданной стихией русской земли имеет хлыстовский уклон.
В самой хлыстовской секте меньше этой непросветимой темы, чем в неоформленных и неконцентрированных стихийных народных переживаниях. В мистической жажде хлыстов есть своя правда, указывающая на неутоленность официальной церковной религией. В русской литературе гениальное художественное воспроизведение эта стихия нашла в романе А. Белого «Серебряный голубь». А. Белый художественно прозрел в русском народе страстную мистическую стихию, которая была закрыта для старых русских писателей, создавших традиционно народническое представление о народе. Этой стихии не чувствовали и славянофилы, не чувствовал и Л. Толстой. Только Достоевский знал ее, но открывал ее не в жизни народа, а в жизни интеллигенции.
Эта темная русская стихия реакционна в самом глубоком смысле слова. В ней есть вечные мистические реакции против всякой культуры, против личного начала, против прав и достоинства личности, против всяких ценностей. Эта погруженность в стихию русской земли, эта опьяненность стихией, оргийное ее переживание не совместимы ни с какой культурой ценностей, ни с каким самосознанием личности. Тут антагонизм непримиримый. Всякое идеализирование природно-стихийной народной мистики враждебно культуре и развитию. Это реакционное идеализирование нередко у нас принимает форму упоенности русским бытом, теплом самой русской грязи и сопровождается враждой ко всякому восхождению. Хлыстовская русская стихия двойственна. В ней скрыта подлинная и праведная религиозная жажда уйти из этого постылого мира. В хлыстовском сектантском движении есть ценная религиозная энергия, хотя и не просветленная высшим сознанием. Но в хлыстовской стихии, разлитой в разных формах по русской земле, есть и темное и грязное начало, которого нельзя просветить. В ней есть источник темного вина, пьянящего русский народ дурным, мракобесным опьянением. Это хаотически-стихийное, хлыстовское опьянение русской земли ныне дошло до самой вершины русской жизни. Мы переживаем совершенно своеобразное и исключительное явление – хлыстовство самой власти. Это путь окончательного разложения и гниения старой власти. Так исторически изживается остаток беспросветной тьмы в русской народной стихии. Темная иррациональность в низах народной жизни соблазняет и засасывает вершину. Старая Россия проваливается в бездну. Но Россия новая, грядущая имеет связь с другими, глубокими началами народной жизни, с душой России, и потому Россия не может погибнуть.
III
Для России представляет большую опасность увлечение органически-народными идеалами, идеализацией старой русской стихийности, старого русского уклада народной жизни, упоенного натуральными свойствами русского характера. Такая идеализация имеет фатальный уклон в сторону реакционного мракобесия. Мистике народной стихии должна быть противопоставлена мистика духа, проходящего через культуру. Пьяной и темной дикости в России должна быть противопоставлена воля к культуре, к самодисциплине, к оформлению стихии мужественным сознанием. Мистика должна войти в глубь духа, как то и было у всех великих мистиков. В русской стихии есть вражда к культуре. И вражда эта получила у нас разные формы идеологических оправданий. Эти идеологические оправдания часто бывали фальшивыми. Но одно верно. Подлинно есть в русском духе устремленность к крайнему и предельному. А путь культуры – средний путь. И для судьбы России самый жизненный вопрос – сумеет ли она себя дисциплинировать для культуры, сохранив все свое своеобразие, всю независимость своего духа.
Не изойдет ли Россия в природно-народном дионисическом опьянении, в слишком позднем и потому гибельном для нее язычестве? То, что совершается сейчас в русской реакции, есть пьяное язычество, пьяная оргия, дошедшая до вершины. Война ознаменовалась великим делом – уничтожением пьянства. Но у русского есть темное вино, которого нельзя лишить его никакими внешними мерами и реформами. Чтобы народ русский перестал опьяняться этим вином, необходимо духовное возрождение народа в самых корнях его жизни, нужна духовная трезвость, через которую только и заслуживается новое вино. У нас же продолжают опьянять себя старым вином, перебродившим и перекисшим. Старая Россия и должна опьянять себя в час разложения и исторической кончины. Старая жизнь не легко уступает место жизни новой. Тот мрак душевный, тот ужас, который охватывает силу отходящую и разлагающуюся, но не способную к жертве и отречению, ищет опьянения, дающего иллюзию высшей жизни. Так кончина старой исторической силы застигает ее в момент оргии. И история окружает этот конец фантастикой. Вырождается и приходит к концу какое-то темное начало в русской стихии, которая вечно грозила погромом ценностей, угашением духа. И была какая-то ниточка, соединяющая тьму на вершине русской жизни с тьмой в ее низинах. Вершина рушится, почва из-под нее уходит, никакая существенная сила уже не поддерживает ее. Но внизу все еще есть темная стихия, упивающаяся темным вином, на которую пытается опереться вершина. Стихия эта давно уже не преобладает в народной жизни, но она все еще способна выставлять своих самозванцев, которые придают нашей церковной и государственной жизни темно-иррациональный характер, не просветимый никаким светом. На это нужно смотреть глубже и серьезнее, чем принято смотреть, ибо знаменательно это и не случайно для России. И для борьбы с внутренней тьмой необходима мобилизация всего духа, избравшего путь света.
Азиатская и европейская душа
I
В первом номере журнала «Летопись» напечатана очень характерная статья М. Горького «Две души», которая, по-видимому, определяет направление нового журнала. Статья вращается вокруг вечной темы русских размышлений, вокруг проблемы Востока и Запада. С этой темой связана вековая распря славянофилов и западников. Тема – основная для нашего национального самосознания и очень ответственная; тема – основная для философии истории и требующая серьезной философской подготовки. Как отнесся к ней наш прославленный писатель? М. Горький пишет таким тоном, как будто делает открытие. Он, по-видимому, чувствует себя первым радикальным западником в России. «Мы полагаем, что настало время, когда история повелительно требует от честных и разумных русских людей, чтобы они подвергли это самобытное всестороннему изучению, безбоязненной критике. Нам нужно бороться с азиатскими наслоениями в нашей психике». Можно подумать, что изучение и критика нашей самобытности только теперь должна начаться. Но ведь долгие десятилетия западничество было господствующим направлением русской мысли. Ни один народ не доходил до такого самоотрицания, как мы, русские. Русские почти стыдились того, что они русские. Явление – совершенно невозможное на Западе, где пышно расцвел национализм. И где же можно найти настоящее обоготворение Западной Европы и западноевропейской культуры, как не в России и не у русских? Отрицание России и идолопоклонство перед Европой – явление очень русское, восточное, азиатское явление. Именно крайнее русское западничество и есть явление азиатской души. Можно даже высказать такой парадокс: славянофилы, взгляды которых, кстати сказать, я в большей части не разделяю, были первыми русскими европейцами, так как они пытались мыслить по-европейски, самостоятельно, а не подражать западной мысли, как подражают дети. Славянофилы пробовали делать в России то же, что делал в Германии Фихте, который хотел вывести германское сознание на самобытный путь. А вот и обратная сторона парадокса: западники оставались азиатами, их сознание было детское, они относились к европейской культуре так, как могли относиться только люди, совершенно чуждые ей, для которых европейская культура есть мечта о далеком, а не внутренняя их сущность. Для русского западника-азиата Запад – обетованная земля, манящий образ совершенной жизни. Запад остается совершенно внешним, неведомым изнутри, далеким. У западника есть почти религиозное благоговение, вызываемое дистанцией. Так дети относятся к жизни взрослых, которая представляется им удивительной и соблазнительной именно потому, что она совершенно им чужда. Поистине в русской душе есть «азиатские наслоения», и они очень всегда чувствуются в радикальном западничестве горьковского типа. В радикальном западничестве русской интеллигенции всегда было очень много не только совершенно русского, чуждого Западу, но и совершенно азиатского. Европейская мысль до неузнаваемости искажалась в русском интеллигентском сознании. Западная наука, западный разум приобретали характер каких-то божеств, неведомых критическому Западу. Даже Бюхнер, третьестепенный популяризатор поверхностных идей, превратился в катехизис, внушающий религиозное к себе отношение. Самоценность же мысли и познания у нас всегда отрицалась. Вот от этого азиатства пора бы освободиться русскому человеку, культурному русскому человеку. Западный человек не идолопоклонствует перед своими культурными ценностями, – он их творит. И нам следует творить культурные ценности из глубины. Творческая самобытность свойственна европейскому человеку. В этом и русский человек должен быть подобен человеку европейскому.
Русскую самобытность не следует смешивать с русской отсталостью. Это прискорбное смешение слишком свойственно самым различным направлениям. Россия – страна культурно отсталая. Это факт неоспоримый. В России много варварской тьмы, в ней бурлит темная, хаотическая стихия Востока. Отсталость России должна быть преодолена творческой активностью, культурным развитием. Но национальная самобытность ничего общего не имеет с отсталостью, – она должна выявиться на высших, а не на низших ступенях развития. Наиболее самобытной будет грядущая, новая Россия, а не старая, отсталая Россия. Подлинное национальное сознание может быть лишь творческим, оно обращено вперед, а не назад. Так было у всех народов Европы. И еще не следует смешивать темного, дикого, хаотического азиатского Востока с древней культурой азиатского Востока, представляющего самобытный духовный тип, привлекающий внимание самых культурных европейцев. На Востоке – колыбель всех великих религий и культур. И на вершинах европейской культуры подлинно культурный европейский человек не может чувствовать презрения к своим древним истокам. Это презрение свойственно лишь варвару, человеку не культурному. Старинная культурная европейская душа не может идолопоклонствовать перед европейской культурой и не может презирать культуру Востока. Только темная еще азиатская душа, не ощутившая в своей крови и в своем духе прививок старой европейской культуры, может обоготворять дух европейской культуры, как совершенный, единый и единственный. И она же не чувствует древних культур Востока. М. Горький все смешивает и упрощает. Старая и в основе своей верная мысль о созерцательности Востока и действенности Запада им вульгаризируется и излагается слишком элементарно. Тема эта требует большого философского углубления. У Горького же все время чувствуется недостаточная осведомленность человека, живущего интеллигентско-кружковыми понятиями, провинциализм, не ведающий размаха мировой мысли.
II
Лишь слегка прикоснувшись к поверхности европейского знания, можно так упрощенно поклоняться разуму и науке и в них видеть панацею от всех зол. Тот, кто находится внутри, в самой глубине европейского процесса познания, а не со стороны благоговейно на него смотрит, постигает внутреннюю трагедию европейского разума и европейской науки, глубокий их кризис, мучительную неудовлетворенность, искание новых путей. Горький, по-видимому, прошел мимо огромной философской работы, которая происходила на Западе за последние десятилетия и которая не оставила камня на камне от наивно-натуралистического и наивно-материалистического мировоззрения. Горький благоговейно утверждает разум в каком-то очень наивном, не критическом, совсем не философском смысле слова. Большая часть научно-позитивных направлений совсем не признает разума. В разум верят метафизики. И у Горького есть какая-то очень наивная метафизическая вера, ничего общего не имеющая с исследующей положительной наукой. Для науки и ее целей совсем не нужна эта религиозная вера в разум. Горький, как типичный русский интеллигент, воспринял европейскую науку слишком по-русски и поклонился ей по-восточному, а не по-западному, как никогда не поклоняется тот, кто создает науку. Для Горького, как некогда для Писарева, наука – катехизис. Но это еще детское состояние сознания, это радость первой встречи.
Европа бесконечно сложнее, чем это представляется Горькому, бесконечно богаче. Там, на Западе, есть не только положительная наука и общественное деяние. Там есть и религия, и мистика, и метафизика, и романтическое искусство, там есть созерцание и мечтательность. Религиозные искания в нашу эпоху характерны не только для России, но и для Европы. И там ищут Бога и высшего смысла жизни, и там тоска от бессмыслицы жизни. Романтизм, который так не нравится Горькому, есть явление западное, а не восточное. Именно западный человек – романтик и страстный мечтатель. Восточный человек совсем не романтик и не мечтатель, его религиозность совсем другого типа. Романтизм сопутствует католическому типу религиозности, но его совсем нет в православном типе религиозности. На православном Востоке невозможно искание чаши св. Грааля. Нет романтизма и в Индии, на Востоке нехристианском. Можно ли назвать йога романтиком? Для М. Горького романтизм всегда есть буржуазная реакция, и на этом утверждении можно видеть, до какого ослепления доводит схема экономического материализма, как безжизненна она. Романтическое движение на Западе возникло тогда, когда буржуазия была еще в самом начале своего жизненного пути, когда ей предстояло еще целое столетие блестящих успехов и могущества в земной жизни. О разложении европейской буржуазии в то время так же нелепо говорить, как нелепо говорить о разложении буржуазии в наше время в России, когда она еще в начале своего развития. Я не говорю уже об оскорбительном безвкусии таких объяснений духовной жизни.
М. Горький обвиняет русское «богоискательство» в желании найти центр вне себя и снять с себя ответственность за бессмысленную жизнь. Он даже считает возможным утверждать, что именно религиозные люди отрицают смысл жизни. Вот изумительный пример ослепленности! Именно те, кого Горький называет неудачным термином «богоискатели», вот уже много лет пытаются перенести центр тяжести внутрь человека, в его глубину, и возложить на личность человеческую огромную ответственность за жизнь. Они-то и борются с безответственностью, с возложением ответственности на силы, вне человека находящиеся. Горькому даже начинает казаться, что религиозные люди отрицают смысл земной жизни, в то время как только они его и признают. Позитивизм и материализм отрицают ответственность, свободу, творческую волю, отрицают человека и строят безвольную теорию социальной среды и власти необходимости, могущества внешних обстоятельств. Религиозное же сознание должно бороться с этими разлагающими и обессиливающими теориями социальной среды во имя творческой активности человека, во имя его высшей свободы, во имя высшего смысла жизни. В России эти материалистические теории заедающей социальной среды, эти принижающие учения о необходимости всего совершающегося лишь потворствуют восточной лени, слабоволию, безответственности. Вера в человека, в его творческую свободу и творческую мощь возможна лишь для религиозного сознания, а никогда не для позитивистического сознания, которое смотрит на человека, как на рефлекс материальной среды, природной и социальной. Поистине необходим и неотложен в России призыв к повышению человеческой активности, человеческого творчества, человеческой ответственности. Но это возможно на почве совсем иной, чем та, на которой стоит М. Горький. Радикальное русское западничество, искаженное и рабски воспринимающее сложную и богатую жизнь Запада, есть форма восточной пассивности. На Востоке должна быть пробуждена самобытная творческая активность, созидающая новую культуру, и это возможно лишь на религиозной почве. Мы уже вступаем в тот возраст нашего бытия, когда время нам уже выйти из детского западничества и детского славянофильства, когда мы должны перейти к более зрелым формам национального самосознания. Великие мировые события выводят нас в мировую ширь, к мировым перспективам. Потрясения мировой войны выводят и Европу за ее замкнутые пределы, вскрывают коренные противоречия внутри самой Европы и свергают кумиры западничества. Вовлечение России в мировой круговорот означает конец ее замкнутого провинциального существования, ее славянофильского самодовольства и западнического рабства. Но М. Горький остается в старом сознании, он ничему не хочет научиться от совершающегося в мире и пребывает в старой противоположности Востока и Запада.
О власти пространств над русской душой
I
Много есть загадочного в русской истории, в судьбе русского народа и русского государства. Отношения между русским народом, которого славянофилы прославляли народом безгосударственным, и огромным русским государством до сих пор остаются загадкой философии русской истории. Но не раз уже указывали на то, что в судьбе России огромное значение имели факторы географические, ее положение на земле, ее необъятные пространства. Географическое положение России было таково, что русский народ принужден был к образованию огромного государства. На русских равнинах должен был образоваться великий Востоко-Запад, объединенное и организованное государственное целое. Огромные пространства легко давались русскому народу, но нелегко давалась ему организация этих пространств в величайшее в мире государство, поддержание и охранение порядка в нем. На это ушла большая часть сил русского народа. Размеры русского государства ставили русскому народу почти непосильные задачи, держали русский народ в непомерном напряжении. И в огромном деле создания и охранения своего государства русский народ истощал свои силы. Требования государства слишком мало оставляли свободного избытка сил. Вся внешняя деятельность русского человека шла на службу государству. И это наложило безрадостную печать на жизнь русского человека. Русские почти не умеют радоваться. Нет у русских людей творческой игры сил. Русская душа подавлена необъятными русскими полями и необъятными русскими снегами, она утопает и растворяется в этой необъятности. Оформление своей души и оформление своего творчества затруднено было для русского человека. Гений формы – не русский гений, он с трудом совмещается с властью пространств над душой. И русские совсем почти не знают радости формы.
Государственное овладение необъятными русскими пространствами сопровождалось страшной централизацией, подчинением всей жизни государственному интересу и подавлением свободных личных и общественных сил. Всегда было слабо у русских сознание личных прав и не развита была самодеятельность классов и групп. Нелегко было поддерживать величайшее в мире государство, да еще народу, не обладающему формальным организационным гением. Долгое время приходилось защищать Россию от наступавших со всех сторон врагов. Волны с Востока и Запада грозили затопить Россию. Россия пережила татарщину, пережила смутную эпоху и окончательно окрепла, выросла в государственного колосса. Но необъятные пространства России тяжелым гнетом легли на душу русского народа. В психологию его вошли и безграничность русского государства и безграничность русских полей. Русская душа ушиблена ширью, она не видит границ, и эта безгранность не освобождает, а порабощает ее. И вот духовная энергия русского человека вошла внутрь, в созерцание, в душевность, она не могла обратиться к истории, всегда связанной с оформлением, с путем, в котором обозначены границы. Формы русского государства делали русского человека бесформенным. Смирение русского человека стало его самосохранением. Отказ от исторического и культурного творчества требовался русским государством, его сторожами и хранителями. Необъятные пространства, которые со всех сторон окружают и теснят русского человека, – не внешний, материальный, а внутренний, духовный фактор его жизни. Эти необъятные русские пространства находятся и внутри русской души и имеют над ней огромную власть. Русский человек, человек земли, чувствует себя беспомощным овладеть этими пространствами и организовать их. Он слишком привык возлагать эту организацию на центральную власть, как бы трансцендентную для него. И в собственной душе чувствует он необъятность, с которой трудно ему справиться. Широк русский человек, широк как русская земля, как русские поля. Славянский хаос бушует в нем. Огромность русских пространств не способствовала выработке в русском человеке самодисциплины и самодеятельности, он расплывался в пространстве. И это было не внешней, а внутренней судьбой русского народа, ибо все внешнее есть лишь символ внутреннего. С внешней, позитивно-научной точки зрения огромные русские пространства представляются географическим фактором русской истории. Но с более глубокой, внутренней точки зрения сами эти пространства можно рассматривать как внутренний, духовный факт в русской судьбе. Это – география русской души.
II
В русском человеке нет узости европейского человека, концентрирующего свою энергию на небольшом пространстве души, нет этой расчетливости, экономии пространства и времени, интенсивности культуры. Власть шири над русской душой порождает целый ряд русских качеств и русских недостатков. Русская лень, беспечность, недостаток инициативы, слабо развитое чувство ответственности с этим связаны. Ширь русской земли и ширь русской души давили русскую энергию, открывая возможность движения в сторону экстенсивности. Эта ширь не требовала интенсивной энергии и интенсивной культуры. От русской души необъятные русские пространства требовали смирения и жертвы, но они же охраняли русского человека и давали ему чувство безопасности. Со всех сторон чувствовал себя русский человек окруженным огромными пространствами, и не страшно ему было в этих недрах России. Огромная русская земля, широкая и глубокая, всегда вывозит русского человека, спасает его. Всегда слишком возлагается он на русскую землю, на матушку Россию. Почти смешивает и отождествляет он свою мать-землю с Богородицей и полагается на ее заступничество. Над русским человеком властвует русская земля, а не он властвует над ней. Западноевропейский человек чувствует себя сдавленным малыми размерами пространств земли и столь же малыми пространствами души. Он привык возлагаться на свою интенсивную энергию и активность. И в душе его тесно, а не пространно, все должно быть рассчитано и правильно распределено. Организованная прикрепленность всего к своему месту создает мещанство западноевропейского человека, столь всегда поражающее и отталкивающее человека русского. Эти мещанские плоды европейской культуры вызывали негодование Герцена, отвращение К. Леонтьева, и для всякой характерно русской души не сладостны эти плоды.
Возьмем немца. Он чувствует себя со всех сторон сдавленным, как в мышеловке. Шири нет ни вокруг него, ни в нем самом. Он ищет спасения в своей собственной организованной энергии, в напряженной активности. Все должно быть у немца на месте, все распределено. Без самодисциплины и ответственности немец не может существовать. Всюду он видит границы и всюду ставит границы. Немец не может существовать в безграничности, ему чужда и противна славянская безбрежность. Он только с большим напряжением энергии хотел бы расширить свои границы. Немец должен презирать русского человека за то, что тот не умеет жить, устраивать жизнь, организовать жизнь, не знает ничему меры и места, не умеет достигать возможного. Русскому же противен германский пафос мещанского устроения жизни. Германец чувствует, что его не спасет Германия, он сам должен спасти Германию. Русский же думает, что не он спасет Россию, а Россия его спасет. Русский никогда не чувствует себя организатором. Он привык быть организуемым. И даже в эту страшную войну, когда русское государство в опасности, нелегко русского человека довести до сознания этой опасности, пробудить в нем чувство ответственности за судьбу родины, вызвать напряжение энергии. Русский человек утешает себя тем, что за ним еще стоят необъятные пространства и спасут его, ему не очень страшно, и он не очень склонен слишком напрягать свои силы. И с трудом доходит русский человек до сознания необходимости мобилизовать всю свою энергию. Вопрос об интенсивной культуре, предполагающей напряженную активность, еще не делался для него вопросом жизни и судьбы. Он тонул в своих недрах и в своих пространствах. И нужно сказать, что всякой самодеятельности и активности русского человека ставились непреодолимые препятствия. Огромная, превратившаяся в самодовлеющую силу русская государственность боялась самодеятельности и активности русского человека, она слагала с русского человека бремя ответственности за судьбу России и возлагала на него службу, требовала от него смирения. Через исторический склад русской государственности сами русские пространства ограничивали всякую ответственную самодеятельность и творческую активность русского человека. И это порабощение сил русского человека и всего русского народа оправдывалось охранением и упорядочением русских пространств.
III
Требования, которые составит России мировая война, должны привести к радикальному изменению сознания русского человека и направления его воли. Он должен, наконец, освободиться от власти пространств и сам овладеть пространствами, нимало не изменяя этим русскому своеобразию, связанному с русской ширью. Это означает радикально иное отношение к государству и культуре, чем то, которое было доныне у русских людей. Государство должно стать внутренней силой русского народа, его собственной положительной мощью, его орудием, а не внешним над ним началом, не господином его. Культура же должна стать более интенсивной, активно овладевающей недрами и пространствами и разрабатывающей их русской энергией. Без такого внутреннего сдвига русский народ не может иметь будущего, не может перейти в новый фазис своего исторического бытия, поистине исторического бытия, и само русское государство подвергается опасности разложения. Если русское государство доныне хотело существовать пассивностью своего народа, то отныне оно может существовать лишь активностью народа. Пространства не должны запугивать русский народ, они должны будить энергию, не немецкую, а русскую энергию. Безумны те, которые связывают русскую самобытность и своеобразие с технической и экономической отсталостью, с элементарностью социальных и политических форм и хотят сохранить русское обличье через сохранение пассивности русского духа. Самобытность не может быть связана с слабостью, неразвитостью, с недостатками. Самобытный тип русской души уже выработан и навеки утвержден. Русская культура и русская общественность могут твориться лишь из глубины русской души, из ее самобытной творческой энергии. Но русская самобытность должна, наконец, проявиться не отрицательно, а положительно, в мощи, в творчестве, в свободе. Национальная самобытность не должна быть пугливой, мнительно себя охраняющей, скованной. В зрелый период исторического существования народа самобытность должна быть свободно выраженной, смелой, творящей, обращенной вперед, а не назад. Некоторые славянофильствующие и в наши горестные дни думают, что если мы, русские, станем активными в отношении к государству и культуре, овладевающими и упорядочивающими, если начнем из глубины своего духа создавать новую, свободную общественность и необходимые нам материальные орудия, если вступим на путь технического развития, то во всем будем подобными немцам и потеряем нашу самобытность. Но это есть неверие в духовную мощь русского народа. Самобытность, которая может быть сохранена лишь прикреплением ее к отсталым и элементарным материальным формам, ничего не стоит, и на ней ничего нельзя основать. Охранители всегда мало верят в то, что охраняют. Истинная же вера есть лишь у творящих, у свободных. Русская самобытная духовная энергия может создать лишь самобытную жизнь. И пора перестать запугивать русского человека огромностью государства, необъятностью пространства и держать его в рабстве. Именно тогда, когда русский человек содержался в рабстве, он был во власти неметчины, наложившей печать на весь склад русской государственности. Освобождение русской народной энергии и направление ее к активному овладению и оформлению русских пространств будет и освобождением русского народа от немецкого рабства, будет утверждением его творческой самобытности. Нельзя полагать русскую самобытность в том, что русские должны быть рабами чужой активности, хотя бы и немецкой, в отличие от немцев, которые сами активны! Да сохранит нас Бог от такой самобытности – мы от нее погибнем! Исторический период власти пространств над душой русского народа кончается. Русский народ вступает в новый исторический период, когда он должен стать господином своих земель и творцом своей судьбы.
Централизм и народная жизнь
I
Большая часть наших политических и культурных идеологий страдает централизмом. Всегда чувствуется какая-то несоизмеримость между этими идеологиями и необъятной русской жизнью. Недра народной жизни огромной России все еще остаются неразгаданными, таинственными. Сам народ все еще как будто бы безмолвствует, и волю его с трудом разгадывают люди центров. Такие направления наши, как славянофильство и народничество, относились с особенным уважением и вниманием к народной жизни и по-разному стремились опереться на самые недра земли русской. Но и в славянофильстве и в народничестве всегда была значительная доля утопизма централистических идеологий, и эти обращенные к народной жизни идейные течения не покрывали всей необъятности и огромности русской народной жизни. Народничество, столь характерное для русской мысли и проявляющееся в разнообразных формах, предполагает уже отщепенство и чувство оторванности от народной жизни. Оно было исканием истинного народа и истинной народной жизни со стороны интеллигенции, утерявшей связь с народом и не способной себя сознать народом. Это – стремление к слиянию с народом и идеализация народа со стороны и издали. Народничество – чисто интеллигентское направление. В самой глубине народной жизни, у лучших людей из народа никакого народничества нет, там есть жажда развития и восхождения, стремление к свету, а не к народности. Это совершенно так же, как на Западе нет западничества. Одной из коренных ошибок народничества было отождествление народа с простонародьем, с крестьянством, с трудящимися классами. Наш культурный и интеллигентный слой не имел силы сознать себя народом и с завистью и вожделением смотрел на народность простого народа. Но это – болезненное самочувствие. Люди культурных и интеллигентных центров слишком часто думают, что центр тяжести духовной и общественной народной жизни – в простонародье, где-то далеко в глубине России. Но центр народной жизни везде, он в глубине каждого русского человека и каждой пяди русской земли, его нет в каком-то особом месте. Народная жизнь есть национальная, общерусская жизнь, жизнь всей русской земли и всех русских людей, взятых не в поверхностном, а глубинном пласте. И каждый русский человек должен был бы чувствовать себя и сознавать себя народом и в глубине своей ощутить народную стихию и народную жизнь. Высококультурный человек, проживающий в центрах, должен и может чувствовать себя не менее народным человеком, чем мужик где-то в глубине России. И всего более народен – гений. Высококультурный слой может быть так же народен, как и глубинный подземный слой народной жизни. Народ – прежде всего я сам, моя глубина, связывающая меня с глубиной великой и необъятной России. И лишь поскольку я выброшен на поверхность, я могу чувствовать себя оторванным от недр народной жизни. Истинной народной жизни нужно искать не в пространствах и внешних расстояниях, а в изменениях глубины. И в глубине я – культурный человек – такой же народ, как и русский мужик, и мне легко общаться с этим мужиком духовно. Народ не есть социальная категория, и социальные противоположения лишь мешают осознанию народности. Тоскующая мечта об истинной народной жизни где-то вне меня и вдали от меня – болезненна и бессильна. Истинный центр всегда ведь может быть обретен лишь внутри человека, а не вне его. И вся народная русская земля есть лишь глубинный слой каждого русского человека, а не вне его и вдали лежащая обетованная земля. Истинный центр не в столице и не в провинции, не в верхнем и не в нижнем слое, а в глубине всякой личности. Народная жизнь не может быть монополией какого-нибудь слоя или класса. Духовную и культурную децентрализацию России, которая совершенно неизбежна для нашего национального здоровья, нельзя понимать как чисто внешнее пространственное движение от столичных центров к глухим провинциям. Это прежде всего внутреннее движение, повышение сознания и рост соборной национальной энергии в каждом русском человеке по всей земле русской.
II
Россия совмещает в себе несколько исторических и культурных возрастов, от раннего средневековья до XX века, от самых первоначальных стадий, предшествующих культурному состоянию, до самых вершин мировой культуры. Россия – страна великих контрастов по преимуществу – нигде нет таких противоположностей высоты и низости, ослепительного света и первобытной тьмы. Вот почему так трудно организовать Россию, упорядочить в ней хаотические стихии. Все страны совмещают много возрастов. Но необъятная величина России и особенности ее истории породили невиданные контрасты и противоположности. У нас почти нет того среднего и крепкого общественного слоя, который повсюду организует народную жизнь. Незрелость глухой провинции и гнилость государственного центра – вот полюсы русской жизни. И русская общественная жизнь слишком оттеснена к этим полюсам. А жизнь передовых кругов Петрограда и Москвы и жизнь глухих уголков далекой русской провинции принадлежит к разным историческим эпохам. Исторический строй русской государственности централизовал государственно-общественную жизнь, отравил бюрократизмом и задавил провинциальную общественную и культурную жизнь. В России произошла централизация культуры, опасная для будущего такой огромной страны. Вся наша культурная жизнь стягивается к Петрограду, к Москве, отчасти лишь к Киеву. Русская культурная энергия не хочет распространяться по необъятным пространствам России, боится потонуть во тьме глухих провинций, старается охранить себя в центрах. Есть какой-то испуг перед темными и поглощающими недрами России. Явление это – болезненное и угрожающее. Россия – не Франция. И во Франции исключительное сосредоточение культуры в Париже порождает непомерную разницу возраста Парижа и французской провинции и делает непрочными и поверхностными политические перевороты. В России же такая централизация совсем уже болезненна и удерживает Россию на низших стадиях развития. В России существенно необходима духовно-культурная децентрализация и духовно-культурный подъем самих недр русской народной жизни. И это совсем не народничество. Одинаково должны быть преодолены и ложный столичный централизм, духовный бюрократизм и ложное народничество, духовный провинциализм. Одинаково неверна и столичная ориентировка жизни, и ориентировка провинциальная. Это две стороны одного и того же разрыва в народной жизни. Должна начаться общенациональная ориентировка жизни, идущая изнутри всякого русского человека, всякой личности, сознавшей свою связь с нацией. Недра русской жизни не где-либо, а везде, везде можно открыть глубину народного духа. На поверхности национальной жизни всегда будут существовать духовные центры, но не должно это носить характера духовной бюрократизации жизни.
Разные возрасты России прежде всего ставят задачи духовного, морального и общественного воспитания и самовоспитания нации. Эти задачи предполагают большую гибкость и не допускают насилия над народной жизнью. Если бюрократически-абсолютистская централизация и централизация революционно-якобинская вообще опасны для здорового народного развития, то еще более опасны они в такой колоссальной и таинственной стране, как Россия. Централизм реакционный и централизм революционный могут быть в одинаковом несоответствии с тем, что совершается в глубине России, в недрах народной жизни. И да не будет так, чтобы старое бюрократическое насилие над народной жизнью сменилось новым якобинским насилием! Пусть жизнь народная развивается изнутри, в соответствии с реальным бытием нашим! Петроградский бюрократизм заражал и наше либеральное и революционное движение. Бюрократизм есть особая метафизика жизни, и она глубоко проникает в жизнь. Но провинциализм есть другая метафизика жизни. Крайний централистический бюрократизм и крайний провинциализм – соотносительны и взаимно обусловливают друг друга. Россия погибает от централистического бюрократизма с одной стороны и темного провинциализма с другой. Децентрализация русской культуры означает не торжество провинциализма, а преодоление и провинциализма и бюрократического централизма, духовный подъем всей нации и каждой личности. В России повсеместно должна начаться разработка ее недр, как духовных, так и материальных. А это предполагает уменьшение различия между центрами и провинцией, между верхним и нижним слоем русской жизни, предполагает уважение к тем жизненным процессам, которые происходят в неведомой глубине и дали народной жизни. Нельзя предписать свободу из центра – должна быть воля к свободе в народной жизни, уходящей корнями своими в недра земли. Эта воля к свободе и к свету есть и в самых земляных и темных еще слоях народа. Нужно только уметь подойти к темной еще народной душе с вникающей любовью и без насилия. Ныне должна проснуться не интеллигенция, не верхний культурный слой, не какой-нибудь демагогически развиваемый класс, а огромная, неведомая, народная, провинциальная, «обывательская» Россия, не сказавшая еще своего слова. Потрясения войны способствуют этому пробуждению. И свет сознания, который должен идти навстречу этой пробуждающейся России, не должен быть внешним, централистическим и насилующим светом, а светом внутренним для всякого русского человека и для всей русской нации.
О святости и честности
I
К. Леонтьев говорит, что русский человек может быть святым, но не может быть честным. Честность – западноевропейский идеал. Русский идеал – святость. В формуле К. Леонтьева есть некоторое эстетическое преувеличение, но есть в ней и несомненная истина, в ней ставится очень интересная проблема русской народной психологии. У русского человека недостаточно сильно сознание того, что честность обязательна для каждого человека, что она связана с честью человека, что она формирует личность. Нравственная самодисциплина личности никогда у нас не рассматривалась как самостоятельная и высшая задача. В нашей истории отсутствовало рыцарское начало, и это было неблагоприятно для развития и для выработки личности. Русский человек не ставил себе задачей выработать и дисциплинировать личность, он слишком склонен был полагаться на то, что органический коллектив, к которому он принадлежит, за него все сделает для его нравственного здоровья. Русское православие, которому русский народ обязан своим нравственным воспитанием, не ставило слишком высоких нравственных задач личности среднего русского человека, в нем была огромная нравственная снисходительность. Русскому человеку было прежде всего предъявлено требование смирения. В награду за добродетель смирения ему все давалось и все разрешалось. Смирение и было единственной формой дисциплины личности. Лучше смиренно грешить, чем гордо совершенствоваться. Русский человек привык думать, что бесчестность – не великое зло, если при этом он смиренен в душе, не гордится, не превозносится. И в самом большом преступлении можно смиренно каяться, мелкие же грехи легко снимаются свечечкой, поставленной перед угодником. Высшие сверхчеловеческие задачи стоят перед святым. Обыкновенный русский человек не должен задаваться высокой целью даже отдаленного приближения к этому идеалу святости. Это – гордость. Православный русский старец никогда не будет направлять по этому пути. Святость есть удел немногих, она не может быть путем для человека. Всякий слишком героический путь личности русское православное сознание признает гордыней, и идеологи русского православия готовы видеть в этом пути уклон к человекобожеству и демонизму. Человек должен жить в органическом коллективе, послушный его строю и ладу, образовываться своим сословием, своей традиционной профессией, всем традиционным народным укладом.
В каком же смысле русское народное православное сознание верит в святую Русь и всегда утверждает, что Русь живет святостью, в отличие от народов Запада, которые живут лишь честностью, т. е. началом менее высоким? В этом отношении в русском религиозном сознании есть коренной дуализм. Русский народ и истинно русский человек живут святостью не в том смысле, что видят в святости свой путь или считают святость для себя в какой-либо мере достижимой или обязательной. Русь совсем не свята и не почитает для себя обязательно сделаться святой и осуществить идеал святости, она – свята лишь в том смысле, что бесконечно почитает святых и святость, только в святости видит высшее состояние жизни, в то время как на Западе видят высшее состояние также и в достижениях познания или общественной справедливости, в торжестве культуры, в творческой гениальности. Для русской религиозной души святится не столько человек, сколько сама русская земля, которую «в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». И в религиозных видениях русского народа русская земля представляется самой Богородицей. Русский человек не идет путями святости, никогда не задается такими высокими целями, но он поклоняется святым и святости, с ними связывает свою последнюю любовь, возлагается на святых, на их заступничество и предстательство, спасается тем, что русская земля имеет так много святынь. Душа русского народа никогда не поклонялась золотому тельцу и, верю, никогда ему не поклонится в последней глубине своей. Но русская душа склонна опускаться в низшие состояния, там распускать себя, допускать бесчестность и грязь. Русский человек будет грабить и наживаться нечистыми путями, но при этом он никогда не будет почитать материальные богатства высшей ценностью, он будет верить, что жизнь св. Серафима Саровского выше всех земных благ и что св. Серафим спасет его и всех грешных русских людей, предстательствуя перед Всевышним от лица русской земли. Русский человек может быть отчаянным мошенником и преступником, но в глубине души он благоговеет перед святостью и ищет спасения у святых, у их посредничества. Какой-нибудь хищник и кровопийца – может очень искренно, поистине благоговейно склоняться перед святостью, ставить свечи перед образами святых, ездить в пустыни к старцам, оставаясь хищником и кровопийцей. Это даже нельзя назвать лицемерием. Это – веками воспитанный дуализм, вошедший в плоть и кровь, особый душевный уклад, особый путь. Это – прививка душевно-плотской, недостаточно духовной религиозности. Но в русском душевном типе есть огромное преимущество перед типом европейским. Европейский буржуа наживается и обогащается с сознанием своего большого совершенства и превосходства, с верой в свои буржуазные добродетели. Русский буржуа, наживаясь и обогащаясь, всегда чувствует себя немного грешником и немного презирает буржуазные добродетели.
II
Святость остается для русского человека трансцендентным началом, она не становится его внутренней энергией. Почитание святости построено по тому же типу, что и почитание икон. К святому сложилось отношение, как к иконе, лик его стал иконописным ликом, перестал быть человеческим. Но это трансцендентное начало святости, становящееся посредником между Богом и человеком, должно что-то делать для русского человека, ему помогать и его спасать, за него совершать нравственную и духовную работу. Русский человек совсем и не помышляет о том, чтобы святость стала внутренним началом, преображающим его жизнь, она всегда действует на него извне. Святость слишком высока и недоступна, она – уже не человеческое состояние, перед ней можно лишь благоговейно склоняться и искать в ней помощи и заступничества за окаянного грешника. Почитание святых заслонило непосредственное богообщение. Святой – больше, чем человек, поклоняющийся же святому, ищущий в нем заступничества, – меньше, чем человек. Где же человек? Всякий человеческий идеал совершенства, благородства, чести, честности, чистоты, света представляется русскому человеку малоценным, слишком мирским, средне-культурным. И колеблется русский человек между началом звериным и ангельским, мимо начала человеческого. Для русского человека так характерно это качание между святостью и свинством. Русскому человеку часто представляется, что если нельзя быть святым и подняться до сверхчеловеческой высоты, то лучше уж оставаться в свинском состоянии, то не так уже важно, быть ли мошенником или честным. А так как сверхчеловеческое состояние святости доступно лишь очень немногим, то очень многие не достигают и человеческого состояния, остаются в состоянии свинском. Активное человеческое совершенствование и творчество парализованы. В России все еще недостаточно раскрыто человеческое начало, оно все еще в потенциях, великих потенциях, но лишь потенциях.
Русская мораль проникнута дуализмом, унаследованным от нашей своеобразной народной религиозности. Идея святой Руси имела глубокие корни, но она заключала в себе и нравственную опасность для русского человека, она нередко расслабляла его нравственную энергию, парализовала его человеческую волю и мешала его восхождению. Это – женственная религиозность и женственная мораль. Русская слабость, недостаток характера чувствуется в этом вечном желании укрыться в складках одежд Богородицы, прибегнуть к заступничеству святых. Божественное начало не раскрывается изнутри, в самой русской воле, русском жизненном порыве. Переживания своей слабости и своего окаянства и представляются религиозными переживаниями по преимуществу. И мы всего более нуждаемся в развитии в себе мужественного религиозного начала во всех отношениях. Мы должны развивать в себе сознание ответственности и приучаться возлагать как можно больше на самих себя и на свою активность. От этого зависит будущее России, исполнение ее призвания в мире. Нельзя видеть своеобразие России в слабости и отсталости. В силе и в развитии должно раскрыться истинное своеобразие России. Русский человек должен перестать возлагаться на то, что за него кем-то все будет сделано и достигнуто. Исторический час жизни России требует, чтобы русский человек раскрыл свою человеческую духовную активность.
Очень характерно, что не только в русской народной религиозности и у представителей старого русского благочестия, но и у атеистической интеллигенции, и у многих русских писателей чувствуется все тот же трансцендентный дуализм, все то же признание ценности лишь сверхчеловеческого совершенства и недостаточная оценка совершенства человеческого. Так средний радикальный интеллигент обычно думает, что он или призван перевернуть мир, или принужден остаться в довольно низком состоянии, пребывать в нравственной неряшливости и опускаться. Промышленную деятельность он целиком предоставляет той «буржуазии», которая, по его мнению, и не может обладать нравственными качествами. Русского человека слишком легко «заедает среда». Он привык возлагаться не на себя, не на свою активность, не на внутреннюю дисциплину личности, а на органический коллектив, на что-то внешнее, что должно его подымать и спасать. Материалистическая теория социальной среды в России есть своеобразное и искаженное переживание религиозной трансцендентности, полагающей центр тяжести вне глубины человека. Принцип «все или ничего» обычно в России оставляет победу за «ничем».
III
Нужно признать, что личное достоинство, личная честь, личная честность и чистота мало кого у нас пленяют. Всякий призыв к личной дисциплине раздражает русских. Духовная работа над формированием своей личности не представляется русскому человеку нужной и пленительной. Когда русский человек религиозен, то он верит, что святые или сам Бог все за него сделают, когда же он атеист, то думает, что все за него должна сделать социальная среда. Дуалистическое религиозное и моральное воспитание, всегда призывавшее исключительно к смирению и никогда не призывавшее к чести, пренебрегавшее чисто человеческим началом, чисто человеческой активностью и человеческим достоинством, всегда разлагавшее человека на ангельско-небесное и зверино-земное, косвенно сказалось теперь, во время войны. Святости все еще поклоняется русский человек в лучшие минуты своей жизни, но ему недостает честности, человеческой честности. Но и почитание святости, этот главный источник нравственного питания русского народа, идет на убыль, старая вера слабеет. Зверино-земное начало в человеке, не привыкшем к духовной работе над собой, к претворению низшей природы в высшую, оказывается предоставленным на произвол судьбы. И в отпавшем от веры, по-современному обуржуазившемся русском человеке остается в силе старый религиозный дуализм. Но благодать отошла от него, и он остался предоставленным своим непросветленным инстинктам. Оргия химических инстинктов, безобразной наживы и спекуляции в дни великой мировой войны и великих испытаний для России есть наш величайший позор, темное пятно на национальной жизни, язва на теле России. Жажда наживы охватила слишком широкие слои русского народа. Обнаруживается вековой недостаток честности и чести в русском человеке, недостаток нравственного воспитания личности и свободного ее самоограничения. И в этом есть что-то рабье, какое-то не гражданское, догражданское состояние. Среднему русскому человеку, будь он землевладельцем или торговцем, недостает гражданской честности и чести. Свободные граждане не могут спекулировать, утаивать продукты первой необходимости и т. п. во время великого испытания духовных и материальных сил России. Это несмываемый позор, о котором с содроганием будут вспоминать будущие поколения наряду с воспоминанием о героических подвигах русской армии, о самоотверженной деятельности наших общественных организаций. Я верю, что ядро русского народа нравственно-здоровое. Но в нашем буржуазно-обывательском слое не оказалось достаточно сильного нравственного гражданского сознания, нравственной и гражданской подготовки личности. Перед этим слоем стоят не только большие испытания, но и большие соблазны. Русский человек может бесконечно много терпеть и выносить, он прошел школу смирения. Но он легко поддается соблазнам и не выдерживает соблазна легкой наживы, он не прошел настоящей школы чести, не имеет гражданского закала. Это не значит, что, так легко соблазняющийся и уклоняющийся от путей личной и гражданской честности, русский человек совсем не любит России. По-своему он любит Россию, но он не привык чувствовать себя ответственным перед Россией, не воспитан в духе свободно-гражданского к ней отношения.
Приходится с грустью сказать, что святая Русь имеет свой коррелятив в Руси мошеннической. Это подобно тому, как моногамическая семья имеет свой коррелятив в проституции. Вот этот дуализм должен быть преодолен и прекращен. Нужно вникать в глубокие духовные истоки наших современных нравственных язв. В глубине России, в душе русского народа должны раскрыться имманентная религиозность и имманентная мораль, для которой высшее божественное начало делается внутренне преображающим и творческим началом. Это значит, что должен во весь свой рост стать человек и гражданин, вполне свободный. Свободная религиозная и социальная психология должна победить внутри каждого человека рабскую религиозную и социальную психологию. Это значит также, что русский человек должен выйти из того состояния, когда он может быть святым, но не может быть честным. Святость навеки останется у русского народа, как его достояние, но он должен обогатиться новыми ценностями. Русский человек и весь русский народ должны сознать божественность человеческой чести и честности. Тогда инстинкты творческие победят инстинкты хищнические.
Об отношении русских к идеям
I
Многое в складе нашей общественной и народной психологии наводит на печальные размышления. И одним из самых печальных фактов нужно признать равнодушие к идеям и идейному творчеству, идейную отсталость широких слоев русской интеллигенции. В этом обнаруживается вялость и инертность мысли, нелюбовь к мысли, неверие в мысль. Моралистический склад русской души порождает подозрительное отношение к мысли. Жизнь идей признается у нас роскошью, и в роскоши этой не видят существенного отношения к жизни. В России с самых противоположных точек зрения проповедуется аскетическое воздержание от идейного творчества, от жизни мысли, переходящей пределы утилитарно нужного для целей социальных, моральных или религиозных. Этот аскетизм в отношении к мысли и к идейному творчеству одинаково утверждался у нас и с точки зрения религиозной и с точки зрения материалистической. Это так свойственно русскому народничеству, принимавшему и самые левые, и самые правые формы. Ярко выразилась эта складка русской души в толстовстве. Одни считают у нас достаточным тот минимум мысли, который заключается в социал-демократических брошюрах, другие – тот, который можно найти в писаниях святых отцов. Брошюры толстовские, брошюры «религиозно-философской библиотеки» М. А. Новоселова и брошюры социально-революционные обнаруживают совершенно одинаковую нелюбовь и презрение к мысли. Самоценность мысли отрицалась, свобода идейного творчества бралась под подозрение то с точки зрения социально-революционной, то с точки зрения религиозно-охранительной. Любили у нас лишь катехизисы, которые легко и просто применялись ко всякому случаю жизни. Но любовь к катехизисам и есть нелюбовь к самостоятельной мысли. В России никогда не было творческой избыточности, никогда не было ничего ренессансного, ничего от духа Возрождения. Так печально и уныло сложилась русская история и сдавила душу русского человека! Вся духовная энергия русского человека была направлена на единую мысль о спасении своей души, о спасении народа, о спасении мира. Поистине эта мысль о всеобщем спасении – характерно русская мысль. Историческая судьба русского народа была жертвенна, – он спасал Европу от нашествий Востока, от татарщины, и у него не хватало сил для свободного развития.
Западный человек творит ценности, созидает цвет культуры, у него есть самодовлеющая любовь к ценностям; русский человек ищет спасения, творчество ценностей для него всегда немного подозрительно. Спасения ищут не только верующие русские души, православные или сектантские, спасения ищут и русские атеисты, социалисты и анархисты. Для дела спасения нужны катехизисы, но опасна мысль свободная и творческая. Ошибочно думать, что лучшая, наиболее искренняя часть русской левой, революционной интеллигенции общественна по направлению своей воли и занята политикой. В ней нельзя найти ни малейших признаков общественной мысли, политического сознания. Она аполитична и необщественна, она извращенными путями ищет спасения души, чистоты, быть может, ищет подвига и служения миру, но лишена инстинктов государственного и общественного строительства. «Общественное» миросозерцание русской интеллигенции, подчиняющее все ценности политике, есть лишь результат великой путаницы, слабости мысли и сознания, смешения абсолютного и относительного. Русский интеллигентский максимализм, революционизм, радикализм есть особого рода моралистический аскетизм в отношении к государственной, общественной и вообще исторической жизни. Очень характерно, что русская тактика обычно принимает форму бойкота, забастовки и неделания. Русский интеллигент никогда не уверен в том, следует ли принять историю со всей ее мукой, жестокостью, трагическими противоречиями, не праведнее ли ее совершенно отвергнуть. Мыслить над историей и ее задачами он отказывается, он предпочитает морализировать над историей, применять к ней свои социологические схемы, очень напоминающие схемы теологические. И в этом русский интеллигент, оторванный от родной почвы, остается характерно-русским человеком, никогда не имевшим вкуса к истории, к исторической мысли и к историческому драматизму. Наша общественная мысль была нарочито примитивной и элементарной, она всегда стремилась к упрощению и боялась сложности. Русская интеллигенция всегда исповедовала какие-нибудь доктрины, вмещающиеся в карманный катехизис, и утопии, обещающие легкий и упрощенный способ всеобщего спасения, но не любила и боялась самоценной творческой мысли, перед которой раскрывались бы бесконечно сложные перспективы. В широкой массе так называемой радикальной интеллигенции мысль не только упрощена, но опошлена и выветрена. Разложение старых идей в полуравнодушной массе – ядовито. Катехизисы допустимы лишь в огненной атмосфере, в атмосфере же тепло-прохладной они пошлеют и вырождаются. Творческая мысль, которая ставит и решает все новые и новые задачи, – динамична. Русская же мысль всегда была слишком статична, несмотря на смену разных вер и направлений. Это одинаково верно и по отношению к теократически охранительным доктринам, и по отношению к доктринам позитивистически-радикальным и социалистическим.
II
Русская нелюбовь к идеям и равнодушие к идеям нередко переходят в равнодушие к истине. Русский человек не очень ищет истины, он ищет правды, которую мыслит то религиозно, то морально, то социально, ищет спасения. В этом есть что-то характерно-русское, есть своя настоящая русская правда. Но есть и опасность, есть отвращение от путей познания, есть уклон к народнически обоснованному невежеству. Преклонение перед органической народной мудростью всегда парализовало мысль в России и пресекало идейное творчество, которое личность берет на свою ответственность. Наша консервативная мысль была еще родовой мыслью, в ней не было самосознания личного духа. Но это самосознание личного духа мало чувствовалось и в нашей прогрессивной мысли. Мысль, жизнь идей всегда подчинялась русской душевности, смешивающей правду-истину с правдой-справедливостью. Но сама русская душевность не была подчинена духовности, не прошла через дух. На почве этого господства душевности развивается всякого рода психологизм. Мысль родовая, мысль, связанная со стихийностью земли, всегда душевная, а не духовная мысль. И мышление русских революционеров всегда протекало в атмосфере душевности, а не духовности. Идея, смысл раскрывается в личности, а не в коллективе, и народная мудрость раскрывается на вершинах духовной жизни личностей, выражающих дух народный. Без великой ответственности и дерзновения личного духа не может осуществляться развитие народного духа. Жизнь идей есть обнаружение жизни духа. В творческой мысли дух овладевает душевно-телесной стихией. Исключительное господство душевности с ее животной теплотой противится этой освобождающей жизни духа. Величайшие русские гении боялись этой ответственности личного духа и с вершины духовной падали вниз, припадали к земле, искали спасения в стихийной народной мудрости. Так было у Достоевского и Толстого, так было у славянофилов. В русской религиозной мысли исключение представляли лишь Чаадаев и Вл. Соловьев.
Русская стихийно-народная душевность принимает разнообразные, самые противоположные формы – охранительные и бунтарские, национально-религиозные и интернационально-социалистические. Это – корень русского народничества, враждебного мысли и идеям. В настроенности и направленности русской народной душевности есть что-то антигностическое, берущее под подозрение процесс знания. Сердце преобладало над умом и над волей. Русский народнический душевный тип моралистичен, он ко всему на свете применяет исключительно моралистические оценки. Но морализм этот не способствует выработке личного характера, не создает закала духа. В морализме этом преобладает расплывчатая душевность, размягченная сердечность, часто очень привлекательная, но не чувствуется мужественной воли, ответственности, самодисциплины, твердости характера. Русский народ, быть может, самый духовный народ в мире. Но духовность его плавает в какой-то стихийной душевности, даже в телесности. В этой безбрежной духовности мужественное начало не овладевает женственным началом, не оформляет его. А это и значит, что дух не овладел душевным. Это верно не только по отношению к «народу», но и по отношению к «интеллигенции», которая внешне оторвана от народа, но сохранила очень характерные черты народной психологии. На этой почве рождается недоверие, равнодушие и враждебное отношение к мысли, к идеям. На этой же почве рождается и давно известная слабость русской воли, русского характера. Самые правые русские славянофилы и самые левые русские народники (к ним за редкими исключениями нужно причислить по душевному складу и русских социал-демократов, непохожих на своих западных товарищей) одинаково восстают против «отвлеченной мысли» и требуют мысли нравственной и спасающей, имеющей существенное практическое применение к жизни. В восстании против отвлеченной мысли и в требовании мысли целостной была своя большая правда и предчувствие высшего типа мысли. Но правда эта тонула в расплывчатой душевности и неспособности к расчленениям и дифференциациям. Мысль человеческая в путях человеческого духа должна проходить через раздвоение и расчленение. Первоначальная органическая целостность не может быть сохранена и перенесена в высший тип духовности, без мучительного дифференцирующего процесса, без отпадения и секуляризации. Без сознания этой истины органически целостная мысль переходит во вражду к мысли, в бессмыслие, в мракобесный морализм. Своеобразие и оригинальность русской души не может быть убита мыслью. Боязнь эта есть неверие в Россию и русского человека. Недифференцированность нашей консервативной мысли перешла и к нашей прогрессивной мысли.
III
В России не совершилось еще настоящей эмансипации мысли. Русский нигилизм был порабощением, а не освобождением мысли. Мысль наша осталась служебной. Русские боятся греха мысли, даже когда они не признают уже никакого греха. Русские все еще не поднялись до того сознания, что в живой, творческой мысли есть свет, преображающий стихию, пронизывающий тьму. Само знание есть жизнь, и потому уже нельзя говорить, что знание должно быть утилитарно подчинено жизни. Нам необходимо духовное освобождение от русского утилитаризма, порабощающего нашу мысль, будет ли он религиозным или материалистическим. Рабство мысли привело в широких кругах русской интеллигенции к идейной бедности и идейной отсталости. Идеи, которые многим еще продолжают казаться «передовыми», в сущности очень отсталые идеи, не стоящие на высоте современной европейской мысли. Сторонники «научного» миросозерцания отстали от движения науки на полстолетия. Интеллигентная и полуинтеллигентная масса питается и живет старым идейным хламом, давно уже сданным в архив. Наша «передовая» интеллигенция безнадежно отстает от движения европейской мысли, от все более и более усложняющегося и утончающегося философского и научного творчества. Она верит в идеи, которые господствовали на Западе более пятидесяти лет тому назад, она все еще серьезно способна исповедовать позитивистическое миросозерцание, старую теорию социальной среды и т. п. Но это есть окончательное прекращение и окостенение мысли. Традиционный позитивизм давно уже рухнул не только в философии, но и в самой науке. Если никогда нельзя было серьезно говорить о материализме, как направлении полуграмотном, то невозможно уже серьезно говорить и о позитивизме, а скоро нельзя будет говорить о критицизме кантовского типа. Также невозможно поддерживать тот радикальный «социологизм» мироощущения и миросозерцания, за который все еще держится интеллигентская масса в России. Раскрываются новые перспективы «космического» мироощущения и миросознания. Общественность не может уже быть оторванной и изолированной от жизни космической, от энергий, которые переливаются в нее из всех планов космоса. Поэтому невозможен уже социальный утопизм, всегда основанный на упрощенном мышлении об общественной жизни, на рационализации ее, не желающий знать иррациональных космических сил. Не только в творческой русской мысли, которая в небольшом кругу переживает период подъема, но и в мысли западноевропейской произошел радикальный сдвиг, и «передовым» в мысли и сознании является совсем уже не то, во что продолжают верить у нас слишком многие, ленивые и инертные мыслью.
Вершина человечества вступила уже в ночь нового средневековья, когда солнце должно засветиться внутри нас и привести к новому дню. Внешний свет гаснет. Крах рационализма, возрождение мистики и есть этот ночной момент. Но когда происходит крах старой рассудочной мысли, особенно нужно призывать к творческой мысли, к раскрытию идей духа. Борьба идет на духовных вершинах человечества, там определяется судьба человеческого сознания, есть настоящая жизнь мысли, жизнь идей. В середине же царит старая инертность мысли, нет инициативы в творчестве идей, клочья старого мира мысли влачат жалкое существование. Средняя мысль, мнящая себя интеллигентной, доходит до состояния полного бессмыслия. Мы вечно наталкиваемся на статику мысли, динамики же мысли не видно. Но мысль по природе своей динамична, она есть вечное движение духа, перед ней стоят вечно новые задачи, раскрываются вечно новые меры, она должна давать вечно творческие решения. Когда мысль делается статической – она костенеет и умирает. У многих наших передовых западников мысль остановилась на 60-х годах, они – охранители этой старой мысли, они остановились на стадии самого элементарного просветительства, на Западе восходящего до XVIII века. В области мысли люди эти не прогрессисты и не революционеры, а консерваторы и охранители; они тянут назад, к рассудочному просветительству, они слегка подогревают давно охлажденные мысли и враждебны всякому горению мысли.
IV
Творческое движение идей не вызывает к себе сколько-нибудь сильного интереса в широких кругах русского интеллигентного общества. У нас даже сложилось убеждение, что общественным деятелям вовсе и не нужны идеи или нужен минимальный их запас, который всегда можно найти в складках традиционной, давно охлажденной, статически-окостеневшей мысли. Все наше движение 1905 г. не было одухотворено живыми творческими идеями, оно питалось идеями тепло-прохладными, оно раздиралось горячими страстями и интересами. И эта идейная убогость была роковой. За последние пятнадцать лет у нас было высказано много творческих идей и идей не только отвлеченных, но жизненных, конкретных. Но вокруг этих идей все еще не образовалось никакой культурной атмосферы, не возникло еще никакого общественного движения. Идеи эти остались в кругу немногих. Мир идей и мир общественности остались разобщенными. Со стороны общественников не было спроса на идеи, не было заказов на идейное творчество, они были довольны жалкими остатками старых идей. Вся ненормальность и болезненность духовного состояния нашего общества особенно почувствовалась, когда началась мировая война, потребовавшая напряжения всех сил, не только материальных, но и духовных. Нельзя было подойти к мировой трагедии с запасом старых просветительных идей, старых рационалистически-социологических схем. Человек, вооруженный лишь этими устаревшими идейными орудиями, должен был себя почувствовать раздавленным и выброшенным за борт истории. Гуманитарно-пасифистская настроенность, всегда очень элементарная и упрощенная, бессильна перед грозным ликом исторической судьбы, исторической трагедии. Если у нас не было достаточной материальной подготовленности к войне, то не было и достаточной идейной подготовленности. Традиционные идеи, десятки лет у нас господствующие, совершенно не пригодны для размеров разыгравшихся в мире событий. Все сдвинулось со своих обычных мест, все требует совершенно новой творческой работы мысли, нового идейного воодушевления. Наша же общественность во время небывалой мировой катастрофы бедна идеями, недостаточно воодушевлена. Мы расплачиваемся за долгий период равнодушия к идеям. Идеи, на которых покоилась старая власть, окончательно разложились. Их нельзя оживить никакими силами. Не помогут никакие ядовитые мистические оправдания, почерпнутые из старых складов. Но идеи русской общественности, призванной перестроить русскую жизнь и обновить власть, охладели и выветрились раньше, чем наступил час для их осуществления в жизни. Остается обратиться к творческой жизни идей, которая неприметно назревала в мире. Расшатались идеологические основы русского консерватизма и идеологические основы русского радикализма. Нужно перейти в иное идейное измерение.
В мировой борьбе народов русский народ должен иметь свою идею, должен вносить в нее свой закал духа. Русские не могут удовлетвориться отрицательной идеей отражения германского милитаризма и одоления темной реакции внутри. Русские должны в этой борьбе не только государственно и общественно перестроиться, но перестроиться идейно и духовно. Постыдное равнодушие к идеям, закрепощающее отсталость и статическую окаменелость мысли, должно замениться новым идейным воодушевлением и идейным подъемом. Почва разрыхлена, и настало благоприятное время для идейной проповеди, от которой зависит все наше будущее. В самый трудный и ответственный час нашей истории мы находимся в состоянии идейной анархии и распутицы, в нашем духе совершается гнилостный процесс, связанный с омертвением мысли консервативной и революционной, идей правых и левых. Но в глубине русского народа есть живой дух, скрыты великие возможности. На разрыхленную почву должны пасть семена новой мысли и новой жизни. Созревание России до мировой роли предполагает ее духовное возрождение.
II. Проблема национальности Восток и Запад
Национальность и человечество
I
Наши националисты и наши космополиты находятся во власти довольно низких понятий о национальности, они одинаково разобщают бытие национальное с бытием единого человечества. Страсти, которые обычно вызывают национальные проблемы, мешают прояснению сознания. Работа мысли над проблемой национальности должна, прежде всего, установить, что невозможно и бессмысленно противоположение национальности и человечества, национальной множественности и всечеловеческого единства. Между тем как это ложное противоположение делается с двух сторон, со стороны национализма и со стороны космополитизма. Недопустимо было бы принципиально противополагать часть целому или орган организму и мыслить совершенство целого организма, как исчезновение и преодоление множественности его частей и органов. Национальность и борьба за ее бытие и развитие не означает раздора в человечестве и с человечеством и не может быть в принципе связываема с несовершенным, не пришедшим к единому состоянием человечества, подлежащим исчезновению при наступлении совершенного единства. Ложный национализм дает пищу для таких понятий о национальности. Национальность есть индивидуальное бытие, вне которого невозможно существование человечества, она заложена в самих глубинах жизни, и национальность есть ценность, творимая в истории, динамическое задание. Существование человечества в формах национального бытия его частей совсем не означает непременно зоологического и низшего состояния взаимной вражды и потребления, которое исчезает по мере роста гуманности и единства. За национальностью стоит вечная онтологическая основа и вечная ценная цель. Национальность есть бытийственная индивидуальность, одна из иерархических ступеней бытия, другая ступень, другой круг, чем индивидуальность человека или индивидуальность человечества, как некоей соборной личности. Установление совершенного братства между людьми не будет исчезновением человеческих индивидуальностей, но будет их полным утверждением. И установление всечеловеческого братства народов будет не исчезновением, а утверждением национальных индивидуальностей. Человечество есть некоторое положительное всеединство, и оно превратилось бы в пустую отвлеченность, если бы своим бытием угашало и упраздняло бытие всех входящих в него ступеней реальности, индивидуальностей национальных и индивидуальностей личных. И в царстве Божьем должно мыслить совершенное и прекрасное существование личностей-индивидуальностей и наций-индивидуальностей. Всякое бытие – индивидуально. Отвлеченность же не есть бытие. В отвлеченном, от всякой конкретной множественности освобожденном гуманизме нет духа бытия, есть пустота. Само человечество есть конкретная индивидуальность высшей иерархической степени, соборная личность, а не абстракция, не механическая сумма. Так Бог не есть угашение всех индивидуальных ступеней многообразного бытия, но их полнота и совершенность. Множественность индивидуальных ступеней, всю сложную иерархию мира нельзя заменить единством высшей ступени, индивидуальностью единого. Совершенное единство (общенациональное, общечеловеческое, космическое или божественное) есть высшая и наиболее полная форма бытия всей множественности индивидуальных существований в мире. Всякая национальность есть богатство единого и братски объединенного человечества, а не препятствие на его пути. Национальность есть проблема историческая, а не социальная, проблема конкретной культуры, а не отвлеченной общественности.
Космополитизм и философски и жизненно несостоятелен, он есть лишь абстракция или утопия, применение отвлеченных категорий к области, где все конкретно. Космополитизм не оправдывает своего наименования, в нем нет ничего космического, ибо и космос, мир, есть конкретная индивидуальность, одна из иерархических ступеней. Образ космоса так же отсутствует в космополитическом сознании, как и образ нации. Чувствовать себя гражданином вселенной совсем не означает потери национального чувства и национального гражданства. К космической, вселенской жизни человек приобщается через жизнь всех индивидуальных иерархических ступеней, через жизнь национальную. Космополитизм есть уродливое и неосуществимое выражение мечты об едином, братском и совершенном человечестве, подмена конкретно живого человечества отвлеченной утопией. Кто не любит своего народа и кому не мил конкретный образ его, тот не может любить и человечество, тому не мил и конкретный образ человечества. Абстракции плодят абстракции. Отвлеченные чувства завладевают человеком, и все живое, в плоти и крови, исчезает из поля зрения человека. Космополитизм есть также отрицание и угашение ценности индивидуального, всякого образа и обличья, проповедь отвлеченного человека и отвлеченного человечества.
II
Человек входит в человечество через национальную индивидуальность, как национальный человек, а не отвлеченный человек, как русский, француз, немец или англичанин. Человек не может перескочить через целую ступень бытия, от этого он обеднел бы и опустел бы. Национальный человек – больше, а не меньше, чем просто человек, в нем есть родовые черты человека вообще и еще есть черты индивидуально-национальные. Можно желать братства и единения русских, французов, англичан, немцев и всех народов земли, но нельзя желать, чтобы с лица земли исчезли выражения национальных ликов, национальных духовных типов и культур. Такая мечта о человеке и человечестве, отвлеченных от всего национального, есть жажда угашения целого мира ценностей и богатств. Культура никогда не была и никогда не будет отвлеченно-человеческой, она всегда конкретно-человеческая, т. е. национальная, индивидуально-народная и лишь в таком своем качестве восходящая до общечеловечности. Совершенно не национальной, отвлеченно-человеческой, легко транспортируемой от народа к народу является наименее творческая, внешне техническая сторона культуры. Все творческое в культуре носит на себе печать национального гения. Даже великие технические изобретения национальны, и не национальны лишь технические применения великих изобретений, которые легко усваиваются всеми народами. Даже научный гений, инициативный, создающий метод – национален. Дарвин мог быть только англичанином, а Гельмгольц – характерный немец. Национальное и общечеловеческое в культуре не может быть противопоставляемо. Общечеловеческое значение имеют именно вершины национального творчества. В национальном гении раскрывается всечеловеческое, через свое индивидуальное он проникает в универсальное. Достоевский – русский гений, национальный образ отпечатлен на всем его творчестве. Он раскрывает миру глубины русского духа. Он самый русский из русских – он и самый всечеловеческий, самый универсальный из русских. Через русскую глубину раскрывает он глубину всемирную, всечеловеческую. То же можно сказать и о всяком гении. Всегда возводит он национальное до общечеловеческого значения. Гёте – универсальный человек не в качестве отвлеченного человека, а в качестве национального человека, немца.
Объединение человечества, его развитие к всеединству совершается через мучительное, болезненное образование и борьбу национальных индивидуальностей и культур. Другого исторического пути нет, другой путь есть отвлеченность, пустота или чисто индивидуальный уход в глубь духа, в мир иной. Судьба наций и национальных культур должна свершиться до конца. Принятие истории есть уже принятие борьбы за национальные индивидуальности, за типы культуры. Культура греческая, культура итальянская в эпоху Возрождения, культура французская и германская в эпохи цветения и есть пути мировой культуры единого человечества, но все они глубоко национальны, индивидуально-своеобразны. Все великие национальные культуры – всечеловечны по своему значению. Нивелирующая цивилизация уродлива. Культура волапюка не может иметь никакого значения, в ней нет ничего вселенского. Весь мировой путь бытия есть сложное взаимодействие разных ступеней мировой иерархии индивидуальностей, творческое врастание одной иерархии в другую, личности в нацию, нации в человечество, человечества в космос, космоса в Бога. Можно и должно мыслить исчезновение классов и принудительных государств в совершенном человечестве, но невозможно мыслить исчезновение национальностей. Нация есть динамическая субстанция, а не преходящая историческая функция, она корнями своими врастает в таинственную глубину жизни. Национальность есть положительное обогащение бытия, и за нее должно бороться, как за ценность. Национальное единство глубже единства классов, партий и всех других преходящих исторических образований в жизни народов. Каждый народ борется за свою культуру и за высшую жизнь в атмосфере национальной круговой поруки. И великий самообман – желать творить помимо национальности. Даже толстовское непротивление, убегающее от всего, что связано с национальностью, оказывается глубоко национальным, русским. Уход из национальной жизни, странничество – чисто русское явление, запечатленное русским национальным духом. Даже формальное отрицание национальности может быть национальным. Национальное творчество не означает сознательно-нарочитого национальничанья, оно свободно и стихийно национально.
III
Все попытки рационального определения национальности ведут к неудачам. Природа национальности неопределима ни по каким рационально-уловимым признакам. Ни раса, ни территория, ни язык, ни религия не являются признаками, определяющими национальность, хотя все они играют ту или иную роль в ее определении. Национальность – сложное историческое образование, она формируется в результате кровного смешения рас и племен, многих перераспределений земель, с которыми она связывает свою судьбу, и духовно-культурного процесса, созидающего ее неповторимый духовный лик. И в результате всех исторических и психологических исследований остается неразложимый и неуловимый остаток, в котором и заключена вся тайна национальной индивидуальности. Национальность – таинственна, мистична, иррациональна, как и всякое индивидуальное бытие. Нужно быть в национальности, участвовать в ее творческом жизненном процессе, чтобы до конца знать ее тайну. Тайна национальности хранится за всей зыбкостью исторических стихий, за всеми переменами судьбы, за всеми движениями, разрушающими прошлое и создающими небывшее. Душа Франции средневековья и Франции XX века – одна и та же национальная душа, хотя в истории изменилось все до неузнаваемости.
Творчество национальных культур и типов жизни не терпит внешней, принудительной регламентации, оно не есть исполнение навязанного закона, оно свободно, в нем есть творческий произвол. Законнический, официальный, внешне навязанный национализм только стесняет национальное призвание и отрицает иррациональную тайну национального бытия. Законничество национализма и законничество гуманизма одинаково угнетает творческий порыв, одинаково враждебно пониманию национального бытия, как задачи творческой. Существует ветхозаветный национализм. Ветхозаветный, охраняющий национализм очень боится того, что называют «европеизацией» России. Держатся за те черты национального быта, которые связаны с исторической отсталостью России. Боятся, что европейская техника, машина, развитие промышленности, новые формы общественности, формально схожие с европейскими, могут убить своеобразие русского духа, обезличить Россию. Но это – трусливый и маловерный национализм, это – неверие в силу русского духа, в несокрушимость национальной силы, это – материализм, ставящий наше духовное бытие в рабскую зависимость от внешних материальных условий жизни. То, что воспринимается, как «европеизация» России, совсем не означает денационализации России. Германия была экономически и политически отсталой страной по сравнению с Францией и Англией, была Востоком по сравнению с Западом. Но пробил час, когда она приняла эту более передовую западную цивилизацию. Стала ли она от этого менее национальной, утеряла ли свой самобытный дух? Конечно, нет. Машина, сама по себе механически безобра́зная и безо́бразная, интернациональная, особенно привилась в Германии и стала орудием национальной воли. То, что есть злого и насильнического в германской машине, очень национальное, очень германское. В России машина может сыграть совсем иную роль, может стать орудием русского духа. Так и во всем. То, что называется европейской или интернациональной цивилизацией, есть в сущности фантом. Рост и развитие всякого национального бытия не есть переход его от национального своеобразия к какой-то интернациональной европейской цивилизации, которой совсем и не существует. Нивелирующий европеизм, международная цивилизация – чистейшая абстракция, в которой не заключено ни единой капли конкретного бытия. Все народы, все страны проходят известную стадию развития и роста, они вооружаются орудиями техники научной и социальной, в которой самой по себе нет ничего индивидуального и национального, ибо в конце концов индивидуален и национален лишь дух жизни. Но этот процесс роста и развития не есть движение в сторону, к какой-то «интернациональной Европе», которой нигде на Западе нельзя найти, это – движение вверх, движение всечеловеческое в своей национальной особенности. Есть только один исторический путь к достижению высшей всечеловечности, к единству человечества – путь национального роста и развития, национального творчества. Всечеловечество раскрывает себя лишь под видами национальностей. Денационализация, проникнутая идеей интернациональной Европы, интернациональной цивилизации, интернационального человечества, есть чистейшая пустота, небытие. Ни один народ не может развиваться вбок, в сторону, врастать в чужой путь и чужой рост. Между моей национальностью и моим человечеством не лежит никакой «интернациональной Европы», «интернациональной цивилизации». Творческий национальный путь и есть путь к всечеловечеству, есть раскрытие всечеловечества в моей национальности, как она раскрывается во всякой национальности.
IV
То, что обычно называют «европеизацией» России, неизбежно и благостно. Много есть тяжелого и болезненного в этом процессе, так как нелегок переход от старой цельности через расщепление и разложение всего органического к новой, не бывшей еще жизни. Но менее всего процесс «европеизации» означает, что мы станем похожими на немцев и англичан или французов. Совершенно лишено всякого смысла противоположение общечеловеческой ориентировки жизни ориентировке национальной. Призыв забыть о России и национальном и служить человечеству, вдохновляться лишь общечеловеческим ничего не значит, это – пустой призыв. Реальность всечеловечества зависит от реальности России и других национальностей. Россия – великая реальность, и она входит в другую реальность, именуемую человечеством, и обогащает ее, наполняет ее своими ценностями и богатствами. Космополитическое отрицание России во имя человечества есть ограбление человечества. Россия – бытийственный факт, через который все мы пребываем в человечестве. И Россия должна быть возведена до общечеловеческого значения. Россия – творческая задача, поставленная перед всечеловечеством, ценность, обогащающая мировую жизнь. Человечество и мир ждут луча света от России, ее слова, неповторимого дела. Всечеловечество имеет великую нужду в России. Для всечеловечества должно быть отвратительно превращение русского человека в интернационального, космополитического человека. Для всечеловечества необходимо возведение русского человека до всечеловеческого значения, а не превращение его в отвлеченного, пустого человека. Всечеловечность не имеет ничего общего с интернационализмом, всечеловечность есть высшая полнота всего национального. И мы должны творить конкретную русскую жизнь, ни на что не похожую, а не отвлеченные социальные и моральные категории. Вся жизнь наша должна быть ориентирована на конкретных идеях нации и личности, а не на абстрактных идеях класса и человечества. Судьба России бесконечно дороже судьбы классов и партий, доктрин и учений. Зоологическое национальное чувство и инстинкт, которые так пугают гуманистов космополитов, есть элементарное и темное еще стихийное состояние, которое должно быть преображено в творческое национальное чувство и инстинкт. Без изначальной и стихийной любви к России невозможен никакой творческий исторический путь. Любовь наша к России, как и всякая любовь, – произвольна, она не есть любовь за качества и достоинства, но любовь эта должна быть источником творческого созидания качеств и достоинств России. Любовь к своему народу должна быть творческой любовью, творческим инстинктом. И менее всего она означает вражду и ненависть к другим народам. Путь к всечеловечеству для каждого из нас лежит через Россию. И поистине всякая денационализация отделяет нас от всечеловечества. Лик России будет запечатлен в самом небесном человечестве. В едином человечестве могут соединяться лишь индивидуальности, а не пустые отвлеченности. Истина о положительной связи национальности и человечества может быть выражена и с другой, противоположной стороны. Если недопустимо противоположение идеи человечества идее национальности, то недопустимо и обратное противоположение. Нельзя быть врагом единства человечества во имя национальности в качестве националиста. Такое обращение национальности против человечества есть обеднение национальности и ее гибель. Такого рода ложный, отщепенский национализм должен разделить судьбу пустого интернационализма. Творческое утверждение национальности и есть утверждение человечества. Национальность и человечество – одно.
Национализм и мессианизм
I
Национализм и мессианизм соприкасаются и смешиваются. Национализм в своем положительном утверждении, в моменты исключительного духовного подъема переливается в мессианизм. Так в Германии в начале XIX века духовный национальный подъем у Фихте переступил свои границы и превратился в германский мессианизм. И национализм славянофилов незаметно переходил в мессианизм. Но национализм и мессианизм глубоко противоположны по своей природе, по своему происхождению и задачам. Противоположность националистических и мессианских стремлений всегда очень чувствовалась в России. Трудно было бы открыть мессианскую идею в национализме «Нового Времени» или наших думских националистов. Такого рода националистам всякий мессианизм со своим безумием и жертвенностью должен представляться не только враждебным, но и опасным. Националисты – трезвые, практические люди, хорошо устраивающиеся на земле. Национализм может быть укреплен на самой позитивной почве, и обосновать его можно биологически. Мессианизм же мыслим лишь на религиозной почве, и обосновать его можно лишь мистически. Возможно существование многих национализмов. Национализм в идее не претендует на универсальность, единственность и исключительность, хотя на практике легко может дойти до отрицания и истребления других национальностей. Но по природе своей национализм партикулярен, он всегда частный, сами его отрицания и истребления так же мало претендуют на вселенскость, как биологическая борьба индивидуальностей в мире животном. Мессианизм не терпит сосуществования, он – единственный, всегда вселенский по своему притязанию. Но мессианизм никогда не отрицает и биологически не истребляет другие национальности, он их спасает, подчиняет своей вселенской идее.
Религиозные корни мессианизма – в мессианском сознании еврейского народа, в его сознании себя избранным народом Божиим, в котором должен родиться Мессия, Избавитель от всех зол, создающий блаженное царство Израиля. Древнееврейский мессианизм – исключительный, прикованный к одной национальности и извергающий все другие национальности. В еврейском мессианизме нет еще идеи всечеловечности. Для христианства уже нет различия между эллином и иудеем. Еврейский мессианизм невозможен в христианском мире. С явлением Христа-Мессии религиозная миссия еврейского народа кончилась и кончился еврейский мессианизм. В мире христианском недопустима уже яростная религиозно-национальная ненависть. Она возможна лишь как факт биологический, а не факт религиозный. Царство Израиля в христианском мире есть царство всечеловеческое. Христианство нимало не отрицает рас и национальностей, как природных, духовно-биологических индивидуальностей. Но христианство есть религия спасения и избавления всего человечества и всего мира. Христос пришел для всех и для вся. И хотя невозможен в христианском человечестве исключительный национальный мессианизм, отрицающий саму идею человечества, мессианизм ветхозаветный, но возможен преображенный новозаветный мессианизм, исходящий от явления Мессии всему человечеству и всему миру. В христианском человечестве мессианское сознание может быть обращено лишь вперед, лишь к Христу Грядущему, ибо по существу это сознание – пророческое. И чисто религиозный, чисто христианский мессианизм всегда приобретает апокалиптическую окраску. Христианский народ может сознать себя народом богоносным, христианским, народом-Мессией среди народов, может ощутить свое особое религиозное призвание для разрешения судеб мировой истории, нимало не отрицая этим другие христианские народы. Мессианизм русский, если выделить в нем стихию чисто мессианскую, по преимуществу апокалиптический, обращенный к явлению Христа Грядущего и его антипода – антихриста. Это было в нашем расколе, в мистическом сектантстве и у такого русского национального гения, как Достоевский, и этим окрашены наши религиозно-философские искания. Мессианское сознание в христианском мире антиномично, как и все в христианстве. В духовном складе русского народа есть черты, которые делают его народом апокалиптическим в высших проявлениях его духовной жизни. Апокалиптичностью запечатлен и мессианизм польский, и это обнаруживает духовную природу славянской расы. Но мессианская идея может оторваться от своей религиозно-христианской почвы и переживаться народами, как исключительное духовно-культурное призвание. Так германский мессианизм по преимуществу расовый, с сильно биологической окраской. Германский народ на своих духовных вершинах сознает себя не носителем Христова Духа, а носителем высшей и единственной духовной культуры. Германская раса – избранная высшая раса. Апокалиптическая настроенность совершенно чужда германскому духу, ее не было и в старой германской мистике. В этом – основное отличие славян от германцев. Но германское сознание у Фихте, у старых идеалистов и романтиков, у Р. Вагнера и в наше время у Древса и Чемберлена с такой исключительностью и напряженностью переживает избранность германской расы и ее призванность быть носительницей высшей и всемирной духовной культуры, что это заключает в себе черты мессианизма, хотя и искаженного. Древс считает возможным даже говорить о создании германской религии, религии германизма, чисто арийской, но не христианской и антихристианской.
II
В XIX и XX веках мессианские и националистические переживания переплетаются, смешиваются и незаметно переходят друг в друга. Нужно помнить, что национализм – явление новое, он развился лишь в XIX веке, он пришел на смену средневековому и древнеримскому универсализму. Национализм, дошедший в своих притязаниях до отрицания других национальных душ и тел, до невозможности всякого положительного общения с ними, есть эгоистическое самоутверждение, ограниченная замкнутость. Почва его – элементарно биологическая. И чем более такой национализм претендует на безграничность, тем он становится ограниченнее. Безграничная притязательность национализма делает его отрицательным, утесняющим, отделяет его от универсализма, лишает его творческого духа. Таков национализм Каткова или Данилевского. Национальный организм, всегда представляющий собой бытие партикуляристическое, а не универсальное, не вмещает в себе вселенского, всечеловеческого духа, но имеет претензию быть всем и все поглощать. Всякое смешение национализма с мессианизмом, всякое выдавание национализма за мессианизм порождается темнотой сознания и несет в мире зло. Подмены всегда бывают злоносны. И необходимы строгие различения. Ибо частное не должно выдавать себя за всеобщее. Национализм есть положительное благо и ценность, как творческое утверждение, раскрытие и развитие индивидуального народного бытия. Но в этом индивидуальном образе народном должно изнутри раскрываться всечеловечество. Пагубно, когда национальность в безграничном самомнении и корыстном самоутверждении мнит себя вселенной и никого и ничего не допускает рядом с собой. Таково направление германского национализма. Но плодоносно, когда национальность творческими усилиями раскрывает в себе вселенское, не обезличивая своего индивидуально-неповторяемого образа, но вознося его до значения всечеловеческого. Национальность не может претендовать на исключительность и универсальность, она допускает другие национальные индивидуальности и вступает с ними в общение. Национальность входит в иерархию ступеней бытия и должна занимать свое определенное место, она иерархически соподчинена человечеству и космосу. И необходимо строго различать национализм и мессианизм.
Мессианизм принадлежит к совершенно другому духовному порядку. Мессианизм относится к национализму, как второе рождение мистиков относится к первому природному рождению. Национальное бытие есть природное бытие, за которое необходимо бороться, которое необходимо раскрывать и развивать. Но мессианское призвание лежит уже вне линии природного процесса развития, это – блеск молнии с неба, божественный огонь, в котором сгорает всякое земное устроение. Благоразумного мессианизма, хорошо устраивающего земные дела, быть не может. В мессианском сознании всегда есть исступленное обращение к чудесному, к катастрофическому разрыву в природном порядке, к абсолютному и конечному. Национализм же есть пребывание в природно-относительном, в историческом развитии. Национализм и мессианизм нимало не отрицают друг друга, так как находятся в разных порядках. Национализм может лишь утверждать и развивать то природно-историческое народное бытие, в глубине которого может загореться мессианская идея, как молния, сходящая с духовного неба. Но возможно допустить подмены мессианизма национализмом, выдавания явления этого мира за явление мира иного. Очистительная и творческая национальная работа может лишь уготовлять вместилище для мессианской идеи. Но сама мессианская идея идет из иного мира, и стихия ее – стихия огня, а не земли.
III
Внутри самого мессианского сознания происходит смешение мессианизма христианского с мессианизмом еврейским. И если пагубна подмена мессианизма национализмом, универсализма – партикуляризмом, то не менее пагубна подмена христианского мессианизма – еврейским. Еврейский мессианизм навеки невозможен после Христа. Внутри самого еврейства роль его стала отрицательной, ибо может быть лишь ожиданием нового Мессии, противоположного Христу, который и утвердит царство и блаженство Израиля на земле. Но еврейский мессианизм проникает в христианский мир, и там подменяет он служение – притязанием, жертвенность – жаждой привилегированного земного благополучия. Но христианское мессианское сознание народа может быть исключительно жертвенным сознанием, сознанием призванности народа послужить миру и всем народам мира делу их избавления от зла и страдания. Мессия по мистической природе своей – жертвен, и народ-Мессия может быть лишь жертвенным народом. Мессианское ожидание есть ожидание избавления через жертву. Еврейский же хилиазм, который ждет блаженства на земле без жертвы, без Голгофы, глубоко противоположен христианской мессианской идее. И ожидание Христа Грядущего предполагает прохождение через Голгофу, принятие Христа Распятого и героический, творческий путь ввысь. У польских мессианистов, у Мицкевича, Товянского, Цешковского, было очень чистое жертвенное сознание, оно загоралось в сердце народном от великих страданий. Но слишком скоро жертвенный мессианизм в Польше заменился крайним национализмом. Мессианское сознание народа может быть лишь плодом великих народных страданий. И мессианская идея, заложенная в сердце русского народа, была плодом страдальческой судьбы русского народа, его взысканий Града Грядущего. Но в русском сознании произошло смешение христианского мессианизма с мессианизмом еврейским и с преступившим свои пределы национализмом. У нас не было здорового национального сознания и национального чувства, всегда был какой-то надрыв, всегда эксцессы самоутверждения или самоотрицания. Наш национализм слишком часто претендовал быть мессианизмом древнееврейского типа, яростного, исключительного и притязательного. Обратной же стороной его было полное отрицание национальности, отвлеченный и утопический интернационализм.
Необходимо внутри нашего национального самосознания произвести расчленения и очищения. Национализм утверждает духовно-биологическую основу индивидуально-исторического бытия народов, вне которой невозможно выполнение никаких миссий. Народ должен быть, должен хранить свой образ, должен развивать свою энергию, должен иметь возможность творить свои ценности. Но самый чистый, самый положительный национализм не есть еще мессианизм. Мессианская идея – вселенская идея. Она определяется силой жертвенного духа народа, его исключительной вдохновленностью царством не от мира сего, она не может притязать на внешнюю власть над миром и не может претендовать на то, чтобы даровать народу земное блаженство. И я думаю, что в России, в русском народе есть и исключительный, нарушивший свои границы национализм, и яростный исключительный еврейский мессианизм, но есть и истинно христианский, жертвенный мессианизм. Образ России двоится, в нем смешаны величайшие противоположности. Крайнее утверждение национализма у нас нередко соединяется с отрицанием русского мессианизма, с абсолютным непониманием мессианской идеи и отвращением от нее… Национализм может быть чистым западничеством, евреизацией России, явлением партикуляристическим по своему духу, не вмещающим никакой великой идеи о России, неведующим России, как некоего великого Востока. И, наоборот, полное отрицание национализма может быть явлением глубоко русским, неведомым западному миру, вдохновленным вселенской идеей о России, ее жертвенным мессианским призванием. Мессианизм, переходящий в отрицание всякого национализма, хочет, чтобы русский народ жертвенно отдал себя на служение делу избавления всех народов, чтобы русский человек явил собой образ всечеловека. Русской душе свойственно религиозное, а не «интернациональное» отрицание национализма. И это явление – русское, характерно национальное, за ним стоит облик всечеловека, который решительно нужно отличать от облика космополита.
IV
Но русской душе недостает мужественного сознания, она не сознает, не освещает своей собственной стихии, она многое смешивает. Русский апокалипсис переживается пассивно, как пронизанность русской души мистическими токами, как вибрирование ее тончайших тканей. Эта пассивная, рецептивная, женственная апокалиптичность русской души должна быть соединена с мужественным, активным, творческим духом. России необходимо мужественное национальное сознание. Необходима творческая работа мысли, которая произведет расчленение, прольет свет на русскую тьму. В народной русской жизни апокалиптические переживания, погружавшие в тьму, доводили до самосожжения и до истребления всякого бытия. Этот уклон всегда есть в русской жажде абсолютного, в русском отрицании всего относительного, всего исторического. Также погружено в тьму сознание русской революционной интеллигенции, так часто отрицавшей национальность и Россию, и очень национальной, очень русской по своей стихии. Русская стихия остается темной, не оформленной мужественным сознанием. Русская душа нередко переживает бессознательный, темный мессианизм. Это было у Бакунина, по-своему исповедовавшего славянский мессианизм. Это было у некоторых русских анархистов и революционеров, веровавших в мировой пожар, из которого чудесно родится новая жизнь, и в русском народе видевших того Мессию, который зажжет этот пожар и принесет миру эту новую жизнь. У наших националистов официальной марки, как старой формации, так и новейшей западной формации, уж во всяком случае меньше русского мессианского духа, чем у иных сектантов или иных анархистов, людей темных по своему сознанию, но истинно русских по своей стихии. В самых причудливых и разнообразных формах русская душа выражает свою заветную идею о мировом избавлении от зла и горя, о нарождении новой жизни для всего человечества. Идеей этой, поистине мессианской идеей, одинаково одержим Бакунин и Н.Ф. Федоров, русский социалист и Достоевский, русский сектант и Вл. Соловьев. Но это русское мессианское сознание не пронизано светом сознания, не оформлено мужественной волей. Мы должны сознать, что русский мессианизм не может быть претензией и самоутверждением, он может быть лишь жертвенным горением духа, лишь великим духовным порывом к новой жизни для всего мира. Мессианизм не означает, что мы лучше других и на большее можем притязать, а означает, что мы больше должны сделать и от большего способны отречься. Но всякому мессианскому служению должна предшествовать положительная национальная работа, духовное и материальное очищение, укрепление и развитие нашего национального бытия. Мессианизм не может быть программой, программа должна быть творчески-национальной. Мессианизм же есть эзотерическая глубина чистого, здорового и положительного национализма, есть безумный духовно-творческий порыв.
Национализм и империализм
I
Проблема национализма и проблема империализма очень обострены мировой борьбой народов. В области мысли одним из плодов нынешней войны будут философия национализма и философия империализма. Но работа сознания в этом направлении должна быть плодотворной и для практических задач, для всего направления нашей мировой и внутренней политики. Наш национализм доныне находился на очень низком уровне сознания. Национальные волевые импульсы не были у нас просветлены. И русский империализм, как всемирно-исторический факт, не был еще достаточно осознан и не был сопоставлен с так называемой националистической политикой. В широких кругах русской интеллигенции этими проблемами мало интересовались и даже считали их несколько «реакционными». Лишь война пробудила национальное чувство и стихийно принудила к выработке национального сознания. На свободе, без крайней необходимости, мы были в этом отношении очень беспечны.
Мировую войну можно рассматривать с разных точек зрения. В одном из своих аспектов мировая война должна быть признана неотвратимым и роковым моментом в развитии и диалектике империализма. Она есть результат столкновения империалистических воль к мировому могуществу и мировому преобладанию. Существование нескольких мировых претензий не может не породить мировой войны. Мировые же империалистические претензии Германии слишком поздно явились в истории, когда земной шар был уже величайшей морской державой, а Россия – величайшей сухопутной державой. Но мировая война связана не только с обострением империалистической политики великих держав, – она также очень остро ставит вопрос о судьбе всех национальностей, вплоть до самых малых. Все национальные организмы хотят устроиться в мире, хотят войти в свои естественные границы. Война жалует и истребляет слабые национальности, и вместе с тем она пробуждает в них волю к автономному существованию. Огромные империалистические организмы расширяются и стремятся к образованию мирового царства. И параллельно этому самые маленькие национальные организмы стремятся к самостоятельности, возлагаясь на покровительство великих держав. Империализм и национализм – разные начала, за ними скрыты разные мотивы, и их следует ясно различать.
В истории нового человечества происходит двойственный процесс – процесс универсализации и процесс индивидуализации, объединения в большие тела и дифференциации на малые тела. Национализм есть начало индивидуализации, империализм – начало универсализации. В то время как национализм склонен к обособлению, империализм хочет выхода в мировую ширь. Эти начала разнокачествуют, но не исключают друг друга, они сосуществуют. Империализм по природе своей выходит за пределы замкнутого национального существования, империалистическая воля есть всегда воля к мировому существованию. Через борьбу, через раздор империализм все же способствует объединению человечества. Империалистическая воля пролила много крови в человеческой истории, но за ней скрыта была идея мирового единства человечества, преодолевающего всякую национальную обособленность, всякий провинциализм. В древности Римская империя не была уже национальностью, она стремилась быть вселенной. Идея всемирной империи проходит через всю историю и доходит до XX века, когда она теряет свой священный характер (Священная Римская империя) и приобретает основу в значительной степени торгово-промышленную. Экономизм нашего века наложил свою печать и на идею мировой империи. Англия явила собой первый могущественный образец нового империализма. И нужно сказать, что в империалистической политике великая удача выпала на ее долю и бескровно сделала ее владычицей морей и океанов. Все великие державы стремятся к империалистическому расширению и ведут империалистическую политику. Это – рок всякой великодержавности. К тому времени, когда возгорелась небывалая за всю историю мировая война, выяснилось, что есть три величайшие державы, которые могут претендовать на мировое преобладание – Англия, Россия и Германия. Сосуществование этих трех мировых империалистических воль невозможно. Неизбежно столкновение и выбор. И очень наивна та философия истории, которая верит, что можно предотвратить движение по этому пути мировой империалистической борьбы, которая хочет видеть в нем не трагическую судьбу всего человечества, а лишь злую волю тех или иных классов, тех или иных правительств.
II
Проблему империализма нельзя ставить на субъективно-моралистическую почву нашего сочувствия или несочувствия империалистической политике. Можно совсем не иметь империалистического пафоса и даже с отвращением относиться ко многим неприглядным сторонам империалистической политики и все же признавать объективную неизбежность и объективный смысл империализма. Можно с негодованием относиться к некоторым сторонам колониальной политики и все же признавать, что она способствует мировому объединению культуры. Империализм разделяет и порождает мировую войну. Но он же объединяет человечество, приводит его к единству. Образование больших империалистических тел совершенно неизбежно, через него должно пройти человечество. Это одна из неотвратимых тенденций исторического процесса. Человечество идет к единству через борьбу, распрю и войну. Это – печально, это может вызывать наше негодование, это – показатель большой тьмы, в которую погружены самые корни человеческой жизни, но это так. Гуманитарный пасифизм провозглашает превосходные нравственные истины, но он не угадывает путей, которыми совершается историческая судьба человечества. Судьба эта совершается через очень трагические противоречия, не прямыми, нравственно ясными путями. Исторические пути человечества, исполненные противоречий, заключают в себе большие опасности, возможности срыва вниз и отбрасывания назад, к инстинктам звериным, но их нужно мужественно пройти, охраняя высший образ человека. Объективный смысл империализма глубже и шире того, что на поверхности называют империалистической политикой. Империализм, как бы ни были часто низменны его мотивы и дурны его приемы, все же выводит за грани замкнутого национального существования, он выводит за границы Европы в мировую ширь, за моря и океаны, объединяет Восток и Запад. Пафос всемирности живет и в торгово-промышленном империализме.
Но империализм с его мировыми притязаниями вовсе не означает непременно угнетения и истребления малых национальностей. Империализм не есть непременно разбухание одной какой-нибудь национальности, истребляющей всякую другую национальность. Тип германского империализма не есть единственный тип империализма. Есть даже большее основание думать, что Германия не имеет империалистического призвания и что империализм ее есть лишь зазнавшийся свыше всякой меры национализм. Характерно, что величайший государственный человек Германии – Бисмарк был еще лишен империалистического сознания и политика его была лишь национальной. Слишком зазнавшийся и слишком разбухший национализм несет с собой угнетение всем национальным индивидуальностям. Национализм должен знать свои границы. За этими границами начинается уже не национализм, а империализм. Это сознала Англия. Тут мы подходим к очень важному для России вопросу о соотношении империализма и национализма. Россия – величайшая в мире сухопутная империя, целый огромный мир, объемлющий бесконечное многообразие, великий Востоко-Запад, превышающий ограниченное понятие индивидуальности. И поскольку перед Россией стоят мировые империалистические задачи, они превышают задачи чисто национальные. Так было в древности в Римской империи, так в новое время стоит вопрос в империи Великобританской. Великая империя должна быть великой объединительницей, ее универсализм должен одаряюще обнимать каждую индивидуальность. Всякая великая империя, исторически жизнепригодная, должна иметь пребывающее национальное ядро, из которого и вокруг которого совершается ее всемирно-историческая работа. Великорусское племя и составляет такое ядро русского империализма, оно создало огромную Россию. Российская империя заключает в себе очень сложный национальный состав, она объединяет множество народностей. Но она не может быть рассматриваема как механическая смесь народностей – она русская по своей основе и задаче в мире. Россия есть некий организм в мире, имеющий свое специфическое призвание, свой единственный лик.
III
Русский империализм, которому так много естественно дано, не походит на империализм английский или германский, он совсем особенный, более противоречивый по своей природе. Русский империализм имеет национальную основу, но по заданиям своим он превышает все чисто национальные задания, перед ним стоят задачи широких объединений, быть может, невиданных еще объединений Запада и Востока, Европы и Азии. Стоим ли мы на высоте этих выпавших на нашу долю задач? Это подводит нас к вопросу о нашей националистической политике. Россия тогда лишь будет на высоте мировых империалистических задач, когда преодолеет свою старую националистическую политику, в сущности не согласную с духом русского народа, и вступит на новый путь. Если мировая война окончательно выведет Россию в мировую ширь, на путь осуществления ее мирового призвания, то прежде всего должна измениться политика по отношению ко всем населяющим ее народностям. Всечеловеческий и щедрый дух русского народа победит дух провинциальной исключительности и самоутверждения. Наша политика впервые сделается истинно национальной, когда она перестанет быть насильнически и исключительно националистической. Такая националистическая политика совершенно противоречит идее великой мировой империи. Такого рода национализм есть показатель слабости, он несоединим с чувством силы. Он возможен или у народов, освобождающихся от рабства, или у маленьких и слабых народов, боящихся попасть в рабство. Великая мировая империя, в основе которой лежит сила, а не слабость господствующего национального ядра, не может вести националистической политики, озлобляющей те народности, которые она объемлет, внушающей всем нелюбовь к себе и жажду освобождения. Такая политика в конце концов антигосударственна и ведет к разделению и умалению великой России. Русская политика может быть лишь империалистической, а не националистической, и империализм наш, по положению нашему в мире, должен быть щедродарящим, а не хищнически-отнимающим. Национальное ядро великой империи, объемлющей множество народностей, должно уметь внушать к себе любовь, должно притягивать к себе, должно обладать даром обаяния, должно нести своим народностям свет и свободу. И можно сказать, что народная Россия внушает к себе такую любовь и притягивает к себе всех. Наши инородцы находятся под обаянием подлинной русской культуры. Россия же официальная тщательно отталкивает от себя и хочет вытравить эту любовь и это притяжение. Она хочет разъединить внутренне, оттолкнуть как можно больше и сцепить неволей и насилием. Но русский империализм тогда лишь будет иметь право на существование, если он будет дарящим от избытка, в этом лишь будет знак его мощи. Россия провиденциально империалистична, но лишена империалистического пафоса, в этом ее своеобразие. Старая националистическая политика была труслива и бессильна, она насиловала от страха, и в основе ее лежало неверие в великорусское племя. Но если в великорусском племени нет настоящей силы и настоящего духа, то оно не может претендовать на мировое значение. Насилие не может заменить силы. Отсутствие дара не может быть компенсировано никаким устрашением. Поразительно, до чего неверующими в России были всегда наши националисты. Их жесты были жестами бессилия.
Именно в русском империализме должна была быть всечеловеческая широта и признание всякой народной индивидуальности, бережное и щедрое отношение ко всякой народности. Понимание народных душ – гордость русского гения. В основу русской идеи легло сознание русского человека, как всечеловека. И если русский империализм не будет выражением этого русского народного духа, то он начнет разлагаться и приведет к распадению России. Великая империя, верящая в свою силу и свое призвание, не может превращать своих граждан в бесправных париев, как то было у нас с евреями. Это ведет к распадению империалистического единства. Лишь свободные граждане могут быть опорой империи. Большое количество бесправных, гонимых и всячески озлобляемых представляет опасность. У нас официально был избран самый дурной способ сохранения национального лика, способ, искажающий этот лик, а не охраняющий его. Русский империализм пространственно насыщен, у него не может быть хищнических вожделений.
Внешней задачей русского империализма является лишь обладание проливами, выходом к морям. Другой задачей является освобождение угнетенных народностей. Но эта благородная миссия может быть исполнена лишь в том случае, если Россия никогда не будет угнетать у себя внутри, если она и внутренне будет освободительницей угнетенных народностей. Прежде всего Россия должна освободительно решить польский вопрос, как вопрос мировой. По-иному, но все же в духе освободительном должны быть решены вопросы – еврейский, финляндский, армянский и мн. др. Наша галицийская политика не могла способствовать укреплению величия России и ее престижа. Добились лишь усиления украинских сепаратистических настроений. Если Россия не сумеет внушить любви к себе, то она потеряет основания для своего великого положения в мире. Ее империализм не может быть агрессивным. Ее национализм должен выражать русский всечеловеческий народный характер.
Конец Европы
I
Мечта о всемирном соединении и всемирном владычестве – вековечная мечта человечества. Римская империя была величайшей попыткой такого соединения и такого владычества. И всякий универсализм связывается и доныне с Римом, как понятием духовным, а не географическим. Нынешняя мировая война, которая все разрастается и грозит захватить все страны и народы, кажется глубоко противоположной этой старой мечте о мировом соединении, об едином всемирном государстве. Такая страшная война, казалось бы, разрушает единство человечества. Но это так лишь на поверхностный взгляд. С более углубленной точки зрения мировая война до последней степени обостряет вопрос о мировом устройстве земного шара, о распространении культуры на всю поверхность земли. Нынешнее историческое время подобно эпохе великого переселения народов. Чувствуется, что человечество вступает в новый исторический и даже космический период, в какую-то великую неизвестность, совершенно не предвиденную никакими научными прогнозами, ниспровергающую все доктрины и учения. Прежде всего обнаружилось, что древние, иррациональные и воинственные расовые инстинкты сильнее всех новейших социальных интересов и гуманитарных чувств. Эти инстинкты, коренящиеся в темных источниках жизни, побеждают чувство буржуазного самосохранения. То, что представлялось сознанию второй половины XIX века единственным существенным в жизни человечества, все то оказалось лишь поверхностью жизни. Мировая война снимает эту пленку цивилизации XIX и XX вв. и обнажает более глубокие пласты человеческой жизни, расковывает хаотически иррациональное в человеческой природе, лишь внешне прикрытое, но не претворенное в нового человека. Социальный вопрос, борьба классов, гуманитарно-космополитический социализм и пр., и пр., все, что недавно еще казалось единственным важным, в чем только и видели будущее, отходит на задний план, уступает место более глубоким интересам и инстинктам. На первый план выдвигаются вопросы национальные и расовые, борьба за господство разных империализмов, все то, что казалось преодоленным космополитизмом, пасифизмом, гуманитарными и социалистическими учениями. Вечный буржуазный и социалистический мир оказался призрачным, отвлеченным. В огне этой страшной войны сгорело всякое доктринерство и расплавились все оковы, наложенные на жизнь учениями и теориями. Инстинкты расовые и национальные оказались в XX в. могущественнее инстинктов социальных и классовых. Иррациональное оказалось сильнее рационального в самых буржуазных и благоустроенных культурах. Борьба рас, борьба национальных достоинств, борьба великих империй за могущество и владычество по существу сверхнациональна. Здесь темная воля к расширению сверхличной жизни побеждает все личные интересы и расчеты, опрокидывает все индивидуальные перспективы жизни. Как много индивидуально ничем не вознаградимых жертв требует империалистическая политика или борьба за национальное достоинство. И в нашу эпоху разложения инстинктов все еще крепки инстинкты, на которые опирается империалистическая и национальная борьба. Интересы жизни частной, эгоистически семейной, мещанской побеждаются интересами жизни национальной, исторической, мировой, инстинктами славы народов и государств.
II
Национальное сознание и национализм – явление XIX века. После наполеоновских войн, вдохновленных идеей всемирной империи, начались войны национально-освободительные. Растет национальное самосознание. Кристаллизуются национальные государства. Самые маленькие народы хотят утвердить свой национальный лик, обладать бытием самостоятельным. Национальные движения XIX века глубоко противоположны универсальному духу средних веков, которыми владели идеи всемирной теократии и всемирной империи и которые не знали национализма. Напряженные национальные энергии действуют в XIX и XX вв. наряду с энергиями космополитическими, социалистическими, гуманитарно-пасифистскими. XIX век – самый космополитический и самый националистический век. Буржуазная европейская жизнь была и очень космополитической и очень националистической. Но дух вселенскости в ней трудно было бы обнаружить. Национализация человеческой жизни была ее индивидуализацией. А стремление к индивидуализации всего есть новое явление. Национальные государства, национальные индивидуальности вполне определяются только к XIX веку. И совершенно параллельно росту национального многообразия уменьшалась обособленность государств и наций, ослабевала провинциальная замкнутость. Можно сказать, что человечество идет к единству через национальную индивидуализацию. Параллельно индивидуализации в национальном существовании идет универсализация, развитие вширь. И можно также сказать, что ныне человечество идет к единству и соединению через мировой раздор войны, через длительное неблагополучие, в период которого мы вступаем. История – парадоксальна и антиномична, процессы ее – двойственны. Ничто в истории не осуществляется по прямой линии, мирным нарастанием, без раздвоения и без жертв, без зла, сопровождающего добро, без тени света. Расы и народы братаются в кровавой борьбе. В войне есть выход из партикуляристического и замкнутого бытия народов.
Могущественнейшее чувство, вызванное мировой войной, можно выразить так: конец Европы, как монополиста культуры, как замкнутой провинции земного шара, претендующей быть вселенной. Мировая война вовлекает в мировой круговорот все расы, все части земного шара. Она приводит Восток и Запад в такое близкое соприкосновение, какого не знала еще история. Мировая война ставит вопрос о выходе в мировые пространства, о распространении культуры по всей поверхности земного шара. Она до последней крайности обостряет все вопросы, связанные с империалистической и колониальной политикой, с отношениями европейских государств к другим частям света, к Азии и Африке. Уже одно то, что нынешняя война с роковой неизбежностью ставит вопрос о существовании Турции, о разделе ее наследства, выводит за пределы европейских горизонтов. Полупризрачное бытие Турции, которое долгое время искусственно поддерживалось европейской дипломатией, задерживало Европу в ее замкнутом существовании, предохраняло от слишком острых и катастрофических постановок вопросов, связанных с движением на Востоке. В Турции был завязан узел, от развязывания которого в значительной степени зависит характер существования Европы, ибо конец Турции есть выход культуры на Восток, за пределы Европы. А кроме вопроса о Турции война ставит еще много других вопросов, связанных с всемирно-исторической темой: Восток и Запад. Мировая война требует разрешения всех вопросов.
III
Великие державы ведут мировую политику, претендуют распространять свое цивилизующее влияние за пределы Европы, на все части света и все народы, на всю поверхность земли. Это – политика империалистическая, которая всегда заключает в себе универсалистическое притязание и должна быть отличаема от политики националистической. Национализм есть партикуляризм; империализм есть универсализм. В силу какого-то почти биологического закона, закона биологической социологии, великие или, по терминологии Н.Б. Струве, величайшие державы стремятся к бесконечному и ненасытному расширению, к поглощению всего слабого и малого, к мировому могуществу, хотят по-своему цивилизовать всю поверхность земного шара.
Талантливый и своеобразный английский империалист Крэмб видит значение английского империализма в том, чтобы «внушить всем людям, живущим в пределах Британской империи, английское мировоззрение»[4]. В этом видит он стремление расы к нетленности. Империализм с его колониальной политикой есть современный, буржуазный способ универсализации культуры, расширения цивилизации за пределы Европы, за моря и океаны. Современный империализм – явление чисто европейское, но он несет с собой энергию, окончательное раскрытие которой означает конец Европы. В диалектике империализма есть самоотрицание. Бесконечное расширение и могущество Британской империи означает конец Англии, как национального государства, как индивидуально-партикуляристического народного существования. Ибо Британская империя, как и всякая империя, в пределе своем есть мир, земной шар. В современном империализме, который я называю «буржуазным» в отличие от «священного» империализма прежних веков[5], есть то же стремление к мировому владычеству, что и в Римской империи, которую нельзя рассматривать, как бытие национальное. Это – Танталова мука великих держав, неутолимая их жажда. Только маленькие народы и государства соглашаются на чисто национальное существование, не претендуют быть миром. Но как отличны приемы современного буржуазного империализма от приемов старого священного империализма. И идеология и практика совсем иные. Ныне все имеет, прежде всего, экономическую подкладку. Современные империалисты не говорят уже ни о всемирной теократии, ни о священной всемирной империи. Колониальная политика, борьба за господство на море, борьба за рынки – вот что занимает современный империализм, вот его приемы и методы универсального могущества. Империалистическая политика поистине выводит за пределы замкнутого существования Европы и поистине служит универсализации культуры. Но совершается это косвенными и отрицательными путями. В прямое культуртрегерство империализма верить невозможно. Мы слишком хорошо знаем, как великие европейские державы разносят свою культуру по всему земному шару, как грубы и безобразны их прикосновения к расам других частей света, их цивилизование старых культур и дикарей. Культурная роль англичан в Индии, древней стране великих религиозных откровений мудрости, которые и ныне могут помочь народам Европы углубить их религиозное сознание, слишком известна, чтобы возможно было поддерживать ложь культурной идеологии империализма. Мировоззрение современных англичан более поверхностно, чем мировоззрение индусов, и они могут нести в Индию лишь внешнюю цивилизацию. Англия XIX века не в силах была родить Рамакришну, которого родила Индия. В прикосновении современной европейской цивилизации к древним расам и древним культурам всегда есть что-то кощунственное. А самомнение европейского, буржуазного и научного, цивилизаторского сознания – явление столь жалкое и пошлое, что оно духовно может рассматриваться лишь как симптом наступающего конца Европы – монополиста всемирной цивилизации. Сумерки Европы – вот чувство, от которого нельзя отделаться. Европе грозит частичная варваризация. И все-таки нельзя отрицать значения империализма, как выхода за пределы Европы и чисто европейской цивилизации, нельзя отрицать его внешней, материальной, географической миссии. Вся поверхность земного шара неизбежно должна быть цивилизована, все части света, все расы должны быть вовлечены в поток всемирной истории. Эта мировая задача ныне острее стоит перед человечеством, чем задачи внутренней жизни кристаллизованных европейских государств и культур.
IV
Британская империя первая явила собой тип современного империализма. Последним опытом священного империализма была мировая империя Наполеона, все еще создававшаяся под обаянием римской идеи. В эпоху же Наполеона окончательно исчезла, превратившаяся в призрак, Священная Римская империя. Отныне империя, все еще претендующая на мировое владычество, будет строиться на иных основаниях и будет иметь иную идеологию. Империализм тесно сплетается с экономизмом капиталистической эпохи. Англия явила пример классической страны имперостроительства. Инстинкты англосаксонской расы оказались вполне подходящими для создания мировой империи нового образца. Британская империя разбросана по всем частям света, и ей принадлежит пятая часть земного шара. Англичане призваны к тому, чтобы распространять свое могущество за моря. Английский империализм – мирный, не милитарный, культурно-экономический, торгово-морской. Нельзя отрицать империалистического дара и империалистического призвания английского народа. Можно сказать, что Англия имеет географически-империалистическую миссию. Миссия эта лежит не в сфере высшей духовной жизни, но она нужна во исполнение исторических судеб человечества. И по своему географическому положению, и по коренным свойствам своей расы англичане – самый империалистический, и быть может, единственный империалистический народ в современном смысле слова. Англичане – великие удачники в империалистической политике. Этого нельзя сказать про германцев. И несчастливое географическое положение, и воинственно-насильнические инстинкты германской расы делают германский империализм трудным, форсированным и непереносимым для других стран и народов. Германский империализм должен быть агрессивным и насильнически-захватным. В германском империализме капитализм новейшего образца тесно сплетается с милитаризмом. Это империализм чисто милитаристический, а милитаризм – модернизированно капиталистический, футуристический. Германская империя, стремящаяся к мировому владычеству через насилие, всегда производит впечатление выскочки, и она одержима невыносимым самомнением parvenue. Характерно, что Бисмарк не был еще империалистом: он более чем осторожно относился к колониальной политике. Он созидал национальную империю, завершал объединение германского народа. Империализм есть уже детище самоновейших поколений немецкой буржуазии и немецкого юнкерства. Свои буржуазные щупальцы простирает современная Германия внутрь России, Италии и др. стран и пытается все онемечить. Но Германия не империалистическая страна по своему призванию. Ее империализм – роковой для нее самой и для всей Европы. Именно германскому империализму суждено было разоблачить, что империализм неизбежно ведет не только к войне, но и к мировой войне. Мировая война – рок империалистической политики. Семя войны заложено в первоосновах самого мирного империализма. Никакому народу не суждено мирной империалистической политикой расширять свое могущество по поверхности земли. Всякий империализм роковым образом сталкивается с бурным потоком другого империализма. Сосуществование нескольких мировых притязаний означает мировую войну. Столкновение более старого английского империализма с более новым германским предрешено роком. Об этом за несколько лет до войны с большим подъемом говорил Крэмб в лекциях «Германия и Англия», хотя трудно согласиться с его идеализацией германского империализма. Империализм не имеет своей целью расширение цивилизации по всей земле, увеличение мировой общности, а ведет к мировому раздору и войне. В материалистическом империализме наступают сумерки Европы. Но рассвет после этой ночи может быть лишь мировым рассветом.
Перед XX веком мировая война поставит задачу выхода культуры из Европы в мировые пространства всей поверхности земного шара. Через ужас войны и зло колониальной политики, через борьбу рас и национальностей совершается объединение человечества и цивилизование всего земного шара. Перед этой мировой задачей на некоторое время отступают на второй план вопросы провинциально европейские. Раньше или позже должно ведь начаться движение культуры к своим древним истокам, к древним расам, на Восток, в Азию и Африку, которые вновь должны быть вовлечены в поток всемирной истории. Египет, Индия, Палестина не навсегда выпали из всемирной истории. А с мучительной проблемой Китая еще предстоит свести счеты. Закат чисто европейской культуры будет восходом солнца на Востоке. Загадочное выражение лиц древних народов Востока, которое так поражает нас, европейцев, должно быть когда-нибудь разгадано на каком-то перевале истории.
От этого загадочного взгляда древних рас Европе не удастся отделаться, некуда уйти. Европа не только должна нести свою культуру в Азию и Африку, но и должна что-то получить из древней колыбели культуры. Империализм со своей колониальной политикой был лишь внешним, буржуазным выражением того неизбежного всемирно-исторического движения, которое мы предвидим. Внутренне этот исторический поворот подготовлялся духовным кризисом европейской культуры, крахом позитивизма и материализма новейшего европейского сознания, разочарованием в жизни, жаждой новой веры и новой мудрости. Центр тяжести Западной Европы, по всей вероятности, передвинется еще более на Запад, в Америку, могущество которой очень возрастет после окончания войны. Да и американизм новейшей цивилизации тянет Европу в Америку. Восток – один выход за пределы европейской культуры, Америка – другой выход. Европа перестанет быть центром мировой истории, единственной носительницей высшей культуры. Если Европа хотела оставаться монополистом и пребывать в своем европейском самодовольстве, она должна была воздержаться от мировой войны. Но давно уже европейская жизнь превратилась в огнедышащий вулкан. Теперь Европа вплотную поставлена перед основной темой всемирной истории – соединения Востока и Запада. И задача в том, чтобы конец Европы и перелом истории были пережиты человечеством в духовном углублении и с религиозным светом.
V
Великие роли в этом мировом передвижении культуры должны выпасть на долю России и Англии. Миссия Англии более внешняя. Миссия России – более внутренняя. Россия стоит в центре Востока и Запада, она – Востоко-Запад. Россия – величайшая империя. Но именно потому ей чужд империализм в английском или германском смысле слова. У нас, русских, нет великоимперских стремлений, потому что великая империя – наша данность, а не задание. Россия слишком велика, чтобы иметь пафос расширения и владычества. Да и темперамент славянской расы – не империалистический темперамент. Россия не стремится к колониям, потому что в ней самой есть огромные азиатские колонии, с которыми предстоит еще много дела. Миссия России – защита и освобождение маленьких народов. России предстоит еще быть оплотом против опасности монгольского Востока. Но для этого она, прежде всего, должна освободиться от всего монгольско-восточного в себе самой. Единственным естественным притязанием России является Константинополь и выход к морям через проливы. Русский Константинополь должен быть одним из центров единения Востока и Запада. Материальная сила и материальное величие России – наша исходная данность. Нам не приходится с трудом отвоевывать себе каждую пядь земли, чтобы быть великими. И мы имеем все основания полагать мировую миссию России в ее духовной жизни, в ее духовном, а не материальном универсализме, в ее пророческих предчувствиях новой жизни, которыми полна великая русская литература, русская мысль и народная религиозная жизнь. И если близится конец провинциально замкнутой жизни Европы, то тем более близится конец провинциально замкнутой жизни России. Россия должна выйти в мировую ширь. Конец Европы будет выступлением России и славянской расы на арену всемирной истории, как определяющей духовной силы. Сильный космический ветер колеблет все страны, народы и культуры. Чтобы устоять от этого ветра, нужна большая духовная сосредоточенность и углубленность, нужно религиозное переживание исторических катастроф.
Задачи творческой исторической мысли
I
Одно из самых печальных явлений, обнаружившихся за время войны, как-то мало обращает на себя внимание. Я имею в виду почти полное отсутствие у нас творческой исторической мысли. Традиционный характер нашего мышления очень плохо приспособлен к постановке творческих исторических задач, к мировым перспективам. Наша национальная мысль все еще грешит провинциализмом, и направлена она, главным образом, на сведение отрицательных счетов. Россия была внутренне слишком разодрана и поглощена мелочными политическими распрями, партийными счетами, групповыми социальными антагонизмами, закрывавшими всякие большие мировые, исторические перспективы. Безвластное русское общество не могло ощутить ответственности за решение мировых судеб России. Мировая война, естественно, должна была бы направить национальную мысль на мировые задачи. Казалось, должны были быть сделаны попытки осмыслить войну, определить место России в мировой жизни, сознать свое призвание. Подлинное национальное самосознание ставит бытие нации в перспективу мировой истории, оно преодолевает провинциализм национальной жизни и национальных интересов. Зрелое национальное сознание есть также сознание всемирно-историческое. Голый и непросветленный эгоизм национализма или империализма не есть оправдание, и на нем не может создаться духовное бытие народов.
Существует ли Россия, как некое единство, более глубокое, чем все разделяющие интересы ее человеческого состава, есть ли в мире единый лик России и что значит для мира выражение этого лика? Имеет ли Россия свое особое призвание в мире, должна ли она сказать свое слово во всемирной истории? Какие конкретные задачи ставит перед Россией мировая война? Все эти вопросы, которые приносит с собой новый день всемирной истории, требуют огромных усилий творческой мысли. Никакие готовые, традиционные категории мысли не годны для решения этих вопросов. Должна быть произведена совершенно самостоятельная и новая работа мысли, усилие творческого духа. Но наша национальная мысль очень мало об этом думает или думает по старым шаблонам, по привычным категориям. Задачи войны все еще у нас по-настоящему не сознаны. Преобладающие оправдания войны довольно-таки банальны. Нельзя ведь удовольствоваться тем сознанием, что Россия отражает зло германского милитаризма. Проблема, поставленная войной, много глубже. Нельзя успокоиться и на старом славянофильском самовосхвалении, – в этом сказываются леность мысли, склонность духовно жить на всем готовом. Ведь славянофильская мысль все еще утверждает самодовлеющее провинциальное бытие России, а не мировое ее бытие. Славянофильство имело большие заслуги в деле национального самосознания, но оно было первоначальной, детской стадией этого самосознания, не соответствующей нынешнему историческому возрасту.
Ни в нашем «правом», ни в нашем «левом» лагере все еще не совершается творческой исторической мысли. Слишком поглощены своими «правыми» или «левыми», т. е. все еще национальными и не мировыми задачами. У нас почти отсутствует историческое мышление. Мы привыкли оперировать исключительно категориями моральными или социологическими, не конкретными, а отвлеченными. Наше сознание идет преимущественно отрицательным, не творческим путем. «Правые» поглощены совершенно отрицательной травлей национальностей, интеллигенции, розыском «левых» опасностей и заняты истреблением всех проявлений свободной общественности. «Левые» слишком сосредоточены на изобличении «буржуазии», на использовании отрицательных фактов в целях агитационных, слишком разделяют Россию на два стана. И Россия все еще не может сознать себя единой, творчески определить свои всемирно-исторические задачи. Применение отвлеченных социологических категорий разделяет, а не соединяет, злоупотребление же моральными заподазриваниями и моральным осуждением окончательно разобщает и приводит к распадению, как бы на две расы. Только решительное обращение нашего сознания к глубине национального бытия и к широте бытия всемирно-исторического ставит перед нами захватывающие творческие проблемы. Творческая историческая мысль должна окончательно преодолеть наш отрицательный национализм и отрицательный космополитизм.
II
Для того, кто смотрит на мировую борьбу с точки зрения философии истории, должно быть ясно, что ныне разыгрывается один из актов всемирно-исторической драмы Востока и Запада. Мировая война приводит в исключительное соприкосновение мир Запада и мир Востока, она соединяет через раздор, она выводит за границы европейской культуры и европейской истории. Проблема Востока и Запада в сущности всегда была основной темой всемирной истории, ее осью. Европейское равновесие всегда было условным построением. За пределами замкнутого мира Европы была мировая ширь, уходящая далеко на Восток. Государственную и культурную жизнь народов Европы всегда беспокоили мировые пространства, неизведанность и неизжитость Востока и Юга. Империалистическая политика великих держав Европы влекла к расширению империалистического могущества и культурного влияния за моря и океаны, к преодолению замкнутости чисто европейского существования. Неведомая ширь земного шара притягивает к себе. Взоры обращаются к Азии и Африке, к древним колыбелям культуры. Обратное движение с Запада на Восток, по-видимому, является внутренне неизбежной диалектикой европейской культуры. В замкнутой и самодовлеющей европейской культуре есть роковой уклон к предельному насыщению, к иссяканию, к закату. И она неизбежно должна искать движение за свои пределы, в ширь и даль. Империализм с его колониальной политикой есть одно из внешних выражений этого неотвратимого движения истории. Но еще глубже лежит культурное и духовное задание воссоединения Востока и Запада. Начинаются сумерки Европы.
Не случайно, что пожар мировой войны начался с Балкан, и оттуда всегда шла угроза европейскому миру. Не случайно, что и сейчас центральный интерес войны вновь перешел на Балканы. Балканы – путь с Запада на Восток. Константинополь – те ворота, через которые культура Западной Европы может пойти на Восток, в Азию и в Африку. В Константинополе – точка пересечения Востока и Запада. Образование Турецкой империи было шествием Востока на Запад. Разрушение Турецкой империи будет обратным шествием Запада на Восток. Этого движения боялись народы Европы, чувствуя себя как бы неготовыми для него, и факт существования Турции с Константинополем у входа Запада на Восток был выражением духовной незрелости европейских народов. Как не походит в этом новая Европа на Европу средневековую, отдавшуюся мечтательному порыву крестовых походов! Теперь Турцией Европа как бы защищается от самой себя. Но более всего боится Европа огромной и таинственной России, всегда казавшейся ей столь чуждой и неприемлемой. Европейская политика XVIII и XIX веков в значительной степени была направлена на то, чтобы не допустить Россию к Константинополю, к проливам, к морям и океанам. Европа заинтересована была в том, чтобы насильственно оставлять Россию в замкнутом круге, не допускать ее в мировую ширь, препятствовать мировой роли России. И сама Россия, по-видимому, не чувствовала себя созревшей для мировой роли. Такие русские национальные идеологии, как славянофильство, оправдывали провинциально-замкнутое, а не мировое бытие России. Россия всё себя противополагала Европе, как некоему единству. И славянофильское, и западническое сознание одинаково верило в существование Европы, как единого духа, единого типа культуры. Славянофильство противопоставляло Россию Европе, как более высокий духовный тип, а западничество мечтало об Европе, как идеале для России, как единственном типе мировой культуры. Но вот грянула мировая война и разрушила призрак единой Европы, единой европейской культуры, единого духовного европейского типа. Европа не может быть более монополистом культуры. Европа – неустойчивое образование. В самой Европе скрыты самые противоположные начала, самые враждебные стихии, самые взаимоисключающие духовные типы. Многим народам Европы Германия показалась более страшной, чем Россия, более чуждой, чем Восток. Война должна раздвинуть Европу с одной стороны на Восток, с другой стороны на крайний Запад. В последних результатах войны не может не усилиться Америка и не может не быть поставлен вопрос об историческом призвании славянской расы. Европа давно уже стремится преодолеть себя, выйти за свои пределы. Европа не есть идеал культуры вообще. Европа сама провинциальна. В Европе давно уже есть тайная, внутренняя тяга на Восток, которая на поверхности истории получала разные выражения. Столь разнохарактерные явления, как империализм в политике и теософия в духовной жизни, одинаково симптоматичны для тяготения к выходу за пределы европейской культуры, к движению с Запада на Восток. И великие задания крестовых походов вошли внутрь, но остались для Европы. Какое же положение должна занять Россия в этом всемирно-историческом движении?
III
Россия может сознать себя и свое призвание в мире лишь в свете проблемы Востока и Запада. Она стоит в центре восточного и западного миров и может быть определена, как Востоко-Запад. Не напрасно и не случайно русская мысль в течение всего XIX века вращалась вокруг споров славянофильства и западничества. В таком направлении русской мысли была та правда, что для русского сознания основная тема – тема о Востоке и Западе, о том, является ли западная культура единственной и универсальной и не может ли быть другого и более высокого типа культуры? В самих идеологиях славянофильства и западничества были ограниченность и незрелость. Но сама эта тема русских размышлений была глубокой и для России основной. Тема эта оставалась все еще идеологической, мало связанной с практическими перспективами. Русское мыслящее общество было ведь совершенно безответственно, и мысль его могла оставаться совершенно безответственной. Но мировая война вовлекает Россию в жизненную постановку темы о Востоке и Западе. Ныне мышление на эту тему не может уже быть столь отвлеченным и безответственным. Но случилось так, что к этому ответственному моменту нашей истории уровень нашей национальной мысли понизился, темы вечных размышлений нашей интеллигенции измельчали. И перед нами стоит задача – поднять уровень национальной мысли и связать ее с жизненными задачами, поставленными мировыми событиями. Россия так глубоко вовлечена в самую гущу мировой жизни, что никакая русская лень и инерция не могут уже отклонить ее от решения основных задач своей истории. Чем бы ни кончилась война, каковы бы ни были ее ближайшие политические последствия, – духовные последствия этой войны могут быть предвидены.
Мировая война должна вывести Россию из замкнутого провинциального существования в ширь мировой жизни. Потенциальные силы России должны быть обнаружены, подлинный лик ее, который доныне все еще двоился, – раскрыт миру. Это, во всяком случае, должно произойти если не путем победоносной силы и прямого возрастания мощи, то путем жертвенного страдания и даже унижения. Путей много, и в судьбе народов есть тайна, которой мы никогда рационально не разрешим. Самые страшные жертвы могут быть нужны народу, и через великие жертвы возможны достижения, которые невозможны были для самодовольного и благополучного прозябания. Духовным результатом мировой войны будет также преодоление односторонности и замкнутости так называемой европейской культуры, ее выход в мировую ширь. А это значит, что мировая война вплотную ставит перед Россией и перед Европой вековечную тему о Востоке и Западе в новой конкретной форме. Перед Европой и перед Россией будут поставлены с небывалыми остротой и конкретностью не только внешние, но и внутренние духовные вопросы о Турции и панславизме, о Палестине, об Египте, об Индии и буддизме, о Китае и панмонголизме. Европа была слишком замкнута в своем самодовольстве. Старый Восток и Юг интересовали ее, главным образом, со стороны колониальной политики и захвата рынков. Россия же еще не подымалась до постановки тех мировых вопросов, с которыми связано ее положение в мире. Слишком внутренне не устроена была Россия, слишком много элементарного должно было в ней решиться. Вл. Соловьев пытался обратить наше сознание к этим всемирно-историческим темам, но не всегда удачно. Во всяком случае, он обозначал большой шаг вперед по сравнению с славянофилами и западниками.
IV
Россия должна явить тип востоко-западной культуры, преодолеть односторонность западноевропейской культуры с ее позитивизмом и материализмом, самодовольство ее ограниченных горизонтов. Наш русский провинциализм и замкнутость нельзя преодолеть европейскими провинциализмом и замкнутостью. Мы должны перейти в мировую ширь. А в этой шири должны быть видны древние религиозные истоки культур. Восток по-новому должен стать равноценным Западу. В известном смысле европеизация России необходима и неотвратима. Россия должна стать для Европы внутренней, а не внешней силой, силой творчески-преображающей. Для этого Россия должна быть культурно преображена по-европейски. Отсталость России не есть своеобразие России. Своеобразие более всего должно быть обнаружено на высших, а не на низших стадиях развития. Темный Восток, удерживающий ее на элементарных стадиях, Россия должна в себе победить. Но западничество есть заблуждение детского возраста, и оно находится в противоречии с мировыми задачами России. Шаблоны западнической мысли так же не пригодны для постижения смысла мировых событий, как и шаблоны старославянской мысли. Историческая эпоха, в которую мы вступаем, требует органического соединения национального сознания с сознанием универсальным, т. е. определения мирового призвания национальностей. Перед нашей мыслью совершенно конкретно стоит задача осознания мировой роли России, Англии и Германии и их взаимоотношений. Об этом нужно поговорить в другой раз, но я думаю, что в мире господствующее положение должно принадлежать или России и Англии, или Германии. Преобладание России и Англии должно привести к сближению Востока и Запада и к решению проблемы Востока и Запада. Преобладание Германии привело бы к попытке создать новую мировую империю, претендующую на мировое господство и по существу не способную ничего сближать и соединять, так как не способную ничего признавать самоценным.
Обращение к творческим историческим задачам излечило бы нас от внутренних провинциальных распрей, от мелочной вражды. Мы духовно обязаны осознать место России в мировой борьбе. Постыдно лишь отрицательно определяться волей врага. Россия имеет свои самостоятельные задачи, независимые от злой воли Германии. Россия не только защищается, но и решает свои самостоятельные задачи. Над этими самостоятельными задачами мысль наша слишком мало работает. Необходимо призывать к самостоятельной творческой национальной мысли, которая должна вывести нас на вольный воздух, в ширь. Но творческая историческая мысль предполагает признание истории самостоятельной действительностью, особой метафизической реальностью. Такого обращения к истории у нас до сих пор почти не было, и нам не хватало соответствующих категорий для мышления над историей и ее задачами. В таком повороте сознания будет для нас что-то освобождающее.
Славянофильство и славянская идея
I
Война вплотную поставила перед русским сознанием и русской волей все больные славянские вопросы – польский, чешский, сербский, она привела в движение и заставила мучительно задуматься над судьбой своей весь славянский мир Балканского полуострова и Австро-Венгрии. Все болит сейчас в славянстве. И иногда кажется почти невозможным замирить старые споры славян между собой. Мировое столкновение славянской расы с расой германской, к которому вела вся история и которое не было непредвиденным, не может, казалось бы, не привести к славянскому самосознанию. Славянская идея должна быть осознана перед лицом грозной опасности германизма. Но ссоры в славянской семье все продолжаются. Балканский полуостров деморализован славянскими распрями. Польша разодрана, и в ней брат принужден сражаться против брата. Взаимное недоверие и подозрения поистине ужасны. А готово ли наше русское общественное сознание быть носителем и выразителем славянской идеи? Созрела ли эта идея? Популярна ли она настолько, чтобы быть сильной и изменять жизнь? Славянская идея находится у нас в самом печальном положении, она – в тисках и не может быть свободно выражена. Я верю, что бессознательно славянская идея живет в недрах души русского народа, она существует, как инстинкт, все еще темный и не нашедший себе настоящего выражения. Но настоящего славянского сознания, настоящей славянской идеи у нас нет.
Русское национальное самосознание и самосознание всеславянское рождалось у нас в распрях славянофильства и западничества. Славянскую идею можно искать только в славянофильстве, в западничестве нет и следов этой идеи. Но в нашем классическом славянофильстве, у Киреевского, Хомякова, Аксаковых, Самарина, трудно найти чистое выражение славянской идеи. Славянофильство точнее было бы назвать русофильством. Славянофильство прежде всего утверждало своеобразный тип русской культуры на почве восточного православия и противопоставляло его западному типу культуры и католичеству. В славянофильстве было еще много провинциальной замкнутости. Славянофилы все еще были добрыми русскими помещиками, очень умными, талантливыми, образованными, любившими свою родину и плененными ее своеобразной душой. Но сознание их еще не вмещало мировых перспектив. Славянофильская идеология была скорее отъединяющей, чем соединяющей. Это было еще детское сознание русского народа, первое национальное пробуждение от сна, первый опыт самоопределения. Но славянофильская идеология не может уже соответствовать зрелому историческому существованию русского народа. Славянофильские настроения созревали в неволе, в них чувствуется сдавленность, они мало пригодны для вольной, широкой исторической жизни. Старые славянофильские идеалы были прежде всего идеалами частной, семейной, бытовой жизни русского человека, которому не давали выйти в ширь исторического существования, который не созрел еще для такого существования[6]. Неволя делала славянофилов безответственными. Их не призывали к осуществлению своих идей, и их идеи часто бывали лишь прекраснодушием русского человека. Слабые стороны славянофильской идеологии, ее нежизнепригодность, ее старопомещичья тепличность, недостаточно были видны именно потому, что славянофильство не имело власти в жизни, было поставлено в оппозиционное положение. Силу имел лишь казенный официальный национализм, и он не нуждался в подозрительных услугах славянофилов, не нуждался ни в каких идеологиях. Славянофилы что-то почуяли в русской национальной душе, по-своему выразили впервые это русское самочувствие, и в этом их огромная заслуга. Но всякая попытка осуществления славянофильской идейной программы обнаруживала или ее утопичность и нежизненность, или ее совпадение с официальной политикой власти. И славянофильство у эпигонов своих роковым образом выродилось до отождествления с казенным национализмом. Образовалось казенно-официальное славянофильство, для которого славянская идея и славянская политика превратились в риторическую терминологию и которому никто уже не верит ни в России, ни за границей. Славянофильство оказалось бессильным повлиять на власть в направлении творческой славянской политики. Преобладающей осталась не славянская, а германская инспирированность, и ею заразились сами потомки славянофилов.
II
Только у славянофилов была национальная идея, только они признавали реальность народной души. Для западников не существовало народной души. Наша западническая мысль не работала над национальным сознанием. Но отношение славянофилов к самому больному и самому важному для нас, русских, славянскому вопросу – к вопросу польскому – было в корне своем ложным и не славянским. Никогда славянофилы не чувствовали по отношению к польскому народу славянского единства, славянского братства. Для славянофилов верный своему духу славянский мир должен быть, прежде всего, православным. Славянина неправославного они чувствовали изменником славянскому делу. И они не могли простить польскому народу его католичества. Они не могли понять и полюбить польскую душу потому, что не могли понять и полюбить душу католическую. А все своеобразие польской культуры определялось тем, что в ней католичество преломлялось в славянской душе. Так выковалось польское национальное обличье, совсем особенный славянско-католический лик, отличный и от лика романских католических народов, и от лика славянских православных народов. Для славянофилов Польша была тем Западом внутри славянского мира, которому они всегда противополагали русский православный Восток, носитель высшего духовного типа и полноты религиозной истины. Поляки казались прежде всего латинянами, и было почти забыто, что они славяне. Полонизм представляется католической опасностью. В своем отвращении к католичеству славянофилы доходили до того, что протестантскую Германию предпочитали странам и народам католическим. Лютеране занимали в России привилегированное положение по сравнению с католиками, они часто стояли у кормила правления. Идейное славянофильство и лишенная всяких идей власть в этом сходились. У Достоевского в еще более крайней форме сказалась вражда к католичеству и к Польше. В католичестве он видел дух антихриста и вместе с протестантской Германией хотел раздавить католичество. Образовалась довольно крепкая славянофильско-консервативная традиция, которая была принята нашей властью и вела на практике к тому, что наша политика была всегда в зависимости от Германии. Вражда к Польше и дружба с Германией – две стороны одного и того же явления у нас. А ведь не одни поляки – католики в славянском мире. И старославянофильское отношение к католичеству делало невозможным искреннее славянское единение. Вражда к польскому народу, перед которым мы должны были бы искупить свою историческую вину, делало наше славянофильство лицемерным. Справедливо указывали на то, что русские должны сначала у себя освободить угнетенных славян, а потом уже освобождать чужих славян. Славянская идея и славянское единение невозможны, если русский и православный тип славянства признается полной и исключительной истиной, не нуждающейся ни в каком дополнении и ни в каком существовании других типов славянской культуры. Тогда остается только политика обрусения и насильственного обращения в православие. Но эта политика несовместима со славянской идеей. Русская душа останется навеки славянской душой, принявшей прививку православия. Эта православная прививка чувствуется и в нравственном облике русских интеллигентов-атеистов, и у поносившего православие Л. Толстого. Но эта русская душа может братски сосуществовать с другими славянскими душами, принявшими другую духовную прививку и представляющими другой культурный тип. Душа России может полюбить душу Польши, другого великого славянского народа, и от этого она будет еще более самой собой. От такого единения разных душ в славянстве славянский мир только обогатится. Отношение к балканским славянам у славянофилов было иное и лучшее, чем к полякам. Но и тут славянофилы были слишком исключительными русофилами, чтобы допускать братское и равное отношение. Конечно, маленькая Сербия не может претендовать на равное значение с Россией. Несомненно и то, что Россия должна играть первенствующую роль в славянском мире. Вопрос совсем не в этом. Вопрос в том, чтобы Россия окончательно отказалась от той пугающей и отталкивающей идеи, что «славянские ручьи сольются в русском море», т. е. признала вечные права за всякой национальной индивидуальностью и относилась к ней, как к самоценности. И такое отношение будет вполне согласным с душой русского народа, великодушной, бескорыстной и терпимой, дарящей, а не отнимающей, которой все еще не знают славяне, так как она закрыта для них нашей не народной государственной политикой.
Славянофильство отпугивает и поляков, и славян, и прогрессивные слои русского общества. В славянофильстве было истинное зерно славянской идеи, но оно окружено устаревшей и разлагающейся оболочкой, слишком сросшейся с Россией казенной. Вл. Соловьев уже представляет огромный шаг вперед по сравнению со старыми славянофилами. Он преодолевает провинциальный национализм славянофилов. Мессианское сознание у Вл. Соловьева, как и у Достоевского, – мировое. Горизонты расширяются. У Вл. Соловьева уже совсем иное отношение к католичеству. Он видит в католичестве правду, с которой православный мир должен воссоединиться. Поэтому он иначе относится к польскому вопросу, чем старые славянофилы. С братской любовью обращал он свой взор к польскому народу и придавал ему большое положительное значение для судьбы самого русского народа. Но славянское чувство, славянское сознание слабо выражены у Вл. Соловьева, и его нельзя назвать глашатаем славянской идеи. Достоевский и Вл. Соловьев по универсальному характеру своего мессианского сознания могут быть сопоставлены с великими польскими мессионистами: с Мицкевичем, Словацким, Красинским, Товянским, Цешковским, Вронским. Мы постыдно мало знаем польских мессианистов и должны были бы теперь обратиться к их изучению. Польский мессианизм более чистый и более жертвенный, чем мессианизм русский, который не свободен от идеализации ощущений нашей государственной силы. В мессианском сознании Достоевского нельзя найти той чистой жертвенности, которая вдохновляла мессианское сознание поляков. Слишком связывал себя Достоевский с агрессивностью русской власти. Славянофилов же нельзя даже назвать мессианистами в строгом смысле слова, они скорее националисты, и по сознанию своему они стоят многими головами ниже польских мессианистов, которые должны быть признаны первыми провозвестниками славянской идеи. К сожалению, в дальнейшем трагическая судьба Польши привела к вытеснению славянского мессианизма исключительным польским национализмом. Среди польских мессианистов есть один, наименее известный, – Вронский, который исповедовал русский, а не польский мессианизм. Вронский давно предсказал мировую войну в таком почти виде, как она сейчас происходит, столкновение славянского мира с германским и неизбежность единения Польши с Россией в ее борьбе с Германией (см. его «Le destin de la France, de l’Allemagne et de la Russie comme Proĺеgomenes du Messianisme»). Русский народ Вронский считал богоносным народом. Но о Вронском у нас почти никто и не слыхал.
III
Западничество совсем не признавало ценности национальности, и славянская идея была окончательно чужда и русским либералам и русским революционерам. В левом западническом лагере национальность признавалась лишь отрицательно, лишь поскольку она преследуется и должна быть освобождена. Угнетенные национальности считали нужным брать под свою защиту, но вдохновляла всегда космополитическая идея, творческих национальных задач не признавали. Наши левые направления готовы были признать право на существование польской национальности или грузинской, поскольку они угнетены, но не соглашались признать русской национальности, потому что она государственно господствует. Но чужую национальную душу может почувствовать и узнать лишь тот, кто чувствует и знает собственную национальную душу. Только во время войны в русских либеральных и радикальных кругах начало просыпаться национальное сознание. Мысль начинает работать над национальным самоопределением и национальным признанием России и наталкивается на славянскую идею. Нечто от славянофильства должно быть воспринято и той частью общества, которая всегда сознавала себя западнической. Трагическая судьба растерзанной Польши и Сербии принудительно обращает нашу волю и наше сознание к славянам и славянской идее. Но мы должны сознать, что славянское единение невозможно на почве традиционного славянофильства и традиционного западничества и предполагает новое сознание, новые идеи. Невозможно утвердить всеславянскую идею на почве признания восточного православия единственным и полным источником высшей духовной культуры, так как этим отлучаются от духовного обращения поляки и все славяне-католики. Ясно, что духовный базис славянской идеи должен быть шире и вмещать в себя несколько религиозных типов. А это предполагает преодоление русского религиозного национализма.
В основу славянской идеи, как и вообще в основу русской мессианской идеи, можно положить лишь русский духовный универсализм, русскую Всечеловечность, русское искание Града Божьего, а не русскую национальную ограниченность и самодовольство, не русский провинциализм. Нужно полюбить душу России и интимно узнать ее, чтобы виден был русский сверхнационализм и русское бескорыстие, неведомые другим народам. Я думаю, что и славянофилы не выразили эту глубину русской души. Они не поднялись еще до всечеловечности, они не преодолели еще корыстного национального самоутверждения. Нужна новая славянская и новая русская идея, идея творческая, обращенная вперед, а не назад. Ныне мы вступаем в новый период русской и всемирной истории, и старые, традиционные идеи не годны уже для новых мировых задач, которые ставит перед нами жизнь. Мы слишком много пережили, слишком многое переоценили, и нет для нас возврата к старым идеологиям. Мы уже не славянофилы и не западники, ибо мы живем в небывалом мировом круговороте и от нас требуется несоизмеримо больше, чем от наших отцов и дедов. Все дремавшие силы русского народа должны быть приведены в действие, чтобы можно было справиться со стоящими перед нами задачами. Мы должны заставить поверить в нас, в силу нашей национальной воли, в чистоту нашего национального сознания, заставить увидеть нашу «идею», которую мы несем миру, заставить забыть и простить исторические грехи нашей власти. Нашей глубины не знали, но слишком хорошо знали тяжелую руку нашей государственности. И всякая славянская идея, которая скреплена с этой тяжелой рукой, отпугивает и вызывает отвращение. Славянское единение идет по совершенно новому пути. Наша национальная мысль должна творчески работать под новой славянской идеей, ибо пробил тот час всемирной истории, когда славянская раса должна выступить со своим словом на арену всемирной истории. Она придет на смену господству германской расы и сознает свое единство и свою идею в кровавой борьбе с германизмом. Идея славянского единения, прежде всего единения русско-польского, не должна быть внешнеполитической, утилитарно-государственной, – она прежде всего должна быть духовной, обращенной внутрь жизни. Судьба славянской идеи не может стоять в рабской зависимости от зыбких стихий мира, колебаний военной удачи, хитростей международной дипломатии, политиканских расчетов. Как и всякая глубокая идея, связанная с духовными основами жизни народов, она не может погибнуть от внешних неудач, она рассчитана на более далекие перспективы. Должно начаться в народе и обществе духовно-культурное всеславянское движение, и в конце концов это движение окажет влияние и на нашу политику, получившую такое тяжелое наследие от прошлого. Но зачинаться все должно не от внешних, утилитарно-политических соглашений и комбинаций, а от искренних, из глубины идущих объединений. Мы устали от лжи политиканства и хотели бы дышать вольным воздухом правды. Такая правда есть в природе русского человека. Такой правды ждем мы и от других славян.
Космическое и социологическое мироощущение
I
Мировая война несет с собой человечеству глубокий духовный кризис, который может быть обсуждаем с разных сторон. Последствия такой небывалой войны неисчислимы и не могут быть целиком предвидены. Много есть оснований думать, что мы вступаем в новую историческую эру. И если бросаются в глаза изменения внешние, международные, политические и экономические, то внутренние, духовные изменения приходят неприметно. Это всегда сначала процесс подземный. Наше предвидение будущего должно быть совершенно свободно от обычного оптимизма или пессимизма, от оценок по критериям благополучия. Было бы легкомысленно представлять себе жизнь после такой истощающей войны в особенно радужных и благополучных красках. Скорее можно думать, что мир вступает в период длительного неблагополучия и что темп его развития будет катастрофический. Но ценности, приобретенные человечеством в мировой борьбе, не определяются увеличением или уменьшением благополучия.
Сравнительно много говорят и пишут об экономических и политических последствиях войны. Меньше думают о ее духовных последствиях, о ее влиянии на все наше миросозерцание. Об одном из таких малопредвиденных последствий я и хотел бы поговорить. В XIX веке мироощущение и миросознание передовых слоев человечества было окрашено в ярко социальный цвет. Не раз уже указывали на то, что социология заменила теологию, что религиозное чувство потерявшего веру человечества направилось на социальность. Ориентация жизни сделалась социальной по преимуществу, ей были подчинены все другие оценки. Все ценности были поставлены в социальную перспективу. Человеческая общественность была выделена из жизни космической, из мирового целого и ощущалась, как замкнутое и самодовлеющее целое. Человек окончательно был водворен на замкнутую социальную территорию, на ней захотел он быть господином, забыл обо всем остальном мире и об иных мирах, на которые не простирается его власть и господство. Завоевания человека на ограниченной, замкнутой социальной территории достигались ослаблением памяти, забвением бесконечности. Быть может, и нужно было человеку пережить период этого ограниченного мироощущения, чтобы усилить и укрепить свою социальную энергию. Всякого рода ограничения бывают прагматически нужны в известные периоды человеческой эволюции. Но ограниченность этого социологического мироощущения не могла продолжаться слишком долго. Эта ограниченность таила в себе возможность слишком неожиданных катастроф. Бесконечный океан мировой жизни посылает свои волны на замкнутую и беззащитную человеческую общественность, выдворенную на небольшой территории земли. Мировая война и является такой большой мировой волной, девятым валом. Она обнаруживает для всех, и наиболее ослепленных, что все социальные утопии, построенные на изоляции общественности из жизни космической – поверхностны и недолговечны. Под напором мировых волн пали утопии гуманизма, пасифизма, международного социализма, международного анархизма и т. п. и т. п. Выясняется не теорией, а самой жизнью, что социальный гуманизм имел слишком ограниченный и слишком поверхностный базис. Не было принято во внимание, что существуют глубокие недра земли, и необъятная мировая ширь, и звездные миры. Много темно-иррационального, всегда приносящего неожиданность, лежит в этих недрах и в бесконечной шири. Замкнутая и ограниченная человеческая общественность с ее исключительно социологическим миропониманием напоминает страуса, прячущего голову в свои перья. Слишком многое не принимается во внимание в социальных утопиях, всегда основанных на упрощении и искусственной изоляции. Подобно тому, как недолговечно и поверхностно существование оазиса – общины в духе толстовца или утопического социализма, недолговечно и поверхностно и существование всей человеческой общественности в сложной и бесконечной космической жизни. Социальный утопизм всегда коренится в этой изоляции общественности от космической жизни и от тех космических сил, которые иррациональны в отношении к общественному разуму. Это всегда – укрывание от сложности через ограниченность. Социальный утопизм есть вера в возможность окончательной и безостановочной рационализации общественности, независимо от того, рационализована ли вся природа и установлен ли космический лад. Утопизм не желает знать связи зла общественного со злом космическим, не видит принадлежности общественности ко всему круговороту природного порядка или природного беспорядка. И такие катастрофы, как мировая война, заставляют очнуться, принуждают к расширению кругозора. Обнаруживается несостоятельность таких рациональных утопий, как вечный мир в этом злом природном мире, как безгосударственная анархическая свобода в этом мире необходимости, как всемирное социальное братство и равенство в этом мире раздора и вражды. О, конечно, великая ценность мира, свободы, социального братства остается непреложной. Но ценности эти недостижимы в той поверхностной и органической области, в которой предполагали их достигнуть. Достижение этих ценностей предполагает бесконечно большое углубление и расширение, т. е. еще очень сложный и длительный катастрофический процесс в человеческой жизни, предполагает переход от исключительно социологического мироощущения к мироощущению космическому.
II
Углубленное сознание должно прийти к идее космической общественности, т. е. общественности, размыкающейся и вступающей в единение с мировым целым, с мировыми энергиями. Всегда существовал эндосмос и экзосмос между человеческой общественностью и космической жизнью, но это не было достаточно сознано человеком, и он искусственно замыкался, спасаясь от бесконечности в своей ограниченности. На более глубокую почву должна быть поставлена та истина, что величайшие достижения человеческой общественности связаны с творческой властью человека над природой, т. е. с творчески-активным обращением к космической жизни, как в познании, так и в действии. А это предполагает несоизмеримо большую самодисциплину человека, чем та, которая есть в нем сейчас, высокую степень овладения самим собой, своими собственными стихиями. Лишь тот, кто господствует над самим собой, может господствовать и над миром. Задачи общественности – прежде всего космически-производственные задачи. С этим связана мораль личной и общественной самодисциплины. Это сознание прямо противоположно тому, на котором покоилось наше народничество всех оттенков с его распределительной моралью.
Творческий труд над природой, расширенный до космического размаха, должен быть положен во главе угла. Труд этот не должен быть рабски прикреплен к земле, к ее ограниченному пространству, он всегда должен иметь мировые перспективы. XX век выдвинет такие космические задачи в сфере творческого труда над природой, в области производства и техники, о каких XIX век со всеми своими открытиями не мог и мечтать, не мог и подозревать. Поразительно, что марксизм, который так выдвигал моменты производственные, рост производительных сил в социальной жизни и им давал перевес над моментами распределительными, был совершенно лишен космического мироощущения и явил собой крайний образец социологического утопизма, замыкающего человека в ограниченной и поверхностной общественности. Марксизм верил, что можно до конца рационализировать общественную жизнь и привести ее к внешнему совершенству, не считаясь ни с теми энергиями, которые есть в бесконечном мире над человеком и вокруг него. Марксизм – самая крайняя форма социологического рационализма, а потому и социологического утопизма. Все социальные учения XIX века были лишены того сознания, что человек – космическое существо, а не обыватель поверхностной общественности на поверхности земли, что он находится в общении с миром глубины и с миром высоты. Человек – не муравей и человеческая общественность – не муравейник. Идеал окончательно устроенного муравейника рушится безвозвратно. Но более глубокое сознание возможно лишь на религиозной почве. Мировая катастрофа должна способствовать религиозному углублению жизни.
Тот духовный поворот, который я характеризую как переход от социологического мироощущения к мироощущению космическому, будет иметь и чисто политические последствия и выражения. Будет преодолен социально-политический провинциализм. Перед социальным и политическим сознанием станет мировая ширь, проблема овладения и управления всей поверхностью земного шара, проблема сближения Востока и Запада, встреч всех типов и культур, объединения человечества через борьбу, взаимодействие и общение всех рас. Жизненная постановка всех этих проблем делает политику более космической, менее замкнутой, напоминает о космической шири самого исторического процесса. Поистине проблемы, связанные с Индией, Китаем или миром мусульманским, с океанами и материками, более космичны по своей природе, чем замкнутые проблемы борьбы партий и социальных групп. До последней степени обострившийся вопрос об отношении всякого индивидуального национального бытия к единому и объединенному человечеству должен быть решен, как вопрос космического размаха. Обращение к глубине национальной жизни обращает вместе с тем и к шири жизни всемирно-исторической. В политике империалистической объективно был уже космический размах и космические задания. Но сознание самих идеологов империализма было ограничено. Идеология эта была буржуазной идеологией, она редко шла глубже и дальше поверхности чисто экономических и политических задач. И в путях империалистической политики было много злого, порожденного ограниченной неспособностью проникать в души тех культур и рас, на которые распространялось империалистическое расширение, была слепота к внешним задачам человечества. Но значение империализма, как неизбежного фазиса развития современных обществ, для объединения человечества на всей поверхности земли и для создания космической общественности может быть признано безотносительно к положительному пафосу империализма. Мировая война есть катастрофический момент в диалектике империалистического расширения.
III
Чтобы добыть свет в нахлынувшей на мир тьме, необходимо космическое углубление сознания. Если остаться на поверхности жизни, то тьма поглотит нас. Европейские народы, европейские культуры вступают в период истощения. Эти замкнутые культуры склоняются к упадку, дряхлеют. Длительная и истребительная мировая война надорвет силы Европы, а народам Европы трудно будет искать источников новой энергии на большей глубине и в большей шири мировых пространств. Старые чисто социологические ориентировки и оценки жизни непригодны для размеров совершающихся событий, для их сложности и новизны. Отвлеченный социологизм, как целое миросозерцание, обнаруживает свою непригодность во всех отношениях, он приходит к концу и должен уступить место более глубоким и широким точкам зрения. Катастрофа этой войны очень резко разделяет людей и совсем не по тем критериям, по которым обычно они разделялись. Они оказались духовно совершенно не подготовленными к этой катастрофе, она разразилась над ними, как великая неожиданность, выбивающая из всех укрепленных позиций. В таком положении оказалась большая часть людей чисто социологического мироощущения. Они наскоро стали приспособлять свои старые точки зрения к новым событиям, но ощутили уныние людей, отброшенных назад. Многие почувствовали себя выброшенными за борт истории. Другие оказались духовно подготовленными к мировой катастрофе, в ней не было для них ничего неожиданного, ничего сбивающего с их точек зрения на жизнь. Таковы люди, у которых и раньше было более космическое чувство жизни, более широкий кругозор. Они знают, что война есть великое зло и кара за грехи человечества, но они видят смысл мировых событий и вступают в новый исторический период без того чувства уныния и отброшенности, которое ощущают люди первого типа, ни в чем не прозревающие внутреннего смысла. Космическое мироощущение менее благополучное, менее рационалистически оптимистическое, более беспокойное, чем социологическое мироощущение, – оно предвидит великие неожиданности и готово вступить в царство неведомого и неизжитого. Это более глубокое и широкое мироощущение и сознание не допускает тех рационалистических иллюзий, для которых будущее мира определяется лишь силами, лежащими на самой поверхности ограниченного куска земли. Действуют силы более глубокие, еще неведомые, приливают энергии из далеких миров. Нужно иметь мужество идти навстречу неведомому дню, идти во тьме к новой заре. Мировая война совершенно бессмысленна для всякого рационалистического оптимизма, для всякого социологического утопизма. Для людей этого духа она не может дать никакого научения, они не хотят перейти к новой жизни через смерть. Но мировая война имеет символический смысл для тех, которые всегда предвидели действие скрытых, не поддающихся рационализации, космических сил. Природа войны – не творческая, отрицательная, разрушительная; но война может пробудить творческие силы, может способствовать углублению жизни. Перед человечеством становятся все новые и новые творческие задачи, задачи творческого претворения энергий, исходящих из темной, изначальной глубины бытия в новую жизнь и новое сознание. Развитие человечества, восхождение человечества, никогда не совершается по прямой линии, путем нарастания однообразных положительных элементов. Это – процесс в высшей степени антиномический и трагический. Приливы тьмы есть то варварство бытия, без которого в жизни человеческой наступает иссякание энергии, застывание. Мировая война есть заслуженное европейской культурой, нахлынувшее на нее варварство, темная сила. В этой тьме многое должно погибнуть и многое народиться, как в нашествии варваров на античную культуру. Но эта варварская сила – внутренняя, а не внешняя. Мы можем сделать вывод. Люди старого, хотя и мнящего себя передовым социологического мироощущения отбрасываются назад. Они – консерваторы вчерашнего и позавчерашнего дня. Люди космического мироощущения духовно готовы идти к неведомому будущему с творческим порывом.
III. Души народов Параллели
Судьба Парижа
I
Когда германцы подступили к Парижу и Париж лихорадочно готовился к защите, многие сердца на земле испытали жуткое волнение и беспокойство. Готовился удар не только в сердце Франции, но и в сердце нового человечества. И от раны, нанесенной Парижу, кровью облилась бы не одна Франция, но и все культурное человечество. Париж – мировой город, мировой город новой Европы и всего нового европейского человечества. То же жуткое беспокойство было бы пережито, если бы опасность грозила Риму. Рим – мировой город старого человечества и священный памятник для человечества нового. Опасность и даже гибель Берлина, Вены, Лондона и других столиц Европы не могла бы так жутко взволновать всякую культурную душу. Рана, нанесенная этим столицам разных государств, была бы прежде всего национальным горем. И только рана, нанесенная Риму и Парижу, была бы горем общеевропейским и общечеловеческим. Я верю, что и лучшие из немцев, наиболее тонкие из них, пережили минуты страха за судьбу Парижа. Мы, русские, вдохновлены великой и справедливой войной, но мы не пережили еще непосредственного страха за судьбу родины, у нас не было такого чувства, что отечество в опасности. Никто не допускал возможности приближения германцев к сердцу России – Москве. Россия в этот грозный час мировой истории почувствовала себя сильной, а не слабой, призванной помогать другим. Перед Россией стали мировые задачи, открылись мировые перспективы. Совсем иначе переживается эта война во Франции. Там действительно были минуты, когда отечеству грозила непосредственная опасность и французы переживали страх за судьбу своей родины. В современной Франции чувствуется какая-то хрупкость, усталость от большой своей истории, в которой совершено много великого и героического, чувствуется истощение. Современный француз и слишком утончен, и слишком испорчен мещанским довольством, расслаблен жаждой наслаждений и любовью к женщине. Франция совсем не милитаристическая страна. Дух воинственный давно в ней угас. Она пережила свой героический воинственный период, властвовала над Европой и ныне не является уже грозной военной силой. И жутко было за Париж, страшно за Францию. Многие русские почувствовали Францию родной и жаждали помочь ей своей силой, поддержать ее. Спасение Франции – одна из великих, мировых задач России. Конечно, Франция – не Бельгия, не Сербия, Франция – великая держава, и она нам оказывает великую помощь, как наша союзница. Но преимущество силы на нашей стороне. И непосредственная опасность для Парижа миновала в значительной степени благодаря нашим победам. Франко-русский союз, дипломатический и государственный, переживается теперь нами глубоко сердечно, душевно, народно. В нашем союзе с Францией есть что-то более глубокое, чем расчеты международной политики.
II
Париж – мировой опыт нового человечества, очаг великих начинаний и дерзновенных экспериментов. Париж – свободное выявление человеческих сил, свободная игра их. Жизнь мирового города есть жизнь человека на свободе, жизнь автономная, независимая от священного авторитета, секуляризированная. Вместе с Парижем пережило новое человечество медовый месяц свободной жизни и свободной мысли; великую революцию, социализм, эстетизм, последние плоды буржуазного атеизма и мещанства. Образ Парижа для нас двоится и вызывает чувства противоположные. Мы знаем обаяние Парижа, единственную магию, присущую этому городу, единственную красоту сочетания в нем самого старого с самым новым.
Париж – живое существо, и существо это выше и прекраснее современных буржуазных французов. Лицо души его имеет «необщее» выражение, не то, которое обычно имеют большие города Европы. Это – единственный современный, новый город, в котором есть красота и обаяние нового и современного. Как некрасиво, как мешает все новое и современное в Риме, как безобразно и оскорбительно оно в Берлине. Наша непластическая, неархитектурная эпоха создает только безобразные дома и безобразную одежду, делает улицы отталкивающими для эстетически чуткого человека и оставляет нас на эстетическое пропитание стариной. В одном Городе Париже есть красота сегодняшнего дня, красота двоящаяся, быть может призрачная и возмущающая, но все же красота. Париж – магический Город, – в нем сосредоточилась вся магия современного большого Города, вся его притягательность и все его зло. Магия Парижа – города в самом сосредоточенном и предельном смысле – окутывает всякого чуткого и впечатлительного человека. Другие большие города Европы – это уже Париж второго и третьего сорта, не чистые воплощения идеи нового Города и половинчатые, разбавленные провинциализмом. Только Париж – Город-столица, Город мировой, новый Город нового человечества. Берлин – благоустроенная казарма, технически усовершенствованная, со всеми удобствами, но безвкусная и лишенная всякой магии Города, всякой демонической его власти. Париж, даже не очень благоустроенный город, технически отсталый по сравнению с Берлином, и магия его, его право быть Городом по преимуществу и Городом мировым не в этом внешнем техническом прогрессе коренятся. В Париже есть иррациональная тайна Города, власть магическая, а не техническая. Париж намагнетизирован токами, идущими от свободной игры человеческих сил. И в нем есть шипучесть и искристость, легкость, непостижимая в тяжелой буржуазной жизни современного города, веселость, странная при такой мучительной борьбе за существование. На всем Париже лежит печать исключительного остроумия, национального гения французского народа, который умеет умирать с остротой на устах. В Париже – последнее истончение культуры, великой и всемирной латинской культуры, перед лицом которой культура Германии есть варварство, и в том же Париже – крайнее зло новой культуры, новой свободной жизни человечества – царство мещанства и буржуазности. Свободная игра человеческих сил, свободная от всякой святыни, привела к закрепощенному царству мещанства. Буржуазное рабство человеческого духа – один из результатов формальной свободы человека, его поглощенности собой. Такова антиномия бытия. Мещанство – другой лик Парижа, лик устрашающий и отталкивающий. Париж – огромный эксперимент нового человечества, в нем скрыты все противоположности.
Именно в талантливом, остроумном, веселом, свободном и дерзающем Париже мещанство нашло свое завершение, свое эстетически законченное выражение, свой предел. Весь период третьей республики был постепенным развитием мещанской жизни, плодом безрелигиозного, атеистического духа. Французы устали от катастроф, революций, войн, исканий и захотели спокойной, довольной жизни, замкнутого в себе мещанства, закрытого для всякого духовного движения. Париж любят называть новым Вавилоном, городом разврата. И, действительно, в Париже есть явление разврата изощренного и изобретательного. Разврат – судьба нового Города. Но тот же Париж – город замкнутой мещанской семьи, очень крепкой и совершенно забаррикадированной. Париж – город мещанских нравов и мещанских добродетелей, полезных для преуспевания жизни.
III
Самодовольная мещанская семья – замкнутая ячейка, в которой эгоизм личный помножается на эгоизм семейный, процветает не у нас, русских, не у славян, а именно у парижан, которые почему-то известны миру лишь со стороны своей развратной репутации. Мещанство есть обратная сторона необузданной жажды наслаждений. Мещанские нормы – плод неверия в благородное самоограничение человека. И подлинная бытовая свобода, свобода от ложных условностей и лицемерных норм есть только у русских. У русских есть открытость духа. Нигде нет такой погони за наживой, за жизненным успехом, такого культа богатства и такого презрения к бедности, как у парижан. Французы скупы, делают экономии и полны мещанского страха перед необеспеченным и неблагоустроенным положением. Мещанская Франция возвела личный и семейный эгоизм в добродетель. Эта Франция совсем не так легкомысленна, как это кажется при поверхностном с ней знакомстве. Легкомысленны в земных делах именно мы, русские. Герцен почуял это победное шествие царства мещанства и содрогнулся от отвращения, искал спасения от него в России, в русском крестьянстве[7]. Недаром во Франции явился великий изобличитель мещанства Леон Блуа, написавший гневное истолкование «обоих мест» мещанской мудрости, – рыцарь нищеты в мещанском Париже. Мещанство – метафизическая, а не социальная категория. И социализм проникнут духом мещанства. Природа мещанства атеистическая, безрелигиозная. Мещанская жизнь есть жизнь поверхностных оболочек человека, выдаваемых за ядро, за глубину и сущность жизни. В мещанской жизни начали погибать национальные добродетели французского народа, их способность к героизму и к великодушию, их свободолюбие и бесстрашие перед смертью. В мещанской Франции, богатой, устроившейся и самодовольной, нельзя уже было узнать страны Жанны д’Арк и Наполеона, великой революции и великих исканий свободы. Жажда богатства перешла в бесчестность и подкупность. Политические формы исчерпались до конца. Все дошло до предела, за которым уже – разложение и смерть. Мещанство постепенно убивало душу. А сказано христианскому миру, что больше нужно бояться убивающих душу, чем убивающих тело. Теперь начали убивать тело, – оболочку человека, но, быть может, душа, ядро человека, от этого возродится. Ибо для души убийственней сидеть по колени в мещанской жизни, чем по колени в воде сидеть в окопах. Мещанская жизнь в Париже стала столь душной, столь убийственной для души, что только великие катастрофы и великие испытания могут очистить и освободить человека от мещанства. Самодовольная и замкнутая мещанская жизнь начала уже верить в свое земное бессмертие, в свою дурную бесконечность. Но оставить человека в этой вере в непоколебимую прочность мещанского царства значило бы допустить гибель человека, смерть его души. Есть в мире высшие силы, которые не могут этого допустить. И неизбежно должно было раскрыться миру, что в самой глубине буржуазной жизни лежит уже семя великой войны, великой катастрофы. Нельзя вечно жить мирной буржуазной жизнью довольства; для самих целей буржуазной жизни нужно воевать с великими жертвами и страданиями. В этом есть внутренняя диалектика, изобличающая ложь жизни. Причины, породившие слишком мирную буржуазную жизнь, породили и войну. Эта таинственная диалектика особенно чувствуется в Париже, во Франции, в стране совсем не милитарной. Буржуазный и веселый Париж ныне призывается к подвигу и совершает подвиги. Он обливается кровью. Через великие испытания и потрясения вновь пробудится героическое у французов, опустившихся до слишком самодовольной мещанской жизни.
IV
Человеку как будто не дано оставаться на высоте в слишком мирной, довольной, благополучной жизни. Для мещанской Франции нужна была гроза, необходимо было неблагополучие и страдание. И все вовремя пришло. Мировая катастрофа, столь непосредственно грозная для Франции, будет кризисом и концом мещанских идеалов жизни, замкнутых в земное довольство. Читайте письма из Парижа. Париж стал серьезен, жертвоспособен, мещанские ячейки в нем разомкнулись. Проснулись лучшие стороны французского народа – любовь к родине, чувство гражданства, энтузиазм, великодушие, бесстрашие перед смертью. Еще раз перед Францией стало что-то мировое и оттеснило мещански частное. Волею судеб любовь к родине и к мировой справедливости победила в сердце французов любовь к женщине, к наслаждению и к мещанскому довольству. Мировая война – великая изобличительница лжи беззаботной мещанской жизни. Есть войны, которые посылаются Провидением, чтобы заставить народы опомниться, углубиться, приподняться. Неизбежность нынешней войны уже заложена во внутренней болезни человечества, в его буржуазности, в том мещанском самодовольстве и ограниченности, которые не могут не привести к взаимному убийству. Мещанская замкнутость размыкается в крови, политикой на войне. И в нервно-впечатлительной, утонченной культуре Франции это чувствуется сильнее, чем где бы то ни было. А судьба Франции, как великой страны, есть прежде всего судьба Парижа, ее сердца и сердца Европы. Жутко за Париж и хочется помочь ему. Но мировой Город не может погибнуть, он нужен миру, в нем нерв нового свободного человечества с его добром и его злом, с его правдой и его неправдой, в нем пульсирует кровь Европы, и она обольется кровью, если Парижу будет нанесен удар. Неизбежен конец мещанского атеизма, буржуазной вражды к религии. И Париж возродится к новой жизни. Симптомы религиозного возрождения уже были до войны. Судьба Парижа – судьба нового человека и нового Города.
Русская и польская душа
I
Старая ссора в славянской семье, ссора русских с поляками, не может быть объяснена лишь внешними силами истории и внешними политическими причинами. Источники вековой, исторической распри России и Польши лежат глубже. И сейчас особенно важно для нас осознать духовные причины этой вражды и отталкивания, разделяющих славянский мир. Это прежде всего распря двух славянских душ, родственных по крови и языку, по общеславянским расовым свойствам и столь различных, почти противоположных, с трудом совместимых, неспособных друг друга понять. Народы родственные и близкие менее способны друг друга понять и более отталкиваются друг от друга, чем далекие и чужие. Родственный язык звучит неприятно и кажется порчей собственного языка. В семейной жизни можно наблюдать это отталкивание близких и невозможность понять друг друга. Чужим многое прощают, но своим, близким ничего не хотят простить… И никто не кажется таким чужим и непонятным, как свой, близкий.
Русские и поляки боролись не только за землю и за разное чувство жизни. Внешне – исторически русские победили в этой вековой борьбе, они не только отразили опасность полонизации русского народа, но и агрессивно наступали на народ польский и делали попытки его русификации. Польское государство было раздавлено и разорвано, но польская душа сохранилась, и с еще большей напряженностью выразил себя польский национальный лик. Великий духовный подъем, выразившийся в польском мессианизме, произошел уже после гибели польского государства. Польский народ, обнаруживший так мало способностей к государственному строительству, обладающий чертами индивидуалистическими и анархическими, оказался духовно сильным и несокрушимым. И нет в мире народа, который обладал бы таким напряженным национальным чувством. Поляки совершенно не поддаются ассимиляции. Именно у поляков идея национального мессианизма достигла высочайшего подъема и напряжения. Поляки внесли в мир идею жертвенного мессианизма. И русский мессианизм всегда должен был казаться полякам нежертвенным, корыстным, притязающим на захват земли. Многое должно после войны измениться во внешней, государственной судьбе Польши, и невозможен уже возврат к старому ее угнетению. Внешние отношения России и Польши коренным образом меняются. Россия сознает, что должна искупить свою историческую вину перед Польшей. Но русская и польская душа все еще противостоят друг другу, как страшно чуждые, бесконечно разные, друг другу непонятные. Внутреннего сближения не происходит. Не явилось еще глубокой потребности понять друг друга. Польско-русский вопрос ставится и самими поляками и русскими слишком внешне, в плане политическом, и решение его колеблется в зависимости от колебания политических настроений и военных удач. Освобождение Польши сделает возможным настоящее общение между Польшей и Россией, настоящее сближение между поляками и русскими, которому доныне препятствовало угнетение Польши. Но что внутренно делается для такого общения и сближения? К внешним обещаниям поляки относятся подозрительно. Ныне подозрения эти исторически не основательны, но психологически поляки имеют слишком много для них оснований. Духовно же слишком мало делается для сближения с поляками. И хотелось бы обратить особое внимание на то, что в польско-русских отношениях есть более глубокая, духовная сторона. Только настоящее понимание может быть освобождающим, оно избавляет от давящих отрицательных чувств, и следует вникнуть и нам, русским, и полякам, почему русской душе всегда так трудно было полюбить душу польскую, почему польская душа с таким презрением относилась к душе русской? Почему так чужды и так непонятны друг другу эти две славянские души? Внутри славянства произошло столкновение Востока и Запада. Славянский Запад чувствовал себя более цивилизованным, носителем единой европейской культуры. Славянский Восток противополагал Западу свой собственный духовный тип культуры и жизни.
II
Я всегда думал, что распря России и Польши есть, прежде всего, распря души православной и души католической. И внутри славянства это столкновение православной и католической души приобретает особенную остроту. Россия исторически привыкла со стороны Запада охранять свою православную душу и свой особый духовный уклад. В прошлом полонизация и латинизация русского народа была бы гибелью его духовной самобытности, его национального лика. Польша шла на русский Восток с чувством своего культурного превосходства. Русский духовный тип казался полякам не иным духовным типом, а просто низшим и некультурным состоянием. Историческая борьба России с Польшей имела положительный смысл, и духовное своеобразие русского народа было в ней утверждено навеки. Воспоминание об этой борьбе оставило в душах обоих народов след столь глубокий, что и сейчас трудно от него освободиться. Россия выросла в колосса, как государственного, так и духовного, и давно уже раздувание польской опасности, как и опасности католической, постыдно и обидно для достоинства русского народа. Более сильному обидчику не подобает кричать об опасности со стороны более слабого и им же раздавленного. Ныне перед Россией стоят задачи творческие, а не охранительно-утеснительные. Русская политика относительно Польши давно уже стала историческим пережитком, она связана с далеким прошлым и не дает возможности творить будущее. В этой неумной политике виновный не мог простить тому, перед кем виноват. Это в сфере внешне-государственной. В сфере же внутренно-духовной русской душе все еще мешает подойти к душе польской чувство чуждости и враждебности, вызываемое латинско-католической прививкой к славянской душе, создавшей польский национальный лик. Для погруженной в себя русской души, получившей сильную православную прививку, многое не только чуждо и непонятно в поляке, но неприятно, отталкивает и вызывает вражду. И даже отпадавшие от православия русские люди остаются православными по своему душевному типу, и труднее всего им постигнуть католическую культуру и душевный тип, на ее почве вырастающий. Германский протестантизм менее отталкивал русского человека, и это было настоящим несчастьем для судьбы России.
В типической русской душе есть много простоты, прямоты и бесхитренности, ей чужда всякая аффектация, всякий взвинченный пафос, всякий аристократический гонор, всякий жест. Это душа – легко опускающаяся и грешащая, кающаяся и до болезненности сознающая свое ничтожество перед лицом Божьим. В ней есть какой-то особый, совсем не западный демократизм на религиозной почве, жажда спасения всем народом. Все остается в глубине у русского народа, и он не умеет себя пластически-благообразно выявить. В русском человеке так мало подтянутости, организованности души, закала личности, он не вытягивается вверх, в складе души его нет ничего готического. Ждет русский человек, что сам Бог организует его душу и устроит его жизнь. В самых высших своих проявлениях русская душа – странническая, ищущая града не здешнего и ждущая его сошествия с неба. Русский народ в своих низах погружен в хаотическую, языческую еще земляную стихию, а на вершинах своих живет в апокалиптических чаяниях, жаждет абсолютного и не мирится ни с чем относительным. Совсем иная душа польская. Польская душа – аристократична и индивидуалистична до болезненности, в ней так сильно не только чувство чести, связанное с рыцарской культурой, неведомой России, но и дурной гонор. Это наиболее утонченная и изящная в славянстве душа, упоенная своей страдальческой судьбой, патетическая до аффектации. В складе польской души русских всегда поражает условная элегантность и сладость, недостаток простоты и прямоты и отталкивает чувство превосходства и презрения, от которых не свободны поляки. Полякам всегда недоставало чувства равенства душ человеческих перед Богом, братства во Христе, связанного с признанием бесконечной ценности каждой человеческой души. Особое духовное шляхетство отравляло польскую жизнь и сыграло роковую роль в их государственной судьбе. Русский человек мало способен к презрению, он не любит давать чувствовать другому человеку, что тот ниже его. Русский человек горд своим смирением. Польская душа вытягивается вверх. Это – католический духовный тип. Русская душа распластывается перед Богом. Это – православный духовный тип. У поляка есть любовь к жесту. У русского совсем нет жеста. В польской душе есть переживание Христова пути, страстей Христовых, Голгофской жертвы. На вершинах польской духовной жизни судьба польского народа переживается, как судьба агнца, приносимого в жертву за грехи мира. Таков польский мессианизм, прежде всего жертвенный, не связанный с государственной силой, с успехом и господством в мире… Отсюда рождается в польской душе пафос страдания и жертвы. Все по-иному в русской душе. Русская душа больше связывает себя с заступничеством Богородицы, чем с путем Христовых страстей, с переживанием Голгофской жертвы. В русской душе есть настоящее смирение, но мало жертвенности. Русская душа отдает себя церковному коллективизму, всегда связанному для нее с русской землей. В польской душе чувствуется судорожное противление личности, способность к жертве и неспособность к смирению. В польской душе есть всегда отравленность страстями. Дионисизм русской души совсем иной, не такой окровавленный. В польской душе есть страшная зависимость от женщины, зависимость, нередко принимающая отталкивающую форму, есть судорога и корчи. Эта власть женщины, рабство пола чувствуется очень сильно у современных польских писателей, Пшибышевского, Жеромского и др. В русской душе нет такого рабства у женщины. Любовь играет меньшую роль в русской жизни и русской литературе, чем у поляков. И русское сладострастие, гениально выраженное Достоевским, совсем иное, чем у поляков. Проблема женщины у поляков совсем иначе ставится, чем у французов, – это проблема страдания, а не наслаждения.
III
В каждой народной душе есть свои сильные и свои слабые стороны, свои качества и свои недостатки. Но нужно взаимно полюбить качества народных душ и простить их недостатки. Тогда лишь возможно истинное общение. В великом славянском мире должна быть и русская стихия и стихия польская. Историческая распря изжита и кончилась, начинается эпоха примирения и единения. Много можно было бы указать черт противоположных в народной польской душе. Но можно открыть и черты общеславянские, изобличающие принадлежность к единой расе. Это общее и роднящее чувствуется на вершинах духовной жизни русского и польского народа, в мессианском сознании. И русское и польское мессианское сознание связывает себя с христианством, и одинаково полно оно апокалиптических предчувствий и ожиданий. Жажда царства Христова на земле, откровения Св. Духа есть жажда славянская, русская и польская жажда. Мицкевич и Достоевский, Товянский и Вл. Соловьев в этом сходятся. И справедливость требует признать, что польский мессианизм более чистый и жертвенный, чем мессианизм русский. Много было грехов в старой шляхетской Польше, но грехи эти искуплены жертвенной судьбой польского народа, пережитой им Голгофой. Польский мессианизм – цвет польской духовной культуры – преодолевает польские недостатки и пороки, сжигает их на жертвенном огне. Старая легкомысленная Польша с магнатскими пирами, с мазуркой и угнетением простого народа перевоплотилась в Польшу страдальческую. Но если польское мессианское сознание и может быть поставлено выше русского мессианского сознания, я верю, что в самом народе русском есть более напряженная и чистая жажда правды Христовой и царства Христова на земле, чем в народе польском. Национальное чувство искалечено у нас, русских, нашим внутренним рабством, у поляков – их внешним рабством. Русский народ должен искупить свою историческую вину перед народом польским, понять чуждое ему в душе Польши и не считать дурным непохожий на его собственный духовный склад. Польский же народ должен почувствовать и понять душу России, освободиться от ложного и дурного презрения, которому иной духовный склад кажется низшим и некультурным. Русская душа останется православной по своему основному душевному типу, как польская душа останется католической. Это глубже и шире православия и католичества, как вероисповеданий, это – особое чувство жизни и особый склад души. Но эти разные народные души могут не только понять и полюбить друг друга, но и почувствовать свою принадлежность к единой расовой душе и сознать свою славянскую миссию в мире.
Религия германизма
I
Мы представляем себе слишком упрощенно нашего врага, плохо знаем и понимаем его душу, его чувство жизни, его миросозерцание, его веру. А справедливо говорит А. Белый, что душа народа во время войны есть его тыл, от которого многое зависит (см. его статью «Современные немцы» в «Бирж. Вед.»). У нас же обычно или совсем разделяют дух и материю германизма, или ложно и упрощенно представляют себе их соединение. Для одних не существует никакой связи между старой Германией, – Германией великих мыслителей, мистиков, поэтов, музыкантов, – и новой Германией, – Германией материалистической, милитаристической, индустриалистической, империалистической. Связь между немцем – романтиком и мечтателем и немцем – насильником и завоевателем остается непонятой. Для других германский идеализм, в конце концов, и должен был на практике породить жажду мирового могущества и владычества, – от Канта идет прямая линия к Круппу. Вторая точка зрения делает изобличающую дедукцию, не покрывающую сложности жизни, и создает упрощенную полемическую схему, но в принципе она более правильная. Необходимо установить связь между германским духом и германской материей. Все материальное создается духовным, символизует духовное и не может быть рассматриваемо, как самостоятельная реальность. Материализм есть лишь направление духа. То, что мы называем германским материализмом, – их техника и промышленность, их военная сила, их империалистическая жажда могущества – есть явление духа, германского духа. Это – воплощенная германская воля. Немцы менее всего материалисты, если под материализмом понимать принятие мира извне, как материального по объективно реальному своему составу. Вся германская философия имеет идеалистическое направление, и материализм мог быть в ней лишь случайным и незначительным явлением.
Немец – не догматик и не скептик, он критицист. Он начинает с того, что отвергает мир, не принимает извне, объективно данного ему бытия, как не критической реальности. Немец физически и метафизически – северянин, и ему извне, объективно мир не представляется освещенным солнечным светом, как людям юга, как народам романским. Первоощущение бытия для немца есть, прежде всего, первоощущение своей воли, своей мысли. Он – волюнтарист и идеалист. Он – музыкально одарен и пластически бездарен. Музыка есть еще дух субъективный, внутреннее состояние духа. Пластика есть уже дух объективный, воплощенный. Но в сфере объективного, воплощенного духа немцы оказались способными создавать лишь необычайную технику, промышленность, милитаристические орудия, а не красоту. Безвкусие немцев, которое поражает даже у величайших из них, даже у Гёте, связано с перенесением центра тяжести жизни во внутреннее напряжение воли и мысли. Со стороны чувственности, как эстетической категории, немцы совсем не приемлемы и не переносимы. В жизни же чувства они могут быть лишь сентиментальными.
Настоящий, глубокий немец всегда хочет, отвергнув мир, как что-то догматически навязанное и критически не проверенное, воссоздать его из себя, из своего духа, из своей воли и чувства. Такое направление германского духа определилось еще в мистике Экхардта, оно есть у Лютера и в протестантизме, и с большой силой обнаруживается и обосновывается в великом германском идеализме, у Канта и Фихте, и по-другому у Гегеля и Гартмана. Ошибочно было бы назвать это направление германского духа феноменализмом. Это – своеобразный онтологизм, онтологизм резко волюнтаристической окраски. Германец по природе метафизик, и свои физические орудия создает он с метафизическим пафосом, он никогда не бывает наивно-реалистичен. И самый немецкий гносеологизм есть особого рода метафизика. Немец добился-таки того, что орудия мысленные, идеальные превратил в реальные орудия борьбы.
Фауст перешел от идеальных исканий, от магии, метафизики и поэзии к реальному земному делу. «Im Anfang war die Tat!»[8] В начале был волевой акт, акт немца, вызвавший к бытию весь мир из глубины своего духа. Все рождается из тьмы, из хаоса бесформенных переживаний через акт воли, через акт мысли. И немец ничего не склонен принимать до совершенного им Tat’a. В нем нет никакого пассивно-женственного приятия мира, других народов, нет никаких братских и эротических чувств к космической иерархии живых существ. Все должно пройти через немецкую активность и организацию. Германец по природе своей не эротичен и не склонен к брачному соединению.
II
Германец ощущает хаос и тьму в изначальном, он очень чувствует иррациональное в мировой данности. Это раскрывалось в германской мистике. Но он не потерпит хаоса, тьмы и иррациональности после совершенного его волей и мыслью акта. Где коснулась бытия рука германца, там все должно быть рационализировано и организовано. Мир изначально предстоит германцу темным и хаотическим, он ничего не принимает, ни к чему и ни к кому в мире не относится с братским чувством. Но после совершенного им Tat’a, после акта его мысли и его воли, все меняется, впервые является настоящий мир, мир рациональный и упорядоченный, в котором все поставлено на свое место, место, отведенное немецким духом. Обратной стороной этого исконно-германского в германской мистике и философии отраженного первоощущения иррационального, бессознательного, хаотического является требование, чтобы все было организовано, дисциплинировано, оформлено, рационализировано. Пред немецким сознанием стоит категорический императив, чтобы все было приведено в порядок. Мировой беспорядок должен быть прекращен самим немцем, а немцу все и вся представляется беспорядком.
Мировой хаос должен быть упорядочен немцем, все в жизни должно быть им дисциплинировано изнутри. Отсюда рождаются непомерные притязания, которые переживаются немцем как долг, как формальный, категорический императив. Свои насилия над бытием немцы совершают с моральным пафосом. Немецкое сознание всегда нормативное. Немец не приобщается к тайнам бытия, он ставит перед собой задачу, долженствование. Он колет глаза всему миру своим чувством долга и своим умением его исполнять. Другие народы немец никогда не ощущает братски, как равные перед Богом, с принятием их души, он всегда их ощущает, как беспорядок, хаос, тьму, и только самого себя ощущает немец, как единственный источник порядка, организованности и света, культуры для этих несчастных народов. Отсюда – органическое культуртрегерство немцев. В государстве и в философии порядок и организация могут идти лишь от немцев. Остальное человечество находится в состоянии смешения, не умеет отвести всему своего места.
Германец охотно признает, что в основе бытия лежит не разум, а бессознательное, Божественное безумие (пессимизм, Гартман, Древс). Но через германца это бессознательное приходит в сознание, безумное бытие упраздняется, и возникает бытие сознательное, бытие разумное. Для Гегеля в германской философии и на ее вершине, в философии самого Гегеля, Бог окончательно сознает себя. В этом с гегелевским оптимизмом очень сходится гартмановский пессимизм, для которого тоже процесс самосознания Божества происходит в германском духе. Тот же процесс совершается и у неокантианцев, хотя и по-иному выражается. И для них трансцендентальное, нормативное сознание упорядочивает и организует хаос мировой данности. И есть большие основания предполагать, что это трансцендентальное сознание есть немецкое сознание, что за ним стоит чисто немецкая воля. Обычно такое сознание называют имманентизмом. Но это, конечно, – не единственная возможная форма имманентизма. Это сознание очень подтянутое, всегда дисциплинированное и организованное изнутри, из собственной глубины, в которой заложена германская воля, сильная воля. Такое сознание импонирует, но эстетически не привлекает. И нужно сказать, что трагедия германизма есть, прежде всего, трагедия избыточной воли, слишком притязательной, слишком напряженной, ничего не признающей вне себя, слишком исключительно мужественной, трагедия внутренней безбрачности германского духа. Это – трагедия, противоположная трагедии русской души. Германский народ – замечательный народ, могущественный народ, но народ, лишенный всякого обаяния.
III
Германский народ долгое время внутренне накоплял свою энергию, напрягал свою мысль и волю, чтобы потом явить миру манифестацию и материальной своей силы. Германец чувствует себя организатором изнутри, вносящим порядок и дисциплину в мировой хаос. Так в области мысли, в философии, так и в жизни практической, в государственности, в промышленности, в военной технике немец всегда вдохновлен категорическим императивом, и только одного себя почитает он способным выполнять долг. В категорический императив, в долг немец верит больше, чем в бытие, чем в Бога. На этом стоят Кант и Фихте и многие великие немцы. И это делает самые добродетели немецкие с трудом переносимыми. Нам, русским, особенно противен этот немецкий формалистический пафос, это желание все привести в порядок и устроить.
Германец, прежде всего, верит в свою волю, в свою мысль, и им самим изнутри поставленный категорический императив, в свою организаторскую миссию в мире, духовную и материальную. Он так же хорошо все организует в гносеологии и методологии, как и в технике и промышленности. И вот наступил момент, когда германский дух созрел и внутренне приготовился, когда германская мысль и воля должны направиться на внешний мир, на его организацию и упорядочивание, на весь мир, который германцу представлялся беспорядочным и хаотическим. Воля к власти над миром родилась на духовной почве, она явилась результатом немецкого восприятия мира, как беспорядочного, а самого немца, как носителя порядка и организации. Кант построил духовные казармы. Современные немцы предпочитают строить казармы материальные. Немецкая гносеология есть такая же муштровка, как и немецкий империализм. Немец чувствует себя свободным лишь в казарме. На вольном воздухе он ощущает давление хаотической необходимости. В понимании свободы мы никогда с немцами не сговоримся. Немец погрузился в материю, в материальную организацию и материальное властвование на почве своего спиритуализма. Из духа стал он материалистом, создал могущественный материальный мир, и дух его изошел в материю. Могущественная, угрожающая всему миру германская материя есть эманация германского духа, и дух германский истощился в этой эманации, умалился от этого напряжения вовне. В германском духе нет безграничности – это в своем роде великий и глубокий дух, но ограниченный, отмеренный дух, в нем нет славянской безмерности и безгранности. Дух Достоевского – неистощим.
Величайшие явления германского духа, как Бёме, Ангелус Силезиус, Балдар или Гёте, Гофман, Новалис, выходят за пределы той «германской идеи», которую я пытаюсь характеризовать…
В сложном отношении к «германской идее» стоит Ницше, который по духу своему и по крови не был чистым германцем. Германский дух, очень сильный дух, хочет в конце концов породить своеобразную германскую религию германизма, которая вступает в антагонизм с христианством. В этой религии нет Христова духа. Ныне Древс очень характерный выразитель этой религии германизма, а также Чемберлен. Р. Вагнер был ее пророком. Это – чисто арийская, антисемитическая религия, религия гладкого и пресного монизма, без безумной антиномичности, без апокалипсиса. В этой германской религии нет покаяния и нет жертвы. Германец менее всего способен к покаянию. И он может быть добродетельным, нравственным, совершенным, честным, но почти не может быть святым. Покаяние подменяется пессимизмом. Германская религия относит источник зла к бессознательному божеству, к изначальному хаосу, но никогда не к человеку, не к самому германцу. Германская религия есть чистейшее монофизитство, признание лишь одной и единой природы – божественной, а не двух природ – божественной и человеческой, как в христианской религии. Поэтому, как бы высоко, по видимости, эта германская религия ни возносила человека, она, в конце концов, в глубочайшем смысле отрицает человека, как самобытное религиозное начало.
В таком чисто монистическом, монофизитском религиозном сознании не может быть пророчеств о новой жизни, новой мировой эпохе, о новой земле и новом небе, нет исканий нового града, столь характерных для славянства. Немецкая монистическая организация, немецкий порядок не допускают апокалиптических переживаний, не терпят ощущений наступления конца старого мира, они закрепляют этот мир в плохой бесконечности. Апокалипсис германцы целиком предоставляют русскому хаосу, столь ими презираемому. Мы же презираем этот вечный немецкий порядок.
IV
Мир германский и есть Центральная Европа по преимуществу. Германские идеологи сознают германцев создателями и хранителями центральноевропейской культуры. Францию, Англию, Италию, Россию ощущают они окраинами Европы. Судьба германизма представляется судьбой Европы, победа германизма – победой европейской культуры. Религия германизма сознает германский народ той единственной чистой арийской расой, которая призвана утверждать европейскую духовную культуру не только усилиями духа, но также кровью и железом. Германизм хотел бы навеки закрепить мировое главенство Центральной Европы, он стремится распространить свое влияние на Восток, в Турцию и Китай, но мешает настоящему выходу за пределы Европы и замкнутой европейской культуры. Повсюду германизм, одержимый идеей своей исключительной культурной миссии, несет свою замкнуто-европейскую и замкнуто-германскую культуру, ничем не обогащаясь, никого и ничего в мире не признавая… И эти притязания германско-европейского централизма являются великим препятствием на путях соединения Востока и Запада, т. е. решения основной задачи всемирной истории.
Этих исключительных притязаний германского духа не может вынести весь остальной мир. Германские идеологи даже расовую антропологическую теорию об исключительных преимуществах длинноголовых блондинов превратили в нечто вроде религиозного германского мессианизма. Вместо «арийцев» ввели в употребление термин «индогерманцы». Дух тевтонской гордости пропитал всю германскую науку и философию. Немцы не довольствуются инстинктивным презрением к другим расам и народам, они хотят презирать на научном основании, презирать упорядоченно, организованно и дисциплинированно. Немецкая самоуверенность всегда педантическая и методологически обоснованная. Мы, русские, менее всего можем вынести господство притязаний религии германизма. Мы должны противопоставить ей свой дух, свою религию, свои чаяния. Это не мешает нам ценить великие явления германского духа, питаться ими, как и всем великим в мире. Но гордыне германской воли должна быть противопоставлена наша религиозная воля. Центральной германской Европе не может принадлежать мировое господство, ее идея – не мировая идея. В русском духе заключен больший христианский универсализм, большее признание всех и всего в мире.
IV. Психология войны и смысл войны
Мысли о природе войны
I
Не о нынешней войне хочу я говорить, а о всякой войне. Что являет собою война? Как философски осмыслить войну? При поверхностном взгляде война есть передвижение и столкновение материальных масс, физическое насилие, убийство, калечение, действие чудовищных механических орудий. Кажется, что война есть исключительное погружение в материю и не имеет никакого отношения к духу. Люди духа иногда с легкостью отворачиваются от войны, как от чего-то внешне-материального, как чуждого зла, насильственно навязанного, от которого можно и должно уйти в высшие сферы духовной жизни.
Иные отвергают войну с дуалистической точки зрения, по которой существует совершенно самостоятельная сфера материальная, внешнего, насильственного, отдельная и противоположная духовному, внутреннему и свободному. Но все материальное есть лишь символ и знак духовной действительности, все внешнее есть лишь манифестация внутреннего, все принуждающее и насилующее есть ложно направленная свобода. Внутренно осмыслить войну можно лишь с монистической, а не дуалистической точки зрения, т. е. увидав в ней символику того, что происходит в духовной действительности. Можно сказать, что война происходит в небесах, в иных планах бытия, в глубинах духа, а на плоскости материальной видны лишь внешние знаки того, что совершается в глубине. Физическое насилие, завершающееся убийством, не есть что-то само по себе существующее, как самостоятельная реальность, – оно есть знак духовного насилия, совершившегося в духовной действительности зла. Природа войны, как материального насилия, чисто рефлективная, знаковая, симптоматическая, не самостоятельная. Война не есть источник зла, а лишь рефлекс на зло, знак существования внутреннего зла и болезни. Природа войны – символическая. Такова природа всякого материального насилия, – оно всегда вторично, а не первично. Известное состояние духовной действительности, в котором пребывает человечество, неизбежно должно пользоваться материальными знаками, как орудиями, без которых не может реализовать себя духовная жизнь. Для выражения своей духовной жизни человек должен двигать руками, ногами, языком, т. е. прибегать к материальным знакам, без которых нельзя выразить любви или ненависти, нельзя осуществить волевых стремлений. И война есть сложный комплекс материального передвижения ног и рук, разных орудий, приводимых в движение человеческой волей. Принципиально допустима возможность духовной жизни без материальных знаков и орудий, но это предполагает иной уровень духовной действительности, которого не достигло сейчас человечество и мир.
Бывают болезни, которые сопровождаются сыпью на лице. Сыпь эта есть лишь знак внутренней болезни. Внешнее устранение сыпи лишь вгоняет болезнь внутрь. От этого болезнь может даже ухудшиться. Нужно самую внутреннюю болезнь лечить. Зло войны есть знак внутренней болезни человечества. Материальные насилия и ужасы войны лишь сыпь на теле человечества, от которой нельзя избавиться внешне и механически. Все мы виновны в той болезни человечества, которая высыпает войной. Когда вскрывается гнойный нарыв, то нельзя видеть зла в самом вскрытии нарыва. Иногда это вскрытие нужно сделать насильственно для спасения жизни.
В глубине духовной действительности давно уже началась мировая война, мировая вражда, ненависть и взаимоистребление. И та война, которая началась в конце июля 1914 года, есть лишь материальный знак совершающейся в глубине духовной войны и тяжелого духовного недуга человечества. В этом духовном недуге и духовной войне есть круговая порука всех, и никто не в силах отклонить от себя последствия внутреннего зла, внутреннего убийства, в котором все мы жили. Война не создала зла, она лишь выявила зло. Все современное человечество жило ненавистью и враждой. Внутренняя война была прикрыта лишь поверхностным покровом мирной буржуазной жизни, и ложь этого буржуазного мира, который многим казался вечным, должна была быть разоблачена. Истребление человеческой жизни, совершаемое в мирной буржуазной жизни, не менее страшно, чем то, что совершается на войне.
II
В Евангелии сказано, что нужно больше бояться убивающих душу, чем убивающих тело. Физическая смерть менее страшна, чем смерть духовная. А до войны, в мирной жизни убивались души человеческие, угашался дух человеческий, и так привычно это было, что перестали даже замечать ужас этого убийства. На войне разрушают физическую оболочку человека, ядро же человека, душа его может остаться не только не разрушенной, но может даже возродиться. Очень характерно, что более всех боятся войны и убийства на войне – позитивисты, для которых самое главное, чтобы человеку жилось хорошо на земле, и для которых жизнь исчерпывается эмпирической данностью. Тех, кто верит в бесконечную духовную жизнь и в ценности, превышающие все земные блага, ужасы войны, физическая смерть не так страшат. Этим объясняется то, что принципиальные пасифисты встречаются чаще среди гуманистов-позитивистов, чем среди христиан. Религиозный взгляд на жизнь глубже видит трагедию смерти, чем взгляд позитивно-поверхностный. Война есть страшное зло и глубокая трагедия, но зло и трагедия не во внешне взятом факте физического насилия и истребления, а гораздо глубже. И на глубине этой зло и трагедия всегда даны уже до войны и до ее насилий.
Война лишь проявляет зло, она выбрасывает его наружу. Внешний факт физического насилия и физического убийства нельзя рассматривать, как самостоятельное зло, как источник зла. Глубже лежат духовное насилие и духовное убийство. А способы духовного насилия очень тонки и с трудом уловимы. Иные душевные движения и токи, иные слова, иные чувства и действия, не имеющие признаков физического насилия, более убийственны и смертоносны, чем грубое физическое насилие и разрушение.
Ответственность человека должна быть расширена и углублена. И, поистине, человек чаще бывает насильником и убийцей, чем он сам это подозревает и чем подозревают это о нем. Нельзя лишь в войне видеть насилие и убийство. Вся наша мирная жизнь покоится на насилии и убийстве. И до начала нынешней мировой войны мы насиловали и убивали в самой глубине жизни не меньше, чем во время войны. Война лишь выявила и проецировала на материальном плане наши старые насилия и убийства, нашу ненависть и вражду. В глубинах жизни есть темный, иррациональный источник. Из него рождаются глубочайшие трагические противоречия. И человечество, не просветившее в себе божественным светом этой темной древней стихии, неизбежно проходит через крестный ужас и смерть войны. В войне есть имманентное искупление древней вины. Не дано человечеству, оставаясь в старом зле и древней тьме, избежать имманентных последствий в форме ужасов войны. В отвлеченных пожеланиях пасифизма избежать войны, оставляя человечество в прежнем состоянии, есть что-то дурное. Это – желание сбросить с себя ответственность. Война есть имманентная кара и имманентное искупление. В войне ненависть переплавляется в любовь, а любовь в ненависть. В войне соприкасаются предельные крайности и дьявольская тьма переплетается с божественным светом. Война есть материальное выявление исконных противоречий бытия, обнаружение иррациональности жизни. Пасифизм есть рационалистическое отрицание иррационально-темного в жизни. И невозможно верить в вечный рациональный мир. Недаром Апокалипсис пророчествует о войнах. И не предвидит христианство мирного и безболезненного окончания мировой истории. Внизу отражается то же, что и наверху, на земле то же, что и на небе. А вверху, на небе, ангелы Божьи борются с ангелами сатаны. Во всех сферах космоса бушует огненная и яростная стихия и ведется война. И на землю Христос принес не мир, но меч. В этом глубокая антиномия христианства: христианство не может отвечать на зло злом, противиться злу насилием, и христианство есть война, разделение мира, изживание до конца искупления креста в тьме и зле.
Христианство есть сплошное противоречие. И христианское отношение к войне роковым образом противоречиво. Христианская война невозможна, как невозможно христианское государство, христианское насилие и убийство. Но весь ужас жизни изживается христианином, как крест и искупление вины. Война есть вина, но она также есть и искупление вины. В ней неправедная, грешная, злая жизнь возносится на крест.
III
Мы все виноваты в войне, все ответственны за нее и не можем уйти от круговой поруки. Зло, живущее в каждом из нас, выявляется в войне, и ни для кого из нас война не есть что-то внешнее, от чего можно отвернуться. Необходимо взять на себя ответственность до конца. И мы постоянно ошибаемся, думая, что снимаем с себя ответственность или не принимаем ее вовсе. Нельзя грубо внешне понимать участие в войне и ответственность за нее. Мы все так или иначе участвуем в войне. Уже тем, что я принимаю государство, принимаю национальность, чувствую всенародную круговую поруку, хочу победы русским, я – участвую в войне и несу за нее ответственность. Когда я желаю победы русской армии, я духовно убиваю и беру на себя ответственность за убийство, принимаю вину. Низко было бы возложить на других убийство, которое нужно и мне, и делать вид перед самим собой, что в этом убийстве я не участвую. Те, которые едят мясо, участвуют в убийстве животных и обязаны сознавать ответственность за это убийство. Лицемерно делать вид, что мы сами никогда не насилуем и не убиваем и не способны насиловать и убивать, что другие несут за это ответственность. Каждый из нас пользуется полицией, нуждается в ней, и лицемерно делать вид, что полиция не для меня. Всякий искренно желающий вытеснить немцев из пределов России духовно убивает не менее, чем солдаты, которые идут в штыковую атаку. Убийство – не физическое, а нравственное явление, и оно прежде всего совершается духовно. Стреляющий и колющий солдат менее ответствен за убийство, чем тот, в ком есть руководящая воля к победе над врагом, непосредственно не наносящая физического удара. Нравственно предосудительно желать быть вполне чистым и свободным от вины насилия и убийства и в то же время желать для себя, для своих близких, для своей родины того, что покупается насилием и убийством. Есть искупление в самом принятии на себя вины. Виновность бывает нравственно выше чистоты. Это – нравственный парадокс, который следует глубоко продумать. Исключительное стремление к собственной чистоте, к охранению своих белых одежд не есть высшее нравственное состояние. Нравственно выше – возложить на себя ответственность за ближних, приняв общую вину. Я думаю, что в основе всей культуры лежит та же вина, что и в основе войны, ибо вся она в насилии рождается и развивается. Но зло, творимое культурой, как и зло, творимое войной, – вторично, а не первично, оно – ответ на зло изначальное, на тьму, обнимающую первооснову жизни.
IV
К войне невозможно подходить доктринерски-рационалистически. Доктринерский абсолютизм в оценке жизни всегда безжизнен, насильствен, всегда есть фарисейское превозношение субботы над человеком. Но человек выше субботы, и суббота не должна быть абсолютным принципом жизни. Возможна и желанна лишь жизненно-пластическая мораль, для которой все в мире есть индивидуально-творческая задача. К сфере относительного не применимо абсолютное. В исторически-телесном мире нет ничего абсолютного. Возможна абсолютная жизнь, но невозможно применить абсолютное к жизни относительной. Абсолютная жизнь есть жизнь в любви. В абсолютной жизни не может быть войны, насилия и убийства. Убийство, насилие, война есть знак жизни относительной, исторически-телесной, не божественной. В историческом теле, в материальной ограниченности невозможна абсолютная божественная жизнь. Мы живем в насилии, поскольку живем в физическом теле. Законы материального мира – законы насилия. Абсолютное отрицание насилия и войны возможно лишь как явление глубоко индивидуальное, а не как норма и закон. Это предполагает одухотворение, побеждающее «мир» и его родовой закон, просветление тела человеческого нездешним светом. Но к жизни в материи этого мира нельзя применить абсолютного, как закон и норму. Евангелие не есть закон жизни. Абсолютное не применяется, а достигается. Абсолютная жизнь есть благодатная жизнь, а не жизнь, исполняющая закон и норму. Законническое применение абсолютного к относительному и есть субботничество, заклейменное Христом.
Абсолютная истина о непротивлении злу насилием не есть закон жизни в этом хаотическом и темном мире, погруженном в материальную относительность, внутренно проникнутом разделением и враждой. Пусть этот мир перейдет к абсолютной жизни в любви. Желать можно только этого и только к этому можно стремиться. Совершается это таинственно и незримо, как незримо приходит Царство Божие. Но не имеет никакого внутреннего смысла желать внешнего мира и отрицать всякое внешнее насилие, оставляя внутренно мир в прежнем хаосе, тьме, злобе и вражде. Это ничего не значит. Навязывание абсолютного закона относительной жизни есть доктринерство, лишенное всякого внутреннего смысла. Желать можно лишь внутреннего здоровья, а не внешнего обличья здоровья при внутренней болезни. Нельзя достаточно сильно подчеркивать, что абсолютная Христова любовь есть новая благодатная жизнь духа, а не закон для относительной материальной жизни. Вот почему бесконечно сложна проблема отношения христианства к войне.
Войну можно принять лишь трагически-страдальчески. Отношение к войне может быть лишь антиномическое. Это – изживание внутренней тьмы мировой жизни, внутреннего зла, принятие вины и искупления. Благодушное, оптимистическое, исключительно радостное отношение к войне – недопустимо и безнравственно. Мы войну и принимаем и отвергаем. Мы принимаем войну во имя ее отвержения. Милитаризм и пасифизм – одинаковая ложь. И там, и здесь – внешнее отношение к жизни. Принятие войны есть принятие трагического ужаса жизни. И если в войне есть озверение и потеря человеческого облика, то есть в ней и великая любовь, преломленная во тьме.
О жестокости и боли
I
Много говорят о жестокости наших дней, нашей эпохи, о невозможности вынести количество боли, выпадающее на долю нашего поколения. Многим даже представляется время наше более жестоким, чем былые исторические времена. Это – иллюзия и самообман. Мы слишком мало восприимчивы к жестокости жизни, вообще, слишком привыкли к болям обыденной жизни. И нужны исключительные внешние проявления жестокости, чтобы ранить нашу душу и поразить наше воображение. До войны и ее ужасов мы каждый день совершали много жестокого и претерпевали много жестоких болей. Процесс всякой жизни – жесток и болезнен. Но восприимчивость наша притупилась, кожа наша стала толстой. И мы ужасаемся жестокостям войны, в нашем сострадательном пафосе есть доля бессознательного лицемерия. Рост жизни всегда сопровождается болью. Когда мы творим жизнь, мы совершаем много жестокостей и много жестокостей совершается над нами. Мы убиваем не только тогда, когда колем штыком и стреляем из ружья. В сущности тот, кто принимает мировой процесс, историческое развитие, тем самым принимает жестокость и боль и оправдывает их. Есть жестокость и болезненность во всяком процессе развития, во всяком выходе из состояния покоя и бездвижности, во всяком восхождении. Героическое начало – жестокое начало. Само движение уже болезненно. Болезнен самый элементарный механический толчок, порождающий движение. И так до самых высших проявлений духовной жизни. И кто хочет свершения исторических судеб человечества, его развития ввысь, тот обязан принять жестокость и боль, заковать себя в броню. Тот же, кто не хочет никакой жестокости и боли, – не хочет самого возникновения мира и мирового процесса, движения и развития, хочет, чтоб бытие осталось в состоянии первоначальной бездвижимости и покоя, чтобы ничто не возникало. Таков неотвратимый метафизический вывод.
II
В исторической жизни всякое движение вперед начинается с нарушения установившейся системы приспособления и равновесия, с всегда мучительного выхода из состояния относительной гармонии. Болезненно трудно расставаться с привычным строем жизни, с тем, что казалось уже органически вечным. Но необходимо пройти через момент разрыва и дисгармонии. И это всегда болезненно. Но эту болезненность, эту жестокость начала всякого движения должен принять всякий, кто не хочет вечного застоя и покоя, кто ищет развития и новой жизни. Жесток и болезнен переход от патриархального строя жизни к иному, более сложному строю, в котором подымается личное начало, до того времени дремавшее. Болезненно и жестоко всякое нарушение первоначальной целости и органичности. Просыпающаяся, подымающаяся и сознающая себя личность всегда жестока в отношении к окружающей ее среде и господствующей в ней системе приспособления, она не может не причинять боли. Как много жестокости и боли бывает при всяком разрыве личности с семьей, которая давит своей системой приспособления! Как много жестокости и боли бывает во всякой борьбе за ценность, которая ставится выше блага! Болезненна и мучительна замена натурального хозяйства денежным, болезненно и мучительно разложение общины, разложение старого строя семьи, болезнен и мучителен всякий разрыв со старыми устоями жизни, со старыми идеями, болезнен и мучителен всякий духовный и идейный кризис. Безболезненно оставаться в покое и бездвижности. С точки зрения сострадания к людям и человеческим поколениям, боязни боли и жестокости, лучше оставаться в старой системе приспособления, ничего не искать, ни за какие ценности не бороться. Жестокость сопровождает всякое зачинающееся движение, всякий разрыв, предшествующий творчеству.
Исключительная религия сострадания, боящаяся всякой боли и страдания, как, например, буддизм, есть религия бездвижности, покоя. В христианстве этого нет, христианство считает неизбежным прохождение жизни через страдание, христианство знает ценности высшие, чем покой и безболезненность. Христианство верит в искупительность страдания и зовет к вольной Голгофе. И судьба христианских народов – динамична, а не статична, как судьба народов Востока. Христианское человечество творит историю. Признание высшим благом счастья, благополучия, безболезненного состояния людей, прямых интересов данного поколения должно привести к застою, к боязни творческого движения и истории. Всякое творчество и всякая история есть любовь к дальнему, а не любовь к ближнему, любовь к ценности, а не к благополучию. Творчества и истории нет без моментов страдания и боли, без жертвы благом непосредственной жизни. Во всякой любви к дали, к выси, к сверхчеловеческой ценности есть своя жестокость. Сухой огонь этой любви пожирает влагу жизни и несет страдания всему, что близко, что на плоскости. Безболезненнее, сострадательнее было бы не отстаивать дальних и горних ценностей и уступить их во имя блага людей, не творить истории. В самой точке зрения ценности уже есть жестокость и болезненность. В точке зрения блага – безболезненность покоя, приспособления, удовлетворенности тем, что есть, и для тех, которые есть. Но при таком отношении к жизни нельзя было бы творить большую историю.
III
Все вышесказанное может быть применено и к войне. Война жестока и болезненна. Никто не станет утверждать, что война сама по себе есть желанное благо. Нетрудно всякого привести к сознанию желательности прекращения всяких войн и замирения человечества в братском единении. Но такие отвлеченные истины мало помогают выйти из жизненных затруднений. Весь вопрос в том, отстаиваются ли в войне какие-нибудь ценности, более высокие, чем человеческое благополучие, чем покой и удовлетворенность современного поколения? Совершается ли в этой страшной и жестокой войне что-то важное для исторической дали и выси? В идеологических восхвалениях войны всегда есть что-то неприятное и недолжное. Война может быть принята лишь страдальчески и трагически. Но эта ниспосланная нам война, может быть, самая страшная из всех бывших войн, есть во всяком случае страдальческое испытание для современного человечества, развращенного буржуазным благополучием и покоем, поверившего в возможность мирной внешней жизни при внутреннем раздоре. Ценность чести, национальной и личной, выше благополучия и покойного удовлетворения. Достижения жизни исторической, решения мировых задач выше достижений жизни замкнуто-эгоистической, личной и семейной. Без такого сознания не может быть закала народного характера. Если в народе побеждают интересы покойно-удовлетворенной жизни современного поколения, то такой народ не может уже иметь истории, не в силах выполнить никакой миссии в мире. Жестокость войны, жестокость нашей эпохи не есть просто жестокость, злоба, бессердечие людей, личностей, хотя все это и может быть явлениями сопутствующими. Это – жестокость исторической судьбы, жестокость исторического движения, исторического испытания.
Жестокость человека – отвратительна. Нас справедливо возмущает жестокость немцев. Мы чувствуем за этим превращение человека в механическое орудие для целей государственных, умирание души в совершенной массовой дисциплине. Против ожесточения сердца, против жестокости нравов нужно бороться всеми силами. Война, конечно, несет с собой опасность варваризации и огрубения. Она сдирает покровы культуры и обнажает ветхую человеческую природу. Но есть другая сторона в моральной и психологической проблеме жестокости. Современные люди, изнеженные, размягченные и избалованные буржуазно-покойною жизнью, не выносят не этой жестокости сердца человеческого, – сердца их достаточно ожесточены и в мирной жизни, – они не выносят жестокости испытаний, жестокости движения, выводящего из покоя, жестокости истории и судьбы. Они не хотят истории с ее великими целями, хотят ее прекращения в покое удовлетворения и благополучия. И вот эта боязнь жестокости и боли не есть показатель духовной высоты.
Самый любящий, добрый, сердечный человек может безбоязненно принимать муку свершающейся истории, жестокость исторической борьбы. Доброта не противоположна твердости, даже суровости, когда ее требует жизнь. Сама любовь иногда обязывает быть твердым и жестким, не бояться страдания, которое несет с собой борьба за то, что любишь. Вопрос идет о более мужественном, не размягченном отношении к жизни. И в конце концов, безбоязненное принятие моментов неизбежной жестокости приводит к тому, что многие страдания избегаются. Ведь нужна бывает операция, чтобы избавить от смертельной болезни, чтобы предотвратить еще более ужасные страдания. Эта жестокость и болезненность операций должна быть морально оправдана и в жизни исторической. Тот уготовляет человечеству несоизмеримо большие страдания, кто боязливо закрывает себе глаза на необходимость таких операций и из доброты и мягкосердечия предоставляет человечеству погибать от гнойных нарывов.
У нас, русских, есть боязнь силы, есть вечное подозрение, что всякая сила от дьявола. Русские – непротивленцы по своему духу. Сила представляется всегда насилием и жестокостью. Быть может, потому русские стали такими, что в истории своей они слишком много страдали от насиловавшей их, над ними стоящей силы. Мы не привыкли на силу смотреть с моральной точки зрения, как на дисциплину духа, как на закал характера. Из инстинкта самосохранения русский народ привык подчиняться внешней силе, чтобы она не раздавила его, но внутренно он считает состояние силы не высшим, а низшим состоянием. Таким создала русский народ история. В нравственных сомнениях, вызываемых силой, есть своя правда. Вопрошения Л. Толстого не могут быть названы недоразумением. В них чувствуются великие вопрошения всего русского народа, его своеобразный моральный склад. Но в русском непротивленстве есть опасный, расслабляющий уклон, уклон от христианства к буддизму. Быть сильным духом, не бояться ужасов и испытаний жизни, принимать неизбежное и очистительное страдание, бороться против зла – остается императивом истинно-христианского сознания. Русские всего более нуждаются в закале характера. Русская доброта часто бывает русской бесхарактерностью, слабоволием, пассивностью, боязнью страдания. Эта пассивная доброта, всегда готовая уступить и отдать всякую ценность, не может быть признана таким уж высоким качеством. Есть доброта активная, твердая в отстаивании ценностей. Только к такой доброте нужно призывать. И нужно противиться расслабляющему и размягчающему ужасу перед болью и жестокостью жизни.
О правде и справедливости в борьбе народов
I
Самый распространенный взгляд, которым оправдывается война со стороны какого-нибудь народа, – тот, что правда и справедливость на стороне этого народа. Враждебный же народ представляется целиком пребывающим в неправде и несправедливости. Это – чисто моральная оценка войны, перенесение моральных категорий личной жизни на историческую жизнь народов. Такое приписывание исключительной моральной правоты своему народу в войне, а враждебному народу исключительной неправоты нередко бывает скрытым пасифизмом, вынужденным к оправданию данной войны. Это благообразная точка зрения, которая сразу же сделалась господствующей в России, когда разразилась война, не только не верна, но и опасна. Русским очень трудно было вообще оправдать войну. В широких кругах русской интеллигенции господствовало сознание, совершенно отрицающее войну. Элементарно простое отрицание войны базировалось на разных отвлеченных учениях, как гуманитарный пасифизм, международный социализм, толстовское непротивление и т. п. Подход к проблеме войны всегда был отвлеченно-моралистический, отвлеченно-социологический или отвлеченно-религиозный. Самостоятельной работы мысли над сложной проблемой войны у нас не происходило. Война застала нас нравственно не подготовленными. Начали на скорую руку строить оправдания войны и применили самый элементарный прием – перенесение на мировую борьбу народов привычных категорий нравственной жизни личности. Это делали и левые направления, исходившие из позитивистического миросозерцания, и направления славянофильские, религиозные. Самобытной исторической действительности, обладающей своими самостоятельными ценностями и оценками, все эти направления не признавали. Творческие исторические задачи выпадали из поля зрения исключительно моралистического сознания. В результате наших поспешных оправданий войны, или, точнее, наших самооправданий, получился один вывод: мы лучше немцев, нравственная правота на нашей стороне, мы защищаемся и защищаем, немцы же в нравственном отношении очень плохи, они – насильники, в них – дух антихристов. Вывод этот не очень богатый и не очень глубокий. Но лишь в силу этого нравственного суждения мы признали возможным воевать. Для одних германский народ был признан носителем милитаризма и реакции и потому нужно воевать с ним, это – дело прогрессивное. Даже анархисты вроде Кропоткина стали на эту точку зрения. Для других германский народ оказался носителем антихристианских начал, ложной духовной культуры, и потому война с ним – священная война. Но всегда оказывалось, что воевать можно лишь потому, что мы лучше. Мало кто встал на точку зрения борьбы рас.
Я думаю, что такая исключительно нравственная оценка войны ложна и в конце концов безнравственна. Элементарное морализирование мешает постигнуть нравственный смысл войны. Таким путем угашается вселенское нравственное сознание виновности всех и вся, всех народов и всего человеческого мира в ужасе войны. Нравственно достойнее на себя взять ответственность за зло войны, а не возлагать его целиком на другого. Нравственно предосудительно слишком уж себя считать лучше другого, в другом видеть злодея и на этом основании оправдывать свою борьбу с ним. В поединке необходимо некоторое уважение к противнику, с которым стало тесно жить на свете. Должно это быть и в поединке народов. Да и неправдоподобно, чтобы мы были во всех отношениях лучше немцев и чтобы враги наши были такими уж низкими злодеями и воля их целиком была отдана неправде и злу. Так не бывает. И в нашей литературе указывали на то, что немцы обнаружили не только жестокость и волю к господству и насилие, но и чувство долга, патриотизм, огромную самодисциплину, способность к самопожертвованию во имя государства, что само зло делают они, оставаясь верными моральному категорическому императиву. Еще более приходится признать, что в духовной жизни германского народа, в германской мистике, философии, музыке, поэзии были великие и мировые ценности, а не один лишь культ силы, не один призрачный феноменализм и пр. С другой стороны, у нас оказалось много нравственных дефектов, которые уж слишком бросаются в глаза и болезненно поражают. Много русской неправды с горечью сознаем мы. Должна ли ослабеть от этого наша воля к победе, наше сознание исторических задач, падает ли от этого оправдание войны?
II
Обнаруживается вся шаткость наших моралистических обоснований войны. Русский человек, усомнившись в своих исключительных нравственных качествах и признав некоторые качества за врагом, начинает думать, что и воевать-то не стоит, – у него слабеет воля, он уже не имеет пафоса. Если у немцев есть своя правда и свои нравственные качества, то русскому начинает казаться, что воевать против немцев нельзя, нехорошо и неоправданно. На почве такой моральной рефлексии растут настроения пассивного пораженчества, гуманитарного пасифизма и просто дряблости и индифферентизма. Для того, чтобы мы были по-настоящему воодушевлены, независимо от оценки немцев, наше сознание должно быть направлено в совершенно другую сторону, мы должны преодолеть исключительный морализм наших оценок. Мировая борьба народов в истории определяется не моральными прерогативами. Это – борьба за достойное бытие и исторические задачи, за историческое творчество. Справедливость есть великая ценность, но не единственная ценность. И нельзя оценивать историческую борьбу народов исключительно с точки зрения справедливости, – существуют и другие оценки. Национальные тела в истории образуются длительной, мучительной и сложной борьбой. Достойное национальное бытие есть историческое задание, а не простая историческая данность. Задание это осуществляется борьбой. Историческая борьба есть борьба за бытие, а не за прямолинейную справедливость, и осуществляется она совокупностью духовных сил народов. Эта борьба за национальное бытие – не утилитарная борьба, она всегда есть борьба за ценность, за творческую силу, а не за элементарный факт жизни, не за простые интересы. Можно сказать, что борьба народов за историческое бытие имеет глубокий моральный и религиозный смысл, что она нужна для высших целей мирового процесса. Но нельзя сказать, что в этой борьбе один народ целиком представляет добро, а другой народ целиком представляет зло. Один народ может быть лишь относительно более прав, чем другой. Борьба за историческое бытие каждого народа имеет внутреннее оправдание. Я могу признавать правоту своего народа в мировой войне, но это не есть правота исключительных нравственных преимуществ, это – правота творимых исторических ценностей и красота избирающего Эроса.
И мировая борьба союзников с Германией есть борьба за историческое бытие и исторические ценности, а не борьба исключительных моральных качеств и прерогатив. Я хочу преобладания в мире России и Англии и ослабления мирового значения Германии. Но совсем неверно было бы сказать, что постановка такой исторической задачи и борьба за такую историческую ценность есть требование отвлеченной справедливости и определяется исключительными нравственными преимуществами Англии и России перед Германией. Борьба, которую ведет так насильнически Германия за мировое преобладание, для нее может быть не менее оправдана и в ней может быть свой нравственный пафос. Нужно признать, что война одинаково может быть оправдана с двух сторон. Это нравственно парадоксальное по внешности утверждение ведет не к нравственному индифферентизму, а к повышению нравственного сознания. Нравственно ошибочно и недостойно обосновывать, например, великую миссию России на принижении других народов. Достойнее бороться за исторические ценности с противником, за которым признаются некоторые ценности. Война есть столкновение судеб, поединок, обращенный к Высшему Суду. Такова природа всякого столкновения индивидуальностей в мире. В поединке, который есть апелляция двух к Третьему, к Провидению, один может быть более прав, чем другой. Но смысл поединка, как и всякого столкновения индивидуальностей, совсем не в том, что один имеет исключительные нравственные преимущества перед другим. Вопрос о том, что войну начала Германия, что она главная виновница распространения гнетущей власти милитаризма над миром, что она нарушила нормы международного права, вопрос дипломатический и военный – для нашей темы второстепенный. Эта точка зрения не берет глубины вопроса, остается на поверхности. Дело идет о мировом духовном преобладании славянской расы. Мне неприятен весь нравственный склад германца, противен его формалистический пафос долга, его обоготворение государства, и я склонен думать, что славянская душа с трудом может переносить самые нравственные качества германцев, их нравственную идею устроения жизни. И я бы хотел бороться с германцами за наш нравственный склад, за наш духовный тип. Но это менее всего означает, что война подлежит расценке с точки зрения моральных прерогатив противников. Война апеллирует не к моральной справедливости, а к онтологической силе. Преобладание славянского нравственного склада над германским нравственным складом совсем не есть проблема справедливости. К столкновению индивидуальностей не применима категория справедливости. Это скорее дело исторической эстетики.
III
Нельзя искать справедливости в образовании великих империй, например Римской или Британской. Можно обсуждать способы, которыми пользовались при образовании великих империй, но точка зрения отвлеченной справедливости при оценке великих исторических образований совершенно безжизненна и бесплодна. Мы признаем, что образование великой Римской империи имело огромное значение для объединения человечества, для единства всемирной истории. Но очень сомнительно, чтобы в образовании Римской империи можно было увидеть справедливость. Для чисто моралистической точки зрения, переносящей на историческую действительность моральные категории личной жизни, не существует исторических задач и ценностей жизни исторической, как самостоятельной сферы. Такой морализм ведет к утверждению status quo. Справедливость – статична, а не динамична. Всякая творческая историческая задача предполагает изменение status quo и не обходится без принудительного перераспределения исторических тел. Морализм, целиком захваченный одной идеей отвлеченной справедливости, допускает лишь оборонительную войну, лишь отрицательную самозащиту. Но великая война должна иметь и творческие исторические задачи, должна что-то изменить в мире к лучшему, к более ценному бытию. Например, борьба за проливы не есть борьба за отвлеченную справедливость, это – борьба за историческое бытие, за повышение исторической ценности. Трудно было бы даже сказать, что означает отвлеченная справедливость в применении к турецкой проблеме. Справедливо ли было бы охранение Турецкой империи или справедливо ее разрушение? Я верю, что мировое преобладание России и Англии повысило бы ценности исторического бытия человечества, способствовало бы объединению Востока и Запада и дало бы простор всякому индивидуальному историческому существованию. Но проблема Востока и Запада не есть проблема отвлеченной справедливости, это – проблема конкретного бытия. Для отвлеченных моралистов в оценке исторической борьбы проблема Востока и Запада просто не существует, она не интересует их.
Нам, русским, необходимо духовное воодушевление на почве осознания великих исторических задач, борьба за повышение ценности нашего бытия в мире, за наш дух, а не на почве того сознания, что немцы злодеи и безнравственны, а мы всегда правы и нравственно выше всех. Преодоление элементарного морализма привело бы к более высокому моральному сознанию. Справедливое и джентльменское отношение к дьяволу может лишь укрепить в борьбе со злом. Более справедливое отношение к врагу должно не ослабить, а усилить волю к победе. Воля к победе должна быть поставлена в зависимость от наших творческих исторических задач, а не от наших отрицательных оценок нравственных свойств немцев. Мы верим, что последняя и окончательная победа в бытии должна принадлежать духовной силе, а не материальному насилию. Но духовная сила может проходить в мире через великое испытание и унижение, через Голгофу. Сила же, торжествующая в мире, может оказаться призрачной. И как бы ни слагалась внешняя судьба, наше дело – выковывать волю к высшему бытию.
Движение и неподвижность в жизни народов
I
Историческая жизнь народов полна борьбы и движения. Принявший историю и историческую судьбу принимает и движение со всей его болью и мучительностью. Борьба народов за повышение и рост жизни не может быть неподвижностью. Между тем очень распространены идеологические построения, которые в неподвижности, в сохранении status quo видят справедливость, всякую же борьбу, перераспределяющую исторические тела, считают неправдой и насилием. Многие находят очень прогрессивной, демократической и справедливой ту точку зрения, которая провозглашает: не нужно никаких аннексий, пусть все останется в прежних границах. Совершенно непонятно, почему status quo, сохранение прежних границ бытия народов есть меньшее насилие, чем изменение границ, чем перераспределение национальных тел, чем те или другие аннексии. Современные люди охотно соглашаются воспользоваться результатами старых насилий, старой борьбы, старых перераспределений и аннексий. Но они не согласны возложить на себя ответственность за новые перераспределяющие движения, за новую боль исторического созидания. Национальные тела образовались в истории и определили свои границы через борьбу, и в борьбе этой был элемент насилия. Но можно ли сказать, что великие исторические задачи уже кончились и что остается лишь сохранение установившегося? Скрытое отрицание всяких исторических задач есть в современных идеологиях, которые кажутся очень прогрессивными. Мировое дело овладения поверхностью земли и расселения на ней народов представляется уже законченным. В соотношениях народов должно прекратиться всякое движение и начаться неподвижность. Остается лишь счастливо устроиться на справедливо распределенной земле. Но счастливое устроение – статическая, а не динамическая идея. Отвлеченно-гуманитарное отрицание всяких перераспределяющих и созидающих национальных движений и готовность признать, что война должна быть вничью и вернуть лишь к status quo ante bellum[9], враждебна историческому творчеству.
Точка зрения отвлеченной справедливости – статична. Эта отвлеченная справедливость лишь поддерживает мировое равновесие, идеальный экилибр. Историческая динамика предполагает нарушение экилибра и того, что уже слишком привыкли считать справедливым, предполагает прохождение через то, что может показаться несправедливым, признание ценностей иных, чем ценность отвлеченной, охраняющей справедливости. Пасифистская теория вечного мира легко превращается в теорию вечного покоя, счастливой бездвижности, ибо последовательно должно отрицать не только боль, связанную с движением войны, но и боль, связанную со всяким движением, со всяким зачинающим историческим творчеством. Если утверждается, что война сама по себе не есть благо, что она связана со злом и ужасом, что желанно такое состояние человечества, при котором войны невозможны и ненужны, то это очень элементарно и слишком неоспоримо. Человечество и весь мир могут перейти к высшему бытию, и не будет уже материальных насильственных войн с ужасами, кровью и убийством. Но и тогда в этом высшем состоянии будет борьба, движение, историческое творчество, новое перераспределение тел и духов. Изменятся способы борьбы, все сделается более тонким, и внутренним, преодолеются слишком грубые и внешние методы, но и тогда будет боль движения и борьбы, счастливого покоя и бездвижности, благодатного экилибра не наступит. И на небе, в иерархии ангелов, есть войны. Войны могут быть духовными, войнами духов. Духи добрые сражаются с духами злыми, но вооружения их более тонкие и совершенные. Творческие задания исторического и мирового процесса не могут прекратиться и не может наступить состояние статическое, вечный счастливый покой. Человечество призвано идти ввысь, а не устраиваться на равнине. И высшая радость человеческая есть радость движения, а не радость бездвижности. Перед человечеством стоят еще огромные задачи овладения поверхностью земного шара и регулирования ее. Процесс образования и кристаллизации национальных тел еще не закончился. Миссии народов в истории еще не выполнены, и существуют народы и расы, которые не сказали еще своего слова, не выполнили своего дела, и им предстоят еще периоды высшего подъема.
II
Формальный принцип отрицания всяких аннексий, сохранения старых установившихся границ неприемлем, последовательно не приводим и не может претендовать на безусловное значение. Аннексии могут быть отвратительны, но могут быть желанны. Попробуйте применить эту статистическую точку зрения к Турции и Австрии, и сразу же обнаружится ее несостоятельность. Почему было бы справедливым сохранение status quo в разлагающейся, не имеющей будущего Турции или в искусственной, не органической и не имеющей никакой самостоятельной миссии Австрии? Инстинкты исторического творчества, ценные исторические задачи требуют тут больших изменений и перераспределений. Новые образования будущего более ценны, чем охранение одряхлевших исторических организмов. Все национальные и государственные образования имеют свою судьбу, свои периоды зарождения, расцвета и упадка. Все народы призваны сказать свое слово, сделать свой вклад в мировую жизнь, достигнуть высшего цветения своего бытия. Но бытие народов и государств в истории не сохраняется вечно, в неподвижных формах и границах. Наступают моменты истощения и нежизнепригодности. Греция создала величайший цвет мировой культуры, знала небывалые, единственные творческие подъемы, но и она выродилась и исчезла. Эллины истощили свои силы и должны были уступить место римлянам, имевшим совсем другую миссию в мире. Я верю, что древняя Эллада останется навеки жить в божественном миропорядке, но эмпирически она перестала существовать. Испания была великой страной, знала великий творческий подъем и расцвет. Но она быстро истощилась, была оттеснена и превратилась во второстепенную страну. И вряд ли кто-нибудь думает, что Испания может возродиться для мировой роли. Все народы имеют свои времена и сроки, знают свой час. Есть смена в миссии великих народов. Один народ свою миссию уже исполнил или истощился прежде, чем исполнил ее до конца. Другой народ идет ему на смену. До времени народы хранят свои потенциальные силы. И к этой смене народных миссий не применимы суждения справедливости. Это – высшая судьба.
Борьба народов есть борьба духовных сил, высших предназначений, а не борьба за животное существование и элементарные интересы. Животное существование и удовлетворение элементарных интересов возможно и при оттеснении народов и государств на второй план истории. Унижение народа наносит рану прежде всего его духу, а не его телу, его призванию, а не его интересам. Духовный и культурный расцвет народа предполагает и некоторое материальное могущество, символизирующее его внутренние потенции. Но народ опускается и погибает, когда материальное могущество превращается для него в кумира и целиком захватывает его дух. Есть большие основания думать, что германский народ, имевший свою великую миссию в мире, в этой войне истощит свои силы. Слишком направил он свои силы на создание материального могущества, и это исказило дух его. Народ же русский таил свои силы, не выявил их еще целиком в истории. И можно верить, что час смены исторических миссий пробил. Многое перераспределяется в исторических телах от смены исторических призваний. Но к этой смене народных призваний, всегда столь многое изменяющей на поверхности земли, совсем неприложимы суждения статической справедливости. Существуют страны и народы, огромная роль которых в истории определяется не положительным, творческим призванием, а той карой, которую несут они другим народам за их грехи. И всего более это можно сказать о Турции. Образование великой Турции в Европе, ее власть над христианскими народами – это была кара, ниспосланная за грехи Византии и христианских народов Европы. Турция, как великая империя, всегда держалась взаимной ненавистью и распрями христианских народов. Сохранение status quo в Турции было низкой, трусливой и завистливой политикой великих европейских держав. Таким путем не давали России выявить в мире свою мощь и исполнить свое призвание. И если беспримерная война не решит восточного вопроса, то человечеству грозят новые, страшные войны. Нередко сохранение status quo означает сохранение огнедышащего вулкана, который раньше или позже извергнет лаву.
III
Борьба России и Германии не есть соревнование на почве справедливости, но не есть также и элементарная биологическая борьба за интересы. В борьбе этой ставятся динамические, творческие задачи. Россия и Германия борются за свои места в мировой жизни и мировой истории, за преобладание своего духа, за творчество своих ценностей, за свое движение. Материальные интересы играют тут роль, но подчиненную. В такой борьбе должна быть приведена в движение вся совокупность духовных сил народов. Но постановка исторической задачи каким-нибудь великим народом предполагает некий творческий произвол, свободное напряжение всей энергии этого народа. Творческая задача не есть исполнение закона, не есть дело божественного фатума. Можно допустить, что Сам Бог предоставляет своим Народам свободу в постановке динамических исторических задач и в их выполнении, не насилует их, когда они борются за творчество более высоких ценностей. И духовное преобладание в мире России, а не Германии есть дело творческого произвола, а не отвлеченной справедливости. Это дело свободного движения в мире, а не статического равновесия.
Оправдание России в мировой борьбе, как и всякой страны, всякого народа, может быть лишь в том, что внесет в мир большие ценности, более высокого качества духовную энергию, чем Германия, притязания которой на мировое владычество она отражает, что своим неповторимым индивидуальным духом она подымает человечество на более высокую ступень бытия. Это не есть от века предрешенное, уже в онтологическом порядке осуществленное преимущество России, это – стоящая перед нами свободная творческая задача грядущей жизни. Оправдание всякого народа, как и всякого человека, перед высшим смыслом жизни может быть лишь динамическим, а не статическим. В творческом движении, а не в извечной неподвижности, которая кажется справедливостью, нужно искать более высоких качеств бытия народов. Идеология статической справедливости или предвечно осуществленного статического бытия, – мертвенна и безжизненна. Только творческое сознание может оправдать их и в собственных глазах, и в глазах мира. Внести же в мир творческие ценности мы можем лишь в том случае, если будем повышаться и в ценности и в качестве нашего собственного бытия. Всякое творческое притязание должно быть оправдано творческим действием, движением к более высокому качеству. И истинная национальная политика может быть лишь творческой, а не охраняющей, созидающей лучшую жизнь, а не кичащейся своей статической жизнью.
О частном и историческом взгляде на жизнь
I
Отношение к войне очень разделяет людей на два типа, которым трудно сговориться. Одни смотрят на войну, как и на все на свете, с частной точки зрения, с точки зрения личной или семейной жизни, блага и счастья людей или их страдания и несчастья. Другие смотрят на войну с сверхличной, исторической, мировой точки зрения, с точки зрения ценности национальности, государственности, исторических задач, исторической судьбы народов и всего человечества. Частная точка зрения на жизнь, имеющая в виду исключительно благо или несчастья людей – Петр́ов и Ив́анов, – не есть непременно обывательская, безыдейная точка зрения, – она может быть и очень идейной, принципиальной. Для идейного сознания счастье или страдание Петра и Ивана представляется счастьем или страданием народа. Очень характерно, что Л. Толстой и тогда, когда писал «Войну и мир», и тогда, когда писал свои нравственно-религиозные трактаты, был безнадежно замкнут в кругу частной точки зрения на жизнь, не желающей знать ничего, кроме индивидуальной жизни, ее радостей и горестей, ее совершенств или несовершенств. Для толстовского чувства жизни реальна и существенна лишь частная жизнь Ивана и Петра, жизнь семейная и нравственная, их нравственные сомнения и их искания нравственного совершенствования. Очень показательно отношение Левина к русско-турецкой войне и к славянскому вопросу. Жизнь историческая, национальная, задачи истории, борьба народов и царств, великие исторические люди – все это казалось Л. Толстому несущественным, нереальным, обманчивой и внешней оболочкой жизни. В «Войне и мире» не только «мир» побеждает «войну», но и вообще реальность «частной» жизни побеждает призрачность жизни «исторической», детская пеленка, запачканная в зеленое и желтое, оказывается существеннее, глубже всех Наполеонов и всех столкновений Запада и Востока. Для Толстого частная, растительно органическая жизнь всегда реальнее и существеннее, чем жизнь духовная, чем презираемое им культурное творчество, чем «науки и искусства». И вместе с тем со своей «частной» точки зрения Толстой не видит личности человеческой, всякий лик тонет для него в безличном. Толстой с такой легкостью радикально отверг историю и все историческое, потому что он не верит в ее реальность и видит в ней лишь случайную и хаотическую кучу мусора. Но история отомстила ему. Он перестал видеть и личность, она утонула в органической стихии. У Платона Каратаева нет личности, как нет ее и у Наташи. Личность заслонена такими «частными» вещами, как пеленки и онучи. В истории же, в сверхличной, мировой истории именно видна личность, проявляет себя яркая индивидуальность. «Историческое» раскрывает личность, дает ей движение, «частное» же, хозяйственно-родовое, закрывает личность и не дает ей хода.
По-другому, менее последовательно, чем Л. Толстой, но также отвергла исторический и утверждала «частный» взгляд на жизнь значительная часть русской интеллигенции в своем традиционном миросозерцании. В отличие от моралистического индивидуализма Толстого, радикальная интеллигенция держалась общественного миросозерцания и общественных оценок. Но сама эта общественность была глубоко «частной», признавшей единственной ценностью благо Ив́анов и Петр́ов, по своей ориентировке игнорировавшей исторические ценности и задачи, мировые, сверхчеловеческие перспективы. Для этого частнообщественного миросозерцания интеллигенции не существовало, например, самостоятельной ценности национальности или конкретного типа культуры. Это миросозерцание было номиналистическим в отношении ко всем историческим организмам: национальным, государственным, церковным – и реалистическим лишь в отношении к социальному человеку и социальным классам. Для этого миросозерцания не существовало России, как самостоятельной реальности, имеющей свою судьбу и задачу в мире. Реальна не Россия, а лишь населяющие ее люди, например, крестьяне и рабочие, их благо и их судьба. У женщин очень слабо развито чувство истории, их очень трудно довести до сознания исторической задачи и исторической ценности, их взгляд на жизнь – безнадежно и безвыходно «частный». Женское частное сострадание может привести к увеличению страданий, ибо оно не видит общей перспективы человеческой жизни, целиком захвачено временно-частным.
Такое женски-частное и женски-сострадательное отношение к жизни всегда бывает результатом решительного преобладания чувства над волей. Если бы в мире господствовало исключительно женственное начало, то истории не было бы, мир остался бы в «частном» состоянии, в «семейном» кругу. Менее всего можно было бы сказать, что такое частно-женственное отношение к жизни есть результат сильного чувства личности. Наоборот, сильное чувство личности есть в том мужественном начале, которое начало историю и хочет довести ее до конца. Все в мире совершается через истинное соотношение мужского и женского начала и взаимное их проникновение. Но в отношении к жизни русской интеллигенции, да и вообще русских людей есть как бы преобладание женственного, господства чувства женственного сострадания, женственных «частных» оценок, женственного отвращения к истории, к жестокости и суровости всего исторического, к холоду и огню восходящего ввысь духа.
II
Это «частное» миросозерцание есть плод гуманизма. Но это не гуманизм эпохи Возрождения, это – гуманизм, доведенный в XIX веке до своих последних выводов, соединившийся с позитивизмом, отвергнувший все ценности, кроме человеческого блага. В конце концов, этот гуманизм антирелигиозен по своей природе. Это исключительное внимание к судьбе отдельного человека оказывается призрачным. В действительности же номинализм этого миросозерцания идет дальше, он разлагает и человека, принужден отвергнуть реальность души человека, всегда ведь связанной с бесконечной глубиной бытия мирового, и выбрасывает человека на поверхность. Человек делается орудием фиктивного блага. Гуманитарная теория прогресса приносит всякого человека в жертву своему божку и не может найти оправданий для страданий и жертв человеческой личности. Такова уж неотвратимая диалектика: позитивно-гуманитарное отвержение божественных ценностей ведет в конце концов к отвержению человека, ценности его души, превосходящей эту видимую эмпирическую жизнь.
Для этого миросозерцания благо человека, отсутствие страданий выше ценности человека, выше чести и достоинства человека. Частнообщественное, гуманистическое миросозерцание расслабляет человека, отнимает у него ту глубину, в которой он всегда связан со всем «историческим», сверхличным, всемирным, делает его отвлеченно-пустым человеком. Так погибает и немая великая правда гуманизма. Поистине всякий человек есть конкретный человек, человек исторический, национальный, принадлежащий к тому или иному типу культуры, а не отвлеченная машина, подсчитывающая свои блага и несчастья. Все историческое и мировое в человеке принимает форму глубоко индивидуальных инстинктов, индивидуальной любви к своей национальности, к национальному типу культуры, к конкретным историческим задачам.
Более углубленный, более религиозный взгляд на человека ведет к открытию в нем, в его глубине всего исторического, мирового, всех сверхличных ценностей. Национальность есть моя национальность и она во мне, государственность – моя государственность и она во мне, церковь – моя церковь и она во мне, культура – моя культура и она во мне, вся история есть моя история и она во мне. Историческая судьба народов и всего человечества есть моя судьба, я в ней и она во мне. Я живу в прошлом и будущем истории моего народа, истории человечества и истории мира. И все жертвы всемирной истории совершаются не только мной, но и для меня, для моей вечной жизни. Слезинка ребенка пролита не только для мира, для свершения мировой судьбы, но и для самого ребенка, для свершения его судьбы. Ибо весь мир есть мир этого ребенка, он в нем и для него. Ребенок может не сознавать своей всемирности, как не сознают этого многие взрослые дети – Петры и Иваны. Но эта слабость и узость человеческого сознания, эта выброшенность человека на поверхность не может быть опровержением той великой истины, что каждый человек – всемирный по своей природе и что в нем и для него совершается вся история.
Лишь такой углубленный взгляд делает меня свободным, гражданином моего отечества и гражданином вселенной. «Частный» же взгляд на жизнь, для которого все историческое, мировое, сверхличное – чуждое и инородное, делает рабом, способным лишь на рабий бунт. Раб вечно ощущает насилие над собой со стороны внешнего, и для него все внешнее – чуждое. Свободный все ощущает своим путем, своим испытанием, своей судьбой. Так и войну я должен постигнуть как свершение моей судьбы – я ее виновник и она во мне происходит, в каждом Иване и Петре и для каждого Ивана и Петра. Ибо поистине каждый Иван и Петр – мировое существо, в глубине своей сообщающееся со всем историческим и сверхличным. Для огромной массы Иванов и Петров этот мировой процесс протекает в их бессознательной или подсознательной стихии. Но сознание этой массы должно быть поднято до этого мирового сознания, а не до того рабски-обособленного сознания, для которого все мировое оказывается внешним и навязанным. Лишь на этой почве возможно решение проблемы Ивана Карамазова о слезинке замученного ребенка. С «частной» точки зрения слезинка ребенка не может быть оправдана. Замученный ребенок – бессмысленная жертва, вызывающая протест против мира, а в конце концов, и против Бога. Но жертвы и страдания могут быть оправданы, если видеть ту глубину всякого существа, на которой судьба национальная, историческая и мировая есть его собственная судьба.
III
Очень характерно, что углубленный, религиозный взгляд на жизнь допускает жертвы и страдания, во многом слишком трудно видеть искупление и путь к высшей жизни. Более же поверхностный, «частный» взгляд на жизнь боится жертв и страданий и всякую слезу считает бессмысленной. Тот взгляд на жизнь, который я называю историческим лишь в противоположность частному и который, в сущности, религиозный, – ценности ставит выше блага, он принимает жертвы и страдания во имя высшей жизни, во имя мировых целей, во имя человеческого восхождения.
Все героическое рождается на этой почве. Господство частных оценок и частных точек зрения на жизнь не способствует расцвету личности. На этой почве рождаются бессмысленные и рабьи бунты, но не рождаются яркие творческие индивидуальности. Яркие творческие индивидуальности всегда ведь обращены к мировому, к «историческому», а не к «частному». Для исторического, обращенного к мировым ценностям взгляда на жизнь остается в силе заповедь Ницше: будьте жестки, тверды. И другая еще заповедь лежит в основе этого чувства жизни: любите дальнего больше, чем ближнего. Жесткость совсем не есть жестокость, она есть свойство духовное, а не биологическое, – жертва низшими состояниями духа во имя высших состояний, жертва элементарными благами во имя восхождения и эволюции человека. По личному своему опыту каждый человек знает, что боязливая и размягчающая отсрочка некоторых страданий и жертв ведет лишь к тому, что в будущем эти страдания и жертвы делаются еще большими. Есть неотвратимая жестокость в развитии жизни, и при исполнении заповеди жесткости и твердости эта жестокость может уменьшиться и сократиться. Так на войне, слишком жалея людей, можно привести к тому, что погибнет еще большее количество людей. Есть жестокость во всяком государстве, оно имеет природу «холодного чудовища». Но без государства человечество на том уровне, на котором оно находится, было бы ввергнуто в еще более жестокое, звериное состояние. Жестокая судьба государства есть в конце концов судьба человека, его борьба с хаотическими стихиями в себе и вокруг себя, с изначальным природным злом, восхождение человека к высшему и уже сверхгосударственному бытию. Государство само может делаться злым и истребляющим, его всегда подстерегает соблазн самодовлеющей власти. Но это уже вопрос факта, а не принципа, это вопрос о том, что государство должно или развиваться, или погибать. Государство должно знать свое место в иерархии ценностей. Царство кесаря не должно посягать на царство Божье и требовать воздаяния Божьего кесарю.
В пушкинском «Медном всаднике» гениально изображено столкновение «частного» мировоззрения с «историческим». Герой «Медного всадника» посылает проклятие чудотворному строителю Петру с «частной» точки зрения, от лица индивидуальной судьбы, противополагающей себя судьбе исторической, национальной, мировой. Маленькая, чувствующая себя раздавленной частная жизнь бунтует против великой, исторической жизни. Но бунт этот – рабий бунт, он порожден поверхностным сознанием. Все самое маленькое может ведь себя чувствовать соучастником великого, великое сознавать своим и от этого делаться великим. Лишь утверждение народного, имманентно-человеческого характера государства должно привести к тому высшему сознанию, что государство – в человеке и каждый человек за него ответственен. В разных социальных идеологиях, «частных» по своему пафосу, много говорится о «буржуазности» государства, национальности, «буржуазности» всех исторических организмов и исторических культур. Но в действительности глубоко «буржуазны» эти частные социальные мировоззрения, выбрасывающие человека на поверхность и замыкающие его в его интересах, в его перспективах благополучия и «частного» земного рая. Совершенно «буржуазен» и гуманитарный социализм, поскольку он признает лишь гедонистические ценности и отвращается от всякого жертвенного, страдальческого пути человеческого восхождения к высшей жизни, поскольку исповедует религию количеств, а не качеств. Человек жертвенными и страдальческими путями выходит в мировую ширь и в мировую высоту. Глубина человека тянет его в высоту. И «буржуазно» все, что оставляет его на поверхности и признает в нем лишь поверхность. «Буржуазность» есть и в анархизме, соединяющем жесточайшие разрушения с прекраснодушнейшими идиллиями. «Буржуазен» и частно-семейственный взгляд на жизнь, эта слишком большая и порабощающая любовь к уюту частной жизни. Такая «буржуазность» есть в обывательском царстве, ныне переживающем жестокую драму. Нелюбовь к исторически-великому – «буржуазная» нелюбовь. В лучшей части русской интеллигенции было героическое начало, но оно было неверно направлено и исходило из ложного сознания. Мировая война – величайшее испытание для частно-гуманистического мировоззрения, оно пошатнулось в своих основах. Старый, гладко-поверхностный гуманизм не хотел знать глубины самого человека. И лишь углубление мировоззрения может привести человеческую личность, так трагически поставленную перед мировыми проблемами, к сознанию своего мирового исторического, а не «частного» только призвания.
V. Психология политики и общественности
Об отвлеченности и абсолютности в политике
I
Представитель с.-д. принципиально заявил, что социал-демократы отказываются от участия в военно-морской комиссии и не берут на себя ответственности за оборону страны, так как в обороне должен участвовать весь народ. С таким же успехом он мог бы сказать, что должно участвовать все человечество и даже весь животный и растительный мир. И еще мог бы сказать, что социал-демократы будут в чем-либо положительном участвовать, лишь когда наступит конец мира и водворится Царство Божие, так как раньше трудно ждать абсолютной справедливости на свете. Это классический образец совершенной отвлеченности и формальной абсолютности в политике. В сущности, это отказ от делания на том основании, что мир слишком плох для того, чтобы я участвовал в его делах. В делах этого мира всегда ведь царит относительность, а не абсолютность, и в них все конкретно, а не отвлеченно. А большая часть заявлений социал-демократов отличается отвлеченностью и фиктивной абсолютностью. Социал-демократы не верят в абсолютное, – в философии, в религии они всегда за относительное. Но политика их есть сплошное применение абсолютного к относительному, абсолютизация относительных и материальных вещей этого мира, пользование отвлеченными категориями для конкретной действительности. Я говорю о русских социал-демократах, которые нередко остаются типичными русскими мальчиками. Германские социал-демократы давно уже делают реальную, конкретную и относительную политику, хотя раньше и они были абсолютистами. Все, что я говорю, еще более применимо к социалистам-революционерам. Но абсолютностью и отвлеченностью отличаются заявления всех политических доктринеров, которые хорошее устроение общественной жизни в мысли принимают за жизнь. Такая отвлеченность и абсолютность в политике на практике ведут к тому, что интересы своей партии или социальной группы ставятся выше интересов страны и народа, интересы части – выше интересов целого. Часть, группа, чувствует себя выделенной из всенародной жизни, общенациональной и общегосударственной жизни и пребывающей в абсолютной правде и справедливости. Сбрасывается бремя ответственности за целое, за судьбу страны и целого народа. Пребывающая в абсолютной и отвлеченной правде часть не хочет участвовать в круговой поруке национальной жизни, да и жизни общечеловеческой. Такова психология секты, чувствующей себя спасенной и праведной в бесконечном море окружающего зла, тьмы и погибели. Так чувствует себя всякий социал-демократ в Государственной думе. Сектантская психология переносится из сферы религиозной в сферу политическую. Сектантская психология и в религиозной жизни есть уклон и ведет к самоутверждению и самопогруженности, а в жизни политической она не имеет никаких прав на существование, так как всегда является сотворением себе кумира из относительных вещей мира, подменой Абсолютного Бога относительным миром.
II
Доктринерская, отвлеченная политика всегда бездарна – в ней нет интуиции конкретной жизни, нет исторического инстинкта и исторической прозорливости, нет чуткости, гибкости и пластичности. Она подобна человеку, который не может поворачивать шею и способен смотреть лишь по прямой линии в одну точку. Вся сложность жизни ускользает от взора. Живая реакция на жизнь невозможна. Отвлеченные доктринеры в политике думают, что они далеко видят. Но их «дальнозоркость» не есть провидение далекого будущего. Они – не пророки и видят лишь свои отвлеченные доктрины, а не грядущую жизнь. Да и «дальнозоркость» есть болезненное состояние зрения, которое требует исправления стеклами, чтобы можно было видеть у себя под носом, читать и писать. Отвлеченность в политике есть легкое и безответственное провозглашение общих мест, безотносительно к возникающим жизненным задачам и к историческому моменту. Поэтому не требуется никакой творческой работы мысли над сложными задачами, никакой чуткости, никакого проникновения в совершающееся. Достаточно лишь вынуть из кармана краткий катехизис и прочесть из него несколько параграфов. Отвлеченная и максималистская политика всегда оказывается изнасилованием жизни, ее органического роста и цвета. Такая отвлеченность отрицает, что политика есть творчество и искусство, что настоящая, большая историческая политика требует особых даров, а не механического применения общих мест, большей частью невпопад. Упрощающее отрицание сложности и конкретности исторической жизни, в которой делается всякая политика, есть показатель или бездарности и элементарности в этой области, или отсутствия интереса к этой сфере бытия, непризванность к ней. Отвращение от конкретной сложности общественно-политических задач бывает у нас часто результатом моноидеизма, когда человек целиком захвачен одной какой-нибудь идеей, моральной или религиозной или социальной, но непременно в смысле спасения человечества одним каким-нибудь способом, одним путем. Это, в конце концов, ведет к отрицанию множественности бытия и утверждению единого, одного чего-нибудь. Но политике всегда приходится иметь дело с данным, конкретным состоянием целого мира, с низким уровнем человеческой массы, с невозрожденными душами, с сопротивлением необходимости. Отвлеченные социальные и политические учения всегда грешат рационализмом и верят в добрые плоды внешнего насилия под низким уровнем развития человеческой массы и порожденной этим уровнем необходимостью. Так не перерождается ткань души человека и души общества. Политика всегда погружена в относительное. Она существует лишь для общества, в котором сильны свинцовые инстинкты. Для общества праведного не нужна была бы политика.
Прямолинейное применение абсолютных ценностей духовной жизни к относительной исторической жизни и относительным историческим задачам основано на совершенно ложном сознании. Абсолютное может быть в душе политика и душе народа, в субъекте социального творчества, но не в самой политике, не в социальном объекте. Я могу быть вдохновлен к социальному делу абсолютными ценностями и абсолютными целями, за моей деятельностью может стоять абсолютный дух. Но само социальное дело есть обращение к относительному, есть сложное, требующее чуткости и гибкости взаимоотношение с относительным миром, всегда бесконечно сложным. Перенесение абсолютности в объективную социальную и политическую жизнь есть пленение духовной жизни у исторически относительного и социально-материального. Вместе с тем это есть и порабощение всей относительной исторической жизни извне навязанными абсолютными и отвлеченными началами. Так было со всеми теократическими направлениями, с претензиями формально подчинить общественность церкви. Это всегда есть нежелание признать свободу многообразной, относительной жизни. Монистическое насильничество есть и в право-теократических и в лево-социалистических направлениях. Сама по себе духовная жизнь со всеми своими абсолютными ценностями вполне конкретна. Но прямолинейное ее перенесение в относительность природно-исторического процесса превращает духовную жизнь в отвлеченные принципы и доктрины, лишенные конкретной жизненности. Дух, свободный в своем внутреннем опыте, становится навязчивым и насильническим; он открывается относительной, внешней жизни не как живой опыт, а как извне навязанный, безжизненный принцип или норма. С философской точки зрения относительная историческая жизнь может быть признана самостоятельной сферой самой абсолютной жизни, одним из явлений ее разыгрывающейся драмы. И потому абсолютное не должно быть насильственным, внешним и формальным навязыванием относительному трансцендентных начал и принципов, а может быть лишь имманентным раскрытием высшей жизни в относительном. Отвлеченная и абсолютная политика социал-демократа есть такой же дурной и порабощающий трансцентизм, как и политика теократическая, как папоцезаризм или цезарепапизм.
Отрицание отвлеченности и абсолютности в политике всего менее может быть понято, как беспринципность и безыдейность. Вся общественная и политическая деятельность должна быть изнутри одухотворена и вдохновлена высшими целями и абсолютными ценностями, за ней должно стоять духовное возрождение, перерождение личности и народа. Но этот духовный закал личности и народа совсем не то, что внешнее применение отвлеченных идей к жизни. Духовно возрожденный человек и народ по-иному будут делать политику, чем те, что провозглашают внешние абсолютные принципы и отвлеченные начала. Моральный пафос не ослабляется, а увеличивается, но он переносится в другую плоскость, делается внутренним, а не внешним, горением духа, а не политической истерикой или политическим изуверством. Робеспьер был очень принципиальный доктринер и любил отвлеченные декларации, но был ветхий, не возрожденный человек, плоть от плоти и кровь от крови старого режима, насильник в деле свободы. Переменилось только одеяние. Наши максималисты в революционные годы тоже были старыми, не возрожденными людьми, плохим человеческим материалом для дела освобождения, – клетки их душ были не подготовлены для выполнения исторической задачи. Свобода – не внешний принцип в политике, а внутреннее одухотворяющее начало.
III
Вопрос о принципиальности в политике гораздо сложнее, чем думают доктринеры. Его нужно свести к вопросу о духовном возрождении, об изменении самой ткани людей и обществ, к закалу народного характера. Внешний, навязчивый морализм в политике неуместен и несносен. Но за политикой должна стоять моральная энергия человека, моральный закал. У многих же моралистов и радикалов в политике, помешанных на отвлеченных принципах, часто отсутствует всякий моральный закал личности. Это и обнаруживается в моменты хаотизации и анархизации общества. Так было в печальном конце русской революции. Были у нас отдельные герои, способные к жертве, отдававшие свою жизнь за идею, но в революционной массе не было нравственного характера. А важен не отвлеченный принцип, а живой дух, возрожденная личность. Идейность в политике связана с духовным углублением личности, с воспитанием души целого народа, с сознанием великой ответственности, а не с упрощением и схематизацией сложной исторической жизни. Нравственные начала в политике утверждаются изнутри, из корней человека, а не извне, не из внешних принципов общественности. Повторяю, абсолютность в политике невозможна, невозможна ни теократическая, ни социал-демократическая, ни толстовская анархическая абсолютность. Но абсолютность возможна в начале человеческого духа, во внутренней верности человека святыне. Сама же политика всегда конкретна и относительна, всегда сложна, всегда имеет дело с историческими задачами данного времени и места, которые не отвлечены, не абсолютны, не монистичны. Наша принципиально-отвлеченная политика была лишь формой ухода от политики. В политике все бывает «в частности», ничто не бывает «вообще». В политике ничего нельзя повторять автоматически в силу принципа. Что хорошо в одно историческое время, то плохо в другом. Каждый день имеет свои неповторимые и единственные задачи и требует искусства.
Всякий чуткий человек, не доктринер, понимает, что нынешний исторический день в России выдвигает в политике на первый план задачи управления, организации ответственной власти, а не задачи чисто законодательного творчества и реформ. Но скоро может наступить день, когда задачи будут совсем иные. Сейчас все силы должны быть мобилизованы для обороны России и для победы. Это совершенно конкретная задача, она не диктуется никакими отвлеченными принципами политики. Но сторонники отвлеченной принципиальной политики и сейчас делают политические декларации, которые совершенно безжизненны и проходят мимо самых безотлагательных задач исторического дня. Духовный подъем, нравственная сила и воодушевление ныне обнаруживаются в патриотическом деле служения родине, в защите родины до смерти. Эти дела не предусмотрены принципами отвлеченной политики; эти задачи возникли в данный исторический день, и эта нравственная энергия обнаружилась лишь ныне. Несколько лет тому назад ни один политик не предвидел, на что нужно будет направить все свои силы. И то, что нужно сейчас свою деятельность приспособить к защите родины, вряд ли кто-либо решится назвать оппортунизмом. Это – не оппортунизм, а требование подвига и ответственности. Война научает конкретности в политике, и она закаляет дух. Она вносит огромные изменения в наши нравственные суждения, устанавливает совсем иное соотношение между нравственным и политическим. Точка зрения, которую мы защищаем, освобождает от абсолютизации политики, от превращения ее в кумира, в бога. Мы не должны относительному воздавать то, что надлежит воздавать лишь абсолютному, т. е. мы должны кесарево воздавать кесарю, а Божье – Богу. Дух, укрепленный в своих абсолютных истоках и возрожденный, должен обратиться к многообразной и сложной конкретности мира живой, творческой реакцией и обнаружить свои творческие дары. России более всего недостает людей с дарованием власти, и такие люди должны явиться.
Слова и реальности в общественной жизни
I
Слова имеют огромную власть над нашей жизнью, власть магическую. Мы заколдованы словами и в значительной степени живем в их царстве. Слова действуют, как самостоятельные силы, независимые от их содержания. Мы привыкли произносить слова и слушать слова, не отдавая себе отчета в их реальном содержании и их реальном весе. Мы принимаем слова на веру и оказываем им безграничный кредит. Сейчас я предполагаю говорить исключительно о роли слов в общественной жизни. А в общественной жизни условная, но ставшая привычной фразеология приобретает иногда власть почти абсолютную. Ярлыки-слова – самостоятельная общественная сила. Слова сами по себе воодушевляют и убивают. Кажется, Теккерей сказал: «Мужчин убивают дела, а женщин – слова». Но и мужчины очень походят на женщин, – и их убивают слова. За словами идут массы. Всякая агитация в значительной степени основана на власти слов, на гипнозе слов. Привычная фразеология скрепляется с инстинктами масс. Для одной массы нужно употреблять «левую» фразеологию, для другой – «правую» фразеологию. Демагоги хорошо знают, какие слова нужно употреблять. Общественная жизнь отяжелевает от рутины слов. Как много значат и как сильно действуют слова «левый», «правый», «радикальный», «реакционный» и пр., и пр. Мы загипнотизированы этими словами и почти не можем общественно мыслить вне этих ярлыков. А ведь реальный вес этих слов невелик, и реальное их содержание все более и более выветривается. В общественном словоупотреблении царит номинализм, а не реализм. Я слышу, как говорят: это очень «радикальный» человек, подавайте за него голос. А этот «радикальный» человек – адвокат, зарабатывающий 20 000 руб. в год, ни во что не верящий и ничему не придающий цены, за радикальной фразеологией скрывающий полнейшее общественное равнодушие и безответственность. Личная пригодность человека для общественного дела отступает на второй план перед условной и рутинной фразеологией. Качества личности вообще у нас мало ценятся и не ими определяется роль в общественной жизни. Поэтому у нас так много совершенно ложных общественных репутаций, много имен, созданных властью слов, а не реальностей. Инерция слов и условностей мешает разглядеть настоящие характеры. В общественной жизни совсем почти не происходит естественного подбора личных характеров. А в жизни государственной явно происходит подбор характеров негодных и недоброкачественных. При помощи условной фразеологии у нас легко превращают людей глубоко идейных, с нравственным закалом характера чуть ли не в подлецов, а людей, лишенных всяких идей и всякого нравственного закала, высоко возносят. Более всего не терпят людей самостоятельной и оригинальной мысли, не вмещающихся ни в какие привычные рутинные категории. У нас часто убивают людей посредством приклеивания ярлыков – «реакционер», «консерватор», «оппортунист» и т. п., хотя, может быть, за этим скрывается более сложное и оригинальное явление, неопределимое обычными категориями. В другом лагере убивают при помощи слов противоположных. И все боятся слов и ярлыков.
Огромная масса людей живет не реальностями и не существенностями, а внешними покровами вещей, видит лишь одежду и по одежде всякого встречает. Широкие слои русского интеллигентного общества особенно как-то живут фикциями слов и иллюзиями покровов. Власть инерции поистине ужасна. Если велика власть инерции и привычных, заученных категорий в обывательских кругах, то там это понятно и простительно. Но интеллигенция претендует быть носительницей мысли и сознания, и ей труднее простить эту леность и вялость мысли, это рабство у привычного, навязанного, внешнего. Трудно жить реальностями. Для этого нужны самостоятельная работа духа, самостоятельный опыт, самостоятельная мысль. Легче жить фикциями, словами и покровами вещей. Огромная масса людей принимает на веру слова и категории, выработанные другими, вампирически живет чужим опытом. Никакой собственный реальный опыт уже не связывается со словами, которые, однако, определяют все оценки жизни. Слова были реально содержательны для тех, у кого были свой опыт и своя мысль, своя духовная жизнь. Но эти же слова стали номинальными и бессодержательными для тех, которые живут по инерции, по привычке к подражательности. Так бывает и в жизни религиозной, где слишком многие питаются чужим опытом и живут чисто словесной догматикой, и в жизни общественной, где заученные партийные лозунги, формулы и слова повторяются без всякого самостоятельного акта воли и мысли. На этой почве вырабатывается политический формализм, не желающий знать реального содержания человеческой жизни. В общественной жизни все ведь – в силе, в энергии духа, в характере людей и обществ, в их воле, в их творческой мысли, а не в отвлеченных принципах, формулах и словах, которым грош цена. Самое ведь важное и существенное – люди, живые души, клетки общественной ткани, а не внешние формы, за которыми может быть скрыто какое угодно содержание или полное отсутствие всякого содержания. Демократическая республика, в которой все построено на прекрасных формулах и словах, может быть самым отчаянным рабством и насилием. Это давно уже обнаружено горьким опытом жизни европейского человечества, который должен был бы научить нас недоверию к чисто внешним формам и к прекрасной фразеологии равенства, братства и свободы. Столь же формальным, столь же номинальным может оказаться и любой социалистический строй. Вот почему необходимо устремить свою волю к существенной свободе, к перерождению клеток общества, к осуществлению ценностей более высокой жизни изнутри. Этот внутренний процесс неизбежно приводит к внешнему изменению общественного строя и общественной системы, но всегда в соответствии с реальным содержанием и направлением народной воли.
II
Многие думают, что главная беда России в том, что русское общество недостаточно либерально или радикально, и ждут многого от поворота нашего общества влево в традиционном смысле этого слова. И в этом мнении сказывается фатальная для нас власть слов и формальных понятий. Наше общество – либеральное и левое, но этот либерализм и эта левость – бессильны и выражаются по преимуществу в оппозиционной настроенности или негодовании. Главная беда России – не в недостатке левости, которая может возрастать без всяких существенных изменений для русской общественности, а в плохой общественной клетке, в недостатке настоящих людей, которых история могла бы призвать для реального, подлинно радикального преобразования России, в слабости русской воли, в недостатке общественного самовоспитания и самодисциплины. Русскому обществу недостает характера, способности определяться изнутри. Русского человека слишком легко заедает «среда», и он слишком подвержен эмоциональным реакциям на все внешнее. «Радикалы» и «левые» могут быть совершенно негодным материалом для новой, возрожденной России. Не следует поддаваться иллюзиям словосочетаний. Важно и существенно, каков сам человек и каков народ, а не каковы его словесные лозунги и отвлеченные политические понятия.
Так, например, наши «правые» были плохим материалом для истинного консерватизма. Они всегда были скорее разрушителями, чем охранителями каких-либо ценностей. Патриотическая, национальная и государственная фразеология «правых» – слова, слова и слова. Наши правые круги лишены истинного государственного и национального сознания. Такое сознание можно встретить у отдельных лиц, но не у общественных слоев и групп. Полное отсутствие настоящего консерватизма – фатальная особенность России. «Правая» Россия начала уже разлагаться, когда «левая» Россия еще не вполне созрела. Все приходит у нас слишком поздно. И мы слишком долго находимся в переходном состоянии, в каком-то междуцарствии.
России нужна, прежде всего, радикальная моральная реформа, религиозное возрождение самих истоков жизни. Но, увы, и религиозное возрождение может быть номинальным и формальным. Велика власть слов и в религиозной жизни. Ярлыки – «православный», «сектант», «христианин нового сознания» и пр. приобрели не соответствующее их реальному весу значение. «Православный» номинализм давно уже отравляет религиозную жизнь в России. Религиозная фразеология правых кругов давно уже выродилась в отвратительное лицемерие и ханжество. Но не поможет нам и утверждение какого-нибудь «левого» религиозного сознания, применяемого к общественности извне и формально. В глубине клеток народной жизни должно произойти перерождение, идущее изнутри, и я верю, что оно происходит, что русский народ духовно жив и что ему предстоит великое будущее. Смутная эпоха пройдет. Пора сбросить внешние покровы и обнаружить истинную сущность вещей, истинные реальности. Величайшая наша моральная задача – переход от фикций к реальностям, преодоление гипноза слов. Бесстрашие перед словами – великая добродетель. Положительной стороной этого бесстрашия всегда бывает любовь к правде. Пафос правдолюбия – великий пафос народа. А вокруг наших слов, формул и понятий, правых, левых и средних, накопилось слишком много условной лжи и гнили. Поистине, одну великую революцию предстоит нам совершить, революцию свержения ложных и лживых, пустых и выветрившихся слов, формул и понятий. Нужно перестать бояться ярлыков, которые так любят наклеивать, чтобы словесно ими возвеличивать или унижать людей. Нужно прозревать за словами реальности. А настоящее прозрение есть также презрение к многому, ничтожному и несущему. Так должно совершиться воспитание самостоятельности общественного характера, созревание самостоятельной общественной мысли.
III
Трагедия войны дает перевес делам над словами – она выявляет реальности и низвергает фикции. Так правая бюрократия со своей национально-государственной фразеологией явно жила фикциями и пустыми словами. Это обнаружено. Ложь низвергнута. Теперь уже яснее становится, кто действительно патриот, кто любит свою родину и готов служить ей. Слова националистов взвешены на весах истории. В прошлую зиму у нас начало было распространяться лжепатриотическое настроение, не допускавшее в России самокритики, настроение безответственное и приводящее к самохвальству. У одних оно выражалось в реставрации религиозно-славянофильской фразеологии, более возвышенной, у других – фразеологии государственно-националистической, менее возвышенной. Но эти настроения были сметены событиями. В это лето начался подлинный, здоровый патриотический подъем, возросло чувство общественной ответственности, которое всегда предполагает самокритику. Словам и фикциям противопоставлены реальности. Нездоровый патриотизм, боявшийся правды и выражавшийся в словесной идеализации того, что есть, заменяется здоровым патриотизмом, глядящим бесстрашно в глаза самой горькой правде, выражающимся в служении тому, что должно быть. И дышать стало легче, хотя события мрачны и тяжелы. Можно говорить правду и призывать к делам правды. В той удушливой атмосфере, которая одно время образовалась, могли раздаваться лишь лживые слова, расцветали лишь фиктивные идеологии.
Для низвержения фиктивной власти слов нужна свобода слова.
В атмосфере несвободы процветают пустые слова, и они неопровержимы. Слово само по себе божественно, и божественный смысл слов может быть выявлен лишь в атмосфере свободы, реализм слов в борьбе побеждает номинализм слов. Несвобода питает пустую фразеологию «левую» и пустую фразеологию «правую». Реальности, стоящие за словами, не могут быть выявлены. Совершенная свобода слова есть единственная реальная борьба с злоупотреблением словами, с вырождением слов. Только в свободе правда слов победит ложь слов, реализм победит номинализм. Свобода слов ведет к естественному подбору слов, к выживанию слов жизненных и подлинных. Лживые и пустые слова будут продолжать звучать, но они не будут иметь того ореола, который создается для них атмосферой гнета и придавленности.
Сделайте слово более властным, и прекратится власть слов над общественной жизнью: слова-реальности победят слова-фикции. Свобода ведет к ответственности. Несвобода все делает безответственным. Восстановление смысла слов, правдивого, реального и полновесного употребления слов ведет к тому сознанию, что общество наше должно не переодеться, хотя бы в самый радикальный костюм, не покровы переменить, а действительно переродиться, изменить ткань свою. Власть слов была властью внешнего. А мы должны обратиться к внутреннему. Вся жизнь должна начать определяться изнутри, а не извне, из глубины воли, а не из поверхностной среды.
Демократия и личность
I
У нас мало сейчас размышляют об основах общественности. Сознание наше направлено на элементарные нужды, и нужды эти закрывают более далекие перспективы. Но нам предстоит перестройка нашей общественной жизни, и к ней мы должны быть идейно готовы. Наше общественное движение бедно идеями, и слишком многое принимается в нем, как само собой разумеющееся. В широких кругах русской интеллигенции и русского передового общества демократические идеи и идеологии принимались, как само собой разумеющаяся правда. Идея демократии никогда не представлялась во всей своей сложности, никогда не бралась критически. Зло и неправда нашей общественной и государственной жизни делали нашу мысль элементарной и упрощенной. И все противоположное нашей гнетущей действительности представлялось уже благом и светом. Всякая слишком сложная общественная мысль казалась непонятной, неуместной и бралась под подозрение. У нас любят только простые и прямолинейные решения. На Западе проблема демократии в ее отношении к проблеме личности давно уже ставится очень сложно. Жизненный исторический процесс привел на Западе к этой сложности, он многое сделал проблематическим. Там были испытаны многие политические формы, и в политической мысли ощутилась исчерпанность. Мы же, русские, жили в великом принуждении и слишком мало еще испытали в сфере политического строительства. В мысли пережили мы самые крайние политические и социальные учения, и временами казалось нам, что мы прошли уже и через анархизм. Но эти крайние политические и социальные учения в России всегда мыслились упрощенно и элементарно. Такая элементарность и упрощенность были и в нашем принятии идеи демократии. Для многих русских людей, привыкших к гнету и несправедливости, демократия представлялась чем-то определенным и простым, она должна принести великие блага, должна освободить личность. Во имя некоторой бесспорной правды демократии, идущей на смену нашей исконной неправде, мы готовы были забыть, что религия демократии, как она была провозглашена Руссо и как была осуществляема Робеспьером, не только не освобождает личности и не утверждает ее неотъемлемых прав, но совершенно подавляет личность и не хочет знать ее автономного бытия. Государственный абсолютизм в демократиях так же возможен, как в самых крайних монархиях. Народовластие так же может лишить личность ее неотъемлемых прав, как и единовластие. Такова буржуазная демократия с ее формальным абсолютизмом принципа народовластия. Но и социальная демократия Маркса также мало освобождает личность и также не считается с ее автономным бытием. На одном съезде социал-демократов было высказано мнение, что пролетариат может лишить личность ее, казалось бы, неотъемлемых прав, например, права свободы мысли, если это будет в существенных интересах пролетариата. В этом случае пролетариат мыслим, как некий абсолют, которому все должно быть принесено в жертву. Повсюду встречаем мы наследие абсолютизма, государственного и общественного, он жив не только тогда, когда царствует один, но и тогда, когда царствует большинство. Инстинкты и навыки абсолютизма перешли и в демократию, они господствовали во всех самых демократических революциях. На Западе давно уже беспокоит вопрос о гарантии прав меньшинства и прав личности по отношению к абсолютным притязаниям демократии, не ограничивающей себя абсолютными ценностями личного духа. Формальный абсолютизм демократической идеи не может быть нами принят, он должен быть ограничен другими идеями. Количественная масса не может безраздельно господствовать над судьбой качественных индивидуальностей, судьбой личности и судьбой нации. Воля народа должна быть воспитана в исключительном уважении к качествам индивидуальным, к бесконечной природе человеческого духа. Воля народа не может быть принята формально бессодержательно, как утверждение абсолютного права народной воли, воли большинства, воли массового количества господствовать в каком угодно направлении, чего угодно хотеть, что угодно давать и отнимать. В демократии есть своя правда утверждения свободной человеческой стихии, имманентной власти самого человека и человечества. Но демократия должна быть одухотворена, связана с духовными ценностями и целями.
II
Идея демократии была осознана и формулирована в такую историческую эпоху, когда религиозное и философское сознание передовых слоев европейского человечества было выброшено на поверхность и оторвано от глубины, от духовных истоков человека. Человек был поставлен в зависимость от внешней общественности. Общественность же была оторвана от души человеческой, от духовной жизни личности и от души мировой, от жизни космической. Человек был признан внешне общественным существом, целиком определяемым общественной средой. Но так как человеческая общественность была изолирована от мирового целого, от жизни космической и очень преувеличено было самостоятельное значение общественности, то образовался рационалистический утопизм с его верой в совершенное, до конца рациональное устроение общественной жизни, независимое от духовных основ жизни человека и мира. Духовно-религиозную почву имела не демократия, а декларация прав человека и гражданина, которая родилась из утверждения религиозной свободы совести в общинах реформации. Но декларация прав человека и гражданина на практике, в демократических революциях, в массовых общественных движениях очень мало проводилась в жизнь и вытеснялась утилитарно-общественными интересами. В России рецепция идей демократии произошла на почве позитивистической и материалистической настроенности и сознания и была оторвана от идеалистической идеи прав человека и гражданина. Пафос социального равенства всегда подавлял у нас пафос свободы личности. Утверждение же прав личности духовно и морально не связывалось с утверждением обязанностей личности и ответственности личности. Торжествовала безответственная теория социальной среды, порождающая лишь претензии. Личность не признавалась ответственным творцом общественной жизни. Новая жизнь ожидалась исключительно от изменений социальной среды, от внешней общественности, а не от творческих изменений в личности, не от духовного перерождения народа, его воли, его сознания. Народный и личный характер совсем не принимается в расчет в наших демократических социальных учениях.
Идея демократии в той прямолинейной и упрощенной форме, в которой она была у нас принята, породила целый ряд нравственных последствий. Отвлеченно-демократическая общественная идеология сняла ответственность с личности, с духа человеческого, а потому и лишила личность автономии и неотъемлемых прав. Только ответственный – свободен и только свободный – ответствен. В наших же демократических социальных идеологиях и вся ответственность и вся свобода переложены на количественную механику масс. Прямолинейная демократическая метафизика как будто бы не требует перевоспитания личного и национального, выработки характера, дисциплины воли личной и общественной, внутренней духовной работы. На этой почве вырабатывалась мораль притязаний, обращенных к общественной среде, мораль ожиданий, что всякое богатство жизни придет извне. Вся жизнь оказывалась ориентированной внешне, а не внутренне. Такого типа демократическая метафизика придает большее значение взвинчиванию масс, агитации, внешним выступлениям без внутреннего, существенного изменения человеческого материала общественности. Так создаются призрачные и совершенно внешние общественные изменения. Это – точка зрения использования, ни на что не смотрящая по существу. Важно не человеческое развитие рабочих или крестьян, не повышение их человеческого достоинства и качественности, не рост их силы, которая всегда ведь есть духовная сила, а постановка их в такие условия, утилитарно нужные. Это и есть путь морального вырождения демократии. И он дал уже свои печальные плоды. Я все время имею в виду не демократические программные требования и задания, которые заключают в себе некую правду и справедливость, а тот дух отвлеченной демократии, ту особую общественную метафизику и мораль, в которой преобладает внешнее над внутренним, агитация над воспитанием, притязательность над ответственностью, количества над качествами, уравнительная механика масс над творчеством свободного духа.
III
Отвлеченная, ничем не ограниченная демократия легко вступает во вражду с духом человеческим, с духовной природой личности. И этому духу отвлеченно-формальной демократии, всегда обращенному к внешнему, должен быть решительно противопоставлен иной дух, истинный дух человечества, дух личности и дух народа. Этот дух, совсем не противоположный правде демократических программ, прежде всего требует личного и общественного перевоспитания, внутренней работы воли и сознания, он ставит судьбу общественности в зависимость от внутренней жизни человеческой личности, нации, человечества, космоса. Дух этот стремится к истинному соединению людей, а не к механическому лишь их сцеплению. Социальное творчество предполагает творческий дух, оно невозможно без творческого субъекта. Крайняя демократическая метафизика принуждена отрицать творческий дух, она ждет всего от механики количеств, от внешних количественных перераспределений, в ней нет признания индивидуальной качественности. На этом пути отрицается огромное значение духовного подбора личностей, личных качеств и призваний, личной годности, не возлагается на личность вся огромная ответственность за судьбу общественности. Наоборот, на внешнюю общественность, на социальную среду целиком возлагается ответственность за судьбу личности, за ее годность или негодность. Но истинное народное самоуправление, как выявление организованной человеческой энергии, как обнаружение народного характера, предполагает самодисциплину и самовоспитание личности и народа, закал воли. Истинное народное самоуправление должно возложить ответственность за судьбу общественности на человека и его силу, на народ. Но народ не есть механическая бесформенная масса, народ есть некий организм, обладающий характером, дисциплиной сознания и дисциплиной воли, знающий, чего он хочет. Демократия, как ценность, есть уже образовавшийся народный характер, выработанная личность, способная обнаружить себя в национальной жизни. Демократия есть организованная и обнаружившаяся вовне потенция человеческой природы народа, его достигнутая способность к самоуправлению, к властвованию. Властвовать может лишь тот, кто властвует над собой. Потеря личного и национального самообладания, расковывание хаоса не только не уготовляют демократии, но делают ее невозможной, – это всегда путь к деспотизму. Задача образования демократии есть задача образования национального характера. Образование же национального характера предполагает образование личного характера. Общественное сознание, общественная воля должны быть направлены на выработку закала личности. Вот этой направленности у нас и нет. Демократию слишком часто понимают навыворот, не ставят ее в зависимость от внутренней способности к самоуправлению, от характера народа и личности. И это – реальная опасность для нашего будущего. Русский народ должен перейти к истинному самоуправлению. Но этот переход зависит от качества человеческого материала, от способности к самоуправлению всех нас. Это требует исключительного уважения к человеку, к личности, к ее правам, к ее духовно самоуправляющейся природе. Никакими искусственными взвинчиваниями нельзя создать способность к самоуправлению. Разъяренная толпа, одержимая корыстными и злобными инстинктами, не способна управлять ни собой, ни другими. Толпа, масса не есть демократия. Демократия есть уже превращение хаотического количества в некоторое самодисциплинированное качество. Прежде всего, человек, как и народ, должен стать господином самого себя. Недостатки русской демократии унаследованы от нашего рабства, и они должны исправляться в практике самоуправления.
Такое выдвигание личного, качественного, духовно-творческого начала, как основоположного в общественной жизни, всего менее есть индивидуализм. Через внутреннюю работу личности и нации, через выработку качеств характера утверждается духовная социальность. Речь идет все время не только о душе человека, личности, но также и о душе общества и душе нации, с которыми демократическая механика так мало считается. Отвлеченный демократизм всегда есть формализм, он не хочет знать содержания народной воли, народного сердца, народной мысли, ему важно лишь формальное народовластие. Но содержание народной воли есть уже внутреннее, уже духовное содержание, известная направленность духа. И демократическому формализму необходимо противопоставить определенное содержание народной воли и народного сознания, определенную их одухотворенность. Тогда лишь правда демократии, правда человеческого самоуправления, соединится с правдой духа, с духовными ценностями личности и народа. К этому мы должны готовиться всеми силами, чтобы не повторять старых ошибок, не попадать в какой-то безвыходный магический круг, вечно порождающий реакции. Демократия не может быть в принципе, в идее ограничена сословными и классовыми привилегиями, внешне-общественными аристократиями, но она должна быть ограничена правами бесконечной духовной природы человеческой личности и нации, ограничена истинным подбором качеств. Дух нации глубже демократии и должен направлять ее. Власть не может принадлежать всем, не может быть механически равной. Власть должна принадлежать лучшим, избранным личностям, на которые возлагается великая ответственность и которые возлагают на себя великие обязанности. Но эта власть лучших должна быть порождена из самых недр народной жизни, должна быть имманентна народу, его собственной потенцией, а не чем-то навязанным ему извне, поставленным над ним. Сила демократии не может быть абсолютной, неограниченной властью, она ограничивается ею самой выдвинутыми качествами. Идее демократии чуждо противопоставлять идею самоуправляющейся нации.
Дух и машина
I
Никогда еще так остро не стоял вопрос об отношении духа и машины, как в наши дни. Мировая война очень заостряет эту тему. Наши споры о германизме вращаются вокруг темы – дух и машина. Нельзя отрицать, что в Германии было много духа, и Германия же пришла к самым совершенным образцам механизации и машинизации. Германская машина, как бы выброшенная из недр германского духа, идет впереди, она задавала тон в жизни мирной, а теперь задает тон в войне. Германцы стали рабами собственной совершенной машины. Совершается роковой процесс машинизации жизни, замена органического механическим. Многих пугает и страшит этот процесс, сопровождающийся уродливыми явлениями и гибелью старой красоты. Торжество машины, замена организма механизмом представляется материализацией жизни. Но можно ли сказать, что дух погибает в этой материализации, что машина изгоняет его из жизни? Я думаю, что это слишком поверхностный взгляд. Смысл появления машины и ее победоносного движения совсем не тот, что представляется на первый взгляд. Смысл этот – духовный, а не материальный. Сама машина есть явление духа, момент в его пути. Обратной стороной машинизации и материализации жизни является ее дематериализация и одухотворение. Машина может быть понята, как путь духа в процессе его освобождения от материальности. Машина разрывает дух и материю, вносит расщепление, нарушает первоначальную органическую целостность, спаянность духа и плоти. И нужно сказать, что машина гибельна не столько для духа, сколько для плоти. Машинность, механичность культуры распыляет плоть мира, убивает органическую материю, в ней отцветает и погибает органическая материя, родовая материальная жизнь. Старый органический синтез материальной, плотской жизни в машине приходит к концу. Рост техники во вторую половину XIX века – одна из величайших революций в истории человечества. Что-то надломилось в органической жизни человечества, и началось что-то новое, все еще не до конца осознанное и опознанное. Быть может, после этой войны будет лучше понятно, что случилось с человечеством после властного вступления машины в его жизнь.
Проблема «духа и машины» имеет огромное значение для русского сознания, она предстоит перед Россией, как проблема ее будущего. Спор славянофильства и западничества, народничества и марксизма может быть перенесен в духовную сферу и углублен. И та точка зрения, которую я хочу защитить, может быть названа «духовным марксизмом». Но это, конечно, не более как аналогия. Русские любят противополагать своеобразие русского духа западной материальной культуре, основанной на механичности и машинности. Свою русскую органическую целостность мы противополагаем западной механической раздробленности. И в этот грозный час нашей истории мы пытаемся противопоставить русский дух германской машине, хотим понять эту войну, как борьбу духа с машиной. В этом чувстве войны есть своя правда, но есть и довольно грубое смешение разных плоскостей и планов. Нужно ведь признать, что и славянофилы и народники и разные русские религиозные направления не всегда только дух противополагали машине и власти материальности, но также противополагали более развитой технике и хозяйству технику и хозяйство менее развитое, отсталое и примитивное. Так ищут спасения от усовершенствованной материи в материи несовершенной и от высокой степени материального развития – в низкой ступени материального развития. Но порабощающей власти развитой техники можно противопоставить высокий и свободный дух, но нельзя противопоставить технику отсталую и элементарную. Материальная отсталость и элементарность не есть сила духа.
Нельзя, например, превращать натуральное хозяйство в высшую духовность, идеализировать элементарную и примитивную хозяйственность, как более духовное и свободное состояние. Отсталое, элементарное, примитивное хозяйство нисколько не менее материально, чем развитое капиталистическое хозяйство. Если идти назад по линии материального развития человечества, то мы не дойдем до свободного и цельного духа, а дойдем лишь до более элементарных и примитивных форм материальной жизни. И эта материальная линия в прошлом упирается в самую грубую борьбу за существование, в самую тяжкую материальную зависимость, царящую в природе. Потерянного рая мы не найдем этим движением назад или задержкой в движении вперед. Это – грубый самообман. Славянофилы, так дорожившие примитивным и отсталым русским материальным бытом и с ним связывавшие высоту нашего духа, в сущности, держали дух в рабской зависимости от материи. Уничтожение сельской общины и патриархального бытового уклада представлялось им страшным бедствием для русского духа и его судьбы. Но может ли русский дух так зависеть от материальной отсталости? Грозит ли русскому духу гибель от разложения старой русской материи? Немного тогда стоит этот дух. Постыдно для духа бояться материального развития и цепляться за материальную отсталость. Дух должен бесстрашно идти по пути материального развития, узрев в нем свою собственную объективацию и манифестацию. Материальное развитие, техника, машина – пути духа. И я думаю, что не только ошибочно противопоставлять совершенной машине машину несовершенную, но также ошибочно противопоставлять машине – дух. Можно лишь противопоставлять низкому, рабскому духу дух свободный и высокий.
II
Материальное, космическое развитие идет от первоначальной целостной органичности, скрепляющей дух и плоть и прикрепляющей дух к материи, к механичности, расщепляющей дух и плоть, нарушающей цельность и освобождающей дух от связи с материей. Этот путь можно открыть во всех сферах жизни. Повсюду первоначальная органическая цельность расщепляется и разлагается, совершается дифференциация и расслоение. Утерянная органическая целостность и спаянность в периоде разорванности и расслоенности обманно представляется утерянным раем, почти божественным состоянием. Но эта первоначальная органическая целостность была не божественным и райским состоянием, а природным и скованным состоянием. В природной органической жизни дух и плоть еще не дифференцированы, но означает это не высшее состояние духа, а элементарное его состояние, всегда связанное с тяжелой борьбой за существование и злым принуждением. Дух еще дремлет в первоначальной органичности, он не возвышается еще над растительностью и животностью, он растворяется еще в природе. Расщепление и раздвоение – неизбежный этап в путях развития духа, который переживается мучительно и нередко сопровождается чувством смерти. В восприятии этого пути развития мы подвержены эстетическому обману. Мы ведь очень легко принимаем наше творческое эстетическое восприятие природы за жизнь самой природы и с трудом видим зло и неволю, заложенные в природной жизни. Все органически природное кажется нам более прекрасным, чем все искусственно-механическое. Прекрасен цветущий дуб и уродлива машина, оскорбительна для глаза, уха и носа, нимало не радует. Мы любим дуб и хотели бы, чтобы он унаследовал вечность и чтобы в вечной жизни мы сидели под цветущим развесистым дубом. Машину же любить мы не можем, в вечности ее увидеть не хотели бы, и в лучшем случае признаем лишь ее полезность. И как соблазнительно желание остановить роковой процесс жизни, ведущий от цветущего дуба к уродливой и смрадной машине.
Но все же этот переход от органичности дерева, от благоухающей растительности к механичности машины, к мертвящей искусственности должен быть пережит и прожит религиозно. Чтобы воскреснуть, нужно умереть, пройти через жертву. И переход от органичности и целостности к механичности и расщепленности есть страдальческий, жертвенный путь духа. Эта жертва должна быть сознательно принята. Через нее лишь достигается свобода духа. Машина есть распятие плоти мира, вознесение на крест благоухающих цветов и поющих птиц. Это – Голгофа природы. В неотвратимом процессе искусственной механизации природа как бы искупает грех внутренней скованности и вражды. Природный организм должен умереть, чтобы воскреснуть к новой жизни. И вот чудовища – машины умертвляют природную органическую целостность и косвенно, мучительными путями высвобождают дух из природной связанности. Сделался шаблонным в религиозной мысли тот взгляд, что машина умерщвляет дух. Но глубже та истина, что машина умерщвляет материю и от противного способствует освобождению духа. За материализацией скрыта дематериализация. С вхождением машины в человеческую жизнь умерщвляется не дух, а плоть, старый синтез плотской жизни. Тяжесть и скованность материального мира как бы выделяется и переходит в машину. И от этого облегчается мир.
III
Реакционеры-романтики, в тоске и страхе держащиеся за отходящую, разлагающуюся старую органичность, боязливые в отношении к неотвратимым процессам жизни, не хотят пройти через жертву, не способны к отречению от устойчивой и уютной жизни в плоти, страшатся неизведанного грядущего. Хотят сохранить старую органичность, старую плоть, силятся не допустить материальный мир до расщепления и расслоения. И как мало эти люди верят в дух, в его бессмертие и неистребимость, в его неодолимость темными силами. Судьба духа вверяется ветхим и элементарным материальным формам, от которых боятся оторвать дух. Какие маловеры все эти видящие гибель духа в разложении ветхой органической материи. Такими маловерами оказываются дети и внуки славянофилов. Страх перед новой жизнью – определяющий их мотив. Какой жалкий самообман видеть высшее и лучшее в отсталых формах материальной жизни по сравнению с формами более развитыми, какой материализм в этом чувствуется! Религиозное, христианское отношение к жизни должно жертвенно принять смерть старой России, старой ее плоти во имя воскресения России к новой жизни. Глубина христианства в том, чтобы принять и понять изнутри всю жизнь как мистерию Голгофы и Воскресения. И вся плоть мира должна пройти через распятие, через раздирание и смерть. Эта смерть – к жизни. Но вот говорят, что св. Франциск невозможен при развитой промышленности, при машинах и капиталистическом хозяйстве. Св. Франциск возможен был лишь при натуральном, примитивном хозяйстве, и потому да здравствуют элементарные формы материальной жизни, не будем допускать развития! Но если так, то я делаюсь марксистом и настаиваю на следующем роковом выводе: св. Франциск – цветок натурального хозяйства, дух обусловливается экономическими факторами. Религиозное отношение к жизни рушится, и о святости лучше совсем не говорить. Или нужно бесстрастно стать на другой путь и признать, что дух не зависит от материи и что функциональная связь духовного и материального на поверхности жизни из глубины, изнутри совсем иное означает. Эта независимость и свобода духа должна быть обнаружена мучительным путем механизации, машинизации материальной жизни. Только путь расслоения, раздвоения и дифференциации жизни дает настоящий опыт и познание жизни. Это – путь свободы, свободного изживания всех потенций.
IV
Вначале все органически-плотское было освященное и священное. Религиозное освящение плотской жизни и ее элементарных материальных орудий свойственно всем натуралистическим религиям и самому христианству в натуралистическом его периоде. Священен был плуг, которым пахали землю. Сама земля была священна, и растения, и животные, и все хозяйственно-материальное. В первоначальном фазисе своего развития человечество не могло выковывать хозяйственных орудий борьбы за жизнь без религиозной санкции. Ощущение священности материальной жизни всюду сопровождало человека. Это освящение плотской жизни и ощущение ее божественной органичности не вполне покинуло человека и в наше время. Но на высоких ступенях исторического развития вся материальная жизнь роковым образом перестает быть священной. Все секуляризуется. Машина не священна и не священен современный индустриализм. Машина и не нуждается в освящении. Только органическое ощущается священным, механическое никогда не ощущается священным. Секуляризация всей внешней жизни связана с расщеплением и раздвоением, с утерей первоначальной органической цельности. Сознательное согласие на секуляризацию жизни есть согласие на жертву, на отречение от прекрасных и возвышенных обманов. Все священное входит внутрь, в дух. Обратной стороной этого обрелигиозивания и обездушивания жизни является углубление религиозности и большее одухотворение. Религия перестает быть плотски бытовой и становится духовной, глубинной. Секуляризация, как и машина, убивает не дух, а материю. Машинизация есть отрывание и выделение материальной тяжести из духа, облегчение духа. Но облегчение это достигается тем, что переживается кошмар и смертная тоска машинности.
То, что было вечно в дубе, в цветах и шипах, то преобразится и пребудет в духе, то сохранит свою непреходящую форму, освобожденную от материальной тяжести и скованности. Но нельзя идеализировать органическую природу и ее естественный порядок, в котором все основано на борьбе за существование и взаимном истреблении и пожирании. Нельзя смешивать своего творческого прозрения красоты природы с ее естественным порядком. Природно-органическое не есть еще ценное, не есть то высшее, что нужно охранять. Истинная жизнь – творимая жизнь, а не исконная данная жизнь, не органически-элементарная, животно-растительная жизнь в природе и в обществе. И в физическом организме, борющемся за существование в природном порядке, не больше окончательной правды, чем в машине. С более глубокой точки зрения дуб и машина – в одной линии. Развитие в материальном плане идет от элементарного природного организма к сложной искусственной машине. Это – путь расслоения материи, того искусственного ее усложнения, которое ведет к освобождению от материи, от тяжести ее органических функций. Человечество должно бесстрашно, с полной верой в неистребимость своего духа проходить через материальное развитие, через машину и технику и перестать искать спасения исключительно в прошлом. Боязнь и страх машины есть материализм и слабость духа. Обращение к элементарному органическому прошлому, идеализация его, боязнь страдальческого развития есть малодушие и любовь к покою, леность духа. Только тот достигает свободы духа, кто покупает ее дорогой ценой бесстрашного и страдальческого развития, мукой прохождения через дробление и расщепление организма, который казался вечным и таким уютно-отрадным. В старый рай под старый дуб нет возврата. Более элементарного и менее мучительного прошлого не вернешь. Огромный смысл явления машины – в том, что она помогает окончательно порвать с натурализмом в религии. Машина как бы клещами вырывает дух из недр природной материи. Это процесс очень мучительный и трудный, много радостей жизни в нем гибнет. И нужна большая вера в силу духа, чтобы устоять в этом процессе. Первоначально он воспринимается, как торжество материи и гибель духа. И лишь на большой глубине процесс этот достигается иначе.
Россия переживает сейчас очень ответственный момент, она стоит на перепутьи. Ей предстоит еще жертвенно отречься от своего материального органического прошлого, от старого своего хозяйствования, от старого своего государствования, которое многим еще представляется органическим, но которое уже подгнило в своей основе и разлагается. Русское сознание должно отречься от славянофильского и народнического утопизма и мужественно перейти к сложному развитию и к машине. В России есть смешение двух стилей – аскетического и империалистического, монашеского и купеческого, отрекающегося от благ мира и обделывающего мирские дела и делишки. Такое смешение не может дольше продолжаться. Если Россия хочет быть великой империей и играть роль в истории, то это налагает на нее обязанность вступить на путь материального технического развития. Без этого решения Россия попадает в безвыходное положение. Лишь на этом пути освободится дух России и раскроется ее глубина.
Царство духа и царство Кесаря Гносеологическое введение
Борьба за истину
Мы живем в эпоху, когда истину не любят и ее не ищут. Истина все более заменяется пользой и интересом, волей к могуществу. Нелюбовь к истине определяется не только нигилистическим или скептическим к ней отношением, но и подменой ее какой-либо верой и догматическим учением, во имя которого допускается ложь, которую считают не злом, а благом. Равнодушие к истине уже и ранее определялось догматической верой, не допускавшей свободного искания истины. Наука развивалась в европейском мире, как свободное исследование и искание истины, независимо от ее выгодности и полезности. Но потом и наука стала превращаться в орудие антирелигиозных догматических учений, например марксизма, или технической мощи. Если наша эпоха отличается исключительной лживостью, то ложь эта особенная. Утверждается ложь, как священный долг во имя высших целей. Зло оправдывается во имя добра. Это, конечно, не ново. История всегда любила оправдывать зло для своих высших целей (хитрость разума у Гегеля). Но в наше время это приняло огромные размеры. Философски довольно новым является то, что пошатнулась сама идея истины. Правда, предшественниками в этом отрицании истины были древние софисты. Но они быстро были побиты Платоном, Аристотелем, Плотином, т. е. на вершинах греческой мысли. Взгляды эмпириков и позитивистов на истину были противоречивы и неопределенны, но в сущности они также признавали ее несомненность, как и противоположные философские направления, для которых истина стала абсолютной. Сомнение в старом понимании истины началось в прагматической философии, но она не отличалась радикализмом и имела преходящее значение. Гораздо более глубокое значение имеет потрясение истины у Маркса и Ницше, хотя это потрясение произошло у них в противоположных направлениях. У Маркса утверждается исторический релятивизм истины, как орудия борьбы классов, на почве диалектики, взятой у Гегеля. Диалектическая ложь, широко практикуемая марксистами на практике, оправдывается диалектическим материализмом, который, в глубоком противоречии со своими философскими основами, признается наконец открытой абсолютной истиной. И к этой открытой марксистами истине существует догматическое отношение, напоминающее отношение католической церкви к своей догматической истине. Но марксистская философия, которая есть философия praxis, признает истину орудием борьбы революционного пролетариата, у которого истина иная, чем у классов буржуазных, даже когда речь идет об истинах наук о природе. Ницше понял истину, как выражение борьбы за волю к могуществу, как творимую ценность, истина подчиняется созданию расы сверхчеловека. Иррациональная философия жизни в сущности истиной не интересуется, но в этой философии есть доля истины, той истины, что познание есть функция жизни. Более интересная экзистенциальная философия, чреватая будущим, склонна утверждать не старое объективированное понимание истины, а субъективно-экзистенциональное. Но это не означает отрицания истины. У Кьеркегора в субъективном и индивидуальном открывается абсолютная истина. Новейшие течения экзистенциальной философии очень противоречивы в отношении к истине. Хайдеггер, которого нельзя признать экзистенциальным философом, в своей брошюре, посвященной проблеме истины, склоняется к онтологическому и объективному пониманию истины. Но это классическое понимание истины выражено в новой терминологии и носит своеобразный и более утонченный характер. В конце концов непонятно, почему человек может у него познавать истину. Опора истины на свободу противоречит онтологическому пониманию истины, при котором центр тяжести лежит в открывающемся сущем. В отличие от других экзистенциалистов, Хайдеггер держится за старое понимание истины, но по-новому выраженное. В широких философских наивных кругах торжествует релятивизм и историзм, в которых есть доля правды по сравнению со старым статическим пониманием истины, но есть еще большая доля коренной лжи. Историзм не в состоянии понять смысл истории, ибо вообще отрицает смысл. В политике, которая в наше время играет господствующую роль, обычно говорят не об истине и лжи, не о добре и зле, а о «правости» и «левости», о «реакционности» или «революционности», хотя такого рода критерий начинает терять всякий смысл. Тот хаос, в который сейчас ввергнут мир и за ним мысль, должен был бы привести к пониманию неразрывной связи истины с существованием Логоса, Смысла. Диалектика теряет всякий смысл, если нет Смысла, Логоса, который должен победить в диалектическом развитии. Вот почему диалектический материализм есть противоречие в терминах. Историческое развитие, которое порождает релятивизм, невозможно, если нет Логоса, Смысла исторического развития. Смысл этот не может заключаться в самом процессе развития. Мы увидим, что старое, статическое, объективированное понимание истины ложно и вызвало реакцию, дошедшую до отрицания истины. Но и при субъективно-экзистенциальном, динамическом понимании истины она остается вечной и получает иной смысл. В конце концов на большей глубине открывается, что Истина, целостная истина есть Бог, что истина не есть соотношение или тождество познающего, совершающего суждение субъекта и объективной реальности, объективного бытия, а есть вхождение в божественную жизнь, находящуюся по ту сторону субъекта и объекта. Научное познание обычно определяют, как познание того или иного объекта. Но это определение не доходит до глубины и приспособлено к условиям нашего объективированного мира. Но в глубине и самое позитивное, точное научное познание природного мира заключает в себе отблеск Логоса.
Старая традиционная точка зрения признает объективный критерий истины. Истина почти отождествляется с объективностью. Этот объективизм в понимании истины и истинного познания свойствен совсем не только так называемому наивному реализму, который отвергается большей частью философских направлений. Преобладает все-таки понимание познания как соответствия «объективной» реальности, которая открывается. Критика Канта разрывает с такого рода объективизмом и видит истину в соответствии разума с самим собой, она определяется отношением к законам разума и согласованием мыслей между собой. Но Кант все же держится за объективизм, за общеобязательность, связанную с трансцендентальным сознанием. Понятия субъективного и объективного остаются у Канта противоречивыми и недостаточно выясненными. Неокантианство школы Виндельбанда, Риккерта и Ласка считает истину ценностью, но дает этому ложное истолкование в духе не творческого нормативизма. Гуссерль движется в направлении объективного идеализма сознания, своеобразного платонизма, оторванного от платоновских мифов. С властью объективизма, в реалистической или идеалистической форме, порывает лишь экзистенциальная философия, хотя она и принимает разные направления и может срываться в новую форму объективизма, как, например, у Хайдеггера при освобождении от старой терминологии. Только у Кьеркегора истина в субъективности и индивидуальности, но это не получает у него философского обоснования. Нужно прежде всего сказать, что истина не есть соответствие в познающем объективно данной реальности. Никто никогда не объяснил, как реальность бытия может переходить в идеальность познания. Когда я говорю, что передо мной стол, то это есть некоторая частная истина, но нет соответствия между этим столом и моим утверждением, что это стол. Это скромное узнание стола имеет прежде всего прагматическое значение. Существуют степени познания истины, зависящие от ступеней общности людей и их общности с мировым целым. Но истина не есть также соответствие разума с самим собой и своими общеобязательными законами. Истина, которой должны быть соподчинены все частные истины, не отвлеченно-разумна, а духовна. Дух же находится по ту сторону рационализированного противоположения субъекта и объекта. Истина не есть пребывание в замкнутой мысли, в безвыходном круге сознания, она есть размыкание и раскрытие. Истина не объективна, а транссубъективна. Вершина познания есть не выход через объективизацию, а выход через трансцендирование. Средненормальное сознание приспособлено к состоянию объективированного мира. И логическая общеобязательность познания носит характер социологический. Я не раз писал уже, что познание зависит от духовной общности людей. Для духовной общности людей высокой ступени раскрывается истина, которая есть трансцендирование объективного, вернее объективированного мира. То, что называют «бытием», не есть последняя глубина. Бытие есть уже продукт рациональной мысли, оно зависит от состояния сознания и состояния мира. Глубже бытия духовное существование или духовная жизнь, которой принадлежит примат над бытием. Целостная истина есть не отражение или соответствие реальности мира. Смысл же не есть торжество логики, приспособленной к падшести мира и сдавленной логическими законами, прежде всего законом тождества. Божественный Логос торжествует над бессмысленностью объективного мира. Истина есть торжество духа. Целостная истина есть Бог. И лучи этой целостной, божественной, логосной Истины падают и на научное, частичное познание, обращенное к данной, объективной мировой деятельности. Раскрытие Истины есть творческий акт духа, человеческий творческий акт, творческий акт, преодолевающий рабство у объективного мира. Познание активно, а не пассивно. Феноменология в сущности требует пассивности познающего, считая активность психологизмом. Вот почему феноменологию Гуссерля нужно признать неблагоприятной для экзистенциальной философии. Признание творчески активного характера познания совсем не означает идеализма, скорее наоборот.
Познание истины есть не выработка рациональных понятий, а прежде всего оценка. Истина есть свет Логоса, возгоревшийся в самом бытии, если употреблять традиционную терминологию, или в глубине существования, или жизни. Единая целостная Истина разбивается на множество истин. Сфера, освещенная единым лучом света (отдельная наука), может отрицать источник света, Логос – Солнце, но она не могла бы получить освещения без этого единого источника света. Все познающие в разных сферах познания признают логику и ее законы, почитаемые непреложными, но могут отрицать Логос, целостный духовный Разум-Слово. Между тем как законы логики, закон тождества и закон исключения третьего означают необходимые приспособления к условиям нашего падшего мира, дух находится в сфере, которая по ту сторону законов логики, но в Духе есть свет Логоса. Я уже много раз писал о социологическом характере логической общеобязательности и соответствии этой общеобязательности и убедительности ступеням духовной общности. Не хочу сейчас повторять сказанного. Но вот что особенно важно установить. Ни материализм, ни феноменализм (в разных типах позитивизма), ни экзистенциализм Хайдеггера не могут обосновать самого возникновения проблемы Истины. Сейчас особенно важен Хайдеггер. Совершенно непонятно, как человек das Man может возвыситься над низостью мира, выйти из царства (Dasein). Для этого в человеке должно быть высшее начало, возвышающее его над данностью мира. Экзистенциалисты антирелигиозного типа так низко мыслят о человеке, так понимают его исключительно снизу, что остается непонятным самое возникновение проблемы познания, возгорание света Истины. Как бы мы ни мыслили о человеке, мы поставлены перед тем, что человек и познает свет Истины, и ввергается во тьму ошибок и заблуждений. Почему возможна трагедия познания, почему свет Логоса не всегда освещает познавательный путь человека, как существа духовного, превышающего мир? Познание не есть только интеллектуальный процесс, в нем действуют все силы человека, волевое избрание, притяжение и отталкивание от Истины. Декарт понимал зависимость ошибок от воли. Совершенно ошибочен взгляд прагматизма, что Истина есть полезное для жизни. Истина может быть вредна для устройства обыденной жизни. Христианская Истина могла быть даже очень опасна, от нее могли рухнуть все государства и цивилизации. И потому чистая Истина христианства была приспособлена к обыденной человеческой жизни и искажена, было исправлено дело Христа, как говорит Великий Инквизитор у Достоевского. Если мы верим в спасительность Истины, то совсем в другом смысле. По отношению к Истине происходит разделение «божьего» и «кесарева», духа и мира. Но совершенно на другом конце, в точных науках о природном мире, мы сейчас встречаемся с настоящей трагедией ученого. Физика и химия XX века делают великие открытия и приводят к головокружительным успехам техники. Но эти успехи ведут к истреблению жизни и подвергают опасности самое существование человеческой цивилизации. Таковы работы над разложением атома и изобретение атомической бомбы. Наука раскрывает если не Истину, то истины, а современный мир ввергается во все большую и большую тьму. От целостной Истины человек отпадает, и раскрывающиеся ему отдельные истины не помогают ему. При ложном делении мира на две части, которое вызывает необыкновенную лживость, научные открытия и технические изобретения представляют страшную опасность все новых и новых войн. Химики могли бескорыстно открывать истину, хотя и частную, но получилась атомическая бомба, которая грозит гибелью. Это происходит в царстве Кесаря. Спасти может только свет целостной Истины, который раскрывается в Царстве Духа.
Если мы отвергаем так называемый объективный критерий истины, и в смысле реализма наивного, и в смысле реализма рационалистического, и в смысле идеализма трансцендентально-критического, то совсем не для того, чтобы утверждать «субъективность» произвольную, «психологизм» в гуссерльском смысле слова, в противоположность глубокой реальности. Глубокая реальность раскрывается в субъективности, стоящей вне объективизации. Истина субъективна, а не объективна, она объективируется в соответствии с миром необходимости, с царством Кесаря, в приспособлении к дробности и дурной множественности данного мира. «Субъективность», противоположная истине и глубокой реальности, «субъективность» замкнутая, неспособная к трансцендированию, к выходу из себя, и есть как раз определяемость извне. Человек, закупоренный в себе, и есть существо несвободное, не определяемое глубиной, а определяемое извне мировой необходимостью, в которой все разорвано, враждебно одно другому, выпало из глубины, т. е. не духовно. Когда экзистенциалисты Хайдеггер, Сартр и др. говорят о выброшенности человека (Dasein) в мир и обреченности человека этому миру, то они говорят об объективации, которая делает судьбу человека безысходной, выпавшей из глубокой реальности. Об этом почти невозможно спорить, это есть дело последнего свободного избрания. Я не называю такую философию экзистенциальной, потому что она находится во власти объективности. Разница этой философии со старой классической онтологической философией в том, что она встречается с объективностью абсурдного, бессмысленного мира, в то время, как первая думала, что она встречается с объективностью разума и смыслом бытия. Это есть очень серьезный кризис философской мысли. Но и та, и другая направленность остается во власти объективности. Объективация создает разные миры, обладающие большей или меньшей степенью реальности или призрачности. Ошибочно думать, что человечество живет в одном и том же объективном, данном извне мире. Человек живет в разных, часто фиктивных мирах, не соответствующих, если их взять в отдельности, сложной и многообразной действительности. Доля фиктивности и фантасмагоричности определяется степенью исключительной сосредоточенности на одном, вытесняющем все остальное. Универсализм в самом восприятии есть явление очень редкое. В разных мирах живут служители культа и теологии, ученые и изобретатели, политические деятели, социальные реформаторы и революционеры, писатели и деятели искусства, люди деловые, поглощенные хозяйством и т. д. Эти люди часто совершенно не способны понять друг друга. Восприятие мира также зависит от верований людей и идеологических направлений, они иные у католика или марксиста, у материалиста или спиритуалиста и т. д. Иной также мир воспринимается в зависимости от классов, иным он представляется капиталисту, рабочему или интеллигенту. Люди чаще, чем думают, живут в царстве абстракций, фикций, мифов. Самые рациональные люди живут мифами. Самый рационализм есть один из мифов. Рациональная абстракция легко превращается в миф. Например, марксизм насыщен абстракциями, превращенными в мифы. Человеческое сознание подвижно, оно суживается или расширяется, оно сосредоточивается на одном или рассеивается. Средненормальное сознание есть одна из абстракций. Разум рационализма есть один из мифов. Якобы героизм и бесстрашие отказа от всякой веры в высший, духовный, божественный мир, от всяких утешений есть тоже один из мифов нашего времени, одно из самоутешений. Человек есть существо бессознательно хитрое и не вполне «нормальное», и он легко обманывает себя и других, более всего самого себя. Создание особенного мировоззрения, часто иллюзорного мировоззрения в зависимости от направления сознания, имеет характер прагматический, которого не имеет познание истинной реальности.
Русские социологи 70-х годов XIX века, критиковавшие натурализм в социальных науках, утверждали субъективный метод в социологии и этим вызывали насмешки марксистов, которые считали себя объективистами, хотя и ошибочно[10]. Классовая точка зрения также есть субъективный метод в социологии. Русские «субъективисты» в социологии не могли философски обосновать своей точки зрения, потому что были позитивистами, позитивизм тогда господствовал. Но в субъективном методе в социологии была несомненная правда. Более того, можно было утверждать субъективный метод в философии вообще. Экзистенциальная философия есть субъективный метод в философии, она утверждает познание мира в человеческом существовании и через человеческое существование, она антропоцентрична. И совершенно напрасно будут возражать против этого, называя это психологизмом. Психологизм остается натуралистическим направлением. Уже с большим основанием это можно назвать этицизмом, но и это неверно. Этицизм не есть цельная, интегральная точка зрения, которая духовна и судит из глубины духовности, открывающейся в человеческом существовании. Дух находится по ту сторону обычных споров субъективизма и объективизма. Оценка есть путь познания так называемых наук о духе, но эта оценка отражается на дух, а не на сферу объективации, которая существует не только в явлениях природы, но и в явлениях психических и социальных. Исторический мир или, вернее, исторические миры, которые познаются из объекта, имеют дело уже с объективацией. Подлинная философия истории, которая освобождена от объективации, мессианична и профетична, т. е. духовна. В познании духовном, глубинно-экзистенциальном, раскрываются Истина и Смысл. Объективное познание знает только царство Кесаря и не знает царство Духа. Ставится острый предельный вопрос: существует ли подлинная, не объективная, не иллюзорная и не фиктивная реальность? Она, конечно, есть, но она не «объективна», она и не «субъективна» в дурном смысле слова, она по ту сторону уже вторичного разделения и противопоставления субъекта и объекта, по индусской терминологии она есть атман и брагман. Все предполагает эту реальность, без которой мы погружены в иллюзорное царство объективной необходимости. Все религии боролись против этого рабства и сами потом создавали новое рабство объективации. В основании философии, которая принадлежит царству Духа, а не царству Кесаря, лежит пережитый духовно-религиозный опыт, а не только опыт Кьеркегора и Ницше, как хочет Ясперс. Этим я нисколько не отрицаю огромного значения Кьеркегора и Ницше.
Экзистенциалисты новой формации могут сказать, что моя философская точка зрения предполагает миф о Боге и миф о Духе. Пусть это назовут мифом. Меня это мало беспокоит. Это есть самый универсальный и целостный из мифов. Но вот что самое главное. Это есть также миф о существовании Истины, без которого трудно говорить об истине чего бы то ни было, не только об Истине, но и об истинах. Реальность мифа о Боге, о Духе, об Истине нельзя доказать и не нужно. Это дело последнего избрания и предполагает свободу. Я имею основание считать себя экзистенциалистом, хотя в большей степени мог бы назвать свою философию философией духа и еще более философией эсхатологической. Но вот в чем мое радикальное различие от нынешних экзистенциалистов. Они считают, что достоинство человека в бесстрашном принятии смерти, как последней истины. Человек живет, чтобы умереть, его жизнь есть путь к смерти. Уже Фрейд считал инстинкт смерти самым благородным в человеке, о котором он мыслил очень низко. Хайдеггер в сущности в смерти видит единственное настоящее торжество над низменным das Man, т. е. видит в ней б́ольшую глубину, чем в жизни. Человек есть конечное существо, в нем не раскрывается бесконечность, и смерть принадлежит к его структуре. Сартр и Симон де Бовуар готовы видеть в смерти положительные достоинства. Мне представляется эта современная направленность поражением духа, упадочностью, смертобожничеством. Бесспорно достоинство человека в бесстрашии перед смертью, в свободном принятии смерти в этом мире, но для окончательной победы над смертью, для борьбы против торжества смерти. Все религии боролись против смерти. Христианство же есть религия воскресения по преимуществу. Современному направлению, признавшему торжество смерти последним словом жизни, нужно противопоставить очень русские мысли Н. Федорова, великого борца против смерти, признававшего не только воскресение, но и активное воскрешение. Экзистенциалисты выше марксистов, потому что для них все-таки существует проблема смерти, которая не существует для марксистов. Для марксистов погружение в коллектив и активность в нем уничтожает самый вопрос о смерти. Если нет воскресения всех живших к вечной жизни, нет бессмертия, то мир абсурден и бессмыслен. Экзистенциалисты сегодняшнего дня видят эту абсурдность и бессмысленность мира. Сартр хочет найти выход в признании свободы человека, которая не определяется его свободой. Человек есть низменное существо, но через свободу он может создать себя иным, может создать лучший мир. Это должно было бы заставить Сартра признать идеальное, духовное начало в человеке. Без этого признания экзистенциалисты должны впасть в материализм, хотя бы и рафинированный. Можно было бы сопоставить мысли Сартра, Камю и др. с трагическим гуманизмом Герцена, для которого мир был случаен и бессмыслен, но человек был свободным существом и мог создать лучший мир. Но у Герцена, как потом у Ницше, было религиозное мучение, которого не видно у экзистенциалистов новейшей формации. Более глубокая истина заключается в том, что мир не бессмыслен и абсурден, но находится в бессмысленном состоянии. Этот мир, мир, являющийся нам, есть мир падший, в нем торжествует абсурдная и бессмысленная смерть. Иной мир, мир смысла и свободы, раскрывается лишь в духовном опыте, который отрицают современные экзистенциалисты. Нужно видеть абсурдность и бессмысленность мира, в котором мы живем, и вместе с тем верить в дух, с которым связана свобода, и в смысл, который победит бессмыслицу и преобразит мир. Это будет торжеством царства Духа над царством Кесаря, торжеством Истины не только над ложью, но и над частичными, дробными истинами, претендующими на руководящее значение.
Нет ничего выше искания Истины и любви к ней. Истина, единая цельная Истина есть Бог, и познание Истины есть вхождение в божественную жизнь. Подмена единой, цельной, освобождающей Истины маленькими частными истинами, претендующими на универсальное значение, ведет к идолопоклонству и рабству. На этой почве возникает сиентизм, который совсем не есть наука. Все частичные истины означают приобщенность, хотя бы и неосознанную, к единой, верховной Истине. Познание истины не может быть только человеческим познанием, но не может быть и только божественным познанием, как, например, в монистическом идеализме Гегеля, оно может быть только богочеловеческим познанием. Познание истины есть творческая активность человека, который несет в себе образ и подобие Божие, т. е. заключает в себе и божественный элемент. Этот божественный элемент есть Божье Другое. Познание Истины, к которому стремится философия, невозможно через отвлеченный разум, оперирующий понятиями, оно возможно только через духовно целостный разум, через дух и духовный опыт. Западноевропейская мысль бьется в противоречиях рационализма и иррационализма, которые одинаково являются результатами рассечения духовной целостности. В этом бьется и экзистенциальная философия. Это особенно обнаруживается у Ясперса. Приходят к тому, что философское познание должно быть экзистенциально, но оно невозможно, потому что познающий разум не может познавать существования, которое никогда не может быть объектом. Но познание существования вне объективизации возможно через Дух, возможно духовное познание, которое на вершинах всегда существовало, оно было еще в древней Индии. Духовное познание есть богочеловеческое познание, познание не разумом и не чувством, а целостным Духом. Отрицание богочеловеческого познания Истины ведет к подмене Истины пользой, интересом, волей к могуществу. Познание Истины есть преображение, просветление мира, а не отвлеченное познание, в нем теория и практика совпадают. В человеке есть активное, творческое начало, с которым связано познание. Это активное начало есть духовное начало. Познание заключает в себе элемент теургический. И потому человек может уготовлять царство Духа, а не только царство Кесаря. Когда в прошлом философы говорили о врожденных идеях, то, благодаря статическому характеру их мышления, они плохо выражали истину об активном духе в человеке и человеческом познании. Без допущения этой активности духа в человеке ничего нельзя понять в человеке, нельзя даже допустить его возможности. Поразительно, что человек не настолько раздавлен дурной бесконечностью мира, чтобы лишиться возможности познания Истины. Не только рассудок, но и разум не мог бы открыть возможность познания истины, это делает исключительно дух. По-гречески nobs есть не только разум, но и дух. Дух не находится в противоположении рационального и иррационального. Настоящая экзистенциальная философия есть философия духа.
Современная философия имеет тенденцию к отрицанию дуализма двух миров, мира нуменального и мира феноменального, который восходит к Платону. Эта тенденция отнюдь не нова, она свойственна феноменализму, эмпиризму, позитивизму, имманентному монизму, материализму, свойственна Ницше и современным экзистенциалистам и мн. др. Сейчас это принимает более утонченные формы. Думаю, что тут мы имеем основное противоположение двух типов философии – довольствующейся данным миром и трансцендирующей его. Но что может означать дуализм двух миров и как согласовать с ним научное познание? Прежде всего нужно совершенно отстранить онтологический дуализм и всякое употребление статического понятия субстанции. Это совсем не есть дуализм духа и материи, духа и тела, который мы находим в школьных спиритуалистических направлениях. Вопрос ставится о двух состояниях мира, которые соответствуют двум разным структурам и направлениям сознания, прежде всего дуализма свободы и необходимости, внутренней соединенности и вражды, смысла и бессмыслицы. Но мир не исчерпывается этим состоянием, которое есть состояние падшести, возможно другое состояние мира, и оно требует иного сознания. Да и нет основания утверждать, что существует только один мир. Важнее же всего сознать, что дух совсем не есть реальность, сопоставимая с другими реальностями, например, с реальностью материи; дух есть реальность совсем в другом смысле, он есть свобода, а не бытие, качественное изменение мировой данности, творческая энергия, преображающая мир. Еще нужно сказать, что нет духа без Бога, как первоисточника. Духовный опыт человека, на котором только и может быть основана метафизика, есть единственное доказательство существования Бога. Мир необходимости, отчуждения, абсурдности, конечности, вражды – есть мир суженного сознания, выброшенного на поверхность, для которого закрыта бесконечность. Существуют еще другие планы мировой жизни, которые могут раскрыться лишь измененному сознанию. В этом правы оккультисты. Мир, единый мир Божий многопланен. Но как согласовать с этим возможность научного познания? Это нисколько не затрудняет науки в точном смысле слова и не создает никакого конфликта. Наука познает реальный мир в том состоянии, в котором он находится, и она не виновна в падшести мира. Наука ищет истины, и в ней отражается Логос. Но она имеет определенные границы, и есть вопросы, которые она не может не только решить, но и ставить. Конфликт создается ложными притязаниями науки на верховенство над человеческой жизнью, на способность авторитетно разрешать вопросы религии, философии, морали, на способность давать директивы для творчества духовной культуры. Это действительно создает конфликт, но не точная наука. Никакая наука не может ничего сказать о том, существуют ли или не существуют иные миры, но только потому, что ученый, исключительно погруженный в этот данный ему мир, не имеет свободы духа, необходимой для признания других планов мира. Сиентизм проповедует рабство миру. Нужно сказать, что и ортодоксальная теология считает нужным отрицать существование множества планов мира и тоже проповедует рабство миру. Учение Оригена о множестве миров было осуждено. Это имеет тот же источник. Таким образом, дробная истина выдает себя за единую Истину, которая раскрывается лишь неустанному углублению и расширению сознания, т. е. возрастанию духовному. Данный мир, этот мир, частичен, как частичен день нашей жизни.
Глава I Человек и бог. Духовность
Человек стоит перед вопросом всех вопросов – вопросом о Боге. Вопрос этот редко ставится – в чистоте и изначальности, он слишком сросся с мертвящей схоластикой, с вербальной философией, с игрой понятиями. Те, которые хотели возвысить идею Бога, страшно принизили ее, сообщив Богу свойства, взятые из царства кесаря, а не царства Духа. Нет гарантий существования Бога, всегда человек может сомневаться и отрицать. Бог не принуждает себя признать, как принуждают материальные предметы. Он обращен к свободе человека. Вера в Бога есть лишь внутренняя встреча в духовном опыте. Нужно решительно признать, что все традиционные доказательства бытия Божьего – онтологические, космологические и физико-теологические – не только несостоятельны, но и совершенно не нужны, скорее даже вредны. Критика Канта этих доказательств бытия Божия очень убедительна и не опровергнута традиционной апологетикой. Гораздо сильнее доказательство, которое можно было бы назвать антропологическим. Оно состоит в том, что человек есть существо, принадлежащее к двум мирам и не вмещающееся в этом природном мире необходимости, трансцендирующее себя, как существо эмпирически данное, обнаруживающее свободу, из этого мира не выводимую. Это не доказывает, а показывает существование Бога, так как обнаруживает в человеке духовное начало. Еще важнее первоощущение, которое не может быть как следует выражено. Если вы на мгновение представите себе самодостаточность мира, например, самодостаточность движущейся материи, как первоосновы, то вы поражаетесь непонятностью, бессмысленностью, тьмой, нереализуемостью в мысли такого мира. Несомненный результат размышлений о Боге: о Боге нельзя мыслить рациональными понятиями, которые всегда взяты из этого мира, на Бога не похожего. Правда была лишь на стороне апофатической теологии. Невозможно строить онтологию Бога. Бог не есть бытие, которое всегда есть уже обработка отвлеченной мысли. Бог есть не бытие, Бог есть Дух. Бог есть не эссенция, а экзистенция. О Боге можно говорить лишь языком символики духовного опыта. Да и вообще метафизика возможна лишь как символика духовного опыта, как интуитивное описание духовных встреч. Нельзя отвлеченно ставить вопрос о Боге, отвлеченно от человека. Существование человека, взятого в глубине, а не в поверхности, есть единственное свидетельство существования Бога, так как человек есть отображение образа Бога, хотя часто и искажающее этот свой образ. Человек есть не только конечное существо, как хочет утверждать современная мысль, он есть также бесконечное существо, он есть бесконечность в конечной форме, синтез бесконечного и конечного. Недовольство человека конечным, устремленность к бесконечному есть обнаружение божественного в человеке, человеческое свидетельство о существовании Бога, а не только мира. Поминание Бога, как самодостаточного и бездвижного существа, есть ограниченная и отвлеченная рациональная мысль, такое понимание не дано в духовном опыте, в котором отношения с Богом всегда драматичны. Человек встречается с Богом не в бытии, о котором мыслят в понятиях, а в духе, в духовном опыте. В бытии есть уже активация, или мертвящая отвлеченность понятия, или идеализированная природная необходимость и социальное принуждение. Лишь встреча в духе есть встреча в свободе. Лишь в духе и свободе встреча с Богом есть драматическое событие.
Отношения человека и Бога парадоксальны и совсем не поддаются выражению в понятии. Бог рождается в человеке, и человек этим подымается и обогащается. Такова одна сторона богочеловеческой истины, она раскрывается в опыте человека. Но есть другая сторона, менее раскрытая и ясная. Человек рождается в Боге, и этим обогащается божественная жизнь. Есть нужда человека в Боге, и есть нужда Бога в человеке. Это предполагает творческий ответ человека Богу. Отношения между Богом и человеком можно понимать лишь драматически, т. е. динамически. Бога нельзя мыслить статически. Статическое понимание рационально и экзотерично. Символика Библии в высшей степени драматична и динамична. Статическая онтология взята из греческой философии. Допущение существования двух природ – божественной и человеческой, которые могут быть соединены, но не тождественны и не слиянны, есть истина, непонятная объективирующему разуму, сверхразумная, ибо разум сам по себе склонен или к монизму, или к дуализму. Тайна христианства, рационализированно раскрывающаяся в теологических системах, связана с этим парадоксальным и драматическим отношением божественного и человеческого. Парадокс в том, что высшая человечность божественна и вместе с тем это есть обнаружение человека и человечности. Это представляющееся разуму противоречие рационально непреодолимо. Можно было бы сказать, что Бог человечен, человек же бесчеловечен. Поэтому по-настоящему существует только богочеловеческая человечность. Основная проблема есть проблема Богочеловека и Богочеловечества, а не Бога. Утверждение Бога вне богочеловечности, т. е. отвлеченный монотеизм, есть форма идолопоклонства. Отсюда огромное значение учения о Троичности Божества, которое нужно понимать прежде всего мистически, в терминах духовного опыта, а не рационально-теологически. Великие германские мистики дерзновенно говорили, что нет Бога без человека, что Бог исчезает, когда исчезает человек (особенно Экхардт и Ангелус Силезиус). Это нужно понимать духовно, а не в терминах натуралистической метафизики и натуралистической теологии. Это опыт любви, а не понятие. Основным противоположением для нас должно быть не схоластическое противоположение естественного и сверхъестественного, незнакомое греческим учителям церкви, а противоположение естественного и духовного. Есть два понимания трансцендентного: или Бог, как трансцендирование моей ограниченности, или как таинственная, актуальная бесконечность, предполагающая отчужденность человеческой природы, ее внебожественность. Не идолопоклонническим, духовным является лишь первое понимание. Совершенно ложна и унизительна часто повторяемая идея, что перед Богом человек ничто. Наоборот, нужно говорить, что перед Богом, в обращенности к Богу, человек подымается, он высок, он побеждает ничто. Рациональные онтологические учения об отношениях между Богом и человеком нестерпимы, такие построения имеют лишь педагогически-социальный смысл для христианской общины. Более всего нужно отрицать распространенный в теологических учениях взгляд, что Бог есть причина мира, первопричина. Но причинность и причинные отношения совершенно неприменимы к отношениям между Богом и миром, Богом и человеком. Причинность есть категория, применимая лишь к миру феноменов и совершенно неприменимая к миру ноуменальному. Это достаточно выяснено Кантом, хотя он был непоследователен, признавая причинные отношения между вещью в себе и явлением. Бог не есть причина мира. Можно еще сказать, что Бог есть основа мира, творец мира, но и эти слова очень несовершенны. Нужно освободиться от всякого социоморфизма. Бог не есть сила в природном смысле, действующая в пространстве и времени, не есть господин и правитель мира, не есть и самый мир или сила, разлитая в мире. Лучше можно сказать, что Бог есть Смысл и Истина мира, Бог есть Дух и Свобода. Если мы говорим в противоположность пантеистическому монизму, что Бог есть личность, то понимать это нужно совсем не в ограниченном и природно-человеческом смысле конкретного образа, с которым возможно для нас личное общение. Встреча и общение с Богом возможно не как общение с Абсолютным, для которого не может быть другого, не может быть отношения, не с Богом апофатической теологии, а с конкретным личным Богом, имеющим отношение к другому. Мир без Бога есть непреодолимое противоречие конечного и бесконечного, лишен смысла и случаен.
Человек не может быть самодостаточен, это означало бы, что его нет. В этом тайна человеческого существования: оно доказывает существование высшего, чем человек, и в этом достоинство человека. Человек есть существо, преодолевающее свою ограниченность, трансцендирующее к высшему. Если нет Бога, как Истины и Смысла, нет высшей Правды, все делается плоским, нет к чему и к кому подыматься. Если же человек есть Бог, то это есть самое безнадежное, самое плоское и ничтожное. Всякая качественная ценность уже показывает, что в человеческом пути есть то, что выше человека. И то, что выше человека, т. е. божественное, не есть сила внешняя, над ним стоящая и им господствующая, а то, что в нем самом делает его вполне человеком, есть его высшая свобода. Тут самое различие трансцендентного и имманентного терминологически условно и указывает на непреодолимую парадоксальность в условиях нашего времени. Человек с зари своего существования предполагал существование божественного, хотя бы в самой грубой форме. Если нет Бога, если нет Правды, возвышающейся над миром, то человек целиком подчинен необходимости или природе, космосу или обществу, государству. Свобода человека в том, что кроме царства Кесаря существует еще царство Духа. Существование Бога обнаруживается в существовании духа в человеке. И Бог не походит ни на силу природы, ни на власть в обществе и государстве. Тут нет никакой аналогии, все аналогии означают рабий космоморфизм и социоморфизм в понимании Бога. Бог есть свобода, а не необходимость, не власть над человеком и миром, не верховная причинность, действующая в мире. То, что теологи называют благодатью, сопоставляя ее с человеческой свободой, есть действие в человеке божественной свободы. Можно сказать, что существование Бога есть хартия вольностей человека, есть внутреннее его оправдание в борьбе с природой и обществом за свободу. Достоинство человека в том, чтобы не подчиняться тому, что ниже его. Но для этого должно быть то, что выше его, хотя и не вне его и не над ним. Ошибка гуманизма была совсем не в том, что он утверждал высшую ценность человека и его творческое призвание, а в том, что он склонялся к самодостаточности человека и потому слишком низко думал о человеке, считая его исключительно природным существом, не видел в нем духовного существа. Христос учил о человеке, как образе и подобии Божьем, и этим утверждалось достоинство человека, как свободного духовного существа, человек не был рабом природной необходимости. Свобода возможна лишь в том случае, если кроме царства Кесаря существует еще царство Духа, т. е. царство Божье. Повторяю – Бог не объективное бытие, к которому применимы рациональные понятия, Бог есть Дух. Основное же свойство Духа есть свобода. Дух не есть природа. Свобода не может быть вкорнена в природе, она вкорнена в Духе. Связь человека с Богом не природно-бытийственная, а духовно-экзистенциальная, глубинная. Если нет Бога, то нет Тайны. Если нет тайны, то мир плосок и человек двухмерное существо, неспособное восходить в гору. Если нет Бога, то нет победы над смертью, нет вечной жизни, то все лишено смысла и абсурдно. Бог есть полнота, к которой не может не стремиться человек. Существование человека не доказывает путем мертвой логической диалектики существование Бога, а показывает, свидетельствует о Нем. Отождествление царства Духа с царством Кесаря в той или иной форме есть ложный монизм, неотвратимо порождающий рабство. Дуализм между царством Духа и царством Кесаря – совершенно необходимое утверждение свободы человека. Но это не есть окончательный дуализм, это дуализм в духовном и религиозном пути человека. Окончательный монизм утвердится в царстве Божием, он обнаружится лишь эсхатологически.
Не только сознание утонченно развитое, но и сознание более элементарное и мало развитое, должно быть обеспокоено таинственным учением о Промысле, пониманием Бога, как Господина и Управителя этого мира. Как связать это с торжеством в мире зла и страданием? Думаю, что это один из главных источников атеизма. Обыкновенно выходят из затруднения при помощи учения о грехопадении. Но этим ничего не объясняется и не оправдывается. Сила зла остается необъяснимой. Не существует никакой пропорциональности между страданиями людей и их греховностью. Больше всего страдают не худшие, а лучшие. Остаются необъяснимыми периоды богооставленности в жизни исторической и в индивидуальной жизни. Объяснение страшных катастроф в жизни людей Божьим гневом и наказанием невыносимо. Страшно трудно оправдать и объяснить вездеприсутствие всемогущего и всеблагого Бога в зле, в чуме, в холере, в пытках, в ужасах войн, революций и контрреволюций. Понимание действия Промысла Бога в этом мире зла и страдания должно быть переоценено. Значительно вернее мыслит Кьеркегор, что Бог остается инкогнито в мире, а князь мира сего – по своим законам, законам мира, а не по законам Божиим. Этот мир более подчинен царству Кесаря, а не царству Духа. Отклик у живого Бога можно понимать только эсхатологически: «Да приидет Царствие Твое». Его еще нет. Мир объектов, мир феноменов, с царствующей в нем необходимостью, лишь внешняя сфера, но за ним скрыта глубина связи с Богом. Нельзя мыслить так, что Бог что-то причиняет в этом мире подобно силам природы, управляет и господствует подобно царям и властям в государствах, детерминирует жизнь мира и человека. Нельзя мыслить прогресса в отношении Бога в историческом процессе, в исторической необходимости. В истории происходит борьба свободы и необходимости, а Бог может быть только в свободе. Он не присутствует в необходимости. Это влечет изменение учения о Промысле. Благодать не есть действующая извне сила, благодать есть обнаружение божественного в человеке. Не существует противоположения между свободой и благодатью, благодать есть лишь просветленная свобода. Как я много раз писал, сделав это основной темой, возможно противоположить ей зло и тварность, и предшествующую несотворенную, и потому не детерминированную свободу, иррациональную свободу. Но свобода может стать просветлением и обожествлением. Поэтому в истории мира и человека могут действовать иррациональные силы, темная свобода, порождающая необходимость и насилие. Но действует и просветленная свобода, действует и сила божественная. Поэтому история в высшей степени драматична, поэтому в ней постоянно происходит столкновение и борьба царства Духа и царства Кесаря, которое имеет тенденцию быть царством тоталитарным. Одинаково ложно видеть повсюду в жизни мира торжество злой дьявольской силы и видеть прогрессирующее раскрытие и торжество божьей доброй силы. Дух не открывается прогрессивно в историческом процессе, и торжествуют явные и злые процессы, но нужно видеть повсюду возможные зачатки и наитие духа и духовного царства. Отношение человека к Богу предполагает драматическую борьбу между царством Духа и царством Кесаря, прохождение через дуализм, во имя окончательного монизма, который может раскрыться лишь эсхатологически. Эта тема осложняется отношением человека к космосу.
Глава II Человек и космос. Техника
Человек есть природное существо, он связан с космической жизнью многими нитями, зависит от круговорота космической жизни. Тело человека определяется и процессами физико-химическими. Человек умирает, как природное существо, и телесный состав его рассеивается в материи и мировой жизни. Человек живет в природном мире и должен определять свое отношение к нему. Но тайна человека в том, что он не только природное существо и не объясним из природы. Человек есть также личность, т. е. духовное существо, несущее в себе образ божественного. Поэтому положение человека в природном мире трагическое. Человек не только один из объектов этого мира, он прежде всего субъект, из объекта не выводимый. Вместе с тем отношение человека к космосу определяется тем, что он есть микрокосм, он заключает в себе космос или заключает в себе историю. Человек не может быть лишь частью чего-либо, он есть целое. Через духовное в себе начало человек не подчинен природе и независим от нее, хотя природные силы могут его убить. Если бы человек был исключительно природным и конечным существом, то смерть его не заключала бы в себе ничего трагического, трагична лишь смерть бессмертного существа, устремленного к бесконечности. Только извне, из объекта человек есть часть природы, изнутри, из духа – природа в нем. Поэтому отношение человека к космосу двойственное. Он раб природы и царь природы. Центральное положение человека в природе определяется совсем не астрономически, и оно не меняется после Коперника; оно совсем не зависит от того, что открывают естественные науки. Это положение человека определяется духом. Поэтому основная тема – дух и природа, свобода и необходимость.
Можно установить четыре периода в отношении человека к космосу: 1) погружение человека в космическую жизнь, зависимость от объектного мира, невыделенность еще человеческой личности, человек не овладевает еще природой, его отношение магическое и мифологическое (примитивное скотоводство и земледелие, рабство); 2) освобождение от власти космических сил, от духов и демонов природы, борьба через аскезу, а не технику (элементарные формы хозяйства, крепостное право); 3) механизация природы, научное и техническое овладение природой, развитие индустрии в форме капитализма, освобождение труда и порабощение его, порабощение его эксплуатацией орудий производства и необходимость продавать труд за заработную плату; 4) разложение космического порядка в открытии бесконечно большого и бесконечно малого, образование новой организованности, в отличие от органичности, техникой и машинизмом, страшное возрастание силы человека над природой и рабство человека у собственных открытий. Это различие отношений человека и природы типологично, а не хронологично, хотя смена времен имела значение. Но сейчас, когда мы вошли в техническую эпоху, существуют и другие страшные темы. Если раньше человек страшился демонов природы и Христос освободил его от демонолатрии, то ныне он страшится мирового механизма природы. Власть техники есть последняя метаморфоза царства Кесаря. Она уже не требует тех сакрализаций, которых требовало царство Кесаря в прошлом. Это последняя стадия секуляризации, распадение центра и образование раздельных автономных сфер и претензия одной из сфер на тоталитарное признание. Человек находится под влиянием одной из автономных сфер. Возможно мыслить также пятый период в отношении человека к природе. В этом пятом периоде будет еще большее овладение человеком силами природы, реальное освобождение труда и трудящегося, подчинение техники духу. Но это предполагает духовное движение в мире, которое есть дело свободы.
Мне не раз уже приходилось писать о том, что невероятная мощь техники революционизировала всю человеческую жизнь. Кризис, переживаемый человеком, связан с несоответствием душевной и физической организации человека с современной техникой. Душа и тело человека формировались, когда человеческая жизнь была еще в соответствии с ритмом природы, когда для него еще существовал космический порядок. Человек был еще связан с матерью-землей. Власть техники означает конец теллургической эпохи. Органическая, естественная среда человека, земля, растения, животные и пр., может быть убита техникой; что тогда будет? Элементарная техника существовала с первобытных времен. С конца XVIII века начинается революционизирующее вторжение машины, с которым связано развитие капиталистической промышленности. Только в наше время техника приобретает детерминирующую власть над человеком и человеческими обществами и возникает тип технической цивилизации. Этого нельзя еще было сказать про XIX век, который был сложным и противоречивым, но сохранял еще старый тип культуры. Ныне пошатнулся космический порядок, в который верили люди, верили и материалисты, и позитивисты XIX в. Человек по-новому поставлен перед космическими силами. Космос в античном греческом смысле слова, космос Аристотеля, Фомы Аквината, Данте – более не существует. Природа не есть больше установленный Богом иерархический порядок, на который можно положиться. Это изменение началось с Коперника. Уже Паскаль испытывал ужас перед бесконечностью пространств и остро почувствовал потерянность человека в чуждом и холодном бесконечном мире. Не меньший ужас должен возникнуть с открытием мира бесконечно малого. Наука входит во внутреннее строение природы, в глубину материи. В этом отношении работа над разложением атома имеет огромное значение. Она привела к открытию атомной бомбы, которое грозит неслыханными катастрофами. Это пугает ученых, которые не чувствуют себя свободными в своих лабораториях. Разложение материи освобождает огромную энергию. Можно сказать, что материя связывала и сковывала энергию. Это стабилизировало космический порядок. Теперь ученые говорят, что научные открытия своими техническими последствиями могут взорвать космический порядок, вызвать космические катастрофы. Война перестала быть локализированным явлением между нациями и государствами, она становится явлением космическим или, вернее, антикосмическим. Огромное значение в изменении взгляда на космический порядок имело также открытие закона относительности. Кончился также эволюционистский оптимизм XIX в., утверждавший, что все идет к лучшему в природном мире. Эволюционные теории возникли на почве биологических наук и имели ограниченный кругозор. Теперь определяющее значение имеют физика и химия, и кругозор делается космическим и именно в то время, когда космос почти разрушается. Отношение к природе определяется исключительно через praxis, и для praxis’a открываются безграничные возможности. Это одинаково может порождать и оптимистические настроения и настроения пессимистические.
Возникает новая реальность, отличная и от природной неорганической реальности, и от природной органической реальности. Эта новая реальность есть реальность организованная. Человек имеет дело уже не с природой, сотворенной Богом, а с новой реальностью, созданной человеком и цивилизацией, с реальностью машины, техники, которых в природе нет. Машина создается при помощи материальных элементов, взятых из старой природы, но в нее привходит что-то совершенно новое, не природное уже, не принадлежащее к старому космическому порядку. Не сразу человек заметил, какие это может иметь последствия. Поистине, машина и техника имеют космогоническое значение. Это новый день творения или новая ночь его. Вернее говоря – ночь, потому что солнечный свет может померкнуть. Но роль техники двойственна: она имеет и положительное и отрицательное значение. И романтическое отрицание техники бессильно и реакционно. Нужно не отрицать научные открытия техники, а духовно овладеть ими. Роковым последствием техники, подчиненной лишь собственному закону, порождающему технические мировые войны, является непомерное возрастание этатизма. Государство делается всемогущим, все более тоталитарным и не только в тоталитарных режимах; оно не хочет признавать никаких границ своей власти и рассматривает человека лишь как свое средство и орудие. Власть техники имеет еще одно последствие, очень трудное для человека, к которому душа человека недостаточно приспособлена… Происходит страшное ускорение времени, быстрота, за которой человек не может угнаться. Ни одно мгновение не самоценно, оно есть лишь средство для последующего мгновения. От человека требуется невероятная активность, от которой он не может опомниться. Но эти активные минуты делают человека пассивным. Он становится средством внечеловеческого процесса, он лишь функция производственного процесса. Активность человеческого духа оказывается ослабленной. Человек оценивается утилитарно, по его производительности. Это есть отчуждение человеческой природы и разрушение человека. Маркс справедливо говорил об отчуждении человеческой природы в капиталистическом строе. Но это отчуждение продолжается в строе, которым он хочет заменить разлагающийся капиталистический строй. В техническую эпоху происходит также активное вступление в историю огромных человеческих масс, и происходит как раз тогда, когда они потеряли свои религиозные верования; массы, которые не следует отождествлять с трудящимися классами. Все это создает глубокий кризис человека и человеческой цивилизации. В чем главная причина этого кризиса?
Со времени выхода из средневекового времени человек пошел путем автономии разных сфер творческой человеческой активности. В века новой истории, которая уже перестала быть новой и стала очень старой, все сферы культуры и общественной жизни начали жить и развиваться лишь по собственному закону, не подчиняясь никакому духовному центру. Таким образом, могли развиться и творческие силы человека, связанные в Средневековье. Политика, экономика, наука, техника, национальность и пр. не хотят знать никакого нравственного закона, никакого духовного начала, стоящего выше их сферы. Макиавеллизм в политике, капитализм в экономике, сиентизм в науке, национализм в жизни народов, безраздельная власть техники над человеком – все это есть порождение этих автономий. Основным и роковым противоречием в судьбе европейского человека было то, что автономия разных сфер его активности не была автономией самого человека, как целостного существа. Человек делался все более и более рабом автономных сфер; они не подчинены человеческому духу. Все большая утрата человеком целостности порождает в человеке потребность спастись от грозящей ему гибели, от утери человеческого образа. С одной стороны, европейский человек идет к неогуманизму, с другой стороны, хочет достигнуть целостности в тоталитарной системе организации всей жизни. Вопрос о тоталитаризме, о котором так много пишут, сложнее, чем обыкновенно думают. Тоталитаризм есть религиозная трагедия, и в нем обнаруживается религиозный инстинкт человека, его потребность в целостном отношении к жизни. Но автономия разных сфер человеческой активности, утеря духовного центра, привела к тому, что частичное, раздельное претендует на тоталитарность, целостность. Наука, политика давно уже начали заявлять такое притязание. В нашу эпоху тоталитарными делаются экономика, техника, война. Наука приобретает утилитарный характер в отношении к этим сферам. Марксизм стремится к целостному человеку, не хочет примириться с отчуждением человеческой природы, которое происходит в капиталистическую эпоху. Но он хочет воссоздать целостного человека из раздельной, автономной сферы экономики; он находится во власти экономизма капиталистической эпохи. Поэтому тоталитаризм марксизма ложный, не освобождающий человека, а порабощающий его. Человек не есть экономическое существо по преимуществу в своей глубине. Но самое большое значение имеет тоталитарное притязание техники. Техника не желает знать никакого высшего начала над собой. Она принуждена считаться лишь с государством, которое тоже приобретает тоталитарное значение. Потрясающее развитие техники, как автономной сферы, ведет к самому основному явлению нашей эпохи: к переходу от жизни органической к жизни организованной. В техническую эпоху жизнь огромных человеческих масс, требующих разрешения вопроса о хлебе насущном, должна быть организована и регулирована. Человек оторван от природы в старом смысле слова и погружен в замкнутый социальный мир, какой мы видим в марксизме. И наряду с этим у него делается все большее и большее планетарное чувство земли. Жизнь человека погружена в противоречие, он находится в состоянии потери равновесия. Автономная власть техники есть предельное выражение царства Кесаря, новая его форма, непохожая на прежние формы. Дуализм царства Духа и царства Кесаря принимает все более острые формы. Царство Кесаря не хочет признать нейтральных сфер, оно мыслится монистическим.
Для нашей эпохи характерно соединение иррационального и рационального. Это может казаться противоречивым, но в действительности оно понятно. Происходит взрыв иррациональных сил, и человек утопает в образовавшемся хаосе. Он делает усилие спастись через рационализацию. Но рационализация есть лишь обратная сторона иррационального. Ситуация человека в мире делается абсурдной, бессмысленной. Он погружен в бессмысленность жизни, но не признает смысла, который только и может оправдать бессмысленность. Мир приходит к рационализированной тьме. Сама рационализация жизни происходит как раз тогда, когда вера в разум пошатнулась. Это делает весь процесс жизни противоречивым. Господство рационализированной техники делает ситуацию человека в мире абсурдной. Эта ситуация человека, эта выброшенность его в мир абсурда, отразилась в философии Хайдеггера, в романах Кафки. В них с новой остротой ставится вопрос о человеке и требование новой религиозной и философской антропологии. Технизация жизни есть вместе с тем ее дегуманизм. Старый гуманизм бессилен перед могущественным техническим процессом, перед ростом сознания абсурдности жизни. Только марксисты хотят оставаться оптимистами, верят в благостность техники, относя сознание абсурдности жизни исключительно к обреченным на смерть буржуазным классам, и с ней связывают неотвратимое торжество пролетариата. Эта точка зрения признает человека исключительно социальным существом, в котором мыслит и творит класс. Марксистский оптимизм не ставит в глубине ни вопроса об отношении человека к космосу, ни вопроса о внутренней жизни человека, которая просто отрицается. Я много раз уже писал о двойственности гуманизма, об его внутренней диалектике, которая приводит к отрицанию человека. Бессмысленно стремление к отрицанию техники. Нужно не отрицать технику, а подчинить ее духу. Человек в своей исторической судьбе проходит не только через радикальные изменения социальной жизни, которые должны создать новую структуру общества, но и через радикальное изменение отношения к жизни космической. Слишком забывают, что социальная жизнь людей связана с космической жизнью и что не может быть достигнуто совершенного общества без отношения к жизни космической и действия космических сил. Основы марксизма остаются незащитимы в социальном мире. Развитие техники и ее власть над человеческой жизнью имеют прямое отношение к теме «человек и космос». Было уже сказано, что моральное и духовное развитие не соответствует техническому развитию и что это создает главную причину нарушения равновесия человека. Только соединение социального движения с духовным движением может вывести человека из состояния раздвоенности и потерянности. Только через духовное начало, которое есть связь человека с Богом, человек делается независимым и от природной необходимости и от власти техники. Но развитие духовности в человеке означает не отвращение от природы и техники, а овладение ими. Проблема, стоящая перед человеком, еще сложнее: с механизированной природой не может быть взаимообщения. Древнее общение человека с жизнью природы теперь возможно лишь через воззрения духовные, оно не может быть просто органическим в старом смысле слова. Но ставится еще более острый вопрос об отношении человека к обществу.
Глава III Человек и общество. Социализм
Человек есть существо природное, социальное и духовное. Он также есть существо свободное и рабье, склонное к жертве и любви и к эгоизму, высокое и низкое, несущее в себе образ Божий и образ мира, природного и социального. И потому человек определяется своим отношением к Богу, к природе, к обществу. Иногда он в гораздо большей степени чувствует себя поставленным перед обществом, чем перед космосом, и гораздо больше чувствует власть общества, а не власть природы. Поэтому с наибольшей остротой ставится вопрос о границах власти общества над человеком. Общество имеет тоталитарные притязания и склонно говорить человеку: «ты мое создание и безраздельно принадлежишь мне». Христос утверждал дуализм – царства Божия и царства Кесаря. Ныне происходит возврат к античному, языческому сознанию, которое признавало безраздельную власть общества и государства. Отношения между человеком и обществом представляются парадоксальными. Извне, из объекта человеческая личность есть лишь малая часть общества, изнутри, из субъекта общество есть часть человеческой личности, ее социальная сторона, подобно тому, как космос есть часть человеческой личности, как малой вселенной, заключающей в себе все. Важнее всего сознать, что человек принадлежит не только общественному плану, но и плану духовному, и в этом источник его свободы. Необходимо всеми силами обличать ложь всякого монизма, который всегда есть источник тирании. Общество, понятое монистически, всегда имеет тенденцию к тирании. Более был бы приемлем плюрализм, но плюрализм в обществах буржуазных и капиталистических связан с индивидуализмом и есть прикрытая форма тирании через капиталистическое господство. Поэтому речь может идти только о создании совершенно нового братского общества, общества персоналистического и коммюнотарного. Общество есть объект для человека, извне детерминирующий. Его надо превратить в субъект, внутренне обозначающий коммюнотарный и социальный характер человека.
Коммунизм, совершенно также и фашизм, отрицает трагический конфликт личности и общества. Этот конфликт признается свойственным лишь обществу, состоящему из классов. Так представляется, если оставаться на поверхности, но на большой глубине этот конфликт совершенно устраняется только в Царствии Божием. Трагизм ситуации человека заключается в том, что он принужден жить в природном и объективированном порядке, т. е. доля действия на него необходимости больше доли действия в нем свободы. Общество не есть ни особое существо, ни организм. В этом отношении совершенно ложна метафизика коллективизма, которая в социальном коллективе видит реальность, стоящую над человеком. К этому вопросу мы еще вернемся. Но общество есть некая реальность. Реальность не только «я» и «ты», но и «мы». Но реальность «мы» нисколько не дает права признавать примат общества над человеческой личностью. Вне человека и отношений человека к человеку, общества не существует, или существует, как отчуждение вовне природы самого человека. Универсализм Гегеля, Маркса, Дюргейма, Шпанна и др., признающий примат общества над человеческой личностью, есть ложный универсализм и основан на логике реализма понятий, для которой общее реальнее индивидуального. Маркс в этом отношении противоречив, но у него, в противоречии с материализмом, есть схоластический реализм понятий. Для него класс реальнее человека. Очень интересно, что это противоречие социальной диалектики, как подтвердил Ж. Ж. Руссо, приводит к деспотическому государству якобинцев. Руссо уже отрицал свободу религиозной совести и возвращался к античному, дохристианскому пониманию свободы. Более правы были Прудон, у нас Герцен и Н. Михайловский, утверждающие социализм во имя индивидуума, во имя человека.
Свобода человеческой личности не может быть дана обществом и не может по своему истоку и признаку зависеть от него – она принадлежит человеку, как духовному существу. Общество, если оно не имеет тоталитарных претензий, должно лишь признать эту свободу. Эта основная истина о свободе находила свое отражение в учении об естественном праве, о правах человека, не зависящих от государства, о свободе не только как свободе в обществе, но и свободе от общества, безграничного в своих притязаниях. Бенжамин Констан видел в этом отличие понимания свободы в христианский период истории от понимания ее в античном греко-римском мире. Учение об естественном праве, которое признавало права человека независимо от политических прав, установленных государством, делало теоретическую ошибку, которая свойственна незрелой метафизике того времени. В действительности неотъемлемые права человека, устанавливающие границы власти общества над человеком, определяются не природой, а духом. Это духовные права, а не естественные права, природа никаких прав не устанавливает. Такую же ошибку делали, когда совершали революцию во имя природы; ее можно делать только во имя духа, природа же, т. е. присущий человеку инстинкт, создавала лишь новые формы рабства. Христианство некогда совершило величайшую духовную революцию, оно духовно освободило человека от неограниченной власти общества и государства, которая в античном мире распространялась и на религиозную жизнь. Оно открыло в человеке духовное начало, которое не зависит от мира, от природы и общества, зависит от Бога. Это и есть истина христианского лишь персонализма, незнакомая древнему, дохристианскому миру. Но в своей исторической судьбе христианство искажалось перед государственной силой и пыталось сакрализировать эту силу. Так образовались принудительные христианские теократии, так дошли до приспособления и оправдания капиталистического режима, который находится в самом остром противоречии с христианством. Роковое значение имели слова ап. Павла: «Несть бо власть, аще не от Бога», которые не имели никакого религиозного значения, а лишь временное, историческое значение. Слова ап. Павла стали источником оппортунизма. На Павловом христианстве утвердились два пути: или аскетический путь ухода из мира, оправдывающий аскетически-метафизическое миросозерцание, или путь приспособления к силам, господствующим в мире. Христианство всегда определяло свое отношение к организациям общества, которые делали другие, но не раскрывало правды организации общества из глубины самого христианства. Христианская правда об обществе еще не была раскрыта, не наступили еще для этого времена и сроки. Поэтому до времени нужно утверждать дуализм «божьего» и «кесарева», дуализм природно-социального, как и дуализм общества и государства. Это – источник свободы. Но это не есть окончательное, это дуализм в пути, дуализм временный. Окончательная обращенность должна быть обращенностью к Царству Божьему, в котором всякий дуализм преодолен. Необходимо также установить различие между обществом и коммюнотарной общиной. Организация общества, в котором всегда большая доля необходимости, не есть создание коммюнотарности. В следующей главе будет речь о глубоком различии между идеей религиозной соборности и социалистической идеей коллективизма. Конечные цели человеческой жизни не социальные, а духовные. Но с другой стороны, совершенно ложно разделение индивидуально-морального акта и социально-морального. Нельзя быть моральным человеком и хорошим христианином в индивидуальной, личной жизни и быть жестоким эксплуататором и аморальным в социальной жизни в качестве представителя власти, хозяина предприятий, главы семьи и пр. Ложно и античеловечно различие человека и иерархического чина, замена человека иерархическим чином. Главная же причина кризиса христианства и кризиса общества и упадка веры – в понимании христианства исключительно как религии личного спасения. На почве такого сознания невозможно разрешение проблемы отношений человека и общества. Только новое сознание в христианстве, только понимание его как религии не только личного, но и социального и космического преображения, т. е. усиление в христианском сознании мессианства и пророчества, может привести к разрешению мучительной проблемы отношений человека и общества.
Проблема отношения человека и общества очень обострилась из-за роли, которую играет социализм в мировой жизни. Самое слово социализм происходит от слова «общество». Когда социализм был еще мечтой и поэзией, не стал еще прозой жизни и властью, он хотел быть организованной человечностью. Даже Маркс думал, что социализм должен осуществлять новое общество во имя человека. Роковая диалектика всего осуществляемого в мире, в царстве кесаря, еще не обнаружилась. Но несмотря на несомненную практическую правду социализма, – во всяком случае, критическую правду в отношении к капитализму, – метафизика социализма ложна. Эта метафизика основана на примате общества над человеческой личностью, хотя и при предположении, что человек может от этого примата только выиграть. Социализм двойствен: он может создать или новое свободное общество, или новое рабство. Глубина и правда социализма в том, что человеческая личность вообще, и особенно личность рабочего, из объекта должна превратиться в субъект. Основным противоположением остается противоположение личности и вещи. Нельзя допустить, чтобы человек рассматривался как вещь или объект. Человек есть субъект и личность, и оправдан социальный строй, который это признает. О различии между социализмом и коммунизмом будет сказано по существу ниже, в главе о коллективизме и марксизме.
Говорят, что различие между социализмом и коммунизмом в том, что лозунг социализма: «от каждого по его способностям, каждому по его труду», лозунг же коммунизма: «от каждого по его способностям, каждому по его потребностям». Это различие не принципиальное, вторичное, указывает лишь на разные степени достижения богатства обществом. Гораздо глубже то различие, что социализм не требует тоталитарного миросозерцания, как коммунизм, не стремится к коллективизации всей личной жизни человека и не все средства считает дозволенными. Но и социализм, в большинстве случаев основанный на ложной метафизике, признает мир объектов первичной реальностью, мир же субъекта – вторичный. Это одна из трансформаций царства кесаря. Материализм, т. е. абсолютизация вещи и объекта, есть наследие буржуазного миросозерцания. Капитализм есть практический атеизм. Много верного об этом говорит Рагац. Но есть иллюзия в его мысли, что пролетариату открыта бесконечность, потому что он свободен от собственности. Всегда есть опасность обуржуазвления социализма, это очень остро отметил Герцен. И коммунизм может быть буржуазным в духовном смысле слова. Самое глубокое противоположение есть противоположение не капитализму, как экономической категории, а буржуазности, как категории духовной и моральной. Революционность в социальной борьбе за новое общество определяется обычно не по социальному идеалу, и не по духовному и моральному изменению людей, создающих новое общество, а по средствам, которые применяются в борьбе, по степени применения насилия. Ганди был, конечно в духовном смысле слова, более революционным, чем коммунисты, но его убили именно за эту духовную революционность.
Огромное значение здесь имеет отношение к времени. Можно ли рассматривать настоящее как средство для будущего, и современное поколение как средство для поколений грядущих? Социализм революционный часто хотят видеть в этом рассматривании настоящего поколения живых людей как простого средства для будущего. Поэтому считают возможным убивать огромное количество людей, причинять неисчислимое страдание для осуществления грядущего блага и счастья людей. Так всегда создавалось и продолжает создаваться царство Кесаря; это его закон. Различие тут лишь в степени. Революцию понимают как антиперсонализм.
Самой мучительной проблемой в социализме является проблема свободы. Как соединить решение проблемы хлеба для всех людей, проблемы, от которой зависит сама жизнь людей, со свободой, от которой зависит достоинство людей? Эта проблема совершенно неразрешимая на почве материализма, она могла бы быть разрешима лишь на почве религиозного социализма. Но трагизм положения в том, что человеческие массы проходят через процесс дехристианизации и через материализм, в чем виноваты сами христиане. Социализм сам по себе никогда не осуществит совершенного общества, не осуществит и равенства. Не будет греховных форм эксплуатации человека человеком, не будет классов в том смысле, в каком они созданы капиталистическим строем. Но образуется новый, привилегированный правящий слой, новая бюрократия, та, что теперь названа «организаторы» (James Burnham).
В истории происходит двойной процесс: процесс социализма и процесс индивидуализации. Коммунизм имеет тенденцию к тоталитарной социализации. В этом его своеобразие. Экономическая система коммунизма могла бы не быть еще тоталитарной социализацией человеческой жизни. Она вытекает из философского мировоззрения коммунизма, из его религиозной веры. В этом его главное отличие от социализма. Социализм менее духовен, в нем процесс индивидуализации менее заметен. Но социализм можно рассматривать как родовое понятие, и тогда возможны разные формы социализма. Может быть социализм революционный и социализм реформаторский, социализм религиозный и социализм атеистический, социализм демократический и социализм аристократический. Речь сейчас идет не о социальных переменах в Европе, а о принципах. В социализме всегда был элемент хилиастический, он был в социализме утопическом и в социализме Маркса. Но не осознанный, хилиастический и мессианский элемент социализма как раз порождает фанатизм, и с ним связан воинствующий, антирелигиозный его характер. Крайняя вражда к религии может быть желанием религии же. Это скорее та разновидность социализма, которая именуется коммунизмом. Само слово социализм бесцветно и почти ничего не означает, оно происходит от слова «общество». Слово «коммунизм» более значительно, оно связано с приобщением, с коммюнотарностью. Но на практике коммунизм приобретает не столько характер коммюнотарности, сколько характер коллективизма. Мы увидим, что это основное различие. Если бы не превращение коммунизма в предельный коллективизм, не оставляющий места ни для каких индивидуализаций, то я бы предпочел слово «коммунизм», я бы защищал религиозный и аристократический (не в социальном, а в классическом смысле слова) коммунизм. Но по жизнью установленной терминологии отдаю предпочтение слову «коммунизм».
Нужно признать, что социализм больше стесняется в средствах, менее склонен достигать своих целей насилием. И в прошлом хилиастический христианский коммунизм, задаваясь целью осуществления царства Божьего на земле, был склонен к кровавым насилиям. В этом отношении показательна фигура Томаса Мюнцера. Коммунистическая утопия, например, утопия Кампанеллы или Кабэ, рисовала идеальный строй, в котором не оставалось места для свободы и организация общества была тиранической. В сущности проблема социализма, перед которой стоит современный человек, – проблема «хлеба» и социальной справедливости – элементарна и относительна. Социализм, употребляя это слово в радикальном смысле, не может решить основных вопросов человеческого существования. После осуществления элементарной правды социализма восстанут с особой остротой самые глубокие вопросы для человека и трагизм человеческой жизни станет особенно острым. Цели человеческой жизни духовные, а не социальные, социальное относится лишь к средствам. Борьба против буржуазного общества и буржуазного духа, с которым социализм и коммунизм недостаточно борются, совсем не отрицает заслуг буржуазного и гуманистического периода истории, утверждения свободы мысли и науки, уничтожения пыток и жестоких наказаний, признания большей человечности. В этом отношении XIX век был великим веком. Совершенно нелепа идея пролетарской культуры, которую никак не утверждали ни Маркс, ни Ленин. Пролетарская психология и пролетарская культура может означать лишь рабство человека. Культура может быть лишь общечеловеческой и непременно предполагает аристократический элемент. Также нелепо утверждение религии труда. Труд имеет религиозный смысл, но цель в освобождении от тяжести труда. Это будет один из результатов техники, когда она будет подчинена духу. Но социализм должен быть связан с новым, небуржуазным отношением людей. Это не есть лишь социальная задача, это прежде всего духовная задача, духовная революция. Надо желать развития и победы религиозного социализма. Подчинение социализма религиозным началам и целям есть освобождение от ложной религии социализма, от ложной объективации общества.
Глава IV Человек и кесарь. Власть
Кесарь есть вечный символ власти, государства, царства этого мира. Есть две основные точки зрения на соотношения кесаря, власти, государства, царства этого мира и духа, духовной жизни человека, царства Божьего. Это соотношение понимают или дуалистически, или монистически. Было уже сказано об относительной правде дуализма в условиях нашего мира. Монизм всегда имеет тираническую тенденцию, будет ли он религиозный или антирелигиозный. Верно же понятый дуализм царства Кесаря и царства Божьего, духа и природы, духа и организованного в государство общества, может обосновать свободу. Ложно были поняты и истолкованы евангельские слова: «Воздайте кесарево кесарю, а Божье Богу», и слова ап. Павла: «Несть бо власти, аще не от Бога». Истолкование этих слов носило рабий характер. «Воздайте кесарю кесарево» совсем не означает религиозного определения кесаря и его царства, не означает никакой его оценки. Это есть лишь различение двух разных сфер, недопущение смешения. Слова же «несть бо власть, аще не от Бога», которые имели роковое значение, сплошь да рядом означали сервилизм и оппортунизм в отношении к государственной власти, ничего общего с христианством не имеющих. Слова ап. Павла никакого религиозного значения не имеют, их характер чисто исторический и относительный, вызванный положением христиан в Римской империи. Ап. Павел боялся, что христианство может превратиться в анархическую, революционную секту. Он хотел ввести христианство во всемирную историю. Кроме того, следует помнить, что через некоторое время, во время правления Домициана, государственная власть характеризовалась, как зверь, исходящий из бездны. Вопрос безмерно сложнее, чем обыкновенно думают, ссылаясь на слова ап. Павла. Христианство достаточно уже обнаружило сервилизм в отношении к царству кесаря. Причем это обыкновенно происходило так: всякое изменение – революционное или реформаторское – в царстве кесаря вначале вызывало сопротивление со стороны церкви, осуждение новшества, как проявления духа антихриста. Но когда стабилизировалась и укрепилась новая власть кесаря, церковь вдруг замечала, что это и есть та власть, которая также от Бога, и санкционировала ее. Таким образом выходило, что церковь лишь санкционировала то, что делали другие внецерковные и внехристианские силы, и не имела собственного идеала общества и государства. Когда она его по видимости имела, – в христианских теократиях прошлого – было еще хуже, ибо эти теократии были христианскими лишь по вывеске и отрицали свободу. Теократия была одним из соблазнов, через которые проходило христианское человечество. Соблазном была не только теократия в средневековом смысле слова, но и христианские государства, которые всегда бывали христианскими лишь символически, а не реально, и компрометировали христианство. Глубина проблемы в том, что дух не может зависеть от природы и общества и определяться ими. Дух есть свобода, но в объективации духа в истории создавался ряд мифов, которыми укреплялся авторитет власти. Это миф о суверенитете в религиозной области, это миф о папской непогрешимости или миф о сборе епископов. В жизни государств и обществ таковы: миф монархии – о суверенитете власти монарха, миф о демократии – о суверенитете власти народа (volonté génerale), миф коммунизма – о суверенитете власти пролетариата. Все эти мифы в сущности имели мистический характер, хотя бы это и не признавали открыто, и эти мифы означали как правило не новопонимаемый миф о суверенитете, а отрицание самой идеи суверенитета. Суверенитет не принадлежит никому. Он есть лишь одна из иллюзий объективации.
Могут сказать, что моя точка зрения находится во власти анархического мифа, но это неверно. Мне чужда утопия счастливого безгосударственного бытия. Функции государства остаются в условиях этого мира. Но государство имеет лишь функциональное и подчиненное значение. То, что нужно отрицать, так это суверенитет государства. Государство всегда имело тенденцию переходить за свои границы. И оно превратилось в автономную сферу. Государство хочет быть тоталитарным. Это относится не только к коммунизму и фашизму. И в христианский период истории происходит возврат к языческому пониманию государства, т. е. тоталитарному, монистическому пониманию. Одно из главных классических возражений Цельса против христианства заключается в том, что христиане плохие, не лояльные граждане государства, что они чувствуют себя принадлежащими к другому царству. Этот конфликт существует и сейчас. Существует вечный конфликт Христа – Богочеловека и Кесаря – человекобога. Тенденция к обоготворению кесаря есть вечная тенденция, она обнаруживается в монархии и может обнаруживаться в демократии и коммунизме. Никакой суверенитет земной власти не может быть примирим с христианством: ни суверенитет монарха, ни суверенитет народа, ни суверенитет класса. Единственный примиримый с христианством принцип есть утверждение неотъемлемых прав человека. Но с этим неохотно примиряется государство. И сам принцип прав человека был искажен, он не означал прав духа против произвола кесаря, он включен был в царства кесаря и означал не столько права человека, как духовного существа, сколько права гражданина, т. е. существа частичного. Происходит борьба монизма с дуализмом. Монизм есть всегда возврат к языческому пониманию государственной власти, дуализм же имеет христианское происхождение, он укреплен кровью мучеников. Отношения монизма и дуализма носят парадоксальный характер. Тема социальной революции заключает в себе и крайний монистический и дуалистический элемент. Она дуалистична в делении мира на две части, за социальную революцию и против нее, и монистична в утверждении своего нового царства. Социальная революция заключает в себе мессианский и хилиастический элемент, она безусловно устремлена к царству Божьему на земле, хотя и без веры в Бога. И это ведет к монизму, отрицающему различие царства Духа и царства Кесаря. Грядущим царством Кесаря и предвечным царством Духа. Двойственность в психологии социальных революционеров показывает только, что монизм, единство, можно мыслить только эсхатологически. Возможна секуляризованная эсхатология, которая обоготворяет не вечную жизнь, а жизнь будущего. Отношения церкви и государства есть одна из форм отношения духа и кесаря, но уже в форме исторической объективации. Церковь в истории легко принимала царство Кесаря, т. е. царство объективации, но в ней всегда оставался и другой элемент. Кесарь принадлежит к объективированному миру, он подчинен необходимости. Дух же принадлежит к царству свободы. Отношения церкви и государства были и будут противоречивы и неразрешимы. Конфликт неустраним и тогда, когда церковь оппортунистически приспособляется к государству. Церковная политика наиболее приспособлялась к царству Кесаря. В этом отношении особенное значение имело дело Константина. Империя стала христианской по своей символике. Но что еще важнее, так это то, что церковь стала императорской. Отцы и учители церкви перестали быть защитниками свободы совести, которыми были раньше. Дух ущемлен Кесарем, происходит слияние двух царств. Кесарь сакрализуется церковью. Вселенские соборы собираются византийскими императорами, которые считаются церковным чином. Образуется христианство типа восточного и западного типа с уклонами цезарпапизму и папоцезаризму. Власть кесаря получает церковное освящение. Можно даже сказать, что образуется особое таинство царской власти. И это должно было готовить революционное восстание. Но признание священной власти монарха переходит в признание священной власти народа, потом и власти пролетариата. Их суверенитет и священный характер власти остается.
У людей с древних времен была потребность в религиозной санкции власти, которая иногда принимала формы таинства помазания. Предполагали, что иначе народ не будет подчиняться власти. У древних человек и гражданин было одно и то же. Религия была племенная, национальная. В древнем Израиле это носило особый характер. Это была единственная серьезная и глубокая форма расизма, кровь имела религиозный характер. Но национально-племенной, кровный характер еврейской религиозности означал сознание избранности еврейского народа, как народа Божия, а потому связан был с вселенскостью. Мессианство всегда носит вселенский характер. В дохристианском мире была тенденция к отождествлению политики и морали. Большое значение для нашей темы имеет апофеоз римских императоров. Это идет за пределы сакрализации власти. Она стоит в прямом отношении к нашим современным диктаторам, они даже более священные особи, чем цари и кесари. Реформа цезаря Августа была попыткой провести религиозную реформу в Риме. И режим, который он хотел создать, был тоталитарным режимом. Август был Pontifex-Maximus, и он соединял в себе два начала, начала духа и кесаря. Было решено, что цезарь Август происходит от богов. Культ цезаря укреплял положение Рима. В языческом сознании не было непроходимой грани между богами и человеком. Август-император не означал обоготворения данного человека. В человеке-императоре почитали его гений в античном смысле слова. Есть различие между disus (блажен на небе) и deus. Власть цезаря и даже царя носит языческий характер и принципиально чужда христианству. Цельс защищал империю и апофеоз императорской власти против христиан, пользуясь аргументами, очень похожими на такие, которыми сейчас защищают тоталитарное государство. Апофеоз цезаря есть источник тоталитаризма в его предельном выражении. Это есть подчинение духа кесарю. Нужно помнить, что апофеоз цезарей, как и всех тиранов и диктаторов, был создан верой народа, бедноты, а не сенатом, который был уже скептичен и не склонен к мистическим верованиям. Часто недостаточно помнят и знают, что античный греко-римский мир не знал принципа свободы совести, которая предполагала дуализм духа и кесаря. К концу же античного мира свобода исчезла совсем. Но самое ужасное то, что культ императоров продолжается и в христианском мире. Это особенно поразительно в Византии, и это делало ее не вполне христианским царством. Епископы Средневековья иногда повторяли то, что говорили императорам в римском сенате: «Вы – образ Божества». Но Запад пытался ограничить власть кесаря церковью. Средневековью была свойственна идея органического единства. Всякая часть предполагала единство целого. Человечество едино и есть мистическое тело. Но вместе средневековой мысли совсем не свойственно обожествление государства. В этом преимущество Запада перед Востоком. Государство было создано актом насилия в грешном мире и лишь терпимо Богом. Библейская идея происхождения царской власти очень для нее неблагоприятна. Царская власть возникла против воли Бога. Если продумать все до конца, то нужно признать, что от Бога происходит лишь свобода, а не власть. Средневековое христианское сознание не признавало безусловного подчинения подданных власти. Тиранической злой власти можно не подчиняться. Допускалась даже возможность тираноубийства. Вместе с тем признавалось абсолютное значение естественного права, которое происходит от Бога. Власть должна служить народу. Средневековье признавало в ряде христианских теологов, философов и юристов врожденные и неотъемлемые права индивидуума (Грике). В этом средневековое сознание стояло выше современного. Но сознание это было противоречивым. Признавалась смертная казнь еретиков. Рабство считалось последствием греха вместо того, чтобы считать его грехом. В истории христианства было страшное злоупотребление идеей первородного греха, из которого делали рабьи выводы. Меланхтон еще защищает казнь еретиков, Кальвин казнит Seruta, Theodore de Beze против свободы совести. Империя перешла с Запада на Восток. Поэтому процесс абсолютизации власти на Востоке был острее, чем на Западе. В католичестве дуализм всегда был сильнее, чем на Востоке, где торжествовал монизм. Но важно сказать, что противоречивые отношения между царством Духа и царством Кесаря глубже средневекового противоположения духовной и светской власти.
Смешение и даже отождествление царства Кесаря и царства Божьего постоянно происходило и в практике жизни, и в мысли и в учении. У людей была непреодолимая склонность к монистическим и тоталитарным системам. Такой системой была прежде всего теократия, и в необычайно крайней форме теократия византийская. Но также монистична и тоталитарна демократия Руссо и якобинцев. То же отождествление двух царств и двух порядков мы находим у Гегеля, у Маркса, у О. Конта, у Шпанна, в коммунизме и фашизме. Так называемых либеральных демократий, которые соглашались признать себя нейтральными в отношении царства Духа, больше не существует, они все больше становятся диктатурами. Исчезновение нейтралитета царства Кесаря есть важный момент в исторической судьбе. Кесарь все больше и больше высказывается по вопросам Духа, хотя бы в форме радикального отрицания духа. Если императоры говорили, что они призваны не только управлять государством, но и заботиться о спасении душ своих подданных, то теперь новый кесарь тоже заботится о спасении души, хотя бы то было спасение души от религиозных суеверий. Кесарь имеет непреодолимую тенденцию требовать для себя не только кесарева, но и Божьего, т. е. подчинения себе всего человека. Это есть главная трагедия истории, трагедия свободы и необходимости, человеческой судьбы и исторической судьбы. Государство, склонное служить Кесарю, не интересуется человеком, человек существует для него лишь как статистическая единица. А когда оно начинает слишком интересоваться человеком, то это самое плохое, оно начинает порабощать не только внешнего, но внутреннего человека, между тем как царство Духа не может вместиться в царство Кесаря. Дух бесконечен и устремлен к бесконечности. Кесарь же конечен и хочет наложить на Дух печать своей конечности. Есть требования кесаря, которые исполняют все живущие на земле. Все мы воздаем кесарево кесарю, хотя бы в форме революций, в которых мы участвуем. Требование революции тоже кесарево требование, только революция духа стояла бы вне этого, но она не может быть смешиваема с революциями политическими и социальными, она принадлежит к другому плану бытия. Дуализм Духа и Кесаря, противоположный всякому монизму, не должен означать отворачивания от мира и происходящих в нем процессов. Дух неизбежно вторгается в объективированный мир и опрокидывает его необходимость и рабство. Это всегда было движением по вертикали, которое потом лишь объективировалось и символизировалось по горизонтали. В условиях нашего мира, в нашем пространстве и времени, нельзя мыслить окончательной победы Духа над Кесарем. Постоянно происходит самоотчуждение Духа в объектный мир, и постоянно Дух должен возвращаться в собственную глубину. Это только наполовину понимал Гегель со своим историческим пантеизмом. Царство Кесаря утверждается в этой сфере отчуждения и объективации Духа. В этой сфере Кесарь меняет свои обличья, в этой сфере власть имеет функциональное значение. Но окончательная победа Духа над Кесарем возможна лишь в эсхатологической перспективе. До этого люди живут в гипнозе власти, и это распространяется и на жизнь церкви, которая тоже может оказаться одной из форм кесарева царства.
Тайна власти, тайна подчинения людей носителям власти до сих пор не вполне разгадана. Почему огромное количество людей, на стороне которых есть преобладание физической силы, согласны подчиняться одному человеку или небольшой кучке людей, если они носители власти? Даже обыкновенный полицейский вызывает иное чувство, чем простой смертный в пиджаке. Как в древние времена, так и теперь люди склонны думать, что существует помазание к власти. Тут, конечно, сказывается пережиток древнего рабства человека, которое не вполне преодолено и в демократиях. Указывали не раз на то, что властвование связано с гипнозом. Государственная власть может очень рационально править народом, но само начало власти совершенно иррационально. Дар людей власти заключается в способностях ко внушению. Властвует тот, кто ввергает народные массы в гипнотическое состояние. Пропаганда играет здесь такую колоссальную роль, она есть вульгарная форма гипнотизирования. И если бы люди обладали способностью не подвергаться гипнозу, то неизвестно, какая власть могла бы удержаться. Гораздо глубже то, что власть опиралась на религиозные верования народа, и ее исторические формы падали, когда эти верования разлагались. Это нужно сказать о священных монархиях прошлого. Демократии же держатся главным образом пропагандой и риторикой политических деятелей. Происходит объективация психических состояний людей, вкорененных в глубину не индивидуального только, но еще более коллективного подсознательного. Подсознательное может принять форму сознания, которое поражает своей иррациональностью. Весь процесс происходит в сложных взаимодействующих группах людей. Совершенно ошибочна та точка зрения, которая видит в политической жизни самые корыстные чувства людей и социальных групп. Так называемые интересы социальных групп сплошь и рядом носят совершенно иррациональный, противный всякому разумному расчету характер. Кучка крупных капиталистов может желать вызвать войну, автоматически сила капитализма к этому толкает. Но это может повести к гибели этих капиталистов и их капиталов, к гибели всего режима. Можно было бы сказать, что в корыстном интересе таится безумие, людьми управляют не столько рассудительные интересы, сколько страсти. Исторически сложившиеся формы власти есть всегда уже объективированные и рационализированные подсознательные состояния и страсти. И это всегда означает создание мифов, без мифов нельзя управлять человеческими массами. Создается тот или иной миф о суверенитете. В века новой истории пытались рационализировать начало власти, создав теорию социального договора. У Гоббса, смотревшего пессимистически на человеческую природу, это привело к утверждению монархии. У Руссо, оптимистически смотревшего на человеческую природу, это приводит к утверждению демократии. Но в действительности договоры и рациональные объяснения не играют никакой роли, все формы власти опираются на подсознательные коллективные чувства и страсти, если не опираются на религиозные верования. У Боссюрта абсолютная государственная власть и абсолютная власть монарха опираются на религиозную санкцию, хотя и в противоречии с католичеством, более склонным к дуалистической системе. Ложная идея суверенитета перенесена была с монарха на народ. Людовик XIV говорил: «Государство – это я». Но это тот же самый ложный принцип суверенитета. Интересно отметить, что идея народного суверенитета возникла в монастырях, ее утвердили католические теологи Suares и Bellarmin. Правда этой идеологии отрицательная, более же высшая положительная правда заключается в том, что суверенитета нет совсем. Уже было сказано о различии античного и нового понимания свободы. Но суверенитет народа возвращает к античному пониманию. Это сказалось в формах, которые приняли социальные доктрины. Кабэ, который считал себя христианским коммунистом, отрицал в утопии совершенного строя свободу печати. Луи Блан утверждал социализм совершенно авторитарный, враждебный свободе. Гегель совершенно абсолютизировал государство, как воплощение духа, а это повлияло на абсолютизацию общества в марксизме. Не без основания говорил Монталанбер, что демократия враждебна свободе совести. Из всех социальных учений нужно сделать исключение для Прудона. Для него в центре стоит идея человеческого достоинства, что и есть справедливость. Прудон противник насилия и определяет революцию, как просветление умов. Он считался анархистом, потому что не хотел переносить суверенитет одного субъекта на другой. В этом его правда. Необходимо очищение сознания от мифов о власти, всегда опиравшихся на подсознательное. Есть только один великий миф, связанный с великой реальностью, миф о человеке, об его свободе, его творческой энергии, его богоподобии и его коммюнотарной связи с другими людьми и ближними.
Бесспорно, начало власти связано с существованием зла. И это в двойном смысле. Власть принуждена бороться с проявлениями зла, в этом ее функция. Но она и сама сеет зло и бывает новым источником зла. И тогда нужна новая власть, чтобы положить этому предел. Но потом власть, положившая предел господству злой власти, сама делается злой. И нет выхода из этого порочного круга. Победа и господство всегда означают диалектическое перерождение и превращение в обратное тому, для чего боролись. Таков исход всех революций. Революция борется против власти, ставшей злой, и она борется за власть, и в ней побеждают силы, которые наиболее способны организовывать власть, вытесняя и часто истребляя менее на это способных. Революции обнаруживают и высоту человеческой природы, страстное увлечение идеей лучшего строя жизни, способность к жертвенности, забвение эгоистических интересов, – и жестокость, неблагодарность, истребление высоких духовных ценностей. Таков человек в своих противоречиях. Нужно решительно признать, что в христианстве не было откровения об обществе. Это откровение должно быть отнесено к Эпохе Духа Святого, о чем я уже много раз писал. И потому до сих пор была так трагична судьба всех попыток создания нового лучшего общества. Проблема общества есть проблема отношения не «я» к «ты», а «я» к «мы», и через отношение к «мы» – отношение к «ты». Но «мы» оставалось нечеловеческим анонимом, которым беззастенчиво распоряжались и «я» и «ты». «Мы» было объективацией человеческого существования. Власть «мы» над всеми человеческими «я» не означала человеческих отношений между ними, и это верно для всех режимов. Освобождение человека находилось лишь в отрицательном фазисе и было очень относительным, распространялось на некоторые отдельные сферы, а не на целостного человека. Так, напр., либерализм освободил человеческую мысль, науку, освободил от внешней власти церковного авторитета, но совсем не освободил представителей от закамуфлированной власти капитала. Освобождение же трудящихся от власти капитала может привести к закрепощению мысли. Всякая власть открыто и прикрыто заключает в себе яд. Настоящее освобождение произойдет лишь тогда, когда будет преодолена идея суверенитета, к какому бы субъекту этот суверенитет ни относился. Непрерывный хаос самоутверждения народов порождает войны, и человечество все время стремилось к преодолению этого хаоса, мечтало о всемирном единении. Можно установить три идеи: мировая империя (Римская империя, империя Карла Великого, империя Наполеона), множество суверенных наций государств, стремящихся к состоянию равновесия; мировая федерация свободных наций, отказавшихся от суверенитета и согласных подчиниться мировой организации. Только к последнему должно стремиться, но это предполагает радикальное, духовное и социальное изменение.
Глава V Об иерархии ценностей. Цели и средства
Человек есть существо оценивающее, определяющее качество. Определение ценностей и установка их иерархии есть трансцендентальная функция сознания. Даже дикарь совершает оценки. Но в нашем мире иерархия ценностей опрокинута, низшее стало высшим, высшее задавлено. Это опрокидывание ценностей касается не только Советской России, но еще может быть более Америки, да и всей Европы. Жизнь человеческих обществ стоит под знаком господства экономики, техники, лживой политики, яростного национализма. Иерархия ценностей определяется по принципу пользы, при совершенном равнодушии к истине. Духовная культура задавлена. Ставится вопрос даже не о ценностях, творимых человеком, а о ценности самого человека. Цели человеческой жизни померкли. Человек перестал понимать, для чего он живет, и не имеет времени задуматься над смыслом жизни. Жизнь человека заполнена средствами к жизни, которые стали самоцелью. Подмена целей жизни средствами есть очень характерный процесс человеческой жизни, которым многое объясняется. Ярким примером является определяющая роль экономики, поразившая Маркса. Но экономика бесспорно относится к средствам, а не к целям жизни. Между целями человеческой жизни и средствами, применяемыми для осуществления целей, существует разрыв и часто нет никакого сходства. Это есть одно из порождений объективации, которая всегда совершает разрыв и подчиняется необходимости. То, что причина порождает следствие в мире феноменов, есть в сущности ненормальное явление. Это ведет к тому, что в низшем состоянии мира нужно применять силу и насилие для осуществления какой-либо цели. Характерно, что никто не выставляет прямо злых целей, зло всегда прикрывается добром, всегда крадет у добра. Зло видно лишь в применяемых средствах. Средства вообще всегда свидетельствуют о духе людей, о духе свободы или рабства, любви или ненависти. Есть опасность в осуществлении какой-либо цели во что бы то ни стало. Если для осуществления совершенно справедливого социального строя и счастия людей нужно замучить и убить несколько миллионов людей, то главный вопрос совсем не в цели, а в применяемых средствах, цель уходит в отвлеченную даль, средства же являются непосредственной реальностью. Достоевский остро поставил вопрос о том, можно ли построить райский блаженный мир на слезинке одного невинно замученного ребенка. А среди миллионов замученных для осуществления грядущего блаженства, наверно, есть немало невинных. Принцип «цель оправдывает средства» не нынче выдуман. Когда-то его приписывали иезуитам, применяли же его слишком многие. И вот что тут самое главное. Главное даже не то, что средства аморальны, жестоки, не похожи на высокие цели. Главное то, что когда применяют злые, противоположные целям средства, то до цели никогда не доходят, все заменяют средствами и о целях забывают, или они превращаются в чистую риторику. Дурные средства формируют душу, добрые же цели перестают быть жизненной силой. Отсюда царство лжи, в которое погружен человек. Добрые цели христианства в прошлом слишком часто осуществлялись дурными средствами. Хотели насаждать христианство в Европе кровавыми насилиями. Православие в Византии связано было со зверской жестокостью. Слишком известны костры инквизиции, Варфоломеевская ночь, отрицание свободы совести и мысли и многое другое. Дурные средства привели к вырождению, а не укреплению христианства. Добрые цели свободы, равенства и братства французской революции тоже осуществлялись кровавым насилием, террором, свирепствовавшим в продолжение всей революции. Создано было капиталистическое общество XIX в., в котором не было никакого равенства и еще менее братства. Русская коммунистическая революция тоже применяла террор. Она поныне не создала ни братства, ни коммюнотарного общества. Никогда свобода не осуществляется через насилие, братство через ненависть, мир через кровавый раздор. Дурные средства отравляют. Осень революции никогда не походит на ее весну. В практике дурных средств все объявляется дозволенным в отношении врага, которого перестают считать человеком. И образуется безвыходный магический круг. Смысл слов Христа о любви к врагам выводит из этого магического круга, круга ненависти. Когда во имя освобождения утверждают ненависть и месть, то наступает порабощение. Организация более справедливого и благостного общества не есть цель, есть лишь средство для достойного человеческого существования. Целью человечества остаются высшие ценности, но которые предполагают и очеловечение средств. Цель имеет смысл лишь в том случае, если ее начать осуществлять сейчас же, тут.
Есть два типа философии: философия ценностей и философия блага или пользы. Ценность есть качество, господствует же философия количества. Марксизм есть философия блага, а не ценностей. С марксистами нельзя даже говорить об иерархии ценностей, ибо они не принимают самой постановки вопроса о ценности, для них существует только необходимость, польза, благо. В противоположность философии марксизма, философия Ницше есть философия ценностей. Человек для него есть прежде всего творец ценностей. Но философия ценностей у Ницше противоречива и неоправданна, вследствие биологической окраски его философии и ви́дения смысла жизни в воле к могуществу. С необыкновенной силой раскрывается в стихах Пушкина столкновение творческой свободы поэта и утилитарных требований человеческой массы, черни, которая была у него, может быть, более всего чернью дворян, чиновников, придворных, а не трудящихся масс. Чернь может менять свой социальный состав. Пушкин в страстной защите свободы творца обращался к черни: «как ветер песнь его (поэта) свободна», «печной горшок тебе дороже, ты пищу в нем себе варишь». Пушкин говорил слова, которые так возмущали в 60-е годы: "…Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв». И еще: «Поэт, не дорожи любовию народной. Ты царь, живи один. Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум». Но тот же Пушкин сознавал свое служение народу и в этом служении предвидел оценку себе грядущими поколениями. Нельзя без волнения читать эти строки: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа…» «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой…» «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я Свободу и милость к падшим призывал». И служение не противоречит творческой свободе, оно не может быть вынужденным и не имеет никакой цены, когда является результатом насилия. Самым большим злом является утилитарное отношение к истине. Истина совсем не есть слуга человека, и она оправдывается совсем не пользой, которую она приносит. Человек призван служить истине. Для темы об иерархии ценностей огромное и фатальное значение имело признание экономики предпосылкой всей человеческой жизни. Экономический материализм видит в экономике первореальность, которая противополагается иллюзии сознания. Но оно основано на явном смешении. Экономика лишь необходимое условие и средство человеческой жизни, но не цель ее, не высшая ценность и не определяющая причина. Я не могу заниматься философией, не имея пищи, одежды, крова. Но философия нисколько не определяется этими условиями. Тезис материализма, что высшее есть эпифеномен низшего и объясняется из него, есть коренная ложь, совершенно неубедительная. Все высшее в человеческой жизни, чем только и определена ее ценность, для материалиста должно быть иллюзией сознания, которую нужно изобличать. Это лишь деградирование человека. Высшие цели жизни не экономические и не социальные, а духовные. Величие народа, его вклад в историю человечества, определяется не могуществом государства, не развитием экономики, а духовной культурой. Германия была наиболее велика и была вершиной европейской культуры не тогда, когда она была империей Бисмарка, а когда состояла из небольших государств. Великая культура Греции была связана с маленьким государством. Великий творческий подъем Возрождения в Италии связан с периодом раздробления Италии. Правда, великое творчество русской культуры XIX в. связано с великой империей, но она вся была направлена против империи. Творчество ценностей духовной культуры совсем не пропорционально государственной и экономической силе первенствующих стран.
Революция есть фатум в жизни народов, ее течение не определяется свободой, в нем есть неотвратимость. Это обыкновенно плохо понимают современники. Революция есть передвижение масс и потому не может не понижать качества. Революция всегда опрокидывает иерархию ценностей. Многие ценности свергаются революцией вследствие ложного использования их в прошлом. Революцию нельзя свергать, ее нужно внутренне изживать, защищая дух, на который она всегда посягает. Если революция отрицает свободное творчество духовных ценностей, то его отрицала и организованная, затвердевшая в своих формах религия прошлого. Много раз говорилось, что творчество ценностей совсем не нужно для спасения души в вечной жизни. И приходится признать, что это верно. Но творчество ценностей нужно не для спасения, а для полноты Царства Божьего на небе и на земле. Лишь судебное понимание видит в христианстве исключительно религию спасения. Но это идея эзотерическая, на большей глубине христианство есть религия осуществления Царства Божьего, индивидуального, социального и космического преображения. Есть большая аналогия в отношении социальной революции к творческим ценностям. Для осуществления социальной правды, для уничтожения эксплуатации человека человеком, для создания бесклассового общества совсем не нужно свободного творчества, философии и эстетических ценностей, вредна религиозная и мистическая настроенность, противоречит цели социальной революции аристократическое понимание духовной культуры. Все это лишь отвлекает от социальной борьбы, мешает осуществлению единого на потребу. Об этом много раз приходилось слышать не только сейчас, но и пятьдесят и семьдесят пять лет тому назад. Внешне это кажется правдоподобным, но внутренне, по существу это абсолютно ложно и обнаруживает раздробленность и слабость человека. Революция в глубоком смысле слова, если она не есть только перемена одежды, как слишком часто бывает, есть целостное, интегральное изменение человека и человеческого общества. Нельзя осуществлять социальной правды без истины и красоты. Если жизнь, созданная после социальной революции, будет уродлива и будет находиться на очень низком уровне познания истины, то это будет показателем внутренней порчи. Уродство есть также ложь. Красота, как высшая ценность, нужна и для социальной реорганизации общества. Иначе исказится тип человека, не будет стиля и формы, образа и гармонии. При утилитарной точке зрения использования оказываются допустимыми все средства. Тут мы встречаемся с самой зловещей ошибкой в отношении к жизни. Нет ничего более злого, чем стремление осуществить во что бы то ни стало благо. Это обыкновенно означает не излучение благостной энергии, преображающей человека и человеческое общество, а скорее излучение злой энергии для осуществления благостной цели. Преобразующую же правду нужно видеть не столько в том, чтобы человек ставил себе благостную цель, осуществляя ее средствами, непохожими на цель, сколько в том, чтобы он излучал благостную энергию. Средства в гораздо большей степени заполняют жизнь людей, чем цели, которые могут делаться все более и более отвлеченными. При точке зрения качественных ценностей цели осуществляются средствами, которые сами признаются этими ценностями. Ужас человеческой жизни заключается в том, что добро осуществляют при помощи зла, правду – при помощи лжи, красоту – при помощи уродства, свободу – при помощи насилия. Для осуществления доброй цели совершали величайшие ужасы. Это имеет глубокие причины. Такие утилитарные деформации происходили и в христианстве. Для осуществления целей христианства считали возможным применять кровавое насилие, и христианство так же не осуществилось, как не осуществлялись и цели революций. Это связано прежде всего с проблемой времени, со взглядом на настоящее не как цель в себе, а как средство для будущего, для такого будущего, которое никогда не наступает. Сила и польза ставятся выше духа и истины. Достаточно обнаружено, что нельзя осуществить братство людей без творческого излучения братства в применяемых средствах. Насилие и принуждение допустимы только для ограничения проявлений зла, для защиты слабых. И это должно иметь место в борьбе против злостной эксплуатации, только в агрессивных, захватнических войнах.
Творчество духовной культуры, духовных ценностей, религиозных, познавательных, моральных и эстетических – аристократично и предполагает существование духовной аристократии. Духовная аристократия будет и в бесклассовом обществе. Ее исчезновение означало бы исчезновение качества. Качество – аристократично. Это не значит, что духовная культура существует лишь для немногих. Творчество великих творцов, напр., у нас Пушкина и Л. Толстого, имеет всенародное значение. Но тут надо предостеречь от смешения, которое сейчас все время происходит. Всенародное творчество совсем не значит коллективное творчество и заказное творчество. Всенародное ничего общего не имеет с коллективным. Великий творец всегда индивидуален, никому и ничему не подчинен и в своем индивидуальном творчестве выражает дух народа; он даже гораздо более выражает дух своего народа, чем сам народ в своей коллективной жизни. И всякий творец свободен, он не терпит принуждения. Он в свободе совершает свое служение. Когда творец исполняет социальный заказ без свободы, то продукты творчества могут быть лишь бездарными и ничтожными. Такого рода активность относится к сфере полиции, а не к сфере творчества. Употребляя довольно противное современное выражение, можно было бы сказать, что Вергилий исполнял социальный заказ цезаря Августа, но он исполнял его свободно, изнутри, подчиняясь творческому порыву. Только потому он создал гениальное произведение. Русская литература XIX в. всегда была литературой служения и учительства. И нам смешно читать, когда в современной французской литературе «engagement» считается чем-то новым. Сартр в своих статьях о литературе иногда говорит то, что в России в 60-е годы говорили русские критики Чернышевский, Добролюбов, Писарев, но выражает это в более утонченной форме. В конце концов, происходит возврат к марксистской классической точке зрения на культуру и литературу. Так хотят спасти себя от рафинированного декаданса. Культурная элита переживает тяжелый кризис, и ей грозит исчезновение в массовом социальном движении нашего времени. Об этом я не раз уже писал. Изоляция, гордыня, презрение должны вести к гибели. Только сознание своего служения может спасти. Гений выражает судьбу народа, а на вершинах и судьбу человека и мира. Но есть обратная опасность, опасность приспособления и утери свободы. Творец прежде всего и превыше всего должен хранить свою творческую свободу. Только через эту свободу возможно для него служение и выражение судьбы народа. Одинаково ложен изолированный индивидуализм и механический производственный коллективизм. Слово коллективизм должно было быть совершенно исключено; мы дальше увидим, что он лишь карикатура на коммюнотарность. Коммюнотарность всегда свободна, коллективизм всегда принудителен. Нельзя допустить понижения качества творчества во имя количества. Делом творцов культуры должно быть не унизительное приспособление к массовому социальному движению, а облагораживание этого движения, внесение в него аристократического начала качества. Народ выражает свое призвание в мире в своих великих творцах, а не в безликой коллективности. Такие великие явления мировой культуры, как греческая трагедия или культурный ренессанс, как германская культура XIX в. или русская литература XIX в., совсем не были порождениями изолированного индивидуума и самоуслаждением творцов, они были явлением свободного творческого духа. Служение народу есть вместе с тем творческое созидание народа. Творчество духовной культуры всегда означает соблюдение иерархии ценностей, единственной иерархии, которая может быть оправдана. Это приводит нас к столкновению ценности справедливости и ценности свободы, основной теме современной мировой эпохи.
Сейчас очень любят противополагать ценность социальной справедливости ценности свободы и предлагают выбирать. Эти основоположные в жизни общества ценности располагают географически: Советская Россия за социальную справедливость, Америка за свободу. Поэтому считают неизбежным конфликт. При этом свобода оказалась почти совершенно отождествленной с капитализмом. Против такого рода постановки вопроса нужно всеми силами протестовать. Меня будет сейчас интересовать совсем не политическая злоба дня, а вечный вопрос о справедливости и свободе. По существу о свободе и ее противоречиях речь будет идти в следующей главе. Но возможно ли противополагать свободу и справедливость? Свобода есть что-то гораздо более изначальное, чем справедливость. Прежде всего справедливость – юстиция – есть совсем не христианская идея, это идея законническая и безблагодатная. Христианство явило не идею справедливости, а идею правды. Чудное русское слово «правда», которое не имеет соответствующего выражения на других языках. Насильственное осуществление правды – справедливости во что бы то ни стало может быть очень неблагоприятно для свободы, как и утверждение формальной свободы может порождать величайшие несправедливости. Это есть обнаружение противоречий человеческой жизни. Такое же противоречие и конфликт может быть между свободой и любовью, между любовью и справедливостью и т. п. Трагизм человеческой жизни прежде всего не в конфликте добра и зла, а в конфликте положительных ценностей. Во имя свободы человек может пожертвовать любовью, во имя социальной справедливости может пожертвовать свободой, во имя жалости может пожертвовать научным призванием и т. д. Но все это совсем не означает, что в организации человеческого общества необходимо или отказаться от свободы, или отказаться от справедливости. Необходимо стремиться к свободному и справедливому обществу. Без свободы не может быть никакой справедливости. Это будет отвлеченная справедливость, не имеющая отношения к конкретным людям. Справедливость требует свободы для всех людей. Я могу ограничить свою свободу во имя жалости к людям, но могу это сделать только свободно, и только в этом случае это имеет ценность. Принудительная жертва не имеет никакой ценности. И мой отказ от свободы перед конфликтами жизни может быть лишь актом свободы. И есть свобода, от которой человек не имеет права отказываться, если хочет сохранить достоинство человека, – такова свобода совести, свобода духа. Отчуждение совести не может быть терпимо ни во имя чего, ей принадлежит верховенство. Никакая социальная справедливость не может этого требовать. Вопрос очень осложняется еще тем, что имеют в виду не только справедливое общество, в котором не будет эксплуатации человека человеком, а братское, коммюнотарное общество. Тут мы встречаемся с огромным принципиальным различием. Закон может принуждать людей к справедливости, но не может принуждать к братству. Жалость, милосердие, любовь есть благодатное дело свободы, а не принуждающего закона. Принуждающий закон могут считать противоположением свободе, но не самую справедливость, а еще меньше братство. Да и сам принуждающий закон может быть охранением свободы от человеческого произвола. Утверждением социальной справедливости в отношении к трудящимся классам может означать именно освобождение этих трудящихся масс от гнета. В XIX в. любили говорить об освобождении труда. Социализм связывали со свободой человека. Если в XX в. предпочитают говорить о плановом хозяйстве, о дирижизме, об усилении власти государства над человеком, то это главным образом потому, что мы живем в мире, созданном двумя мировыми войнами, и готовимся к третьей мировой войне. Мы живем в мире, в котором революция является лишь трансформацией войны. Это определяет все ценности. Мы живем в хаотическом мире, в котором свобода представляется непозволительной роскошью. Проблема справедливости и свободы ставится совсем не в ее чистоте, она погружена в мутную атмосферу. В конце концов, в современном мире нет ни справедливости, ни свободы. Борьба за элементарные блага, за самую возможность жизни, вытесняет вопрос о ценностях. На вершинах цивилизации происходит элементаризация, которая лишь представляется сложной.
Можно мыслить три исхода из кризиса, к которому приходит мир: 1) Исход фатальный. Продолжающееся распадение космоса природного и космоса социального, продолжающийся разлагаться капиталистический режим, торжество атомной бомбы, хаотический мир, раскрытый в творчестве Генри Миллера, хаос не изначальный, не начала, а хаос конца, война всех против всех. Это гибель мира, и мы не можем ее допустить; 2) Насильственный, механический порядок коллектива, организованность, не оставляющая места свободе, деспотизация мира. Это также трудно допустить; 3) Внутреннее преодоление хаоса, победа духа над техникой, духовное восстановление иерархии ценностей, соединенное с осуществлением социальной правды. До сих пор преобладает смешение первого и второго исхода. Мир как бы вступает в период принудительного организованного хаоса, который внутренно нисколько не побеждается. Третий исход, единственно желанный, обращен к человеческой свободе, он не может быть результатом фатальной необходимости. В первом и втором исходе, и в их смешении, человек внешне как будто бы активен, но внутренне он пассивен. И при этом ни о какой иерархии ценностей не может быть и речи. Духовные ценности просто не существуют. Это совершенное низвержение духовных ценностей в бездну. Можно быть одинаковым пессимистом в первом случае и оптимистом во втором случае. Совершенно нелепо требовать, чтобы было доказано существование духовных ценностей и большая высота их по сравнению с так называемыми витальными ценностями. Духовные ценности прежде всего утверждаются актом моей свободы. Самое нужное не есть самое ценное. Высшие духовные ценности исчезают, когда свобода не направлена к их утверждению. Человек свободен признавать реальным лишь очень малый, очень поверхностный мир, он свободен отрицать свою свободу. Вопрос о реальности очень сложный вопрос, и он кажется простым лишь для сознания не философского. Жизнь приобретает глубину и значительность лишь при понимании ее в духе символического реализма. Видимый мир не есть навязанная нам и принуждающая нас реальность, он обращен к свободе духа. При этом творимое свободным духом есть и наиболее реальное.
Глава VI Противоречия свободы
Философия свободы начинается со свободного акта, до которого нет и невозможно бытие. Когда в основу кладется бытие и признается примат бытия над свободой, то все им детерминировано, детерминирована и свобода, но детерминированная свобода не есть свобода. Но возможен другой тип философии, который утверждает примат свободы, творческого акта над бытием. Только второй тип благоприятен свободе. Но невозможно рациональное определение свободы. Это признавал и Бергсон. Из двух типов метафизики – интеллектуальной и волюнтарной – первый всегда неблагоприятен свободе, второй же благоприятен. Но и волюнтарная метафизика сама по себе не есть еще философия свободы. Что должно быть решительно утверждено, так это то, что свобода есть дух, а не бытие. То, что называли эссенцией или субстанцией, есть создание первичного экзистенциального акта. Интеллектуальная греческая мысль была очень неблагоприятна для свободы. Добро было детерминировано разумом. Примат и господство разума не признает свободы. Я не имею сейчас возможности анализировать сложное отношение между свободой, случаем, роком, промыслам и благодатью. Но на одном соотношении необходимо остановиться, на соотношении свободы и благодати. Вокруг этой темы ряд столетий происходили страстные споры в западном христианстве. Но мне представляется ошибочным самое противопоставление свободы и благодати. Это противопоставление означало объективизацию благодати и понимания ее, как действующую извне божественную необходимость. Но то, что называют благодатью, действует внутри человеческой свободы, как ее просветление. Нельзя смешивать логическую необходимость в познании и необходимость в самой жизни мира; но и в самом познании нет исключительной логической необходимости, которая занимает лишь часть познания. Необходимо признать, что существует и иррациональное познание и оно играет большую роль. Только потому и возможно познание иррационального. Так называемый рационализм заключает в себе совершенно иррациональные элементы, это особенно нужно сказать о материализме. Философски определить свободу пытались через волюнтаристическое понимание ее, как акта причинности (например, Мен де Биран, Лопатин); но это не доходило до глубины проблемы. Глубина требует признания существования первичной несотворенной свободы, которая находится вне психологической причинности. Так называемое традиционное учение о свободе воли всегда носило педагогически-учительный характер. Это учение определяет ответственность человека в этой жизни и в жизни иной. Совершенно несостоятельной нужно признать свободу безразличия, которая есть механизация свободы. Настоящая проблема свободы должна быть поставлена вне награды и наказания, вне спасения или гибели, вне споров Блаженного Августина с Пелагием, Лютера с Эразмом, вне споров по поводу предопределения, которое нужно отрицать в самой изначальной постановке вопроса, отрицать самое слово и понятие. Все это находится еще в пределах судебного понимания христианства, в пределах идей освящения и оправдания, вместо идей преображения. Настоящая проблема свободы есть проблема творчества. По замыслу своей книги я буду интересоваться не метафизической идеей свободы по существу, а главным образом ее последствиями в жизни социальной.
Свободу часто понимают статически, между тем как понимать ее нужно динамически. Существует судьба свободы в мире, экзистенциальная диалектика свободы в мире. Свобода может переходить в свою противоположность. Рабство может быть порождением ложно направленной свободы. Наиболее общее определение свободы, обнимающее все частные определения, заключается в том, что свобода есть определение человека не извне, а изнутри, из духа. Духовное начало в человеке есть истинная свобода, а отрицание духа, додуманное до конца, – неизбежно есть отрицание свободы. Материализм неизбежно ведет к отрицанию свободы. Свобода вкоренена в царство духа, а не в царство Кесаря. Кесарь никому не хочет давать свободы. Она получается лишь через ограничение царства Кесаря. Объективированный мир, каким и является царство Кесаря, есть мир порабощающий. Другое различие свободы, которое часто делают, есть различие свободы внутренней и свободы внешней. Говорят, что человек может быть внутренне свободен и в цепях, может быть свободен, когда его сжигают на костре. Это верно. Но вопрос о внутренней свободе сложнее, чем обыкновенно думают, особенно когда не интересуются внутренней жизнью человека. Человек может быть рабом не только внешнего мира, но и самого себя, своей низшей природы. Освобождение рабов во внешнем обществе не есть еще освобождение от внутреннего рабства. Человек может стать внутренне рабом. В этом причина того, что революции не приводят обыкновенно к созданию нового свободного общества и всегда заключают в себе возврат к старому обществу. В революциях обыкновенно бывает меньше всего свободы. Определение свободы как выбора есть еще формальное определение свободы. Это лишь один из моментов свободы. Настоящая свобода обнаруживается не тогда, когда человек должен выбирать, а тогда, когда он сделал выбор. Тут мы приходим к новому определению свободы, свободы реальной. Свобода есть внутренняя творческая энергия человека. Через свободу человек может творить совершенно новую жизнь, новую жизнь общества и мира. Но было бы ошибкой при этом понимать свободу, как внутреннюю причинность. Свобода находится вне причинных отношений. Причинные отношения находятся в объективированном мире феноменов. Свобода же есть прорыв в этом мире. Свобода приходит из иного мира, она противоречит закону этого мира и опрокидывает его. Одинаково неверно рассматривать свободу лишь как средство для осуществления коллективного социального строя и рассматривать свободу как исключительно зависящую от социального строя. Мы увидим, что от формального и реального понимания свободы зависят противоречия свободы в социальной жизни. Свобода, которая делается слишком легкой, не требующей героической борьбы, вырождается и теряет свою ценность. Выродившаяся свобода выражается лишь в отрицательном сознании, что меня не насилуют. Предельное выражение упадочной свободы это: «оставьте меня в покое». Свобода совсем не есть легкость, свобода трудна и тяжела. Свобода есть не право, а обязанность. Либералы обыкновенно понимают свободу, как право, а не обязанность, и свобода для них означает легкость и отсутствие стеснений. Поэтому свобода превращается в привилегию господствующих классов. В более глубоком смысле свобода есть совершеннолетие человека, сознание долга перед Богом быть свободным существом, а не рабом. Героическое понимание свободы противоположно старому либеральному пониманию свободы. Свобода предполагает сопротивление, она есть обнаружение силы. Декларация прав человека и гражданина, чтобы не быть формальной, должна быть также декларацией обязанностей человека и гражданина. И ударение должно быть сделано на человеке, как существе духовном, чего обыкновенно не делалось в политических революциях. Слишком известно, что в демократиях может совсем не быть настоящей свободы. В якобинской демократии, вдохновленной Руссо, может утверждаться принцип тоталитарного государства, самодержавие народного суверенитета. В демократиях капиталистических деньги и подкупленная печать могут править обществом и лишать реальной свободы, между тем как декларация прав человека и гражданина имела религиозные истоки, она родилась в утверждении свободы совести реформацией. Но от этого религиозного истока потом произошло отдаление. Поэтому внутренне не освобожденные души создавали новые формы рабьего общества. Лживая пропаганда совершает насилие над массами. Массы, подверженные этой пропаганде, не имеют внутренней свободы. Злоба и ненависть, вызванные демагогической пропагандой, делают людей внутренно рабами. И этими рабьими чувствами пользуются для своих целей и власть и партии. Ни о какой действительной демократии при этом не может быть и речи. Общество будет таким, каковы составляющие его люди.
Свобода как выбор, и свобода как творческий акт, есть основное различие свобод. Но есть еще более важный, основной вопрос, который ставится, когда речь заходит о свободе, и от его решения зависит судьба свободы в мире. И мы встречаемся с трудно преодолимым противоречием. Это вопрос об отношении свободы и истины. Возможна ли свобода без познания истины и возможно ли познание истины без свободы? В Евангелии сказано: «Познаете истину и истина сделает вас свободными». Что предполагает, что истина, истинная истина, освобождает. Эти евангельские слова перефразированы в современном мире, и их повторяет современный тоталитаризм, враждебный свободе. Так, марксизм-коммунизм говорит: «познайте истину марксистскую, коммунистическую истину, и она сделает вас свободными. Вне этой истины свободы нет, вне ее есть ложь, ложная формальная свобода, утверждаемая в капиталистических обществах». Помня связь марксизма с гегелианством, можно сказать, что это познание истины дает свободу, как признание необходимости. Это совершенно обратное христианству понимание свободы. Для христианства истина есть также Путь и Жизнь. Она не только дает свободу, но и открывается в свободе. Для истины нужна свобода. Христианство впервые по-настоящему утверждает свободу духа. Истина о свободе была запечатлена кровью мучеников. Христианство есть религия распятой правды. Распятая правда не принуждает, она обращена к свободе. И было изменой христианству, когда христианскую правду хотели сделать принудительной. До конца времен остаются два царства. Конфликт христианства и империи был конфликтом духа и кесаря, которого не могло быть в дохристианском языческом сознании. В своей религии античный человек принадлежал государству. Никакой сферы свободы от государства и общества, свободы духа не могло быть. Это есть монизм, который не может знать по-настоящему свободы. Тоталитаризм не есть исключительно новое явление нашего времени. Христианская теократия и империализм были тоталитарными, и они монистически отрицали свободу духа. Империалистический режим Наполеона был тоталитаризмом, не доведенным до конца. Но тоталитаризм в христианский период истории есть всегда возвращение к языческому монизму. Абсолютное государство Гегеля, как воплощение духа, было также возвратом к язычеству. То же надо сказать об авторитарном режиме О. Конта, который можно характеризовать, как католичество без Бога. Бога сделали врагом свободы и хотели видеть свободу в освобождении от идеи Бога. В этой страшной лжи повинно было христианство в истории. Дух тоже сделали врагом свободы и признали даже материализм благоприятным для свободы. Но трудно себе представить большую аберрацию. Свобода предполагает существование духовного начала, не детерминированного ни природой, ни обществом. Свобода есть духовное начало в человеке. Если человек существо, целиком детерминированное природой и обществом, то не может быть никакой свободы. Материализм есть полное отрицание свободы, и социальный строй, основанный на материализме, не может знать никакой свободы. Мы это и видим на практике. Свобода есть прежде всего свобода личности. Если отрицать ценность личности и сомневаться в ее реальности, то ни о какой свободе не может быть и речи. Личность есть граница власти природы, власти государства, власти общества. Но личность существует лишь в том случае, если человек есть свободный творческий дух, над которым кесарь не всесилен.
Сложность проблемы свободы в ее социальных последствиях в том, что средний человек масс в сущности не очень дорожит свободой. И совсем не к свободе стремятся революционные движения масс. Для того, чтобы человек боролся за свободу, нужно, чтобы свобода в нем уже была, чтобы внутренно он не был рабом. Демагогия, к которой всегда прибегают в обращении к массам, есть лишение людей свободы, есть психологическое насилие. Управлять массами, активно вступившими в историю, совсем не легкая вещь. В сущности свобода аристократична, а не демократична. С горечью нужно признать, что свобода мысли дорога лишь людям, у которых есть творческая мысль. Она очень мало нужна тем, которые мыслью не дорожат. В так называемых демократиях, основанных на принципе народного суверенитета, значительную часть людей составляет народ, еще не сознающий себя свободными существами, несущими в себе достоинство свободы. Предстоит еще воспитание к свободе, что не делается быстро. Старый принцип авторитета, ограничивающий, а иногда и совсем отрицающий свободу, сокрушен, и его нельзя восстановить. Но потом создались новые авторитеты, для которых пытаются найти санкцию в самих массах, но авторитеты эти шатки и более тяжки, более истребительны для свободы, чем прежние. Нужно признать, что свобода скорее аристократична, чем демократична. И вместе с тем свобода делает возможными демократии. Отрицательным в демократиях является то, что они не столько ограничивают власть, сколько переносят ее на новый субъект. В либерализме всегда-то была доля истины, но она была совершенно извращена и искажена. Осуществленный в жизни экономический либерализм стал капиталистической системой «laisser faire, laisser passer» [11]. Наименее благоприятно для свободы якобинское понимание демократии. Противоречия свободы в социальной жизни выражаются еще в том, что, дорожа сохранением данного режима, напр., капитализма, начинают воспринимать неподвижность и неизменность как свободу, а движение и изменение как нарушение свободы. Класс, который в молодости видел свободу в движении и требовал свободы, в старости начинает видеть свободу в неподвижности. Буржуазные классы, склоняющиеся к упадку, видят в социальных реформах, самых скромных, нарушение свободы. И в самом деле, всякое движение и изменение производит перестановки в окружающей среде, которые могут казаться насилием. Это только доказывает, что совершенно несостоятельно статическое понимание свободы. Такая статическая свобода торжествует в status quo, это кесарев принцип. И потому мы имеем такое парадоксальное явление, что реакционеры, враждебные всяким социальным изменениям, могут прикрываться защитой свободы. Против этого нужно утверждать динамическое понимание свободы, свободы творческого движения. Но всегда подстерегает опасность, что во имя свободы начнут отрицать свободу. Диктаторы и тираны, отрицая свободу для других, для себя очень любят свободу и всегда утверждают ее для тех, которые идут за ними и с ними связаны. По-настоящему любит свободу тот, кто утверждает ее для другого. Есть одно мерило, которым можно измерить свободу, это – веротерпимость, явление редкое, если понять ее в глубине. Совершенно неверно отождествление веротерпимости с индифферентным скептицизмом. Нетерпимость обыкновенно связывали с сильными религиозными верованиями и в нетерпимости национальной или революционно-социальной видели перенесение религиозной веры на другие сферы. Крайняя форма нетерпимости есть фанатизм. Люди терпимые представляются тепло-прохладными. Это поверхностное суждение. Фанатизм, т. е. предельная форма нетерпимости, есть утеря внутренней свободы. Фанатика порабощает идея, в которую он верит, она суживает его сознание, вытесняет очень важные человеческие состояния; он перестает внутренно владеть собой. Фанатик не может установить никакой связи между идеей, которой он одержим, и свободой. И это даже в том случае, если он делается одержимым идеей свободы. Нетерпимость, смягченная форма фанатизма, есть всегда также сужение сознания, есть непонимание множественности и индивидуальности жизни. Истина требует свободы, свободы для того, кто открывает истину, и свободы для других. Веротерпимость связана с тем, что истина бесконечна, открывает бесконечный путь, и превращение истины в конечность, что есть нетерпимость и фанатизм, есть в сущности измена истине. Нетерпимые и фанатики обыкновенно бывают страшно ортодоксальны, все равно какие – католики, православные, марксисты, – и в ортодоксальности этой происходит окостенение веры, прекращение движения жизни. Спор означает терпимость. Его не приемлют ортодоксии. Терпимость, которая не будет индифферентизмом, есть движение в бесконечность. И ни один человек не может себя считать обладающим полнотой и завершенностью истины.
В социальной жизни существуют ступени свободы. Свобода должна увеличиваться по мере приближения к духу и уменьшается по мере приближения к материи. Максимальная свобода есть свобода духовной жизни, минимальная свобода есть свобода материальной жизни. Понятно, что нормально должно быть так, ибо дух есть свобода, материя же есть необходимость. Но часто бывают извращения, отрицается свобода мысли и духа и признается очень большая свобода в жизни экономической. Экономика есть работа духа над материей мира, от которой зависит самое существование людей в условиях этого мира. Абсолютная свобода в экономической жизни, т. е. совершенная ее автономия, и была системой «laisser faire, laisser passer», т. е. капиталистической системой. Она ставит в очень тяжелое положение огромные массы человечества. Это делается источником эксплуатации. Поэтому экономическая свобода должна быть ограничена, ограничена во имя свободы же. По мере того, как мы возвышаемся от материальной стороны жизни к ее духовной стороне, свобода должна увеличивать ее. Если иногда возможна диктатура экономическая и политическая, то совершенно недопустима и не может быть оправдана диктатура интеллектуальная и духовная. Когда остро ставится вопрос о «хлебе» (символ экономики) для человеческого общества, то можно признать необходимой экономическую диктатуру. Диктатуру интеллектуальную считают справедливой, потому что без нее, т. е. без навязанного государственной властью известного миросозерцания, не может осуществляться диктатура экономическая. Это и есть тоталитарный строй, который практически всегда означает господство полиции над жизнью народа. Очень труден и драматичен вопрос об отношении двух великих символов в жизни общества: символа «хлеба» и символа «свободы». Когда начинается движение масс в борьбе за «хлеб», то всегда жертвуют «свободой». Духовную и интеллектуальную свободу защищают лишь небольшие культурные слои. К этому присоединяется еще то, что символом «свободы» злоупотребляли для дурных, совсем не освободительных целей. И тем не менее свобода остается величайшей духовной ценностью, большей, чем ценности витальные. Для свободы можно и должно жертвовать жизнью, для жизни не должно жертвовать свободой. Со свободой связано качество жизни, достоинство человека. Нельзя дорожить жизнью, недостойной человека. Трудящиеся массы естественно дорожат материальной стороной жизни, которая их не удовлетворяет и ставит их в зависимое положение. Им кажется и им это внушают, что они борются за экономические блага, которые признают первоосновой жизни, но тем самым они должны бороться за свободу. Недостаток «хлеба» есть также недостаток «свободы». Нерешение вопроса экономического не дает возможности реализовать свободу. В действительности мы видим, что неизбежность социального переустройства общества сопровождается уменьшением свободы, не только экономической и политической, но и интеллектуальной и духовной. Сосредоточенность на материальной стороне жизни, которая наиболее далека от свободы, ведет к тому, что в ней начинают видеть не средства, а цель жизни, творческую духовную жизнь или совсем отрицают, или подчиняют материальной жизни, от нее получают директивы. Борьба за свободу духа может принимать героический характер. Мы должны сохранить веру, что после периода погружения в материальную сторону жизни и торжества материализма начнется период более очищенный и направленный к духовности. Духовность прошлого была иногда слишком прикреплена к материальной жизни, которая почиталась освященной органической жизнью, как бы сотворенной Богом и неизменной. Ныне дух отрывается от этой связанности с органической плотью жизни. Свобода основана не на природе (естественное право), а на духе. Это – период мучительный и трудный, в котором радость жизни ослабевает. Свобода есть главный источник трагизма жизни. Жизнь в божественной необходимости была бы бестрагична. Этот трагизм свободы должен быть принят человеком. Он не имеет права облегчать себя. Легкого решения проблемы свободы не существует. Два великих принципа жизни – свобода и любовь могут вступить в конфликт. Свобода может быть ограничена любовью, любовь ограничена свободой. И это не всегда бывает гармонично. В жизни же социальной происходит столкновение менее чистых принципов. Свобода ограничивается не любовью, а экономикой, которая делается всевластной. Иногда это называется требованием справедливости, но не всегда это можно так назвать. Достижение же монизма можно мыслить лишь эсхатологически.
Глава VII Коммюнотарность, коллективизм и соборность
Слово коллективизм очень часто употребляют, не давая себе и другим отчета в том, что это значит. Обыкновенно коллективизм понимают, как противоположение индивидуализму. Смешение коллективизма и коммюнотарности (общинности) обычно происходит, и не очень любят, когда делается различение: многие с гордостью говорят, что они вступили в коллективную эпоху. Происхождение терминов иногда бывает случайным. По-видимому, слово «коллективизм» было впервые употреблено на Базельском социалистическом конгрессе (1869) в противоположность этатическому социализму марксизма. Потом смысл термина изменился, и самый марксизм начали называть коллективизмом. Сейчас коллективизм почти отождествляется с коммунизмом. Но очень важно установить различие и противоположность между коллективизмом и коммюнотарностью. Хотя коммунизм принимает форму крайнего коллективизма, но само слово коммунизм лучше, чем слово коллективизм. Трудно совершенно изгнать из употребления слово коллективизм, как я хотел бы, потому что им пользуются для обозначения таких реальностей, как, например, армия, нация, класс и пр., реальностей сверхличных. Это коллективные реальности, и о них часто некритически мыслят в духе реализма понятий. Это всегда лишь процесс объективации и социализации, который принимает за первореальности реальности производственные и вторичные. Так называемые «коллективные» реальности должны быть, конечно, признаны реальностями совсем иного порядка, чем реальность человеческой личности или даже реальность животного. «Коллективная» реальность имеет экзистенциальный смысл в человеческой жизни, но она совсем не то значит, что думают, желая подчинить ей человеческую личность. Можно употреблять прилагательное «коллективный», но нельзя употреблять существительное «коллектив». Коллективизм есть das Man. Существуют «коллективные» реальности, но не «коллективы», как реальности. Коллектив есть не реальность, а известная направленность людей и групп, состояние, в котором они находятся. Коллективизм есть ложное состояние сознания, создающее лжереальности. Сознание создает много лжереальностей.
Коллектив не имеет той доли реальности, которую, напр., имеет нация или класс. Мы часто говорим о коллективном сознании, национальном, церковном, классовом и пр., как будто коллективы могут иметь сознание. В действительности это есть выражение метафорическое. Так называемые коллективные реальности не имеют субъективного сознания. Не может быть сознание церкви, нации, класса, но может быть церковное, национальное, классовое сознание людей, группирующихся в этого рода реальности. Это сознание людей объективируется в quasiреальности. Церковь есть бесспорная реальность, и реальность духовно-мистическая, и реальность социально-историческая. Но эта реальность совсем не означает какого-то коллектива, стоящего над личностями, принадлежащими к церкви и обладающими своим сознанием. Церковь имеет огромный экзистенциальный смысл в судьбе людей, но социальная объективация духовной реальности церкви не может претендовать на первореальность, это реальность производная. Главная особенность так называемых коллективных реальностей заключается в том, что они не имеют экзистенциального центра, не могут страдать или радоваться. Способность к страданию есть главный признак подлинной первореальности. Не может страдать церковь, нация, рабочий класс; страдать могут только люди, входящие в эти сверхличные образования. В пределах нашего падшего феноменального мира всегда остается невозможность примирить противоположность между общим и частным. Отсюда получается деспотическая власть общего, «коллективного» над частным, индивидуальным. Нужно всегда помнить, что мы вращаемся в мире наполовину иллюзорном, созданном ложным направлением сознания. Ложь коллективизма заключается в том, что он переносит нравственный экзистенциальный центр, совесть человека и его способность к суждениям и оценкам из глубины человеческой личности в quasiреальность, стоящую над человеком. В коллективизме человек перестает быть высшей ценностью. Этот процесс экстериоризации человеческого сознания в разных формах происходил на протяжении истории. Можно удивляться, что говорят об оригинальности нового коллективного человека, нового коллективного сознания, противоположного всему персональному. Но ведь таково почти все прошлое человечества. С первых времен преобладало коллективное, групповое сознание. Люди мыслили и судили по принадлежности к «коллективу» племени, нации, государства, семьи, сословия, конфессии и пр. У человека, сознававшего себя принадлежащим к дворянскому сословию или к какому-нибудь полку гвардии, сознание было не менее «коллективным», чем у советского человека, сознающего себя принадлежащим к коммунистической родине. Личное мышление и личные суждения всегда были большой редкостью, скорее исключением. Пробуждение личности есть позднее пробуждение. И в так называемый индивидуальный, либеральный, буржуазный период истории люди мыслили безлично, судили по своей принадлежности к буржуазному классу, какой-либо форме индустрии, по обывательскому мнению. Всегда преобладало то, что Хайдеггер называет «das Man», безличное подчинение мнения, «так говорят». Оригинальность современного коллективизма заключается лишь в том, что он хочет произвести универсальную, всеобщую коллективную совесть, мнение, мышление и оценку людей, а не проявление разнообразных группировок. Противоположение индивидуализму совершенно неверное и путаное, потому что совсем не было того индивидуализма, который хотят отрицать. Если в буржуазном капиталистическом обществе мнение людей определялось их собственностью и материальным положением, то это менее всего значит, что это мнение было индивидуальным и персональным. Настоящее социальное освобождение и заключалось бы как раз в возможности индивидуального, личного сознания, мышления, оценки. Тут мы сталкиваемся с решительным противоположением коллективизма и коммюнотарности.
Коллективизм существовал в исторических объективациях религий, отдельно и в православии и в католичестве. На противоположном конце он обнаруживается в коммунизме и фашизме. Коллективизм обнаруживается всегда, когда в общении и соединении людей утверждается авторитарность. Коллективизм не может быть не авторитарным, он не может допустить свободы в общении. Коллективизм всегда значит, что нет настоящей коммюнотарности, общности, что для организации общества нужно создать фиктивную реальность коллектива, от которого исходят руководства и приказы. Когда падают старые авторитеты, когда не верят больше в суверенитет монархий или демократий, то создается авторитет и суверенность коллектива, но это всегда означает внутреннюю неосвобожденность человека и некоммюнотарность людей. В чем принципиальное различие между коммюнотарностью и коллективизмом? Коллективизм означает отношение человека к человеку через его отношение к коллективной реальности или псевдореальности, к объективированному обществу, стоящему над человеком. Коммюнотарность же означает непосредственное отношение человека к человеку через Бога, как внутреннее начало жизни. Коллективизм не хочет знать живого отношения человека к человеку, он знает лишь отношение человека к обществу, к коллективу, который уже определяет отношение человека к человеку. Коллективизм не знает ближнего в евангельском смысле слова, он есть соединение дальних. Коллективизм носит антиперсоналистический характер, он не знает ценности личности. Коммюнотарность же персоналистична, есть общность и общинность личностей. Это разница огромная. Коллективизм есть ложное понимание общения и общности людей. И вот что самое важное: в «коллективистичную» эпоху происходит не только социализация и коллективизация экономической и политической жизни, но и совести, мысли, творчества, экстериоризации совести, т. е. перенесение ее из глубины человека, как духовного существа, вовне, на коллектив, обладающий авторитарными органами. Яркий и жуткий пример этой экстериоризации совести – московский процесс старых коммунистов. Во избежание недоразумений, которыми пользуются для дурных целей, нужно сказать, что помещение совести и органа оценки в духовную глубину человека менее всего означает то, что любят называть «индивидуализмом». Совесть означает не замыкание и изоляцию человека, а размыкание, победу над эгоцентризмом, вхождение в универсальную общность. Но это не имеет никакого смысла для тех, которые отрицают духовную глубину человека и рассматривают его лишь выброшенным вовне.
Современный коллективизм в значительной степени результат безличного, анонимного характера капитализма. Капитализм создал пролетаризованные массы, которые, по несчастью своему, склонны к коллективизму вместо коммюнотарности. Тут мы приходим к русско-православной идее соборности, которую плохо понимают. Идея соборности выражена главным образом Хомяковым, который неразрывно связывал ее со свободой и любовью. Соборность церковная не есть какой-либо авторитет, хотя бы авторитет собора епископов и даже вселенских соборов, а есть пребывание в общении и любви церковного народа и Духа Святого. Внешних признаков для соборности не существует, они существуют для организации в государстве и обществе. Это есть таинственная жизнь Духа. «Мы» в соборности не есть коллектив. Коллективизм не соборность, а сборность. Он носит механически-рациональный характер. Объективация страстей, интересов, ненависти людей и групп может принять форму коллектива. На этой почве может образоваться ложная мистика коллективизма, и она может быть очень динамичной. Главное зло в образовании коллективного сознания и коллективной совести в том, что это только метафорическое, фигуральное выражение, но реальность, скрытая за этими словами, иная. Через коллективное сознание и коллективную совесть, получающие мистический характер, начинает господствовать одна группа людей над другими группами. Коллективизм – орудие господства, и за ним скрыта воля к могуществу. Настоящая тирания может быть оправдана ложной мистикой, хотя слово мистика может не только не употребляться, но даже быть запрещено. Коллективизм выставляет своих вождей, которые могут быть не лучшими. Вожди вообще редко бывают лучшими. Коллективизм всегда утверждается через насилие над человеческой личностью. Коммюнотарность и соборность всегда признают ценность личности и свободу.
Коммюнотарность есть духовное начало людей, общность и братство в отношениях людей, и она совсем не означает какой-то реальности, стоящей над людьми и ими командующей. Коммюнотарность оставляет совесть и оценку в глубине человеческой личности. Совесть одновременно может быть личной и коммюнотарной. Коммюнотарность обозначает качество личной совести, которое не может быть замыканием и изоляцией. Религиозная коммюнотарность и называется соборностью, которая противоположна всякому авторитарному пониманию церкви. Коллективизм же, как было уже сказано, есть отчуждение, экстериоризация сознания и совести, перенесение их на фиктивную реальность коллектива. В то время как соборность означает высокую качественность сознания, коллективизм означает объективирующую консолидацию подсознательного, которое всегда играло огромную роль в исторических проявлениях коллективизма. Объективация церкви в истории сплошь и рядом означала авторитарный коллективизм. На такого рода церковный коллектив переносилась религиозная совесть. Поэтому только и было возможно отрицание свободы религиозной совести. Соборность-коммюнотарность не может означать никакого авторитета, она всегда предполагает свободу. Авторитарен всегда коллективизм. И коллективизм всегда означает отчужденное сознание. Это отчужденное сознание, опирающееся на подсознательные инстинкты, могло создавать разнообразные, исторические авторитарные формы, начиная с теократий и абсолютных монархий до якобинской демократии, тоталитарного коммунизма и фашизма в открытых и прикрытых формах. Государство гораздо легче выражает коллективизм, чем коммюнотарность. Нужно решительно установить, что личность противоположна не общине и общинности, а вещи и коллективу. Коллективизм вещное, объектное понимание коммюнотарности. Коллективизм глубоко противоположен пониманию социализма, как превращения человека из объекта в субъект, он именно имеет тенденцию превращать человеческую личность в объект. Но единственное оправдание социализма заключается в том, что он хочет создать общество, в котором ни один человек не будет объектом и вещью, каждый будет субъектом и личностью. В марксизме есть две тенденции – тенденция к объективации и отчуждению человека в коллектив, и тенденция к субъективизму, к освобождению труда и трудящихся от власти общества, к гуманизации общества. Только вторая тенденция заслуживает сочувствия, с первой же нужно духовно бороться. Именно первая тенденция создает ложную тоталитарную религию, религию авторитарного коллективизма. В истории есть две тенденции – тенденция к социализации и тенденция к индивидуализации. Обе тенденции необходимы. Сегодня и завтра день принадлежит тенденции к социализации. Это соответствует неизбежности переустройства человеческих обществ. Но века грядущие будут принадлежать тенденции к индивидуализации. И духовная почва для этого должна готовиться и ныне. Свобода человека в том, что человек принадлежит к двум планам, к плану Духа и к плану Кесаря. Коллективизм и возникающая на его почве религия хочет свести человеческую жизнь к одному плану, к плану Кесаря. Это означает монизм в условиях нашего мира, т. е. отрицание свободы и рабство. Коллективизм есть однопланность. Он идет не к преображению этого мира в Царство Божие, а к утверждению в границах этого мира Царства Божия без Бога, а значит, и без человека, ибо Бог и человек неразрывно связаны. Утверждение одного человеческого плана есть неизбежное отрицание человека. За этим – роковая диалектика. Все эти мысли о коллективизме и коммюнотарности могут быть конкретизированы при рассмотрении марксизма и его противоречий.
Глава VIII Противоречия марксизма
Можно удивляться роли, которую сейчас играет марксизм. Марксистская доктрина создана сто лет тому назад. Она не соответствует современной социальной действительности и современной философской и научной мысли, во многих частях своих она совершенно устарела. И вместе с тем доктрина эта продолжает быть динамичной, и динамичность эта увеличивается. Особенно устарел марксизм в оценке роли национальности. Две мировые войны показали, что марксовского и интернационального пролетариата не существует. Рабочие всех стран убивали друг друга. Марксисты-коммунисты представляют собой необыкновенное, почти таинственное явление. Они живут в созданном ими фиктивном, фантасмагорическом, мифическом, отвлеченно-геометрическом мире. Они совершенно не видят сложности, многообразия человеческой индивидуальности в действительности. И вместе с тем они очень активны, и им удалось вызвать страх у всего мира и некоторую уверенность, что они победят. Марксистская доктрина очень потеряла в своей теоретической, познавательной ценности, но приобрела большую силу, как демагогическое орудие пропаганды и агитации. Верующие адепты этой доктрины так же точно не принимают спора, как верующие представители религиозных ортодоксий. Всякую критику они принимают, как заговор и наступление злых сил капиталистической реакции. Марксисты-коммунисты по-манихейски делят мир на две части: мир, который они хотят уничтожить, для них управляется злым богом и потому в отношении к нему все средства дозволены. Существует два мира, два лагеря, две веры, две партии. Это военное деление. Никакого многообразия не существует, многообразие есть выдумка и хитрость врага. Также хитрость врага, желающего ослабить борьбу, всякое обращение к общечеловеческой универсальной морали, христианской или гуманистической. Поэтому образуется магический круг, из которого не видно выхода. Необходимо освободиться от эффектов ненависти и страха и глубже вникнуть в марксистскую доктрину, которую очень плохо знают и понимают. Наибольшую трудность для общения мысли создает то, что марксизм не хочет видеть за классом человека, он хочет увидать за каждой мыслью и оценкой человека класс с его классовыми интересами. Мысль является лишь выражением класса, и она сама по себе никакой ценности не имеет. Разум буржуазно-капиталистический и разум пролетарско-коммунистический не один и тот же разум. Между этими разумами не может быть общения, может быть лишь смертельная борьба. Я думаю, что марксизм прав, утверждая изменчивость разума, его зависимость от существования человека, от целостной направленности его сознания. Но это совсем иначе должно быть понято и истолковано. Я много раз писал о том, что структура человеческого сознания не может быть понята статически, что она меняется, суживается или расширяется, и в зависимости от этого человеку раскрываются разные миры. Но это зависит не от экономического положения классов, что имеет лишь второстепенное значение. От классового положения человека зависит не раскрытие истины, а извращение и ложь. Истина открывается, когда человек преодолевает ограниченность своим классовым положением, так как этим классовым положением определяется не весь человек, а лишь некоторые его стороны. Марксистские понятия класса, пролетариата, буржуазии и пр. суть абстрактные мысли, которым в социальной действительности соответствуют сложные явления. Марксизму свойствен схоластический реализм понятий, хотя марксисты, утверждая себя материалистами, не хотят этого признать. Марксистский пролетариат есть построение мысли и лишь в мысли существует. В действительности существуют лишь разнообразные группировки рабочих, которые совсем не имеют единого «пролетарского» сознания. Рабочий класс реально существует, он действительно эксплуатирован, и он ведет борьбу за свои насущные интересы. Но марксистский «пролетариат» есть продукт мифотворческого процесса. Но это совсем не значит, что мифотворческая «идея» пролетариата не может иметь динамического значения в борьбе. Наоборот, мифы гораздо динамичнее реальности, и так всегда было в истории. Абстрактные мысли, принимающие форму мифов, могут перевернуть историю, радикально изменить общество. Все революции были основаны на мифах. На мифах же базировался и консерватизм, идея священной монархии. Даже столь прозаический капитализм базировался на мифе о благостном и сверхразумном естественном порядке и гармонии, проистекающих из борьбы интересов. Марксизм имеет два разных элемента, и один из них является динамическим по преимуществу.
Марксистская философия есть прежде всего философия истории. Но философия истории есть самая динамическая часть философии. И причина этого понятна. Философия истории всегда заключает в себе профетический и мессианский элемент. Постижение смысла истории всегда мессианично и профетично. Этим профетизмом и мессианством проникнута философия истории Гегеля, Маркса, О. Конта. Когда делят историю на три периода и в последнем видят наступление совершенного состояния, то это всегда означает секуляризованный мессианизм. История еще не кончилась, мы находимся в середине исторического процесса, и невозможно научное познание грядущего. Но без этого познания невозможно постичь смысл истории. Только свет, исходящий из невидимого грядущего, дает постижение смысла истории, но свет этот профетический и мессианский. На почве греческой философии философия истории не была возможна, она возможна лишь на иудео-христианской почве, хотя бы это и не сознавалось. Мессианизм может быть несознанным, в нем могут не признаться. Это мы и видим в марксизме, в котором силен мессианский элемент. Не научное сознание в марксизме является источником революционного динамизма, а его мессианское ожидание. Экономический детерминизм не может вызвать революционного энтузиазма и вдохновить к борьбе. Этот энтузиазм вызывается мессианской идеей пролетариата, освобождения человечества. На него переносятся все свойства избранного народа Божьего. Об этом я уже много раз писал. Идея пролетариата, которая совсем не совпадает с пролетариатом эмпирической действительности, есть идея мистико-мессианская. Именно эта идея пролетариата, а не эмпирический пролетариат, должна быть наделена полномочием диктатуры. Это диктатура мессианская. С наукой это ничего общего не имеет. Маркс был замечательным ученым экономистом. Но не этим определяется исключительная роль марксизма в мире. Она определяется религиозно-мессианской стороной марксизма. Маркса нужно понимать в том смысле, что он считал определяемость всей жизни человека экономикой скорее злом прошлого, чем истиной на веки веков. В грядущем человек овладеет экономикой, подчинит ее себе и будет свободен. Скачок из царства необходимости в царство свободы, о котором говорили Маркс и Энгельс, есть мессианский скачок. Неверно чисто детерминистское истолкование марксизма, которое в конце XIX в. было распространено и среди марксистов и среди поклонников марксизма. Такое истолкование во всяком случае совершенно противоречит революционному волюнтаризму коммунистов, для которых мир пластичен, и из него, как из воска, можно лепить какие угодно фигуры. Не случайно Маркс говорил, что до сих пор философы хотели познавать мир, теперь же они должны изменять мир, создавать Новый мир. Но марксизм противоречив и заключает в себе противоположные элементы. Прежде всего постараемся остановиться на вопросе о том, в какой мере Маркс был материалистом.
Материализм Маркса очень спорен. После опубликования Nachinsca Маркса, особенно статьи «Nationala konomie und Philosophie», более выяснились гуманистические, и по сущности идеалистические, истоки Маркса. Маркс вырос из романтической эпохи и из гегельянского идеализма. Он даже в молодости был романтическим поэтом. В его манере писать остались романтические черты: ирония, парадоксы, противоречия. Влияние Гегеля было в нем более глубоким, чем думали марксисты, отошедшие от истоков Маркса. Но в Марксе осталась двойственность. Маркс прежде всего осудит капитализм, как отчуждение человеческой природы. Verdinglichung, превращение рабочего в вещь, он осудил бесчеловечность капиталистического режима. Моральный элемент, который марксистская доктрина совершенно отрицает, был очень силен в Марксе. «Теория прибавочной стоимости», которая опиралась на ошибочную, взятую у Фикардо, трудовую теорию стоимости, носит прежде всего моральный характер, она есть осуждение эксплуатации. Эксплуатация человека человеком, класса классом была для Маркса первородным грехом. Понятие эксплуатации моральное, а не экономическое. Сторонник капиталистического режима, в котором несомненно существует эксплуатация рабочих, мог бы спросить, почему эксплуатация плохая вещь, она может способствовать экономическому развитию, процветанию государств и цивилизации. Эти буржуазные аргументы часто приводились буржуазными идеологами. Но эксплуатация есть прежде всего моральное зло и подлежит моральному осуждению. И марксисты, в противоречии со своей внеморальной теорией, полны пафоса негодования против эксплуататоров. Ужасные ругательства, которыми полна коммунистическая пропаганда, носят характер моральных суждений и вне этих моральных суждений лишены всякого смысла. Но такова одна сторона марксизма, обращенная к свободе человека и моральной ответственности. Есть другая сторона, не менее важная; она связана с экономическим детерминизмом. Капитализм осужден не только потому, что в нем есть моральное зло эксплуатации, но также и потому, что капиталистическая экономика перестала быть продуктивной, мешает дальнейшему развитию производственных сил и исторической необходимостью обречена на смерть. Марксисты твердо верят, что поступательный ход истории сулит им победу. Они осуждают формы социализма, которые не хотят опереться на историческую необходимость. Они получили от Гегеля веру в то, что в историческом процессе есть смысл и что историческая необходимость ведет к мессианскому царству. Трудно сказать, какая сторона марксизма сильнее. Аргументация всегда оказывается смешанной. Следует глубже вникнуть в философию марксизма, которая противоречит во всем существенном в приверженности материализму. Весь положительный пафос Маркса был связан с его верой в то, что человек, социальный человек, овладеет миром, миром необходимости, организует новое общество, прекратит образовавшуюся анархию во имя блага людей, во имя их возрастающей силы. Марксизм был пессимистичным в отношении к прошлому и оптимистичным в отношении к будущему. Маркс был верен идеалистическому тезису Фихте, что субъект создает мир. По Фихте субъект теоретически, в мысли, создает мир; у Маркса же он должен в действительности создать, переделать мир, радикально преобразить его. Совершенно ошибочно истолковывать марксизм в духе объективизма, как это часто любят делать марксисты, желая этим сказать, что история за них. Марксистская философия должна быть определена, как философия praxis, акта, действия, но она дорожит реальностью того материального мира, над которым работает субъект, человек, она восстает против идеализма, где лишь в мысли происходит победа над необходимостью и властью материального мира. Материализм Маркса должен быть понят в умственной атмосфере 40-х годов прошлого века, как реакция против отвлеченного идеализма. Маркс хотел ввести конкретного человека в философское миросозерцание и думал, что он это делает, утверждая материализм, хотя материализм есть абстрактная, наименее конкретная из философий. Умственная атмосфера, в которой возник марксизм, сейчас не существует, и уже потому марксизм, как миросозерцание, устарел.
В своей тезе о Демокрите и Эпикуре Маркс против Демокрита, который был сторонником механического материализма и видел источник движения в толчке извне, и за Эпикура, который был индетерминистом. В первых тезисах о Фейербахе он решительно критикует материалистов прошлого за то, что они стоят на точке зрения объекта и вещи, а не субъекта и человеческой активности. Это тезис совсем не материалистический и скорее напоминает экзистенциальную философию. Маркс постоянно подчеркивает активность человека, т. е. субъекта, его способность изменять так называемый объектный мир, подчинять его себе. Он обличает ошибочность сознания, которое считает человека совершенно зависимым от объективного мира. В этом отношении очень показательно его замечательное учение о фетишизме товаров. Это иллюзорное сознание видит вещную, предметную реальность там, где действует реальный труд человека и отношения людей. Капитал есть не вещь, вне человека находящаяся, а отношение людей в производстве. В нем действует не только объективный процесс, но и активный субъект. Ничто не происходит само собой, самотеком. Нет фатальной необходимости, нет непреложных экономических законов, эти законы имеют лишь преходящее историческое значение. Марксизм имеет тенденцию к созданию экзистенциальной политической экономии, но он не последователен и смешивает два разных начала. Может быть, самое большое противоречие марксизма заключается в том, что он признает телеологию, разумный характер исторического процесса, смысл истории, который должен реализоваться в грядущем обществе. Это совершенно явно взято от Гегеля и было оправдано тем, что в основе истории лежит мировой дух, разум. Но это никак не может быть оправдано материалистическим пониманием истории. Почему материя в порождаемых ею процессах должна привести к торжеству смысла, а не бессмыслицы? На чем основан такого рода оптимизм? Это возможно для марксизма только потому, что в материю вносится разум, смысл, свобода, творческая активность. Но и значит, что марксистская философия не есть материализм, и наименование ее таковой есть явное насилие над терминологией. Уже во всяком случае это скорее гилозоизм, чем материализм, и даже особого рода идеализм. Само слово диалектический материализм, которое есть противоречие в терминах, употребляется для целей пропаганды, а не для философского применения. Диалектики материи не может быть, может быть лишь диалектика разума, духа, сознания. Материя сама по себе не знает смысла, диалектика раскрывает его, она получает его от духа. Советская философия даже придумала слово «самодвижение» для оправдания того, что источником движения является не толчок извне, а внутренне присущая материи свобода. Смешно называть это материализмом. Апофеоз борьбы, экзальтация революционной воли только и возможны при такой не материалистической философии. Но при этом остается и материалистический элемент, который играет главным образом отрицательную роль в борьбе против самостоятельности духовных начал и ценностей. Это во всяком случае монизм, для которого существует лишь один порядок бытия, царство Кесаря, в котором происходит диалектическое движение. При этом легко может происходить абсолютизация социальных форм. Марксистская классификация философских доктрин, особенно развитая Энгельсом, на идеализм, признающий примат сознания над бытием, и материализм, признающий примат бытия над сознанием, совершенно несостоятельна и связана с философской атмосферой 40-х годов прошлого века. Непонятно, почему бытие есть непременно материальное бытие. При такой классификации св. Фома Аквинат должен быть признан материалистом. Да и я сам должен быть причислен к материалистам. Марксистская философия не только противоречива, но и совершенно устарела, в ней есть сектантская затхлость. И это несмотря на то, что у самого Маркса есть положительный и жизненный элемент, особенно в области экономики.
Причина исключительного динамизма и действенности марксизма-коммунизма та, что он носит в себе все черты религии. Научная теория и политическая практика никогда не могли бы играть такой роли. Можно установить следующие религиозные черты марксизма: строгая догматическая система, несмотря на практическую гибкость, разделение на ортодоксию и ересь, неизменяемость философии науки, священное писание Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, которое может быть истолковываемо, но не подвергнуто сомнению; разделение мира на две части – верующих – верных и неверующих – неверных; иерархически организованная коммунистическая церковь с директивами сверху; перенесение совести на высший орган коммунистической партии, на собор; тоталитаризм, свойственный лишь религиям; фанатизм верующих; отлучение и расстрел еретиков; недопущение секуляризации внутри коллектива верующих; признание первородного греха (эксплуатации). Религиозным является и учение о скачке из царства необходимости в царство свободы. Это есть ожидание преображения мира и наступление Царства Божьего. Устарелая марксистская Zusammendruchtheorie, которая утверждает, что положение рабочих становится все хуже и хуже и вся экономика идет к неотвратимым катастрофам, напоминает апокалиптический взрыв этого мира. Эта теория определилась не только наблюдением над реальным экономическим процессом и его анализом, но и эсхатологической настроенностью, ожиданием катаклизма этого мира. Противоречие марксизма в том, что царство свободы, на которое направлены все упования, будет неотвратимым результатом необходимости. Тут очень чувствуется влияние гегелианства. Марксизм понимает свободу, как осознанную необходимость. Это в сущности есть отрицание свободы, которая всегда связана с существованием духовного начала, не детерминированного ни природой, ни обществом. Марксизм как религия есть секуляризованная форма идеи предопределения. Псевдорелигиозный характер носит также разделение истории на две части. До социалистической или коммунистической революции есть лишь введение в историю, после нее только – начало настоящей истории. В основании марксистской религии лежит секуляризованный, неосознанный хилиазм. Вне этого весь пафос марксизма лишен всякого смысла. Марксисты очень сердятся, когда марксистскую доктрину рассматривают, как теологию, но им никогда не удалось опровергнуть это определение. Марксисты очень дорожат наукой и поклоняются науке. Они верят, что настоящая наука, не буржуазная наука, разрешит все вопросы. В этом поклонении науке они принадлежат XIX, а не XX веку. Марксистское мышление очень не критическое, даже враждебное критике. Они так же отворачиваются от критики, как отворачиваются ортодоксальные теологи. Противоречивость марксизма отчасти связана с тем, что он есть не только борьба против капиталистической индустрии, но и жертва его, жертва той власти экономики над человеческой жизнью, которую мы видим в обществах XIX и XX века. В этом марксизм пассивен в отношении той социальной среды, в которой он возник, он не сопротивлялся ей духовно. Поэтому для марксизма новый человек, человек грядущего социального общества, создается фабричным производством. Он дитя жестокой необходимости, а не свободы. Диалектика капиталистического зла должна породить добро, тьма, в которой отчужден и превращен в вещь человек, должна породить свет. Это есть отрицание внутреннего, духовного человека. Это есть крайний антиперсонализм, от которого не спасает коммунистический гуманизм. Все оценки меняются в зависимости от того, все ли определяется экономикой и классом или действуют и духовные, моральные и интеллектуальные силы.
Марксизм в значительной степени хочет быть разоблачением иллюзий сознания, отражающих экономическое рабство человека и классовую структуру общества. Он обличает иллюзии религиозные, метафизические, моральные, эстетические и пр. С этой точки зрения в сущности вся духовная культура прошлого оказывается иллюзией сознания, отражающей экономическую структуру общества. Тут есть формальное сходство с Фрейдом и психоанализом, объяснение человека исключительно снизу, из его низших состояний. Низшее создает высшее, и высшее оказывается иллюзией. Марксизм повсюду склонен видеть не только иллюзии, но и ложь. Подлинной реальностью, подлинной жизнью является борьба человека, социального человека, со стихийными силами природы и общества, т. е. экономика. Все остальное должно носить лишь служебный характер для экономики, в которой видят цели жизни; наука и искусство обслуживают социальное строительство. Маркс был человек высокой культуры, культуры еще иллюзий сознания. Но в последних поклонниках Маркса уровень культуры понижается. Этот уровень становится очень низким в Советской России, где собственно культуры нет, а есть лишь элементарное просвещение, мала и техническая цивилизация. Современное упразднение «иллюзий» сознания, отрицающих первореальность экономики, должно привести к полному крушению духовной культуры. Дух оказывается лишь иллюзией плохо организованной материи. Самое неясное понятие в марксистской доктрине есть понятие «надстройки». Никто не мог с достаточной отчетливостью объяснить, что хотят сказать, когда говорят, что идеология и духовная культура есть «надстройка» над экономикой и классовым строем общества. Это так же неясно и неотчетливо, как и вообще материалистический тезис, что дух эпифеномен материи. Материализм никогда не мог совершенно ясно это выразить и формулировал разными способами, одинаково несостоятельными. Энгельс даже признался в конце концов, что он и Маркс преувеличили значение экономики. Если хотят сказать, что экономика и классовое положение людей влияют на идеологию, на умственную и моральную и духовную жизнь, то это можно вполне признать, не будучи ни марксистом, ни материалистом. Все находится во взаимодействии. Я не вижу никаких трудностей в том, чтобы признать существование буржуазного католичества, протестантства и православия, буржуазной философии и морали, но отсюда не следует делать выводы, что истина духовного творчества лежит в экономике и что не существует духовных ценностей, не зависимых от экономики. Было уже выяснено, что экономика относится к средствам, а не целям жизни, и что экономический материализм основан на смешении условий с порождением ею причиной и целью. Да и сама экономика не есть материя. Понятие «надстройка», которым так злоупотребляют, не выдерживает никакой критики. Остается необъясненным, каким образом материальная реальность переходит в реальность интеллектуального и духовного порядка, каким образом экономика может перейти в познание или нравственную оценку. Можно сказать, что марксизм, как явление интеллектуального порядка, связан с капиталистической экономикой XIX века и без нее не мог бы существовать. Он был реакция – против капиталистической экономики. Но между процессом капиталистического производства и эксплуатацией в нем пролетариата и мышлением Маркса существует бездна, скачок через пропасть. Марксисты с настойчивостью любят повторять, что бытие определяет сознание. Они думают, что это есть материализм, в то время как это еще с большей последовательностью могут утверждать и крайние спиритуалисты. Они придерживаются современно устарелой точки зрения, отождествляя душевную и духовную жизнь сознания. Но главное в том, что они никогда не пробовали объяснить, каким образом материальное бытие может переходить в сознание, в мысль. Над этим билась философская мысль тысячелетия, и ее величайшие представители подавали свой голос не за материализм, который заменялся лишь очень второстепенными, посредственными философами. Догмат же материального бытия, совершенно мертвящий сознание, может быть только верой, но не знанием. Субъекту принадлежит примат над обществом, но сознание субъекта предполагает первоидеи, первосотворенные Богом, которые не перед субъектом, а за ним, в глубине. Марксистам можно сделать одну тут уступку. Если допущение существования классовой истины и добра есть бессмыслица, то вполне можно допустить существование классовой лжи и неправды. Марксизм прав в своей критике капитализма и классовой экономики, в обличении лжи классового сознания. Но Маркс придавал универсальное значение фактам, которые он наблюдал в капиталистических, классовых обществах XIX в., главным образом в Англии. И в этом большое заблуждение. Это привело марксизм к непреодолимым противоречиям.
Прежде всего в марксизме есть одна коренная неясность, связанная с логическим противоречием. Что такое самая марксистская теория? Есть ли она, как и все теории и идеологии, отражение экономической действительности своего времени и происходящей в ней борьбы классов, т. е. «надстройка», подпадающая под власть обычного марксистского объяснения? Или она есть наконец открываемая сущая истина? Во втором случае случилось настоящее чудо: в середине XIX в. впервые открылась настоящая истина об историческом процессе, которая не есть только «надстройка» и отражение экономики. Оба ответа для марксизма трудны. Первый ответ делает марксизм преходящей и относительной теорией, полезной в борьбе классов, но не могущей претендовать на истинность, он уравнивает марксизм со всеми остальными теориями и идеологиями. Второй ответ, признающий марксизм откровением сущей истины, противоречит самой марксистской теории, которая не допускает возможности открытия такого рода истины. Ответ марксистов будет, вероятно, диалектическим оправданием релятивизма. Они скажут, что марксистская теория есть относительная истина, как и все истины, и вместе с тем истина очень полезная в социальной борьбе. Но помимо логической слабости такого ответа, он нисколько не оправдывает и не объясняет исключительного значения марксизма, выделяемого из всех других относительных истин. Совершенно ясно, что эта исключительная роль марксизма объясняется верой и совсем не может претендовать на научное значение. Марксизм-коммунизм – религиозная секта, для которой главное совсем не благосостояние рабочих, а исповедание истинной веры. Существует разительное противоречие между материализмом и логическим реализмом понятий, признающим подлинность реальности общего, например, класс реальнее конкретного человека, идея пролетариата важнее самого пролетариата. Марксисты наивно, не критически принимают объективации первичных реальностей за первичные реальности. Особенной наивностью отличается единственная философская книга Ленина, имевшая полемическую цель. Для него в познании отражаются объективные реальности. Он принимает наивно-реалистическое предположение, которое могло бы быть сделано до возникновения философской критики. Точка зрения Ленина, который даже утверждает абсолютную истину, очень невыгодно отличается от точки зрения Энгельса, который считает, что критерий истины практический, т. е. исповедует философию действия. У Ленина нет даже той идеи, что и истина по преимуществу раскрыта пролетариату. Она была скорее у А. Богданова, который хотел построить чисто социальную философию. Ленин наивный реалист, именно так он понимает материализм. Это находится в полном противоречии с другими сторонами марксизма. Марксизм не знает настоящей гносеологии. В нем вера преобладает над знанием.
Но в марксизме есть моральное противоречие, которое не менее велико, чем противоречие логическое. Марксизм очень дорожит аморальным или внеморальным характером своего учения. Маркс очень не любил этического социализма, он считал реакционным моральное обоснование социализма. И вместе с тем марксисты постоянно производят моральные суждения и особенно осуждения. Все осуждения буржуазии и капиталистов и всех тех, кого называют социал-предателями – а такова очень значительная часть человечества, – носят моралистический характер. Осуждение эксплуататоров носит моральный характер и вне моральных оценок лишено всякого смысла. Самое различение буржуазии и пролетариата носит аксиологический характер, есть различение зла и добра, тьмы и света, почти манихейское деление мира на две части, на царство тьмы и царство света. Революционный марксизм воистину заключает в себе сильный элемент моральной оценки и морального осуждения. Под это моральное осуждение подходит в сущности весь мир, за исключением верных марксистско-коммунистическим верованиям. Совершенно неверно распространенное обвинение марксистов-коммунистов в отрицании морали. Более верно сказать, что у них другая мораль. И с точки зрения этой другой морали они должны быть признаны даже очень моралистами. Марксистская модель двойственна, и в это нужно вникнуть. Марксизм действительно склонен отрицать то, что называют общечеловеческой, универсальной моралью, он отрицает моральное единство человечества. Это вытекает из классовой точки зрения. Марксистская мораль не есть ни христианская мораль, ни мораль гуманистическая в старом смысле. Эту общечеловеческую мораль он считает хитростью господствующих классов, которые хотят ослабить революционную классовую борьбу, ссылаясь на абсолютные моральные нормы. Марксист-революционер (я не говорю о социал-демократе эволюционном и реформаторском) убежден, что он живет в непереносимом мире зла, и в отношении к этому миру зла и тьмы он считает дозволенным все способы борьбы. С дьяволом и его царством нечего церемониться, дьявола нужно истребить. Неверно было бы сказать, что марксисты-революционеры считают все дозволенным, но они считают все дозволенным относительно врага, представляющего царство дьявола, эксплуатации, несправедливости, тьмы и реакции. Относительно же своего царства света, справедливости, прогресса они, наоборот, утверждают старую мораль долга и жертвы. В Советской России наряду с допущением средств, противоречащих христианской и гуманистической морали, утверждается морализм, желание принудительно насадить добродетель. Марксистское моральное сознание раздирается противоречием между отношением к прошлому и настоящему с одной стороны, и будущему. Единого человечества еще нет, создались классы с правами и интересами эксплуататоров и эксплуатируемых, и потому не может быть единой морали. Но в будущем, после социальной революции, когда исчезнут классы, будет единое человечество и единая общечеловеческая мораль. Марксисты не столько отрицают общечеловеческую мораль, сколько относят ее к будущему. И с точки зрения этой грядущей единой общечеловеческой морали они судят прошлое и настоящее, морально судят. Моральное противоречие заключалось в том, что Маркс осудил капиталистический строй с точки зрения общечеловеческой, универсальной морали, осудил его за бесчеловечность, за превращение человека в вещь. Тут Маркс пользуется той самой общечеловеческой моралью, которую склонен отрицать. Свет грядущей общечеловеческой морали падает на оценку настоящего. Марксизм также не может стать по ту сторону логического универсума. Двойственность марксистской морали более всего сказывается в двойственности марксистского гуманизма. Истоки марксизма гуманнее, и гуманизма ищет Советская Россия в процессе реализации марксизма. Но во имя человека человек подавляется, его жизненные возможности суживаются. Процесс гуманизации жизни, особенно в организации социальной, сопровождается процессами дегуманизации. Это связано с тем, что настоящее рассматривается исключительно как средство для будущего. Самоценность человеческой жизни в настоящем отрицается. Сужение марксистского сознания связано было с тем, что произошла исключительная концентрация на борьбу с социальным злом. Человек с трудом вмещает полноту и многообразие жизни, он всегда склонен многое вытеснять. Атеизм Маркса, который как будто бы более несомненен, чем его материализм, был вытеснением очень важных сторон человека, как духовного существа. Маркс шел за Фейербахом, но прибавил новый аргумент против религиозных верований. Он признал их порождением социальной неорганизованности, зависимости человека от стихийных сил природы и общества. Он признал религию опиумом для народа, потому что видел в ней одно из главных препятствий для борьбы за лучший социальный строй. Вина в этом лежала на ложных идеях о Боге, унижавших человека.
Уничтожение иллюзий сознания, к которому стремится марксизм, должно привести не только к понижению уровня духовной культуры, но в пределе и к полному ее исчезновению за ненадобностью. Великая духовная культура прошлого, великие творческие подъемы, великие творческие гении – все это будет признано продуктом эксплуатации в пользу привилегированного культурного слоя, основанного на несправедливости. Вслед за героем Достоевского скажут, и это говорят: «Мы всякого гения задавим в младенчестве». Величайшие подъемы духовного творчества связаны были с признанием существования иного мира, независимо от того, в какой форме это признавалось. Исключительная посюсторонность делает жизнь плоской. Замкнутость в имманентном круге этого мира есть закрепление конечности, закрытие бесконечности. Но творческий акт человеческого духа есть устремление к бесконечности, к трансцендентному, которое парадоксально должно быть признано имманентным. Мне имманентно трансцендентное или трансцендирование. В моем конечном и ограниченном сознании дана устремленность к бесконечному и безграничному. Исключительное признание царства Кесаря есть замыкание в конечном. В пределе это ведет к отрицанию творчества человека. В марксизме есть опасность признания лишь творчества экономического и технического, все должно лишь обслуживать социальное строительство. Марксизм прав, когда он утверждает, что человек может изменить мир и подчинить его себе. Но с другой стороны, марксизм предлагает подчиниться исторической необходимости, даже обоготворить ее. Наиболее непонятен в марксизме этот его безграничный оптимизм в отношении к исторической необходимости, безграничная вера в благостность и осмысленность исторического процесса. Это понятно у Гегеля, у которого действовал мировой разум или дух и определял смысл происходящего. Но почему такое чудо может совершить материя и материальный процесс? И гегелианский исторический оптимизм неприемлем и не оправдан как крайняя форма универсального детерминизма, отрицающего действие человеческой свободы в истории. Еще менее это оправдано в марксизме и противоречит марксистской вере в возможность для человека изменить мир. Марксистский исторический оптимизм есть секуляризованная форма мессианской веры. Такова всегда вера в необходимый прогресс. Истина находится по ту сторону оптимизма и пессимизма. Исторический процесс трагичнее, в нем действует несколько начал. Марксистская оптимистическая вера в благостность исторического процесса есть секуляризованное переживание веры в Промысл. Но и старая вера в Промысл требует переоценок, она связывалась с оптимизмом и бестрагичным взглядом на этот феноменальный мир, подчиненный необходимым каузальным связям. В марксизме есть частичная правда, особенно правда критики, и ее нужно признать. Нужно признать необходимость социальной революции в мире. Можно желать лишь того, чтобы эта революция была менее насильственной и жестокой. Но марксизм в своей исторической форме подвергает опасности царство Духа, которое, впрочем, подвергалось опасности в разных формах в истории. Интеллектуально марксизм совсем не имеет творческого характера. Марксистская мысль очень убогая. Марксизм-коммунизм отрицает разнообразие и создает серую скуку. Марксистская мысль стоит совсем не на уровне самого Маркса. Но это не мешает ей играть очень активную роль, даже скорее помогает. Эта сила марксизма отчасти зависит от слабости христиан, от невыраженности царства Духа, во всем уступающего царству Кесаря.
Глава IX Единство человечества и национализм
В какой мере существует единство человечества? Единство национальное в гораздо большей степени заставляет себя признать, чем единство человечества. Это единство национальное особенно обнаруживается во время войн. Философски это сложный вопрос о реальностях, которые не могут быть признаны личностями. Единое человечество не есть существо, не есть личность высокой иерархической ступени; она не имеет экзистенциального центра, не способна в своей сверхличной реальности к страданию и радости. Но единое человечество не есть только абстракция мысли, оно есть известная ступень реальности в человеческой жизни, высокое качество человека, его всеобъемлющая человечность. Качество национальности зависит от раскрывающейся в ней человечности. В истории человеческой жизни существуют две тенденции: к универсализму и к индивидуализации. Национальность есть ступень индивидуализации в отношении к человечеству и объединения в отношении к человеку. Национальность, как ступень индивидуализации в жизни общества, есть сложное историческое образование; она определима не только кровью, – раса есть зоология, праисторическая материя, – но также языком, не только землей, но прежде всего общей исторической судьбой. Национальность есть индивидуальное качество человека, индивидуальное в отношении человечества и индивидуальное в отношении человека. Самоутверждение национальности может принимать формы национализма, т. е. замкнутости, исключительности, вражды к другим национальностям. Это есть болезнь национальности, она раскрывается особенно в наше время. Национализму хотели противопоставить интернационализм, который есть другая болезнь. Интернационализм есть отвлеченная бедность, есть не конкретное единство человечества, заключающее в себе все ступени национальных индивидуальностей, а абстрактное единство, отрицающее национальные индивидуальности.
Интернационализм был явной ошибкой марксизма, отвергнутой самой жизнью, вращением в абстракциях. Национализму нужно противопоставить универсализм, который совсем не отрицает национальных индивидуализаций, а объемлет их в конкретном единстве. Универсализм есть утверждение богатства в жизни национальной. Все великие народы, имевшие свою идею и свое призвание в мире, в высоких достижениях своей культуры приобретали универсальное значение. Данте, Л. Толстой, Шекспир или Гёте одинаково национальны и универсальны. Соблазны, срывы и искажения в высшей степени свойственны жизни национальной, как свойственны и индивидуальной жизни людей. Таким соблазном и срывом является империализм. Большие национальности, объединенные в большие государства, заболевают волей к могуществу. Империалистическая воля заложена в образовании больших национальных государств. Эта воля к могуществу, империалистическая воля, имеет своим предельным устремлением образование мировых империй. Такими были империи Древнего Востока, Римская империя, империя Карла Великого, империя Византийская, по своей претензии и империя Российская; таков был и замысел Наполеона. Император, в отличие от царей и королей, есть император вселенский, и империя по замыслу есть вселенская империя. Такова ложная и бессмысленная претензия пангерманизма. В империализме находит себе извращенное выражение стремление к мировому объединению, к выражению единства человечества. Достоевский остро чувствовал жажду ко всеобщему соединению и видел вытекающие отсюда соблазны. Национализм малых народов есть проявление изоляции и самодовольства. Национализм больших народов есть империалистическая экспансия. Есть роковая диалектика в национализме больших народов. Индивидуальная ценность национальности выражается прежде всего в ее культуре, а не в государстве. Государство, с которым связывает себя национализм, менее всего оригинально и индивидуально. Все государства очень походят друг на друга в организации войск, полиции, финансов, международной политики. Государственный национализм сплошь и рядом оказывается не национальным. Это видно было по фашизму. Национализм неразрывно связан с государством и гораздо более дорожит государством, часто лишенным всех индивидуальных национальных свойств, чем культурой действительно национальной. Литература и музыка какого-либо народа гораздо более индивидуальна и своеобразна, чем войска и полиция, связанные с интернациональной техникой. Вывод тот, что национальность есть положительная ценность, обогащающая жизнь человечества, без этого представляющего собой абстракцию, национализм же есть злое, эгоистическое самоутверждение и презрение и даже ненависть к другим народам. Национализм порождает шовинизм и ксенофобию, и его нужно решительно отличать от патриотизма. Самое ужасное, что национализм есть один из источников войн.
Эмоциональная жизнь, связанная с национальностью, очень запутанна и сложна. Происходит объективация человеческих эмоций и страстей. Возникновение так называемых коллективных, сверхличных реальностей в значительной степени объясняется этой объективацией, выбрасыванием вовне сильных эмоций, их экстериоризацией. Так создается и национализм, и патриотизм, которые, вопреки Марксу, играют огромную роль в истории. В патриотизме эмоциональная жизнь более непосредственна и природна, и он есть прежде всего обнаружение любви к своей родине, своей земле, своему народу. Патриотизм есть бесспорно эмоциональная ценность, и он не требует рационализации. Полное отсутствие патриотизма ненормальное, дефектное состояние. Национализм менее природен, и есть уже некоторая рационализация эмоциональной жизни. Национализм неразрывно связывает себя с государством, и потому уже он является источником войн. Национализм гораздо более связан с ненавистью к чужому, чем с любовью к своему. Националистические страсти, терзающие мир, не являются непосредственными, первичными страстями, они срастаются с государственными интересами, очень многое вызывается пропагандой. Так называемые корыстные национальные интересы не являются непосредственными эгоистическими интересами, в них происходит уже экстериоризация и объективация эгоистических интересов и страстей, перенесение их на коллективные реальности. То же самое происходит и с интересами классовыми, которые могут быть даже в противоречии с личными, эгоистическими интересами. Человек очень легко делается рабом и жертвой таких коллективных реальностей, которые созданы экстериоризацией его эмоциональных, часто очень эгоистических состояний. Человек часто не только эгоистически защищает интересы, но бескорыстно их защищает. И в бескорыстном он может быть даже хуже, чем в корыстном. Это особенно видно на примере возникновения войн. Национализм играет огромную роль в возникновении войн, он создает атмосферу войны. Но национальность может быть унижена и истреблена в войнах, возникших на почве национальных страстей и интересов, иногда корыстных, иногда бескорыстных. Наиболее интересно возникновение войн, которое всегда предполагает атмосферу безумия. Капиталистический режим обладает способностью порождать войны. Кучка капиталистов может желать возникновения войны для рынков, для нефти и т. д. Эта кучка капиталистов может не только экономически быть раздавлена, но и физически убита не только войной, но и революцией, которую легко вызвать после войны. Личное мужество совсем не вдохновляет войн, затеянных из корыстных интересов. И тем не менее безумие страстей, безумие самих интересов может толкать к войне. Война всегда есть порождение фатума, а не свободы. Если в прошлом война могла быть относительным злом и если война наступательная никогда не может быть оправдана, то война защитительная и освободительная оправдана. Но может наступить эпоха, когда война делается абсолютным злом, злым безумием. Такова наша эпоха, которая во всем определяется двумя мировыми войнами и страхом третьей войны. Поэтому необходимо бороться против национализма и против вырождающегося капитализма. Нужно всячески утверждать федерализм, объединять человечество по ту сторону государств, которые стали самодовлеющей силой, высасывающей кровь народов. Войны привели к невероятному возрастанию силы и роли государства. Социализм стал чудовищно этатическим. Это болезнь эпохи. Сфера государства, сфера войны делаются совершенно автономными и не хотят подчиняться никаким моральным и духовным началам. Действуют автоматически национальное государство и война. Война объявляется не людьми, не народами, а автономно действующей силой войны. И можно удивляться, что безмерные страдания истерзанных народов не вызывают всеобщей забастовки против войны. Это только доказывает, насколько в известные моменты судьба народов определяется безумием и фанатизмом. Государство из средства и функции делается самоцелью и воображаемою реальностью. Нет ничего зловреднее идеи суверенности национальных государств, которой дорожат народы на собственную гибель. Федерация народов предполагает отрицание идеи суверенности национальных государств. Можно предложить замену слова нация словом народ. Необходимо еще прибавить, что если национализм есть отрицательное явление, то расизм есть абсолютная ложь. Только древнееврейский расизм имел смысл, имел религиозную основу, но он может принимать отрицательные формы. Расистский же миф, как его утверждает германская идеология, есть злое порождение воли к могуществу и преобладанию. Он еще во много раз хуже национализма. Можно поражаться, как великие несчастия людей и народов создаются ложной объективацией, отчуждением человеческой природы во внеположенные коллективные лжереальности. Человек живет коллективным сознанием, создаваемыми им мифами, ставшими очень сильными реальностями, управляющими его жизнью. Социальная психопатия гораздо сильнее социальной психологии. Образование фиктивных лжереальностей играет огромную роль в исторической жизни. Абстракция больной мысли порождает миф, миф делается реальностью, переворачивающей историю. Поэтому так сложен вопрос о реальных силах истории. Марксистский реализм тоже имеет дело с абстрактными мыслями, превратившимися в мифы.
Мир разделяется не только на национальности, но и на более широкие образования – мир латинский, англосаксонский, германский, славянский. Эти выражения постоянно употребляются, хотя смысл их не очень ясен. Во всяком случае о расах в научном смысле слова говорить нельзя. Это история мира. Научно самое важное деление – деление на Восток и Запад. Говорят даже о восточном и западном фронте. Самодовольная западная гуманистическая культура склонна признавать свой тип культуры универсальным и единственным, не признает существования разных типов культур, не ищет восполнения другими мирами. Может быть такое же самодовольство и замкнутость Западной Европы, как и самых малых национальностей. Деление мира на Восток и Запад имеет всемирно-историческое значение, и с ним более всего связан вопрос достижения всемирного единства человечества. В христианском средневековом сознании была идея универсального единства, но единство Востока и Запада в этом замысле не достигалось. Восток (говорю сейчас не о русском Востоке) на долгое время выпал из динамизма истории. Динамична была только история народов, захваченных христианством. Но две мировые войны изменяют течение истории. Происходит активное вхождение Востока во всемирную историю. Европейский Запад перестает быть монополистом культуры. Человеческий мир распадается на части, и вместе с тем мы вступаем в универсальную эпоху. Восток и Запад раньше или позже должны прийти к единству, но это происходит через раздоры, через разделения, которые кажутся большими, чем раньше. Национализм не заключает в себе универсальной идеи. Но универсализм всегда заключает в себе мессианизм. Прототипом универсального по своему значению мессианизма является мессианизм древнееврейский. Но все высшие начала претерпевают в истории искажение и деформацию. Это происходит и с русским мессианизмом, который вырождается в империализм и даже в национализм. Мессианская идея Москвы, как Третьего Рима, послужила идейным обоснованием огромного и могущественного государства. Воля к могуществу исказила мессианскую идею. Ни Московская Русь, ни императорская Россия не осуществили Третьего Рима. В основании Советской России тоже лежала мессианская идея, но она также искажена волей к могуществу. Царство Духа всегда принимало форму царства Кесаря. Мессианизм переносился на царство Кесаря, в то время как он должен быть обращен к царству Духа, к царству Божьему. Ставится вопрос, в каком смысле и в какой степени возможен мессианизм христианский, мессианизм после явления Христа – Мессии? Консервативные христиане, обращенные исключительно к прошлому, отрицают возможность христианского мессианизма, как и вообще пророческую сторону христианства. Между тем в христианстве есть мессианское ожидание второго явления Христа в силе и славе, есть мессианское искание царства Божьего, как на небе, так и на земле, возможное ожидание новой эпохи Духа Святого. Самое выявление и воплощение всемирной церкви есть ожидание мессианское. В этом смысл экуменического движения по сближению церквей и конфессий. Вселенская церковь, не знающая деления на Восток и Запад, есть духовная основа единства человечества. И вместе с тем человечество все более и более распадается, на свободу выпущены бесы и демоны, раскрывается хаос. И этот раскрывшийся хаос ведет не к свободе, а к тирании. Победа над национальными стремлениями есть одна из великих задач. Федерация народов, отрицание суверенитета национальных государств – путь к этому. Но это предполагает духовное и социальное изменение человеческих обществ. Но сами по себе политические и социальные выходы бессильны. Духовная революция, которая должна происходить и происходит в мире, глубже и идет дальше, чем революции социальные.
Глава Х О вечном и новом человеке
Самый важный для нас вопрос есть вопрос о человеке. Все от него исходит и к нему возвращается. Говорят о появлении нового человека. Это не ново, это часто уже бывало. Бесспорно, человек находится в процессе развития или регрессирования, он не неподвижен. Можно говорить о новом техническом человеке, о фашистском человеке, о советском или коммунистическом человеке. Также говорили о католическом человеке или человеке протестантском, о ренессансном человеке или человеке романтическом. Много наименований можно давать человеческому типу, но человек менее меняется, чем это кажется по его внешности и его жестам, он часто менял лишь свою одежду, надевал в один период жизни одежду революционера, в другой период одежду реакционера; он может быть классиком и может быть романтиком, не будучи ни тем ни другим в глубине. Идея нового человека, нового Адама, нового рождения есть христианская идея, ее не знал античный мир. Эту идею мир дохристианский знает в форме выбрасывания вовне, на поверхность. Некогда возможность сознания греха, покаяния была возникновением действительно нового человека. Сейчас снова потеряна способность к покаянию. Изменение социального положения, когда богатый делается бедным или бедный делается богатым, само по себе не делает человека внутренне иным. Человек может улучшаться или ухудшаться в пределах своего типа, но это не образует нового человека. Нужно сказать, что политические революции, даже самые радикальные, сравнительно мало меняют человека. Делают большое различие между буржуазным человеком и коммунистическим человеком. Но коммунист, победивший и захвативший власть, может быть внутренне, духовно, до мозга костей буржуа. Духовная буржуазность очень свойственна и социалистам и коммунистам. Она свойственна всем, кто хочет благополучно устроиться на земле, для кого закрыта бесконечность и кто крепко утверждается в конечном. Только новое рождение, рождение духовного человека, который раньше дремал и был задавлен, есть действительно явление нового человека. Изменение, развитие, появление нового человека возможно, как победа над ветхим человеком. Но тайна человеческого существования заключается в том, что развитие предполагает субъекта развития. Нет развития без того, кто и что развивается. Ошибка эволюционной теории XIX века заключалась в том, что она выводила субъект развития из самого развития. Этим она оставалась на поверхности; говорилось о том, как развитие происходит. Существует связь фазисов развития. Человек может очень развиться, но это он, все тот же он развился. Если бы вследствие развития появился совершенно новый субъект, новая личность, то развития не было бы. Личность предполагает соединение изменения и неизменности. Когда в личности происходит не изменение только, но измена себе, то личность разлагается и в конце концов нет изменения. Новый человек, новое в человеке, предполагает, что продолжает существовать человек в своем качестве человечности. Никакое изменение и усовершенствование обезьяны не может привести к человеку. Ницшеанская идея сверхчеловека есть стремление к высоте, измена человеку и человечности. Тогда речь идет о появлении новой породы, новой расы, божественной, демонической или звериной, но не о новом человеке. Новый человек связан с вечным человеком, с вечным в человеке.
За новым человеком скрыт не только вечный человек, Адам Кадмен, но и ветхий человек, ветхий Адам. В глубинном подсознательном слое человека есть все, есть и первобытный человек, он не окончательно преодолен, в нем есть и мир звериный, как есть и вся история. Сознание играет двойную роль, оно и расширяет и суживает, ограничивает. Власть прошлого над человеком остается и в самых радикальных революциях. В революциях действуют старые инстинкты насилия, жестокости и властолюбия. Они обнаруживаются и в бурных реакциях против прошлого. Люди французской революции были людьми старого режима. То же надо сказать и о русской революции. В ней действовали люди, в крови которых было рабство. Террор революции есть старое, а не новое в них. Никакая революция на коротком промежутке времени не может формировать совершенно нового человека, хотя что-то новое с собой несет. Революция есть явление старого режима, она сама по себе не есть новый мир. Самое сильное в революциях есть отрицательная реакция на предшествующий ей режим, ненависть всегда в ней сильнее любви. Менее всего экономика может создать нового человека. Экономика относится к средствам, а не целям жизни. И когда ее делают целью жизни, то происходит деградация человека. Совершенно неверно, когда говорят, что новый советский человек есть человек коллективный и живет в коллективе, а старый интеллигент был индивидуалистом. Борьба коллективизма против индивидуализма представляет собой настоящую мистификацию. Старый интеллигент в преобладающей своей массе тоже жил в коллективе, и суждения его были коллективными. Прошлый человек гораздо более коллективистичен, чем индивидуалистичен. Всегда редки были люди индивидуальной мысли и индивидуальных суждений. Всегда существовало то, что Хайдеггер называет «das Man», что и есть коллективизм, который есть не первореальность, а фиктивное, иллюзорное порождение сознания. Советский человек в период так называемого строительства действительно несет с собой новые черты, очень его отличающие от старой интеллигенции. Старая интеллигенция была революционна по своему типу, она жила в расколе с окружающим миром. Новая советская интеллигенция совсем не революционна, она покорна и послушна. От нее требуют добродетель строительства. Старая интеллигенция жила исключительно грядущим, к которому часто бывало мечтательное отношение. Новая советская интеллигенция живет настоящим. В новом советском человеке происходит не только страшное умаление свободы, но исчезает самый вкус свободы, самое понимание того, что такое свобода. Старые же революционеры до неузнаваемости изменились после того, как они стали победителями и господами. Но это меньше всего означает появление нового человека; это есть возвращение к старому человеку. Совершенно неверно, что старая, левая интеллигенция была неактивна, мягка, раздвоенна. Вся история революционного движения доказывает обратное. Героизм старой революционной интеллигенции, жертвы, ею принесенные, образуют тот кровавый капитал, которым живут большевики. Но появились новые черты, которые нужно признать результатом не самой революции, а войны. Образовался милитаристический тип, которого раньше не было, но который вовсе не есть новый человек. Типы человека много раз видоизменялись в истории. В России за XIX и XX вв. много раз видели претензии появления нового человека, почти каждое десятилетие. И обыкновенно была смена более мягкого типа более жестоким типом: идеалиста 40-х годов – мыслящим реалистом 60-х годов, народника – марксистом, меньшевика – большевиком, большевика-революционера – большевиком-строителем. Это обыкновенно происходило через психологическую реакцию. Но в сущности нового человека не появилось. Наибольшую новизну представляет появление в мире человека технического. Но это есть самое беспокойное явление, и оно проливает свет на возможности рождения нового человека.
Революции глубоко присущи исторической судьбе народной. Можно удивляться, что существуют еще люди, которые идеализируют революции и готовы видеть в грядущих революциях торжество высокого и прекрасного. Революции, все революции, обнаруживают необыкновенную низость человеческой природы многих наряду с героизмом немногих. Революция – дитя рока, а не свободы. И надо понять роковое в революции, чтобы ее понять. Революция в значительной степени есть расплата за грехи прошлого, есть знак того, что не было творческих духовных сил для реформирования общества. Поэтому нельзя ждать от революции явления нового человека. Мститель за зло прошлого не есть новый человек, это еще старый человек. Революция есть слово многозначное, и им страшно злоупотребляют, вкладывая в это слово разный смысл. Если под революцией понимать совершаемые в известный исторический день насилия, убийства, кровопролития, если понимать под ней отмену всех свобод, концентрационные лагеря и пр., то желать революции нельзя и нельзя ждать от нее явления нового человека, можно только при известных условиях видеть в ней роковую необходимость и желать ее смягчения. Если же под революцией понимать радикальное изменение основ человеческого общества и отношений людей, то революцию надо желать и готовить ее. Но идолопоклонство перед революцией есть такая же ложь, как и всякое идолопоклонство. Во всяком случае радикальные и глубокие изменения и улучшения не зависят от степени совершаемых кровавых насилий. Ганди был более революционер, чем Ленин и Сталин, если под революцией понимать явление нового Человека. Явление действительно нового человека, а не изменение лишь одежд предполагает духовное движение и изменение. Без существования внутреннего духовного ядра и творческих процессов, в нем происходящих, никакой новый социальный строй не приведет к новому человеку. Материализм признает лишь внешнее и отрицает внутреннее. Материалисты не понимают даже, о чем говорят, когда говорят о внутренней жизни, о духовной жизни. Они находятся в таком же состоянии, как слепой, который не видит красок и цветов. Корректив, который привносит диалектический материализм к материализму механическому, к демократическому, началу атомных движений вследствие толчка извне, нисколько не помогает. Человек остается существом целиком детерминированным природой и социальной средой. Но в революции есть еще другая сторона, связанная со временем. Революция поет: «du passe faisons table rase». Революционность определяется радикальным уничтожением прошлого. Но это иллюзия революции. Яростное уничтожение прошлого есть как раз прошлое, а не грядущее. Уничтожить можно лишь прогнившее, изолгавшееся и дурное прошлое. Но нельзя уничтожить вечно ценного, подлинного в прошлом. Идеализация прошлого есть такая же ложь, как и идеализация грядущего. Подлинная ценность не зависит от времени, она от вечности. Есть опасность, что новый человек может оказаться выброшенным вовне, отчужденным от самого себя, обращенным исключительно к материальной стороне жизни, к технической цивилизации. Поразительно, что новый человек Советской России может оказаться очень похожим на нового человека столь враждебного ей мира Америки. Такой производственный, технический человек может одинаково явиться и на почве коммунизма и на почве капитализма. Наиболее положительные черты русского человека, обнаружившиеся в революции и войне, необыкновенная жертвенность, выносливость к страданию, дух коммюнотарности – есть черты христианские, выработанные христианством в русском народе, т. е. прошлым.
Коммунистические черты нового человека, порожденные не столько свободой, сколько фатумом, вызывают скорее отрицательную оценку. Новый человек поклоняется идеалу или идолу производительности, превращающему человека в функцию производства, поклоняется силе и успеху, беспощаден к слабым, он движим соревнованием в борьбе и, что самое важное, в нем происходит ослабление и почти уничтожение духовности. Новый человек хочет закрыть в себе бесконечность и укрыться в конечном. Он думает достигнуть этим максимума активности. Новый человек посюсторонен, он отрицает потусторонность. Он гордится больше всего тем, что совершенно свободен от трансцендентности. Это значит, что новый человек хочет окончательно водвориться в царстве Кесаря и окончательно отвергнуть царство Духа. Он монист, и в этом его коренная ложь. Это совсем не новый человек. Это лишь одна из трансформаций ветхого Адама, в нем сочетаются все инстинкты ветхого Адама. Весь мир должен пройти через социальное переустройство, через интенсивное материальное строительство. Процесс этот будет сопровождаться погружением в материальную сторону человеческой жизни, которая требует большей организованности. Но это совсем не будет непременно означать появление нового человека, это может происходить под знаком ветхого Адама. Этот ветхий Адам будет более социальным, он должен будет социализоваться. Этот процесс в разных формах уже происходил в истории человеческих обществ. Буржуа, гражданин царства Кесаря, от этого не исчезнет. От этого произойдет лишь более справедливое и равномерное распределение буржуазности. Та справедливость, которая в этом будет заключена, должна быть принята и приветствована. Но это не будет последним словом. Человек всегда имел склонность принимать средства жизни за цели жизни. Так называемый новый человек эпохи, завтрашнего дня будет иметь склонность окончательно принять средства жизни за цели жизни. Цели жизни для него закроются. Поэтому он будет считать себя коллективным и в этом увидит новизну. Но после необходимого процесса социализации начнется процесс индивидуализации. Если его не будет, то человек как личность исчезнет. Но внутренняя духовность человека не может быть задавлена, как бы на него ни давила жестокая необходимость, духовная жажда в нем пробудится. Мы увидим в следующей главе, какое значение тут имеет проблема смерти, перед которой он поставлен. Вечный человек, человек, обращенный к вечности и бесконечности, есть вечное и бесконечное задание, он есть вместе с тем и вечно новый человек. Вечный человек не есть готовая данность, его нельзя понимать статически. Новый человек, действительно новый человек, есть реализация вечного человека, несущего в себе образ и подобие Божие. В человеке есть божественная основа, Urund, о которой так хорошо говорил Туалер. Поэтому обращенность к грядущему связана с тем, что было вечного в прошлом. Достоинство человека требует, чтобы он не был рабом быстротечного времени. Новый человек может быть только творческим человеком и потому обращенным к грядущему, к небывшему. Это есть ответ на Божий призыв. Но творчество не может быть отождествлено с трудом. Труд есть основа человеческой жизни в этом мире. Труд принадлежит царству необходимости («в поте лица будешь добывать хлеб свой»), он принадлежит царству Кесаря. Достоинство труда должно быть повышено. Отсюда значение, которое приобретают трудящиеся, отсюда необходимость победить эксплуатацию труда, т. е. религиозная правда социализма. Творчество же принадлежит к целям жизни, оно принадлежит к царству свободы, т. е. к царству Духа. Цели жизни не могут быть подчинены средствам жизни, свобода не может быть подчинена необходимости, царство Духа не может быть подчинено царству Кесаря. Отсюда религиозная правда персонализма.
Глава XI Трагедия человеческого существования и утопия. Сфера мистики
Более интеллектуальные марксисты говорят, что они преодолеют и уничтожат трагизм человеческого существования и сделают это без всякого мифа, как делало это христианство. Это, кажется, самая большая претензия марксизма. Марксисты напрасно думают, что они могут обойтись без мифа, они проникнуты мифами, как это уже было сказано. Марксизм не есть социальная утопия, возможен опыт реализации марксизма в социальной жизни. Но марксизм духовная утопия, утопия совершенной рационализации всей человеческой жизни. Он есть духовная утопия, претендующая ответить на все запросы человеческой души именно потому, что он претендует победить трагизм человеческой жизни. Только потому, что человек отчужден от самого себя и выброшен вовне, может явиться претензия победить трагизм смерти, главный трагизм человеческого существования. Это достигают через потерю памяти смертной, через окончательное погружение человека в жизнь коллектива вплоть до уничтожения личного сознания. В действительности верно обратное тому, что говорят марксисты и на что они рассчитывают. Более справедливый и более усовершенствованный социальный строй сделает человеческую жизнь более трагической, не внешне, а внутренне трагической. В прошлом были трагические конфликты, которые зависели от бедности и необеспеченности жизни, от предрассудков сословий и классов, от несправедливого и унизительного социального строя, от отрицания свободы. Эти трагические противоречия преодолимы. Трагические конфликты Антигоны и Креона все-таки связаны с социальным строем и социальными предрассудками, так же как и трагическое положение Ромео и Джульетты, драма Тристана и Изольды. Можно даже было бы сказать, что чистый внутренний трагизм человеческой жизни не был еще выявлен, т. к. в трагизме прошлого слишком большую роль играли конфликты, порожденные социальным строем и связанными с этим строем предрассудками. Если любящий не может соединиться со своей любимой, потому что они принадлежат к разным сословиям или слишком велико различие в их материальном положении и родители ставят непреодолимые препятствия, то это может быть очень трагично, но это не есть выявление внутреннего трагизма человеческой жизни в чистом виде. Чистый внутренний трагизм является в том случае, когда обнаруживается безысходный трагизм любви, коренящийся в самой природе любви, независимо от социальной среды, в которой людям приходится жить. Внешние источники трагических конфликтов могут быть устранены социальным строем, более справедливым и свободным, преодолением предрассудков прошлого. Но тогда-то, именно тогда, человек будет поставлен перед чистым трагизмом жизни. При социалистическом строе трагизм жизни очень увеличится. Социальная борьба, отвлекающая человека от размышлений над своей судьбой и смыслом своего существования, уляжется, и человек будет поставлен перед трагизмом смерти, трагизмом любви, трагизмом конечности всего в этом мире. Весь трагизм жизни происходит от столкновения конечного и бесконечного, временного и вечного, от несоответствия между человеком, как духовным существом, и человеком, как природным существом, живущим в природном мире. Никакой усовершенствованный социальный строй не может этому помочь, наоборот, он выявляет столкновение и несоответствие в более чистом виде. И самый большой, самый предельный трагизм есть трагизм в отношении человека к Богу. Оптимистическая, бестрагичная теория прогресса, которую разделяют и марксисты, представляет собой безысходную в ее предельном противоречии трагедию смертоносного времени, превращающую людей в средство для грядущего. Разрешена она могла бы быть лишь в христианской вере в воскресение.
Утопии играют огромную роль в истории. Их не следует отождествлять с утопическими романами. Утопии могут быть движущей силой и могут оказаться более реальными, чем более разумные и умеренные направления. Большевизм считали утопией, но он оказался реальнее, чем капиталистическая и либеральная демократия. Обыкновенно утопией называют неосуществимое. Это ошибочно. Утопии могут осуществляться и даже в большинстве случаев осуществлялись. Об утопиях судили по изображению совершенного строя Томасом Мором, Кампанеллой, Кабэ и др., по фантазиям Фурье. Но утопии глубоко присущи человеческой природе, она не может даже обойтись без них. Человек, раненный злом окружающего мира, имеет потребность вообразить, вызвать образ совершенного, гармонического строя общественной жизни. Прудон, с одной стороны, Маркс, с другой стороны, должны быть признаны в той же мере утопистами, как Сен-Симон и Фурье. Утопистом был и Ж. Ж. Руссо. Утопии всегда осуществлялись в извращенном виде. Большевики утописты, они одержимы идеей совершенного гармонического строя. Но они также реалисты, и в качестве реалистов они в извращенной форме осуществляют свою утопию. Утопии осуществимы, но под обязательным условием их искажения. Но от искаженной утопии всегда остается и что-нибудь положительное. Но в чем заключается существенное свойство утопии, в чем ее противоречивость и что в утопии недостаточно принимают во внимание? Думаю, что совсем не неосуществимость и видение грядущей гармонии является главным бесспорным свойством утопии. Человек живет в раздробленном мире и мечтает о мире целостном. Целостность есть главный признак утопии. Утопия должна преодолеть раздробленность, осуществить целостность. Утопия всегда тоталитарна, и тоталитаризм всегда утопичен в условиях нашего мира. С этим связан самый главный вопрос – вопрос свободы. В сущности, утопия враждебна свободе. Утопии Томаса Мора, Кампанеллы, Кабэ и др. не оставляют никакого места для свободы. Парадоксально, можно было бы сказать, что свобода, свободная жизнь оказывается самой неосуществимой утопией. Свобода предполагает, что жизнь не окончательно регулирована и рационализирована, что в ней есть зло, которое должно быть побеждено свободным усилием духа. С этими свободными усилиями социальные утопии не считаются, совершенство и гармония осуществляются не через свободу. Мы встречаемся тут с парадоксом исторического движения. В истории действуют иррациональные силы, с которыми мало считаются сторонники разумной политики. Но как раз иррациональные стихийные силы могут принять формы крайней рационализации. Таковы свойства революции. Революция всегда лишь результат взрыва иррациональных сил. И вместе с тем революция всегда стоит под знаком рациональных идей, тоталитарной рациональной доктрины. То, что называется безумием революции, есть рациональное безумие. Миф революции, которым она движется, есть обыкновенно рациональный миф, он связан с верой в торжество социального разума, с рациональной утопией. Эта движущая сила рационального мифа огромна. Как уже было сказано, революция двойственна по своей природе и двойствен революционный миф.
Про революции одинаково нужно сказать, что они осуществимы и неосуществимы. Они настолько осуществимы, что их почти невозможно остановить. И они неосуществимы потому, что в них никогда не реализуется то, к чему стремилось первое поколение делавших ее революционеров. Так всегда происходит. Это не значит, что революции происходят в пустоте и есть лишь кипение страстей. Революция огромный опыт в жизни народной, и она оставляет неизгладимые социальные последствия. Но это совсем не то, о чем мечтали. Революция, удавшаяся революция, есть всегда неудача, как неудачей надо признать все религиозные революции истории, может быть более всего христианство. Поэтому революция должна вызывать двойственное к ней отношение. Ей нельзя поклоняться как богине. Социальная утопия всегда заключает в себе ложь, и вместе с тем человек в своей исторической судьбе не может обойтись без социальных утопий, они являются движущей силой. Революционный миф всегда заключает в себе бессознательный обман, и вместе с тем без революционного мифа нельзя делать революций. Поэтому история заключает в себе непреодолимый трагизм. В чем заключается ошибка социальных утопий? Почему их осуществление – а осуществление их возможно – совсем не есть осуществление того, к чему стремились и за что боролись, принося страшные жертвы? Социальная утопия Маркса, не менее чем Фурье, заключает в себе идею совершенного, гармонического состояния общества, т. е. веру в то, что таким может быть царство Кесаря. Но это и есть коренная ошибка. Совершенным и гармоничным может лишь быть царство Божие, царство Духа и не может быть царство Кесаря, мыслить его можно лишь эсхатологически. Совершенный и гармоничный строй в царстве Духа вместе с тем будет царством свободы. Совершенный же и гармоничный строй в царстве Кесаря будет всегда истреблением свободы, что и значит, что он не может быть осуществлен в пределах этого мира. Необходимо понять с этой точки зрения социализм. Социализм есть социальная утопия, и он опирается на мессианский миф. В этом смысле он никогда не будет осуществлен в пределах этого мира, в царстве Кесаря. Но с другой стороны, социализм есть суровая и прозаическая реальность, есть необходимость в известный час истории. В этом смысле социализм, вне утопии и мифа, есть очень элементарная и маленькая вещь – устранение безобразной эксплуатации и непереносимых классовых неравенств. Поэтому можно сказать, что миф вступает в социальную эпоху. Это должны признать и те, которые не верят в утопию и миф, столь необходимые для борьбы. Социалистическое общество, которое в результате образуется, не будет ни совершенным, ни гармоничным, ни лишенным противоречий. Трагизм человеческой жизни в нем еще возрастет, но станет более внутренним, углубленным. Явятся новые противоречия, совсем иные. Борьба будет продолжаться, но примет иное направление. Именно тогда начнется главная борьба за свободу и за индивидуальность. Царство мещанства окрепнет, и его блага получат всеобщее распространение. И предстоит напряженная духовная борьба против царства мещанства. Борьба за большую социальную справедливость должна происходить независимо от того, во что выльется царство Кесаря, которое не может не быть мещанским царством и не может не ограничивать свободы духа. Окончательная победа царства Духа, которая ни в чем не может быть отрицанием справедливости, предполагает изменение структуры человеческого сознания, т. е. преодоление мира субъективации, т. е. может мыслиться лишь эсхатологически. Но борьба против власти объективации, т. е. власти Кесаря, происходит в пределах царства объективации, от которого человек не может просто отвернуться и уйти. Мы подходим к последней сфере мистики, которой я хочу посвятить специальную книгу. В мире создается ложная форма мистики, которую нужно разоблачать. Наряду с этим существуют старые формы мистики, и пока еще немногие обращены к новой форме мистики, мистики грядущего.
Существует много типов мистики. Слово это можно употреблять в более широком и в более узком смысле. Во Франции сейчас слово мистика употребляется в столь широком смысле, что оно теряет свой старый смысл. Это походит на употребление слова революция. Но во всяком случае сфера мистики означает сферу предельную, выходящую за границы объективного, объективированного мира. В прошлом существовало много типов мистики. Христианство, употреблявшее это слово в более строгом смысле, называло мистикой лишь путь души, который вел к соединению с Богом. Гёррес, написавший в первой половине XIX века многотомное сочинение о мистике, предлагает различать мистику божественную, мистику натуральную и мистику дьявольскую. Я не предполагаю следовать в этом за ним. Можно дать философское определение мистики, объединяющее ее разнообразные формы. Мистикой можно называть духовный опыт, выходящий за пределы противопоставления субъекта и объекта, т. е. не подпадающий власти объективации. В этом существенная разница между мистикой и религией. В религиях духовный опыт объективирован, социализирован и организован. Предлагаемому определению мистики подпадает и лжемистика, которая, по сознанию людей, не допускает существования Бога и Духа. Особенно это надо сказать про мистику коллективизма, которая сейчас играет большую роль. Но самое существенное в мистике коммунизма то, что это мистика мессианского типа. Она выходит за пределы объективированного мира, изучаемого наукой. Она покоится на коллективном опыте, в котором нет противоположения субъекта и объекта. Это характерный тип ложной мистики. Также ложной была старая мистика сакральной монархии, а также более новая, но уже постаревшая мистика демократии якобинско-руссоистского типа. Ложной является также натуралистическая, дионистического типа мистика, которая преодолевает противоположение субъекта и объекта не вверх, а вниз. Это мистика не сверхрациональная, а иррациональная, не сверхсознательная, а бессознательная. В ней есть притяжение жизни бездны. Ложь коллективизма, натурализма или социализма, в которых исчезает личность и образ человека, может порождать разнообразные формы мистики. Подлинная мистика духовна и означает духовный опыт, в котором человек не подавлен объективацией.
Ортодоксальные теологические доктрины объективируют благодать и рассматривают ее как силу, идущую сверху, извне. Но для мистики благодать есть обнаружение из глубины, из первооснов божественного начала в человеке. Объективированная благодать оставляет противоположение субъекта и объекта. Мистический духовный опыт символизируется в организованной религии. И очень важно понять этот символический характер, это понимание ведет к духовному углублению. Экстаз, который считают характерным для некоторых форм мистики, есть выход из разделения на субъект и объект, есть приобщение не к общему и объективированному миру, а к первореальности духовного мира. Экстаз есть всегда выход за пределы того, что порабощает и подавляет, есть выход к свободе. Мистический выход есть духовное состояние и духовный опыт. Мистика, которая не есть углубленная духовность, есть лжемистика. Таковы коллективные формы мистики, космические или социальные. В прошлом можно установить три типа мистики: мистика индивидуального пути души к Богу, это наиболее церковная форма; мистика гностическая, которую не следует отождествлять с гностиками-еретиками первых веков, эта мистика обращена не к индивидуальной только душе, но также к жизни космической и божественной; мистика пророческая и мессианская – это мистика сверхисторическая и эсхатологическая, предела конца. Каждый из этих типов мистики имеет свои границы.
Мир через тьму идет к новой духовности и новой мистике. В ней не может быть аскетического миросозерцания, отворачивания от множественности и индивидуальности мира. В ней аскеза будет лишь методом и средством очищения. Она будет обращена к миру и людям, но объективированный мир она не будет считать подлинным миром. Она одновременно будет более обращена к миру и более свободна от мира. Это процесс духовного углубления. В новой мистике должен быть силен профетически-мессианский элемент, и в ней должен раскрыться подлинный гнозис, который не будет заключать в себе космического прельщения старых гностиков. И все мучительные противоречия и раздвоения найдут себе разрешения в новой мистике, которая глубже религии и должна объединить религии. Это вместе с тем будет победа над ложными формами социальной мистики, победа царства Духа над царством Кесаря.
Русская идея
Глава I
Историческое введение. Определение русского национального типа. Восток и Запад. Противоположности русской души. Прерывность русской истории. Русская религиозность. Москва – Третий Рим. Раскол XVII в. Реформа Петра. Масонство. Эпоха Александра I. Декабристы. Пушкин. Русская интеллигенция. Радищев. Интеллигенция и действительность. Трагическая судьба философии. Влияние немецкого идеализма.
1
Есть очень большая трудность в определении национального типа, народной индивидуальности. Тут невозможно дать строго научного определения. Тайна всякой индивидуальности узнается лишь любовью, и в ней всегда есть что-то непостижимое до конца, до последней глубины. Меня будет интересовать не столько вопрос о том, чем эмпирически была Россия, сколько вопрос о том, что замыслил Творец о России, умопостигаемый образ русского народа, его идея. Тютчев сказал: «Умом России не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить». Для постижения России нужно применить теологальные добродетели веры, надежды и любви. Эмпирически столь многое отталкивает в русской истории. Это так сильно выражено в стихотворении верующего славянофила Хомякова о грехах России. Русский народ есть в высшей степени поляризованный народ, он есть совмещение противоположностей[12]. Им можно очароваться и разочароваться, от него всегда можно ждать неожиданностей, он в высшей степени способен внушать к себе сильную любовь и сильную ненависть. Это народ, вызывающий беспокойство народов Запада. Всякая народная индивидуальность, как и индивидуальность человека, есть микрокосм и потому заключает в себе противоречия, но это бывает в разной степени. По поляризованности и противоречивости русский народ можно сравнить лишь с народом еврейским. И не случайно именно у этих народов сильно мессианское сознание. Противоречивость и сложность русской души, может быть, связана с тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории – Восток и Запад. Русский народ есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет два мира. И всегда в русской душе боролись два начала, восточное и западное.
Есть соответствие между необъятностью, безгранностью, бесконечностью русской земли и русской души, между географией физической и географией душевной. В душе русского народа есть такая же необъятность, безгранность, устремленность в бесконечность, как и в русской равнине. Поэтому русскому народу трудно было овладеть этими огромными пространствами и оформить их. У русского народа была огромная сила стихии и сравнительная слабость формы. Русский народ не был народом культуры по преимуществу, как народы Западной Европы, он был более народом откровений и вдохновений, он не знал меры и легко впадал в крайности. У народов Западной Европы все гораздо более детерминировано и оформлено, все разделено на категории и конечно. Не так у русского народа, как менее детерминированного, как более обращенного к бесконечности и не желающего знать распределения по категориям. В России не было резких социальных граней, не было выраженных классов. Россия никогда не была в западном смысле страной аристократической, как не стала буржуазной. Два противоположных начала легли в основу формации русской души: природная, языческая дионисическая стихия и аскетически-монашеское православие. Можно открыть противоположные свойства в русском народе: деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, вольность; жестокость, склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость; обрядоверие и искание правды; индивидуализм, обостренное сознание личности и безличный коллективизм; национализм, самохвальство и универсализм, всечеловечность; эсхатологически-мессианская религиозность и внешнее благочестие; искание Бога и воинствующее безбожие; смирение и наглость; рабство и бунт. Но никогда русское царство не было буржуазным. В определении характера русского народа и его призвания необходимо делать выбор, который я назову выбором эсхатологическим по конечной цели. Поэтому неизбежен также выбор века, как наиболее характеризующего русскую идею и русское призвание. Таким веком я буду считать XIX в., век мысли и слова и вместе с тем век острого раскола, столь для России характерного, как внутреннего освобождения и напряженных духовных и социальных исканий.
Для русской истории характерна прерывность. В противоположность мнению славянофилов, она менее всего органична. В русской истории есть уже пять периодов, которые дают разные образы. Есть Россия киевская, Россия времен татарского ига, Россия московская, Россия петровская и Россия советская. И возможно, что будет еще новая Россия. Развитие России было катастрофическим. Московский период был самым плохим периодом в русской истории, самым душным, наиболее азиатско-татарским по своему типу, и по недоразумению его идеализировали свободолюбивые славянофилы. Лучше был киевский период и период татарского ига, особенно для церкви, и, уж конечно, был лучше и значительнее дуалистический, раскольничий петербургский период, в котором наиболее раскрылся творческий гений русского народа. Киевская Россия не была замкнута от Запада, была восприимчивее и свободнее, чем Московское царство, в удушливой атмосфере которого угасла даже святость (менее всего святых было в этот период[13]). Особенное значение XIX в. определяется тем, что, после долгого безмыслия, русский народ, наконец, высказал себя в слове и мысли и сделал это в очень тяжелой атмосфере отсутствия свободы. Я говорю о внешней свободе, потому что внутренняя свобода была у нас велика. Как объяснить это долгое отсутствие просвещения в России, у народа очень одаренного и способного к восприятию высшей культуры, как объяснить эту культурную отсталость и даже безграмотность, это отсутствие органических связей с великими культурами прошлого? Высказывалась мысль, что перевод Священного Писания Кириллом и Мефодием на славянский язык был неблагоприятен для развития русской умственной культуры, ибо произошел разрыв с греческим и латинским языком. Церковно-славянский язык стал единственным языком духовенства, т. е. единственной интеллигенции того времени, греческий и латинский языки не были нужны. Не думаю, чтобы этим можно было объяснить отсталость русского просвещения, безмыслие и безмолвие допетровской России. Нужно признать характерным свойством русской истории, что в ней долгое время силы русского народа оставались как бы в потенциальном, не актуализированном состоянии. Русский народ был подавлен огромной тратой сил, которой требовали размеры русского государства. Государство крепло, народ хирел, говорит Ключевский. Нужно было овладеть русскими пространствами и охранять их. Русские мыслители XIX в., размышляя о судьбе и призвании России, постоянно указывали, что эта потенциальность, невыраженность, неактуализированность сил русского народа и есть залог его великого будущего. Верили, что русский народ, наконец, скажет свое слово миру и обнаружит себя. Общепринято мнение, что татарское иго имело роковое влияние на русскую историю и отбросило русский народ назад. Влияние же византийское внутренно подавило русскую мысль и делало ее традиционно консервативной. Необычайный, взрывчатый динамизм русского народа обнаружился в его культурном слое лишь от соприкосновения с Западом и после реформы Петра. Герцен говорил, что на реформу Петра русский народ ответил явлением Пушкина. Мы прибавим: не только Пушкина, но и самих славянофилов, но и Достоевского и Л. Толстого, но и искателей правды, но и возникновением оригинальной русской мысли.
История русского народа одна из самых мучительных историй: борьба с татарскими нашествиями и татарским игом, всегдашняя гипертрофия государства, тоталитарный режим Московского царства, смутная эпоха, раскол, насильственный характер петровской реформы, крепостное право, которое было самой страшной язвой русской жизни, гонения на интеллигенцию, казнь декабристов, жуткий режим прусского юнкера Николая I, безграмотность народной массы, которую держали в тьме из страха, неизбежность революции для разрешения конфликтов и противоречий и ее насильственный и кровавый характер и, наконец, самая страшная в мировой истории война. С Киевской Россией, с Владимиром Святым связаны былины и богатыри. Но рыцарство не развилось на духовной почве православия. В мученичестве св. Бориса и св. Глеба нет героизма, преобладает идея жертвы. Подвиг непротивления – русский подвиг. Опрощение и уничижение – русские черты. Также характерно для русской религиозности юродство – принятие поношения от людей, посмеяние миру, вызов миру. Характерно исчезновение святых князей после перенесения греховной власти на великих князей московских. И не случайно произошло вообще оскудение святости в Московском царстве. Самосжигание, как религиозный подвиг – русское национальное явление, почти неведомое другим народам. То, что называли у нас двоеверием, т. е. соединение православной веры с языческой мифологией и народной поэзией, объясняет многие противоречия в русском народе. В русской стихии всегда сохранялся и сохраняется и доныне дионисический, экстатический элемент. Один поляк сказал мне в разгаре русской революции: Дионизос прошел по русской земле. С этим связана огромная сила русской хоровой песни и пляски. Русские люди склонны к оргиям с хороводами. То же мы видим в народных мистических сектах, например в хлыстовстве. Известна склонность русского народа к разгулу и анархии при потере дисциплины. Русский народ не только был покорен власти, получившей религиозное освящение, но он также породил из своих недр Стеньку Разина, воспетого в народных песнях, и Пугачева. Русские – бегуны и разбойники. И русские – странники, ищущие Божьей правды. Странники отказываются повиноваться властям. Путь земной представлялся русскому народу путем бегства и странничества. Россия всегда была полна мистико-пророческих сект. И в них всегда была жажда преображения жизни. Это было и в жуткой, дионисической секте хлыстов. В духовных стихах была высокая оценка нищенства и бедности. Излюбленная тема их – безвинное страдание. В духовных стихах есть очень большое чувство социальной неправды. Происходит борьба правды и кривды. Но в них чувствуется народный пессимизм. В народном понимании спасения милостыня имеет первостепенное значение. Очень сильна в русском народе религия земли, это заложено в очень глубоком слое русской души. Земля – последняя заступница. Основная категория – материнство. Богородица идет впереди Троицы и почти отождествляется с Троицей. Народ более чувствовал близость Богородицы-Заступницы, чем Христа. Христос – Царь Небесный, земной образ Его мало выражен. Личное воплощение получает только мать-земля. Часто упоминается о Духе Св. Г. Федотов подчеркивает, что в духовных стихах недостает веры в Христа-Искупителя, Христос остается судьей, т. е. народ как бы не видит кенозиса Христа. Народ сам принимает страдание, но как будто бы мало верит в милосердие Христа. Г. Федотов объясняет это роковым влиянием иосифлянства, исказившего образ Христа у русского народа. И русский народ хочет укрыться от страшного Бога Иосифа Волоцкого за матерью-землей, за Богородицей. Образ Христа, образ Бога был подавлен образом земной власти и представлялся по аналогии с ней. Вместе с тем в русской религиозности всегда был силен эсхатологический элемент. Если, с одной стороны, русская народная религиозность связывала божественный и природный мир, то, с другой стороны, апокрифы, книги, имевшие огромное влияние, говорили о грядущем приходе Мессии. Эти разные начала русской религиозности будут сказываться и в мысли XX в.
Иосиф Волоцкой и Нил Сорский являются символическими образами в истории русского христианства. Столкновение их связывают с монастырской собственностью. Иосиф Волоцкой был за собственность монастырей, Нил Сорский – за нестяжательство. Но различие их типов гораздо глубже. Иосиф Волоцкой представитель православия, обосновавшего и освящавшего Московское царство, православия государственного, потом ставшего императорским православием. Он сторонник христианства жестокого, почти садического, властолюбивого, защитник розыска и казни еретиков, враг всякой свободы. Нил Сорский сторонник более духовного, мистического понимания христианства, защитник свободы по понятиям того времени, он не связывал христианство с властью, был противник преследования и истязания еретиков. Нил Сорский – предшественник вольнолюбивого течения русской интеллигенции. Иосиф Волоцкой – роковая фигура не только в истории православия, но и в истории русского царства. Его пробовали канонизировать, но в сознании русского народа он не сохранился, как образ святого. Вместе с Иоанном Грозным его нужно считать главным обоснователем русского самодержавия. Мы тут прикасаемся к двойственности русского мессианского сознания и к его главному срыву. После народа еврейского, русскому народу наиболее свойственна мессианская идея, она проходит через всю русскую историю вплоть до коммунизма. Для истории русского мессианского сознания очень большое значение имеет историософическая идея инока Филофея о Москве, как Третьем Риме. После падения православного Византийского царства, Московское царство осталось единственным православным царством. Русский царь, говорит инок Филофей, «един-то во всей поднебесной христианский царь». «Престол вселенския и апостольския церкви имел представительницей церковь Пресв. Богородицы в богоносном граде Москве, просиявшую вместо Римской и Константинопольской, иже едина во всей вселенной паче солнца светится». Люди Московского царства считали себя избранным народом. Некоторые, как, например, П. Милюков, указывают на славяно-болгарское влияние на московскую идеологию Третьего Рима[14]. Но если и признать болгарское происхождение идеи инока Филофея, то это не меняет значения этой идеи для судьбы русского народа. В чем была двойственность идеи Москвы – Третьего Рима? Миссия России – быть носительницей и хранительницей истинного христианства, православия. Это призвание религиозное. «Русские» определяются «православием». Россия единственное православное царство и в этом смысле царство вселенское, подобно первому и второму Риму. На этой почве происходила острая национализация православной церкви. Православие оказалось русской верой. В духовных стихах Русь – вселенная, русский царь – царь над царями, Иерусалим та же Русь, Русь там, где истина веры. Русское религиозное призвание, призвание исключительное, связывается с силой и величием русского государства, с исключительным значением русского царя. Империалистический соблазн входит в мессианское сознание. Это все та же двойственность, которая была и в древнееврейском мессианизме. Московские цари считали себя преемниками византийских императоров. Преемство доводили до Августа Цезаря. Рюрик оказывался потомком Пруста, брата Цезаря, основавшего Пруссию. Иоанн Грозный, производя себя от Пруста, любил называть себя немцем. Царский венец перешел на Русь. Преемство вело еще дальше, доводило до Навуходоносора. Есть легенда о пересылке Владимиру Мономаху греческим императором Мономахом царских регалий. Из Вавилона регалии на царство достаются православному царю вселенной, так как в Византии было крушение веры и царства. Воображение работало в направлении укрепления воли к могуществу. Мессианско-эсхатологический элемент у инока Филофея ослабляется заботой об осуществлении земного царства. Духовный провал идеи Москвы, как Третьего Рима, был именно в том, что Третий Рим представлялся, как проявление царского могущества, мощи государства, сложился как Московское царство, потом как империя и, наконец, как Третий Интернационал. Царь был признан наместником Бога на земле. Царю принадлежали заботы не только об интересах царства, но и о спасении души. На этом особенно настаивает Иоанн Грозный. Соборы созывались по повелению царей. Поразительно малодушие и угодничество собора 1572 г. Желание царя было законом для архиереев в церковных делах. Божье воздавалось кесарю. Церковь была подчинена государству не только со времен Петра Великого, но и в Московской России. Понимание христианства было рабье. Трудно представить себе большее извращение христианства, чем отвратительный «Домострой». Ив. Аксаков даже отказывался понять, как такую низкую мораль, как мораль «Домостроя», мог породить русский народный характер. Идеология Москвы, как Третьего Рима, способствовала укреплению и могуществу Московского государства, царского самодержавия, а не процветанию церкви, не возрастанию духовной жизни. Христианское призвание русского народа было искажено. Впрочем, то же случилось и с первым и вторым Римом, которые очень мало осуществляли христианство в жизни. Московская Россия шла к расколу, который стал неизбежен при низком уровне просвещения. Московское царство было тоталитарным по своему принципу и стилю. Это была теократия с преобладанием царства над священством. И вместе с тем в этом тоталитарном царстве не было цельности, оно было чревато разнообразными расколами.
Раскол XVII в. имел для всей русской истории гораздо большее значение, чем принято думать. Русские – раскольники, это глубокая черта нашего народного характера. Консерваторам, обращенным к прошлому, XVII век представляется органическим веком русской истории, которому они хотели бы подражать. Этим грешили и славянофилы. Но это историческая иллюзия. В действительности, то был век смуты и раскола. Смутная эпоха, которая потрясла всю русскую жизнь, меняет народную психику. Она надорвала силы России. В ней обнаружилась глубокая социальная вражда, ненависть к боярам в народном слое, которая нашла себе выражение в народной вольнице. Казацкая вольница была очень замечательным явлением в русской истории, она наиболее обнаруживает полярность, противоречивость русского народного характера. С одной стороны, русский народ смиренно помогал образованию деспотического, самодержавного государства. Но, с другой стороны, он убегал от него в вольницу, бунтовал против него. Стенька Разин, характерно русский тип, представитель «варварских казаков», голытьбы. В смутную эпоху было уже явление, сходное с явлением XX в., с эпохой революции. Колонизация была совершена в России вольным казачеством. Ермак подарил русскому государству Сибирь. Но вместе с тем казацкая вольница, в которой было несколько слоев, представляла анархический элемент в русской истории, в противовес государственному абсолютизму и деспотизму. Она показала, что может быть уход из государства, ставшего невыносимым, в вольные поля. В XIX в. русская интеллигенция ушла из государства, по-иному и в других условиях, но также ушла к вольности. Щапов думает, что Стенька Разин был порождением раскола. Так же в жизни религиозной многие секты и ереси были уходом из официальной церковности, в которой был тот же гнет, что и в государстве, и духовная жизнь омертвела. Элемент правды был в сектах и ересях в противоположность неправде государственной церковности. Та же правда была в уходе Л. Толстого. Но наибольшее значение имел наш церковный раскол. С него начинается глубокое раздвоение в русской жизни и русской истории, внутренняя расколотость, которая будет продолжаться до русской революции. И многое тут находит свое объяснение. Это кризис русской мессианской идеи.
Ошибочно думать, как это часто раньше утверждали, что религиозный раскол XVII в. произошел из-за мелочных вопросов обрядоверия, из-за единогласия и многогласия, из-за двуперстия и пр. Бесспорно, немалую роль в нашем расколе играл низкий уровень образования, русский обскурантизм. Обрядоверие занимало слишком большое место в русской церковной жизни. Православная религиозность исторически сложилась в тип храмового благочестия. При низком уровне просвещения это вело к обоготворению исторически относительных и временных обрядовых форм. Максим Грек, который был близок к Нилу Сорскому, обличал невежественное обрядоверие и пал жертвой. Его положение было трагическим в невежественном русском обществе. В Московской России была настоящая боязнь просвещения. Наука вызывала подозрение, как «латинство». Москва не была центром просвещения. Центр был в Киеве. Раскольники были даже грамотнее православных. Патриарх Никон не знал, что русский церковный чин был древнегреческий и потом у греков изменился. Главный герой раскола, протопоп Аввакум, несмотря на некоторые богословские познания, был, конечно, обскурантом. Но вместе с тем это был величайший русский писатель допетровской эпохи. Обскурантское обрядоверие было одним из полюсов русской религиозной жизни, но на другом полюсе было искание Божьей правды, странничество, эсхатологическая устремленность. И в расколе сказалось и то и другое. Тема раскола была темой историософической, связанной с русским мессианским призванием, темой о царстве. В основу раскола легло сомнение в том, что русское царство, Третий Рим, есть истинное православное царство. Раскольники почуяли измену в церкви и государстве, они перестали верить в святость иерархической власти в русском царстве. Сознание богооставленности царства было главным движущим мотивом раскола. Раскольники начали жить в прошлом и будущем, но не в настоящем. Они вдохновлялись социально-апокалиптической утопией. Отсюда на крайних пределах раскола – «нетовщина», явление чисто русское. Раскол был уходом из истории, потому что историей овладел князь этого мира, антихрист, проникший на вершины церкви и государства. Православное царство уходит под землю. Истинное царство есть град Китеж, находящийся под озером. Левое крыло раскола, наиболее интересное, принимает резко апокалиптическую окраску. Отсюда напряженное искание царства правды, противоположного этому нынешнему царству. Так было в народе, так будет в русской революционной интеллигенции XIX в., тоже раскольничьей, тоже уверенной, что злые силы овладели церковью и государством, тоже устремленной к граду Китежу, но при ином сознании, когда «нетовщина» распространилась на самые основы религиозной жизни. Раскольники провозгласили гибель московского православного царства и наступление царства антихриста. Аввакум видит в царе Алексее Михайловиче слугу антихриста. Когда Никон сказал: «Я русский, но вера моя греческая», – он нанес страшный удар идее Москвы, как Третьего Рима. Греческая вера представлялась не православной верой, только русская вера – православная, истинная вера. Истинная вера связана с истинным царством. Истинным царством должно было бы быть русское царство, но этого истинного царства больше нет на поверхности земли. С 1666 г. началось в России царство антихриста. Истинное царство нужно искать в пространстве под землей, во времени – искать в грядущем, окрашенном апокалиптически. Раскол внушал русскому народу ожидание антихриста, и он будет видеть явление антихриста и в Петре Великом, и в Наполеоне, и во многих других образах. Образовались раскольничьи скиты в лесах. Бежали в леса, горы и пустыни от царства антихриста. Стрельцы были раскольники. Вместе с тем раскольники обнаружили огромную способность к общинному устройству и самоуправлению. Народ требовал свободы земского дела, и земское дело начало развиваться помимо государственного дела. Это противоположение общества и государства, столь характерное для нашего XIX в., мало понятно западным людям. Очень еще характерно для русского народа появление самозваных царей из народа и пророков-исцелителей. Самозванство – чисто русское явление. Пугачев мог преуспеть, только выдав себя за Петра III. Протопоп Аввакум верил в свое избранничество и обладание особой благодатью Духа Св., он считал себя святым, целителем. Он говорил: «Небо мое и земля моя, свет мой и вся тварь – Бог мне дал». Пытки и истязания, которые вынес Аввакум, превосходили человеческие силы. Раскол подорвал силы русской церкви, умалил авторитет иерархии и сделал возможной и объяснимой церковную реформу Петра. Но в расколе было два элемента – религиозный и революционный. Значение левого крыла раскола – беспоповства – в том, что он сделал русскую мысль свободной и дерзновенной, отрешенной и обращенной к концу. И обнаружилось необыкновенное свойство русского народа – выносливость к страданию, устремленность к потустороннему, к конечному.
2
Реформа Петра Великого была и совершенно неизбежна, подготовлена предшествующими процессами и вместе с тем насильственна, была революцией сверху. Россия должна была выйти из замкнутого состояния, в которое ее ввергло татарское иго и весь характер Московского царства, азиатского по стилю, и выйти в мировую ширь. Без насильственной реформы Петра, столь во многом мучительной для народа, Россия не могла бы выполнить своей миссии в мировой истории и не могла бы сказать свое слово. Историки, не интересующиеся духовной стороной вопроса, достаточно выяснили, что без реформ Петра самое русское государство не могло бы себя защитить и не могло бы развиваться. Славянофильская точка зрения на реформу Петра не выдерживает критики и совершенно устарела, как и чисто западническая точка зрения, отрицавшая своеобразие русского исторического процесса. При всей замкнутости Московского царства, сношения с Западом начались еще в XV в.[15] И Запад все время боялся усиления Москвы. В Москве существовала немецкая слобода, и немецкое вторжение в Россию началось до Петра. Русская торговля и промышленность в XVII в. были захвачены иностранцами, вначале особенно англичанами и голландцами. Уже в допетровской России были люди, выходившие из тоталитарного строя Московского царства. Таков отщепенец кн. Хворостинин, и таков денационализировавшийся В. Котошихин. Ордын-Нащекин был предшественник Петра. Предшественником же славянофилов был хорват Крижанич. Петр Великий, ненавидевший весь стиль Московского царства и издевавшийся над московскими обычаями, был типичный русак. Только в России мог появиться такой необычайный человек. Русскими чертами в нем были – простота, грубость, нелюбовь к церемониям, условностям, этикету, своеобразный демократизм, любовь к правде и любовь к России. И вместе с тем в нем пробуждалась стихия дикого зверя. В Петре были черты сходства с большевиками. Он и был большевик на троне. Он устраивал шутовские, кощунственные церковные процессии, очень напоминающие большевистскую антирелигиозную пропаганду. Петр секуляризировал русское царство и приобщил его к типу западного просвещенного абсолютизма. Московское царство не осуществило мессианской идеи Москвы – Третьего Рима. Но дело Петра создало пропасть между полицейским абсолютизмом и священным царством. Произошел разрыв между высшими руководящими слоями русского общества и народными массами, в которых сохранились старые религиозные верования и упования. Западные влияния, приведшие к замечательной русской культуре XIX в., не были благоприятны для народа. Возросла сила дворянства, которое стало совсем чуждо народу. Самый стиль жизни дворян-помещиков был непонятен народу. Именно в Петровскую эпоху, в царствование Екатерины II русский народ окончательно подпал под власть крепостного права. Весь петровский период русской истории был борьбой Запада и Востока в русской душе. Петровская императорская Россия не имела единства, не имела своего единого стиля. Но в ней стал возможен необыкновенный динамизм. Историки сейчас признают, что уже XVII век был веком раскола и началом западного образования, началом критической эпохи. Но с Петра мы вступаем окончательно в критическую эпоху. Империя не была органической, и она легла тяжелым гнетом на русскую жизнь. От реформы Петра идет дуализм, столь характерный для судьбы России и русского народа, в такой степени неведомый народам Запада. Если уже Московское царство вызвало религиозные сомнения в русском народе, то эти сомнения очень усилились относительно петровской империи. И вместе с тем неверен распространенный взгляд, что Петр, создавший Св. Синод по немецкому лютеранскому образцу, поработил и ослабил церковь. Вернее сказать, что церковная реформа Петра была уже результатом ослабления церкви, невежества иерархии и потери ее нравственного авторитета. Св. Дмитрий Ростовский, прибывший в Ростов из более культурного юга – в Киеве образовательный уровень был несоизмеримо выше, – поражен грубостью, невежеством и одичанием. Петру приходилось работать и производить реформы в страшной тьме, в атмосфере обскурантизма, он был окружен ворами. Было бы несправедливо во всем винить Петра. Но насильнический характер Петра ранил народную душу. Создалась легенда, что Петр – антихрист. Мы увидим, что интеллигенция, образовавшаяся в результате дела Петра, примет универсализм Петра, его обращенность к Западу и отвергнет империю.
Западная культура в России XVIII в. была поверхностным барским заимствованием и подражанием. Самостоятельная мысль еще не пробудилась. Сначала преобладали у нас французские влияния и была усвоена поверхностная просветительная философия. Западную культуру русские бары XVIII в. усвоили себе в форме плохо переваренного вольтерианства. Этот вольтерианский налет оставался в известной части русского дворянства и весь XIX в., когда у нас появились уже более самостоятельные и глубокие направления мысли. В общем, уровень научного образования в XVIII в. был очень низок. Пропасть же между верхним слоем и народом все возрастала. Умственная опека нашего просвещенного абсолютизма очень мало делала положительного и лишь задерживала пробуждение свободной общественной мысли. Бецкий сказал о помещиках, что они говорят: «Не хочу, чтобы философами были те, кто мне служить должны» [16]. Образование народа считалось вредным и опасным. То же самое думал Победоносцев в конце XIX в. и в начале XX в. Между тем как Петр Великий говорил, что русский народ способен к науке и умственной деятельности, как все народы. Только в XIX в. русские по-настоящему научились мыслить. Наши вольтерианцы не мыслили свободно. Ломоносов был гениальным ученым, предвосхитившим многие открытия XIX и XX вв. в физике и химии, он создал науку физической химии. Но его одиночество среди окружавшей его тьмы было трагическим. Для интересующей нас истории русского самосознания он имел мало значения. Русская литература началась с сатиры, но ничего замечательного не дала.
Масонство было у нас в XVIII в. единственным духовно-общественным движением, значение его было огромно. Первые масонские ложи возникли еще в 1731—1732 гг. Лучшие русские люди были масонами. Первоначальная русская литература имела связь с масонством. Масонство было первой свободной самоорганизацией общества в России, только оно и не было навязано сверху властью. Масон Новиков был главным деятелем русского просвещения XVIII в.[17] Эта широкая просветительная деятельность внушила опасения правительству. Екатерина II была вольтерианка и относилась враждебно к мистицизму масонства. Но потом к этому присоединились политические опасения Екатерины, которая все более склонялась к реакции и даже стала националисткой. Масонские ложи были закрыты в 1783 г. Не Екатерине подобало контролировать православие Новикова. Но на запрос Екатерины митрополит Платон ответил, что он «молит Бога, чтобы во всем мире были христиане таковы, как Новиков». Новиков интересовался, главным образом, нравственной и социальной стороной масонства. Моралистическое направление Новикова было характерно для пробуждения русской мысли. В России нравственный элемент всегда преобладал над интеллектуальным. Для Новикова масонство было исходом «на распутьи между вольтерианством и религией». В XVIII в. в масонских ложах укрывался спиритуализм от исключительного господства просветительного рационализма и материализма. Мистическое масонство было враждебно просветительной философии и энциклопедистам. Новиков относился очень подозрительно к Дидро. Он издавал не только западных мистиков и христианских теософов, но и отцов церкви.
Русские масоны искали истинного христианства. И трогательно видеть, как русские масоны все время хотели проверить, нет ли в масонстве чего-либо враждебного христианству и православию. Сам Новиков думал, что масонство и есть христианство. Он был ближе к английскому масонству. Ему было чуждо увлечение алхимией и магией, оккультными науками. Неудовлетворенность официальной церковностью, в которой ослабела духовность, была одной из причин возникновения мистического масонства в России. Недовольные видимым храмом, они хотели построить невидимый храм. Масонство было у нас стремлением к внутренней церкви, на видимую церковь смотрели, как на переходное состояние. В масонстве произошла формация русской культурной души, оно давало аскетическую дисциплину души, оно вырабатывало нравственный идеал личности. Православие было, конечно, более глубоким влиянием на души русских людей, но в масонстве образовывались культурные души петровской эпохи и противопоставлялись деспотизму власти и обскурантизму. Влияние масонства подготовило у нас и пробуждение философской мысли в 30-е годы, хотя в самом масонстве оригинальных философских мыслей не было. В масонской атмосфере происходило духовное пробуждение. И нужно запомнить имена Новикова, Шварца, И. Лопухина, И. Гамалеи. Наиболее философским масоном был Шварц, он был, может быть, первым в России философствующим человеком. В стороне стоял в XVIII в. украинский философ-теософ Сковорода. Это был замечательный человек, народный мудрец, но он не имел прямого влияния на наши умственные течения XIX в. Шварц имел философское образование. Он в отличие от Новикова интересовался оккультными науками и считал себя розенкрейцером. Русские масоны всегда были очень далеки от радикального иллюминатства Вейсгаупта. Екатерина все путала, может быть, и нарочно, она смешивала мартинистов с иллюминатами. В действительности большая часть русских масонов была монархистами и противниками французской революции. Но масонов мучила социальная несправедливость, и они хотели большего социального равенства. Новиков идеи равенства выводил из Евангелия, а не из естественного права. И. Лопухин, который был сначала под влиянием энциклопедистов и переводил Гольбаха, сжег свой перевод. Он искал очищенного духовного христианства и написал книгу о внутренней церкви. В XVIII в. в русской душе, получившей прививку западной мысли, происходила борьба Сен-Мартена и Вольтера. Сен-Мартен имел огромное влияние у нас в конце XVIII в. и был рано переведен в масонских изданиях. Огромным авторитетом пользовался Я. Бёме, тоже переведенный в масонских изданиях. Интересно, что в начале XIX в., когда у нас было мистическое движение и в культурном слое и в народе, Я. Бёме проник и в народный слой, охваченный духовными исканиями, и его настолько почитали, что даже называли «иже во отцех наших святой Яков Бёме». Переводили у нас также английского последователя Я. Бёме, Портеджа. Из более второстепенных западных мистиков теософического типа переводили Штиллинга и Эккартгаузена, которые были очень популярны. Трагическим моментом в истории масонства XVIII в. был арест Новикова и закрытие его типографии. Новиков был приговорен к пятнадцати годам Шлиссельбургской крепости. Он вышел из нее совершенно разбитым человеком. С гонений на Новикова и на Радищева начался мартиролог русской интеллигенции. О мистической эпохе Александра I и роли масонства нужно сказать отдельно.
Начало XIX в., Александровская эпоха – одна из самых интересных в петербургском периоде русской истории. Это была эпоха мистических течений, масонских лож, интерконфессионального христианства, Библейского Общества, Священного союза и теократических мечтаний, Отечественной войны, декабристов, Пушкина и развития русской поэзии, эпоха русского универсализма, который имел такое определяющее значение для русской духовной культуры XIX в.[18] Тогда формировалась русская душа XIX в., ее эмоциональная жизнь. Интересна была уже самая фигура русского царя. Александра I можно назвать русским интеллигентом на троне. Фигура сложная, раздвоенная, совмещающая противоположности, духовно взволнованная и ищущая. Александр I был связан с масонством и так же, как и масоны, искал истинного и универсального христианства. Он был под влиянием баронессы Крюднёр, молился с квакерами, сочувствовал мистицизму интерконфессионального типа. Глубокой православной основы у него не было. Он в молодости прошел через отрицательное просвещение, ненавидел рабство, сочувствовал республике и французской революции. Лагарп обучил его и внушил ему сочувствие свободе. Внутренняя драма Александра I была связана с тем, что он знал, что готовится убийство его сумасшедшего отца, и не предупредил его. О конце его жизни создалась легенда о том, что он стал странником Федором Кузьмичом, легенда очень русская и очень правдоподобная. Первая половина царствования Александра I была окрашена в цвет свободолюбия и стремления к реформам. Но самодержавный монарх в этот период истории уже не мог оставаться верен этим стремлениям своей молодости, это было психологически невозможно. Деспотические инстинкты, страх перед освободительным движением привели к тому, что Александр отдал Россию во власть Аракчеева, фигуре жуткой и страшной. Романтический русский царь был вдохновителем Священного союза, который, по его идее, должен был быть союзом народов на почве христианского универсализма. Это был замысел социального христианства. Но эта идея не была осуществлена, на практике победил Меттерних, более реальный политик, про которого было сказано, что он превратил союз народов в союз князей против народов. Священный союз стал реакционной силой. Царствование Александра I привело к восстанию декабристов. Было что-то роковое в том, что в это время отвратительные обскуранты Рунич и Магницкий были мистико-идеалистического направления. Роковой была также фигура архимандрита Фотия, представителя «черносотенного» православия, для которого и министр духовных дел, кн. Голицын, был революционером. Более чистым явлением был Лобзин и его «Сионский Вестник». Когда Александру I испуганные реакционеры указывали на опасность масонских лож и освободительных стремлений в части гвардии, то он принужден был сказать, что сам он всему этому сочувствовал и все это подготовлял. Из Александровской эпохи с ее интерконфессиональным христианством, Библейским Обществом, мистической настроенностью вышел и митрополит Филарет, очень талантливый, но двойственный по своей роли.
Мистическое движение в эпоху Александра I было двойственно. С одной стороны, в масонских мистических ложах, окрашенных более или менее мистически, воспитывались декабристы. С другой стороны, мистическое движение принимало обскурантский характер. Двойственность была в самом Библейском Обществе, и эта двойственность воплотилась в фигуре кн. Голицына. Библейское Общество было навязано сверху правительством. Приказано было быть мистиками и интерконфессиональными христианами. Запрещались даже книги в защиту православной церкви. Но когда вышел обратный приказ власти, то Общество мгновенно изменилось и начало говорить то, что нужно было таким людям, как Магницкий. Действительное духовное и освободительное движение было только в очень небольшой группе. Декабристы составляли незначительное меньшинство, не имевшее опоры ни в более широких кругах верхнего слоя дворянства и чиновничества, ни в широких массах, веровавших в религиозное освящение самодержавной власти царя. И они были обречены на гибель. Чацкий был тип декабриста. Но окружен он был Фамусовыми, восклицавшими в ужасе о «франмасонах», и Молчалиными. Необыкновенную честь русскому дворянству делает то, что в своем верхнем аристократическом слое оно создало движение декабристов, первое освободительное движение в России, открывшее революционный век. XIX век будет веком революции. Высший слой русской гвардии, наиболее культурный в то время, проявил большое бескорыстие. Богатые помещики и гвардейские офицеры не могли примириться с тяжелым положением крепостных крестьян и солдат. Огромное значение в возникновении движения имело пребывание русских войск за границей после 12-го года. Многие декабристы были люди умеренные и даже монархисты, хотя и противники монархии самодержавной. Они представляли самый культурный слой русского дворянства. В восстании декабристов участвовали имена русской знати. Некоторые историки указывают, что люди 20-х годов, т. е. как раз участники движения декабристов, были более закалены, менее чувствительны, чем люди 30-х годов. В поколении декабристов было больше цельности и ясности, меньше беспокойства и взволнованности, чем в последующем поколении. Это отчасти объясняется тем, что декабристы были военные, участвовали в войне и за ними стоял положительный факт Отечественной войны. Для последующего поколения была закрыта возможность практической общественной деятельности, и за ними стоял ужас жестоко подавленного восстания декабристов Николаем I. Была огромная разница в атмосфере эпохи Александра I и эпохи Николая I. Русские души подготовлялись в александровскую эпоху. Но творческая мысль пробудилась уже в николаевскую эпоху, и она была обратной стороной, полярно противоположным полюсом политики гнета и мрака. Русская мысль засветилась во тьме. Первым культурным свободолюбивым человеком в России был масон и декабрист, но он не был еще самостоятельно мыслящим. Культурному слою русского дворянства начала XIX в. свойственны были благородство и возвышенность. Декабристы прошли через масонские ложи. Пестель был масон. Н. Тургенев был масоном и даже сочувствовал иллюминатству Вейсгаупта, т. е. самой левой форме масонства. Но масонство не удовлетворяло декабристов, оно казалось слишком консервативным, масоны должны были повиноваться правительству. Масоны не столько требовали уничтожения крепостного права, сколько гуманности. Кроме масонских лож, Россия была покрыта тайными обществами, подготовлявшими политический переворот. Таким первым тайным обществом был «Союз спасения». Были «Союз добродетели», «Союз благоденствия» [19]. Влияние оказывали Радищев, стихи Рылеева. Сочувствовали французской революции и греческому восстанию. Но среди декабристов не было полного единомыслия, были разные течения, более умеренные и более радикальные. Пестель и Южное общество представляли левое, радикальное крыло декабризма. Пестель был сторонник республики через диктатуру, в то время как Северное общество было против диктатуры. Пестеля можно считать первым русским социалистом; социализм его был, конечно, аграрным. Он – предшественник революционных движений в русской интеллигенции. Указывали на влияние на Пестеля «идеолога» Дести де Траси. Декабрист Лунин лично знал Сен-Симона. Для России характерно и очень отличает ее от Запада, что у нас не было и не будет значительной и влиятельной буржуазной идеологии. Русская мысль XIX в. будет социально окрашена. Неудача декабристов приведет к отвлеченному идеализму 30-х и 40-х годов. Русские люди очень мучились от невозможности деятельности. Русский романтизм был в значительной степени результатом этой невозможности активной мысли и деятельности. Развилась восторженная чувствительность. Было увлечение Шиллером, и Достоевский впоследствии будет употреблять имя «Шиллер», как символ «возвышенного и прекрасного». Роковая неудача Пестеля привела к появлению прекрасного мечтательного юноши Станкевича. Одиночество молодежи 30-х годов будет более ужасно, чем одиночество поколения декабристов, и оно приведет к меланхолии[20]. Масоны и декабристы подготовляют появление русской интеллигенции XIX в., которую на Западе плохо понимают, смешивая с тем, что там называют intellectuels. Но сами масоны и декабристы, родовитые русские дворяне, не были еще типичными интеллигентами и имели лишь некоторые черты, предваряющие явление интеллигенции. Не был еще интеллигентом Пушкин, величайшее явление русской творческой гениальности первой трети века, создатель русского языка и русской литературы. Наиболее изумительной чертой Пушкина, определившей характер века, был его универсализм, его всемирная отзывчивость. Без Пушкина невозможны были бы Достоевский и Л. Толстой. Но в нем было что-то ренессанское, и в этом на него не походит вся великая русская литература XIX в., совсем не ренессанская по духу. Элемент ренессанский у нас только и был в эпоху Александра I и в начале XX в. Великие русские писатели XIX в. будут творить не от радостного творческого избытка, а от жажды спасения народа, человечества и всего мира, от печалования и страдания о неправде и рабстве человека. Темы русской литературы будут христианские и тогда, когда в сознании своем русские писатели отступят от христианства. Пушкин, единственный русский писатель ренессанского типа, свидетельствует о том, как всякий народ значительной судьбы есть целый космос и потенциально заключает в себе все. Так, Гёте свидетельствует об этом для германского народа. Поэзия Пушкина, в которой есть райские звуки, ставит очень глубокую тему, прежде всего тему о творчестве. Пушкин утверждал творчество человека, свободу творчества, в то время как на другом полюсе в праве творчества усомнятся Гоголь, Л. Толстой и другие. Но основной русской темой будет не творчество совершенной культуры, а творчество лучшей жизни. Русская литература будет носить моральный характер, более чем все литературы мира, и скрыто-религиозный характер. Моральная проблема сильна уже у Лермонтова. Его поэзия уже не ренессанская. Пушкин был певцом свободы, вольности. Но свобода его более глубокая и независимая от политической злобы дня, чем свобода, к которой будет стремиться русская интеллигенция. К свободе стремился и Лермонтов, но с большим надрывом и раздвоением. Лермонтов, быть может, был самым религиозным из русских поэтов, несмотря на свое богоборчество. Для русской христианской проблематики очень интересно, что в Александровскую эпоху жили величайший русский поэт Пушкин и величайший русский святой Серафим Саровский, которые никогда друг о друге ничего не слышали. Это и есть проблема отношений между гениальностью и святостью, между творчеством и спасением, не разрешенная старым христианским сознанием[21].
3
Русская интеллигенция есть совсем особое, лишь в России существующее, духовно-социальное образование. Интеллигенция не есть социальный класс, и ее существование создает затруднение для марксистских объяснений. Интеллигенция была идеалистическим классом, классом людей, целиком увлеченных идеями и готовых во имя своих идей на тюрьму, каторгу и на казнь. Интеллигенция не могла у нас жить в настоящем, она жила в будущем, а иногда в прошедшем. Невозможность политической активности вела к исповеданию самых крайних социальных учений при самодержавной монархии и крепостном праве. Интеллигенция была русским явлением и имела характерные русские черты, но она чувствовала себя беспочвенной. Беспочвенность может быть национально-русской чертой. Ошибочно считать национальным лишь верность консервативным почвенным началам. Национальной может быть и революционность. Интеллигенция чувствовала свободу от тяжести истории, против которой она восставала. Нужно помнить, что пробуждение русского сознания и русской мысли было восстанием против императорской России. И это верно не только относительно западников, но и относительно славянофилов. Русская интеллигенция обнаружила исключительную способность к идейным увлечениям. Русские были так увлечены Гегелем, Шеллингом, Сен-Симоном, Фурье, Фейербахом, Марксом, как никто никогда не был увлечен на их родине. Русские не скептики, они догматики, у них все приобретает религиозный характер, они плохо понимают относительное. Дарвинизм, который на Западе был биологической гипотезой, у русской интеллигенции приобретает догматический характер, как будто речь шла о спасении для вечной жизни. Материализм был предметом религиозной веры, и противники его в известную эпоху трактовались как враги освобождения народа. В России все расценивалось по категориям ортодоксии и ереси. Увлечение Гегелем носило характер религиозного увлечения, и от гегелевской философии ждали даже разрешения судеб православной церкви. В фаланстеры Фурье верили, как в наступление царства Божьего. Молодые люди объяснялись в любви в терминологии натурфилософии Шеллинга. Те же свойства сказывались в увлечении Гегелем и в увлечении Бюхнером. Достоевский более всего интересовался судьбой русского интеллигента, которого он называет скитальцем петербургского периода русской истории. Он будет раскрывать духовные основы этого скитальчества. Раскол, отщепенство, скитальчество, невозможность примирения с настоящим, устремленность к грядущему, к лучшей, более справедливой жизни – характерные черты интеллигенции. Одиночество Чацкого, беспочвенность Онегина и Печорина – явления, упреждающие появление интеллигенции. Интеллигенция вербуется из разных социальных слоев, она была сначала по преимуществу дворянской, потом разночинной. Лишний человек, кающийся дворянин, потом активный революционер – разные моменты в существовании интеллигенции. В 30-е годы у нас происходил выход из невыносимого настоящего. Это было вместе с тем пробуждением мысли. То, что о. Г. Флоровский неверно называет выходом из истории – «просвещение», утопизм, нигилизм, революционность, – есть также историческое[22]. История не есть только традиция, не есть только охранение. Беспочвенность имеет свою почву, революционность есть движение истории. Когда во вторую половину XIX в. у нас окончательно сформировалась левая интеллигенция, то она приобрела характер, схожий с монашеским орденом. Тут сказалась глубинная православная основа русской души: уход из мира, во зле лежащего, аскеза, способность к жертве и перенесение мученичества. Она защищала себя нетерпимостью и резким разграничением себя с остальным миром. Психологически она – наследие раскола. Только потому она могла выжить при преследованиях. Она жила весь XIX в. в резком конфликте с империей, с государственной властью. В этом конфликте права была интеллигенция. То был диалектический момент в судьбе России. Вынашивалась русская идея, которой империя, в своей воле к могуществу и насилию, изменяла.
Родоначальником русской интеллигенции был Радищев, он предвосхитил и определил ее основные черты. Когда Радищев в своем «Путешествии из Петербурга в Москву» написал слова: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала», – русская интеллигенция родилась. Радищев – самое замечательное явление в России XVIII в. У него можно, конечно, открыть влияние Руссо и учения об естественном праве. Он замечателен не оригинальностью мысли, а оригинальностью своей чувствительности, своим стремлением к правде, к справедливости, к свободе. Он был тяжело ранен неправдой крепостного права, был первым его обличителем, был одним из первых русских народников. Он был многими головами выше окружавшей его среды. Он утверждал верховенство совести. «Если бы закон, – говорит он, – или государь, или какая бы то ни было другая власть на земле принуждали тебя к неправде, к нарушению долга совести, то будь непоколебим. Не бойся ни унижения, ни мучений, ни страданий, ни даже самой смерти». Радищев очень сочувствовал французской революции, но он протестует против отсутствия свободы мысли и печати в разгар французской революции. Он проповедует самоограничение потребностей, призывает утешать бедняков. Радищева можно считать родоначальником радикальных революционных течений в русской интеллигенции. Главное у него не было государства, а благо народа. Судьба его предваряет судьбу революционной интеллигенции: он был приговорен к смертной казни с заменой ссылкой на десять лет в Сибирь. Поистине необыкновенна была восприимчивость и чувствительность русской интеллигенции. Русская мысль всегда будет занята преображением действительности. Познание будет связано с изменением. Русские в своем творческом порыве ищут совершенной жизни, а не только совершенных произведений. Даже русский романтизм стремился не к отрешенности, а к лучшей действительности. Русские искали в западной мысли прежде всего сил для изменения и преображения собственной неприглядной действительности, искали прежде всего ухода из настоящего. Они находили эти силы в немецкой философской мысли и французской социальной мысли. Пушкин, прочитав «Мертвые души», воскликнул: «Боже, как грустна наша Россия!» Это восклицала вся русская интеллигенция, весь XIX в. И она пыталась уйти от непереносимой грусти русской действительности в идеальную действительность. Этой идеальной действительностью была или допетровская Россия, или Запад, или грядущая революция. Русская эмоциональная революционность определялась этой непереносимостью действительности, ее неправдой и уродством. При этом переоценивалось значение самих политических форм. Интеллигенция была поставлена в трагическое положение между империей и народом. Она восстала против империи во имя народа. Россия к XIX в. сложилась в огромное мужицкое царство, скованное крепостным правом, с самодержавным царем во главе, власть которого опиралась не только на военную силу, но также и на религиозные верования народа, с сильной бюрократией, отделившей стеной царя от народа, с крепостническим дворянством, в средней массе своей очень непросвещенным и самодурным, с небольшим культурным слоем, который легко мог быть разорван и раздавлен. Интеллигенция и была раздавлена между двумя силами – силой царской власти и силой народной стихии. Народная стихия представлялась интеллигенции таинственной силой. Она противополагала себя народу, чувствовала свою вину перед народом и хотела служить народу. Тема «интеллигенция и народ» чисто русская тема, мало понятная Западу. Во вторую половину века интеллигенции, настроенной революционно, пришлось вести почти героическое существование, и это страшно спутало ее сознание, отвернуло ее сознание от многих сторон творческой жизни человека, сделало ее более бедной. Народ безмолвствовал и ждал часа, когда он скажет свое слово. Когда этот час настал, то он оказался гонением на интеллигенцию со стороны революции, которую она почти целое столетие готовила.
Русскому народу свойственно философствовать. Русский безграмотный мужик любит ставить вопросы философского характера – о смысле жизни, о Боге, о вечной жизни, о зле и неправде, о том, как осуществить Царство Божье. Щапов, увлеченный естественными науками в соответствии со своей эпохой, особенно подчеркивал, что нашему народному мышлению свойственно реальное, а не гуманистическое направление[23]. Если у нас не развились естественные науки, то вследствие возражений православных. Но все же, по мнению Щапова, в силу реалистического склада русского народа в прошлом, у нас преобладало прикладное, механическое естествознание. У русского человека действительно есть реалистическая складка, есть большие способности к техническим изобретениям, но это вполне соединимо с его духовными исканиями и с любовью философствовать о жизни. Но мнение Щапова, во всяком случае, очень одностороннее. Отчасти оно связано с тем, что в России классическое образование, в отличие от Запада, стало реакционной силой. Сам Щапов был чужд философии. Судьба философии в России мучительна и трагична. Философия постоянно подвергалась гонению, она была на подозрении. Она нашла себе приют, главным образом, в духовных академиях. Голубинский, Кудрявцев, Юркевич с достоинством представляли философию. Но в русском православии произошел перерыв единственной возможной философской традиции. Дошло даже до такого курьеза, что одно время рационалиста и просветителя Вольфа считали наиболее подходящим для православной философии. Поразительно, что философия была под подозрением и подвергалась гонению сначала справа, от русского обскурантизма, а потом и слева, где ее заподозревали в спиритуализме и идеализме, считавшихся реакционными. Шеллингианец Шадо был выслан из России. В николаевскую эпоху одно время профессором философии был назначен невежественный генерал. Обскуранты резко нападали на философский идеализм. В конце концов, в 1850 г. министр народного просвещения, кн. Ширинский-Шихматов, совсем запретил преподавание философии в университетах. Курьезно, что он считал более безопасными естественные науки. Нигилисты 60-х годов с другого конца нападали на философию, видели в ней метафизику, отводящую от реального дела и от долга служения народу. В советский период коммунисты воздвигли гонение на всякую философию, кроме диалектического материализма. Между тем как тема русского нигилизма и русского коммунизма есть также философская тема. Очень важно отметить, что русское мышление имеет склонность к тоталитарным учениям и тоталитарным миросозерцаниям. Только такого рода учения и имели у нас успех. В этом сказывался религиозный склад русского народа. Русская интеллигенция всегда стремилась выработать в себе тоталитарное, целостное миросозерцание, в котором правда-истина будет соединена с правдой-справедливостью. Через тоталитарное мышление она искала совершенной жизни, а не только совершенных произведений философии, науки, искусства. По этому тоталитарному характеру можно даже определить принадлежность к интеллигенции. Многие замечательные ученые-специалисты, как, например, Лобачевский или Менделеев, не могут быть в точном смысле причислены к интеллигенции, как и, наоборот, многие, ничем не ознаменовавшие себя в интеллектуальном труде, к интеллигенции принадлежат. В XVIII в. и в начале XIX в. у нас настоящей философии не было, она находилась в младенческом состоянии[24]. И еще долго у нас по-настоящему не возникнет философской культуры, а будут лишь одинокие мыслители. Мы увидим, что наша философия будет прежде всего философией истории, именно историософическая тема придает ей тоталитарный характер. Настоящее пробуждение философской мысли произошло у нас под влиянием немецкой философии.
Германский идеализм, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель имели определяющее значение для русской мысли. Русская творческая мысль начала раскрываться в атмосфере германского идеализма и романтизма. Поразительна двойственность немецкого влияния в России. В русской государственности проникновение немцев было вредным и фатальным. Но влияние немецкой философии и немецкой духовной культуры было в высшей степени плодотворным. Первыми философами у нас были шеллингианцы, увлеченные натурфилософией и эстетикой. Шеллингианцами были М. Г. Павлов, И. Давыдов, Галич, Велланский. Наиболее интересен и наиболее типичен для русского романтизма был кн. В. Ф. Одоевский[25]. Русские ездили слушать Шеллинга. Шеллинг очень любил русских и верил в русский мессианизм. Интересно, что о Сен-Мартене и Портедже Шеллинг узнал от Одоевского. Шеллинг хорошо знал Чаадаева и высоко его ценил. С Фр. Баадером, очень родственным русской мысли, встречался Шевырев и пропагандировал его в России. В 1823 г. в России возникло Общество любомудрия, которое было первым опытом философского общения. После декабрьского восстания Общество было закрыто. Для любомудров философия была выше религии. Одоевский популяризовал идеи любомудров в беллетристике. Любомудру дорога была не политическая, а духовная свобода. А. Кошелев и И. Киреевский, впоследствии славянофилы, были любомудрами. Шеллингианство не было у нас творческим движением мысли. Самостоятельная философия еще не народилась. Более плодотворно было у нас влияние Шеллинга на религиозную философию начала XX в. Творческое претворение шеллингианства и еще более гегелианства было не у шеллингианцев в собственном смысле, а у славянофилов. В 30-х годах у нас возникло тоже увлечение социальным мистицизмом, но это уже не под влиянием немцев, а французов, главным образом Ламенэ. Весь XIX век будет проникнут стремлением к свободе и социальной правде. В русской философской мысли будут преобладать мотивы религиозные, моральные и социальные.
Есть два преобладающих мифа, которые могут стать динамическими в жизни народов – миф о происхождении и миф о конце. У русских преобладает второй миф – миф эсхатологический. Так можно было определить русскую тему XIX в.: бурное стремление к прогрессу, к революции, к последним результатам мировой цивилизации, к социализму и вместе с тем глубокое и острое сознание пустоты, уродства, бездушия и мещанства всех результатов мирового прогресса, революции, цивилизации и пр. Закончу это историческое введение словами св. Александра Невского, которые можно считать характерными для России и русского народа: «Не в силе Бог, а в правде». Трагедия русского народа в том, что русская власть не была верна этим словам.
Глава II
Проблема философии истории. Россия и Европа. Славянофилы и западники. Вопрос о судьбе России. Сороковые годы. Чаадаев. Печерин. Славянофилы. Киреевский. Аксаков. Хомяков. Письмо Фр. Баадера. Западники. Идеалисты сороковых годов. Грановский. Белинский. Герцен. Дальнейшее развитие славянофильства. Данилевский. Леонтьев. Достоевский.
1
Русская самобытная мысль пробудилась на проблеме историософической. Она глубоко задумалась над тем, что замыслил Творец о России, что есть Россия и какова ее судьба. Русским людям давно уже было свойственно чувство, скорее чувство, чем сознание, что Россия имеет особенную судьбу, что русский народ – народ особенный. Мессианизм почти так же характерен для русского народа, как и для народа еврейского. Может ли Россия пойти своим особым путем, не повторяя всех этапов европейской истории? Весь XIX в. и даже XX в. будут у нас споры о том, каковы пути России, могут ли они быть просто воспроизведением путей Западной Европы. И наша историософическая мысль будет протекать в атмосфере глубокого пессимизма в отношении к прошлому и особенно настоящему России и оптимистической веры и надежды в отношении к будущему. Такова была философия истории Чаадаева. Она была изложена в знаменитом философском письме к Ек. Дм. Панковой в 1829 г., напечатанном в «Телескопе». Это было пробуждением самостоятельной, оригинальной русской мысли. Известны результаты этого пробуждения. Правительство Николая I ответило на эти пробуждения мысли объявлением Чаадаева сумасшедшим. К нему каждую неделю ездил доктор. Ему запрещено было писать, он принужден был умолкнуть. Он потом написал «Апологию сумасшедшего», очень замечательное произведение. Для истории русской мысли, для ее нерегулярности характерно, что первый русский философ истории Чаадаев был лейб-гусарский офицер, а первый оригинальный богослов Хомяков был конно-гвардейский офицер. Пушкин писал о Чаадаеве: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, у нас он офицер гусарский». И еще о нем: «Всегда мудрец, а иногда мечтатель, и ветреной толпы бесстрастный наблюдатель». Герцен характеризовал письмо Чаадаева, «как выстрел, раздавшийся в темную ночь». Вся наша философия истории будет ответом на вопросы в письме Чаадаева. Гершензон характеризовал Чаадаева, как «декабриста, ставшего мистиком» [26]. Особенно интересовала Чаадаева не личность, а общество. Он настаивает на историчности христианства. Он повторял слова молитвы «Adveniat Regnum Tuum». Он ищет Царства Божьего на земле. Он передаст эту тему Вл. Соловьеву, на которого имел несомненное влияние.
Ошибочно думать, что Чаадаев перешел в католичество, как это неверно и относительно Вл. Соловьева. Но он был потрясен и пленен универсализмом католичества и его активной ролью в истории. Православие представлялось ему слишком пассивным и не историчным. Несомненно, некоторое влияние на Чаадаева имели теократические идеи Ж. де Местра и де Бональда, а также философии Шеллинга. Для Западной Европы это были идеи консервативные, для России они казались революционными. Но Чаадаев мыслитель самостоятельный, он не повторяет западные идеи, он их творчески перерабатывает. Разочарование Чаадаева в России и разочарование Герцена в Западе – основные факты для русской темы XIX в. 30-е годы были у нас годами социальных утопий. И для этого десятилетия характерна некоторая экзальтированность. Как выразил Чаадаев свое восстание против русской истории? «Прекрасная вещь – любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное – это любовь к истине». «Не через родину, а через истину ведет путь к небу». «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами». «Теперь мы прежде всего обязаны родине истиной». «Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его». Мысли Чаадаева о русской истории, о прошлом России выражены с глубокой болью, это крик отчаяния человека, любящего свою родину. Вот наиболее замечательные места из его письма: «Мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода». «Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно. Это – естественный результат культуры, всецело основанной на заимствовании и подражании. У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса; каждая наша идея бесследно вытесняет старые». «Мы принадлежим к числу наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок». Чаадаев был потрясен «немотой русских лиц». «Ныне мы составляем пробел в нравственном миропорядке». «Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили». Русское самосознание должно было пройти через это горькое самоотрицание, это был диалектический момент в развитии русской идеи. И сам Чаадаев в «Апологии сумасшедшего» придет к утверждению великой миссии России.
Чаадаев думал, что силы русского народа не были актуализированы в его истории, они остались как бы в потенциальном состоянии. Это он думал и тогда, когда взбунтовался против русской истории. Но оказалось возможным перевернуть его тезис. Он это сделал в «Апологии сумасшедшего». Неактуализированность сил русского народа в прошлом, отсутствие величия в его истории делаются для Чаадаева залогом возможности великого будущего. И тут он высказывает некоторые основные мысли для всей русской мысли XIX в. В России есть преимущество девственности почвы. Ее отсталость дает возможность выбора. Скрытые, потенциальные силы могут себя обнаружить в будущем. «Прошлое уже нам не подвластно, – восклицает Чаадаев, – но будущее зависит от нас». «Воспользуемся же огромным преимуществом, в силу которого мы должны повиноваться только голосу просвещенного разума, сознательной воли». «Может быть, преувеличением было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышла могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина». Чаадаев проникается верой в мистическую миссию России. Россия может еще занять высшее положение в духовной жизни Европы. Во вторую половину своей жизни Чаадаев признает также величие православия. «Сосредоточиваясь, углубляясь, замыкаясь в самом себе, созидался человеческий ум на Востоке; раскидываясь вовне, излучался во все стороны, борясь со всеми препятствиями, развивался он на Западе». И, наконец, Чаадаев высказывает мысль, которая будет основной для всех наших течений XIX в.: «У меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество». Словом, Чаадаев проникается русской мессианской идеей. И это у него соединяется с ожиданием наступления новой эпохи Св. Духа. Характерно русское ожидание, выражающее русский пневмоцентризм. Чаадаев – одна из самых замечательных фигур русского XIX в. Лицо его не было расплывчатым, как лицо многих русских людей, у него был резко очерченный профиль. Это был человек большого ума и больших дарований. Но он, подобно русскому народу, недостаточно себя актуализировал, остался в потенциальном состоянии. Он почти ничего не написал. Западничество Чаадаева, его католические симпатии остаются характерно русскими явлениями. У него была тоска по форме, он восстал против русской неоформленности. Он очень русский человек высшего слоя петровского периода русской истории. Он искал Царства Божьего на земле, ожидая новой эпохи Св. Духа, пришел к вере, что Россия скажет новое слово миру. Все это русская проблематика. Он, правда, искал исторического величия, что не есть характерное русское свойство. Но это есть явление компенсации других русских свойств. Около Чаадаева нужно поставить фигуру Печерина. Этот окончательно перешел в католичество и стал католическим монахом. Он один из первых русских эмигрантов. Он не вынес гнета николаевской эпохи. Парадоксально было то, что он перешел в католичество из либерализма и любви к свободной мысли. В восстании против окружающей действительности он написал стихотворение, в котором есть строки:
Как сладостно отчизну ненавидеть!! И жадно ждать ее уничтоженья.Это мог написать только русский, и притом русский, который, конечно, страстно любит свою родину. Долгий путь католического монашества не убьет в нем тоску по России, которая будет лишь возрастать. Духовно он вернется на родину, но Россию никогда не увидит. Герцен искал свидания с Печериным в его монастыре и рассказал об этом в «Былое и думы». Ответ Печерина на письмо Герцена очень замечателен, в нем есть настоящие прозрения. Он пишет, что грядущая материальная цивилизация приведет к тирании над человеческим духом и в ней некуда будет укрыться. Чаадаев и Печерин представляли у нас религиозное западничество, которое предшествовало самому возникновению западнического и славянофильского направлений. Но у этих религиозных западников были и славянофильские элементы. Печерин верил, что Россия вместе с Соединенными Штатами начнет новый цикл истории. Споры западников и славянофилов заполнят у нас большую часть века. Славянофильские мотивы были уже у Лермонтова. Но он думал, что Россия вся в будущем. Сомнения о Европе у нас возникли под влиянием событий французской революции[27].
Спор славянофилов и западников был спором о судьбе России и ее призвании в мире. Оба направления в своей исторической форме устарели и могут считаться преодоленными, но самая тема остается. В новых формах она вызывает страсти и в XX в. В кружках 40-х годов славянофилы и западники могли еще спорить в одних и тех же салонах. Хомяков, страстный спорщик и сильный диалектик, сражался с Герценом. Про Хомякова Герцен сказал: «Он, как средневековые рыцари, караулившие Богородицу, спал вооруженный». Спорили по целым ночам. Тургенев вспоминает, что когда в разгаре спора кто-то предложил поесть, то Белинский воскликнул: «Мы еще не решили вопроса о существовании Бога, а вы хотите есть!» 40-е годы были эпохой напряженной умственной жизни. Много даров было дано в то время русским. Герцен говорил о западниках и славянофилах того времени: «У нас была одна любовь, но не одинаковая». Он назвал их «двуликим Янусом». И те и другие любили свободу. И те и другие любили Россию, славянофилы, как мать, западники, как дитя. Дети и внуки славянофилов и западников уже разойдутся настолько, что не смогут спорить в одном салоне. Чернышевский еще может сказать о славянофилах: «Они принадлежат к числу образованнейших, благороднейших и даровитейших людей в русском обществе». Но его уже нельзя себе представить в споре с Хомяковым. Люди 40-х годов принадлежали к одному стилю культуры, к тому же обществу культурного дворянства. Один Белинский был исключением, был интеллигентом-разночинцем. Потом произошла резкая дифференциация. Русская философия истории должна была прежде всего решить вопрос о смысле и значении реформы Петра, разрезавшей русскую историю как бы на две части. На этом прежде всего и произошло столкновение. Есть ли исторический путь России тот же, что и Западной Европы, т. е. путь общечеловеческого прогресса и общечеловеческой цивилизации, и особенность России лишь в ее отсталости, или у России особый путь и ее цивилизация принадлежит к другому типу? Западники целиком приняли реформу Петра и будущее России видели в том, чтобы она шла западным путем. Славянофилы верили в особый тип культуры, возникающий на духовной почве православия. Реформа Петра и европеизация петровского периода были изменой России. Славянофилы усвоили себе гегелевскую идею о призвании народов, и то, что Гегель применял к германскому народу, они применяли к русскому народу. Они применяли к русской истории принципы гегелевской философии. К. Аксаков даже говорил, что русский народ специально призван понять философию Гегеля[28]. В то время влияние Гегеля было так велико, что, по мнению Ю. Самарина, судьба православной церкви зависела от судьбы гегелевской философии. Только Хомяков разубедил его в этой отнюдь не православной мысли, и он исправил свою диссертацию под влиянием Хомякова[29]. Уже В. Одоевский резко критиковал Запад, обличал буржуазность Запада, иссякание духа. Шевырев, представлявший как бы консервативное и официальное славянофильство, писал об одряхлении и гниении Запада. Но он был близок к западному мыслителю Фр. Баадеру, обращенному к Востоку. У классических славянофилов не было полного отрицания Запада, и они не говорили о гниении Запада, для этого они были слишком универсалисты. Хомякову принадлежат слова о Западной Европе – «страна святых чудес». Но они построили учение о своеобразии России и ее пути и хотели объяснить причины ее отличия от Запада. Они пытались раскрыть первоосновы западной истории. Построение русской истории славянофилами, главным образом К. Аксаковым, было совершенно фантастично и не выдерживает критики. Славянофилы смешали свой идеал России, свою идеальную утопию совершенного строя с историческим прошлым России. Интересно отметить, что русскую историческую науку разрабатывали, главным образом, западники, а не славянофилы. Но западники делали другого рода ошибку. Они смешивали свой идеал лучшего для России строя жизни с современной им Западной Европой, которая отнюдь не походила на идеальное состояние. И у славянофилов и у западников был мечтательный элемент, они противопоставили свою мечту невыносимой николаевской действительности. В оценке реформы Петра ошибочны были и славянофильская и западническая точки зрения. Славянофилы не поняли неизбежности реформы Петра для самой миссии России в мире, не хотели признать, что лишь в петровскую эпоху стали возможны в России мысль и слово, и мысль самих славянофилов, стала возможна и великая русская литература. Западники не поняли своеобразия России, не хотели признать болезненности реформы Петра, не видели особенности России. Славянофилы были у нас первыми народниками, но народниками на религиозной почве. Славянофилы, как и западники, любили свободу и одинаково не видели ее в окружающей действительности.
Славянофилы стремились к органичности и целостности. Самая идея органичности взята ими у немецких романтиков. Органичность была их идеалом совершенной жизни. Но они проецировали эту идеальную органичность в историческое прошлое, в допетровскую эпоху, в петровскую эпоху они никак не могли ее увидеть. Сейчас можно удивляться идеализации Московской России славянофилами, она ведь ни в чем не походила на то, что любили славянофилы, в ней не было свободы, любви, просвещенности. У Хомякова была необычайная любовь к свободе, с которой он связывал органичность. Но где же найти свободу в Московской России? Для Хомякова церковь есть сфера свободы. Была ли церковь Московской России церковно свободна? Целостность и органичность России славянофилы противополагают раздвоенности и рассеченности Западной Европы. Они борются с западным рационализмом, в котором видят источник всех зол. Этот рационализм они возводят к католической схоластике. На Западе все механизировано и рационализировано. Рационалистическому рассечению противополагается целостная жизнь духа. Борьба против западного рационализма была уже свойственна немецким романтикам, Фр. Шлегель говорил о Франции и Англии, Западе для Германии, то же, что славянофилы говорили о Западе, включая в него и Германию. Но все-таки Ив. Киреевскому в замечательной статье «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России» удалось формулировать типичные черты различия России и Европы, и это несмотря на ошибочность славянофильской концепции русской истории. Самое противоположение существует и внутри Западной Европы, например противоположение религиозной культуры и безбожной цивилизации. Но тип русского мышления и русской культуры все же очень отличается от западноевропейского. Русское мышление гораздо более тоталитарно и целостно, чем мышление западное, более дифференцированное, разделенное на категории. Вот как формулирует Ив. Киреевский различие и противоположение. На Западе все произошло от торжества формального разума. Рационалистическая рассеченность была как бы вторым грехопадением человечества. «Три элемента на Западе: Римская церковь, древнеримская образованность и возникшая из насилий завоевания государственность, были совершенно чужды Руси». «Богословие на Западе приняло характер рассудочной отвлеченности, – в православии оно сохранило внутреннюю целость духа; там развитие сил разума, – здесь стремление к внутреннему, живому». «Раздвоение и целость, рассудочность и разумность будет последним выражением Западной Европы и древнерусской образованности». Центральная философская мысль, из которой исходит Ив. Киреевский, им выражена так: «Внутреннее сознание, что есть в глубине души живое общее сосредоточие для всех отдельных сил разума, и одно достойное постигать высшую истину – такое сознание постоянно возвышает самый образ мышления человека: смиряя его рассудочное самомнение, оно не стесняет свободы естественных законов его мышления; напротив, укрепляет его самобытность и вместе с тем добровольно подчиняет его вере». Славянофилы искали в истории, в обществе и культуре ту же духовную целостность, которую находили в душе. Они хотели открыть оригинальный тип культуры и общественного строя на духовной почве православия. «На Западе, – писал К. Аксаков, – души убивают, заменяясь усовершенствованием государственных форм, полицейским благоустройствием; совесть заменяется законом, внутренние побуждения – регламентом, даже благотворительность превращается в механическое дело; на Западе вся забота о государственных формах». «В основании государства русского: добровольность, свобода и мир». Последняя мысль К. Аксакова находится в вопиющем несоответствии с исторической действительностью и обнаруживает неисторический характер основных мыслей славянофилов о России и Западе. Это есть типология, характеристика духовных типов, а не характеристика действительной истории. Как объяснить, с точки зрения славянофильской философии русской истории, возникновение огромной империи военного типа и гипертрофии государства на счет свободной народной жизни? Русская жизнь строилась сверху государственной жизни и строилась путем насилия. Самодеятельность общественных групп можно искать лишь в домосковский период. Славянофилы стремились к органическому пониманию истории и дорожили народными традициями. Но эта органичность была лишь в их идеальном будущем, а не в действительном историческом прошлом. Когда славянофилы говорили, что община и земщина – основы русской истории, то это нужно понимать так, что община и земщина для них идеал русской жизни. Когда Ив. Киреевский противополагает тип русского богословия типу богословия западного, то это нужно понимать, как программу, план русского богословия, так как никакого русского богословия не было, оно лишь начинается с Хомякова. Но славянофилы поставили перед русским сознанием задачу преодоления абстрактной мысли, перехода к конкретности, требование познания не только умом, но также чувством, волей, верой. Это остается в силе и если отвергнуть славянофильскую концепцию истории. Славянофилы не были врагами и ненавистниками Западной Европы, как были русские националисты обскурантского типа. Они были просвещенными европейцами. Они верили в великое призвание России и русского народа, в скрытую в нем правду, и они пытались характеризовать некоторые оригинальные черты этого призвания. В этом было их значение и заслуга. Друзья говорили о Хомякове, что он пишет какой-то огромный труд. Это были «Записки по всемирной истории», которые составляют три тома его собрания сочинений[30]. Книга так и осталась ненаписанной, это лишь заметки и материалы для книги. Барская лень, которую Хомяков сам в себе обличал, помешала ему написать настоящую книгу. Но по этим «Запискам» мы можем восстановить философию истории Хомякова. Она вся построена на противоречии двух типов и на борьбе двух начал в истории, т. е. посвящена все той же основной русской теме о России и Европе, о Востоке и Западе. Несмотря на устарелость, а часто и неверность взглядов Хомякова на историю, центральная мысль его замечательна и сохраняет свой интерес. Он видит противоборство двух начал в истории: свободы и необходимости, духовности и вещественности. Тут обнаруживается, что самым главным и дорогим была для него свобода. Необходимость, власть вещественности над духовностью – враг, с которым он всю жизнь боролся. Он видел эту необходимость, эту власть вещественности над духом и в языческих религиях, и в католичестве, и в западном рационализме, и в философии Гегеля. Противополагаемые им начала он выражает в условной и плодящей недоразумения терминологии – иранство и кушитство. Иранство есть свобода и духовность. Кушитство есть необходимость и вещественность. И, конечно, оказывается, что Россия – иранство, Запад – кушитство. Только еврейская религия для Хомякова – иранство, все же языческие религии – кушитство. Греция тоже отнесена к кушитству. Для иранства характерен теизм и слово, для кушитства – магия. Особенно кушитством оказывается Рим. Хомяков поклонялся свободно творящему духу. Но был ли свободный дух, были ли свобода духа и дух свободы в Московской России? Не более ли походило душное и скованное Московское царство именно на кушитство? И не больше ли свободы было на Западе, где боролись за свободу и где впервые утвердились дорогие Хомякову свобода совести и мысли? Тут с Хомяковым произошло то же, что и со славянофильским отношением к истории вообще. Высказываются очень ценные мысли, характерные для стремлений лучших русских людей XIX в., и эти мысли неверно применяются к истории. У Хомякова был настоящий пафос свободы. Но его учение о свободе, положенное в основу его философии и его богословия, возможно было только после учения об автономии, о свободе духа Канта и немецкого идеализма. На это указывали уже представители нашей реакционной и обскурантской мысли. Но они только упускали из виду, что источники свободы духа заложены в христианстве и что без христианства невозможен был бы Кант и все защитники свободы. Для философии истории Хомякова очень важно, что он веру считал движущим началом истории. Религиозная вера лежит в основе и всякой цивилизации, и всего пути истории, и философской мысли. Этим определяются и различия между Россией и Западной Европой. В первооснове России лежит православная вера, в первооснове Западной Европы лежит католическая вера. Рационализм, этот смертельный грех Запада, заложен уже в католичестве, в католической схоластике можно найти уже тот же рационализм и ту же власть необходимости, что и в европейском рационализме нового времени, в философии Гегеля, в материализме. Россия, Россия, изнемогающая от деспотизма николаевского режима, должна поведать Западу тайну свободы, она свободна от греха рационализма, заковывающего в необходимость. В своих стихах, поэтически очень посредственных, но очень интересных для мысли Хомякова, он воскликнул: «Скажи им таинство свободы», «Даруй им дар святой свободы», им, т. е. Западу. В это же время многие русские люди стремились на Запад, чтобы вздохнуть свободно. И все же у Хомякова была правда, которая не опровергается эмпирической русской действительностью. В глубине русского народа заложена свобода духа большая, чем у более свободных и просвещенных народов Запада. В глубине православия заложена большая свобода, чем в католичестве. Огромность свободы есть одно из полярных начал в русском народе, и с ней связана русская идея.
Противоречивость России отразилась и в самом Хомякове. Он менее всех идеализировал древнюю Россию и прямо говорил о ее неправдах. У него есть страницы, напоминающие Чаадаева. «Ничего доброго, – говорит он, – ничего достойного уважения или подражания не было в России. Везде и всегда были безграмотность, неправосудие, разбой, крамолы, личности угнетение, бедность, неустройство, непросвещение и разврат. Взгляд не останавливается ни на одной светлой минуте в жизни народной, ни на одной эпохе утешительной». Такой силы обличения трудно встретить и у западников. Из всех славянофилов Хомяков, самый сильный характер в этом лагере, наименее был враждебен западной культуре. Он даже был англофилом. Более поздний славянофил, К. Аксаков, в отличие от Н. Данилевского, признавал идею общечеловеческой культуры. Но все они верили, что Россия не должна повторять путь Запада и что славяно-русский мир – мир будущего. Хомякову было в высшей степени свойственно покаяние в грехах России в прошлом. Он призывает молиться, чтобы Бог простил «за темные отцов деяния». Перечисляя грехи прошлого и призывая молиться и каяться, он произносит волнующие ныне слова: «Когда враждой упоены, вы звали чуждые дружины на гибель русской стороны». Наиболее известно его стихотворение «В судах полна неправдой черной и игом рабства клеймена». Обличая грехи прошлого и настоящего, он продолжает верить, что Россия, недостойная избранья, избрана.
В твоей груди, моя Россия, Есть также тихий, светлый ключ; Он также воды льет живые, Сокрыт, безвестен и могуч.В национальном сознании Хомякова есть противоречивость, свойственная всякому национальному мессианизму. Призвание России оказывается связанным с тем, что русский народ – самый смиренный в мире народ. Но у этого народа есть гордость смирением. Русский народ самый не воинственный, миролюбивый народ, но в то же время этот народ должен господствовать в мире. Хомяков обвиняет Россию в грехе гордости внешним успехом и славой. У детей и внуков славянофилов это противоречие еще усилится, они просто стали националистами, чего нельзя сказать про основателей славянофильства. Противоречивость была и в отношении славянофилов к Западу. Ив. Киреевский сначала был западником, и журнал «Европеец» был запрещен за его статью о XIX в. Но и став славянофилом, он писал: «Я и теперь еще люблю Запад, я связан с ним многими неразрывными сочувствиями. Я принадлежу ему моим воспитанием, моими привычками жизни, моими вкусами, моим спорным складом ума, даже сердечными моими привязанностями». «Все прекрасное, благородное, христианское нам необходимо, как свое, хотя бы оно было европейское». Он говорит, что русская образованность есть лишь высшая ступень западной, а не иная. В этом чувствуется универсализм славянофилов, который потом исчезнет. Ив. Киреевский был наиболее романтиком из славянофилов. Ему принадлежат слова: «Лучшее, что в мире, это – мечта». Всякая активность его была парализована режимом Николая I. Он был наиболее близок к Оптиной Пустыни, духовному центру православия, и в конце жизни окончательно погрузился в восточную мистику, изучал святоотеческую литературу. Хомяков был натура более мужественная и реалистичная. Ив. Киреевский не хотел возвращения внешних особенностей старой России, а только духовной целостности Православной Церкви. Только один К. Аксаков, взрослый ребенок, верил в совершенство допетровских учреждений. Какие же идеальные русские начала утверждали славянофилы?
Славянофилы были богатые русские помещики, просвещенные, гуманные, свободолюбивые, но очень вкорененные в почву, очень связанные с бытом и ограниченные этим бытом. Этот бытовой характер славянофильства не мог не ослабить эсхатологической стороны их христианства. При всей вражде их к империи они еще чувствовали твердую почву под ногами и не предчувствовали грядущих катастроф. Они духовно жили еще до Достоевского, до восстания Л. Толстого, до кризиса человека, до духовной революции. В этом они очень отличаются не только от Достоевского, не только от Вл. Соловьева, более связанного со стихией воздуха, чем стихией земли, но даже от К. Леонтьева, уже захваченного катастрофическим чувством жизни. В эпоху Николая I вулканичность почвы еще не обнаружилась. Хомякова и славянофилов нельзя назвать в точном смысле мессианистами. Элемент профетический у них сравнительно слаб. Они сознавали глубокую противоположность между св. Русью и империей. Но идея св. Руси не была профетической, она обращена к прошлому и к культу святости у русского народа. Славянофилы также очень мало обращали внимания на русское странничество и русское бунтарство. Для них православные христиане как будто имеют свой пребывающий град. Им свойственна была патриархально-органическая теория общества. Основа общества – семья, и общество должно было быть построено по типу семейственных отношений. Славянофилы очень семейственные, родовые люди. Но более прав К. Леонтьев, который отрицал семейственность русских и большую силу видел в самодержавном государстве. Народы Запада, французы в особенности, гораздо семейственнее русских и с большим трудом порывают с семейными традициями.
Самый наивный из славянофилов, К. Аксаков, говорил: «Нравственное дело должно и совершаться нравственным путем, без помощи внешней, принудительной силы. Вполне достойный путь один для человека, путь свободного убеждения, путь мира, путь, который открыл нам Божественный Спаситель и которым шли Его Апостолы». Это делает честь высоте его нравственного сознания и характеризует его идеал, но отнюдь не соответствует ни русской истории, ни историческому православию. И так всегда было у славянофилов. Хомяков, например, всегда говорил об идеальном православии и противопоставлял его реальному католичеству. Он также всегда говорил об идеальной России, о России своего идеала и потому неверно понимал действительную историю. Хомяков, как и большая часть русских людей, лучших русских людей, не имел римских понятий о собственности. Он думал, что народ, который и есть единственный собственник земли, передал ему земельное богатство и поручил ему владеть землей[31]. Но он все же жил очень богатым помещиком и имел бытовые свойства помещика. К. Аксаков учил, что русский народ государственности не хочет, он хочет для себя не политической свободы, а свободы духа. Но он не имел ни свободы политической, ни свободы духа. И менее всего он имел свободу духа в Московской России. Крестьянскую общину славянофилы считали как бы вечной основой России и гарантией ее своеобразия. Они противополагали ее западному индивидуализму. Но можно считать доказанным, что община не была исключительной особенностью России и была свойственна всем формам хозяйствования на известной ступени развития. Славянофилы имели народнические иллюзии. Община была для них не исторической, а внеисторической величиной, как бы «иным миром» в этом мире. Русскому народу действительно свойственна большая коммунитарность, чем народам Запада, ему мало свойствен западный индивидуализм. Но это есть духовное, как бы метафизическое свойство русского народа, не прикрепленное ни к каким экономическим формам. Когда славянофилы, особенно К. Аксаков, подчеркивают значение хорового начала у русского народа в отличие от самодовления и изоляции индивидуума, они были правы. Но это принадлежит к духовным чертам русского народа. «Личность в русской общине не подавлена, но только лишена своего буйства, эгоизма, исключительности… Свобода в ней, как в хоре». Это, конечно, не значит, что призвание России в мире, мессианизм русского народа связаны с отсталой формой экономической общины. Славянофилы были монархистами и даже сторонниками самодержавной монархии. Об отношении славянофильской мысли к государству и власти и об анархическом элементе в их мысли речь будет в особой главе. Но сейчас необходимо отметить, что у Хомякова не было религиозной концепции самодержавия, он демократ в понимании источника власти и противник теократического государства и цезарепапизма. Но форму монархии, противоположную западному абсолютизму, и Хомяков, и все славянофилы считали необходимым началом русского своеобразия и русского призвания. Они утверждали три основы России – православие, самодержавие и народность, но понимали их иначе, чем официальная правительственная идеология, в которой православие и народность были подчинены самодержавию. На первом месте у них стояло православие. Достоевский критически относился к славянофилам и не производил себя от них. И действительно, разница была большая. Достоевский ценил западников за их новый опыт, за динамизм воли, за усложненное сознание. Для него славянофилы не понимают движения. Он стоит за трагический реализм жизни против неподвижного идеализма славянофилов.
Славянофилы имели свою утопию, которую они и считали поистине русской. Эта утопия делала возможной для них жизнь в отрицаемой ими империи Николая I. В эту утопию входили идеальное православие, идеальное самодержавие, идеальная народность. У них было органическое понимание народной жизни, органическое понимание отношения между царем и народом. Так как все должно быть органическим, то не должно быть ничего формального, юридического, не нужны никакие правовые гарантии. Органические отношения противоположны договорным. Все должно быть основано на доверии, любви и свободе. Славянофилы в этом отношении типичные романтики, утверждают жизнь на началах, стоящих выше правовых. Но отрицание правовых начал опускает жизнь ниже правовых начал. Гарантий прав человеческой личности не нужно в отношениях любви, но отношения в человеческих обществах очень мало походят на отношения любви. В основании славянофильской социологии лежало православие и немецкий романтизм. Органическое учение об обществе родственно идеям Фр. Баадера, Шеллинга, Адама Мюллера, Герреса. Но на русской почве этот род идей приобрел резко антиэтатическую окраску. Славянофилы не любили государства и власти. Мы увидим, что в отличие от католического Запада славянофильское богословие отрицает идею авторитета в церкви и устами Хомякова провозглашает небывалую свободу. Хомяковская идея соборности, смысл которой будет выяснен в другой главе, имеет значение и для учения об обществе. Это и есть русская коммунитарность, общинность, хоровое начало, единство любви и свободы, не имеющее никаких внешних гарантий. Идея чисто русская. Общинный, коммунитарный дух славянофилы противополагали западному рыцарству, которое обвиняли в нехристианском индивидуализме и гордости. Все славянофильское мышление было враждебно аристократизму, было проникнуто своеобразным демократизмом. Юридизм, формализм, аристократизм они относят к духу Рима, с которым более всего боролись. Они верили, что христианство было усвоено русским народом в большей чистоте, потому что почва, в которую христианская истина упала, была более действенна. Они очень преуменьшили элемент язычества в русском народном православии, так же как и влияние византизма. К. Леонтьев признает хомяковское православие не настоящим, слишком либеральным и модернизированным и будет противопоставлять ему аскетически-монашеское, суровое, византийское, афонское православие. Славянофильская социология, как и славянофильское богословие, прошла через гуманизм. Хомяков был решительный противник смертной казни и жестоких наказаний, и вряд ли он мог примириться с идеей вечных адских мук. В этом он – очень русский. Отрицание смертной казни входит в русскую идею. Если Беккария и имел влияние на русское уголовное законодательство, то отвращение к смертной казни не было ни одним народом так усвоено, как народом русским, у которого нет склонности смотреть на зрелище казни. Тургенев так выразил свое впечатление от казни Тропмана в Париже: «Никто не смотрел человеком, который сознает, что присутствовал при совершении акта общественного правосудия; всякий старался сбросить с себя ответственность в этом убийстве». Это русское, а не западное впечатление. В этом славянофилы сходятся с западниками, революционеры-социалисты с Л. Толстым и Достоевским. У русских и, может быть, только у русских есть сомнение в справедливости наказаний. И это, вероятно, связано с тем, что русские – коммюнотарны, но не социализированы в западном смысле, т. е. не признают примата общества над человеком. Русские суждения о собственности и воровстве определяются не отношением к собственности как социальному институту, а отношением к человеку. Мы увидим, что с этим связана и русская борьба против буржуазности, русское неприятие буржуазного мира. Кающиеся дворяне – явление чисто русское. У русских нет того иерархического чувства, которое есть у западных людей, его нет ни в какой области. С этим связано и русское противоположение интеллигенции и народа, дворянства и народа. На Западе интеллигенция есть функция народной жизни, и дворянство было функцией иерархизованной народной жизни. У русских же сознание себя интеллигентом или дворянином у лучших было сознанием своей вины и своего долга народу. Это как раз значит, в противоположность органической теории славянофилов, что на Западе строй жизни был более органическим, чем в России. Но эта органичность была дурной. Славянофилы как будто недостаточно понимали, что органичность есть иерархизм. Более прав, чем славянофилы, был Л. Толстой и даже Н. Михайловский в своей борьбе против органической теории общества во имя индивидуальности человека. Но, во всяком случае, славянофилы хотели «России Христа», а не «России Ксеркса» [32], как хотели наши националисты и империалисты. «Идея» России всегда обосновывалась пророчеством о будущем, а не тем, что есть, – да и не может быть иным мессианское сознание.
Исключительный интерес представляет письмо Ф. Баадера к министру народного просвещения гр. Уварову. Письмо называется «Mission de l’Eglise Russe dans la décadence du christianisme de l’Occident». Оно впервые опубликовано в книге Е. Susini «Lettres inédites de Franz von Baader» [33]. Ф. Баадер очень замечательный и в свое время недостаточно оцененный мыслитель, наиболее близкий русской мысли. Он свободный католик и вместе с тем христианский теософ, возродивший интерес к Я. Бёме, влиявший на Шеллинга последнего периода. Он имел большую симпатию к православной церкви и хотел сближения с ней. Он видел в России посредницу между Востоком и Западом. Баадер говорит многое близкое славянофилам и Вл. Соловьеву. Он решил ехать в Россию, куда его приглашал кн. Голицын. Но с ним случился русский анекдот. Его на границе арестовали и выслали из России. Баадер очень обиделся, писал об этом Александру I и кн. Голицыну. Но в Россию он так и не проник. В письме к Уварову он излагает свои замечательные мысли о миссии православной церкви в России. Письмо очень интересно нам тем, что обнаруживает на Западе мысли, близкие русской мысли. Под многим мог бы подписаться Хомяков. Русские много и часто несправедливо писали о разложении Запада, имея в виду, главным образом, антихристианский Запад. Но Баадер говорит о разложении и христианского Запада и ищет спасения Запада в России и православной церкви. Письмо, написанное по-французски, настолько интересно, что я приведу значительную часть его:
«Если существует какая-то особенность, которая характеризует современную эпоху, то это, безусловно, неодолимое стремление Запада к Востоку. В великом сближении Запада и Востока Россия, соединяющая в себе черты этих двух культур, призвана сыграть роль посредника, который предотвратит гибельные последствия их столкновения. Русская Церковь, со своей стороны, в настоящее время, если не ошибаюсь, ставит перед собой подобную цель из-за происходящего на Западе возмутительного и внушающего тревогу упадка христианства; оказавшись перед лицом застоя христианства в Римской Церкви и его распада в церкви протестантской, она принимает, по моему мнению, миссию посредника – связанную более тесно, чем это обычно считают, с миссией страны, к которой она принадлежит. Если мне позволено немного уточнить термины, я бы сказал, что такой упадок христианства на Западе и причины, по которым Русская Церковь оказалась не затронутой этим упадком, сами по себе в состоянии оказывать благотворное влияние на Запад. Вопрос об этом влиянии не надо оспаривать; оно возникает из того примера, который показывает Русская Церковь, из ее доктрины, прочно основанной на церковной науке, от которой так далек римский католицизм, с заложенным в нем принципом разрушения и со своей наукой, враждебной вере… Французы взяли за основу и впитали в себя разрушительный принцип революции, а философы взяли за основу картезианское сомнение, которое по сути своей не лучше скептицизма… Я был первым и до сих пор остаюсь практически единственным человеком, который обнаружил эту главную ошибку современной философии; я показал, что все философы (за исключением Лейбница), начиная с Декарта и его последователя Спинозы, исходили из принципа разрушения и революции в отношении религиозной жизни, из принципа, который в области политики породил конституционный принцип; я показал, что кардинальная реформа невозможна, если только она не будет проходить и в философии и в политике. По моему мнению, опасно ошибаются те государственные деятели и вожди, которые полагают, что образ мыслей людей (т. е. их философия) является чем-то незначительным и что наука, лишенная милосердия, не приводит к появлению правительства, лишенного милосердия – гибельного и для того, кто правит, и для тех, которыми правят… Провидение до сего времени хранило Русскую Церковь, и она не была вовлечена в тот процесс, происходящий в Европе, результатом которого стала дехристианизация в науке и в гражданском обществе. Особенно благодаря тому, что Русская Церковь отстаивала ранний католицизм в борьбе с его врагами – папизмом и протестантизмом, а также благодаря тому, что она не отрицала разум, как это делала Римская Церковь, и не допускала при этом возможности появления заблуждений, которые могут отсюда возникать, как это происходит в протестантизме – она единственная способна стать посредником, что, впрочем, должно быть сделано единственной основой науки в России – и самими русскими». Баадер предлагает, чтобы несколько русских приехало в Мюнхен учиться и слушать его лекции, чтобы «заполнить пробел, который существует как в России, так и на Западе, послужить примером для Запада и доказать ему (что еще не сделано), что истинная наука не существует без веры и что истинная вера не может существовать без науки». Бросаются в глаза ошибочные суждения Баадера: католичество не отрицает разума и протестантизм не отрицает веру, сомнение Декарта и французская революция не только разрушали, но имели и положительный смысл. Но огромный интерес представляют надежды, которые Баадер возлагает на Россию. О славянофильской философии речь будет в другой главе. Но сейчас нужно отметить, что в России был двоякий исход философии: «у славянофилов в религию, в веру, у западников в революцию, в социализм». И в том и в другом случае было стремление к целостному, тоталитарному миросозерцанию, к соединению философии с жизнью, теории с практикой.
2
Западничество возникло у нас на той же теме о России, о ее путях и ее отношении к Европе. Западники приняли реформу Петра и петровский период, но отнеслись еще более отрицательно к империи Николая I, чем славянофилы. Западничество есть явление более восточное, чем западное. Для западных людей Запад был действительностью и нередко действительностью постылой и ненавистной. Для русских людей Запад был идеалом, мечтой. Западники были такие же русские люди, как и славянофилы, любили Россию и страстно хотели для нее блага. Очень скоро образовалось в русском западничестве два течения, более умеренное и либеральное, интересовавшееся, главным образом, вопросами философии и искусства, восприявшее влияние немецкого идеализма и романтизма, и более революционное и социальное, восприявшее влияние французских социалистических течений. Впрочем, философия Гегеля влияла и на то и на другое течение. Станкевич, наиболее совершенный образ идеалиста 40-х годов, был одним из первых последователей Гегеля. Герцен, который не был близок к кружку Станкевича и представлял социально настроенное западничество, тоже прошел через увлечение Гегелем и признал философию Гегеля алгеброй революции. Революционное истолкование Гегеля упреждало марксизм. Это означало переход к Фейербаху. Высмеивая увлечение философией Шеллинга, Герцен говорит: «Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтобы отдаться пантеистическому чувству своего единства с космосом». Герцен оставил замечательные воспоминания об идеалистах 40-х годов, которые были его друзьями. «Что же коснулось этих людей, чье дыхание пересоздало их? Ни мысли, ни заботы о своем общественном положении, о своей личной выгоде, об обеспечении; вся жизнь, все усилия устремлены к общему без всяких личных выгод; одни забывают свое богатство, другие свою бедность – идут, не останавливаясь, к разрешению теоретических вопросов. Интерес истины, интерес жизни, интерес науки, искусства, humanitas поглощает все». «Где, в каком углу современного Запада найдете вы такие группы отшельников мысли, схимников науки, фанатиков убеждений, у которых седеют волосы, а стремления вечно юны?» Это и есть русская интеллигенция. Герцен прибавляет: «В современной Европе нет юности и юношей». Юность и юноши были в России. Достоевский будет говорить о русских мальчиках, решающих проклятые вопросы. Тургенев занимался в Берлине философией Гегеля и по этому поводу говорит: «Мы тогда в философии искали всего на свете, кроме чистого мышления». Идеалисты 40-х годов стремились к гармонии личного чувства. В русской мысли преобладает моральный элемент над метафизическим, и за ней скрыта жажда преображения мира. Исключительный интерес в 30-е и 40-е годы к философии Шеллинга и Гегеля не привел к созданию самостоятельной русской философии. Исключение нужно сделать только для некоторых философских мыслей славянофилов, но они не были ими развиты. Философия была лишь путем или преображения души, или преображения общества. Все были в расколе с империей, и мучителен был вопрос об отношении к «действительности». Мы увидим, какую роль тут сыграла философия Гегеля. Так называемый идеализм 40-х годов сыграл огромную роль в формировании личности культурного русского человека. Лишь в 60-х годах тип «идеалиста» был заменен типом «реалиста». Но черты «идеалиста» не исчезли совсем и тогда, когда начали увлекаться не Шеллингом и Гегелем, а материализмом и позитивизмом. Не нужно придавать слишком большого значения сознательно утверждаемым идеям. Грановский был наиболее законченным типом гуманиста-идеалиста. Он был прекрасный человек, он очаровывал и влиял, как профессор, но мысль его была мало оригинальной. Очень знаменательна распря между Грановским и Герценом. Идеалист Грановский не мог перенести перехода от философии Гегеля к философии Фейербаха, который имел такое значение для Герцена. Грановский хочет остаться верен идеализму, дорожит верой в бессмертие души, он противник социализма, думая, что социализм враждебен личности, в то время как Герцен и Белинский переходят к социализму и атеизму. Центральное значение для русской судьбы имеют Герцен и Белинский. Именно они представляют левое западничество, чреватое будущим.
Белинский – одна из самых центральных фигур в истории русского сознания XIX в. Он отличается от других русских писателей 30-х и 40-х годов уже тем, что он не вышел из дворянской среды и не имел в себе барских черт, которые были сильно выражены и у анархиста Бакунина. Он первый разночинец и типичный интеллигент (в более узком смысле) второй половины XIX в., когда наша культура перестала быть исключительно дворянской. Белинский был человек больших дарований, гениальной чуткости и восприимчивости. У него было мало знаний. Он почти не знал иностранных языков, почти не знал немецкого языка. Гегелевскую философию он узнал не через чтение книг самого Гегеля, а через рассказы о Гегеле Бакунина, который читал его по-немецки. Но восприимчивость его была так необычайна, что он многое угадал в Гегеле. Он последовательно пережил Фихте, Шеллинга и Гегеля и перешел к Фейербаху и воинствующему атеизму. Белинский, как типичный русский интеллигент, во все периоды стремился к тоталитарному миросозерцанию. Для него, натуры страстной и чувствительной, понимать и страдать было одно и то же. Жил он исключительно идеями и искал правды, «упорствуя, волнуясь и спеша». Он горел и рано сгорел. Он говорил, что Россия есть синтез всех элементов, сам хотел быть синтезом всех элементов, но осуществлял это не одновременно, всегда впадая в крайности, а последовательно во времени. Белинский был самым значительным русским критиком и единственным из русских критиков, обладавшим художественной восприимчивостью и эстетическим чувством. Но литературная критика была для него лишь формой выражения целостного миросозерцания, лишь борьбой за правду. Огромное значение, которое приобрела у нас публицистическая литературная критика во вторую половину XIX в., объясняется тем, что, по цензурным условиям, лишь в форме критики литературных произведений можно было выражать философские и политические идеи. Но Белинский первый оценил по-настоящему Пушкина и угадал многие нарождающиеся таланты. Русский до мозга костей, возможный лишь в России, он был страстным западником, веровавшим в Запад. Но во время его путешествий по Европе он разочаровался в ней. Разочарование столь же типически русское, как и очарование. Первым идейным увлечением был у нас Шеллинг, потом перешли к Гегелю. Устанавливают три периода в идейном развитии Белинского: 1) нравственный идеализм, героизм; 2) гегелевское принятие разумности действительности; 3) восстание против действительности для ее радикального изменения во имя человека. Путь Белинского указывает на то исключительное значение, которое имела у нас гегелевская философия. О двух кризисах, пережитых Белинским, по существу речь будет в следующей главе. Во все периоды Белинский, отдаваясь своей идее целиком, мог жить только этой идеей. Он был нетерпим и исключителен, как и все увлеченные идеей русские интеллигенты, и делил мир на два лагеря. Он порвал на идейной почве со своим другом К. Аксаковым, которого очень любил. Он первый потерял возможность общения с славянофилами. Он разошелся с близким ему Герценом и другими друзьями в период увлечения гегелевской идеей разумности «действительности» и пережил период мучительного одиночества. В это же время и будущий анархист Бакунин был увлечен гегелевской идеей разумности «действительности» и увлек этой идеей Белинского. Мы увидим, что Гегель был неверно понят и на этом непонимании разыгрались страсти. Лишь в последний период, под конец жизни, у Белинского выработалось совершенно определенное миросозерцание, и он стал представителем социалистических течений второй половины XIX в. Он прямой предшественник Чернышевского и, в конце концов, даже русского марксизма. Он был гораздо менее народником, чем Герцен. Он даже стоял за промышленное развитие. У Белинского, когда он обратился к социальности, мы уже видим то сужение сознания и вытеснение многих ценностей, которое мучительно поражает в революционной интеллигенции 60-х и 70-х годов. Наиболее русским он был в своем восстании против гегелевского мирового духа во имя реального, конкретного человека. Ту же русскую тему мы видим и у Герцена. На формирование взглядов Герцена очень повлияла казнь декабристов.
Для русской историософической темы огромное значение имеет Герцен. Это если и не самый глубокий, то самый блестящий из людей 40-х годов. Он первый представитель революционной эмиграции. Этот русский западник пережил глубокое разочарование в Западной Европе. После опыта Герцена западничество в том виде, в каком оно было в 40-е годы, стало невозможным. Русские марксисты будут западниками в другом смысле, а в марксизме коммунистов раскроются некоторые черты русского мессианизма. В лице Герцена западничество соприкасается со славянофильством. То же самое произойдет в анархизме Бакунина. Вообще левое, социалистическое, западничество будет более русским, более оригинальным в понимании путей России, чем более умеренное, либеральное западничество, которое будет все более бесцветным. Русская тема об особых путях России, о миновании ею западных путей индустриального капиталистического развития будет раскрываться народническим социализмом, который произойдет из левого крыла западничества. В истоках народнического, своеобразно русского социализма станет Герцен. Идея, высказанная уже Чаадаевым, что русский народ, более свободный от тяжести всемирной истории, может создать новый мир в будущем, развивается Герценом и народническим социализмом. Герцен первый резко выразил русское восстание против мещанства Запада, он увидел опасность мещанства в самом западном социализме. Но это не было идеей лишь народнического социализма, в этой идее была большая глубина, до которой не доходила поверхностная философия самого Герцена, это была общерусская идея, связанная с русским мессианизмом. Герцен прошел через Гегеля, как и все люди 40-х годов, и один из первых пришел к Фейербаху, на котором и остановился. Это значит, что философски он был близок к материализму, хотя и не глубокому, и был атеистом. Но вернее было бы его характеризовать как гуманиста-скептика. Он не был по натуре верующим, энтузиастом, как Белинский. Для него материализм и атеизм не были религией. При таком философском миросозерцании трудно было оправдать мессианскую веру в русский народ, трудно было обосновать философию истории и этику Герцена. Был момент влияния на Герцена французского социального мистицизма типа Пьера Леру. Но это продолжалось недолго. Герцен так мотивировал свое неверие в высший смысл жизни, как делалось значительно позже и более утонченными формами мысли. Он говорил, что объективная наука не считается с человеческими иллюзиями и надеждами. Он требует смирения перед печальной истиной. Особенность Герцена была в том, что истина представлялась ему печальной, в его миросозерцании был пессимистический элемент. Он требует бесстрашия перед бессмыслицей мира. Он исповедовал антропоцентризм, для него выше всего и дороже всего человек. Но антропоцентризм этот не имеет никакого метафизического основания. Н. Михайловский потом будет употреблять выражение субъективный антропоцентризм, противополагая его объективному антропоцентризму. Это исходит от Фейербаха, но Фейербах был оптимистом и исповедовал религию человечества. А этика Герцена решительно персоналистическая. Для него верховная ценность, которой ни для чего нельзя пожертвовать, – человеческая личность. Философски обосновать верховную ценность личности он не мог. С его персонализмом связана была и его оригинальная философия истории. Герцен был более художник, чем философ, и от него нельзя требовать обоснования и развития философии истории. Он был очень начитанный человек, читал Гегеля, читал даже Я. Бёме, знал философа польского мессианизма Чешковского. Но настоящей философской культуры он не имел. С темой о личности связана у него и тема о свободе. Он один из самых свободолюбивых русских людей. Он не хочет уступать свободу и своему социализму. И остается непонятным, откуда личность возьмет силы противопоставить свою свободу власти природы и общества, власти детерминизма. Восстание Герцена против западного мещанства связано было с идеей личности. Он увидел в Европе ослабление и, в конце концов, исчезновение личности. Средневекового рыцаря заменил лавочник. Он искал в русском мужике, в сером тулупе, спасения от торжествующего мещанства. Русский мужик более личность, чем западный буржуа, хотя бы он был крепостным. Он соединяет в себе личное начало с общинным. Личность противоположна эгоистической замкнутости, она возможна лишь в общинности. Разочарованный в Западной Европе, Герцен верит в русскую крестьянскую общину. Социализм Герцена народнический и вместе с тем индивидуалистический. Он еще не делает различия между индивидуумом и личностью. «Рыцарская доблесть, изящество аристократических нравов, строгая чинность протестантов, гордая независимость англичан, роскошная жизнь итальянских художников, искрящийся ум энциклопедистов и мрачная энергия террористов – все это переплавилось и переродилось в целую совокупность других господствующих нравов, мещанских». «Как рыцарь был первообразом мира феодального, так купец стал первообразом нового мира; господа заменились хозяевами». «Под влиянием мещанства все переменилось в Европе. Рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью, гуманные нравы – нравами чинными, вежливость – чопорностью, гордость – обидчивостью, парки – огородами, дворцы – гостиницами, открытыми для всех (т. е. для всех, имеющих деньги)». Все хотят «казаться вместо того, чтобы быть». Скупости имущих мещан противополагается зависть мещан неимущих. Потом реакционер К. Леонтьев будет говорить то же, что революционер Герцен. Одинаково восстают они против буржуазного мира и хотят противопоставить ему мир русский. Герцен высказывает идеи по философии истории, которые очень не походят на обычные оптимистические идеи прогрессивного левого лагеря. Он противополагает личность истории ее фатальному ходу. Мы увидим, как бурно пережил эту тему Белинский и как гениально остро выразил ее Достоевский. Герцен провозглашает «борьбу свободного человека с освободителями человечества». Он – против демократии и сочувствует анархизму. В замечательной книге «С того берега» он предупреждает, что внутренний варвар идет, и с большой прозорливостью предвидит, что образованному меньшинству жить будет хуже. «Объясните мне, пожалуйста, – говорит он, – отчего верить в Бога смешно, а верить в человека не смешно; верить в человечество не смешно, а верить в Царство Небесное – глупо, а верить в земные утопии – умно?» Из западных социальных мыслителей ему ближе всех Прудон. С Марксом он не имеет ничего общего.
Герцен не разделял оптимистического учения о прогрессе, которое стало религией XIX в. Он не верил в детерминированный прогресс человечества, в неотвержимое восходящее движение обществ к лучшему, совершенному, счастливому состоянию. Он допускал возможность движения назад и упадка. Главное, он думал, что природа совершенно равнодушна к человеку и его благу, что истина не может сказать ничего утешительного для человека. Но в противоречии со своей пессимистической философией истории он верил в будущее русского народа. В письме к Мишле, в котором Герцен защищает русский народ, он пишет, что прошлое русского народа темно, его настоящее ужасно, остается вера в будущее. Это мотив, который будет повторяться на протяжении всего XIX в. В это же время Герцен, разочаровавшийся в революции 48-го года, писал, что началось разложение Европы. Нет гарантий лучшего будущего для русского народа, как и для всех народов, потому что нет закона прогресса. Но остается часть свободы для будущего и остается возможность веры в будущее. Наиболее интересен в критике теории прогресса у Герцена другой мотив, очень редко встречающийся в лагере, к которому он принадлежал, это мотив персоналистический. Герцен не соглашался жертвовать личностью человеческой для истории, для ее великих якобы задач, не хотел превращать ее в орудие нечеловеческих целей. Он не соглашался жертвовать современными поколениями для поколений грядущих. Он понимал, что религия прогресса не рассматривает никого и ничего, никакой момент как самоценность. Философская культура Герцена не давала ему возможности обосновать и выразить свои мысли об отношении между настоящим и будущим. У него не было никакого определенного учения о времени. Но он чуял истину о невозможности рассматривать настоящее исключительно как средство для будущего. Он видел в настоящем самоцель. Мысли его были направлены против философии истории Гегеля, против подавления человеческой личности мировым духом истории, прогрессом. Это была борьба за личность, и это очень русская проблема, которая с такой остротой была выражена в письме Белинского к Боткину, о чем речь будет в следующей главе. Социализм Герцена был индивидуалистический, сейчас я бы сказал, персоналистический, и он думал, что это русский социализм. Он вышел из западнического лагеря, но защищает особые пути России.
3
Славянофильство, занятое все той же темой о России и Европе, частью меняет свой характер, частью вырождается в национализм самого дурного рода. Либеральные и гуманитарные элементы в славянофильстве начинают исчезать. Идеалисты-западники превращаются в «лишних людей», пока не появятся реалисты 60-х годов. Более мягкий тип превращается в более жесткий тип. Идеалисты-славянофилы тоже перерождаются в более жесткий тип консерваторов-националистов. Это происходит от активного соприкосновения с действительностью. Лишь немногие, как К. Аксаков, остаются верны идеалам старого славянофильства. Н. Данилевский, автор книги «Россия и Европа», уже человек совсем другой формации, чем славянофилы. Старые славянофилы были умственно воспитаны на немецком идеализме, на Гегеле и Шеллинге, они обосновывали свои идеи, главным образом, философски. Н. Данилевский – естественник, реалист и эмпирик. Он обосновывает свои идеи о России натуралистически. У него исчезает универсализм славянофилов. Он делит человечество на замкнутые культурно-исторические типы, человечество не имеет у него единой судьбы. Речь идет не столько о миссии России в мире, сколько об образовании из России особенного культурно-исторического типа. Данилевский является предшественником Шпенглера и высказывает мысли, очень похожие на мысли Шпенглера, который отрицает единство человечества, что ему более подходит, чем христианину Данилевскому. Славянофилы основывались не только на философском универсализме, но и на универсализме христианском, в основах их миросозерцания лежало известное понимание православия, и они хотели органически применить его к своему пониманию России. Миссия России была для них христианская миссия. У Данилевского же остается полный дуализм между его личным православием и его натуралистическими взглядами на историю. Он устанавливает культурно-исторические типы, как устанавливает типы в животном царстве. Нет общечеловеческой цивилизации, нет общечеловеческой истории. Возможен только более богатый культурно-исторический тип, совмещающий в себе больше черт, а таким Данилевский признает тип славяно-русский. Он наиболее совмещает в себе четыре элемента – религиозный, культурный в тесном смысле, политический и общественно-экономический. Славянский тип четырехосновной. Самая классификация типов очень искусственная. Десятый тип называется германо-романским, или европейским. Русские очень склонны были причислять к одному типу германский и романский. Но это ошибка и недостаточное понимание Европы. В действительности, между Францией и Германией разница не меньшая и даже большая, чем между Германией и Россией. Классические французы считают мир за Рейном, Германию, Востоком, почти Азией. Цельной европейской культуры не существует, это выдумки славянофилов. Данилевский совершенно прав, когда он говорит, что так называемая европейская культура не есть единственная возможная культура, что возможны другие типы культуры. Но он неверно понимает отношение родового и видового. Одинаково верно утверждение, что культура всегда национально-своеобразна и что существует общечеловеческая культура. Универсально-общечеловеческое находится в индивидуально-национальном, которое делается значительным именно своим оригинальным достижением этого универсально-общечеловеческого. Достоевский и Л. Толстой очень русские, они невозможны на Западе, но они выразили универсально-общечеловеческое по своему значению. Германская идеалистическая философия очень германская, невозможная во Франции и Англии, но величие ее в достижении и выражении универсально-общечеловеческого. Вл. Соловьев в блестящей книге «Национальный вопрос в России» подверг резкой критике идеи Данилевского и его единомышленников. Он показал, что русские идеи Данилевского заимствованы от второстепенного немецкого историка Рюккерта. Но Вл. Соловьев критиковал не только Данилевского, но и славянофилов вообще. Он говорил, что нельзя подражать народной вере. Нужно верить не в народную веру, а в самые божественные предметы. Но эту бесспорно верную мысль несправедливо противополагать, например, Хомякову, который прежде всего верил в божественные предметы и был универсалистом в своей вере. Во всяком случае, верно то, что идеи Данилевского были срывом в осознании русской идеи и в эту идею не могут войти. Несостоятелен панславизм в этой форме, в которой он его утверждал, и ложна его идея русского Константинополя. Но характерно, что и Данилевский верит, что русский народ и славянство вообще лучше и раньше Западной Европы разрешат социальный вопрос.
Константин Леонтьев скромно считал себя в философии последователем Данилевского. Но он во много раз выше Данилевского, он один из самых блестящих русских умов. Если Данилевского можно считать предшественником Шпенглера, то К. Леонтьев предшественник Ницше. Неустанное размышление о расцвете и упадке обществ и культур, резкое преобладание эстетики над этикой, биологические основы философии истории и социологии, аристократизм, ненависть к либерально-эгалитарному прогрессу и демократии, amor fati – все это черты, роднящие Леонтьева с Ницше. Совершенно ошибочно его причислили к славянофильскому лагерю. В действительности, он имел мало общего с славянофилами и во многом им противоположен. У него другое понимание христианства, византийское, монашески-аскетическое, не допускающее никаких гуманитарных элементов, другая мораль, аристократическая мораль силы, не останавливающаяся перед насилием, натуралистическое понимание исторического процесса. Он совсем не верил в русский народ. Он думал, что Россия существует и велика исключительно благодаря навязанному сверху русскому народу византийскому православию и византийскому самодержавию. Он совершенно отрицательно относился к национализму, к племенному началу, которое, по его мнению, ведет к революции и демократическому уравнению. Он совсем не народник, славянофилы же были народниками. Он любил Петра Великого и Екатерину Великую и в екатерининской эпохе видел цветущую сложность русской государственной и культурной жизни. Он очень любил старую Европу, католическую, монархическую, аристократическую, сложную и разнообразную. Более всего любил он не Средние века, а Ренессанс. По оригинальной теории К. Леонтьева, человеческое общество неотвратимо проходит через периоды: 1) первоначальной простоты, 2) цветущей сложности и 3) вторичного смесительного упрощения. Процесс этот он считал фатальным. В отличие от славянофилов он совсем не верил в свободу духа. Человеческая свобода для него не действует в истории. Высшая точка развития для него «есть высшая степень сложности, объединенная некиим внутренним деспотическим единством». Леонтьев совсем не метафизик, он натуралист и эстет, первый русский эстет. Результаты либерального и демократического прогресса вызывают в нем прежде всего эстетическое отвращение, он видит в них гибель красоты. Его социология совершенно аморальная, он не допускает моральных оценок в отношении к жизни обществ. Он проповедует жестокость в политике. Вот слова, наиболее характеризующие К. Леонтьева: «Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей восходил на Синай, что эллины строили себе изящные Акрополи, римляне вели пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский, или немецкий, или русский буржуа в безобразной комической своей одежде благодушествовал бы „индивидуально“ и „коллективно“ на развалинах всего этого прошлого величия?.. Стыдно было бы человечеству, чтобы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки» [34]. К. Леонтьев думал, что для Европы период цветущей сложности – в прошлом, и она фатально идет к упростительному смешению. На Европу более рассчитывать нельзя. Европа разлагается, но это разложение есть фатум всех обществ. Одно время К. Леонтьев верил, что на Востоке, в России, возможны еще культуры цветущей сложности, но это не связано у него было с верой в великую миссию русского народа. В последний период жизни он окончательно теряет веру в будущее России и русского народа и пророчествует о грядущей русской революции и наступлении царства антихриста. Об этом будет еще речь. Во всяком случае, в истории русского национального сознания К. Леонтьев занимает совсем особое место, он стоит в стороне. В его мышлении есть что-то не русское. Но тема о России и Европе для него основная. Он реакционер-романтик, который не верит в возможность остановить процесс разложения и гибели красоты. Он пессимист. Он многое остро чувствовал и предвидел. После К. Леонтьева нельзя уже вернуться к прекраснодушному славянофильству. Подобно Герцену, которого он любил, он восстает против мещанства и буржуазности Запада. Это основной его мотив, и это в нем мотив русский. Он ненавидит буржуазный мир и хочет его гибели. Если он ненавидит прогресс, либерализм, демократию, социализм, то исключительно потому, что все это ведет к царству мещанства, к серому земному раю. Национальное сознание Достоевского наиболее противоречиво, и полно противоречий его отношение к Западу. С одной стороны, он решительный универсалист, для него русский человек – всечеловек, призвание России мировое, Россия не есть замкнутый и самодовлеющий мир. Достоевский наиболее яркий выразитель русского мессианского сознания. Русский народ – народ-богоносец. Русскому народу свойственна всемирная отзывчивость. С другой стороны, Достоевский обнаруживает настоящую ксенофобию, он терпеть не может евреев, поляков, французов и имеет уклон к национализму. В нем отражается двойственность русского народа, совмещение в нем противоположностей. Достоевскому принадлежат самые изумительные слова о Западной Европе, равных которым не сказал ни один западник, в них обнаруживается русский универсализм. Версилов, через которого Достоевский высказывает многие свои мысли, говорит: «Они (европейцы) несвободны, а мы свободны. Только я один в Европе с моей русской тоской тогда был свободен… Всякий француз может служить не только своей Франции, но даже и человечеству, единственно под тем условием, что останется наиболее французом, равно – англичанин и немец. Один лишь русский, даже в наше время, т. е. гораздо еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех… Я во Франции – француз, с немцами – немец, с древним греком – грек и, тем самым, наиболее русский, тем самым я настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю главную ее мысль». «Русскому Европа так же драгоценна, как Россия; каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более. Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусства, вся история их – мне милее, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие кам-ни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим… Одна Россия живет не для себя, а для мысли, и знаменательный факт, что вот почти уже столетие, как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы». Иван Карамазов говорит в таком же духе: «Я хочу в Европу съездить, и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое дорогое кладбище, вот что. Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и свою науку, что я знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними – в то же время убежденный всем сердцем своим в том, что все это уже давно кладбище и никак не более». В «Дневнике писателя» написано: «Европа – но ведь это страшная и святая вещь, Европа. О, знаете ли вы, господа, как дорога нам, мечтателям-славянофилам, по-вашему, ненавистникам Европы, – эта самая Европа, эта страна „святых чудес“. Знаете ли вы, как дороги нам эти „чудеса“ и как любим и чтим, более чем братски любим и чтим мы великие племена, населяющие ее, и все великое и прекрасное, совершенное ими? Знаете ли вы, до каких слез и сжатия сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и родной нам страны, как пугают нас эти мрачные тучи, все более и более заволакивающие ее небосклон? Никогда вы, господа, наши европейцы и западники, столь не любили Европу, сколь мы, мечтатели-славянофилы, по-вашему, исконные враги ее». Достоевский тут условно называет себя славянофилом. Он думал, как и большая часть мысливших на тему – Россия и Европа, что в Европе начинается разложение, но что у нее есть великое прошлое и что она внесла великие ценности в историю человечества. Сам Достоевский был писателем петровского периода русской истории, он более петербургский, чем московский писатель, у него было острое чувство особенной атмосферы города Петра, самого фантастического из городов. Петербург – другой лик России, чем Москва, но он не менее Россия. Достоевский более всего свидетельствует о том, что славянофильство и западничество одинаково подлежат преодолению, но оба направления войдут в русскую идею, как и всегда бывает в творческом преодолении (Aufhebung у Гегеля). Из русских мыслителей XIX в. наиболее универсален был Вл. Соловьев. Мысль его имела славянофильские истоки. Но он постепенно отходил от славянофилов, и, когда в 80-е годы у нас была оргия национализма, он стал острым критиком славянофильства. Он увидел миссию России в соединении церквей, т. е. в утверждении христианского универсализма. О Вл. Соловьеве будет речь в другой связи. Русские размышления над историософической темой привели к сознанию, что путь России – особый. Россия есть Великий Востоко-Запад, она есть целый огромный мир, и в русском народе заключены великие силы. Русский народ есть народ будущего. Он разрешит вопросы, которые Запад уже не в силах разрешить, которые он даже не ставит во всей их глубине. Но это сознание всегда сопровождается пессимистическим чувством русских грехов и русской тьмы, иногда сознанием, что Россия летит в бездну. И всегда ставится проблема конечная, не серединная. Русское сознание соприкасается с сознанием эсхатологическим. Какие же проблемы ставит русское сознание?
Глава III
Проблема столкновения личности и мировой гармонии. Отношение к действительности. Значение Гегеля в истории русской мысли. Бунт Белинского. Предвосхищение Достоевского. Проблема теодицеи. Подпольный человек. Гоголь и Белинский. Индивидуалистический социализм Белинского. Религиозная драма Гоголя. Письмо Белинского Гоголю. Мессианство русской поэзии: Тютчев, Лермонтов.
1
Гегель сделал небывалую карьеру в России[35]. Огромное значение философии Гегеля сохранилось и до русского коммунизма. Советы издают полное собрание сочинений Гегеля, и это несмотря на то, что для него философия была учением о Боге. Гегель был для русских вершиной человеческой мысли, и у него искали разрешения всех мировых вопросов. Он влиял на русскую философскую, религиозную и социальную мысль. Он имел такое же значение, какое имел Платон для патристики и Аристотель для схоластики. Ю. Самарин одно время ставил будущее православной церкви в зависимость от судьбы философии Гегеля, и только Хомяков убедил его в недопустимости такого рода сопоставления. Гегель совсем не был у нас предметом философского исследования, но в увлечение его философией русские вложили всю свою способность к страстным идейным увлечениям. В Шеллинге увлекали философия природы и философия искусства. Но в Гегеле речь шла о решении вопроса о смысле жизни. Станкевич восклицает: «Не хочу жить на свете, если не найду счастья в Гегеле!» Бакунин принимает Гегеля, как религию.
Русских интеллигентов-идеалистов, лишенных возможности активной деятельности, мучит вопрос об отношении к «действительности». Этот вопрос о «действительности» приобретает непомерное значение, вероятно, мало понятное западным людям. Русская «действительность», окружавшая идеалистов 30-х и 40-х годов, была ужасна, это была империя Николая I, крепостное право, отсутствие свободы, невежество. Умеренно-консервативный Никитенко писал в своем «Дневнике»: «Печальное зрелище представляет наше современное общество. В нем ни великодушных стремлений, ни правосудия, ни простоты, ни чести в нравах, словом, – ничего, свидетельствующего о здравом, естественном и энергичном развитии нравственных сил… Общественный разврат так велик, что понятия о чести, о справедливости считаются или слабодушием, или признаком романтической восторженности… Образованность наша – одно лицемерие… Зачем заботиться о приобретении познаний, когда наша жизнь и общество в противоборстве со всеми великими идеями и истинами, когда всякое покушение осуществить какую-нибудь мысль о справедливости, о добре, о пользе общей клеймится и преследуется, как преступление?» «Везде насилия и насилия, стеснения и ограничения, – нигде простора бедному русскому духу. Когда же этому конец?» «Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования?» В последней записи «Дневника» написано: «Страшная эпоха для России, в которой мы живем и не видим никакого выхода». Это написано в эпоху «идеалистов» 40-х годов, эпоху блестящую по своим дарованиям. Но замечательные люди 40-х годов составляли небольшую группу, окруженную тьмой. Это привело, в конце концов, к «лишним людям», к бесприютному скитальцу Рудину и к Обломову. Более сильным людям нужно было идейно примириться с «действительностью», найдя для нее смысл и оправдание, или бороться с ней. Белинский, центральная тут фигура, не мог по своей боевой натуре просто уйти от «действительности» в философское и эстетическое созерцание. Вопрос становился для него необыкновенно мучительным. Бакунин ввел Белинского в философию Гегеля. Из Гегеля было выведено примирение с действительностью. Гегель сказал: «Все действительное разумно». Эта мысль имела у Гегеля обратную сторону, он признавал лишь разумное действительным. Понять по Гегелю разумность действительности можно лишь в связи с его панлогизмом. Для него не всякая эмпирическая действительность была действительностью. Русские того времени недостаточно понимали Гегеля, и это порождало недоразумение. Но не все тут было непониманием и недоразумением. Гегель все-таки решительно утверждал господство общего над частным, универсального над индивидуальным, общества над личностью. Философия Гегеля была антиперсоналистической. Гегель породил правое и левое гегелианство, на его философию одинаково опирается консерватизм и революционный марксизм. Этой философии был свойствен необыкновенный динамизм. Белинский переживает бурный кризис, по Гегелю примиряется с «действительностью», порывает с друзьями, с Герценом и с другими, и уезжает в Петербург. Революционер по натуре, склонный к протесту и бунту, на недолгое время делается консерватором, пишет, взволновавшую и возмутившую всех, статью о годовщине Бородинского сражения, требует примирения с «действительностью». Он принимает гегелевскую философию тоталитарно. Он восклицает: «Слово действительность имеет для меня то же значение, что Бог!» «Общество, – говорит Белинский, – всегда правее и выше частного лица». Это было сказано в его несправедливой статье о «Горе от ума». Из этого могут быть сделаны и консервативные и революционные выводы. Белинский делает консервативный вывод и пишет апологию власти. Он вдруг проникается мыслью, что право есть сила и сила есть право, он оправдывает завоевателей. Он проповедует смирение разума перед историческими силами, признает особую нравственность для завоевателей, для великих художников и пр. Действительность прекрасна, страдание – форма блаженства. Было время, когда поэзия представлялась квинтэссенцией жизни. Белинский решительный идеалист, для него выше всего идея, выше живого человека. Личность должна смириться перед истиной, перед действительностью, перед универсальной идеей, действующей в мировой истории. Тема была поставлена остро и пережита со страстью. Белинский не мог долго на этом удержаться, и он разрывает с «действительностью» в Петербурге, возвращается к друзьям. После этого разрыва начинается бунт, решительный бунт против истории, против мирового процесса, против универсального духа во имя живого человека, во имя личности. У нас было два кризиса гегелианства, кризис религиозный, в лице Хомякова, и кризис морально-политический и социальный, в лице Белинского.
2
Тема о столкновении личности и истории, личности и мировой гармонии есть очень русская тема, она с особенной остротой и глубиной пережита русской мыслью. И первое место тут принадлежит бунту Белинского. Это нашло себе выражение в замечательном письме к Боткину[36]. Белинский говорит про себя, что он страшный человек, когда ему в голову заберется мистический абсурд. Многие русские люди могли бы сказать это про себя. После пережитого кризиса Белинский выражает свои новые мысли в форме восстания против Гегеля, восстания во имя личности, во имя живого человека. Он переходит от пантеизма к антропологизму, что аналогично более спокойному философскому процессу, происшедшему в Фейербахе. Власть универсальной идеи, универсального духа – вот главный враг. «К черту все высшие стремления и цели, – пишет Белинский. – Я имею особенно важные причины злиться на Гегеля, ибо чувствую, что был верен ему, мирясь с российской действительностью… Судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира… Мне говорят: развивай все сокровища своего духа для свободного самоуслаждения духом, плачь, дабы утешиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень развития, а спотыкнешься, – падай, черт с тобой… Благодарю покорно, Егор Федорович (Гегель), кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уваженьем, честь имею донести вам, что, если бы мне и удалось взлезть на верхнюю ступень лестницы развития, – я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови… Это, кажется, мое последнее миросозерцание, с которым я и умру». «Для меня думать и чувствовать, понимать и страдать – одно и то же». «Судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судьбы всего мира и здоровия китайского императора (т. е. гегелевской Allgemeinheit)». Выраженные Белинским мысли поражают сходством с мыслями Ивана Карамазова, с его диалектикой о слезинке ребенка и мировой гармонии. Это совершенно та же проблема о конфликте частного, личного с общим, универсальным, то же возвращение билета Богу. «Субъект для него (Гегеля) не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него в отношении к субъекту Молохом». Огромное, основоположное значение для дальнейшей истории русского сознания имеет то, что у Белинского бунт личности против мировой истории и мировой гармонии приводит его к культу социальности. Действительность не разумна и должна быть радикально изменена во имя человека. Русский социализм первоначально имел индивидуалистическое происхождение. «Во мне развивалась какая-то дикая, бешеная, фанатическая любовь к свободе и независимости человеческой личности, которая возможна только при обществе, основанном на правде и доблести… Я понял французскую революцию, понял и кровавую ненависть ко всему, что хотело отделиться от братства с человечеством… Я теперь в новой крайности – это идея социализма, которая стала для меня идеей новой, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания. Все из нее, для нее и к ней… Я все более и более гражданин вселенной. Безумная жажда любви все более и более пожирает мою внутренность, тоска тяжелее и упорнее… Личность человеческая сделалась пунктом, на котором я боюсь сойти с ума». «Я начинаю любить человечество по-маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную». Он восклицает: «Социальность, социальность или смерть!» Белинский является предшественником русского коммунизма, гораздо более Герцена и всех народников. Он уже утверждал большевистскую мораль. Тема о столкновении личности и мировой гармонии достигает гениальной остроты у Достоевского. Его мучила проблема теодицеи. Как примирить Бога и миротворение, основанное на зле и страдании? Можно ли согласиться на сотворение мира, если в мире этом будет невинное страдание, невинное страдание хотя бы одного ребенка? Ив. Карамазов в разговоре с Алешей раскрывает гениальную диалектику о слезинке ребенка. И это очень напоминает тему, поставленную Белинским. Тема впервые с большой остротой выражена в «Записках из подполья». Тут чувство личности, не согласной быть штифтиком мирового механизма, частью целого, средством для целей установления мировой гармонии, доведено до безумия. Тут Достоевский высказывает гениальные мысли о том, что человек совсем не есть благоразумное существо, стремящееся к счастью, что он есть существо иррациональное, имеющее потребность в страдании, что страдание есть единственная причина возникновения сознания. Подпольный человек не согласен на мировую гармонию, на хрустальный дворец, для которого сам он был бы лишь средством. «Свое собственное, вольное и свободное хотение, – говорит подпольный человек, – свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы до сумасшествия, – вот это-то и есть та самая, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и которой все системы и теории постепенно разлетаются к черту». Подобный человек не принимает результатов прогресса, принудительной мировой гармонии, счастливого муравейника, когда миллионы будут счастливы, отказавшись от личности и свободы. Это с наибольшей силой будет развито в «Легенде о Великом Инквизиторе» [37]. Подпольный человек восклицает: «Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего, среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен, с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в бок и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного раза ногой, прахом, единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и нам опять по своей глупой воле пожить!» У самого Достоевского была двойственность. С одной стороны, он не мог примириться с миром, основанным на страдании, и страдании невинном. С другой стороны, он не принимает мира, который хотел бы создать «эвклидов ум», т. е. мир без страданий, но и без борьбы. Свобода порождает страдания. Достоевский не хочет мира без свободы, не хочет и рая без свободы, он более всего возражает против принудительного счастья. Диалектика Ив. Карамазова о слезинке ребенка выражает мысли самого Достоевского. И вместе с тем для него эта диалектика атеистическая, богоборческая, которую он преодолевает своей верой в Христа. Ив. Карамазов говорит: «В окончательном результате я мира Божьего не принимаю, и хоть знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе». Мир может прийти к высшей гармонии, к всеобщему примирению, но это не искупит невинных страданий прошлого. «Не для того же я страдал, чтобы собою, злодействами и страданиями моими унавозить какую-то будущую гармонию». «От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка». Ив. Карамазов возвращает Богу свой билет на вход в мировую гармонию. Проблема страдания стоит в центре творчества Достоевского. И в этом он очень русский. Русский человек способен выносить страдание лучше западного, и вместе с тем он исключительно чувствителен к страданию, он более сострадателен, чем человек западный. Русский атеизм возник по моральным мотивам, вызван невозможностью разрешить проблему теодицеи. Русским свойствен своеобразный маркионизм. Творец этого мира не может быть добрым, потому что мир полон страданий, страданий невинных. Для Достоевского вопрос этот решается свободой, как основой мира, и Христом, т. е. принятием на себя страданий мира самим Богом. У Белинского, очень посюстороннего по натуре, эта тема привела к индивидуалистическому социализму. Вот как выражает Белинский свою социальную утопию, свою новую веру: «И настанет время, – я горячо верю этому, настанет время, когда никого не будут жечь, никому не будут рубить головы, когда преступник, как милости и спасения, будет молить себе конца, и не будет ему казни, но жизнь останется ему в казнь, как теперь смерть; когда не будет бессмысленных форм и обрядов, не будет договоров и условий на чувства, не будет долга и обязанностей, и воля будет уступать не воле, а одной любви; когда не будет мужей и жен, а будут любовники и любовницы, и когда любовница придет к любовнику и скажет: „я люблю другого“, любовник ответит: „я не могу быть счастлив без тебя, я буду страдать всю жизнь, но ступай к тому, кого ты любишь“, и не примет ее жертвы, если по великодушию она захочет остаться с ним, но, подобно Богу, скажет ей: хочу милости, а не жертв… Не будет богатых, не будет бедных, ни царей и подданных, но будут братья, будут люди и, по глаголу Ап. Павла, Христос даст свою власть Отцу, а Отец-Разум снова воцарится, но уже на новом небе и над новою землей» [38]. Индивидуалистический социализм был и у Герцена, который более всего дорожил личностью, а в 70-е годы у Н. Михайловского и П. Лаврова. Русская мысль подвергла сомнению оправданность мировой истории и цивилизации. Русские прогрессисты-революционеры сомневались в оправданности прогресса, сомневались в том, что грядущие результаты прогресса могут искупить страдания и несправедливости прошлого. Но один Достоевский понимал, что эта тема разрешена лишь в христианстве. Белинский не замечал, что после бунта против власти общего универсального у Гегеля он вновь подчиняет человеческую личность общему универсальному – социальности, господину не менее жестокому. Русским одинаково свойственны персонализм и коммунитарность. В Достоевском соединяется и то и другое. Самое восстание Достоевского против революционеров, часто очень несправедливое, происходило во имя личности и свободы. Он вспоминает: «Белинский верил всем существом своим, что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, восстанавливает ее в неслыханном величии». Сам Достоевский не верил в это. Гениальность его темы, порождающей все противоречия, была в том, что человек берется как бы выпавшим из миропорядка. Это и было открытием подпольности, на языке научном – сферы подсознательного.
3
В 40-е годы уже начинали писать великие русские писатели, которые принадлежат последующей эпохе. О Достоевском и Л. Толстом речь будет позже. Но творчество Гоголя принадлежит эпохе Белинского и людей 40-х годов. Гоголь принадлежит не только истории литературы, но и истории русских религиозных и религиозно-социальных исканий. Религиозная тема мучила великую русскую литературу. Тема о смысле жизни, о спасении человека, народа и всего человечества от зла и страдания преобладала над темой о творчестве культуры. Русские писатели не могли оставаться в пределах литературы, они переходили эти пределы, они искали преображения жизни. И у них являлось сомнение в оправданности культуры, в оправданности их собственного творчества. Русская литература XIX в. носила учительский характер, писатели хотели быть учителями жизни, призывали к улучшению жизни. Гоголь один из самых загадочных русских писателей[39]. Он пережил мучительную религиозную драму и, в конце концов, сжег вторую часть «Мертвых душ» при обстоятельствах, остающихся загадочными. Его драму сомнений в своем творчестве на Западе напоминает драма Боттичелли, когда он пошел за Савонаролой, и драма янсениста Расина. Как и многие русские люди, он искал Царства Божьего на земле. Но искания эти принимают у него извращенную форму. Гоголь один из величайших и самых совершенных русских художников. Он не реалист и не сатирик, как раньше думали. Он фантаст, изображающий не реальных людей, а элементарных злых духов, прежде всего духа лжи, овладевшего Россией. У него даже было слабое чувство реальности, и он неспособен был отличить правду от вымысла. Трагедия Гоголя была в том, что он никогда не мог увидеть и изобразить человеческий образ, образ Божий в человеке. И это его очень мучило. У него было сильное чувство демонических и магических сил. Гоголь наиболее романтик из русских писателей, близкий к Гофману. У него совсем нет психологии, нет живых душ. О Гоголе было сказано, что он видит мир sub specie mortis. Он сознавался, что у него нет любви к людям. Он был христианин, переживавший свое христианство страстно и трагически. Но он исповедовал религию страха и возмездия. В его духовном типе было что-то нерусское. Поразительно, что христианский писатель Гоголь был наименее человечным из русских писателей, наименее человечным в самой человечной из литератур[40]. Нехристиане – Тургенев, Чехов – были более человечны, чем христианин Гоголь. Он был подавлен чувством греха, был почти средневековым человеком. Он ищет прежде всего спасения. Гоголь, в качестве романтика, сначала верил, что через искусство можно достигнуть преображения жизни. Эту веру он теряет и выражает свое разочарование по поводу «Ревизора». В нем усиливается аскетическое сознание, и он проникается аскетическим сомнением в оправданности творчества. У Гоголя было сильное чувство зла, и это чувство совсем не было исключительно связано с общественным злом, с русским политическим режимом, оно было глубже. Он склонен к публичному покаянию. Иногда у него вырывается признание, что у него нет веры. Он хочет осуществить религиозно-нравственное служение и подчинить ему свое художественное творчество. Он печатает «Выбранные места из переписки с друзьями», книгу, вызвавшую бурю негодования в левом лагере. Его признают изменником освободительного движения.
То, что Гоголь проповедовал личное нравственное совершенствование и без него не видел возможности достижения лучшей общественной жизни, может привести к неверному его пониманию. Эта идея, сама по себе верная, не могла бы вызвать негодования против него. Но в действительности, подобно многим русским, он проповедовал социальное христианство. И вот это социальное христианство было ужасно. Гоголь в своем рвении религиозно-нравственного учительства предложил свою теократическую утопию, патриархальную идиллию. Он хочет преобразовать Россию посредством добродетельных генерал-губернаторов и генерал-губернаторш. Сверху донизу сохраняется авторитарный строй, сохраняется и крепостное право. Но иерархически высшие – добродетельны, иерархически низшие – покорны и послушны. Утопия Гоголя низменная и рабья. Нет духа свободы, нет горячего призыва вверх. Все проникнуто невыносимым мещанским морализмом. Белинский не понимал религиозной проблемы Гоголя, это было вне пределов его сознания. Но он не без основания пришел в состояние страшного негодования, на которое только он был способен. Он пишет знаменитое письмо Гоголю. Он поклонялся Гоголю как писателю. И вдруг великий русский писатель отказывается от всего, что было дорого и свято Белинскому. «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник мракобесия, панегирист татарских нравов – что вы делаете!» В письме определяется отношение Белинского к христианству и Христу. «Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем вы примешали тут?.. Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения». «Если бы действительно преисполнились истиною Христовою, а не диаволова учения, – совсем не то написали бы в вашей новой книге. Вы сказали бы помещику, что так как его крестьяне – его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или хотя, по крайней мере, пользоваться их трудами как можно выгоднее для них, сознав себя, в глубине своей совести, в ложном положении в отношении к ним». Гоголь был раздавлен тем приемом, который встретили «Выбранные места из переписки с друзьями». Гоголь – одна из самых трагических фигур в истории русской литературы и мысли. Л. Толстой будет тоже проповедовать личное нравственное совершенствование, но он не построит рабьего учения об обществе, наоборот, он будет обличать ложь этого общества. И все же, несмотря на отталкивающий характер книги Гоголя, у него была идея, что Россия призвана нести братство людям. Самое искание Царства Божьего на земле было русским исканием. С Гоголя начинается религиозно-нравственный характер русской литературы, ее мессианства. В этом большое значение Гоголя, помимо его значения как художника. У русских художников будет жажда перейти от творчества художественных произведений к творчеству совершенной жизни. Тема религиозно-метафизическая и религиозно-социальная мучит всех значительных русских писателей.
Один из самых глубоких русских поэтов, Тютчев, в своих стихах выражает метафизически-космическую тему, и он же предвидит мировую революцию. За внешним покровом космоса он видит шевелящийся хаос. Он поэт ночной души природы:
И бездна нам обнажена С своими страхами и мглами, И нет преград меж ей и нами: Вот отчего нам ночь страшна. Мир этот есть Ковер, накинутый над бездной, И мы плывем, пылающею бездной Со всех сторон окружены.Самое замечательное стихотворение «О чем ты воешь, ветр ночной» кончается строками:
О, бурь заснувших не буди: Под ними хаос шевелится.Этот же хаос Тютчев чувствует и за внешними покровами истории и предвидит катастрофы. Он не любит революцию и не хочет ее, но считает ее неизбежной. Русской литературе свойствен профетизм, которого нет в такой силе в других литературах. Тютчев чувствовал наступление «роковых минут» истории. В стихотворении, написанном по совсем другому поводу, есть изумительные строки:
Счастлив, кто посетил сей мир В его минуты роковые: Его призвали всеблагие Как собеседника на пир.Мы сейчас такие «счастливые собеседники», но Тютчев предвидел это сто лет тому назад. Он предвидел грядущие катастрофы для России:
Ты долго ль будешь за туманом Скрываться, Русская звезда, Или оптическим обманом Ты облачишься навсегда? Ужель навстречу жадным взорам, К тебе стремящимся в ночи, Пустым и ложным метеором Твои рассыплются лучи? Все гуще мрак, все пуще горе, Все неминуемей беда.У Тютчева было целое обоснованное теократическое учение, которое по грандиозности напоминает теократическое учение Вл. Соловьева. У многих русских поэтов было чувство, что Россия идет к катастрофам. Еще у Лермонтова, который выражал почти славянофильскую веру в будущее России, было это чувство. У него есть страшное стихотворение:
Настанет год – России черный год, — Когда царей корона упадет, Забудет чернь к ним прежнюю любовь, И пища многих будет смерть и кровь; Когда детей, когда невинных жен Низвергнутый не защитит закон; Когда чума от смрадных мертвых тел Начнет бродить среди печальных сел, Чтобы платком из хижин вызывать; И станет глад сей бедный край терзать, И зарево окрасит волны рек: — В тот день явится мощный человек, И ты его узнаешь и поймешь, Зачем в руке его булатный нож.У того же Лермонтова была уже русская драма творчества – сомнение в его религиозной оправданности —
От страшной жажды песнопенья Пускай, Творец, освобожусь, — Тогда на тесный путь спасенья К Тебе я снова обращусь.В этих словах намечается уже религиозная драма, пережитая Гоголем. Лермонтов не был ренессансным человеком, как был Пушкин и, может быть, один лишь Пушкин, да и то не вполне. Русская литература пережила влияние романтизма, который есть явление западноевропейское. Но по-настоящему у нас не было ни романтизма, ни классицизма. У нас происходил все более и более поворот к религиозному реализму.
Глава IV
Проблема гуманизма. Гуманизм и гуманитаризм. Достоевский и диалектика гуманизма. Человекобожество и Богочеловечество. Христианский гуманизм Вл. Соловьева. Бухарев. Толстой. Розанов. Леонтьев. Переход атеистического гуманизма в антигуманизм. Христианский гуманизм.
1
Когда в XIX в. в России народилась философская мысль, то она стала, по преимуществу, религиозной, моральной и социальной. Это значит, что центральной темой была тема о человеке, о судьбе человека в обществе и в истории. Россией не был пережит гуманизм в западноевропейском смысле слова, у нас не было Ренессанса. Но, может быть, с особенной остротой у нас был пережит кризис гуманизма и обнаружена его внутренняя диалектика. Самое слово гуманизм употреблялось у нас неверно и может вызвать удивление у французов, которые считают себя гуманистами по преимуществу. Русские всегда смешивали гуманизм с гуманитаризмом и связывали его не столько с античностью, с обращением к греко-римской культуре, сколько с религией человечества XIX в., не столько с Эразмом, сколько с Фейербахом. Но слово гуманизм все-таки связано с человеком и означает приписывание человеку особенной роли. Первоначально европейский гуманизм совсем не означал признания самодостаточности человека и обоготворения человечества, он имел истоки не только в греко-римской культуре, но и в христианстве. Я говорил уже, что Россия почти не знала радости ренессансной творческой избыточности. Русским был понятнее гуманизм христианский. Именно русскому сознанию свойственно было сомнение религиозное, моральное и социальное в оправданности творчества культуры. Это было сомнение и аскетическое и эсхатологическое. Шпенглер очень остро и хорошо характеризовал Россию, сказав, что она есть апокалиптический бунт против античности[41]. Это определяет глубокое различие между Россией и Западной Европой. Но если России не был свойствен гуманизм в западноевропейском ренессансном смысле, то ей была очень свойственна человечность, т. е. то, что иногда условно называют гуманитаризмом, и в русской мысли раскрывалась диалектика самоутверждения человека. Так как русский народ поляризованный, то с человечностью могли совмещаться и черты жестокости. Но человечность все же остается одной из характерных русских черт, она относится к русской идее на вершинах ее проявления. Лучшие русские люди в верхнем культурном слое и в народе не выносят смертной казни и жестоких наказаний, жалеют преступника. У них нет западного культа холодной справедливости. Человек для них выше принципа собственности, и это определяет русскую социальную мораль. Жалость к падшим, к униженным и оскорбленным, сострадательность очень русские черты. Отец русской интеллигенции, Радищев, был необыкновенно сострадателен. Русские моральные оценки в значительной степени определялись протестом против крепостного права. Это отразилось в русской литературе. Белинский не хочет блаженства для себя, для одного из тысячи, если братья его страдают. Н. Михайловский не хочет прав для себя, если мужики не имеют прав. Все русское народничество вышло из жалости и сострадания. Кающиеся дворяне в 70-е годы отказывались от своих привилегий и шли в народ, чтобы ему служить и с ним слиться. Русский гений, богатый аристократ Л. Толстой всю жизнь мучается от своего привилегированного положения, кается, хочет от всего отказаться, опроститься, стать мужиком. Другой русский гений, Достоевский, помешан на страдании и сострадании, это основная тема его творчества. Русский атеизм родился из сострадания, из невозможности перенести зло мира, зло истории и цивилизации. Это был своеобразный маркионизм, пережитый в сознании XIX в. Бог – Творец этого мира, отрицается во имя справедливости и любви. Власть в этом мире злая, управление миром дурное. Нужно организовать иное управление миром, управление человеком, при котором не будет невыносимых страданий, человек человеку будет не волком, а братом. Такова первоначальная эмоциональная основа русской религиозности, такова подпочва русской социальной темы. При этом русская жизнь становится под знак острого дуализма. Бесчеловечность, жестокость, несправедливость, рабство человека были объективированы в русском государстве, в империи, были отчуждены от русского народа и превратились во внешнюю силу. В стране самодержавной монархии утверждался анархический идеал, в стране крепостного права утверждали социалистический идеал. Раненные страданиями человеческими, исходящие от жалости, проникнутые пафосом человечности, не принимали империи, не хотели власти, могущества, силы. Третий Рим не должен быть могущественным государством. Но мы увидим, какой диалектический процесс привел русскую человечность к бесчеловечности.
Человечность лежала в основе всех наших социальных течений XIX в. Но они привели к коммунистической революции, которая отказалась признать человечность своим пафосом. Метафизическая диалектика гуманизма (условно сохраняю этот двойственный по своему смыслу термин) была раскрыта Достоевским. Он обозначает не русский только, но и мировой кризис гуманизма, так же как Ницше. Достоевский отказывается от идеалистического гуманизма 40-х годов, от Шиллера, от культа «высокого и прекрасного», от оптимистических представлений о человеческой природе, он переходит к «реализму действительной жизни», но к реализму не поверхностному, а глубинному, раскрывающему сокровенную глубину человеческой природы во всех ее противоречиях. К гуманизму (гуманитаризму) у него было двойственное отношение. С одной стороны, он до глубины проникнут человечностью, его сострадательность бесконечна, и он понимает бунт против Бога, основанный на невозможности выносить страдания мира. В самом падшем существе он раскрывает образ человеческий, т. е. образ Божий. Последний из людей имеет абсолютное значение. Но, с другой стороны, он обличает пути гуманистического самоутверждения и раскрывает его предельные результаты, которые именует человекобожеством. Диалектика гуманизма раскрывается, как судьба человека на свободе, выпавшего из миропорядка, который представлялся вечным. У Достоевского была очень высокая идея о человеке, он предстательствовал за человека, за человеческую личность, он перед Богом будет защищать человека. Его антропология есть новое слово в христианстве. Он самый страстный и крайний защитник свободы человека, какого только знает история человеческой мысли. Но он же раскрывает роковые результаты человеческого самоутверждения, безбожной, пустой свободы. Сострадательность и человечность у Достоевского превращаются в бесчеловечность и жестокость, когда человек приходит к человекобожеству, к самообожествлению. Не случайно назвали его «жестоким талантом». Достоевского все же можно назвать христианским гуманистом в сопоставлении с христианским или, вернее, лжехристианским антигуманизмом К. Леонтьева. Но он же провозглашает конец гуманистического царства. Европейский гуманизм был серединным царством, в нем не раскрывалось предельное, конечное, он не знал проблемы эсхатологической и не мучился ею. Это серединное царство хотело закрепить себя навеки. Это и было царство культуры по преимуществу. На Западе концом этого гуманистического царства было явление Ницше, который немного читал Достоевского и на которого он оказал влияние. Явление Ницше имеет огромное значение для судьбы человека. Он хотел пережить божественное, когда Бога нет, Бог убит, пережить экстаз, когда мир так низок, пережить подъем на высоту, когда мир плоский и нет вершин. Свою, в конце концов религиозную, тему он выразил в идее сверхчеловека, в котором человек прекращает свое существование. Человек был лишь переходом, он лишь унавоживал почву для явления сверхчеловека. Происходит разрыв с христианской и гуманистической моралью. Гуманизм переходит в антигуманизм. С большей религиозной глубиной эта проблема выражена у Достоевского. Кириллов, человек высокого духа, с большой чистотой и отрешенностью, выразил последние результаты пути обезбоженного, самоутверждающегося человека."…Будет новый человек, счастливый и гордый», – говорит Кириллов, как будто в бреду… «Кто победит боль и страх, тот сам Бог будет. Бог есть боль страха и смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет Бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, все новое». «Будет богом человек и переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся, и мысли, и все чувства». «Мир закончит тот, кому имя „человекобог“. – „Богочеловек?“ – переспрашивает Ставрогин. „Человекобог, – отвечает Кириллов, – в этом разница“.» Путь человекобожества ведет, по Достоевскому, к системе Шигалева и Великого Инквизитора, т. е. к отрицанию человека, который есть образ и подобие Божье, к отрицанию свободы. Лишь путь Богочеловечества и Богочеловека ведет к утверждению человека, человеческой личности и свободы. Такова экзистенциальная диалектика Достоевского. Человечность, оторванная от Бога и Богочеловека, перерождается в бесчеловечность. Этот переход Достоевский видел на примере атеиста-революционера Нечаева, который совершенно разрывает с гуманистической моралью, с гуманитаризмом и требует жестокости. При этом нужно сказать, что Нечаев, которого автор «Бесов» неверно изображает, был настоящим аскетом и подвижником революционной идеи и в своем «Катехизисе революционера» пишет как бы наставление к духовной жизни революционера, требуя от него отречения от мира. Но поставленная Достоевским проблема очень глубока. Термин «человекобожества», которым у нас злоупотребляли в XX в., может породить недоразумение, и он с трудом переводим на иностранные языки. Это ведь христианская идея, что человек должен достигнуть обожения, но не через самоутверждение и самодовольство. Гуманизм должен быть преодолен (Aufhebung), но не уничтожен, в нем была правда и иногда большая правда по сравнению с неправдой исторического христианства, в нем была великая правда против бестиализма[42]. Но раскрывается эсхатология гуманизма как серединного царства, и это более всего раскрывается русской мыслью. На этом серединном культурном царстве нельзя остановиться, как хотели бы гуманисты Запада, оно разлагается, и обнажаются предельно конечные состояния.
Вл. Соловьев может быть назван христианским гуманистом. Но это гуманизм совсем особенный. Полемизируя с правым христианским лагерем, Вл. Соловьев любил говорить, что гуманистический процесс истории не только есть христианский процесс, хотя бы то и не было сознано, но что неверующие гуманисты лучше осуществляют христианство, чем верующие христиане, которые ничего не сделали для улучшения человеческого общества. Неверующие гуманисты новой истории пытались создавать общество более человечное и свободное, верующие же христиане им противодействовали, защищая и охраняя общество, основанное на насилии и порабощении. Вл. Соловьев особенно выразил это в статье «Об упадке средневекового миросозерцания» и вызвал бурное негодование К. Леонтьева. Он тогда уже разочаровался в своей теократической утопии. Основной идеей христианства он считал идею Богочеловечества, о чем речь будет, когда буду говорить о русской религиозной философии. Это основоположная идея этой философии. Гуманизм (или гуманитаризм) входит составной частью в религию Богочеловечества. В личности Иисуса Христа произошло соединение божественной и человеческой природы, и явился Богочеловек. То же должно произойти в человечестве, в человеческом обществе, в истории. Осуществление Богочеловечества, богочеловеческой жизни предполагает активность человека. В прошлом христианстве не было достаточной активности человека, особенно в православии, и человек часто бывал подавлен. Освобождение человеческой активности в новой истории было необходимо для осуществления Богочеловечества. Отсюда гуманизм, который в сознании может быть не христианским и антихристианским, приобретает религиозный смысл, без него цели христианства не могли бы осуществиться. Вл. Соловьев пытается религиозно осмыслить опыт гуманизма. Это одна из главных его заслуг. Но направление его было примирительное и синтезирующее, у него нет тех трагических конфликтов и разверзающихся бездн, которые раскрываются у Достоевского. Лишь под конец жизни им овладевают пессимистические апокалиптические настроения и ожидание скорого пришествия антихриста. Мысль Вл. Соловьева входит в русскую диалектику о человеке и человечности и неотделима от нее. Его религиозная философия проникнута духом человечности, но она внешне выражена слишком холодно, в ней присущая ему личная мистика рационализирована.
Бухарев, один из наиболее интересных богословов, порожденных нашей духовной средой. Он был архимандритом и ушел из монашества. Он интегрировал человечность целостному христианству. Он требует приобретения Христа всей полнотой человеческой жизни. Всякая истинная человечность для него Христова. Он против умаления человеческой природы Христа, против всякой монофизической тенденции.
Л. Толстого нельзя назвать гуманистом в западном смысле. Его религиозная философия некоторыми своими сторонами ближе к буддизму, чем к христианству. Но русская человечность ему очень свойственна. Она выразилась в его бунте против истории и против всякого насилия, в его любви к простому трудовому народу. Толстовское учение о непротивлении, толстовское отрицание насилий истории могло возникнуть лишь на русской духовной почве. Л. Толстой есть антипод Ницше, он есть русское противоположение Ницше, как и Гегелю. Значительно позже В. Розанов, когда он принадлежал еще к славянофильскому консервативному лагерю, говорит с возмущением, что человек превращен в средство исторического процесса, и спрашивает, когда же человек появится как цель[43]. Только в религии открывается для него значение человеческой личности. Розанов думает, что русскому народу не свойствен пафос величия истории, и в этом он видит преимущество перед народами Запада, помешанными на историческом величии. Лишь один К. Леонтьев думал иначе, чем большая часть русских, и во имя красоты восстает против человечности. Но во имя умственного богатства и многообразия народ должен иметь и свои возражения против основной своей направленности.
К. Леонтьев был ренессансным человеком, любил цветущую культуру. Красота ему была дороже человека, и во имя красоты он был согласен на какие угодно страдания и истязания людей. Он проповедовал мораль ценностей, ценностей красоты, цветущей культуры, государственного могущества в противоположность морали, основанной на верховенстве человеческой личности, на сострадании к человеку. Не будучи жестоким человеком, он проповедовал жестокость во имя своих высших ценностей, совсем как Ницше. К. Леонтьев первый русский эстет, он думает «не о страждущем человечестве, а о поэтическом человечестве». В отличие от большей части русских людей, он любил мощь государства. Для него нет гуманных государств, что может быть и верно, но не меняет наших оценочных суждений. Гуманистическое государство есть государство разлагающееся. Все болит у древа жизни. Принятие жизни есть принятие боли. К. Леонтьев не только не верит в возможность царства правды и справедливости на земле, но он и не хочет осуществления правды и справедливости, предполагая, что в таком царстве не будет красоты, которая всюду для него связана с величайшими неравенствами, несправедливостями, насилиями и жестокостями. Смелость и радикализм мысли К. Леонтьева в том, что он осмеливается признаться в том, в чем другие не осмеливаются признаться. Чистое добро некрасиво; чтобы была красота в жизни, необходимо и зло, необходим контраст тьмы и света. Более всего К. Леонтьев ненавидит эвдемонизм. Он восстает против идеи блага людей. Он исповедует эстетический пессимизм. Он считает либерально-эгалитарный процесс уродливым, но вместе с тем и фатальным. Он не верит в будущее своего собственного идеала. Этим он отличается от обычного типа реакционеров и консерваторов. Мир идет к уродливому упростительному смешению. Мы увидим, как натуралистическая социология переходит у него в апокалиптику, и оценки эстетические совпадают у него с оценками религиозными. Братство и гуманизм он признает лишь для личного спасения души. Он проповедует трансцендентный эгоизм. В первую половину своей жизни он искал счастья в красоте, во вторую половину жизни он искал спасения от гибели[44]. Но он не ищет Царства Божьего, особенно не ищет Царства Божьего на земле. Ему чужда русская идея братства людей и русское искание всеобщего спасения, ему чужда русская человечность. Он обличает «розовое христианство» Достоевского и Л. Толстого. Странное обвинение Достоевского, христианство которого трагично. К. Леонтьев одинокий мечтатель, он стоит в стороне и выражает обратный полюс тому, на котором формировалась русская идея. Но и он хотел особенных путей для России. Он отличался большой проницательностью и многое предвидел и предсказал. Тема о судьбе культуры была им очень остро поставлена. Он предвидел возможный декаданс культуры, он многое сказал раньше Ницше, Гобино, Шпенглера. У него была эсхатологическая направленность. Но следовать за Леонтьевым нельзя, его последователи делаются отвратительными.
Как я говорил уже, есть внутренняя экзистенциальная диалектика, в силу которой гуманизм переходит в антигуманизм, самоутверждение человека приводит к отрицанию человека. В России завершительным моментом этой диалектики гуманизма был коммунизм. Он также имел гуманитарные истоки, он хотел бороться за освобождение человека от рабства. Но в результате социальный коллектив, в котором человек должен был быть освобожден от эксплуатации и насилия, делается поработителем человеческой личности. Утверждается примат общества над личностью, пролетариата – вернее, идеи пролетариата – над рабочим, над конкретным человеком. Человек, освобождающийся от идолопоклонства прошлого, впадает в новое идолопоклонство. Мы видим это уже у Белинского.
Освободившаяся от власти «общего» личность подчиняется власти нового «общего» – социальности. Во имя торжества социальности можно совершить насилие над человеческими личностями, какие угодно средства дозволены для осуществления высшей цели. В нашем социалистическом движении Герцен был наиболее свободен от идолопоклонства. Как было у самого Маркса? В этом отношении очень поучительны произведения молодого Маркса, сравнительно поздно изданные[45]. Истоки его были гуманистические, он боролся за освобождение человека. Его восстание против капитализма основано было на том, что в капиталистическом обществе происходит отчуждение человеческой природы рабочего, обесчеловечение, овеществление его. Весь моральный пафос марксизма был основан на борьбе против этого отчуждения и обесчеловечения. Марксизм требовал возврата человеку-рабочему полноты его человеческой природы. В молодых произведениях Маркса намечалась возможность экзистенциальной социальной философии. Маркс расплавляет застывшие категории классической буржуазной политической экономии. Он отрицает вечные экономические законы, отрицает за хозяйством характер вещной объективной реальности. Экономика есть лишь активность людей и отношения людей. Капитализм означает лишь отношения живых людей в производстве. Активность человека может изменить отношения людей, изменить экономику, которая есть лишь историческое образование, по существу преходящее. Марксизм по своим первоначальным основам совсем не был тем социологическим детерминизмом, который позже начали утверждать и его друзья, и его враги. Маркс был еще близок к германскому идеализму, из которого он вышел. Но он изначально признал абсолютное верховенство человека, для него человек был верховной ценностью, не подчиненной ничему высшему, и потому гуманитаризм его подвергся экзистенциальному диалектическому процессу разложения. Замечательное учение о фетишизме товаров есть экзистенциальная социология, которая видит первичную реальность в трудовой человеческой активности, а не в объективированных вещных реальностях или quasi-реальностях. Человек принимает за внешнюю реальность, порабощающую его, то, что есть его собственный продукт, им самим произведенная объективация и отчуждение. Но по философским и религиозным основам своего миросозерцания Маркс не мог дальше пойти верным путем. Он, в конце концов, увидел человека как исключительный продукт общества, класса и подчинил целиком человека новому обществу, идеальному социальному коллективу вместо того, чтобы подчинить общество человеку, окончательно освободить человека от категории социального класса. Русский коммунизм сделает из этого крайние выводы, и произойдет отречение от русской человечности не по целям, а по средствам. И так всегда будет, если будут утверждать человека вне Богочеловечества. Это глубже всех понял Достоевский, хотя его формулировка подлежит критике. Остается вечной истиной, что человек в том лишь случае сохраняет свою высшую ценность, свою свободу и независимость от власти природы и общества, если есть Бог и Богочеловечество. Это тема русской мысли.
2
На почве исторического православия, в котором преобладал монашески-аскетический дух, не была и не могла быть достаточно раскрыта тема о человеке. Преобладал монофизитский уклон. Святоотеческая антропология была ущербна, в ней не было соответствия истине христологической, не было того, что я назвал христологией человека в своей книге «Смысл творчества». Христианство учит об образе и подобии Божием в человеке и об очеловечении Бога. Антропология же исторического христианства учит о человеке почти исключительно, как о грешнике, которого нужно научить спасению. У одного св. Григория Нисского можно найти более высокое учение о человеке, но и у него еще не осмыслен творческий опыт человека[46]. Истина о человеке, о его центральной роли в мироздании, даже когда она раскрывалась вне христианства, имела христианские истоки и помимо христианства не может быть осмыслена. В русской христианской мысли XIX в. – в учении о свободе Хомякова, в учении о Богочеловечестве Вл. Соловьева, во всем творчестве Достоевского, в его гениальной диалектике о свободе, в замечательной антропологии Несмелова, в вере Н. Федорова в воскрешающую активность человека приоткрывалось что-то новое о человеке. Но официальное православие, официальная церковность не хотела об этом слышать. В историческом православии христианская истина о человеке оставалась как бы в потенциальном состоянии. Это та же потенциальность, нераскрытость, которая вообще была свойственна русскому народу в прошлом. Христианский Запад истощил свои силы в разнообразной человеческой активности. В России раскрытие творческих сил человека в будущем. Эта тема поставлена еще Чаадаевым и потом повторяется постоянно в нашей умственной и духовной истории. На почве русского православия, взятого не в его официальной форме, быть может, возможно раскрытие нового учения о человеке, а значит, и об истории и обществе. Ошибочно противопоставлять христианство и гуманизм. Гуманизм – христианского происхождения. Античный, греко-римский гуманизм, давно интегрированный христианству католичеством, не знал высшего достоинства и высшей свободы человека. В греческом сознании человек зависел от космических сил, греческое миросозерцание космоцентрично. В римском сознании человек целиком зависел от государства. Только христианство антропоцентрично и в принципе своем освобождает человека от власти космоса и общества. Противопоставление Достоевским Богочеловечества и человекобожества имеет глубокий смысл. Но самая терминология может вызвать сомнение и требует критического пересмотра. Человек должен стать богом и обожиться, но он может это сделать лишь через Богочеловека и в Богочеловечестве. Богочеловечество предполагает творческую активность человека. Движение идет и от человека к Богу, а не только от Бога к человеку. И это движение от человека к Богу нужно понимать совсем не в смысле выбора, совершаемого человеком через свободу воли, как это, например, понимает традиционное католическое сознание. Это есть творческое движение, продолжающееся миротворение. Но высшее сознание о человеке проходит у нас через раздвоение, через то, что Гегель называл несчастным сознанием. Гоголь яркий пример «несчастного сознания», но оно чувствуется и у Л. Толстого и Достоевского. Русская философия, развивавшаяся вне академических рамок, всегда была по своим темам и по своему подходу экзистенциальной. Социальная же тема была у нас лишь конкретизацией темы о человеке.
Глава V
Социальная тема. Социальная окраска русской мысли. Три периода социалистической мысли. Первоначальное влияние Сен-Симона и Фурье. Развитие русского социализма. Русское народничество и вера в особые пути России. Социализм Белинского. Индивидуалистический социализм Герцена. Обличение мещанства Запада. Чернышевский и «Что делать?». Писарев. Михайловский и «борьба за индивидуальность». Нечаев и «Катехизис революционера». Ткачев как предшественник Ленина. Искание социальной правды. Толстой. Достоевский. Соловьев. Леонтьев. Подготовка марксизма: Желябов. Плеханов.
1
В русском сознании XIX в. социальная тема занимала преобладающее место. Можно даже сказать, что русская мысль XIX в. в значительной своей части была окрашена социалистически. Если не брать социализм в доктринальном смысле, то можно сказать, что социализм глубоко вкоренен в русской природе. Это выражалось уже в том, что русский народ не знал римских понятий о собственности. О Московской России говорили, что она не знала греха земельной собственности, единственным собственником являлся царь, не было свободы, но было больше справедливости. Это интересно для объяснения возникновения коммунизма. Славянофилы так же отрицали западное буржуазное понимание частной собственности, как и социалисты революционного направления. Все почти думали, что русский народ призван осуществить социальную правду, братство людей. Все надеялись, что Россия избежит неправды и зла капитализма, что она сможет перейти к лучшему социальному строю, минуя капиталистический период в экономическом развитии. И все думали, что отсталость России есть ее преимущество. Русские умудрялись быть социалистами при крепостном праве и самодержавии. Русский народ самый коммюнотарный в мире народ, таковы русский быт, русские нравы. Русское гостеприимство есть черта коммюнотарности. Предшественниками русского социализма были Радищев и Пестель. У Пестеля социализм носил, конечно, аграрный характер. Первоначально у нас был социальный мистицизм, например у Печерина под влиянием Ламенэ. Основное влияние было влияние Сен-Симона и Фурье. Русские были страстными сенсимонистами и фурьеристами. Социализм этот сначала был чужд политики. М. В. Петрашевский, русский помещик, был убежденным фурьеристом и устроил у себя в деревне фаланстер, который крестьяне сожгли как новшество, противное их быту. Социализм его был мирный, не политический, а идиллический. Это была вера в возможность счастливой и справедливой жизни. Кружок Петрашевского собирался для мирных, мечтательных бесед об устройстве человечества «по новому штату» (выражение Достоевского). Петрашевский верил, что социализм по Фурье может быть осуществлен в России еще при самодержавной монархии. Замечательны слова его: «Не находя ничего достойного своей привязанности ни из женщин, ни из мужчин, я обрек себя на служение человечеству». Кончилось все это очень печально и очень характерно для исторической власти. В 1849 г. петрашевцы, как их называли, были арестованы, двадцать один человек были приговорены к смертной казни, в том числе Достоевский, с заменой каторгой. Из членов кружка Спешнев был наиболее революционного направления и может быть признан предшественником коммунизма. Он был наиболее близок к марксистским идеям и был воинствующим атеистом. Богатый помещик, аристократ, красавец – он послужил Достоевскому образцом для Ставрогина. Первые марксисты были русские. Чуть ли не самым первым последователем Маркса был русский степной помещик Сазонов, живший в Париже. Маркс не очень любил русских и был удивлен, что у него среди русских находятся последователи раньше, чем среди западных людей. Он не предвидел роли, которую он будет играть в России. Социализм у русских носил религиозный характер и тогда, когда был атеистическим. Устанавливают три периода русской социалистической мысли. Социализм утопический, влияние идей Сен-Симона и Фурье; социализм народнический, наиболее русский, более близкий к идеям Прудона; социализм научный, или марксистский[47]. Я бы прибавил к этому еще четвертый период – социализм коммунистический, который можно определить, как волюнтаристический, экзальтирующий революционную волю. Первоначально в русском социализме было решительное преобладание социального над политическим. Так было не только в социализме утопическом, но и в социализме народническом в 70-е годы. Лишь в конце 70-х годов, когда образовалась партия Народной Воли, социалистическое движение становится политическим и переходит к террористической борьбе. Иногда говорили, что социальный вопрос в России носит консервативный, а не революционный характер. Это связано было, главным образом, с русскими традиционными формами крестьянской общины и рабочей артели. Это была идеология мелкого производителя. Социалисты-народники боялись политического либерализма, так как он ведет за собой торжество буржуазии. Герцен противник политической демократии. Одно время он даже верит в полезную роль царя и готов поддерживать монархию, если она будет защищать народ. Социалисты более всего не хотят западного пути развития для России, хотят во что бы то ни стало избежать капиталистической стадии.
2
Народничество есть своеобразное русское явление, как своеобразно русским явлением был русский нигилизм и русский анархизм. Оно имело многообразные проявления. Было народничество консервативное и революционное, материалистическое и религиозное. Народниками были славянофилы и Герцен, Достоевский и революционеры 70-х годов. И всегда в основании лежала вера в народ как хранителя правды. Народ отличали от нации и даже противополагали эти два понятия. Народничество не есть национализм, хотя могло принимать националистическую окраску. Для религиозного народничества народ есть некий мистический организм, более уходящий и в глубь земли и в глубь духа, чем нация, которая есть рационализированное историческое образование, связанное с государством. Народ есть конкретная общность живых людей, нация же есть более отвлеченная идея. Но и в религиозном народничестве, у славянофилов, у Достоевского и Л. Толстого народ был по преимуществу крестьяне, трудовые классы общества. В народничестве же не религиозном, революционном, народ отождествлялся с социальной категорией трудового класса общества и его интересы отождествлялись с интересами труда. Народность и демократичность (в социальном смысле) смешивались. Славянофилы думали, что в простом народе, в крестьянстве более сохранилась русская народность и православная вера, характерная для русского народа, чем в классах образованных и господствующих. Для русского народничества, в отличие от национализма, оно имело анархическую тенденцию, и это в славянофильстве так же, как и в народничестве левого лагеря. Государство представлялось вампиром, сосущим кровь народа, паразитом на теле народа. Народническое сознание связано с разрывом, с противоположением, с отсутствием единства. Народ не есть единое целое данной исторической национальности. Народ противополагался то интеллигенции и образованным классам, то дворянству и классам господствующим. Обычно народник-интеллигент не чувствовал себя органической частью народного целого, исполняющей функцию в народной жизни. Он сознавал свое положение ненормальным, не должным, даже греховным. В народе не только скрыта правда, но и скрыта тайна, которую нужно разгадать. Народничество было порождением неорганического характера русской истории петровского периода, паразитарного характера массы русского дворянства. И лучшей, сравнительно небольшой части русского дворянства делает большую честь, что в ней возникло народническое сознание. Это народническое сознание было «работой совести», было сознание греха и покаяния. Это сознание греха и покаяния достигает своей вершины в лице Л. Толстого. У славянофилов это было по-иному и связано с ложной идеализацией допетровского периода русской истории, как органического. Поэтому социальная тема не была у них достаточно ясно выражена. Можно сказать, что славянофильская социальная философия заменяет церковь общиной и общину церковью. Но социальная идеология славянофилов носила народнический и антикапиталистический характер. По быту своему славянофилы оставались типичными русскими барами. Но, видя правду в простом народе, в крестьянстве, они пытались подражать народному быту. Это наивно выражалось в якобы народной русской одежде, которую они пробовали носить. По этому поводу Чаадаев острил, что К. Аксаков оделся до того по-русски, что его на улице принимали за персианина. У кающихся дворян 70-х годов, которые шли в народ, сознание греха перед народом и покаяние шли глубже. Но во всяком случае славянофилы верили, что пути России особые, что у нас не будет развития капитализма и образования сильной буржуазии, что сохранится общинность русского народного быта в отличие от западного индивидуализма. Торжествующая на Западе буржуазность их отталкивала, хотя, может быть, с меньшей остротой, чем Герцена.
В последний период у Белинского складывалось миросозерцание, которое можно считать основой русского социализма. После него в истории нашей социалистической мысли руководящую роль будет играть публицистическая критика. За ней скрывалась наша социальная мысль от цензуры. Это имело печальные последствия для самой литературной критики, которая не стояла на высоте русской литературы. Было уже сказано, что новый девиз Белинского был: «Социальность, социальность или смерть». Белинский любил литературу, и у него, как у критика, была большая чуткость. Но из сострадания к несчастным он отказал в праве думать об искусстве, о знании. Им овладела социальная утопия, страстная вера, что не будет больше богатых и бедных, не будет царей и подданных, люди будут братья, и наконец, поднимется человек во весь свой рост. Я употребляю слово «утопия» совсем не для обозначения неосуществимости, а лишь для обозначения максимального идеала. Ошибочно было бы думать, что социализм Белинского был сентиментальным, он был страстным, но не сентиментальным, и в нем звучали зловещие ноты: «Люди так глупы, что их насильно нужно вести к счастью». И для осуществления своего идеала Белинский не останавливается перед насилием и кровью. Белинский совсем не был экономистом, имел мало знаний, в этом он отличался от хорошо вооруженного Чернышевского. Но его можно признать, как я уже говорил, одним из предшественников русского марксистского социализма и даже коммунизма. Он менее типичный народник, чем Герцен. Белинскому принадлежат слова: «Не в парламент пошел бы освобожденный русский народ, а в кабак побежал бы пить вино, бить стекла и вешать дворян». Он признавал положительное значение за развитием в России буржуазии. Но и он думал, что Россия лучше Европы разрешит социальный вопрос. Белинский интересен потому, что в нем раскрывается первоначальная моральная основа русского социализма вообще.
Гораздо более характерен для народнического социализма Герцен. Он страстно любил свободу и защищал ценность и достоинство личности. Но он верил, что русский мужик спасет мир от торжествующего мещанства, которое он видел и в западном социализме, и у рабочих Европы. Он резко критикует парламентскую демократию, и это типично для народников. В европейском мещанском мире он видит два стана: «С одной стороны, мещане-собственники, упорно отказывающиеся поступиться своими монополиями, с другой – неимущие мещане, которые хотят вырвать из их рук их достояние, но не имеют силы, т. е., с одной стороны, скупость, с другой – зависть. Так как действительно нравственного начала во всем этом нет, то и место лица в той или другой стороне определяется внешними условиями состояния, общественного положения. Одна волна оппозиции за другой достигает победы, т. е. собственности или места, и, естественно, переходит со стороны зависти на сторону скупости. Для этого перехода ничего не может быть лучше, как бесплодная качка парламентских прений, – она дает движение и пределы, дает вид дела и форму общих интересов, для достижения своих личных целей» [48]. Тут Герцен обнаруживает большую проницательность. У Герцена были анархические тенденции, но анархизм этот был ближе к Прудону, самому родственному ему социальному мыслителю, чем к Бакунину. Поразительно, что скептический и критический Герцен искал спасения в сельской общине. В экономической отсталости России он видел ее великое преимущество для решения социального вопроса. Это мотив традиционный. Россия может не допустить развития капитализма, буржуазии и пролетариата. В русском народе есть задатки коммюнотарности, общности, возможного братства людей, которого нет уже у народов Запада. Там произошло грехопадение и изживаются его последствия. Герцен во многом сходится с славянофилами, но не имеет их религиозных основ. Наиболее трудно было Герцену соединить принцип общности, коммюнотарности с принципом личности и свободы. Герцен оставался верен своему социальному идеалу, но веры у него не было, ему был свойствен исторический пессимизм. Он имел опыт, которого не имел Белинский, и ему не свойственна была энтузиастическая вера последнего. У него была острая наблюдательность, мир же являл картины, мало благоприятные для оптимистических иллюзий. Типичный народник по своему социальному миросозерцанию, он остался индивидуальной и оригинальной фигурой в истории русской социальной мысли. В письме к Мишле в защиту русского народа Герцен писал: «Россия никогда не сделает революцию с целью отделаться от царя Николая и заменить его царями-представителями, царями-судьями, царями-полицейскими». Этим он хотел сказать, что в России не будет революции буржуазной, либеральной, а будет революция социальная. В этом было замечательное предвидение.
В 60-е годы меняются характер и тип русской интеллигенции, она имеет иной социальный состав. В 40-е годы интеллигенция была еще по преимуществу дворянской. В 60-е годы она делается разночинной. Приход разночинца – очень важное явление в истории русских социальных течений. В России возникает интеллигентный пролетариат, который будет ферментом революционного брожения. Большую роль будут играть интеллигенты, вышедшие из духовного сословия. Бывшие семинаристы делаются нигилистами. Чернышевский и Добролюбов – сыновья священников, воспитанные в семинарии. Есть что-то таинственное в возникновении общественных движений. В 60-е годы в России открывается «общество», образуется общественное мнение. Этого еще не было в 40-е годы, когда существовали одиночки и небольшие кружки. Центральной фигурой в русской социальной мысли 60-х годов был Н. Г. Чернышевский, он был идейным вождем. Необходимо отметить нравственный характер Чернышевского. Такие люди составляют нравственный капитал, которым впоследствии будут пользоваться менее достойные люди. По личным нравственным качествам это был не только один из лучших русских людей, но и человек, близкий к святости[49]. Да, этот материалист и утилитарист, этот идеолог русского «нигилизма» был почти святой. Когда жандармы везли его в Сибирь, на каторгу, то они говорили: нам поручено везти преступника, а мы везем святого. Дело Чернышевского было одной из самых отвратительных фальсификаций, совершенных русским правительством. Он был приговорен к девятнадцати годам каторги. Нужно было изъять Чернышевского как человека, который мог иметь вредное влияние на молодежь. Он вынес каторгу героически, можно было бы даже сказать, что он перенес свое мученичество с христианским смирением. Он говорил: я борюсь за свободу, но я не хочу свободы для себя, чтобы не подумали, что я борюсь из корыстных целей. Так говорил и писал «утилитарист». Он ничего не хотел для себя, он весь был жертва. В это время слишком многие православные христиане благополучно устраивали свои земные дела и дела небесные. Любовь Чернышевского к жене, с которой он был разлучен – одно из самых изумительных проявлений любви между мужчиной и женщиной, она еще выше любви Милля к своей жене, Льюиса к Дж. Элиот. Нужно читать письма Чернышевского с каторги к своей жене, чтобы вполне оценить нравственный характер Чернышевского и почти мистический характер его любви к жене. Случай Чернышевского поражает несоответствием между довольно жалкой материалистической и утилитарной его философией и его подвижнической жизнью, высотой его характера. Тут нужно вспомнить слова Вл. Соловьева: русским нигилистам свойствен такой силлогизм – человек произошел от обезьяны, следовательно, будем любить друг друга. Русские революционеры, которые будут вдохновляться идеями Чернышевского, ставят интересную психологическую проблему: лучшие из русских революционеров соглашались в этой земной жизни на преследования, нужду, тюрьму, ссылку, каторгу, казнь, не имея никаких надежд на иную, потустороннюю жизнь. Очень невыгодно было сравнение для христиан того времени, которые очень дорожили благами земной жизни и рассчитывали на блага жизни небесной. Чернышевский был очень ученый человек, он знал все, знал богословие, философию Гегеля, естественные науки, историю и был специалистом по политической экономии. Но тип его культуры не был особенно высоким, он был ниже типа культуры идеалистов 40-х годов, таков был результат демократизации. Маркс начал изучать русский язык, чтобы читать экономические труды Чернышевского, так высоко они оценивались. Чернышевскому прощали отсутствие литературного таланта. В его писаниях не было никакой внешней привлекательности, он не может сравниться с более блестящим Писаревым. Социализм Чернышевского был близок народническому социализму Герцена, он тоже хотел опираться на крестьянскую общину и на рабочую артель, так же хотел избежать капиталистического развития для России. В своей «Критике философских предубеждений против общинного землевладения» он, пользуясь терминологией гегелевской диалектики, пытался показать, что можно миновать средний капиталистический период развития, доведя его до крайнего минимума, почти до нуля. Основной его социальной идеей было противоположение национального богатства и народного благосостояния. При этом Чернышевский был за индустриальное развитие, и в этом не был народником, если под народничеством понимать требование, чтобы Россия оставалась исключительно земледельческой страной и не вступала на путь развития промышленности. Но он верил, что это промышленное развитие может совершаться не западным капиталистическим путем. Общенародническим у него оставался примат распределения над производством. Чернышевский готов был даже видеть в себе что-то общее с славянофилами. Но как велико психологическое различие между Чернышевским и Герценом, несмотря на сходство в социальных идеалах! Это – различие душевного склада разночинца и барина, демократа и человека аристократической культуры. Чернышевский писал о Герцене: «Какой умница! Какой умница! И как отстал! Ведь он до сих пор думает, что он продолжает остроумничать в московских салонах и препираться с Хомяковым. А время теперь идет с страшной быстротой: месяц стоит прежнего десятка лет. Присмотреться, – у него все еще внутри московский барин сидит». Тут метко выражено различие поколений, которое всегда играло такую огромную роль в России. Герцен по своей душевной структуре оставался «идеалистом» 40-х годов, несмотря на Фейербаха, на свой скептицизм. Более мягкий тип «идеалиста» 40-х годов заменяется более жестким типом «реалиста» 60-х годов. Так впоследствии более мягкий тип народника заменяется у нас более жестким типом марксиста, более мягкий тип меньшевика более жестким типом большевика. При этом лично Чернышевский нисколько не был жестким типом, он был необыкновенно человечен, любвеобилен, жертвен. Но мысль его была иначе окрашена, воля иначе направлена. Интеллигенты 60-х годов, «мыслящие реалисты», не признавали игры творческих избыточных сил, не признавали всего рождающегося от избытка досуга. Их реализм был беден, сознание сужено и сосредоточено на едином, главном для них, они были «иудеи», а не «эллины». Они противились всем утонченностям, противились и утонченному скепсису, который позволял себе Герцен, противились и игре остроумия, они были догматики. У «нигилистов» 60-х годов появляется аскетическая складка, характерная для последующей революционной интеллигенции. Без этой аскетической складки невозможна была бы героическая революционная борьба. Очень усиливается нетерпимость и изоляция себя от всего остального мира. Это приведет к «Катехизису революционера» Нечаева. Этот аскетический элемент был выражен в «Что делать?» Чернышевского.
«Что делать?» принадлежит к типу утопических романов. Художественных достоинств этот роман не имеет, он написан не талантливо. Социальная утопия, изложенная в сне Веры Павловны, довольно элементарная. Кооперативные швейные мастерские сейчас никого не могут испугать, не могут вызвать и энтузиазма. Но роман Чернышевского все же очень замечателен и имел огромное значение. Это значение было, главным образом, моральное. Это была проповедь новой морали. Роман, признанный катехизисом нигилизма, был оклеветан представителями правого лагеря, начали кричать о его безнравственности те, кому это менее всего было к лицу. В действительности, мораль «Что делать?» очень высокая и уже, во всяком случае, бесконечно более высокая, чем гнусная мораль «Домостроя», позорящего русский народ. Бухарев, один из самых замечательных русских богословов, признал «Что делать?» христианской по духу книгой. Прежде всего, это книга аскетическая, в ней есть тот аскетический элемент, которым была проникнута русская революционная интеллигенция. Герой романа Рахметов спит на гвоздях, чтобы приготовить себя к перенесению пытки, он готов во всем себе отказать. Наибольшие нападения вызвала проповедь свободной любви, отрицание ревности, как основанной на дурном чувстве собственности. Эти нападения исходили из правого, консервативного лагеря, который на практике наиболее придерживался гедонистической морали. Половая распущенность процветала, главным образом, в лагере гвардейских офицеров, праздных помещиков и важных чиновников, а не в лагере аскетически настроенной революционной интеллигенции. Мораль «Что делать?» должна быть признана очень чистой и отрешенной. Проповедь свободы любви есть проповедь искренности чувства и ценности любви как единственного оправдания отношений между мужчиной и женщиной. Прекращение любви с одной из сторон есть прекращение смысла отношений. Чернышевский восстает против всякого социального насилия над человеческими чувствами, он движется любовью к свободе, уважением к свободе и искренности чувства. Единственная любовь к женщине, которую знал Чернышевский в своей жизни, была примером идеальной любви. Тема свободы любви у Чернышевского ничего общего не имела с темой «оправдания плоти», которая у нас играла роль не у нигилистов и революционеров, а в утонченных и эстетизирующих течениях начала XX в. «Плоть» очень мало интересовала Чернышевского, она интересовала впоследствии Мережковского, его же интересовала свобода и правдивость. Повторяю, мораль романа «Что делать?» высокая, и она характерна для русского сознания. Русская мораль в отношении к полу и любви очень отличается от морали западной. Мы всегда были в этом отношении свободнее западных людей, и мы думали, что вопрос о любви между мужчиной и женщиной есть вопрос личности и не касается общества. Если французу сказать о свободе любви, то он представляет себе прежде всего половые отношения. Русские же, менее чувственные по природе, представляют себе совсем иное – ценность чувства, не зависящего от социального закона, свободу и правдивость. Серьезную и глубокую связь между мужчиной и женщиной, основанную на подлинной любви, интеллигентные русские считают подлинным браком, хотя бы он не был освящен церковным и государственным законом. И, наоборот, связь, освященную церковным законом, при отсутствии любви, при насилиях родителей и денежных расчетах считают безнравственной, она может быть прикрытым развратом. Русские менее законники, чем западные люди, для них содержание важнее формы. Поэтому свобода любви в глубоком и чистом смысле слова есть русский догмат, догмат русской интеллигенции, он входит в русскую идею, как входит отрицание смертной казни. Тут мы не сговоримся с западноевропейскими людьми, закованными в законническую цивилизацию, особенно не сговоримся с официальными католиками, превратившими христианство в религию закона. Для нас важнее человек, для них важнее общество и цивилизация. Чернышевский имел самую жалкую философию, которой была заполнена поверхность его сознания. Но глубина его нравственной природы внушала ему очень верные и чистые жизненные оценки. В нем была большая человечность, он боролся за освобождение человека. Он боролся за человека против власти общества над человеческими чувствами. Но мышление его оставалось социальным, у него не было психологии и не было метафизической глубины человека в его антропологии. Статья «Антропологический принцип в философии», навеянная Фейербахом, была слабой и поверхностной.
Д. Писарев и журнал «Русское слово» представляли другие течения в 60-е годы, чем Чернышевский и журнал «Современник». Если Чернышевского считали типичным социалистом, то Писарева считали индивидуалистом. Но и у Писарева были характерные русские социальные мотивы. Верховной ценностью для него была свободная человеческая личность, и он наивно связывал это с материалистической и утилитарной философией. Мы увидим, что тут было главное внутреннее противоречие русского «нигилизма». Писарев интересовался не только обществом, но и качеством человека, он хотел появления свободного человека. Таким человеком, «мыслящим реалистом», он считал только интеллигента, человека умственного труда. У него прорывается высокомерное отношение к представителям физического труда, чего нельзя встретить у Чернышевского. Но это не мешает ему отожествлять интересы личности и интересы труда, что потом будет развивать Н. Михайловский. Он требует полезного труда, проповедует идею экономии сил. Он пишет в статье «Реалисты»: «Конечная цель всего нашего мышления и всей деятельности каждого честного человека все-таки состоит в том, чтобы разрешить навсегда неизбежный вопрос о голодных и раздетых людях; вне этого вопроса нет решительно ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать». Выражено в крайней форме, но тут «нигилист» Писарев был ближе к Евангелию, чем «империалист», хотя бы и православный, считающий конечной целью могущество государства. Писарев заслуживает отдельного рассмотрения в связи с вопросом о русском нигилизме и русском отношении к культуре. Он интересен своим вниманием к теме о личности. Он представлял русское радикальное просвещение. Он не был народником.
3
70-е годы были у нас временем народничества по преимуществу. Интеллигенция шла в народ, чтобы уплатить ему свой долг, искупить свою вину. Первоначально это не было революционное движение. Политическая борьба за свободу отступила на второй план. Даже «Черный передел», стремившийся к переделу земли и отдаче ее крестьянам, был против политической борьбы. Народническая интеллигенция шла в народ, чтобы слиться с его жизнью, просвещать его и улучшить его экономическое положение. Революционный характер народническое движение приобретает лишь после того, как правительство начало преследования против деятельности народников, носившей культурный характер. Судьба народников 70-х годов была трагична потому, что они не только встречали преследования со стороны власти, но они не были приняты самим народом, который имел иное миросозерцание, чем интеллигенция, иные верования. Крестьяне иногда выдавали представителям власти народников-интеллигентов, которые готовы были отдать свою жизнь народу. Это привело к тому, что интеллигенция перешла к террористической борьбе. Но в период расцвета народнического движения и народнических иллюзий Н. Михайловский, властитель дум левой интеллигенции того времени, отказывается от свободы во имя социальной правды, во имя интересов народов. Он требует социальных, а не политических реформ. «Для „общечеловека“, для citoyen’a, – писал Михайловский, – для человека, вкусившего плодов общечеловеческого древа познания добра и зла, не может быть ничего соблазнительнее свободы политики, свободы совести, слова, устного и печатного, свободы обмена мыслей и пр. И мы желаем этого, конечно, но если все, связанные с этой свободой, права должны только протянуть для нас роль яркого ароматного цветка, – мы не хотим этих прав и этой свободы! Да будут они прокляты, если они не только не дадут нам возможности рассчитаться с долгами, но еще увеличат их!» Это место очень характерно для психологии народников 70-х годов. При этом нужно сказать, что у Михайловского не было народопоклонства, он представитель интеллигенции, и для него обязательны интересы народа, но не обязательны мнения народа, он совсем не стремился к опрощению. Он различает работу чести, свойственную трудовому народу, который должен восходить, и работу совести, которая должна быть свойственна привилегированным образованным классам, – они должны искупить свою вину перед народом. Работа совести есть покаяние в социальном грехе, и она захватывает Михайловского. В 70-е годы меняется умственная атмосфера. Крайности нигилизма сглаживаются. Происходит переход от материализма к позитивизму. Прекращается исключительное господство естественных наук, Бюхнер и Молешотт более не интересуют. На левую интеллигенцию влияют О. Конт, Д. С. Милль, Гер. Спенсер. Но отношение к течениям западной мысли делается более самостоятельным и критическим. В 70-е годы у нас уже был расцвет творчества Достоевского и Л. Толстого, появление Вл. Соловьева. Но левая народническая интеллигенция остается замкнутой в своем мире и имеет своих властителей дум. Наиболее интересен Н. Михайловский, человек умственно одаренный, замечательный социолог, поставивший интересные проблемы, но с очень невысокой философской культурой, знакомый, главным образом, с философией позитивизма. В отличие от людей 40-х годов, он почти совсем не знал немецкой идеалистической философии, которая могла бы помочь ему лучше решить беспокоившие его вопросы о «субъективном методе» в социологии и о «борьбе за индивидуальность» [50]. У него была очень верная и очень русская мысль о соединении правды-истины и правды-справедливости, о целостном познании всем существом человека. Это всегда думали и Хомяков и Ив. Киреевский, имевшие совсем иное философское и религиозное мировоззрение, а потом Вл. Соловьев. Н. Михайловский был совершенно прав, когда он восставал против перенесения методов естественных наук в науки социальные и настаивал на том, что в социологии неизбежны оценки. В этюдах «Герои и толпа» и «Патологическая магия» он употребляет метод психологического вживания, что нужно решительно отличать от нравственных оценок социальных явлений. В субъективном методе в социологии была неосознанная правда персонализма. Подобно Ог. Конту, Михайловский устанавливает три периода человеческой мысли, которые именует – объективно-антропоцентрический, эксцентрический и субъективно-антропоцентрический. Свое миросозерцание он называет субъективно-антропоцентрическим и противополагает его метафизическому (эксцентрическому) миросозерцанию. Экзистенциальная философия по-иному может быть признана субъективно-антропоцентрической. Христианство – антропоцентрично, оно освобождает человека от власти объективного мира и космических сил. Но в 70-е годы вся умственная жизнь стояла под знаком сиентизма и позитивизма. Тема Михайловского с трудом прорывалась через толщу позитивизма. Тема, поставленная еще Белинским и Герценом, о конфликте между человеческой личностью, индивидуумом, и природным и историческим процессом приобретает своеобразный характер в социологических работах Михайловского.
Вся социологическая мысль сторонника субъективного метода определялась борьбой против натурализма в социологии, против органичной теории общества и применения дарвинизма к социальному процессу. Но он не понимает, что натурализму в социологии нужно противополагать духовные начала, которые он не хочет признать, и он не видит, что сам остается натуралистом в социологии. Михайловский утверждает борьбу между индивидуумом как дифференцированным организмом и обществом как дифференцированным организмом. Когда побеждает общество как организм, то индивидуум превращается в орган общества, в его функцию. Нужно стремиться к устройству общества, при котором индивидуум будет не органом и функцией, а высшей целью. Для Михайловского таким обществом представлялось социалистическое общество. Общество капиталистическое в максимальной степени превращает индивидуум в орган и функцию. Поэтому Михайловский, как Герцен, является защитником индивидуалистического социализма. Он не делает философского различия между индивидуумом и личностью и индивидуум понимает слишком биологически; целостный индивидуум у него носит совершенно биологический характер. Он хочет максимального физиологического разделения труда и враждебен общественному разделению труда. При общественном разделении труда, при органическом типе общества, индивидуум лишь «палец от ноги общественного организма». Он резко критикует дарвинизм в социологии, и критика его бывает очень удачной. С позитивизмом Михайловского трудно примирить его верную идею, что пути природы и пути человека противоположны. Он враг «естественного хода вещей», он требует активного вмешательства человека в изменение «естественного хода». Он обнаружил очень большую проницательность, когда обличал реакционный характер натурализма в социологии и восставал против применения дарвиновской идеи борьбы за существование к жизни общества. Немецкий расизм есть натурализм в социологии. Михайловский защищал русскую идею, обличая ложь этого натурализма. Ту же идею я по-иному философски формулирую. Есть два понимания общества: или общество понимается как природа, или общество понимается как дух. Если общество есть природа, то оправдывается насилие сильного над слабым, подбор сильных и приспособленных, воля к могуществу, господство человека над человеком, рабство и неравенство, человек человеку – волк. Если общество есть дух, то утверждается высшая ценность человека, права человека, свобода, равенство и братство. Михайловский имеет в виду это различие, но выражает его очень несовершенно, в биологических категориях. Это есть различие между русской и немецкой идеей, между Достоевским и Гегелем, между Л. Толстым и Ницше.
Михайловский делает важное различие между типами и ступенями развития. Он думает, что в России есть высокий тип развития, но на низкой ступени развития. Высокая ступень развития европейских капиталистических обществ связана с низким типом развития. Эту же идею по-иному выражали славянофилы, это была и идея Герцена. Михайловский был общественник и мыслил общественно, как и вся левая русская интеллигенция. Но иногда он производит впечатление врага общества, он видит в обществе, в совершенном обществе врага личности. «Личность, – говорит он, – никогда не должна быть принесена в жертву; она свята и неприкосновенна». Народничество Михайловского выражалось в том, что он утверждал совпадение интересов личности и народа, личности и труда. Но это не помешало ему видеть возможность трагического конфликта личности и народных масс, он как бы предвидел конфликт, который случится в разгар русской революции. «У меня на столе стоит бюст Белинского, который мне очень дорог, вот шкаф с книгами, за которыми я провел много ночей. Если в мою комнату вломится русская жизнь со всеми ее бытовыми особенностями и разобьет бюст Белинского и сожжет мои книги, я не покорюсь и людям деревни; я буду драться, если у меня, разумеется, не будут связаны руки». Значит, может быть долг борьбы личности против общества-организма, но и против народа. Михайловский повсюду проводит идею борьбы за индивидуальность. «Человеческая личность представляет собою одну из ступеней индивидуальности». Он субъективно выбирает ее, как верховенствующую.
Защитником личности, сторонником индивидуалистического социализма был также П. Л. Лавров. Это был человек обширной учености, много ученее Михайловского, но менее талантливый, он писал очень скучно. Вначале профессор Артиллерийской академии, он провел значительную часть жизни в эмиграции и был идейным руководителем революционного движения 70-х годов. Про него острили, что он начинает обоснование революционного социализма космогонически, с движения туманных масс. Наиболее известен он своей книгой «Исторические письма», напечатанной под псевдонимом Миртова. Лавров утверждал антропологизм в философии и основным двигателем исторического процесса признавал критически мыслящие личности. Он проповедует обязанность личности развиваться. Но нравственные достоинства личности у него осуществляются в группе, в партии. Персонализм Лаврова ограничен. Для него, в сущности, человека, как отдельной личности, не существует, он образуется обществом. У Лаврова есть уже элементы марксизма. Но он, как и все социалисты-народники, противник либеральной борьбы за конституцию и хочет опереться на общину и артель. Социализм, связанный с позитивной философией, не дает возможности обосновать ценность и независимость личности. По-настоящему проблема личности поставлена Достоевским. Народничество Лаврова выражалось, главным образом, в том, что он признает вину интеллигенции перед народом и требует уплаты долга народу. Но в 70-е годы были формы народничества, которые требовали от интеллигенции полного отречения от культурных ценностей не только во имя блага народа, но и во имя мнений народа, эти формы народничества не защищали личности. Иногда народничество принимало религиозную и мистическую окраску. В 70-е годы существовали религиозные братства, и они тоже представляли одну из форм народничества. Народ жил под «властью земли», и оторванная от земли интеллигенция готова была подчиниться этой власти.
Интеллигенция разочаровалась в революционности крестьянства. В народе были еще сильны старые верования в религиозную освященность самодержавной монархии, он был более враждебен помещикам и чиновникам, чем царю. И народ плохо принимал просвещение, которое ему предлагала интеллигенция, чуждая религиозным верованиям народа. Все это наносило удар народничеству и объясняет переход к политической борьбе и террору. В конце концов, разочарование в крестьянстве привело к возникновению русского марксизма. Но в России были более крайние революционеры и по поставленным целям и в особенности по средствам и методам борьбы, чем преобладающие течения народнического социализма. Таковы Нечаев и Ткачев. Нечаев был изувер и фанатик, но натура героическая. Он проповедовал обман и грабеж как средства социального переворота и беспощадный террор. Это был настолько сильный человек, что во время своего пребывания в Алексеевском равелине он спропагандировал стражу тюрьмы и через нее передавал директивы революционному движению. Он был одержим одной идеей и во имя этой идеи требовал жертвы всем. Его «Катехизис революционера» есть своеобразно-аскетическая книга, как бы наставление к духовной жизни революционера. И предъявляемые им требования суровее требований сирийской аскезы. Революционер не должен иметь ни интересов, ни дел, ни личных чувств и связей, ничего своего, даже имени. Все должно быть поглощено единственным, исключительным интересом, единственной мыслью, единственной страстью – революцией. Все, что служит революции – морально, революция есть единственный критерий добра и зла. Нужно пожертвовать множественным во имя единого. Но это и есть принцип аскезы. При этом живая человеческая личность оказывается раздавленной, от нее отнимается все богатство содержания жизни во имя божества – революции. Нечаев требовал железной дисциплины и крайней централизации кружков, и в этом он предшественник большевизма. Революционная тактика Нечаева, допускавшая самые аморальные средства, оттолкнула большую часть русских революционеров народнического направления, она испугала даже Бакунина, об анархизме которого речь будет в другой главе. Наибольший идеологический интерес, как теоретик революции, представлял П. Ткачев, которого нужно признать предшественником Ленина[51]. Ткачев был противник Лаврова и Бакунина, он был очень враждебен всякой анархической тенденции, столь свойственной социалистам-народникам. Он был единственный из старых революционеров, который хотел власти и думал о способах ее приобретения. Он государственник, сторонник диктатуры власти, враг демократии и анархизма. Революция для него есть насилие меньшинства над большинством. Господство большинства есть эволюция, а не революция. Революции не делают цивилизованные люди. Нельзя допустить превращения государства в конституционное и буржуазное. По Ткачеву, тоже при всем его отличии от народничества, Россия должна избежать буржуазно-капиталистического периода развития. Он против пропаганды и подготовки революции, на чем особенно настаивал Лавров. Революционер должен всегда считать народ готовым к революции. Русский народ социалист по инстинкту. Отсутствие настоящей буржуазии есть преимущество России для социальной революции – мотив традиционно-народнический. Интересно, что Ткачев считал абсурдом разрушение государства. Он якобинец. Анархист хочет революции через народ, якобинец же через государство. Ткачев, подобно большевикам, проповедует захват власти революционным меньшинством и использование государственного аппарата для своих целей. Он сторонник сильной организации. Ткачев один из первых говорил в России о Марксе. Он пишет в 1875 г. письмо к Энгельсу, в котором говорит, что пути русской революции особые и что к России не применимы принципы марксизма. Маркс и Энгельс говорили о буржуазном характере революции в России и были скорее «меньшевиками», чем «большевиками». В этом отношении интересно письмо Маркса к Н. Михайловскому. Ткачев более предшественник большевизма, чем Маркс и Энгельс. Он интересен как теоретик русской революции и как предшественник большевизма. Мысли его острые. Но культурный уровень его очень невысок. Он был также литературным критиком, очень плохим, признал «Войну и мир» бездарным и вредным произведением. Это свидетельствует о существовании пропасти между движением революционным и движением культурным.
4
Теперь переходим в другой климат, в котором расцветал русский гений. Социально-революционная тема, когда ей отдавались целиком, подавляла сознание, вызывала конфликт с творческим богатством мысли, с цветением культуры. На русской социально-революционной мысли лежала печать своеобразного аскетизма. Подобно тому, как христианские аскеты прошлого думали, что нужно прежде всего бороться с личным грехом, русские революционеры думали, что нужно прежде всего бороться с социальным грехом. Все остальное приложится потом. Но были люди, которым было свойственно сильное чувство греха, которым не была чужда русская социальная тема и которые обнаружили гениальное творчество. Таковы прежде всего Л. Толстой, Достоевский и Вл. Соловьев. Великие русские писатели, столь противоположные по своему типу, представители религиозного народничества, оба верили в правду простого трудового народа. Русский гений, в отличие от западноевропейского, поднявшись на вершину, бросается вниз и хочет слиться с землей и народом, он не хочет быть привилегированной расой, ему чужда идея сверхчеловека. Достаточно сравнить Л. Толстого с Ницше. И Толстой и Достоевский, по основам своего миросозерцания, враждебны революционной интеллигенции, а Достоевский был к ней даже несправедлив, и его обличения напоминали памфлет. Но оба стремились к социальной правде, лучше сказать, что оба стремились к Царству Божьему, в которое входит и социальная правда. Для них тема социальная приобретала характер темы религиозной. Л. Толстой с небывалым радикализмом восстает против неправды и лжи истории, цивилизации, основ государства и общества. Он обличает историческое христианство, историческую церковь в приспособлении заветов Христа к закону этого мира, в замене Царства Божьего царством кесаря, в измене закону Бога. У него было потрясающее чувство вины, вины не только личной, но и того класса, к которому он принадлежал. Древний аристократ по рождению, настоящий гранд-сеньор, он не может вынести своего привилегированного положения и всю жизнь с ним борется. Такого отречения от своего аристократизма, от своего богатства и, в конце концов, от своей славы Запад не знал. Толстой совсем не был последователен, он не умел осуществить своей веры в жизни и сделал это лишь в конце жизни своим гениальным уходом. Его давила и притягивала вниз семья. Он был человек страстей, в нем была сильная стихия земли, инстинктами своими он был привязан к той самой земной жизни, от неправды которой он так страдал. Он совсем не был человеком вегетарианского темперамента. Он весь был в борьбе противоположных начал. Он был человек гордый, склонный к гневу, это был пацифист с воинствующим инстинктом, любил охоту, был картежник, проигравший в карты миллион, проповедник непротивления – он естественно склонен был к противлению и ничему и никому не мог покориться, его соблазняли женщины, и он написал «Крейцерову сонату». Когда в его отсутствие у него в деревне однажды сделали обыск, явление не редкое в России, он пришел в такое бешенство, что потребовал от правительства извинения перед ним, просил, чтобы его тетя, близкая ко двору, говорила об этом с Александром III, и грозил навсегда покинуть Россию. И он же, когда арестовывали и ссылали толстовцев, требовал, чтобы и его арестовали и сослали. Ему приходилось преодолевать в себе тяжесть земли, свою теллурическую природу, и он проповедовал духовную религию, близкую к буддизму. В этом интерес Л. Толстого и его единственной судьбы. Он искал правды и смысла жизни в простом народе и в труде. Чтобы слиться с народом и его верой, он одно время принуждал себя считать православным, соблюдал все предписания православной церкви, но не в силах был смириться, взбунтовался и начал проповедовать свою веру, свое христианство, свое Евангелие. Он требовал возврата от цивилизации к природе, которая для него была божественна. Наиболее радикально он отрицал земельную собственность и видел в ней источник всех зол. Этим он отрицал свою собственную помещичью природу. Из западной социальной мысли некоторое влияние на него имели Прудон и Генри Джордж. Наиболее чужд ему был марксизм. Об отношении Л. Толстого к Руссо я еще буду говорить в связи с учением о непротивлении злу насилием и его анархизмом. Толстовство, которое ниже самого Толстого, интересно, главным образом, своей критикой, а не положительным учением. Толстой был великий правдолюбец. В необыкновенно правдивой русской литературе XIX в. он был самым правдивым писателем. В русскую идею Л. Толстой входит, как очень важный элемент, без которого нельзя мыслить русского призвания. Если отрицание социального неравенства, обличение неправды господствующих классов есть очень существенный русский мотив, то у Толстого он доходит до предельного религиозного выражения.
Достоевский наиболее выражает все противоречия русской природы и страстную напряженность русской проблематики. Он в молодости принадлежал к кружку Петрашевского и за это претерпел каторгу. Он пережил духовное потрясение и, по обычной терминологии, из революционера стал реакционером и обличал неправду революционного миросозерцания, атеистического социализма. Но вопрос о нем безмерно сложнее. В Достоевском осталось много революционного, он революционер духа. «Легенда о Великом Инквизиторе» одно из самых революционных, можно даже сказать, анархических произведений мировой литературы. К русской социальной теме он не стал равнодушен, у него была своя социальная утопия, утопия теократическая, в которой церковь поглощает целиком государство и осуществляет царство свободы и любви. Его можно было бы назвать православным социалистом. Он противник буржуазного мира, капиталистического строя и пр. Он верит, что в русском народе правда, и исповедует религиозное народничество. Теократия, в которой уже не будет государственного насилия, с Востока, из России придет. Интересно, что Достоевский сделался врагом революции и революционеров из любви к свободе, он увидал в духе революционного социализма отрицание свободы и личности. В революции свобода перерождается в рабство. Если верно то, что он говорит о революционерах-социалистах по отношению к Нечаеву и Ткачеву, то совершенно неверно по отношению к Герцену или Михайловскому. Он предвидит русский коммунизм и противополагает ему христианское решение социальной темы. Он не принимает искушения превращения камней в хлеб, не принимает решения проблемы хлеба через отречение от свободы духа. Антихристово начало для него есть отречение от свободы духа. Он видит это одинаково в авторитарном христианстве и в авторитарном социализме. Он не хочет всемирного соединения посредством насилия. Его ужаснула перспектива превращения человеческого общества в муравейник. «Горы сровнять – хорошая мысль». Это Шигалев и Петр Верховенский. Это принудительная организация человеческого счастья. «Выходя из безграничной свободы, – говорит Шигалев, – я заключаю безграничным деспотизмом». Никаких демократических свобод не будет. В профетической «Легенде о Великом Инквизиторе» есть гениальное прозрение не только об авторитарном католичестве, но и об авторитарном коммунизме и фашизме, о всех тоталитарных режимах. И это верно относительно исторических теократий прошлого. «Легенда о Великом Инквизиторе» и многие места в «Бесах» могут быть истолкованы, главным образом, как направленные против католичества и революционного социализма. Но в действительности тема шире и глубже. Это есть тема о царстве кесаря, об отвержении искушения царством мира сего. Все царства мира сего, все царства кесаря, старые монархические царства и новые социалистические и фашистские царства основаны на принуждении и на отрицании свободы духа. Достоевский, в сущности, религиозный анархист, и в этом он очень русский. Вопрос о социализме, русский вопрос об устройстве человечества по новому штату есть религиозный вопрос, вопрос о Боге и бессмертии. Социальная тема оставалась в России религиозной темой и при атеистическом сознании. «Русские мальчики», атеисты, социалисты и анархисты – явление русского духа. Это очень глубоко понимал Достоевский. И тем более странно, что он иногда так несправедливо, почти озлобленно писал об этих русских мальчиках, особенно в «Бесах». Он многое очень глубоко понял и прозрел, увидал духовную подпочву явлений, которые на поверхности представлялись лишь социальными. Но временами он срывался, в «Дневнике писателя» он высказывал очень банальные консервативные политические взгляды. Многое в «Дневнике писателя» совсем не соответствует духовной глубине его романов. Достоевского очень волновала утопия земного рая. Сон Версилова и еще более гениальный сон смешного человека посвящены этой теме. Возможны три решения вопроса о мировой гармонии, о рае, об окончательном торжестве добра: 1) гармония, рай, жизнь в добре без свободы избрания, без мировой трагедии, без страданий, но и без творческого труда; 2) гармония, рай, жизнь в добре на вершине земной истории, купленная ценой неисчислимых страданий и слез всех, обреченных на смерть, человеческих поколений, превращенных в средство для грядущих счастливцев; 3) гармония, рай, жизнь в добре, к которым придет человек через свободу и страдание в плане, в который войдут все когда-либо жившие и страдавшие, т. е. в Царстве Божием. Достоевский отвергает первые два решения вопроса о мировой гармонии и рае и приемлет только третье решение. Диалектика Ив. Карамазова сложна, и не всегда легко понять, на чьей стороне сам Достоевский. Думаю, что он наполовину был на стороне Ив. Карамазова. У Достоевского было сложное отношение к злу, которое многим может казаться соблазном. С одной стороны, зло есть зло, должно быть обличено и должно сгореть. Но, с другой стороны, зло есть духовный опыт человека, путь человека. В своем пути человек может быть обогащен опытом зла. Но нужно это как следует понять. Обогащает не самое зло, обогащает та духовная сила, которая пробуждается для преодоления зла. Человек, который скажет: отдамся злу для обогащения, никогда не обогащается, он погибает. Но зло есть испытание свободы человека. В истории, в социальной жизни мы видим то же самое. Есть как бы закон диалектического развития, согласно которому дурное, злое в известный период не уничтожается, а преодолевается (Aufhebung), и в преодоление входит все положительное предшествующего периода. Достоевский наводит на эти мысли. Он раскрывает метафизическую глубину русской темы о социальной правде. Для него она связана с русским мессианизмом. Русский народ – как народ-богоносец – должен лучше Запада решить социальный вопрос. Но этот народ подстерегают и великие соблазны.
Вл. Соловьев, который принадлежит, главным образом, теме о русской философии, совсем не был чужд теме социальной. Его всю жизнь беспокоил вопрос о возможности христианского общества, и он обличал ложь общества, которое лжеименно называло себя христианским. В его первичную интуицию духовного всеединства мира входит и осуществление социальной правды, создание совершенного общества. У Вл. Соловьева есть своя утопия, которую он называет свободной теократией. Он верил, что Царство Божье осуществляется и на земле, и искал этого осуществления. Лишь под конец жизни он разочаровался в теократии и возможности Царства Божьего на земле. Его теократия была настоящей религиозной утопией, построенной очень рационалистически по тройственной схеме царя, первосвященника и пророка. Наиболее интересно, что он утверждает профетическое начало в христианстве и профетическую функцию. В этом он наиболее русский. Он говорил, что для того, чтобы победить неправду социализма, нужно признать правду социализма и осуществить ее. Но Вл. Соловьев не был народником, и, в отличие от других представителей русской мысли, он признает положительную миссию государства, требуя только, чтобы государство было подчинено христианским началам. Мечтой его было преображение всего космоса. Социальная проблема была ему подчинена. Его большой заслугой было обличение неправды национализма, когда в 80-е годы он у нас принял зоологические формы. Вл. Соловьев был представитель русского универсализма и в более очищенной форме, чем близкий ему Достоевский. Очень русским и христианским был его протест против смертной казни, вследствие которого ему пришлось покинуть профессуру в университете. Но роль Вл. Соловьева в истории русских социальных идей и течений остается второстепенной. Он входит в русскую идею другими сторонами своего творчества, как самый замечательный представитель русской религиозной философии XIX в. Мы увидим, что личность Вл. Соловьева очень сложна и даже загадочна. Он, во всяком случае, всегда стремился к осуществлению христианской правды не только в жизни личной, но и в жизни общественной и резко восставал против дуализма, который признавал евангельскую мораль для личности, для общества же допускал мораль звереподобную. В этом от него очень отличался К. Леонтьев, который как раз утверждал в крайней форме такой моральный дуализм. Он совсем не хотел осуществления христианской, евангельской правды в обществе. У него решительно преобладали оценки эстетические над оценками моральными. Со свойственным ему радикализмом мысли и искренностью он признается, что осуществление христианской правды в жизни общества привело бы к уродству, и он, в сущности, не хочет этого осуществления. Свобода и равенство порождают мещанство. В действительности ненавистный ему «либерально-эгалитарный прогресс» более соответствует христианской морали, чем могущество государства, аристократия и монархия, не останавливающиеся перед жестокостями, которые защищал К. Леонтьев. Вся мысль его есть эстетическая реакция против русского народничества, русского освободительного движения, русского искания социальной правды, русского искания Царства Божьего. Он государственник и аристократ. Но прежде всего и более всего он романтик, и он совсем не подходил к реакционерам и консерваторам, как они выражались, в практической жизни. Ненависть К. Леонтьева к мещанству и буржуазности была ненавистью романтика. Эмпирические реакционеры и консерваторы были мещане и буржуа. Под конец жизни, разочаровавшись в возможности в России органической цветущей культуры, отчасти под влиянием Вл. Соловьева, К. Леонтьев даже проектировал что-то вроде монархического социализма и стоял за социальные реформы и за решение рабочего вопроса, не столько из любви к справедливости и желания осуществить правду, сколько из желания сохранить хоть что-нибудь из красоты прошлого. К. Леонтьев – один из самых замечательных у нас людей, в нем подкупает смелость, искренность и радикализм мысли, его религиозная судьба волнует. Но он стоит в стороне. Гораздо более центральной и характерной для русской идеи, для русского стремления к осуществлению социальной правды является фигура Н. Федорова, но он принадлежит более к началу XX в., чем к XIX в. У него социальная тема играла большую роль, и есть даже родство с коммунизмом-коллективизмом, идеология труда, регуляция природы, проективность. Такие свойства первый раз встречаются с религиозной мыслью.
Убийство Александра II партией Народной Воли проводит резкую грань в наших социальных течениях. 80-е годы были эпохой политической реакции и лжерусского стиля Александра III, в эти годы возник национализм, которого раньше не было, не было и у славянофилов. Старый народнический социализм идет на убыль. Партия Народной Воли была последним сильным проявлением старых революционных течений. Желябов был главным ее выразителем. Фигура героическая. Очень интересны слова, сказанные им на процессе 1 марта: «Крещен в православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю. Эта сущность учения среди моих нравственных побуждений занимает почетное место. Я верю в истину и справедливость этого учения и торжественно признаю, что вера без дел мертва есть и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за право угнетенных и слабых и, если нужно, то за них пострадать: такова моя вера» [52]. В 80-е годы подготовляется русский марксистский социализм. В 1883 г. основывается за границей группа «Освобождение труда» с Г. В. Плехановым во главе, главным теоретиком русского марксизма. Это открывает новую эру в русских социалистических течениях. Это вместе с тем будет серьезным кризисом сознания русской интеллигенции. Тип марксиста, как я уже говорил, будет более жестким, чем тип народника, менее эмоциональным. Но на почве марксизма у нас возникнет среди левой интеллигенции течение более высокой и сложной культуры, подготовившее русский идеализм начала XX в. Об этом речь впереди. Подводя итоги русской мысли XIX в. на социальную тему, русским исканиям социальной правды, можно сказать, что в России вынашивалась идея братства людей и народов. Это русская идея. Но поскольку эта идея утверждалась в отрыве от христианства, которое было ее истоком, в нее входил яд, и это сказалось на двойственности коммунизма, на переплетении в нем правды и лжи. Эта двойственность была уже у Белинского. У Нечаева и Ткачева началось преобладание отрицательного над положительным. Духовные же течения делались более равнодушными к социальной теме. Так раздвоение, раскол все усиливались в России.
Глава VI
Оправдание культуры. Различение культуры и цивилизации. Культура конца. Русский нигилизм: Добролюбов, Писарев. Аскетические, эсхатологические и моралистические элементы в нигилизме. Культ естественных наук. Противоречие между принципом личности и материализмом. Противоположение совершенной культуры и совершенной жизни. Л. Толстой. Опрощение Толстого и Руссо. К. Леонтьев и его отношение к культуре.
1
Теме оправдания культуры принадлежало в русском сознании большее место, чем в сознании западном. Люди Запада редко сомневались в оправданности культуры. Они почитали себя наследниками средиземноморской греко-римской культуры и были уверены в священности ее традиций. Вместе с тем эта культура представлялась им универсальной и единственной, весь же остальной мир варварским. Это было особенно остро у французов. Правда, Ж. Ж. Руссо усомнился в благе цивилизации (это слово французы предпочитают слову культура). Но то было явление исключительное, почти скандальное, и вопрос ставился иначе, чем у русских. Мы увидим разницу с Л. Толстым. У русских нет культуропоклонства, так свойственного западным людям. Достоевский сказал: все мы нигилисты. Я бы сказал: мы, русские, апокалиптики или нигилисты. Мы апокалиптики или нигилисты потому, что устремлены к концу и плохо понимаем ступенность исторического процесса, враждебны чистой форме. Это и имел в виду Шпенглер, когда сказал, что Россия есть апокалиптический бунт против античности, т. е. против совершенной формы, совершенной культуры[53]. Но совершенно ошибочно мнение о. Г. Флоровского, что русский нигилизм был антиисторическим утопизмом[54]. Нигилизм принадлежит русской исторической судьбе, как принадлежит и революции. Нельзя признавать историческим лишь то, что нравится консервативным вкусам. Бунт есть также историческое явление, один из путей осуществления исторической судьбы. Русский не может осуществлять своей исторической судьбы без бунта, таков уж этот народ. Нигилизм типически русское явление, и он родился на духовной почве православия, в нем есть переживание сильного элемента православной аскезы. Православие, и особенно русское православие, не имеет своего оправдания культуры, в нем был нигилистический элемент в отношении ко всему, что творит человек в этом мире. Католичество усвоило себе античный гуманизм. В православии сильнее всего была выражена эсхатологическая сторона христианства. И в русском нигилизме можно различать аскетические и эсхатологические элементы. Русский народ есть народ конца, а не середины исторического процесса. Гуманистическая же культура принадлежит середине исторического процесса. Русская литература XIX в., которая в общем словоупотреблении была самым большим проявлением русской культуры, не была культурой в западном классическом смысле слова, и она всегда переходила за пределы культуры. Великие русские писатели чувствовали конфликт между совершенной культурой и совершенной жизнью, и они стремились к совершенной, преображенной жизни. Они сознавали, хотя и не всегда удачно выражали это, что русская идея не есть идея культуры. Гоголь, Толстой, Достоевский в этом отношении очень показательны. Я говорил уже, что русская литература не была ренессансной, что она была проникнута болью о страданиях человека и народа и что русский гений хотел припасть к земле, к народной стихии. Но русским свойственно и обскурантское отрицание культуры, этот обскурантский элемент есть и в официальном православии. Русские, когда они делаются ультраправославными, легко впадают в обскурантизм. Но мнения о культуре людей некультурных или очень низкого уровня культуры не интересны, не ставят никакой проблемы. Интересно, когда проблему оправдания культуры ставят самые большие русские люди, которые творили русскую культуру, или ставит интеллигенция, умственно воспитанная на западном научном просвещении. Именно во вторую половину XIX в. пробужденное русское сознание ставит вопрос о цене культуры так, как он, например, поставлен Лавровым (Миртовым) в «Исторических письмах», и даже прямо о грехе культуры. Русский нигилизм был нравственной рефлексией над культурой, созданной привилегированным слоем и для него лишь предназначенной. Нигилисты не были культурными скептиками, они были верующими людьми. Это было движение верующей юности. Когда нигилисты протестовали против морали, то они делали это во имя добра. Они изобличали ложь идеальных начал, но делали это во имя любви к неприкрашенной правде. Они восставали против условной лжи цивилизации. Так и Достоевский, враг нигилистов, восставал против «высокого и прекрасного», порвал с «шиллерами», с идеалистами 40-х годов. Разоблачение возвышенной лжи – один из существенных русских мотивов. Русская литература и мысль носила в значительной степени обличительный характер. Ненависть к условной жизни цивилизации привела к исканию правды в народной жизни. Отсюда опрощение, снятие с себя условных культурных оболочек, желание добраться до подлинного, правдивого ядра жизни. Это наиболее обнаруживается у Л. Толстого. В «природе» больше истины и правды, больше божественного, чем в «культуре». Нужно отметить, что русские задолго до Шпенглера делали различие между «культурой» и «цивилизацией», и они обличали «цивилизацию», даже когда оставались сторонниками «культуры». Это различие по существу, хотя и в другой терминологии, было у славянофилов, у Герцена, у К. Леонтьева и многих других. Может быть, тут было влияние немецкого романтизма. Могут сказать, что русским легче было сомневаться в культуре и восставать против нее, потому что они менее были проникнуты традициями греко-римской культуры и от меньших богатств приходилось отказываться. Этот аргумент, связанный с тем, что в русском сознании и мысли XIX в. было меньше связанности с тяжестью истории и традиции, ничего не доказывает. Именно это и привело к большей свободе русской мысли. Нельзя, впрочем, сказать, что в России не было никакой связи с Грецией, она существовала через греческую патристику, хотя и была прервана. Любопытно, что классическое образование в той форме, в какой его насаждал министр народного просвещения гр. Д. Толстой, носило явно реакционный характер, в то время как на Западе оно носило прогрессивный характер и поддерживало гуманистическую традицию. Естественным же наукам придавалось у нас освободительное значение.
2
Русский нигилизм есть радикальная форма русского просветительства. Это диалектический момент в развитии русской души и русского сознания. Русский нигилизм имеет мало общего с тем, что иногда называют нигилизмом на Западе. Нигилистом называют Ницше. Нигилистами можно назвать таких людей, как Морис Баррес. Но такой нигилизм может быть связан с утонченностью и совсем не принадлежит эпохе просвещения. В русском нигилизме нет ничего утонченного, и он как раз подвергает сомнению всякую утонченную культуру и требует, чтобы она себя оправдала. Добролюбов, Чернышевский, Писарев – русские просветители. Они мало походили на западных просветителей, на Вольтера или Дидро, которые не объявляли бунта против мировой цивилизации и сами были порождением этой цивилизации. Очень интересен для понимания духовных истоков нигилизма дневник Добролюбова. Мальчик Добролюбов был очень аскетически настроен, формация его души была православно-христианская. Он видел грех даже в самых незначительных удовлетворениях своих желаний, например, если он съедал слишком много варенья. В нем было что-то суровое. Он теряет веру после смерти горячо любимой матери, его возмущает духовно низменный характер жизни православного духовенства, из которого он вышел, он не может примирить веры в Бога и Промысел Божий с существованием зла и несправедливых страданий. Атеизм Добролюбова, как и вообще русский атеизм, родствен маркионизму по своим первоистокам, но выражен в эпоху отрицательного просветительства[55]. У русских нигилистов было большое правдолюбие, отвращение к лжи и ко всяким прикрасам, ко всякой возвышенной риторике. Необыкновенно правдолюбив был Чернышевский. Мы видели это уже по его отношению к любви, требованию искренности и свободы чувств. Главой русского нигилизма считают Писарева, и его личность представлялась многим похожей на тургеневского Базарова. В действительности не было ничего подобного. Прежде всего, в отличие от Чернышевского, Добролюбова и других нигилистов 60-х годов, он не был разночинец, он происходил из родового дворянства, он типичное дворянское дитя, маменькин сынок[56]. Его воспитывали так, чтобы получился jeune homme correct et bien elevé. Он был очень послушный ребенок, часто плакал. Искренность и правдивость его были так велики, что его назвали «хрустальной коробочкой». Этот нигилист, разрушитель эстетики, стал очень благовоспитанным молодым человеком, хорошо говорившим по-французски, безукоризненно элегантным, эстетом по своим вкусам. В нем было что-то мягкое, не было моральной суровости Добролюбова. Ничего похожего на Базарова, за исключением увлечения естественными науками. Писарев хотел оголенной правды, правдивости прежде всего, ненавидел фразы и прикрашивания, не любил энтузиазма. Он принадлежит к реалистически настроенной эпохе 60-х годов, когда происходила борьба против поколения идеалистов 40-х годов, когда требовали полезного дела и не любили мечтательности. В другую эпоху он был бы иным и по-иному боролся бы за личность. Бурная реакция Писарева, природного эстета, против Пушкина, против эстетики была борьбой против поколения «идеалистов», против роскоши, которую позволяли себе привилегированные кучки культурных людей. Действительность выше искусства. Это тезис Чернышевского. Но действительность понимается тут иначе, чем понималась Белинским и Бакуниным в гегелианский период. Понятие «действительности» носит не консервативный, а революционный характер. Как типичный просветитель, Писарев думал, что просвещающий ум есть главное орудие изменения действительности. Он борется прежде всего за личность, за индивидуум, он ставит личную нравственную проблему. Характерно, что в ранней юности Писарев участвовал в христиански-аскетическом «Обществе мыслящих людей». Эта аскетическая закваска осталась в русском нигилизме. В 40-е годы был выработан идеал гармонически развитой личности. Идеал «мыслящего реалиста» 60-х годов, который проповедовал Писарев, был сужением идеала личности, умалением объема и глубины личности. С этим связано основное противоречие нигилизма в его борьбе за эмансипацию личности. Но закал личности сказался в способности нигилистов к жертве, в отказе этих утилитаристов и материалистов от всякого жизненного благополучия. Проповедь эгоизма у Писарева менее всего означала проповедь эгоизма, она означала протест против подавления индивидуума общим, была неосознанным и плохо философски обоснованным персонализмом. Писарев хочет бороться за индивидуальность, за право личности, и тут у него есть что-то свое, оригинальное. Но философия его совсем не своя и не оригинальная. К социальной теме он не равнодушен, но она отступает на второй план по сравнению с борьбой за личность, за умственную эмансипацию. Но все это происходило в атмосфере умственного просветительства 60-х годов, т. е. под диктатурой естественных наук.
У нигилистов было подозрительное отношение к высокой культуре, но был культ науки, т. е. естественных наук, от которых ждали решения всех вопросов. Сами нигилисты не сделали никаких научных открытий. Они популяризировали естественно-научную философию, т. е. в то время материалистическую философию.
Это было философски столь упадочное и жалкое время, когда считали серьезным аргументом против существования души тот факт, что при анатомировании трупов души не нашли. С большим основанием можно было бы сказать, что если бы нашли душу, то это был бы аргумент в пользу материализма. В вульгарном, философски полуграмотном материализме Бюхнера и Молешотта находили опору для освобождения человека и народа, в то время как освобождать может лишь дух, материя же может лишь порабощать. В области наук естественных в России были замечательные, первоклассные ученые, например Менделеев, но они не имеют отношения к нигилистам. Прохождение через идолопоклонческое отношение к естественным наукам было моментом в судьбе интеллигенции, искавшей правду. И это связано было с тем, что наука духовная была превращена в орудие порабощения человека и народа. Такова человеческая судьба. Помешательство на естественных науках отчасти объяснялось научной отсталостью России, несмотря на существование отдельных замечательных ученых. В русском воинствующем рационализме и особенно материализме чувствовалась провинциальная отсталость и низкий уровень культуры. Историк умственного развития России Щапов, близкий идеям Писарева, считал идеалистическую философию и эстетику аристократическими и признавал демократическими естественные науки[57]. Такова была и мысль Писарева. Щапов думал, что русский народ – реалист, а не идеалист и имеет прирожденную склонность к естествознанию и технике, к наукам, имеющим практически полезные результаты. Он только забыл моральный по преимуществу склад русского мышления и религиозное беспокойство русского народа, склонного постоянно ставить проблемы религиозного характера. Курьез в печальной истории русского просвещения, что министр народного просвещения кн. Ширинский-Шихматов, упразднивший в 50-е годы преподавание философии, рекламировал естественные науки, которые представлялись ему политически нейтральными, философские же науки представлялись источником вольномыслия. В 60-е годы положение меняется и источником вольномыслия признаются естественные науки, философия же источником реакции. Но и в том и в другом случае наука и философия не рассматривались по существу, а лишь как орудия. То же нужно сказать и относительно морали. Нигилизм обвиняли в отрицании морали, в аморализме. В действительности в русском аморализме, как уже было сказано, есть сильный моральный пафос, пафос негодования против царящего в мире зла и неправды, пафос, устремленный к лучшей жизни, в которой будет больше правды: в нигилизме сказался русский максимализм. В максимализме этом был неосознанный, выраженный в жалкой философии русский эсхатологизм, устремленность к концу, к конечному состоянию. Нигилистическое оголение, снятие обманчивых покровов есть непринятие мира, лежащего во зле. Это непринятие злого мира было в православном аскетизме и эсхатологизме, в русском расколе. Не нужно придавать слишком большого значения мыслительным формулировкам в сознании, все определяется на большей глубине. Но русский нигилизм грешил основным противоречием, которое особенно явственно видно у Писарева.
Писарев боролся за освобождение личности. Он проповедовал свободу личности и ее право на полноту жизни, он требовал, чтобы личность возвысилась над социальной средой, над традициями прошлого. Но откуда личность возьмет силы для такой борьбы? Писарев и нигилисты были материалистами, в морали они были утилитаристами. То же нужно сказать и о Чернышевском. Можно понять утверждение материализма и утилитаризма, как орудий отрицания предрассудков прошлого и традиционных мировоззрений, которыми пользовались для порабощения личности. Этим только и можно объяснить увлечение такими примитивными и не выдерживающими никакой философской критики теориями. Но положительно, могут ли дать эти теории что-нибудь для защиты личности от порабощения природной и социальной средой, для достижения полноты жизни? Материализм есть крайняя форма детерминизма, определяемости человеческой личности внешней средой, он не видит внутри человеческой личности никакого начала, которое она могла бы противопоставить действию окружающей среды извне. Таким началом может быть лишь духовное начало, внутренняя опора свободы человека, начало, не выводимое извне, из природы и общества. Утилитарное обоснование морали, которое соблазнило нигилистов, совсем не благоприятно свободе личности и совсем не оправдывает стремления к полноте жизни, к возрастанию жизни в ширину и глубину. Польза есть принцип приспособления для охраны жизни и достижения благополучия. Но охрана жизни и благополучия может противоречить свободе и достоинству личности. Утилитаризм антиперсоналистичен. Утилитарист Д. С. Милль принужден был сказать, что лучше быть недовольным Сократом, чем довольной свиньей. И русские нигилисты менее всего хотели походить на довольных свиней. Лучше был принцип развития, который признавали нигилисты, – личность реализуется в процессе развития, но развитие понималось в духе натуралистической эволюционной теории. Борец за личность Писарев отрицал творческую полноту личности, полноту ее духовной и даже душевной жизни, отрицал право на творчество в философии, в искусстве, в высшей духовной культуре. Он утверждал крайне суженное, обедненное сознание человека. Человек оказался обреченным исключительно на естественные науки, даже вместо романов предлагалось писать популярные статьи по естествознанию. Это означало обеднение личности и подавление ее свободы. Такова была обратная сторона русской борьбы за освобождение и за социальную правду. Результаты сказались на русской революции, на совершенных ею гонениях на дух. Но несправедливо было бы возлагать тут ответственность исключительно на нигилистов и на тех, которые за ними следовали. Также несправедливо возлагать ответственность за европейское безбожие и отпадение от христианства исключительно на французскую просветительную философию XVIII в. Тяжкая вина лежала и на историческом христианстве, в частности на православии. Воинствующее безбожие есть расплата за рабьи идеи о Боге, за приспособление исторического христианства к господствующим силам. Атеизм может быть экзистенциальным диалектическим моментом в очищении идеи Бога, отрицание духа может быть очищением духа от служебной роли для господствующих интересов мира. Не может быть классовой истины, но может быть классовая ложь, и она играет немалую роль в истории. Нигилисты были людьми, соблазнившимися историческим христианством и исторической духовностью. Их философское миросозерцание было ложным по своим основам, но они были правдолюбивые люди. Нигилизм есть характерно русское явление.
3
В 70-е годы тема о культуре ставилась иначе, чем в нигилизме 60-х годов. Это была прежде всего тема о долге слоя, воспользовавшегося культурой, интеллигенции перед народом. Культура привилегированного слоя стала возможной благодаря поту и крови, пролитым трудовым народом. Этот долг должен быть уплачен. На такой постановке темы особенно настаивал в 70-е годы П. Лавров. Но вражды к культуре по существу у него не было. Гораздо более интересен и радикален Лев Толстой. Он – гениальный выразитель религиозно обоснованного нигилизма в отношении к культуре. В нем сознание вины относительно народа и покаяние достигли предельного выражения. Обыкновенно принято резко противополагать Л. Толстого-художника и Л. Толстого – мыслителя и проповедника и очень преувеличивать резкость происшедшего в нем переворота. Но основные толстовские мотивы и идеи можно уже найти в ранней повести «Казаки», в «Войне и мире» и «Анне Карениной». Там уже утверждалась правда первичной народной жизни и ложь цивилизации, ложь, на которой покоится жизнь нашего общества. Прелесть, обаяние толстовского художественного творчества связаны с тем, что он изображает двойную жизнь: с одной стороны, жизнь его героев в обществе с его условностями, в цивилизации, с ее обязательной ложью, с другой стороны, то, что думают его герои, когда они не стоят перед обществом, когда они поставлены перед тайной бытия, перед Богом и природой. Это есть различие между князем Андреем в петербургском салоне Анны Павловны и князем Андреем перед звездным небом, когда он лежит на поле раненый. Повсюду и всегда Толстой изображает правду жизни, близкую к природе, правду труда, глубину рождения и смерти по сравнению с лживостью и неподлинностью так называемой «исторической» жизни в цивилизации. Правда для него в природно-бессознательном, ложь в цивилизованно-сознательном. Мы увидим, что тут было противоречие у Толстого, ибо религию свою он хотел основать на разуме. Левин все время восстает против неправды жизни цивилизованного общества и уходит к деревне, к природе, к народу и труду. Не раз указывали на близость толстовских идей к Ж. Ж. Руссо. Толстой любил Руссо, но не следует преувеличивать влияние на него Руссо. Толстой глубже и радикальнее. У него было русское сознание своей вины, которой у Руссо не было. Он менее всего считал свою природу доброй. У него была натура, полная страстей и любви к жизни, вместе с тем была склонность к аскетизму и всегда оставалось что-то от православия. Руссо не знал такого напряженного искания смысла жизни и такого мучительного сознания своей греховности и виновности, такого искания совершенства жизни. Руссо требовал возврата от парижских салонов XVIII в. к природе. Но у него не было толстовской и очень русской любви к простоте, требования очищения. Огромная разница еще в том, что в то время как Руссо не остается в правде природной жизни и требует социального контракта, после которого создается очень деспотическое государство, отрицающее свободу совести, Толстой не хочет никакого социального контракта и хочет остаться в правде божественной природы, что и есть исполнение закона Бога. Но и Руссо, и Толстой смешивают падшую природу, в которой царит беспощадная борьба за существование, эгоизм, насилие и жестокость, с преображенной природой, с природой нуменальной, или райской. Оба стремятся к райской жизни. Оба критикуют прогресс и видят в нем движение, обратное движению к раю, к Царству Божьему. Интересно сравнить мучения Иова с мучениями Л. Толстого, который был близок к самоубийству. Крик Иова есть крик страдальца, у которого все отнято в жизни, который стал несчастнейшим из людей. Крик Л. Толстого есть крик страдальца, который поставлен в счастливое положение, у которого есть все, но который не может вынести своего привилегированного положения. Люди стремятся к славе, к богатству, к знатности, к семейному счастью, видят во всем этом благо жизни. Толстой все это имеет и стремится от всего этого отказаться, хочет опроститься и слиться с трудовым народом. В мучениях над этой темой он был очень русский. Он хочет конечного, предельного, совершенного состояния. Религиозная драма самого Л. Толстого была бесконечно глубже его религиозно-философских идей. Вл. Соловьев, который не любил Толстого, сказал, что его религиозная философия есть лишь феноменология его великого духа. Толстой был менее всего националистом, но он видел великую правду в русском народе. Он верил, что «начнется переворот не где-нибудь, а именно в России, потому что нигде, как в русском народе, не удержалось в такой силе и чистоте христианское мировоззрение». «Русский народ всегда иначе относился к власти, чем европейские народы, – он всегда смотрел на власть не как на благо, а как на зло… Разрешить земельный вопрос упразднением земельной собственности и указать другим народам путь разумной, свободной и счастливой жизни – вне промышленного, фабричного, капиталистического насилия и рабства – вот историческое призвание русского народа». И Толстой, и Достоевский по-разному, но оба отрицают европейский мир, цивилизованный и буржуазный, и они – предшественники революции. Но революция их не признала, как и они бы ее не признали. Толстой, быть может, наиболее близок к православию в сознании неоправданности творчества человека и греха творчества. Но это есть и наибольшая опасность толстовства. Он прошел через отрицание своего собственного великого творчества, но в этом мы менее всего можем следовать за ним. Он стремился не к совершенству формы, а к жизненной мудрости. Он почитал Конфуция, Будду, Соломона, Сократа, к мудрецам причислял и Иисуса Христа, но мудрецы не были для него культурой, а были учителями жизни, и сам он хотел быть учителем жизни. Мудрость он соединял с простотой, культура же сложна. И, поистине, все великое просто. Такой продукт усложненной культуры, как Пруст, соединял в себе утонченность с простотой. Поэтому его и можно назвать гениальным писателем, единственным гениальным писателем Франции.
Полярно противоположным полюсом толстовства и народничества является отношение к культуре К. Леонтьева. В нем русский дворянский культурный слой как бы защищает свое право на привилегированную роль, не хочет покаяния в социальном грехе. И поразительно, что в то время как нехристиане и, во всяком случае, неправославные христиане каялись и мучились, православные христиане не хотят каяться. Это интересно для исторической судьбы христианства. К. Леонтьев, принявший тайный постриг в монашество, не сомневается в оправданности цветущей культуры, хотя бы купленной ценой великих страданий, страшных неравенств и несправедливостей. Он говорит, что все страдания народа оправданны, если благодаря им сделалось возможным появление Пушкина. Сам Пушкин был в этом менее уверен, если вспомнить его стихотворение «Деревня». К. Леонтьеву чужда русская болезнь совести, примат морального критерия. Эстетический критерий был для него универсальным, и он совпадал с биологическим критерием. Он был предшественником современных течений, утверждающих волю к могуществу, как пафос жизни. Он одно время верил, что Россия может явить совершенно оригинальную культуру и стать во главе человечества. Красота и цветение культуры были для него связаны с разнообразием и неравенством. Уравнительный процесс губит культуру и влечет к уродству. При всей ложности его моральных установок ему удалось что-то существенное открыть в роковом процессе понижения и упадка культур. У К. Леонтьева было большое бесстрашие мысли, и он решился высказать то, что другие скрывают и прикрывают. Он один решается признаться, что он не хочет правды и справедливости в социальной жизни, потому что она означает гибель красоты жизни. Он до последней крайности обострил противоречие исторического христианства, конфликт евангельских заветов с языческим отношением к жизни в мире, к жизни обществ. Он выходил из затруднения тем, что устанавливал крайний дуализм морали личной и морали общественной, монашескую аскезу для одной сферы и силу и красоту для другой сферы. Но русская идея не есть идея цветущей культуры и могущественного царства, русская идея есть эсхатологическая идея Царства Божьего. Это не есть гуманистическая идея в европейском смысле слова. Но русский народ подстерегают опасности, с одной стороны, обскурантского отрицания культуры вместо эсхатологической критики ее, а с другой стороны, механической, коллективистической цивилизации. Только культура конца может преодолеть обе опасности. Наиболее близок к этому был Н. Федоров, который тоже обличал ложь культуры и хотел полного изменения мира, достижения родства и братства не только социального, но и космического.
Глава VII
Тема о власти. Анархизм. Русское отношение к власти. Русская вольница. Раскол. Сектантство. Отношение интеллигенции к власти: у либералов, у славянофилов. Анархизм. Бакунин. Страсть к разрушению есть творческая страсть. Кропоткин. Религиозный анархизм: религиозный анархизм Л. Толстого. Учение о непротивлении. Анархия и анархизм. Анархический элемент у Достоевского. Легенда о Великом Инквизиторе.
1
Анархизм есть, главным образом, создание русских. Интересно, что анархическая идеология была по преимуществу создана высшим слоем русского дворянства. Таков главный и самый крайний анархист Бакунин, таков князь Кропоткин и религиозный анархист граф Л. Толстой. Тема о власти и об оправданности государства очень русская тема. У русских особенное отношение к власти. К. Леонтьев был прав, когда говорил, что русская государственность с сильной властью была создана благодаря татарскому и немецкому элементу. По его мнению, русский народ и вообще славянство ничего, кроме анархии, создать не могли бы. Это суждение преувеличено, у русского народа есть большая способность к организации, чем обыкновенно думают, способность к колонизации была, во всяком случае, большая, чем у немцев, которым мешает воля к могуществу и склонность к насилию. Но верно, что русские не любят государства и не склонны считать его своим, они или бунтуют против государства, или покорно несут его гнет. Зло и грех всякой власти русские чувствуют сильнее, чем западные люди. Но может поражать противоречие между русской анархичностью и любовью к вольности и русской покорностью государству, согласием народа служить образованию огромной империи. Я говорил уже, что славянофильская концепция русской истории не объясняет образования огромной империи. Возрастание государственного могущества, высасывающего все соки из народа, имело обратной стороной русскую вольницу, уход из государства, физический или духовный. Русский раскол – основное явление русской истории. На почве раскола образовались анархические течения. То же было в русском сектантстве. Уход из государства оправдывался тем, что в нем не было правды, торжествовал не Христос, а антихрист. Государство, царство кесаря, противоположно Царству Божьему, Царству Христову. Христиане не имеют здесь своего града, они взыскуют града грядущего. Это очень русская идея. Но через русскую историю проходит дуализм, раскол. Официально, государственное православие все время религиозно обосновывает и укрепляет самодержавную монархию и государственную мощь. Лишь славянофилы пытались соединить идею самодержавного монарха с идеей русского принципиального анархизма. Но эта попытка не удалась, у их детей и внуков победила монархическая государственность против анархической правды. Русская интеллигенция с конца XVIII в., с Радищева, задыхалась в самодержавной государственности и искала свободы и правды в социальной жизни. Весь XIX в. интеллигенция борется с империей, исповедует безгосударственный, безвластный идеал, создает крайние формы анархической идеологии. Даже революционно-социалистическое направление, которое не было анархическим, не представляло себе, после торжества революции, взятия власти в свои руки и организации нового государства. Единственное исключение представлял Ткачев. Всегда было противоположение «мы» – интеллигенция, общество, народ, освободительное движение и «они» – государство, империя, власть. Такого резкого противоположения не знала Западная Европа. Русская литература XIX в. терпеть не могла империи, в ней силен был обличительный элемент. Русская литература, как и русская культура вообще, соответствовала огромности России, она могла возникнуть лишь в огромной стране, с необъятными горизонтами, но она не связывала это с империей, с государственной властью. Была необъятная русская земля, была огромная, могущественная стихия русского народа. Но огромное государство, империя, представлялось изменой земле и народу, искажением русской идеи. Своеобразный анархический элемент можно открыть во всех социальных течениях русского XIX в., и религиозных и антирелигиозных, у великих русских писателей, в самом складе русского характера, совсем не устроительном. Обратной стороной русского странничества, всегда в сущности анархического, русской любви к вольности является русское мещанство, которое сказалось в нашем купеческом, чиновничьем и мещанском быте. Это все та же поляризованность русской души. У народа анархического по основной своей устремленности было государство с чудовищно развитой и всевластной бюрократией, окружавшей самодержавного царя и отделявшей его от народа. Такова особенность русской судьбы. Характерно, что в России никогда не было либеральной идеологии, которая бы вдохновляла и имела влияние. Деятели 60-х годов, которые производили реформы, могут быть названы либералами, но это не было связано с определенной идеологией, с целым миросозерцанием. Меня сейчас интересует не история России XIX в., а история русской мысли XIX в., в которой отразилась русская идея. Русский пафос свободы был скорее связан с принципиальным анархизмом, чем с либерализмом. Единственным философом либерализма можно было бы назвать Б. Чичерина, да и он скорее был либеральным консерватором или консервативным либералом, чем чистым либералом. Сильный ум, но ум, по преимуществу, распорядительный, как про него сказал Вл. Соловьев, правый гегелианец, сухой рационалист, он имел мало влияния. Он был ненавистником социализма, который соответствовал русским исканиям правды. Это был редкий в России государственник, очень отличный в этом и от славянофилов и от левых западников. Для него государство есть ценность высшая, чем человеческая личность. Его можно было бы назвать правым западником. Он принимает империю, но хочет, чтобы она была культурной и впитала в себя либеральные правовые элементы. По Чичерину можно изучать дух, противоположный русской идее, как она выразилась в преобладающих течениях русской мысли XIX в.
2
Было уже сказано, что в славянофильской идеологии был сильный анархический элемент. Славянофилы не любили государства и власти, они видели зло во всякой власти. Очень русской была у них та идея, что складу души русского народа чужд культ власти и славы, которая достигается государственным могуществом. Из славянофилов наиболее анархистом был К. Аксаков. «Государство, как принцип, – зло», «государство по своей идее – ложь», – писал он. В другом месте он пишет: «Православное дело и совершаться должно нравственным путем, без помощи внешней, принудительной силы. Вполне достойный путь один для человека, путь свободного убеждения, тот путь, который открыл нам Божественный Спаситель и которым шли Его Апостолы». Для него «Запад – торжество внешнего закона». В основании государства русского: добровольность, свобода и мир. В исторической действительности ничего подобного не было, это была романтически-утопичная прикраса. Но реально тут то, что К. Аксаков хотел добровольности, свободы и мира. Хомяков говорит, что Запад не понимает несовместимости государства и христианства. Он, в сущности, не признавал возможности существования христианского государства. И вместе с тем славянофилы были сторонниками самодержавной монархии. Как согласовать это? Монархизм славянофилов, по своему обоснованию и по своему внутреннему пафосу, был анархический, происходил от отвращения к власти. В понимании источников власти Хомяков был демократом, сторонником суверенитета народа[58]. Изначально полнота власти принадлежит народу, но народ власти не любит, от власти отказывается, избирает царя и поручает ему нести бремя власти. Хомяков очень дорожит тем, что царь избирается народом. У него, как и вообще у славянофилов, совсем не было религиозного обоснования самодержавной монархии, не было мистики самодержавия. Царь царствует не в силу божественного права, а в силу народного избрания, изъявления воли народа. Славянофильское обоснование монархии очень своеобразно. Самодержавная монархия, основанная на народном избрании и народном доверии, есть минимум государства, минимум власти, так, по крайней мере, должно быть. Идея царя не государственная, а народная. Она ничего общего не должна иметь с империализмом, и славянофилы резко противополагают свое самодержавие западному абсолютизму. Государственная власть есть зло и грязь. Власть принадлежит народу, но народ отказывается от власти и возлагает полноту власти на царя. Лучше, чтобы один человек был запачкан властью, чем весь народ. Власть не право, а тягота, бремя. Никто не имеет права властвовать, но есть один человек, который обязан нести тяжелое бремя власти. Юридических гарантий не нужно, они увлекли бы народ в атмосферу властвования, в политику, всегда злую. Народу нужна лишь свобода духа, свобода думы, совести, слова. Славянофилы решительно противопоставляют земство, общество государству. Славянофилы были уверены, что русский народ не любит власти и государствования и не хочет этим заниматься, хочет остаться в свободе духа. В действительности русское самодержавие, особенно самодержавие Николая I, было абсолютизмом и империализмом, которых славянофилы не хотели, было чудовищным развитием всесильной бюрократии, которую славянофилы терпеть не могли. Своей анархической идеологией монархии, которая была лишь утопией, славянофилы прикрывали свое свободолюбие и свои симпатии к идеалу безвластия. В противоположность славянофилам Герцен ничего не прикрывал, не пытался согласовать несогласимое. У него анархическая, безгосударственная тенденция явственна. К. Леонтьев в своем отношении к государству – антипод славянофилов. Он признает, что у русского народа есть склонность к анархии, но считает это великим злом. Он говорит, что русская государственность есть создание византийских начал и элемента татарского и немецкого. Он тоже совершенно не разделяет патриархально-семейственной идеологии славянофилов и думает, что в России государство сильнее семьи. К. Леонтьев гораздо вернее понимал действительность, чем славянофилы, имел более острый взгляд, но славянофилы безмерно выше и правее его по своим нравственным оценкам и по своему идеалу. Но обратимся к настоящему русскому анархизму.
3
Бакунин от гегелевского идеализма переходит к философии действия, к революционному анархизму в наиболее крайних формах. Он – характерное русское явление, русский барин, объявивший бунт. Мировую известность он приобрел, главным образом, на Западе. Во время революционного восстания в Дрездене он предлагает выставить впереди борцов-революционеров Мадонну Рафаэля, в уверенности, что войска не решатся в нее стрелять. Анархизм Бакунина есть также славяно-русский мессианизм. В нем был сильный славянофильский элемент. Свет для него придет с Востока. Из России пойдет мировой пожар, который охватит мир. Что-то от Бакунина войдет в коммунистическую революцию, несмотря на вражду его к марксизму. Бакунин думал, что славяне сами никогда государства не создали бы, государство создают только завоевательные народы. Славяне жили братствами и общинами. Он очень не любил немцев, и его главная книга носит заглавие: «Кнуто-германская империя». Одно время в Париже он был близок с Марксом, но потом резко с ним расходится и ведет борьбу из-за I Интернационала, в которой победил Маркс. Для Бакунина Маркс был государственником, пангерманистом и якобинцем. А он очень не любил якобинцев. Анархисты хотят революции через народ, якобинцы – через государство. Как и все русские анархисты, он – противник демократии. Он совершенно отрицательно относился ко всеобщему избирательному праву. По его мнению, правительственный деспотизм наиболее силен, когда опирается на мнимое представительство народа. Он также очень враждебно относился к тому, чтобы допустить управление жизни наукой и учеными. Социализм марксистский есть социализм ученый. Этому Бакунин противополагает свой революционный дионисизм. Он делает жуткое предсказание: если какой-нибудь народ попробует осуществить в своей стране марксизм, то это будет самая страшная тирания, какую только видел мир. В противоположность марксизму он утверждает свою веру в стихийность народа, и прежде всего русского народа. Народ не нужно готовить к революции путем пропаганды, его нужно только взбунтовать. Своими духовными предшественниками он признавал Стеньку Разина и Пугачева. Бакунину принадлежат знаменательные слова: страсть к разрушению есть творческая страсть. Нужно зажечь мировой пожар, нужно разрушить старый мир. На пепелище старого мира, на его развалинах возникает сам собой новый, лучший мир. Анархизм Бакунина не индивидуалистический, как у Макса Штирнера, а коллективистический. Но коллективизм или коммунизм не будет делом организации, он возникает из свободы, которая наступит после разрушения старого мира. Сам собой возникает вольный братский союз производительных ассоциаций. Анархизм Бакунина есть крайняя форма народничества. Подобно славянофилам, он верит в правду, скрытую в народной стихии. Но он хочет взбунтовать самые низшие слои трудового народа и готов присоединить к ним элементы разбойничьи, преступные. Он, прежде всего, верит в стихию, а не в сознание. У Бакунина есть своеобразная антропология. Человек стал человеком через срывание плодов с древа познания добра и зла. Есть три признака человеческого развития: 1) человеческая животность, 2) мысль, 3) бунт. Бунт есть естественный признак поднявшегося человека. Бунту придается почти мистическое значение. Бакунин был также воинствующим атеистом, он изложил это в книжке «Бог и государство». Для него государство опирается главным образом на идею Бога. Идея Бога – отречение от человеческого разума, от справедливости и свободы. «Если Бог есть, человек – раб». Бог мстителен, все религии жестоки. В воинствующем безбожии Бакунин идет дальше коммунистов. «Одна лишь социальная революция, – говорит он, – будет обладать силой закрыть в одно и то же время и все кабаки и все церкви». Он совсем неспособен ставить вопрос о Боге по существу, отрешаясь от тех социальных влияний, которые искажали человеческую идею о Боге. Он видел и знал только искажения. Для него идея Бога очень напоминала злого Бога-творца мира Маркиона[59]. Искреннее безбожие всегда видит лишь такого Бога. И в этом виноваты не только безбожники, но еще более те, которые пользовались верой в Бога для низших и корыстных земных целей, для поддержания злых форм государства. Бакунин был интересной, почти фантастической русской фигурой. И при всей ложности основ его миросозерцания он часто приближается к подлинной русской идее. Главная слабость его мировоззрения – в отсутствии сколь-нибудь продуманной идеи личности. Он объявляет бунт против государства и всякой власти, но это бунт не во имя человеческой личности. Личность остается подчиненной коллективу, и она тонет в народной стихии. Герцен стоял выше по своему чувству человеческой личности. Анархизм Бакунина противоречив в том отношении, что он не отрицает последовательно насилия и власти над человеком. Анархическая революция совершается путем кровавого насилия, и она предполагает, хотя и не организованную, власть взбунтовавшегося народа над личностью. Анархизм Кропоткина был несколько иного типа. Он менее крайний, более идиллический, он обосновывается натуралистически и предполагает очень оптимистический взгляд на природу и на человека. Кропоткин верит в естественную склонность к кооперации. Метафизическое чувство зла отсутствовало у анархистов. Анархический элемент был во всем русском народничестве. Но в русском революционном движении анархисты, в собственном смысле, играли второстепенную роль. Анархизм нужно оценивать иначе, как русское отвержение соблазна царства этого мира. В этом сходятся К. Аксаков и Бакунин. Но в сознании это принимало формы, не выдерживающие критики и часто нелепые.
4
Религиозный анархизм Льва Толстого есть самая последовательная и радикальная форма анархизма, т. е. отрицание начала власти и насилия. Совершенно ошибочно считать более радикальным тот анархизм, который требует насилия для своего осуществления, как, например, анархизм Бакунина. Также ошибочно считать наиболее революционным то направление, которое проливает наибольшее количество крови. Настоящая революционность требует духовного изменения первооснов жизни. Принято считать Л. Толстого рационалистом. Это неверно не только относительно Толстого как художника, но и как мыслителя. Очень легко раскрыть в толстовской религиозной философии наивное поклонение разумному – он смешивает разум-мудрость, разум божественный, с разумом просветителей, с разумом Вольтера, с рассудком. Но именно Толстой потребовал безумия в жизни, именно он не хотел допустить никакого компромисса между Богом и миром, именно он предложил рискнуть всем. Толстой требовал абсолютного сходства средств с целями, в то время как историческая жизнь основана на абсолютном несходстве средств с целями. Вл. Соловьев, при всем своем мистицизме, строил очень разумные, рассудительные, безопасные планы теократического устройства человеческой жизни, с государями, с войной, с собственностью, со всем, что мир признает благом. Очень легко критиковать толстовское учение о непротивлении злу насилием, легко показать, что при этом восторжествует зло и злые. Но обыкновенно не понимают самой глубины поставленной проблемы. Толстой противополагает закон мира и закон Бога. Он предлагает рискнуть миром для исполнения закона Бога. Христиане обычно строят и организуют свою практическую жизнь на всякий случай так, чтобы это было выгодно и целесообразно и дела шли хорошо, независимо от того, есть ли Бог или нет Бога. Нет почти никакой разницы в практической жизни, личной и общественной, между человеком, верующим в Бога и не верующим в Бога. Никто, за исключением отдельных святых или чудаков, даже не пробует строить свою жизнь на евангельских началах, и все практически уверены, что это привело бы к гибели жизни, и личной, и общественной, хотя это не мешает им теоретически признавать абсолютное значение за евангельскими началами, но значение внежизненное по своей абсолютности. Есть Бог или нет Бога, а дела мира устраиваются по закону мира, а не по закону Бога. Вот с этим Л. Толстой не мог примириться, и это делает ему великую честь, хотя бы его религиозная философия была слабой и его учение практически неосуществимым. Смысл толстовского непротивления насилием был более глубоким, чем обычно думают. Если человек перестанет противиться злу насилием, т. е. перестанет следовать закону этого мира, то будет непосредственное вмешательство Бога, то вступит в свои права божественная природа. Добро побеждает лишь при условии действия самого Божества. Толстовское учение есть форма квиетизма, перенесенного на общественную и историческую жизнь. При всей значительности толстовской темы ошибка была в том, что Толстой, как будто, не интересовался теми, над кем совершается насилие и кого нужно защитить от насилия. Он прав, что насилием нельзя побороть зла и нельзя осуществить добра, но он не признает, что насилию нужно положить внешнюю границу. Есть насилие порабощающее, как есть насилие освобождающее. Моральный максимализм Толстого не видит, что добро принуждено действовать в темной, злой мировой среде, и потому действие его не прямолинейное. Но он видит, что добро заражается злом в борьбе и начинает пользоваться злыми средствами. Он хотел до конца принять в сердце Нагорную проповедь. Случай с Толстым наводит на очень важную мысль, что истина опасна и не дает гарантий и что вся общественная жизнь людей основана на полезной лжи. Есть прагматизм лжи. Это очень русская тема, чуждая более социализированным народам западной цивилизации. Очень ошибочно отожествлять анархизм с анархией. Анархизм противоположен не порядку, ладу, гармонии, а власти, насилию, царству кесаря. Анархия есть хаос и дисгармония, т. е. уродство. Анархизм есть идеал свободной, изнутри определяемой гармонии и лада, т. е. победа Царства Божьего над царством кесаря. За насильническим, деспотическим государством обычно скрыта внутренняя анархия и дисгармония. Принципиально, духовно обоснованный анархизм соединим с признанием функционального значения государства, с необходимостью государственных функций, но не соединим с верховенством государства, с его абсолютизацией, с его посягательством на духовную свободу человека, с его волей к могуществу. Толстой справедливо считал, что преступление было условием жизни государства, как она слагалась в истории. Он был потрясен смертной казнью, как и Достоевский, как и Тургенев, как и Вл. Соловьев, как и все лучшие русские люди. Западные люди не потрясены, и казнь не вызывает в них сомнения, они даже видят в ней порождение социального инстинкта. Мы же, слава Богу, не были так социализированы. У русских было даже сомнение в справедливости наказаний вообще. Достоевский защищал наказание только потому, что видел в самом преступнике потребность наказания для ослабления муки совести, а не по причинам социальной полезности. Толстой отрицал совсем суд и наказание, основываясь на Евангелии.
Внешнеконсервативные политические взгляды, высказанные Достоевским в «Дневнике писателя», мешали разглядеть его существенный анархизм. Монархизм Достоевского принадлежит к столь же анархическому типу, как и монархизм славянофилов. Теократическая утопия, раскрывающаяся в «Братьях Карамазовых», совершенно внегосударственная, она должна преодолеть государство, в ней государство должно окончательно уступить место Церкви, в Церкви должно раскрыться царство, Царство Божье, а не царство кесаря. Это есть апокалиптическое ожидание. Теократия Достоевского противоположна «буржуазной» цивилизации, противоположна всякому государству, в ней обличается неправда внешнего закона (очень русский мотив, который был даже у К. Леонтьева), в нее входит русский христианский анархизм и русский христианский социализм (Достоевский прямо говорит о православном социализме). Государство заменяется Церковью и исчезает. «От востока земли сия воссияет», – говорит отец Паисий. «Сие и буди, буди, хотя бы в конце веков». Настроенность явно эсхатологическая. Но настоящее религиозное и метафизическое обоснование анархизма дано в «Легенде о Великом Инквизиторе». Анархический характер легенды не был достаточно замечен, она ввела многих в заблуждение, например Победоносцева, которому она очень понравилась. Очевидно, сбило с толку католическое обличье легенды. В действительности «Легенда о Великом Инквизиторе» наносит страшные удары всякому авторитету и всякой власти, она бьет по царству кесаря не только в католичестве, но и в православии и во всякой религии, так же как в коммунизме и социализме. Религиозный анархизм у Достоевского носит особый характер и имеет иное обоснование, чем у Л. Толстого, и идет в большую глубину, для него проблема свободы духа имеет центральное значение, которого она не имеет у Л. Толстого. Но Толстой более свободен от внешнего налета традиционных идей, в нем меньше смешанности. Очень оригинально у Достоевского, что свобода для него не право человека, а обязанность, долг; свобода не легкость, а тяжесть. Я формулировал эту тему так, что не человек требует от Бога свободы, а Бог требует от человека свободы и в этой свободе видит достоинство богоподобия человека. Поэтому Великий Инквизитор упрекает Христа в том, что Он поступал как бы не любя человека, возложив на него бремя свободы. Сам Великий Инквизитор хочет дать миллиону миллионов людей счастье слабосильных младенцев, сняв с них непосильное бремя свободы, лишив их свободы духа[60]. Вся легенда построена на принятии или отвержении трех искушений Христа в пустыне. Великий Инквизитор принимает все три искушения, их принимает католичество, как принимает всякая авторитарная религия, всякий империализм и атеистический социализм и коммунизм. Религиозный анархизм обосновывается на отвержении Христом искушения царством мира сего. Для Достоевского принудительное устроение царства земного есть римская идея, которую наследует и атеистический социализм. Он противополагает римской идее, основанной на принуждении, русскую идею, основанную на свободе духа, он обличает ложные теократии во имя истинной свободной теократии (выражение Вл. Соловьева). Ложная теократия и ее обратное безбожное подобие и есть то, что сейчас называют тоталитарным строем, тоталитарным государством. Отрицание свободы духа для Достоевского есть соблазн антихриста. Авторитарность есть антихристово начало. Это есть самое крайнее отвержение авторитета и принуждения, какое знает история христианства, и Достоевский выходит тут за пределы исторического православия и исторического христианства вообще, переходит к эсхатологическому христианству, к христианству Духа, раскрывает профетическую сторону христианства. Компромиссное, оппортунистическое, приспособляющееся отношение к государству, к царству кесаря в историческом христианстве обычно оправдывалось тем, что сказано воздавать кесарево кесарю, а Божье Богу. Но принципиальное отношение к царству кесаря в Евангелии определяется отвержением искушения царством этого мира. Кесарь совсем не есть нейтральное лицо, это – князь этого мира, т. е. начало, обратное Христу, антихристово. В истории христианства постоянно воздавалось Божье кесарю, это совершалось всякий раз, когда в духовной жизни утверждался принцип авторитета и власти, когда совершалось принуждение и насилие. Достоевский, как будто, сам недостаточно понимал анархические выводы из легенды. Таково было дерзновение русской мысли XIX в. Уже в конце века и в начале нового века странный мыслитель Н. Федоров, русский из русских, тоже будет обосновывать своеобразный анархизм, враждебный государству, соединенный, как у славянофилов, с патриархальной монархией, которая не есть государство, и раскроет самую грандиозную и самую радикальную утопию, какую знает история человеческой мысли. Но в нем мысль окончательно переходит в эсхатологическую сферу, чему будет посвящена отдельная глава. Анархизм в русских формах остается темой русского сознания и русских исканий.
Глава VIII
Религиозная тема. Религиозный характер русской философии. Разница между богословием и религиозной философией. Критика западного рационализма. Философские идеи Киреевского и Хомякова. Идея соборности. Владимир Соловьев. Эротика. Интуиция всеединства. Бытие и сущее. Идея богочеловечества. Учение о Софии. «Смысл любви». Религиозная философия Достоевского и Л. Толстого. Русская религиозная мысль в духовных академиях. Архиепископ Иннокентий. Несмелов. Тареев.
1
В русской культуре XIX в. религиозная тема имела определяющее значение. И так было не только в религиозных направлениях, но и в направлениях внерелигиозных и богоборческих, хотя бы это и не было сознано. В России не было философов такого размера, как наши писатели, как Достоевский и Л. Толстой. Русская академическая философия не отличалась особенной оригинальностью. Русская мысль по своей интенсии была слишком тоталитарной, она не могла оставаться отвлеченно-философской, она хотела быть в то же время религиозной и социальной, в ней был силен моральный пафос. В России долгое время не образовывалось культурной философской среды. Она начала образовываться лишь в 80-е годы, когда начал выходить журнал «Вопросы философии и психологии». Для насаждения у нас философской культуры значение имела деятельность Н. Грота, который сам был малоинтересный философ. Условия для развития у нас философии были очень неблагоприятны, философия подвергалась гонению и со стороны власти, и со стороны общества, справа и слева. Но в России создавалась и нарастала оригинальная религиозная философия. Такова была одна из задач русской мысли. Речь идет именно о религиозной философии, а не о богословии. На Западе мысль и знание очень дифференцированы, все распределено по категориям. Официальное католичество и официальный протестантизм создали огромную богословскую литературу, богословие стало делом профессиональным, им занимались специалисты, люди духовные, профессора богословских факультетов и институтов. Профессора богословия всегда не любили религиозную философию, которая представлялась им слишком вольной и подозревалась в гностическом уклоне, они ревниво охраняли исключительные права богословия, как защитники ортодоксии. В России, в русском православии долгое время не было никакого богословия или было лишь подражание западной схоластике. Единственная традиция православной мысли, традиция платонизма и греческой патристики, была порвана и забыта. В XVIII в. даже считалась наиболее соответствующей православию философия рационалиста и просветителя Вольфа. Оригинально, по-православному богословствовать начал не профессор богословия, не иерарх Церкви, а конногвардейский офицер в отставке и помещик Хомяков. Потом самые замечательные религиозно-философские мысли были у нас высказаны не специальными богословами, а писателями, людьми вольными. В России образовалась религиозно-философская вольница, которая в официальных церковных кругах оставалась на подозрении. Вл. Соловьев был философ, а не богослов. Он был приват-доцентом и был изгнан из университета за речь против смертной казни. Он менее всего походил на специалиста-богослова и специалиста-философа. Интересно, что, изгнанная из университетов, философия находила себе приют в духовных академиях. Но духовные академии не создавали оригинальной русской философии, за очень редкими исключениями. Русская религиозная философия пробудилась от долгого сна мысли вследствие толчков, полученных от германской философии, главным образом от Шеллинга и Гегеля. Единственный иерарх Церкви, представляющий некоторый интерес в области мысли, архиепископ Иннокентий, принадлежит скорее религиозной философии, чем богословию. Из профессоров Духовной академии самый оригинальный и замечательный мыслитель – Несмелов, по духу своему религиозный философ, а не богослов, и он делает ценный вклад в создание русской религиозной философии. Чистый богослов мыслит от лица Церкви и опирается главным образом на Священное Писание и священное предание, он принципиально догматичен, его наука социально организована. Религиозная философия принципиально свободна в путях познания, хотя в основании ее лежит духовный опыт, вера. Для религиозного философа откровение есть духовный опыт и духовный факт, а не авторитет, его метод интуитивный. Религиозная философия предполагает соединение теоретического и практического разума, достижение целостности в познании. Это есть познание совокупностью духовных сил, а не одним разумом. Русская религиозная философия особенно настаивает на том, что философское познание есть познание целостным духом, в котором разум соединяется с волей и чувством и в котором нет рационалистической рассеченности. Поэтому критика рационализма есть первая задача. Рационализм признавали первородным грехом западной мысли, и она неверно окрашивалась почти целиком в рациональный цвет. На Западе всегда существовали течения, противоположные рационализму. Но русская религиозная философия находила себя и определяла себя по противоположению западной мысли. При этом большое значение для нее имели Шеллинг, Гегель, Фр. Баадер[61]. Последний боролся с рационализмом не менее славянофильских философов. Но оригинальной особенностью русской религиозной и философской мысли нужно признать ее тоталитарный характер, ее искание целостности. Мы видели уже, что позитивист Н. Михайловский не менее Ив. Киреевского и Хомякова стремился к целостной правде, правде-истине и правде-справедливости. Употребляя современное выражение, можно было бы сказать, что русская философия, религиозно окрашенная, хотела быть экзистенциальной, в ней сам познающий и философствующий был экзистенциален, выражал свой духовный и моральный опыт, целостный, а не разорванный опыт. Величайшим русским метафизиком и наиболее экзистенциальным был Достоевский. Унамуно говорит, что испанская философия – в Дон-Кихоте. Так и мы можем сказать, что русская философия – в Достоевском. Для русского сознания XIX в. характерно, что русские безрелигиозные направления – социализм, народничество, анархизм, нигилизм и самый наш атеизм – имели религиозную тему и переживались с религиозным пафосом. Это отлично понимал Достоевский. Он говорит, что русский социализм есть вопрос о Боге и бессмертии. Для революционной интеллигенции революция была религиозной, она была тоталитарна, и отношение к ней было тоталитарное. Религиозный характер русских течений выражался уже в том, что более всего мучила проблема теодицеи, проблема существования зла. Она мучила Белинского и Бакунина столь же, как и Достоевского. С этой проблемой связан и русский атеизм.
Программа самостоятельной русской философии была впервые начертана Ив. Киреевским и Хомяковым. Они прошли школу германского идеализма. Но они пытались отнестись критически к вершине европейской философии своего времени, т. е. к Шеллингу и Гегелю. Можно было бы сказать, что Хомяков мыслил от Гегеля, но он никогда не был гегелианцем, и его критика Гегеля очень замечательна. Ив. Киреевский писал в своей программной философской статье: «Как необходима философия: все развитие нашего ума требует ее. Ею одною живет и дышит наша поэзия; она одна может дать душу и целость нашим младенствующим наукам, и самая жизнь наша, может быть, займет от нее изящество стройности. Но откуда придет она? Где искать ее? Конечно, первый шаг наш к ней должен быть проявлением умственных богатств той страны, которая в умозрении опередила все народы. Но чужие мысли полезны только для развития собственных. Философия немецкая вкорениться у нас не может. Наша философия должна развиться из нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного бытия». Характерно, что Ив. Киреевский хочет вывести философию из жизни. Хомяков утверждает зависимость философии от религиозного опыта. Его философия по типу своему есть философия действия. К сожалению, Ив. Киреевский и Хомяков не написали ни одной философской книги, они ограничились лишь философскими статьями. Но у них была замечательная интуиция. Они провозглашают конец отвлеченной философии и стремятся к целостному знанию. Происходит преодоление гегелианства и переход от отвлеченного идеализма к идеализму конкретному. Этот путь будет продолжать Вл. Соловьев и напишет книги для выражения своей философии. Согласно славянофильской схеме, католичество порождает протестантизм, протестантизм порождает идеалистическую философию и Гегеля, а гегелианство переходит в материализм. С замечательной проницательностью Хомяков предвидит появление диалектического материализма. Хомяковская критика более всего обличает в философии Гегеля исчезновение сущего, субстрата. «Сущее, – говорит он, – должно быть совершенно отстранено. Самое понятие, в своей полнейшей отвлеченности, должно было все возродить из собственных недр». «Вечное, самовозрождающееся творение из недр отвлеченного понятия, не имеющего в себе никакой сущности». Основная идея русской философии есть идея конкретного сущего, существующего, предшествующего рациональному сознанию. Наиболее близка славянофильская философия, как и философия Вл. Соловьева, к Фр. Баадеру и отчасти к Шеллингу последнего периода. Намечается очень оригинальная гносеология, которую можно было бы назвать соборной, церковной гносеологией. Любовь признается принципом познания, она обеспечивает познание истины. Любовь – источник и гарантия религиозной истины. Общение в любви, соборность есть критерий познания. Это принцип, противоположный авторитету. Это также путь познания, противоположный декартовскому cogito ergo sum. He я мыслю, мы мыслим, т. е. мыслит общение в любви, и не мысль доказывает мое существование, а воля и любовь. Хомяков – волюнтарист; он утверждает водящий разум. «Воля для человека принадлежит области до-предметной». Только воля, только разум волящий, а не безвольный, полагает различие между я и не я, между внутренним и внешним. В основании знания лежит вера. Сущее воспринимается верой. Знание и вера, в сущности, тожественны. «В этой области (области первичной веры), предшествующей логическому сознанию и наполненной сознанием жизненным, не нуждающимся в доказательствах и доводах, сознает человек, что принадлежит его умственному миру и что – миру внешнему». Воля узревает сущее до рационального сознания. Но воля у Хомякова не слепая и не иррациональная, как у Шопенгауэра, она есть волящий разум. Это не иррационализм, а сверхрационализм. Логическое сознание не вполне схватывает предмет, реальность сущего схватывается до логического сознания. У Хомякова философия настолько зависит от религиозного опыта как первичного, что он даже говорит о зависимости философского познания от верования в Св. Троицу. Но Хомяков делает одну ошибку относительно немецкой философии. Поглощенный борьбой с западным рационализмом, он, как будто, не замечает, насколько немецкая метафизика была проникнута волюнтаризмом, который восходит к Я. Бёме и который есть у Канта, Фихте, Шеллинга. Правда, волюнтаризм самого Хомякова был несколько иной. Воля у него также означает свободу, но свобода не имеет темного, иррационального истока, воля соединена с разумом, нет рассеченности, есть целостность, целостность духа. У Хомякова были замечательные философские интуиции, основоположные философские идеи, но в неразвитом, неразвернутом состоянии. В том же направлении будет двигаться философия Вл. Соловьева, но в более рациональной форме, и особенно философия кн. С. Трубецкого с его учением о соборном сознании, которое он не успел достаточно развить. Спиритуалистическая философия Голубинского, Кудрявцева и др., вышедшая из духовных академий, носила другой характер. Она была родственна западным течениям умозрительного теизма. Более интересен был Юркевич тем, что утверждал центральное значение сердца. В философии университетской наиболее замечательны Козлов и Лопатин. Это спиритуалистическая философия, родственная Лейбницу, Мен де Бирану, Лотце, Тейхмиллеру. Козлов и Лопатин свидетельствуют о том, что в России была самостоятельная философская мысль, но они не представляют оригинальной русской философии, всегда тоталитарной по постановке проблем, всегда соединяющей теоретический и практический разум, всегда окрашенной религиозно.
Более раскрыты были богословские мысли Хомякова, тесно, впрочем, связаннные с его философией. Но в богословии нельзя было ждать от Хомякова систематических трудов. К сожалению, он раскрывал свои положительные мысли в форме полемики с западными вероисповеданиями, с католичеством и протестантизмом, к которым часто был несправедлив. Особенно бросается в глаза, что, говоря о православной церкви, Хомяков имеет в виду идеальное православие, такое, каким оно должно быть по своей идее, а говоря о католической церкви, он имеет в виду католичество эмпирическое, такое, каким оно было в исторической действительности, часто неприглядной. В основание богословствования Хомякова положены идеи свободы и соборности, органическое соединение свободы и любви, общности. У него был пафос духовной свободы (этим проникнуто все его мышление), была гениальная интуиция соборности, которую он узрел не в исторической действительности православной церкви, а за ней. Соборность принадлежит умопостигаемому образу церкви, и в отношении к церкви эмпирической она есть долженствование. Слово «соборность» непереводимо на иностранные языки. Дух соборности присущ православию, и идея соборности, духовной коммюнотарности, есть русская идея. Но трудно найти хомяковскую соборность в историческом православии. Богословские произведения Хомякова были запрещены в России цензурой, и они появились за границей на французском языке и лишь значительно позже появились на русском. Это очень характерно. Между тем как друг и последователь Хомякова Ю. Самарин предлагал признать Хомякова учителем Церкви. Догматическое богословие митрополита Макария, которое Хомяков назвал восхитительно-глупым, выражавшее официальную церковность, было снимком с католической схоластики. Хомяков же пытался выразить оригинальное православное богословствование. Что же представляет собой соборность у Хомякова? Богословствование Хомякова было занято главным образом учением о Церкви, что для него совпадало с учением о соборности, дух же соборности был для него духом свободы. Он – решительный, радикальный противник принципа авторитета. Буду характеризовать хомяковские взгляды его собственными словами. «Никакого главы церкви, ни духовного, ни светского, мы не признаем. Христос есть глава, и другого она не знает». «Церковь – не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос; ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, а истина, и в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его». «Кто ищет вне надежды и веры каких-либо гарантий для духа любви, тот уже рационалист». «Непогрешимость почиет единственно во вселенскости церкви, объединенной взаимной любовью». Это и есть соборность. «Церковь знает братства, но не знает подданства». «Мы исповедуем церковь единую и свободную». «Христианство есть не иное что, как свобода во Христе»… «Я признаю церковь более свободною, чем протестанты… В делах церкви принужденное единство есть ложь, а принужденное послушание есть смерть». «Никакой внешний признак, никакое знамение не ограничит свободы христианской совести». «Единство церкви есть не иное что, как согласие личных свобод». «Свобода и единство – таковы две силы, которым достойно вручена тайна свободы человеческой во Христе». «Знание истины дается лишь взаимной любовью». Можно было бы умножить цитаты из Хомякова, из II тома собрания его сочинений, посвященного богословию. Такого понимания христианства, как религии свободы, такого радикального отрицания авторитета в религиозной жизни никто еще, кажется, не выражал. Авторитету противополагается не только свобода, но и любовь. Любовь есть главный источник познания христианской истины. Церковь и есть единство любви и свободы. Невозможно формальное, рациональное определение церкви, оно узнается лишь в церковном духовном опыте. В этом – глубокое отличие католического богословия и характерный признак русского богословия XIX в. и начала XX в. Тема свободы была наиболее выражена у Хомякова и Достоевского. Западные христиане, и католики и протестанты, обыкновенно с трудом понимают, что такое соборность. Соборность противоположна и католической авторитарности, и протестантскому индивидуализму, она означает коммюнотарность, не знающую внешнего над собой авторитета, но не знающую и индивидуалистического уединения и замкнутости. Для Хомякова вселенский собор тоже не был авторитетом, навязывающим церковному народу свое понимание христианской истины. Вселенский характер церковного собора не имеет внешних формальных признаков. Не там действует Дух Св., где по формальным признакам вселенский собор, а там вселенский собор, где действует Дух Св. Для определения Духа Св. нет никаких внешних формальных признаков. Ничто низшее, юридическое, похожее на жизнь государства, не может быть критерием подлинности действия Духа Св. Так же рационально-логическое не может быть критерием истинности догматов. Дух Св. не знает других критериев, кроме самого Духа Св. Где был подлинный вселенский собор, а где не подлинный, как, например, «разбойничий», решает церковный народ, т. е. решает дух соборности. Это было наиболее заострено против католического учения о церкви. Совершенно ошибочно противополагать католическое учение о непогрешимости папы, говорящего ex cathedra, якобы православному учению о непогрешимости собора епископов. Хомяков также отрицает и авторитет епископата. Истина для него не в соборе, а в соборности, в коммюнотарном духе церковного народа. Но беда в том, что официальное православное богословие склонялось к признанию авторитета епископата, в противоположность авторитету папы. Соборов в православной церкви не было слишком долго. В России нужна была страшная революция, чтобы возможен был собор. Правые православные круги, почитавшие себя наиболее ортодоксальными, утверждали даже, что соборность есть выдумка Хомякова, что православная свобода у Хомякова несет на себе печать учения Канта и немецкого идеализма об автономии. В этом была доля истины, но это значит лишь, что богословие Хомякова пыталось творчески осмыслить весь духовный опыт вековой новой истории. В известном смысле Хомякова можно назвать православным модернистом, у него есть некоторое родство с католическим модернизмом – борьба против схоластики и против интеллектуалистического понимания догматов, сильный модернистический элемент защиты свободной критической мысли. В его время католического модернизма не было. Но наибольшее родство он имел с замечательным католическим богословом первой половины XIX в. Мёлером, который защищал идею, очень близкую хомяковской соборности[62]. Хомяков читал швейцарского протестанта Винэ и, наверное, сочувствовал его защите религиозной свободы. Но хомяковское соединение духа свободы с духом коммюнотарности остается очень русской идеей. Наибольшие симпатии Хомяков имел в англиканской церкви и переписывался с Пальмером, которого хотел обратить в православие. К синодальному управлению у него, как и вообще у славянофилов, было отрицательное отношение. Мысль Хомякова свидетельствует о том, что в православии возможна большая свобода мысли (говорю о внутренней, а не о внешней свободе). Это объясняется отчасти тем, что православная церковь не имеет обязательной системы и более решительно, чем католичество, отделяет догматы от богословия. Впрочем, это имеет и более глубокие причины. Но богословствование Хомякова имело свои границы, многих вопросов, которые потом поднимала русская религиозно-философская мысль, он не затрагивает, например, проблему космологическую. Направленность его мысли очень мало эсхатологическая. У него не было ожидания нового откровения Св. Духа, не было параклетизма. Размах религиозно-философской мысли Вл. Соловьева был больший, но о церкви вернее мыслил Хомяков. Интересно отметить, что в русской религиозно-философской и богословской мысли совсем не было идеи натуральной теологии, которая играла большую роль в западной мысли. Русское сознание не делает разделения на теологию откровенную и теологию натуральную, для этого русское мышление слишком целостно и в основе знания видит опыт веры.
2
Владимир Соловьев признается самым выдающимся русским философом XIX в. В отличие от славянофилов он написал ряд философских книг и создал целую систему. Образ его, если взять его в целом, более интересен и оригинален, чем его философия в собственном смысле[63]. Это был загадочный, противоречивый человек, о нем возможны самые противоположные суждения, и из него вышли самые противоположные течения. Два обер-прокурора Св. Синода признавались его друзьями и учениками[64], от него пошли братья Трубецкие и столь отличный от них С. Булгаков, с ним себя связывали и ему поклонялись, как родоначальнику, русские символисты А. Блок и А. Белый, и Вячеслав Иванов готов был признать его своим учителем, его считали своим антропософы. Правые и левые, православные и католики одинаково ссылались на него и искали в нем опоры. И вместе с тем Вл. Соловьев был очень одинок, мало понят и очень поздно оценен. Лишь в начале XX в. образовался миф о нем. И образованию этого мифа способствовало то, что был Вл. Соловьев дневной и был Вл. Соловьев ночной, внешне открывавший себя и в самом раскрытии себя скрывавший и в самом главном себя не раскрывавший. Лишь в своих стихотворениях он раскрывал то, что было скрыто, было прикрыто и задавлено рациональными схемами его философии. Подобно славянофилам, он критиковал рационализм, но философия его была слишком рациональной, и в ней слишком большую роль играли схемы, которые он очень любил. Он был мистиком, имел мистический опыт, об этом свидетельствуют все, его знавшие, у него была оккультная одаренность, которой совсем не было у славянофилов, но мышление его было очень рациональным. Он был из тех, которые скрывают себя в своем умственном творчестве, а не раскрывают себя, как, например, раскрывал себя Достоевский со всеми своими противоречиями. В этом он походит на Гоголя. Гоголь и Вл. Соловьев – самые загадочные фигуры в русской литературе XIX в. Наш самый большой христианский философ прошлого века совсем не был уже бытовым человеком, подобно славянофилам. Он был человеком стихии воздуха, а не стихии земли, был странником в этом мире, а не человеком оседлым. Он принадлежит эпохе Достоевского, с которым был непосредственно связан. Л. Толстого он не любил. Но этот загадочный странник всегда хотел обосновать и укрепить жизнь людей и обществ на незыблемых объективных началах и всегда выражал это обоснование в рациональных схемах. Это поражает в Соловьеве. Он всегда стремился к целостности, но целостности в нем самом не было. Он был философом эротическим, в платоновском смысле слова, эротика высшего порядка играла огромную роль в его жизни, была его экзистенциальной темой. И вместе с тем в нем был сильный моралистический элемент, он требовал осуществления христианской морали в полноте жизни. Этот моралистический элемент особенно чувствуется в его статьях о христианской политике и в его борьбе с националистами. Он был не только рациональным философом, признававшим права разума, но также теософом. Ему близки не только Платон, Кант, Гегель, Шопенгауэр, но также христианские теософы Я. Бёме, Портедж, Фр. Баадер, Шеллинг последнего периода. Он хочет построить систему свободной христианской теософии и соединить ее со свободной теократией и теургией. У Вл. Соловьева была своя первичная интуиция, как у всякого значительного философа. Это была интуиция всеединства. У него было видение целостности, всеединства мира, божественного космоса, в котором нет отделения частей от целого, нет вражды и раздора, нет ничего отвлеченного и самоутверждающегося. То было видение Красоты. То была интуиция интеллектуальная и эротическая. То было искание преображения мира и Царства Божьего. Интуиция всеединства делает Вл. Соловьева универсалистом по своей основной направленности. С этим будут связаны и его католические симпатии. Очень интересно, что за этим универсализмом, за этой устремленностью к всеединству скрыт момент эротический и экстатический, скрыта влюбленность в красоту божественного космоса, которому он даст имя Софии. Вл. Соловьев – романтик, и, в качестве романтика, у него происходило неуловимое сближение и отожествление влюбленности в красоту вечной женственности Премудрости Божией с влюбленностью в красоту конкретного женского образа, которого он так никогда и не мог найти. Интуиция всеединства, конкретного универсализма делает его прежде всего критиком «отвлеченных начал», чему посвящена его главная книга.
Вл. Соловьев – интеллектуалист, а не волюнтарист. Поэтому у него не играет такой роли свобода, как у волюнтариста Хомякова. Его миросозерцание скорее принадлежит к типу универсального детерминизма, но детерминизм этот спиритуалистический. Оно принадлежит также к типу эволюционного миросозерцания, но эволюционизм этот получен не от натуралистических учений об эволюции, а от германской идеалистической метафизики. Достижение всеединства, социального и космического, носит у него интеллектуальный характер. Иррациональной свободы у него нет. Отпадение мира от Бога есть распадение его на враждующие начала. Эгоистическое самоутверждение и отчуждение суть главные признаки падшести человека и мира. Но каждое из отделившихся от высшего центра начал заключает в себе частичную истину. Воссоединение этих начал с подчинением их высшему божественному началу есть достижение всеединства. Всеединство мыслится не абстрактно, а конкретно, с внесением в него всех индивидуальных ступеней. Так, в теории познания эмпиризм, рационализм и мистицизм являются отвлеченными началами, которые ложны в своем исключительном самоутверждении, но заключают в себе частичные истины, которые войдут в целостное познание свободной теософии. Также в сфере практической свободная теократия достигается соединением начал церкви, государства и земщины, как тогда обозначали в славянофильской терминологии общество. Вл. Соловьев одно время слишком верил, что интеллектуальная концепция свободной теософии и свободной теократии может очень способствовать достижению конкретного всеединства. Он сам потом в этом разочаровался. Но совершенно верна была его мысль, что нельзя рассматривать то, что он называл «отвлеченными началами», как зло, грех и заблуждение. Так, эмпиризм сам по себе есть заблуждение, но в нем есть частичная истина, которая должна войти в теорию познания более высшего типа. Так, гуманизм в своем исключительном самоутверждении есть заблуждение и неправда, но в нем есть и большая истина, которая входит в богочеловеческую жизнь. Преодоление «отвлеченных начал» и есть то, что Гегель называет Aufhebung. В преодоление входит то, что было истинного в предшествующем. Вл. Соловьев говорит, что для того, чтобы преодолеть неправду социализма, нужно признать правду социализма. Но стремится он всегда к целостности, он хочет целостного знания. С целостностью всегда для него была связана не только истина и добро, но и красота. Он остается в линии Гегеля и немецких романтиков, оттуда он получил универсализм и органичность. Он не переживал с остротой проблему свободы, личности и конфликта, но с большой силой переживал проблему единства, целостности, гармонии. Его тройственная теософическая, теократическая и теургическая утопия есть все то же русское искание Царства Божьего, совершенной жизни. В этой утопии есть социальный элемент, его христианство – социальное. По мнению Вл. Соловьева, есть два отрицательных начала – смерть и грех и два положительных желания – желание бессмертия и желание правды. Жизнь природы есть скрытое тление. Господствующая в природном мире материя, отдаленная от Бога, есть дурная бесконечность. Вера в Бога есть вера в то, что добро есть, что оно сущее. Искушение же в том, что зло принимает форму добра. Победа над смертью и тлением есть достижение всеединства, преображение не только человека, но и всего космоса. Но самая интересная и оригинальная идея Вл. Соловьева связана с различением бытия и сущего.
Он был, конечно, под сильным влиянием Гегеля. Но он все-таки по-иному решает вопрос о бытии. Бытие есть лишь предикат субъекта-сущего, но не самый субъект, не самое сущее. Бытие говорит о том, что что-то есть, а не о том, что есть. Нельзя сказать, что бытие есть, есть только сущее, существующее. Понятие бытия логически и грамматически двусмысленное, в нем смешиваются два смысла. Бытие значит, что что-то есть, и бытие значит то, что есть. Но второй смысл «бытия» должен быть устранен. Бытие оказывается субъектом и предикатом. Говорят: «это существо есть» и «это ощущение есть». Так происходит гипостазирование предиката[65]. По-настоящему предметом философии должно было бы быть не бытие вообще, а то, чему и кому бытие принадлежит, т. е. сущее[66]. Это важное для Вл. Соловьева различение между бытием и сущим не на всех языках выразимо. Тут он, как будто бы, приближается к экзистенциальной философии. Но его собственное философствование не принадлежит к экзистенциальному типу. В основании его философии лежала живая интуиция конкретного сущего, и его философия была делом его жизни. Но самая его философия остается отвлеченной и рациональной, сущее в ней задавлено схемами. Он все время настаивает на необходимости мистического элемента в философии. Этим проникнута его критика отвлеченных начал, его искание целостного знания, в основании знания, в основании философии лежит вера, самое признание реальности внешнего мира предполагает веру. Но, как философ, Вл. Соловьев совсем не был экзистенциалистом, он не выражал своего внутреннего существа, а прикрывал. Он пытался компенсировать себя в стихах, но и в стихах он прикрывал себя шуткой, которая иногда производит впечатление, не соответствующее серьезности темы. Особенности Вл. Соловьева, как мыслителя и писателя, дали основание Тарееву написать о нем: «Страшно подумать, что Соловьев, столь много писавший о христианстве, ни одним словом не обнаружил чувство Христа» [67]. Тареев имел тут в виду, что Вл. Соловьев, говоря о Христе, обычно говорил, как будто бы, о Логосе неоплатонизма, а не об Иисусе из Назарета. Но его интимная духовная жизнь оставалась для нас скрытой, и не следует произносить о ней суда. Нужно помнить, что он отличался необыкновенной добротой, раздавал бедным свою одежду и однажды должен был появиться в одеяле. Он принадлежит к числу людей, внутренно раздвоенных, но он стремился к целостности, к сущему, к всеединству, к конкретному знанию. К конкретному знанию стремился и Гегель, но достигал этого лишь частично, главным образом в «Феноменологии духа». Как у русского философа, тема историософическая была для Вл. Соловьева центральной, вся его философия, в известном смысле, есть философия истории, учение о путях человечества к богочеловечеству, к всеединству, к Царству Божьему. Его теократия есть историософическое построение. Философия истории связана для него с учением о Богочеловечестве, что и есть главная его заслуга перед русской религиозно-философской мыслью. В этом отношении огромное значение имеют его «Чтения о Богочеловечестве». Идея Богочеловечества, выношенная русской мыслью и мало понятная западной католической и протестантской мысли, означает своеобразное понимание христианства. Эту идею не нужно отожествлять с соловьевским эволюционизмом, при котором и Богочеловек и Богочеловечество суть как бы продукт мировой эволюции. Но и в эволюционизме Вл. Соловьева, в основном ошибочном и не соединимом со свободой, есть доля несомненной истины. Так гуманистический опыт новой истории входит в Богочеловечество, и результатом этого является эволюция христианства. Вл. Соловьев хочет христиански осмыслить этот опыт и выражает это в замечательном учении о Богочеловечестве.
Христианство есть не только вера в Бога, но и вера в человека, в возможность раскрытия божественного в человеке. Существует соизмеримость между Богом и человеком, и потому только и возможно откровение Бога человеку. Чистый, отвлеченный трансцендентизм делает невозможным откровение, не может раскрыть путей к Богу и исключает возможность общения между человеком и Богом. Даже юдаизм и магометанство не являются таким трансцендентизмом в крайней его форме. В Иисусе Христе – Богочеловеке, в индивидуальной личности, дано совершенное соединение двух природ, божественной и человеческой. Это должно произойти коллективно в человечестве, в человеческом обществе. С этим связана для Вл. Соловьева самая идея Церкви. Церковь есть богочеловеческий организм, история Церкви есть богочеловеческий процесс, и потому есть развитие. Должно произойти свободное соединение Божества и человечества. Таково задание, поставленное перед христианским человечеством, которое его плохо исполняло. Зло и страдание мира не мешали Вл. Соловьеву в этот период видеть богочеловеческий процесс развития. Богочеловечество подготовлялось еще в языческом мире, в языческих религиях. До явления Христа история стремилась к Богочеловечеству. После явления Христа история стремится к Богочеловеку. Внехристианский и противохристианский гуманистический период истории входит в этот богочеловеческий процесс. Богочеловечество возможно потому, что человеческая природа консубстанциональна человеческой природе Христа. На идее Богочеловечества лежит печать социальной и космической утопии, которой вдохновлялся Вл. Соловьев. Он хотел осуществления христианства в путях истории, в человеческом обществе, а не в индивидуальной только душе, он искал Царства Божьего, которое будет явлено еще на этой земле. Я употребляю слово утопия не в порицательном смысле, наоборот, я вижу большую заслугу Вл. Соловьева в том, что он хотел социального и космического преображения. Утопия обозначает только целостный, тоталитарный идеал, предельное совершенство. Но утопизм обыкновенно связан с оптимизмом. И мы тут наталкиваемся на основное противоречие. Соединение человечества и Божества, достижение Богочеловечества можно мыслить только свободно, оно не может быть принудительным, не может быть результатом необходимости. Это Вл. Соловьев признает, и вместе с тем богочеловеческий процесс, который приводит к Богочеловечеству, для него, как будто бы, есть необходимый, детерминированный процесс эволюции. Проблема свободы не продумана до конца. Свобода предполагает не непрерывность, а прерывность. Свобода может быть и противлением осуществлению Богочеловечества, может быть и искажением, как мы видели в истории Церкви. Парадокс свободы в том, что она может переходить в рабство. У Вл. Соловьева богочеловеческий процесс бестрагичен, между тем как он трагичен. Свобода порождает трагедию. На «Чтениях о Богочеловечестве» лежит несомненная печать влияния Шеллинга последнего периода. Но, тем не менее, соловьевское учение о Богочеловечестве есть оригинальный плод русской мысли, этого учения в такой форме нет ни у Шеллинга, ни у других представителей западной мысли. Идея Богочеловечества означает преодоление самодостаточности человека в гуманизме и вместе с тем утверждение активности человека, высшего его достоинства, божественного в человеке. Понимание христианства как религии Богочеловечества радикально противоположно судебному пониманию отношений между Богом и человеком и судебной теории искупления, распространенной в богословии католическом и протестантском. Явление Богочеловека и грядущее явление Богочеловечества означают продолжение миротворения. Русская религиозно-философская мысль в своих лучших представителях решительно борется против всякого юридического истолкования тайны христианства, и это входит в русскую идею. Вместе с тем идея Богочеловечества обращается к космическому преображению, это почти совершенно чуждо официальному католичеству и протестантизму. На Западе родство с космологизмом русской религиозной философии можно найти лишь в немецкой христианской теософии, у Я. Бёме, Фр. Баадера, Шеллинга. Это приводит нас к теме о Софии, с которой Вл. Соловьев связывает свое учение о Богочеловечестве.
Учение о Софии, которое стало популярно в религиозно-философских и поэтических течениях начала XX в., связано с платоновским учением об идеях. «София есть выраженная, осуществленная идея», – говорит Соловьев. «София есть тело Божие, материя Божества, проникнутая началом Божественного единства». Учение о Софии утверждает начало божественной премудрости в тварном мире, в космосе и человечестве, оно не допускает абсолютного разрыва между Творцом и творением. Для Вл. Соловьева София есть также идеальное человечество. И он сближает культ Софии с культом человечества у Ог. Конта. Для придания Софии православного характера он указывает на иконы Св. Софии Премудрости Божией в Новгороде и в киевском Софиевском соборе. Наибольшие нападения в православных кругах вызвало понимание Софии как вечной женственности, внесение женственного начала в Божество. Но принципиально те же возражения должно было вызвать внесение мужественного начала в Божество. С Софией связаны наиболее интимные мистические переживания Вл. Соловьева, выраженные главным образом в его стихах. Услышав внутренний призыв, он совершает таинственное путешествие в Египет на свидание с Софией – Вечной Женственностью. Он описывает это в стихотворении «Три свидания» и других стихотворениях.
Не веруя обманчивому миру Под грубою корою вещества, Я осязал нетленную порфиру И узнавал сиянье Божества. Все видел я, и все одно лишь было — Один лишь образ женской красоты… Безмерное в его размер входило, — Передо мной, во мне – одна лишь ты. Еще невольник суетному миру Под грубою корою вещества Так я прозрел нетленную порфиру И ощутил сиянье Божества. Подруга вечная, тебя не назову я.И еще:
Знайте же: вечная женственность нынче В теле нетленном на землю идет. В свете немеркнущем новой богини Небо слилося с пучиною вод. Все, чем красна Афродита мирская, Радость домов, и лесов, и морей, — Все совместит красота неземная, Чище, сильней, и живей, и полней.Видение Софии есть видение красоты Божественного космоса, преображенного мира. Если София есть Афродита, то Афродита небесная, а не простонародная. Соловьевское учение о Софии – Вечной Женственности и стихи, посвященные ей, имели огромное влияние на поэтов-символистов начала XX в. Александра Блока и Андрея Белого, которые верили в Софию и мало верили в Христа, что было огромным отличием от Вл. Соловьева. На Западе гениальное учение о Софии было у Якова Бёме, но оно носило несколько иной характер, чем у Вл. Соловьева и у русских софиологов[68]. Учение Я. Бёме о Софии есть учение о вечной девственности, а не о вечной женственности. София есть девственность, целостность человека, андрогинный образ человека. Грехопадение человека и было утерей им своей Девы-Софии. После падения София отлетает на небо, а на земле является Ева. Человек тоскует по своей Деве-Софии, по целостности. Пол есть знак раздвоенности и падшести. Можно открыть родство бёмевского учения о Софии с Платоном (учение об андрогине) и с Каббалой. Софиология у Бёме имеет главным образом антропологический характер, у Вл. Соловьева – главным образом космологический. Бёмевское учение чище соловьевского, которое допускает муть в софийных настроениях. У Вл. Соловьева было, несомненно, космическое прельщение. Но в его ожидании красоты преображенного космоса была большая правда. И в этом он выходит за пределы исторического христианства, как и все оригинальные течения русской религиозной мысли. Статья Вл. Соловьева «Смысл любви» – самое замечательное из всего им написанного, это даже единственное оригинальное слово, сказанное о любви-эросе в истории христианской мысли. Но в ней можно найти противоречие с учением о Софии, учение о любви выше учения о Софии. Вл. Соловьев – первый христианский мыслитель, по-настоящему признававший личный, а не родовой смысл любви между мужчиной и женщиной. Традиционное христианское сознание не признавало смысла любви и даже не замечало ее, для него существовало только оправдание соединения мужчины и женщины для деторождения, т. е. оправдание родовое. То, что писал об этом Бл. Августин, напоминает трактат по скотоводству. Но такова преобладающая церковная точка зрения. Вл. Соловьев устанавливает противоположность между совершенством личности и деторождением. Это – биологическая истина. Метафизическая же истина в том, что существует противоположность между перспективой личного бессмертия и перспективой смены вновь рождающихся поколений. Личность как бы распадается в деторождении, торжествует безличный род над личностью. Вл. Соловьев соединяет мистическую эротику с аскетизмом. В гениальных прозрениях «Смысла любви» ставится проблема антропологическая. В ней меньше той синтезирующей примирительности, которая часто раздражает в Соловьеве, раздражает более всего в его «Оправдании добра», системе нравственной философии, в этой статье он мыслит радикально. Единственным его предшественником в этой области можно признать лишь Фр. Баадера, но его точка зрения все же несколько иная[69].
В свое время Вл. Соловьев был мало оценен и не понят. Ценили главным образом его идею теократии, т. е. самое слабое в нем; более широкое признание имела его либеральная публицистика. Огромное влияние он имел позже на духовный ренессанс начала XX в., когда в части русской интеллигенции произошел духовный кризис. Как оценить дело Вл. Соловьева? Его манера философствования принадлежит прошлому, она более устарела, чем философия Гегеля, которой в наше время по-новому увлекаются. Его построение всемирной теократии с тройственным служением царя, первосвященника и пророка разрушено им самим и менее всего может быть удержано. Также предлагаемый им способ соединения церквей, обращенный к церковным правительствам, кажется наивным и не соответствующим современным настроениям, когда придают больше значения типам духовности и мистики. И все же значение Вл. Соловьева очень большое. Прежде всего, огромное значение в соловьевском деле имеет его утверждение профетической стороны христианства, и в этом оно более всего входит в русскую идею. Профетизм его не имеет обязательной связи с его теократической схемой и даже опрокидывает ее, Вл. Соловьев верил в возможность новизны в христианстве, он был проникнут мессианской идеей, обращенной к будущему, и в этом он нам наиболее близок. Русские течения религиозной мысли, русские религиозные искания начала XX в. будут продолжать профетическое служение Вл. Соловьева. Он был врагом всякого монофизитского уклона в понимании христианства, он утверждал активность человека в христианском богочеловеческом деле, он ввел в христианство правду гуманизма и гуманитаризма. Вопрос о католичестве Вл. Соловьева обычно неверно освещается и его католическими сторонниками, и его православными противниками. Он никогда не переходил в католичество, это было бы слишком просто и не соответствовало бы значительности поставленной им темы. Он хотел быть разом и католиком, и православным, хотел принадлежать ко Вселенской Церкви, в которой была бы полнота, какой нет еще ни в католичестве, ни в православии, взятых в их изолированности и самоутверждении, он допускал возможность интеркоммюниона. Это значит, что Вл. Соловьев был сверхконфессионален, верил в возможность новой эпохи в истории христианства. Католические симпатии и уклоны, особенно выраженные, когда он писал книгу «Россия и Вселенская Церковь», были выражением универсализма Вл. Соловьева. Но он никогда не порывал с православием и перед смертью исповедовался и приобщался у православного священника. В «Повести об антихристе» православный старец Иоанн первый узнает антихриста, и этим утверждается мистическое призвание православия. Вл. Соловьев, как и Достоевский, выходил за пределы исторического христианства, и в этом его религиозное значение. Об его эсхатологических настроениях под конец жизни речь будет в следующей главе. Он разочаровался в оптимизме своих теократических и теософических схем, увидел силу зла в истории. Но это был лишь момент его внутренней судьбы, он принадлежал к типу мессианских религиозных мыслителей, родственных польскому мессианисту Чешковскому. Нужно еще сказать, что борьба, которую Вл. Соловьев вел с национализмом, торжествовавшим в 80-е годы, внешне может казаться устаревшей, но она остается живой и для нашего времени. Это его большая заслуга. Так же, как борьба за свободу совести, мысли, слова. Уже в XX в. от богатой, разнообразной, часто противоречивой мысли Вл. Соловьева пошли разные течения – религиозная философия С. Булгакова и кн. Е. Трубецкого, философия всеединства С. Франка, символизм А. Блока, А. Белого, Вяч. Иванова; с ним очень связана проблематика начала века, хотя, в узком смысле, соловьевства у нас, может быть, и не было.
3
Но главные фигуры в русской религиозной мысли и религиозных исканиях XX в. не философы, а романисты – Достоевский и Л. Толстой. Достоевский – величайший русский метафизик, вернее, антрополог. Он сделал великие открытия о человеке, и от него начинается новая эра во внутренней истории человека. После него человек уже не тот, что до него. Только Ницше и Кирхегард могут разделить с Достоевским славу зачинателей этой новой эры. Эта новая антропология учит о человеке, как о существе противоречивом и трагическом, в высшей степени неблагополучном, не только страдающем, но и любящем страдания. Достоевский более пневматолог, чем психолог, он ставит проблемы духа, и о проблемах духа написаны его романы. Он изображает человека, проходящего через раздвоение. У него появляются люди двоящихся мыслей. В человеческом мире Достоевского раскрывается полярность в самой глубине бытия, полярность самой красоты. Достоевский заинтересовывается человеком, когда начинается внутренняя революция духа. И он изображает экзистенциальную диалектику человеческого раздвоения. Страдание не только глубоко присуще человеку, но оно есть единственная причина возникновения сознания. Страдание искупает зло. Свобода, которая есть знак высшего достоинства человека, его богоподобия, переходит в своеволие. Своеволие же порождает зло. Зло есть знак внутренней глубины человека. Достоевский открывает подполье и подпольного человека, глубины подсознательного. Из этой глубины восклицает человек, что он хочет «по своей глупой воле» пожить и что «дважды два – четыре» есть начало смерти. Основная тема Достоевского есть тема свободы, тема метафизическая, которая никогда еще не была так глубоко поставлена. Со свободой связано и страдание. Отказ от свободы облегчил бы страдание. Существует противоречие между свободой и счастьем. Достоевский видит дуализм злой свободы и принудительного добра. Эта тема о свободе есть основная тема «Легенды о Великом Инквизиторе», вершины творчества Достоевского. Принятие свободы означает веру в человека, веру в дух. Отказ от свободы есть неверие в человека. Отрицание свободы есть антихристов дух. Тайна Распятия есть тайна свободы. Распятый Бог свободно избирается предметом любви. Христос не насилует своим образом. Если бы Сын Божий стал царем и организовал бы земное царство, то свобода была бы отнята от человека. Великий Инквизитор говорит Христу: «Ты возжелал свободной любви человека». Но свобода – аристократична, она есть непосильное бремя для миллиона миллионов людей. Возложив на людей бремя свободы, «Ты поступил, как бы не любя их вовсе». Великий Инквизитор принимает три искушения, отвергнутые Христом в пустыне, отрицает свободу духа и хочет сделать счастливыми миллионы миллионов младенцев. Миллионы будут счастливы, отказавшись от личности и свободы. Великий Инквизитор хочет сделать муравейник, рай без свободы. «Эвклидов ум» не понимает тайны свободы, она рационально непостижима. Можно было бы избежать зла и страдания, но ценой отречения от свободы. Зло, порожденное свободой, как своеволием, должно сгореть, но оно есть прохождение через искушающий опыт. Достоевский раскрывает глубину преступления и глубину совести. Иван Карамазов объявляет бунт, не принимает мира Божьего и возвращает билет Богу на вход в мировую гармонию. Но это лишь путь человека. Все миросозерцание Достоевского было связано с идеей личного бессмертия. Без веры в бессмертие ни один вопрос не разрешим. И если бы не было бессмертия, то Великий Инквизитор был бы прав. В «Легенде» Достоевский имел, конечно, в виду не только католичество, не только всякую религию авторитета, но и религию коммунизма, отвергающую бессмертие и свободу духа. Достоевский, вероятно, принял бы своеобразный христианский коммунизм и, наверное, предпочел бы его буржуазному капиталистическому строю. Но коммунизм, отрицающий свободу, достоинство человека как бессмертного существа, он признавал порождением антихристова духа.
Религиозная метафизика Льва Толстого менее глубокая и менее христианская, чем религиозная метафизика Достоевского. Но Л. Толстой имел огромное значение в русской религиозности второй половины XIX в. Он был пробудителем религиозной совести в обществе религиозно-индифферентном или враждебном христианству. Он вызвал искание смысла жизни. Достоевский, как религиозный мыслитель, имел влияние на сравнительно небольшой круг интеллигенции, на души более усложненные. Толстой, как религиозный нравственный проповедник, имел влияние на более широкий круг, он захватывал и народные слои. Его влияние чувствовалось в сектантских движениях. Группы толстовцев, в собственном смысле, были немногочисленны. Но толстовская мораль имела большое влияние на моральные оценки очень широких кругов русского интеллигентного общества. Сомнение в оправданности частной собственности, особенно земельной, сомнение в праве судить и наказывать, обличение зла и неправды всякого государства и власти, покаяние в своем привилегированном положении, сознание вины перед трудовым народом, отвращение к войне и насилию, мечта о братстве людей – все эти состояния были очень свойственны средней массе русской интеллигенции, они проникли и в высший слой русского общества, захватили даже часть русского чиновничества. Это было толстовство платоническое, толстовская мораль считалась неосуществимой, но самой высокой, какую только можно себе представить. Таково, впрочем, было отношение и к евангельской морали вообще. В Л. Толстом произошло сознание своей вины в господствующем слое русского общества. Это было прежде всего аристократическое покаяние. У Л. Толстого была необычайная жажда совершенной жизни, она томила его большую часть жизни, было острое сознание своего несовершенства[70]. От православия получил он сознание своей греховности, склонность к неустанному покаянию. Мысль, что нужно прежде всего исправить себя, а не улучшать жизнь других, есть традиционно-православная мысль. Православная основа у него была сильнее, чем обыкновенно думают. Самый нигилизм его в отношении к культуре получен от православия. Одно время он делал усилия быть самым традиционным православным, чтобы быть в духовном единстве с рабочим народом. Но он не выдержал испытания, он возмутился против грехов и зол исторической церкви, против неправды жизни тех, которые почитали себя православными. И он стал гениальным обличителем неправд исторической церковности. В своей критике, в которой было много правды, он зашел так далеко, что начал отрицать самые первоосновы христианства и пришел к религии более близкой к буддизму. Л. Толстой был отлучен от церкви Св. Синодом, органом малоавторитетным. Между тем как православная церковь не любила отлучать. Могут сказать, что Толстой сам себя отлучил. Но отлучение было возмутительно потому, что оно было применено к человеку, который так много сделал для пробуждения религиозных интересов в обществе безбожном, в котором люди, мертвые для христианства, не отлучались. Л. Толстой был прежде всего борцом против идолопоклонников. В этом была его правда. Но ограниченность духовного типа Толстого связана с тем, что религия его была столь исключительно моралистической. Он никогда не сомневался только в добре. От толстовского мировоззрения иногда бывает душно, и у толстовцев же это бывает невыносимо. Отсюда нелюбовь Толстого к обрядам. Но за толстовским морализмом скрыто было искание Царства Божьего, которое должно осуществляться здесь, на земле, и сейчас. Нужно начинать сейчас, но, по его словам, идеал Царства Божьего бесконечен. Он любил выражаться с нарочитой грубостью и почти нигилистической циничностью, он не любил никаких прикрас. В этом есть большое сходство с Лениным. Иногда Толстой говорит: Христос учит не делать глупостей. Но он же говорит: то, что есть, неразумно, разумно то, чего нет, мировая разумность – зло, мировая нелепость – добро. Он стремился к мудрости и в этом хочет быть вместе с Конфуцием, Лаодзе, Буддой, Соломоном, Сократом, стоиками, Шопенгауэром, которого очень почитал. Величайшим из мудрых он почитал Иисуса Христа. Но он был ближе к буддизму и к стоицизму, чем к христианству. Метафизика Л. Толстого, лучше всего выраженная в его книге «О жизни», резко антиперсоналистична. Только отказ от личного сознания победит страх смерти. В личности, в личном сознании, которое для него есть животное сознание, он видит величайшее препятствие для осуществления совершенной жизни, для соединения с Богом. Бог же для него и есть истинная жизнь. Истинная жизнь есть любовь. Антиперсонализм Толстого наиболее отделяет его от христианства и наиболее приближает его к индусскому религиозному сознанию. У него было большое уважение к Нирване. Для Достоевского в центре стоял человек. Для Толстого человек есть лишь часть космической жизни и человек должен слиться с божественной природой. Самое художество его космическое, в нем как бы космическая жизнь сама себя выражает. Самое большое значение имеет жизненная судьба самого Толстого, его уход перед смертью. Личность Толстого необыкновенно значительна и гениальна в самых своих противоречиях. Он был теллургическим человеком, он нес в себе всю тяжесть земли, и он устремлен был к чисто-духовной религии. В этом его основное трагическое противоречие. И он не мог примкнуть к толстовским колониям не вследствие своей слабости, а вследствие своей гениальности. Всю жизнь у этого гордого, полного страстей, важного барина, настоящего гранд-сеньора, была память о смерти, и все время он хотел смириться перед волей Бога. Он хотел осуществить закон хозяина жизни, как он любил выражаться. Он много мучился, религия его была безблагодатна. Про него скажут, что он собственными силами хотел осуществить совершенную жизнь. Но, по его богосознанию, осуществление совершенной жизни есть присутствие Бога в человеке. Чего-то в христианстве он до конца не мог понять, но вина в этом лежит не на нем, не только на нем. По своим исканиям правды, смысла жизни, исканиям Царства Божьего, своим покаяниям, своему религиозно-анархическому бунту против неправды истории и цивилизации он принадлежит русской идее. Он есть русское противопоставление Гегелю и Ницше.
Русская религиозная проблематика была очень мало связана с духовной средой, с духовными академиями, с иерархами церкви. В XVIII в. замечательным духовным писателем был св. Тихон Задонский, имевший такое значение для Достоевского. В нем было веяние нового духа, на него имел влияние западный христианский гуманизм, Арндт и др. В XIX в. можно назвать немного людей из духовной среды, которые представляют интерес, хотя они остаются вне основных духовных течений. Таковы Бухарев (архимандрит Федор), архиепископ Иннокентий, Несмелов в особенности, и Тареев. Жизнь Бухарева была очень драматична. Будучи монахом и архимандритом, он пережил духовный кризис, усомнился в своем монашеском призвании и в традиционных формах аскезы, ушел из монашества, но остался горячо верующим православным. Потом он женился и придавал особенное религиозное значение браку. Всю жизнь он продолжал быть духовным писателем, и через инерцию традиционного православия у него прорывалась новизна, он ставил проблемы, которых не ставила официальная православная мысль. Он, конечно, подвергся преследованию, и положение его было трагическим и мучительным. Официальная православная среда не признавала его своим, широкие же круги интеллигенции его не читали и не знали. Заинтересовались им позже, уже в начале XX в. Писал он очень старомодно, языком, не свойственным русской литературе, и читать его было не очень приятно. Его книга об Апокалипсисе, которую он писал большую часть жизни и которой придавал особенное значение, – самое слабое из его произведений, очень устаревшее, и сейчас ее читать невозможно. Интересна только самая его обращенность к Апокалипсису. Новым у него был исключительный интерес к вопросу об отношении православия к современности, так и называется одна из его книг[71]. Понимание Бухаревым христианства можно было бы назвать панхристизмом. Он хочет приобретения и усвоения себе Христа, а не Его заповедей. Он все сводит к Христу, к Его лику. В этом резко отличается от Л. Толстого, у которого было слабое чувство личности Христа. Дух Христов – не отворачивание от людей, а человеколюбие и самопожертвование. Бухарев особенно настаивает на том, что главная жертва Христа – за мир и человека, а не жертва человека и мира для Бога. Это противоположно судебному пониманию христианства. Ради всякого человека Сын Божий стал человеком. Агнец был заклан до сотворения мира. Бог творил мир, отдавая себя на заклание. «Мир явился мне, – говорит Бухарев, – не только областью, во зле лежащей, но и великою средой для раскрытия благодати Богочеловека, взявшего зло мира на себя». «Мыслью о Христовом царстве не от мира сего мы пользуемся только для своего нечеловеколюбивого, ленивого и малодушного безучастия к труждающимся и обремененным в сем мире». Бухарев утверждает не деспотию Бога, а самопожертвование Агнца. Дух силен свободой, а не рабством страха. Ему дороже всего «снисхождение Христово на землю». Ничто существенно-человеческое не отвергается, кроме греха. Благодать противополагается греху, а не природе. Естественное неотделимо от сверхъестественного. Творческие силы человека есть отсвет Бога Слова. «Будет ли и когда будет у нас это духовное преобразование, по которому и все земное мы стали бы разуметь по Христу; все гражданские порядки были бы нами и понимаемы и сознательно выдерживаемы в силе и смысле благодатных порядков». Идея Царства Божьего должна быть применена к судьбам и делам царства мира сего. Бухарев говорит, что Христос сам действует в церкви, а не передает авторитет иерархам. Оригинальность его была в том, что он не столько хотел осуществления в полноте жизни христианских принципов, сколько приобретения полноты жизни самого Христа, как бы продолжения воплощения Христа во всей жизни. Он утверждал, как потом Н. Федоров, внехрамовую литургию. Русской религиозной мысли вообще была свойственна идея продолжающегося боговоплощения, как и продолжающегося в явлении Христа миротворения. Это – отличие русской религиозной мысли от западной. Отношение между Творцом и творением не вызывает никаких представлений о судебном процессе. Бухареву свойственна необыкновенная человечность, все христианство его проникнуто духом человечности. Он хочет осуществлять эту христианскую человечность. Но он, как и славянофилы, еще держался за монархию, совсем, впрочем, непохожую на абсолютизм и империализм. Иногда кажется, что монархизм был защитным цветом русской христианской мысли XIX в. Но в нем был и непреодоленный исторический романтизм.
Единственный иерарх церкви, о котором стоит упомянуть, когда говорят о русской религиозной философии, это – архиепископ Иннокентий[72]. Митрополит Филарет был очень талантливый человек, но для религиозной философии он совсем неинтересен, у него не было в этой области своих интересных мыслей. Епископ Феофан Затворник писал исключительно книги по духовной жизни и аскетике в духе «Добротолюбия». Архиепископа Иннокентия можно назвать скорее философом, чем богословом. Он, подобно славянофилам и Вл. Соловьеву, прошел через немецкую философию и мыслил очень свободно. Ревнители ортодоксии, вероятно, признают многие его мысли недостаточно православными. Он говорил: страх Божий приличествует для еврейской религии, для христианства он не подходит. И еще говорил: если бы в человеке, в его сердце не было зародыша религии, то и сам Бог не научил бы религии. Человек свободен, и Бог не может заставить меня хотеть того, чего я не хочу. Религия любит жизнь и свободу. «Кто почувствует свою зависимость от Бога, тот станет выше всякого страха, выше деспотизма». Бог захотел увидеть своего друга. Откровение не должно противоречить уму высшему, не должно унижать человека. Источники религии: озарение Св. Духа, избранные люди, предание и Св. Писание, и пятый источник – пастыри. Откровение есть внутреннее действие Бога на человека. Нельзя доказать бытия Божьего. Бог познается и чувством, и умом, но не умом и понятием. Религия принимается только сердцем. «Никакая наука, никакое доброе действие, никакое чистое наслаждение не лишни для религии». Иисус Христос дал лишь план церкви, а устроение ее предоставил времени. Иерархи не непогрешимы, испорченность присутствует внутри церкви. Подобно Вл. Соловьеву, архиепископ Иннокентий думает, что «всякое познание основано на вере». Воображение не могло бы выдумать христианства. Некоторые его мысли не соответствуют преобладающим богословским мнениям. Так, он справедливо думает, что душа должна предсуществовать, что она вечно была в Боге, что мир создан не во времени, а в вечности. На Средние века он смотрел, как на время суеверия и грабежа, что было преувеличением. В религиозной философии архиепископа Иннокентия были элементы модернизма. Западные либеральные веяния коснулись и нашей духовной среды, которая была очень затхлой. Многие профессора духовных академий находились под сильным влиянием немецкой протестантской науки. И это имело положительное значение. Но, к сожалению, это приводило к неискренности и притворству: должны были выдавать себя за православных те, которые ими уже не были. Были в среде профессоров духовных академий и совсем неверующие. Но были и такие, которым удавалось соединить совершенную свободу науки с искренней православной верой. Таков был замечательный историк церкви Болотов, человек необъятной учености. Но в русской богословской литературе совсем не было трудов по библейской критике, по научной экзегезе Священного Писания. Это отчасти объясняется цензурой. Библейская критика оставалась запретной областью, и с трудом просачивались некоторые критические мысли. Единственным замечательным трудом в этой области, стоящим на высоте европейской науки и свободной философской мысли, была книга кн. С. Трубецкого «Учение о Логосе». Но много ценных трудов было по патристике. Духовная цензура свирепствовала. Так, например, книга Несмелова «Догматическая система св. Григория Нисского» была искажена духовной цензурой, его заставили изменить конец книги в смысле неблагоприятном для учения св. Григория Нисского о всеобщем спасении. Несмелов – самое крупное явление в русской религиозной философии, вышедшей из духовных академий, и вообще один из самых замечательных религиозных мыслителей. По своей религиозной и философской антропологии он интереснее Вл. Соловьева, но в нем, конечно, нет универсализма последнего, нет размаха мысли, нет такой сложности личности.
Несмелов, скромный профессор Казанской духовной академии, намечает возможность своеобразной и во многом новой христианской философии[73]. Главный труд его называется «Наука о человеке». Огромный интерес представляет второй том этого труда, озаглавленный «Метафизика христианской жизни». Несмелов хочет построить христианскую антропологию, но эта антропология превращается в понимание христианства в целом, вследствие особого значения, которое он придает человеку. Загадка о человеке – вот проблема, которая с большой остротой им ставится. Человек для него и есть единственная загадка мировой жизни. Эта загадочность человека определяется тем, что он, с одной стороны, есть природное существо, с другой же стороны, он не вмещается в природный мир и выходит за его пределы. Из учителей церкви несомненное влияние на Несмелова имел св. Григорий Нисский. Учение о человеке св. Григория Нисского превосходит святоотеческую антропологию, он хотел поднять достоинство человека, для него человек был не только грешным существом, но и действительно был образом и подобием Божиим и микрокосмом[74]. Для Несмелова человек есть двойственное существо. Он – религиозный психолог, и он хочет иметь дело не с логическими понятиями, а с реальными фактами человеческого существования, он гораздо конкретнее Вл. Соловьева. Он предлагает новое антропологическое доказательство бытия Божьего. «Идея Бога действительно дана человеку, но только она дана ему не откуда-нибудь извне, в качестве мысли о Боге, а предметно-фактически осуществлена в нем природою его личности, как нового образа Бога. Если бы человеческая личность не была идеальной по отношению к реальным условиям ее собственного существования, человек и не мог бы иметь идеи Бога, и никакое откровение никогда бы не могло сообщить ему эту идею, потому что он не в состоянии был бы понять ее… Человеческая личность реальна в бытии и идеальна по своей природе, и самым фактом своей идеальной реальности она непосредственно утверждает объективное существование Бога как истинной личности». Несмелов особенно настаивает на том, что человеческая личность необъяснима из природного мира, превосходит его и требует высшего бытия, чем бытие мира. Интересно, что Несмелов очень ценит Фейербаха и хочет превратить мысль Фейербаха об антропологической тайне религии в орудие защиты христианства. Тайна христианства есть прежде всего антропологическая тайна. И атеизм Фейербаха может быть понят как диалектический момент христианского богопознания. Отвлеченное богословие с его игрой понятий должно было вызвать антропологическую реакцию Фейербаха. Это заслуга Несмелова, что он хочет антропологизм Фейербаха обратить в пользу христианства. Интересна и своеобразна у него психология грехопадения. Сущность грехопадения он видит в суеверном отношении к материальным вещам как источнику силы и знания. «Люди захотели, чтобы их жизнь и судьба определялись не ими самими, а внешними материальными причинами». Несмелов все время борется против языческих, идолопоклоннических, магических элементов в христианстве. Он – самый крайний противник и острый критик юридической теории искупления, как сделки с Богом. В искании спасения и счастья он видит язычески-иудейское, суеверное искажение христианства. Понятие об истинной жизни он противополагает понятию о спасении. Спасение приемлемо только как достижение истинной и совершенной жизни. Он также хотел бы изгнать из христианства страх наказания и заменить сознанием несовершенства. Подобно Оригену, св. Григорию Нисскому и многим восточным учителям церкви, он хочет всеобщего спасения. Он борется против рабьего сознания в христианстве, против унижения человека в аскетически-монашеском понимании христианства. Христианская философия Несмелова есть в большей степени персонализм, чем христианская философия Вл. Соловьева. Русская религиозно-философская мысль ставила по-иному проблему религиозной антропологии, чем католическая и протестантская антропология, и она идет дальше антропологии патристической и схоластической, в ней сильнее человечность. Несмелову принадлежит большое место в этой религиозной антропологии.
Профессор Московской духовной академии Тареев создал оригинальную концепцию христианства, наиболее отличающуюся от традиционного православия[75]. У него находили скрытый протестантизм, что, конечно, есть условная терминология. Но есть в нем и что-то характерно-русское. По мнению Тареева, русский народ – смиренно верующий и кротко любящий. В христологии его главное место занимает учение о кенозисе, о самоуничижении Христа и подчинении его законам человеческого существования. Божественное слово соединилось не с человеческой силой, а с человеческим уничижением. Богосыновство Христа есть вместе с тем богосыновство каждого человека. Индивидуально-ценное в религиозной области можно увидеть лишь имманентно, по родству с предметом. Истинная религия не только священнически-консервативна, но и пророчески духовна, не только стихийно народна, но и лично духовна, она даже, по преимуществу, пророчески духовна. Тареев – сторонник духовного христианства. Евангелию свойственна лично-духовная абсолютность. Эта абсолютность и духовность не может быть выражена в естественной исторической жизни, которая всегда относительна. Духовная истина христианства не может воплощаться в исторической жизни, она выражается в ней лишь символически, а не реально. Тареевская концепция христианства – дуалистическая и очень отличается от монизма славянофилов и Вл. Соловьева. У Тареева есть много верного. Он – решительный враг теократии. Но он также враг всякого гностицизма. Царство Божие есть царство личностей, духовно-свободных. Основная идея Евангелия – идея божественной духовной жизни. Есть два понимания Царства Божьего: эсхатологическое и теократическое. Верно эсхатологическое понимание. В Евангелии церковь имеет второстепенное значение, и Царство Божье – все. В царстве Христовом не может быть власти и авторитета. Тареев хочет освобождения духовной религии от символической оболочки. Он противопоставляет символическое служение Богу и духовное служение Богу. Евангельская вера – абсолютная форма религии и погружена в безграничную свободу. Тареев утверждает свободу абсолютной религии духа от исторических форм и свободу природно-исторической жизни от притязаний религиозной власти. Поэтому для него не может быть христианского народа, государства, брака. Вечная жизнь есть не загробная жизнь, а истинная духовная жизнь. Дух есть не часть человеческой природы, а божественное в человеке. Непреодолимый дуализм Тареева имеет обратной своей стороной монизм. Религиозная антропология Несмелова выше религиозной антропологии Тареева. Тареевский дуализм имеет большую ценность, как критика ложности исторических воплощений христианства, этот дуализм справедливо указывает на смешение символического с реальным, относительного с абсолютным. Но он не может быть окончательным. Остается непонятным смысл существования исторической церкви с ее символикой. У Тареева нет философии истории. Но он – оригинальный религиозный мыслитель, острый по своим противоположениям, и неверно сводить его целиком к немецким протестантским влияниям, сопоставляя его с Ричлем. Дуализм Тареева во всем противоположен дуализму К. Леонтьева. Тареев склонялся к известной форме имманентизма. К. Леонтьев исповедует крайний трансцендентизм. Его религия есть религия страха и насилия, а не любви и свободы, как у Тареева, это религия трансцендентного эгоизма. При всех уклонах Тареева от традиционного православия, его христианство более русское, чем христианство Леонтьева, совсем, как было уже сказано, нерусское, византийское, исключительно монашески-аскетическое и авторитарное. Необходимо установить различие между русской творческой религиозной мыслью, которая по-новому ставит проблему антропологическую и космологическую, и официальным монашески-аскетическим православием, для которого авторитет «Добротолюбия» стоит выше авторитета Евангелия. Новым в творческой религиозной мысли, столь отличной от мертвящей схоластики, было ожидание, не всегда открыто выраженное, новой эпохи в христианстве, эпохи Св. Духа. Это и есть более всего русская идея. Русская мысль – существенно эсхатологическая, и эсхатологизм этот принимает разные формы.
Глава IX
Ожидание новой эпохи Святого Духа. Эсхатологический и профетический характер русской мысли. Отрицание буржуазных добродетелей. Странничество. Народные искатели Царства Божьего. Эсхатологическое настроение среди интеллигенции. Извращенная эсхатология у революционной интеллигенции. Странничество Л. Толстого. Эсхатологизм и мессианизм у Достоевского. Срыв у Леонтьева и Соловьева. Гениальная идея Федорова об условности апокалиптических пророчеств. Прозрение Чешковского. Проблема рождения и смерти у Вл. Соловьева, Федорова и Розанова.
1
В своей книге о Достоевском я писал, что русские – апокалиптики или нигилисты. Россия есть апокалиптический бунт против античности (Шпенглер). Это значит, что русский народ по метафизической своей природе и по своему призванию в мире есть народ конца. Апокалипсис всегда играл большую роль и в нашем народном слое, и в высшем культурном слое, у русских писателей и мыслителей. В нашем мышлении эсхатологическая проблема занимает несоизмеримо большее место, чем в мышлении западном. И это связано с самой структурой русского сознания, мало способного и мало склонного удержаться на совершенных формах серединной культуры. Историки-позитивисты могут указать, что для характеристики русского народа я делаю выбор, выбираю немногое, исключительное, в то время как многое, обыкновенное, было иное. Но умопостигаемый образ народа можно начертать лишь путем выбора, интуитивно проникая в наиболее выразительное и значительное. Я все время подчеркивал профетический элемент в русской литературе и мысли XIX в. Я говорил также о роли, которую играла эсхатологическая настроенность в русском расколе и сектантстве. Элемент педагогический и благоустроительный был у нас или очень слаб, почти отсутствовал, или был ужасен, безобразен, как в «Домострое». Нравоучительные книги епископа Феофана Затворника также носят довольно низменный характер. Все это связано с коренным русским дуализмом. Устраивают землю и земную жизнь злые силы, отступившие от правды Христовой, добрые же силы ждут Града Грядущего, Царства Божьего. Русский народ очень одаренный, но у него сравнительно слабый дар формы. Сильная стихия опрокидывает всякую форму. Это и есть то, что западным людям, особенно французам, у которых почти исчезла первичная стихия, представляется варварством. В Западной Европе цивилизация, которая достигла большой высоты, все более закрывает эсхатологическое сознание. Католическое сознание боится эсхатологического понимания христианства, так как оно открывает возможность опасной новизны. Устремленность к грядущему свету, мессианское ожидание противоречат педагогическому, социально-устроительному характеру католичества, вызывают опасение, что ослабится возможность водительства душами. Также и буржуазное общество, ни во что не верящее, боится, что эсхатологическое сознание может расшатать основы этого буржуазного общества. Леон Блуа, редкий во Франции писатель апокалиптического духа, был враждебен буржуазному обществу и буржуазной цивилизации, его не любили и мало ценили[76]. В годы катастроф апокалиптические настроения появляются и в европейском обществе. Так было после французской революции и наполеоновских войн[77]. Тогда Юнг Штилинг пророчествовал о скором явлении антихриста. В более далеком прошлом, в IX в., на Западе было ожидание антихриста. Более близки русским пророчества Иоахима из Флориды о новой эпохе Св. Духа, эпохе любви, дружбы, свободы, хотя все это слишком связывалось с монахами. Близок русским также образ св. Франциска Ассизского, искупающий многие грехи исторического христианства. Но христианская цивилизация Запада строилась вне эсхатологической перспективы. Необходимо объяснить, что я понимаю под эсхатологией. Я имею в виду не эсхатологическую часть богословской системы, которую можно найти во всяком курсе католического или протестантского богословия. Я имею в виду эсхатологическое понимание христианства в целом, которое нужно противоположить историческому пониманию христианства. Христианское откровение есть откровение эсхатологическое, откровение о конце этого мира, о Царстве Божьем. Все первохристианство было эсхатологично, ждало второго пришествия Христа и наступления Царства Божьего[78]. Историческое христианство, историческая церковь означают, что Царство Божье не наступило, означают неудачу, приспособление христианского откровения к царству этого мира. Поэтому в христианстве остается мессианское упование, эсхатологическое ожидание, и оно сильнее в русском христианстве, чем в христианстве западном. Церковь не есть Царство Божье, церковь явилась в истории и действовала в истории, она не означает преображения мира, явления нового неба и новой земли. Царство же Божье есть преображение мира, не только преображение индивидуального человека, но также преображение социальное и космическое. Это – конец этого мира, мира неправды и уродства, и начало нового мира, мира правды и красоты. Когда Достоевский говорил, что красота спасет мир, он имел в виду преображение мира, наступление Царства Божьего. Это и есть эсхатологическая надежда. Она была у большей части представителей русской религиозной мысли. Но русское мессианское сознание, как и русский эсхатологизм, было двойственно.
В русском мессианизме, столь свойственном русскому народу, чистая мессианская идея Царства Божьего, царства правды, была затуманена идеей империалистической, волей к могуществу. Мы это видели уже в отношении к идеологии Москвы – Третьего Рима. И в русском коммунизме, в который перешла русская мессианская идея в безрелигиозной и антирелигиозной форме, произошло то же извращение русского искания царства правды волей к могуществу. Но русским людям, несмотря на все соблазны, которым они подвержены, очень свойственно отрицание величия и славы этого мира. Таковы, по крайней мере, они в высших своих состояниях. Величие и слава мира остаются соблазном и грехом, а не высшей ценностью, как у западных людей. Характерно, что русским не свойственна риторика, ее совсем не было в русской революции, в то время как она играла огромную роль во французской революции. В этом Ленин со своей грубостью, отсутствием всяких прикрас, всякой театральности, с простотой, переходящей в цинизм, – характерно русский человек. Относительно Петра Великого и Наполеона, образов величия и славы, русский народ создал легенду, что они – антихристы. У русских отсутствуют буржуазные добродетели, именно добродетели, столь ценимые Западной Европой. Буржуазные же пороки у русских есть, именно пороки, которые такими и сознаются. Слова «буржуа», «буржуазный» в России носили порицательный характер, в то время как на Западе эти слова означали почтенное общественное положение. Вопреки мнению славянофилов, русский народ – менее семейственный, чем народы Запада, менее прикованный к семье, сравнительно легко с ней разрывающий. Авторитет родителей в интеллигенции, в дворянстве, в средних слоях, за исключением, может быть, купечества, был слабее, чем на Западе. Вообще у русских было сравнительно слабо иерархическое чувство, или оно существовало в отрицательной форме низкопоклонства, т. е. опять-таки порока, а не добродетели. Русский народ в глубоких явлениях своего духа – наименее мещанский из народов, наименее детерминированный, наименее прикованный к ограниченным формам быта, наименее дорожащий установленными формами жизни. При этом самый быт русский, например купеческий быт, описанный Островским, бывал безобразен в такой степени, в какой этого не знали народы западной цивилизации. Но этот буржуазный быт не почитался святыней. В русском человеке легко обнаруживается нигилист. Все мы – нигилисты, говорит Достоевский. Наряду с низкопоклонством и рабством легко обнаруживается бунтарь и анархист. Все протекало в крайних противоположностях. И всегда есть устремленность к чему-то бесконечному. У русских всегда есть жажда иной жизни, иного мира, всегда есть недовольство тем, что есть. Эсхатологическая устремленность принадлежит к структуре русской души. Странничество – очень характерное русское явление, в такой степени незнакомое Западу. Странник ходит по необъятной русской земле, никогда не оседает и ни к чему не прикрепляется. Странник ищет правды, ищет Царства Божьего, он устремлен вдаль. Странник не имеет на земле своего пребывающего града, он устремлен к Граду Грядущему. Народный слой всегда выделял из своей среды странников. Но по духу своему странниками были и наиболее творческие представители русской культуры, странниками были Гоголь, Достоевский, Л. Толстой, Вл. Соловьев и вся революционная интеллигенция. Есть не только физическое, но и духовное странничество. Оно есть невозможность успокоиться ни на чем конечном, устремленность к бесконечному. Но это и есть эсхатологическая устремленность, есть ожидание, что всему конечному наступит конец, что окончательная правда откроется, что в грядущем будет какое-то необычайное явление. Я назвал бы это мессианской чувствительностью, одинаково свойственной людям из народа и людям высшей культуры. Русские, в большей или меньшей степени, сознательно или бессознательно – хилиасты. Западные люди гораздо более оседлые, более прикреплены к усовершенствованным формам своей цивилизации, более дорожат своим настоящим, более обращены к благоустройству земли. Они боятся бесконечности, как хаоса, и этим походят на древних греков. Слово «стихия» с трудом переводимо на иностранные языки. Трудно дать имя, когда ослабела и почти исчезла самая реальность. Но стихия есть исток, прошлое, сила жизни, эсхатологичность же есть обращенность к грядущему, к концу вещей. В России эти две нити соединены.
2
Мне посчастливилось приблизительно около 10-го года этого столетия прийти в личное соприкосновение с бродячей Русью, ищущей Бога и Божьей правды. Я могу говорить об этом характерном для России явлении не по книгам, а по личным впечатлениям. И могу сказать, что это – одно из самых сильных впечатлений моей жизни. В Москве, в трактире около церкви Флора и Лавра, одно время каждое воскресенье происходили народные религиозные собеседования. Трактир этот тогда называли «Яма». На этих собраниях, носивших народный стиль уже по замечательному русскому языку, присутствовали представители самых разнообразных сект. Тут были и бессмертники, и баптисты, и толстовцы, и евангелисты разных оттенков, и хлысты, по обыкновению себя скрывавшие, и одиночки – народные теософы. Я бывал на этих собраниях и принимал активное участие в собеседованиях. Меня поражали напряженность духовного искания, захваченность одной какой-нибудь идеей, искание правды жизни, а иногда и глубокомысленный гнозис. Сектантский уклон всегда означает сужение сознания, недостаток универсализма, вытеснение сложного многообразия жизни. Но каким укором официальному православию являлись эти народные богоискатели! Присутствовавший православный миссионер был жалкой фигурой и производил впечатление полицейского чиновника. Народные искатели Божьей правды хотели, чтобы христианство осуществилось в жизни, они хотели большей духовности в отношении к жизни, не соглашались на приспособление к законам этого мира. Наибольший интерес представляла мистическая секта бессмертников, которые утверждали, что верующий во Христа никогда не умрет и что люди умирают только потому, что верят в смерть и не верят в победу Христа над смертью. Я много говорил с бессмертниками, они приходили ко мне, и я убедился, что переубедить их невозможно. Они защищали какую-то часть истины, взятую не в полноте, в исключительности. Некоторые народные богомудры имели целую гностическую систему, напоминающую Я. Бёме и других мистиков гностического типа. Обычно силен был дуалистический элемент, мучила трудность разрешить проблему зла. Но, как это нередко бывает, дуализм парадоксально сочетался с монизмом. В X. губернии, рядом с имением, в котором я много лет жил летом, была колония, основанная одним толстовцем, замечательным человеком. В эту колонию стекались искатели Бога и Божьей правды со всех концов России. Иногда они проводили в этой колонии всего несколько дней и шли дальше, на Кавказ. Все приезжающие бывали у меня, и мы вели духовные беседы, иногда необыкновенно интересные. Было много добролюбовцев. Это – последователи Александра Добролюбова, «декадентского» поэта, который ушел в народ, опростился, стал учителем духовной жизни. С добролюбовцами общение было трудно, потому что у них был обет молчания. Все богоискатели обычно имели свою систему спасения мира и были беззаветно ей преданы. Все считали этот мир, в котором приходилось жить, злым и безбожным и искали иного мира, иной жизни. В отношении к этому миру, к истории, к современной цивилизации настроение было эсхатологическое. Этот мир кончается, в них начинается новый мир. Духовная жажда была огромная, и так характерно было ее присутствие в русском народе. То были русские странники. Вспоминаю простого мужика, чернорабочего, еще очень юного, и беседы с ним. С ним мне легче было говорить на духовные и мистические темы, чем с культурными людьми, с интеллигенцией. Он описывал пережитый им мистический опыт, который очень напоминает то, о чем писали Экхардт и Бёме, о которых он, конечно, не имел никакого понятия. Ему открылось рождение Бога из тьмы. Я не представляю себе России и русского народа без этих искателей Божьей правды. В России всегда было и всегда будет духовное странничество, всегда была эта устремленность к конечному состоянию. У русской революционной интеллигенции, исповедовавшей в большинстве случаев самую жалкую материалистическую идеологию, казалось бы, не может быть эсхатологии. Но так думают потому, что придают слишком исключительное значение сознательным идеям, которые часто затрагивают лишь поверхность человека. В более глубоком слое, не нашедшем себе выражения в сознании, в русском нигилизме, социализме была эсхатологическая настроенность и напряженность, была обращенность к концу. Речь всегда шла о каком-то конечном совершенном состоянии, которое должно прийти на смену злому, несправедливому, рабьему миру. «Шигалев смотрел так, как будто ждал разрушения мира… так-этак, послезавтра утром, ровно в двадцать пять минут одиннадцатого». Тут Достоевский угадывает что-то очень существенное в русском революционере. Русские революционеры, анархисты и социалисты, были бессознательными хилиастами, они ждали тысячелетнего царства. Революционный миф есть миф хилиастический. Русская натура была наиболее благоприятна для его восприятия. Это русская идея, что невозможно индивидуальное спасение, что спасение – коммюнотарно, что все ответственны за всех. Отношение Достоевского к русским революционерам-социалистам было сложное, двойственное. С одной стороны, он писал против них почти пасквили. Но, с другой стороны, он говорит, что бунтующие против христианства тоже суть Христова лика.
3
Можно подумать, что у Л. Толстого нет эсхатологии, что его религиозная философия, монистическая и близкая к индусской, не знает проблемы конца мира. Но это суждение остается на поверхности. Уход Толстого из семьи перед смертью есть эсхатологический уход и полон глубокого смысла. Он был духовным странником, он хотел им сделаться во всей своей жизни, что ему не удавалось. Но странник устремлен к концу. Он хотел выхода из истории, из цивилизации в природную божественную жизнь. Это есть устремление к концу, к тысячелетнему царству. Л. Толстой не был эволюционистом, который хотел бы постепенного движения истории к вожделенному концу, к Царству Божьему. Он – максималист и хочет срыва истории, прекращения истории. Он не хочет продолжать жить в истории, которая покоится на безбожном законе мира, он хочет жить в природе, смешивая падшую природу, подчиненную злому закону мира не менее истории, с природой преображенной и просветленной, природой божественной. Но эсхатологическая устремленность Л. Толстого не подлежит сомнению. Он искал совершенной жизни. Именно за искание совершенной жизни, за обличение жизни дурной и грешной черная сотня и призывала к убийству Толстого. Этот гнойник русского народа, осмеливавшийся называть себя союзом русского народа, ненавидел все, что есть великого в русском народе, все творческое, все, что свидетельствовало о высоком призвании русского народа в мире. Крайние ортодоксы ненавидят и отвергают Л. Толстого потому, что он был отлучен Синодом от церкви. Большой вопрос, можно ли было признать Синод органом церкви Христовой и не был ли он скорее органом царства кесаря. Отказаться от Льва Толстого значило отказаться от русского гения, в конце концов отказаться от русского призвания в мире. Высокая оценка Толстого в истории русской идеи совсем не означает принятия его религиозной философии, которую я считаю слабой и неприемлемой с точки зрения христианского сознания. Оценка должна быть связана с его личностью в целом, с его путем, его исканием, с его критикой злой исторической действительности, грехов исторического христианства, с его жаждой совершенной жизни. Л. Толстой соприкасается с духовным движением в народной среде, о которой я говорил, и в этом отношении он – единственный из русских писателей. Он, вместе с совсем непохожим на него Достоевским, представляет русский гений на его вершинах. О себе Л. Толстой, всю жизнь каявшийся, сказал гордые слова: «Я такой, какой есть. А какой я, это знаю я и Бог». Но и нам подобает узнавать, каков он. Творчество Достоевского насквозь эсхатологично, оно интересуется лишь конечным, лишь обращенным к концу. В Достоевском профетический элемент сильнее, чем в каком-либо из русских писателей. Профетическое художество его определялось тем, что он раскрывал вулканическую почву духа, изображал внутреннюю революцию духа. Он обозначал внутреннюю катастрофу, с него начинаются новые души. Вместе с Ницше и Кирхегардом он открывает в XIX в. трагическое. В человеке есть четвертое измерение. Это открывается обращением к конечному, выходом из серединного существования, из общеобязательного, которое получает название «всемства». Именно у Достоевского наиболее остро русское мессианское сознание, оно гораздо острее, чем у славянофилов. Ему принадлежат слова, что русский народ – народ-богоносец. Это говорится устами Шатова. Но в образе Шатова обнаруживается и двойственность мессианского сознания, – двойственность, которая была уже у еврейского народа. Шатов начал верить, что русский народ – народ-богоносец, когда он в Бога еще не поверил. Для него русский народ делается Богом, он – идолопоклонник. Достоевский обличает это с большой силой, но остается впечатление, что в нем самом есть что-то шатовское. Он, во всяком случае, верил в великую богоносную миссию русского народа, верил, что русскому народу надлежит сказать свое новое слово в конце времен. Идея конечного, совершенного состояния человечества, земного рая играла огромную роль у Достоевского, и он раскрывает сложную диалектику, связанную с этой идеей, это – все та же диалектика свободы. «Сон смешного человека» и сон Версилова в «Подростке» посвящены этой идее, от которой мысль Достоевского никогда не могла освободиться. Он отлично понимал, что мессианское сознание – универсально, говорил об универсальном призвании народа. Мессианизм ничего общего не имеет с замкнутым национализмом, мессианизм размыкает, а не замыкает. Поэтому Достоевский говорит в речи о Пушкине, что русский человек – всечеловек, что в нем есть универсальная отзывчивость. Призвание русского народа ставится в эсхатологическую перспективу, и этим сознание это отличается от сознания идеалистов 30-х и 40-х годов. Эсхатологизм Достоевского выражается в пророчестве о явлении человекобога. Образ Кириллова в этом отношении наиболее важен, в нем предвосхищается Ницше и идея сверхчеловека. Кто победит боль и страх, будет богом. Время «погаснет в уме». «Мир закончит тот», кому имя будет «человекобог». Атмосфера разговора Кириллова и Ставрогина совершенно эсхатологическая, разговор идет о конце времен. Достоевский писал не о настоящем, а о грядущем. «Бесы» написаны о грядущем, скорее о нашем времени, чем о том времени. Пророчества Достоевского о русской революции суть проникновение в глубину диалектики о человеке – человеке, выходящем за пределы средне-нормального сознания. Характерно, что отрицательные пророчества оказались более верными, чем положительные пророчества. Политические пророчества были совсем слабы. Но интереснее всего, что самое христианство Достоевского было обращено к грядущему, к новой завершающей эпохе в христианстве. Профетизм Достоевского выводил его за пределы исторического христианства. Старец Зосима был пророчеством о новом старчестве, он совсем не походил на оптинского старца Амвросия, и оптинские старцы не признали его своим[79]. Алеша Карамазов был пророчеством о новом типе христианина, и он мало походил на обычный тип православия. И старец Зосима, и Алеша Карамазов менее удались, чем Иван Карамазов и Дмитрий Карамазов. Это объясняется трудностью для пророческого художества создавать образы. Но К. Леонтьев был прав, когда говорил, что православие Достоевского не традиционное, не его византийско-монашеское православие, а новое, в которое входит гуманитаризм. Но только никак нельзя его назвать розовым, оно – трагическое. Он думал, что восстание на Бога в человеке может происходить от божественного в нем, от чувства справедливости, жалости и достоинства. Достоевский проповедовал Иоанново христианство, – христианство преображенной земли, религии воскресения прежде всего. Традиционный старец не сказал бы того, что говорит старец Зосима: «Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его… Любите все создание Божье, и целое, и каждую песчинку. Каждый листок, каждый луч Божий любите, любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будем любить всякую вещь и тайну Божию постигать в вещах». «Землю целуй и неустанно, ненасытно люби, всех люби, ищи восторга и исступления сего». В Достоевском были зачатки новой христианской антропологии и космологии, была новая обращенность к тварному миру, чуждая святоотеческому православию. Черты сходства на Западе можно было бы найти в св. Франциске Ассизском. Это обозначает уже переход от христианства исторического к христианству эсхатологическому.
К концу XIX в. в России возникли апокалиптические настроения, связанные с чувством наступления конца мира и явления антихриста, т. е. окрашенные пессимистически. Ожидали не столько новой христианской эры и пришествия Царства Божьего, сколько царства антихриста. Это было глубокое разочарование в путях истории и неверие в существование еще исторических задач. Это был срыв русской идеи. Некоторые склонны объяснять это ожидание конца мира предчувствием конца русской империи, русского царства, которое почиталось священным. Главными выразителями этих апокалиптических настроений были К. Леонтьев и Вл. Соловьев. Апокалиптический пессимизм К. Леонтьева имел два источника. Философия истории и социология К. Леонтьева, которая имела биологическую почву, учили о неотвратимом наступлении дряхлости всех обществ, государств и цивилизаций. Он связывал эту дряхлость с либерально-эгалитарным прогрессом. Дряхлость для него означала также уродство, гибель красоты, связанной с былым цветом культуры. Эта социологическая теория, претендующая на научность, сочеталась у него с религиозной апокалиптической настроенностью. Огромное значение в возникновении этих мрачных апокалиптических настроений имела потеря веры в возможность еще в России оригинальной цветущей культуры. Он всегда думал, что все непрочно и неверно на земле. К. Леонтьев слишком натурализировал конец мира. Дух никогда и нигде не является у него активным, у него нет свободы. Он никогда не верил в русский народ, и оригинальных результатов он ждал совсем не от русского народа, а от навязанных ему сверху византийских начал. Но наступал момент, когда это неверие в русский народ делается острым и безнадежным. Он делает страшное предсказание: «Русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всего другого по смертному пути всесмешения… и мы неожиданно из наших государственных недр, сперва бессословных, а потом бесцерковных или уже слабо церковных, – родим антихриста». Ни к чему другому русский народ не способен. К. Леонтьев предвидел русскую революцию и многое угадал в ее характере. Он предвидел, что революция будет сделана не на розовой воде, что в ней не будет свободы, свобода будет совсем отменена, и что для революции потребуются вековые инстинкты повиновения. Революция будет социалистической, а не либеральной и не демократической. Защитники свободы будут сметены. Предсказывая ужасную и жестокую революцию, К. Леонтьев вместе с тем сознает, что вопрос об отношении между трудом и капиталом должен быть разрешен. Он был реакционером, но он признавал безнадежность реакционных принципов и неотвратимость революции. Он предвидел не только русскую, но и мировую революцию. Это предчувствие неотвратимости мировой революции принимает апокалиптическую форму, и она представляется наступлением конца мира. «Антихрист идет!» – восклицает К. Леонтьев. Понимание Апокалипсиса было у него совершенно пассивное. Человек не может ничего сделать, может лишь спасать свою душу. К. Леонтьева эстетически привлекает этот апокалиптический пессимизм, ему нравится, что на земле правда не восторжествует. У него не было русской жажды всеобщего спасения, он совсем не был устремлен к преображению человечества и мира. В сущности, ему была чужда идея соборности и идея теократии. Он обличал Достоевского и Л. Толстого в розовом христианстве, гуманитаризме. Эсхатологизм К. Леонтьева носит отрицательный характер и совсем не характерен для русской эсхатологической идеи. Но ему нельзя отказать в остроте и радикализме мысли, а часто и в исторической проницательности.
Под конец жизни настроение Вл. Соловьева очень меняется, оно делается мрачно-апокалиптическим. Он пишет «Три разговора», в которых есть скрытая полемика с Л. Толстым, и к ним прилагается «Повесть об антихристе». Он окончательно разочаровывается в своей теократической утопии, не верит более в гуманистический прогресс, не верит в свое основное – в богочеловечество, или, вернее, идея богочеловечества для него страшно суживается. Им овладевает пессимистический взгляд на конец истории, который он чувствует приближающимся. В «Повести об антихристе» Вл. Соловьев прежде всего сводит счеты со своим собственным прошлым, со своими теократическими и гуманитарными иллюзиями. Это – прежде всего крах теократической утопии. Он не верит больше в возможность христианского государства, неверие очень полезное и для него, и для всех. Но он идет дальше, он не верит в исторические задачи вообще. История кончается, и начинается сверхистория. Соединение церквей, которое он продолжает желать, происходит за пределами истории. По своим теократическим идеям, Вл. Соловьев принадлежит прошлому. Он от этого отжившего прошлого отказывается, но входит в пессимистическую и апокалиптическую настроенность. Между теократической идеей и эсхатологией существует противоположность. Теократия, осуществленная в истории, исключает эсхатологическую перспективу, она делает конец как бы имманентным самой истории. Церковь, понятая как царство, христианское государство, христианская цивилизация ослабляют искание Царства Божьего. Раньше у Вл. Соловьева было слабое чувство зла. Теперь чувство зла делается преобладающим. Он ставит себе очень трудную задачу начертать образ антихриста, он делает это не в богословской и философской форме, а в форме повести. Это оказалось возможным осуществить только благодаря шутливой форме, к которой он так любит прибегать, когда речь шла о самом заветном и интимном. Многих это шокировало, но шутливость эта может быть понята, как стыдливость. Я не разделяю мнения тех, которые чуть ли не выше всего у Вл. Соловьева ставят «Повесть об антихристе». Она очень интересна, и без нее нельзя было бы понять путь Вл. Соловьева. Но повесть принадлежит к неверным и устаревшим толкованиям Апокалипсиса, в которых слишком многое принадлежит времени, а не вечности. Это – пассивная, не активная и не творческая эсхатология. Нет ожидания новой эпохи Св. Духа. В начертании образа антихриста ошибочным является то, что он изображается человеколюбцем, гуманитаристом, он осуществляет социальную справедливость. Это как бы оправдывало самые контрреволюционные и обскурантские апокалиптические теории. В действительности, говоря об антихристе, вернее сказать, что он будет совершенно бесчеловечен и будет соответствовать стадии крайней дегуманизации. Более прав Достоевский, изображая антихристово начало прежде всего враждебным свободе и презирающим человека. «Легенда о Великом Инквизиторе» много выше «Повести об антихристе». Английский католический писатель Бенсон написал роман, очень напоминающий «Повесть об антихристе». Все это находится в линии, обратной движению к активно-творческому пониманию конца мира. Учение Вл. Соловьева о богочеловечестве, доведенное до конца, должно бы привести к активной, а не пассивной эсхатологии, к сознанию творческого призвания человека в конце истории, которое только и сделает возможным наступление конца мира и второе пришествие Христа. Конец истории, конец мира есть конец богочеловеческий, он зависит и от человека, от человеческой активности. У Вл. Соловьева не видно, каков же положительный результат богочеловеческого процесса истории. Раньше он ошибочно представлял себе его слишком эволюционным. Теперь он верно представляет себе конец истории катастрофическим. Но катастрофизм не значит, что не будет никакого положительного результата творческого дела человека для Царства Божьего. Единственным положительным у Вл. Соловьева является соединение церквей в лице папы Петра, старца Иоанна и доктора Паулуса. Православие оказывается наиболее мистическим. Эсхатология Вл. Соловьева все-таки прежде всего есть эсхатология суда. Это один из эсхатологических аспектов, но должен быть другой. Совершенно иное отношение к Апокалипсису Н. Федорова.
Н. Ф. Федоров при жизни был мало известен и оценен. Им особенно заинтересовалось лишь наше поколение начала XX в.[80] Он был скромный библиотекарь Румянцевского музея, живший на 17 рублей в месяц, аскет, спавший на ящике, и вместе с тем противник аскетического понимания христианства. Н. Федоров – характерно русский человек, гениальный самородок, оригинал. При жизни он почти ничего не напечатал. После смерти друзья его напечатали в двух томах его «Философию общего дела», которую раздавали даром небольшому кругу людей, так как Н. Федоров считал недопустимой продажу книг. Это был русский искатель всеобщего спасения. В нем достигло предельной остроты чувство ответственности всех за всех, – каждый ответствен за весь мир и за всех людей, и каждый должен стремиться к спасению всех и всего. Западные люди легче мирятся с гибелью многих. Это, вероятно, связано с ролью, которую играет справедливость в западном сознании. Н. Федоров не был писателем по своему складу. Все, что он писал, есть лишь «проект» всеобщего спасения. Временами он напоминает таких людей, как Фурье. В нем сочетается фантазерство с практическим реализмом, мистика – с рационализмом, мечтательность – с трезвостью. Но вот что писали о нем самые замечательные русские люди. Вл. Соловьев пишет ему: "…Проект» ваш я принимаю безусловно и без всяких оговорок. Со времени появления христианства ваш «проект» есть первое движение вперед человеческого духа по пути Христову. Я, с своей стороны, могу только признать вас своим учителем и отцом духовным» [81]. Л. Толстой говорил о Федорове: «Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком». Очень высокого мнения о Федорове был и Достоевский, который писал о нем: «Он (Федоров) слишком заинтересовал меня… В сущности, совершенно согласен с этими мыслями. Их я принял, как бы за свои». Что же за «проект» у Федорова, что за необыкновенные мысли поразили самых гениальных русских людей? Н. Федоров был единственный человек, чья жизнь импонировала Л. Толстому. В основании всего миросозерцания Н. Федорова лежало печалование о горе людей. И не было на земле человека, у которого была бы такая скорбь о смерти людей, такая жажда возвращения их к жизни. Он считал сынов виновными в смерти отцов. Он называл сынов блудными сынами, потому что они забыли могилы отцов, увлеклись женами, капитализмом и цивилизацией. Цивилизация строилась на костях отцов. Истоки миросозерцания Н. Федорова родственны славянофильству. У него есть идеализация патриархального строя, патриархальной монархии, вражда к западной культуре. Но он выходит за пределы славянофилов, и в нем есть совершенно революционные элементы – активность человека, коллективизм, определяющее значение труда, хозяйственность, высокая оценка позитивной науки и техники. В советский период внутри России было течение федоровцев. И, как это ни странно, было некоторое соприкосновение между учением Федорова и коммунизмом, несмотря на его очень враждебное отношение к марксизму. Но вражда Федорова к капитализму была еще большая, чем у марксистов. Главная его идея, его «проект», связана с регуляцией стихийных сил природы, с подчинением природы человеку. Вера в могущество человека идет у него дальше марксизма, она более дерзновенная. Совершенно оригинально у него это соединение христианской веры с верой в могущество науки и техники. Он верил, что возвращение жизни всем умершим, активное воскрешение, а не пассивное лишь ожидание воскресения, должно быть не только христианским делом, внехрамовой литургией, но и делом позитивно-научным, техническим. Есть две стороны в учении Н. Федорова – его истолкование Апокалипсиса, гениальное и единственное в истории христианства, и его «проект» воскрешения мертвых, в котором есть, конечно, элемент фантастический. Но самое нравственное сознание его есть самое высокое сознание в истории христианства.
У Н. Федорова были обширные знания, но культура его была скорее естественнонаучная, чем философская. Он очень не любил философского идеализма, не любил гностических тенденций, которые были у Вл. Соловьева. Он был моноидеистом, он целиком захвачен одной идеей —идеей победы над смертью, возвращения жизни умершим. И в его образе и образе его мыслей было что-то суровое. Память смертная, о которой есть христианская молитва, у него всегда была, он жил и мыслил перед лицом смерти, не его собственной, а других людей, всех умерших людей за всю историю. Но суровость, не допускающая никакой игры избыточных сил, была связана у него с оптимистической верой в возможность окончательной победы над смертью, в возможность не только воскресения, но и воскрешения, т. е. активного участия человека в деле всеобщего восстановления жизни. Н. Федорову принадлежит совершенно оригинальное истолкование апокалиптических пророчеств, которое можно назвать активным, в отличие от обычного пассивного истолкования. Он предлагает толковать апокалиптические пророчества как условные, чего еще никогда не делалось. И, действительно, нельзя понимать конца мира, о котором пророчествует Апокалипсис, как фатум. Это противоречило бы христианской идее свободы. Фатальный конец, описанный в Апокалипсисе, наступит как результат путей зла. Если заветы Христа не будут исполнены людьми, то неотвратимо будет то-то. Но если христианское человечество соединится для общего братского дела победы над смертью и всеобщего воскресения, то оно может избежать фатального конца мира, явления антихриста, страшного суда и ада. Тогда человечество может непосредственно перейти в вечную жизнь. Апокалипсис есть угроза человечеству, погруженному во зло, и он ставит активную задачу перед человеком. Пассивное ожидание страшного конца недостойно человека. Эсхатология Н. Федорова резко отличается от эсхатологии Вл. Соловьева и К. Леонтьева, и правда на его стороне, ему принадлежит будущее. Он – решительный враг традиционного понимания бессмертия и воскресения. «Страшный суд есть только угроза для младенствующего человечества. Завет христианства заключается в соединении небесного с земным, божественного – с человеческим; всеобщее же воскрешение, воскрешение имманентное, всем сердцем, всей мыслью, всеми действиями, т. е. всеми силами и способностями всех сынов человеческих совершаемое, и есть исполнение этого завета Христа – Сына Божьего и вместе с тем сына человеческого». Воскрешение противоположно прогрессу, который примиряется со смертью всех поколений. Воскрешение есть обращение времени, активность человека в отношении к прошлому, а не к будущему только. Воскрешение противоположно также цивилизации и культуре, которые цветут на кладбищах и основаны на забвении смерти отцов. Великим злом Н. Федоров считал капиталистическую цивилизацию. Он – враг индивидуализма, сторонник религиозного и социального коллективизма, братства людей. Общее христианское дело должно начаться в России, как стране, наименее испорченной безбожной цивилизацией. Н. Федоров исповедовал русский мессианизм. Но в чем же был этот таинственный «проект», который так поражал, вызывал восторги одних и насмешки других? Это есть не более и не менее, как проект избежания страшного суда. Победа над смертью, всеобщее воскрешение не есть только дело Бога при пассивности человека, это есть дело богочеловеческое, т. е. и дело коллективной человеческой активности. Нужно признать, что в «проекте» Н. Федорова гениальное прозрение в толковании апокалиптических пророчеств, необыкновенная высота нравственного сознания, всеобщей ответственности всех за всех соединяются с утопическим фантазерством. Автор проекта говорит, что наука и техника могут способствовать воскрешению умерших, что человек может окончательно овладеть стихийными силами природы, регулировать природу и подчинить ее себе. Конечно, у него все время это соединяется с воскрешающими религиозными силами, с верой в Христово Воскресение. Но он все-таки рационализирует тайну смерти. Он недостаточно чувствовал значение креста, для него христианство было исключительно религией воскресения. Он совсем не чувствует иррациональность зла. В учении Федорова очень многое должно быть удержано, как входящее в русскую идею. Я не знаю более характерно русского мыслителя, который должен казаться чуждым Западу. Он хочет братства людей не только в пространстве, но и во времени, и верит в возможность изменения прошлого. Но предложенные им материалистические методы воскрешения не могут быть удержаны. Вопрос об отношении духа к природному миру не был им до конца продуман.
Мессианизм был свойствен не только русским, но и полякам. Страдальческая судьба Польши его обострила. Интересно сопоставить русские мессианские и эсхатологические идеи с идеями величайшего философа польского мессианизма Чешковского, который до сих пор недостаточно еще оценен. Его главное четырехтомное сочинение «Notre Pare» построено в форме толкования молитвы Отче Наш[82]. Это есть оригинальное толкование христианства в целом, но в особенности есть христианская философия истории. Подобно славянофилам и Вл. Соловьеву, Чешковский прошел через германский идеализм и испытал влияние Гегеля. Но мысль его остается самостоятельной и творческой. Он хочет остаться католиком, не порывает с католической церковью, но выходит за пределы исторического католичества. Он более определенно, чем русские мыслители, выражает религию Св. Духа. Он стремится к тому, что называет Révélation de la Révélation. Полное откровение Бога есть откровение Духа Св. Бог и есть Дух Св., это Его настоящее имя. Дух есть высшее. Все есть Дух и через Дух. Только в третьем откровении Духа, полном и синтетическом, раскроется Св. Троица. Догмат Троичности не мог быть еще открыт в Св. Писании. Только молчание о Св. Духе считалось ортодоксальным, все остальное считалось еретическим. Ипостаси Троицы – имена, образы, моменты откровения. У Чешковского люди очень ортодоксальные, вероятно, найдут уклон к савелианству. По мнению Чешковского, в ересях была частичная истина, но не было полноты истины. Он пророчествует о наступлении новой эпохи Св. Духа. Только параклетическая эпоха даст полное откровение. Вслед за германским идеализмом, подобно Вл. Соловьеву, он утверждал духовный прогресс, духовное развитие. Человечество не могло еще вместить Св. Духа, не было еще достаточно зрело. Но время особенного действия Духа Св. близится. Наступает духовная зрелость человека, когда он в силах будет вместить откровение Св. Духа, исповедовать религию Духа. Действие Духа распространится на все человечество. Дух объемлет душу и тело. В эпоху Духа войдут также социальные и культурные элементы человеческого прогресса. Чешковский настаивает на социальности славянства. Он ждет откровения Слова в социальном акте. В этом сходство с русской мыслью. Он проповедует Communaute du St. Esprit. Человечество будет жить во имя Параклета. «Отче наш» – профетическая молитва. Церковь не есть еще Царство Божье. Человек активен в создании нового мира. Очень интересна мысль Чешковского, что мир действует на Бога. Установление социальной гармонии внутри человечества, которая будет соответствовать эпохе Св. Духа, приведет к абсолютной гармонии в Боге. Страдание Бога есть признак Его святости. Чешковский прошел через Гегеля и потому признает диалектическое развитие. Наступление новой эпохи Св. Духа, который охватит всю социальную жизнь человечества, он представляет себе скорее в форме развития, чем в форме катастрофы. Не может быть новой религии, но может быть творческое развитие вечной религии. Религия Св. Духа и есть вечная христианская религия. Вера для Чешковского есть знание, принятое чувством. У него есть много интересных философских мыслей, на которых я не могу здесь останавливаться. Чешковский учит не столько о конце мира, сколько о конце века, о наступлении нового эона. Время для него есть часть вечности. Чешковский был, конечно, большим оптимистом, он был полон надежды на скорое наступление нового эона, хотя вокруг были малоотрадные события. Этот оптимизм был свойствен его эпохе. Мы не можем быть столь оптимистичны. Но это не мешает оценить значительность его основных идей. Многие мысли его схожи с русскими мыслями, с русскими христианскими упованиями. Чешковского у нас совсем не знали, ни у кого нет ссылок на него, как и он не знал русской мысли. Очевидно, сходство есть сходство общеславянское. В некоторых отношениях я готов поставить мысль Чешковского выше мысли Вл. Соловьева, хотя личность последнего была сложнее и богаче, в ней было больше противоречий. Сходство было в том, что должна наступить новая эпоха в христианстве, что предстоит новое излияние Св. Духа и что человек будет в этом активен, а не пассивен. Апокалиптическая настроенность ждет завершающего откровения. Церковь Нового завета есть лишь символический образ вечной Церкви.
4
Три замечательных русских мыслителя – Вл. Соловьев, Н. Федоров и В. Розанов – высказали очень глубокие мысли о смерти и об отношении между смертью и рождением. Это мысли разные, даже противоположные. Более всего интересовала тема о победе вечной жизни над смертью. Вл. Соловьев устанавливает противоположность между перспективой вечной жизни для личности и перспективой родовой, в которой рождение новой жизни ведет к смерти предшествующих поколений. Смысл любви – в победе над смертью, и достижение вечной личной жизни Н. Федоров также видит в связи между рождением и смертью. Сыны рождаются, забывая о смерти отцов. Но победа над смертью означает требование воскрешения отцов, обращение энергии рождающей в энергию воскрешающую. В отличие от Вл. Соловьева Н. Федоров – не эротический философ. У В. Розанова – третья точка зрения. Об этом необыкновенном писателе речь будет в следующей главе, сейчас скажу только о его решении темы о смерти и рождении. Все творчество Розанова есть апофеоз рождающей жизни. В родовом процессе, порождающем все новую и новую жизнь, Вл. Соловьев и Н. Федоров видят смертность, отравленность грехом. Розанов, наоборот, хочет обоготворить рождающий пол. Рождение и есть победа над смертью, вечное цветение жизни. Пол – свят, потому что он есть источник жизни, антисмерть. Такое решение вопроса связано со слабым чувством и сознанием личности. Рождение неисчислимого количества новых поколений не может примирить со смертью хотя бы одного человека. Во всяком случае, русская мысль глубоко задумалась над темой о смерти, о победе над смертью, о рождении, о метафизике пола. Все три мыслителя понимали, что тема о смерти и рождении есть тема о метафизической глубине пола. У Вл. Соловьева энергия пола в любви-эросе перестает быть рождающей и ведет к личному бессмертию, он – платоник; у Н. Федорова энергия пола превращается в энергию, воскрешающую умерших отцов; у В. Розанова, возвращающегося к юдаизму и язычеству, энергия пола освящается, как рождающая новую жизнь и этим побеждающая смерть. Очень знаменательно, что в русской религиозности главное значение имеет Воскресение. Это – существенное отличие от религиозности западной, где Воскресение отходит на второй план. Для католической и протестантской мысли проблема пола была исключительно проблемой социальной и моральной, но не была проблемой метафизической и космической, как была для мысли русской. Это объясняется тем, что Запад был слишком замкнут в цивилизации, слишком социализирован, христианство было слишком педагогическое. Самая тайна Воскресения была не космической тайной, а догматом, потерявшим жизненное значение. Тайна космической жизни была закрыта организованной социальностью. Был, конечно, Я. Бёме, который не впадал в организованную социальность. Взятая в целом, западная мысль имеет бесспорно большее значение для решения проблемы религиозной антропологии и религиозной космологии. Но католическая и протестантская мысль в официальных своих формах очень мало интересовалась этими проблемами во всей их глубине, вне вопросов церковно-организационных и педагогически-водительствующих. В православии не был органически усвоен греко-римский гуманизм, преобладала аскетическая отрешенность. Но именно поэтому на почве православия легче может раскрыться новое о человеке и космосе. Также православие не имело такого активного отношения к истории, какое имело западное христианство. Но, может быть, именно поэтому оно будет иметь исключительное отношение к концу истории. В русской православной религиозности всегда было скрыто эсхатологическое ожидание.
В русском православии можно различить три течения, которые могут переплетаться: традиционное монашески-аскетическое, связанное с «Добротолюбием» космоцентрическое, узревающее божественные энергии в тварном мире, обращенное к преображению мира, с ним связана софиология, и антропоцентрическое, историософское, эсхатологическое, обращенное к активности человека в природе и обществе. Первое течение не ставит никаких творческих проблем, и в прошлом оно опирается не столько на греческую патристику, сколько на сирийскую аскетическую литературу. Второе и третье течения ставят проблемы о космосе и человеке. Но за всеми этими различаемыми течениями скрыта общая русская православная религиозность, выработавшая тип русского человека с его недовольством этим миром, с его душевной мягкостью, с его нелюбовью к могуществу этого мира, с его устремленностью к миру иному, к концу, к Царству Божьему. Русская народная душа воспитывалась не столько проповедями и доктринальным обучением, сколько литургически и традицией христианского милосердия, проникшей в самую глубину душевной структуры. Русские думали, что Россия – страна совсем особенная, с особенным призванием. Но главным была не сама Россия, а то, что Россия несет миру, прежде всего – братство людей и свобода духа. Тут мы подходим к самому трудному вопросу. Русские устремлены не к царству этого мира, они движутся не волей к власти и могуществу. Русский народ, по духовному своему строю, не империалистический народ, он не любит государство. В этом славянофилы были правы. И вместе с тем это – народ-колонизатор и имеет дар колонизации, и он создал величайшее в мире государство. Что это значит, как это понять? Достаточно уже было сказано о дуалистической структуре русской истории. То, что Россия так огромна, есть не только удача и благо русского народа в истории, но также и источник трагизма судьбы русского народа. Нужно было принять ответственность за огромность русской земли и нести ее тяготу. Огромная стихия русской земли защищала русского человека, но и сам он должен был защищать и устраивать русскую землю. Получалась болезненная гипертрофия государства, давившего народ и часто истязавшего народ. В сознании русской идеи, русского призвания в мире, произошла подмена. И Москва – Третий Рим, и Москва – Третий Интернационал связаны с русской мессианской идеей, но представляют ее искажение. Нет, кажется, народа в истории, который совмещал бы в своей истории такие противоположности. Империализм всегда был искажением русской идеи и русского призвания. Но не случайно Россия так огромна. Эта огромность – провиденциальна, и она связана с идеей и призванием русского народа. Огромность России есть ее метафизическое свойство, а не только свойство ее эмпирической истории. Великая русская духовная культура может быть свойственна только огромной стране, огромному народу. Великая русская литература могла возникнуть лишь у многочисленного народа, живущего на огромной земле. Русская литература, русская мысль были проникнуты ненавистью к империи, обличали ее зло. И вместе с тем предполагали империю, предполагали огромность России. Это – противоречие, присущее самой духовной структуре России и русского народа. Огромность России могла бы быть иной, не быть империей с ее злыми сторонами, она могла бы быть народным царством. Но оформление русской земли происходило в тяжелой исторической обстановке, русская земля была окружена врагами. Это было использовано злыми силами истории. Русская идея создавалась в разных формах в XIX в. Но она находилась в глубоком конфликте с русской историей, как она создавалась господствующими в ней силами. В этом – трагизм русской исторической судьбы и сложность нашей темы.
Глава X
XX век: культурный ренессанс и коммунизм. Источники культурного ренессанса. Пробуждение религиозного беспокойства в литературе. Критический марксизм и идеализм. Религиозные искания среди марксистов. Мережковский. Розанов. Обращение к ценностям духовной культуры. Религиозно-философские собрания. Расцвет поэзии. Символизм. Влияние Соловьева. Блок. Белый. Вяч. Иванов. Шестов. Расцвет русской религиозной философии. Религиозно-философское общество. Флоренский. Булгаков. Бердяев. Трубецкой. Эрн. Лосский. Франк. Разрыв между высшими культурными силами и революцией. Попытки сближения: журнал «Вопросы жизни». Коммунизм как извращение русской мессианской идеи. Итоги русской мысли XIX века: Русская идея.
1
Только в начале XX в. и были оценены результаты русской мысли XIX в. и подведены итоги. Но самая проблематика мысли к началу XX в. очень усложнилась, и в нее вошли новые веяния, новые элементы. В России в начале века был настоящий культурный ренессанс. Только жившие в это время знают, какой творческий подъем был у нас пережит, какое веяние духа охватило русские души. Россия пережила расцвет поэзии и философии, пережила напряженные религиозные искания, мистические и оккультные настроения. Как всегда и везде, к искреннему подъему присоединилась мода, и было немало вранья. У нас был культурный ренессанс, но неверно было бы сказать, что был религиозный ренессанс. Для религиозного ренессанса не хватало сильной и сосредоточенной воли, была слишком большая культурная утонченность, были элементы упадочности в настроениях культурного слоя, и этот высший культурный слой был слишком замкнут в себе. Поразительный факт. Только в начале XX в. критика по-настоящему оценила великую русскую литературу XIX в., прежде всего Достоевского и Л. Толстого. Духовная проблематика вершин русской литературы была усвоена, ею прониклись, и вместе с тем произошло большое изменение, не всегда благоприятное, по сравнению с литературой XIX в. Исчезла необыкновенная правдивость и простота русской литературы. Появились люди двоящихся мыслей. Таков, прежде всего, Д. Мережковский; он имеет несомненные заслуги в оценке Достоевского и Л. Толстого, которых неспособна была оценить традиционная публицистическая критика. Но у Мережковского нельзя уже найти этого необыкновенного правдолюбия русской литературы, у него все двоится, он играет сочетаниями слов, принимая их за реальности. То же нужно сказать про Вячеслава Иванова и про всех почти. Но произошел один знаменательный факт – изменение сознания интеллигенции. Традиционное миросозерцание левой интеллигенции пошатнулось. Вл. Соловьев победил Чернышевского. Уже во вторую половину 80-х годов и в 90-е годы это подготовлялось. Было влияние философии Шопенгауэра и Л. Толстого. Начался интерес к философии, и образовалась культурная философская среда. В этом сыграл свою роль журнал «Вопросы философии и психологии» под редакцией Н. Грота. Появились интересные философы метафизического направления – кн. С. Трубецкой и Л. Лопатин. Изменилось эстетическое сознание, и начали придавать большее значение искусству. Журнал «Северный вестник» с его редактором А. Волынским был одним из симптомов этого изменения. Тогда же начали печататься Д. Мережковский, Н. Минский, К. Бальмонт. Позже появились журналы культурно-ренессансного направления – «Мир искусства», «Весы», «Новый путь», «Вопросы жизни». В петровской императорской России не было целостного стиля культуры, образовалась многопланность, разноэтажность, и русские жили как бы в разных веках. В начале века велась трудная, часто мучительная, борьба людей ренессанса против суженности сознания традиционной интеллигенции, – борьба во имя свободы творчества и во имя духа. Русский духовно-культурный ренессанс был встречен очень враждебно левой интеллигенцией, как измена традициям освободительного движения, как измена народу, как реакция. Это было несправедливо уже потому, что многие представители культурного ренессанса были сторонниками освободительного движения и участвовали в нем. Речь шла об освобождении духовной культуры от гнета социального утилитаризма. Но изменение основ миросозерцания и новое направление нелегко даются. Борьба шла в разных направлениях, по нескольким линиям. Наш ренессанс имел несколько истоков и относился к разным сторонам культуры. Но по всем линиям нужно было преодолеть материализм, позитивизм, утилитаризм, от которых не могла освободиться левонастроенная интеллигенция. Это было вместе с тем возвратом к творческим вершинам духовной культуры XIX в. Но беда была в том, что люди ренессанса, в пылу борьбы, из естественной реакции против устаревшего миросозерцания, часто недостаточно оценивали ту социальную правду, которая была в левой интеллигенции и которая оставалась в силе. Все тот же дуализм, та же расколотость продолжают быть характерными для России. Это будет иметь роковые последствия для характера русской революции, для ее духоборства. В нашем ренессансе элемент эстетический, раньше задавленный, оказался сильнее элемента этического, который оказался очень ослабленным. Но это означало ослабление воли, пассивность. И это особенно неблагоприятно должно было отозваться на попытках религиозного возрождения. Много дарований было дано русским людям начала века. То была эпоха исключительно талантливая, блестящая. Было много надежд, которые не сбылись. Ренессанс стоял не только под знаком Духа, но и Диониса. И в нем смешался ренессанс христианский с ренессансом языческим. Духовный перелом, связанный с русским ренессансом, имел несколько источников. Более широкое значение для интеллигенции имел источник, связанный с марксизмом. Часть марксистов более высокой культуры перешла к идеализму и, в конце концов, – к христианству. В значительной степени, отсюда вышла русская религиозная философия. Факт этот может показаться странным и требует объяснения. Марксизм в России был кризисом левой интеллигенции и разрывом с некоторыми ее традициями. Он возник у нас во вторую половину 80-х годов в результате неудачи русского народнического социализма, который не мог найти опоры в крестьянстве, и срыва партии Народной Воли после убийства Александра II. Старые формы революционного социалистического движения казались изжитыми, и нужно было искать новых форм. За границей возникает группа «Освобождение труда», которая кладет основы русского марксизма, это: Г. В. Плеханов, Б. Аксельрод, В. Засулич. Марксисты переоценивают народническую идею о том, что Россия может и должна миновать период капиталистического развития, они – за развитие капитализма в России, и не потому, что капитализм сам по себе – благо, а потому, что развитие капитализма способствует развитию рабочего класса, который и будет единственным в России революционным классом. В деле освобождения на рабочий класс более можно опереться, чем на крестьянство, которое, по Марксу, есть класс реакционный. Во вторую половину 90-х годов в России возникает сильное марксистское движение, которое захватывает все более широкие круги интеллигенции. Вместе с тем возникает и рабочее движение. В многочисленных кружках происходят сражения марксистов и народников, и победа все более склоняется на сторону марксистов. Возникают марксистские журналы. Меняется душевный тип интеллигенции: марксистский тип более жесткий, чем народнический. Первоначально марксизм был западничеством, по сравнению со старым народничеством. В части марксистов второй половины 90-х годов очень повышается уровень культуры, особенно культуры философской, пробуждаются более сложные культурные запросы, происходит освобождение от нигилизма. Для старой народнической интеллигенции революция была религией, отношение к революции было тоталитарным, вся умственная и культурная жизнь была подчинена освобождению народа, свержению самодержавной монархии. В конце XIX в. начался процесс дифференциации, высвобождения отдельных сфер культуры от подчинения революционному центру. Философия искусства, духовная жизнь вообще объявляются свободными сферами. Но мы увидим, что русский тоталитаризм, в конце концов, возьмет реванш. От марксизма осталась широкая историософическая перспектива, которая и была его главным обаянием. Во всяком случае, на почве марксизма, правда критического, а не ортодоксального, стало возможным умственное и духовное движение, которое почти прекратилось в староверческой народнической интеллигенции. Некоторые марксисты, оставаясь верными марксизму в социальной сфере, с самого начала не соглашались быть материалистами в философии, они были кантианцами или фихтеанцами, т. е. идеалистами. Этим открывались новые возможности. Марксисты более ортодоксального типа, державшиеся за материализм, относились очень подозрительно к философскому свободомыслию и предсказывали отпадение от марксизма. Получалось разделение на принимавших марксизм тоталитарно и принимавших его лишь частично. Во второй группе и произошел переход от марксизма к идеализму. Эта идеалистическая стадия продолжалась недолго, и скоро обнаружилось движение к религии, к христианству, к православию. К поколению марксистов, пришедших к идеализму, принадлежали С. Булгаков, со временем ставший священником, пишущий эти строки, П. Струве, наиболее политик из этой группы, С. Франк. Все обратились к проблемам духовной культуры, которая в предшествующих поколениях левой интеллигенции была задавлена. Как участник движения, могу свидетельствовать, что процесс этот сопровождался большим подъемом. Раскрывались целые миры. Умственная и духовная жажда была огромная. Прошло веяние Духа. Было чувство, что начинается новая эра. Было движение к новому, небывшему. Но был и возврат к традициям русской мысли XIX в., к религиозному содержанию русской литературы, к Хомякову, к Достоевскому и Вл. Соловьеву. Мы попали в необыкновенно творчески одаренную эпоху. Был очень пережит Ницше, хотя и не всеми одинаково. Влияние Ницше было основным в русском ренессансе начала века. Но тема Ницше представлялась русским темой религиозной по преимуществу. Имел значение также Ибсен. Но рядом с этим, как и в первую половину XIX в., имел огромное значение германский идеализм, Кант, Гегель, Шеллинг. Так образовывалось одно из течений, создавших русский ренессанс.
Другой источник ренессанса был, по преимуществу, литературный. В начале века Д. С. Мережковский играл главную роль в пробуждении религиозного интереса и беспокойства в литературе и культуре. Это – литератор, до мозга костей живущий в литературе и словесных сочетаниях и отражениях более, чем в жизни. У него – большой литературный талант, он – необыкновенно плодовитый писатель, но он не был значительным художником, его романы, представляющие интересное чтение, свидетельствуют об эрудиции, имеют огромные художественные недостатки, они проводят его идеологические схемы, и о них было сказано, что это – смесь идеологии с археологией. Главные романы: «Юлиан-Отступник», «Леонардо да Винчи», «Петр Великий» – посвящены теме «Христос и антихрист». Мережковский пришел к христианству, но не к традиционному и не к церковному христианству, а к новому религиозному сознанию. Главная его книга, которой он приобрел значение в истории русской мысли, это – «Л. Толстой и Достоевский», в которой впервые обращено достаточное внимание на религиозную проблематику двух величайших русских гениев. Книга – блестящая, но испорченная обычными недостатками Мережковского – риторикой, идеологическим схематизмом, мутью двоящихся мыслей, преобладанием словесных сочинений над реальностями. У Мережковского отсутствует нравственное чувство, которое так сильно было у писателей и мыслителей XIX в. Он стремится к синтезу христианства и язычества и ошибочно отожествляет его с синтезом духа и плоти. Иногда остается впечатление, что он хочет синтезировать Христа и антихриста. Христос и антихрист – его основная тема. Возможность нового откровения в христианстве для него связана с реабилитацией плоти и пола. Мережковский – символист, и «плоть» оказывается для него символом и всей культуры и общественности. Его нельзя понять без влияния на него В. В. Розанова. Последний – гениальный писатель, его писательство было настоящей магией слов, и он очень теряет от изложения его идей вне литературной формы. Он не сразу себя обнаружил во весь свой рост. Его истоки – славянофильски-консервативные и православные. Но не в этом его интерес. Писания его приобретают захватывающий интерес, когда он начинает отступать от христианства, делается острым критиком христианства. Он становится моноидеистом и говорит про себя: «Сам-то я бездарен, да тема моя талантлива». В действительности он был очень талантлив, но талант его разворачивается на талантливой теме. Это – тема пола, взятая как религиозная. Розанов разделяет религии на религии рождения и религии смерти. Юдаизм, большая часть языческих религий – религии рождения, апофеоз жизни, христианство же есть религия смерти. Тень Голгофы легла на мир и отравила радость жизни. Иисус заворожил мир, и в сладости Иисуса мир прогорк. Рождение связано с полом. Пол – источник жизни. Если благословлять и освящать жизнь и рождение, то должно благословлять и освящать пол. Христианство в этом отношении остается двусмысленным. Оно не решается осудить жизнь и рождение. Оно даже видит оправдание брака, соединение мужа и жены в рождении детей. Но пола оно гнушается и закрывает глаза на него. Розанов считает это лицемерием и провоцирует христиан на решительный ответ. Он, в конце концов, приходит к мысли, что христианство – враг жизни, что оно есть религия смерти. Он не хочет видеть, что последнее слово христианства есть не распятие, а Воскресение. Для него христианство не религия Воскресения, а исключительно религия Голгофы. Никогда с таким радикализмом и такой религиозной углубленностью не ставился вопрос о поле. Решение Розанова было неверно, это означало или реюдаизацию христианства, или возврат к язычеству, он хочет не столько преображения пола и плоти мира, сколько их освящения такими, каковы они есть. Но постановка вопроса была верной и была большой заслугой Розанова. У него было много почитателей священников, которые его плохо понимали и думали, что речь идет о реформе семьи. Вопрос об отношении христианства к полу превратился в вопрос об отношении христианства к миру вообще и к человечеству. Ставилась проблема религиозной космологии и антропологии.
В 1903 г. в Петербурге организуются религиозно-философские собрания, на которых происходит встреча русской интеллигенции верхнего культурного слоя с представителями православного духовенства. На собраниях председательствовал ректор Петербургской духовной академии, епископ Сергий, потом Патриарх Московский. Из иерархов церкви активную роль играл еще епископ Антоний, впоследствии живоцерковник. Со стороны светской культуры выступали Д. Мережковский, В. Розанов, Н. Минский, А. Карташов, изгнанный из Духовной академии, впоследствии министр исповеданий Временного правительства, апокалиптик и хилиаст В. Тернавцев, тогда чиновник особых поручений при обер-прокуроре Св. Синода. Собрания были очень живыми и интересными, новыми по общению людей разных, совершенно разобщенных миров и по темам. Главную роль играл Д. Мережковский. Но темы были связаны с Розановым. Его влияние означало, что преобладали темы о поле. То была также тема об отношении христианства к миру и жизни. Представители культуры допрашивали иерархов церкви, является ли христианство исключительно аскетической, враждебной миру и жизни религией или оно может освятить мир и жизнь. Так стала центральной тема об отношении церкви к культуре и общественной жизни. Все, что говорили представители светской культуры, предполагало возможность нового христианского сознания, новой эпохи в христианстве. Это было трудно допустить иерархам церкви, хотя бы и наиболее просвещенным. Для представителей духовенства христианство давно стало повседневной прозой, искавшие же нового христианства хотели, чтобы оно было поэзией. Религиозно-философские собрания были интересны главным образом своими вопрошениями, а не ответами. Верно было, что на почве исторического христианства трудно, почти невозможно было решить вопросы о браке, о справедливом устройстве общества, о культурном творчестве, об искусстве. Некоторые участники собраний формулировали это, как ожидание нового откровения правды на земле. Мережковский связывал с этим проблему плоти, при этом слово плоть он употреблял в философском неверном смысле. В исторической церковности было как раз слишком много плоти, уплотненности и недостаточно духовности. Розанов отталкивался от образа Христа, в котором видел вражду к жизни, к рождению, но он любил быт православной церкви, видел в нем много плоти. И новое христианство будет не более плотским, а более духовным. Духовность же совсем не противоположна плоти, телу, а противоположна царству необходимости, порабощенности человека природным и социальным порядком. В религиозно-философских собраниях отразилось русское ожидание эпохи Св. Духа. Это ожидание принимало в России разнообразные формы, иногда очень несовершенно выраженные. Но всегда это характерно для России. Наиболее активный характер это имело у Н. Федорова. Его мышление было очень социальным. Это нельзя сказать про участников религиозно-философских собраний. То были прежде всего люди литературы, и у них не было ни теоретической, ни практической подготовки для решения вопросов социального порядка. Между тем, они ставили вопросы о христианской общественности. Мережковский говорил, что христианство не раскрыло тайны трех, т. е. тайны общественности. В. Тернавцев, который писал замечательную книгу об Апокалипсисе, очень верил в Первую Ипостась, Отца, и Третью Ипостась, Духа, но мало верил во Вторую Ипостась, Сына. У всех была религиозная взволнованность, религиозное брожение и искание, но не было настоящего религиозного возрождения. Менее всего оно могло возникнуть из литературных кругов, которым был присущ элемент утонченной упадочности. Но религиозная тема, которая среди интеллигенции долгое время была под запретом, была выдвинута на первый план. Было очень модно говорить на религиозные темы, это стало почти модным. По свойствам русской души, деятели ренессанса не могли оставаться в кругу вопросов литературы, искусства, чистой культуры. Ставились последние вопросы. Вопросы о творчестве, о культуре, о задачах искусства, об устройстве обществ, о любви и т. п. приобретали характер вопросов религиозных. Это вопросы – все тех же «русских мальчиков», но ставших более культурными. Религиозно-философские собрания существовали недолго, и такой встречи интеллигенции с духовенством уже не повторилось. Да и сама интеллигенция этих собраний распалась на разные направления. В начале века у нас было либеральное движение в части духовенства, главным образом белого. Это движение было враждебно епископату и монашеству. Но в нем не было глубоких религиозных идей, – идей, выношенных в русской мысли. Сопротивление официальной церкви было очень сильное, и церковная реформа, в которой была нужда, не удалась. Поразительно, что на Соборе 17-го года, который стал возможен только благодаря революции, не обнаружилось никакого интереса к религиозным проблемам, мучившим русскую мысль XIX и начала XX в. Собор занялся исключительно вопросами церковной организации.
2
Третье течение в русском ренессансе связано с расцветом русской поэзии. Русская литература XX в. не создала большого романа, подобного роману XIX в., но создала очень замечательную поэзию. И эта поэзия очень знаменательна для русского сознания, для истории русских идейных течений. То была эпоха символизма. Александр Блок, самый большой русский поэт начала века, Андрей Белый, у которого были проблески гениальности, Вячеслав Иванов, человек универсальный, главный теоретик символизма, и многие поэты и эссеисты меньшего размера – все были символистами. Символисты сознавали себя новым течением и были в конфликте с представителями старой литературы. Основным влиянием на символистов было влияние Вл. Соловьева. Он так формулировал сущность символизма в одном из своих стихотворений:
Все, видимое нами, Только отблеск, только тени От незримого очами.Символизм видит духовную действительность за этой видимой действительностью. Символ есть связь между двумя мирами, знак иного мира в этом мире. Символисты верили, что есть иной мир. Вера их совсем не была догматической. Лишь один Вяч. Иванов, впоследствии перешедший в католичество, был одно время очень близок к православию. Вл. Соловьев сообщил символистам свою веру в Софию. Но характерно, что символисты начала века, в отличие от Вл. Соловьева, верили в Софию и ждали ее явления, как Прекрасной Дамы, но не верили в Христа. И это нужно определить, как космическое прельщение, под которым жило это поколение. Правда тут была в жажде красоты преображенного космоса. А. Белый говорит в своих воспоминаниях: «Символ „жены“ стал зарею для нас (соединением неба с землею), сплетаясь с учением гностиков о конкретной премудрости с именем новой музы, сливающей мистику с жизнью» [83]. Влиял не дневной Вл. Соловьев с его рационализированными богословскими и философскими трактатами, а Соловьев ночной, выразившийся в стихах и небольших статьях, в сложившемся о нем мифе. Наряду с Вл. Соловьевым влиял Ницше. Это было самое сильное западное влияние на русский ренессанс. Но в Ницше воспринято было не то, о чем больше всего писали о нем на Западе, не близость его к биологической философии, не борьба за аристократическую расу и культуру, не воля к могуществу, а религиозная тема. Ницше воспринимался, как мистик и пророк. Из поэтов Запада, вероятно, наибольшее значение имел Бодлер. Но русский символизм очень отличался от французского. Поэзия символистов выходила за пределы искусства, и это была очень русская черта. Период так называемого «декадентства» и эстетизма у нас быстро кончился, и произошел переход к символизму, который означал искания духовного порядка, и к мистике. Вл. Соловьев был для Блока и Белого окном, из которого дул ветер грядущего. Обращенность к грядущему, ожидание необыкновенных событий в грядущем очень характерны для поэтов-символистов. Русская литература и поэзия начала века носили профетический характер. Поэты-символисты, со свойственной им чуткостью, чувствовали, что Россия летит в бездну, что старая Россия кончается и должна возникнуть новая Россия, еще неизвестная. Подобно Достоевскому, они чувствовали, что происходит внутренняя революция. Русским людям культурного слоя XIX и XX вв. свойственна быстрая смена поколений и настроений; постоянная распря детей и отцов особенно характерна для России. А. Белый в своих воспоминаниях характеризует напряженность своего кружка поэтов-символистов, как ожидание зорь и как видение зорь. Ждали восхода солнца Грядущего дня. Это было ожидание не только совершенно новой коллективной символической культуры, но также и ожидание грядущей революции. А. Белый называет «нашими» только тех, которые видели «зори» и предчувствовали зоревое откровение. Это также была одна из форм ожидания наступления эпохи Св. Духа. А. Белый блестяще характеризует атмосферу, в которой возник русский символизм. Время было очень замечательное. Но неприятна кружковщина, почти сектантство, молодых символистов, резкое деление на «наших» и не наших, самоуверенность и самоупоенность. Этому времени свойственна была взвинченность, склонность к преувеличениям, раздувание иногда незначительных событий, недостаточная правдивость с собой и другими. Так, необычайные, почти космические, размеры приобретала распря Белого с Блоком, хотя за ней скрыты чувства, в которых ничего космического не было. Жена Блока одно время играла роль Софии, она была Прекрасной Дамой. В этом было что-то неправдивое и неприятное, была игра с жизнью, которая вообще была свойственна той эпохе. В значительной степени от Вл. Соловьева получил Блок культ Прекрасной Дамы, которой посвящен целый том его стихов. Разочарование в Прекрасной Даме он выразил в «Балаганчике». Негодование Белого против якобы измены Блока и петербургской литературы символическому искусству преувеличено и не вполне правдиво, так как за этим было скрыто что-то личное. По воспоминаниям Белого, самое лучшее впечатление производит Блок. В нем было больше простоты, правдивости, было меньше вранья, чем у других. Белый был сложнее и многообразнее по своим дарованиям, чем Блок, он был не только поэтом, но и замечательным романистом, он любил философствовать и стал впоследствии антропософом. Он написал толстую книгу о символизме, который обосновал при помощи философии Риккерта. Он был у нас единственным замечательным футуристом. В очень оригинальном романе «Петербург» человек и космос разлагаются на элементы, исчезает целостность вещей, и границы, отделяющие одно от другого; человек может переходить в лампу, лампа – в улицу, улица проваливается в космическую бесконечность. В другом романе изображается утробная жизнь до рождения. Блок, в отличие от Белого, не пленяется никакими теориями. Он – исключительно лирический поэт, величайший поэт начала века. У него было сильное чувство России, и стихи, посвященные России, – гениальны. У Блока было предчувствие, что на Россию надвигается что-то страшное.
Развязаны дикие страсти Под игом ущербной луны… Я вижу над Русью далече Широкий и тихий пожар.В изумительном стихотворении «Россия» он вопрошает, кому отдастся Россия и что от этого произойдет.
Какому хочешь чародею Отдай разбойную красу, Пускай заманит и обманет, — Не пропадешь, не сгинешь ты, И лишь забота затуманит Твои прекрасные черты.Но наиболее замечательно его стихотворение «Скифы». Это стихотворение пророческое, посвященное теме Востока и Запада.
Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, С раскосыми и жадными очами… Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя, И обливаясь черной кровью, Она глядит, глядит, глядит в тебя, И с ненавистью, и с любовью… Да, так любить, как любит наша кровь, Никто из вас давно не любит!.. Мы любим все – и жар холодных числ, И дар божественных видений, Нам внятно все – и острый галльский смысл, И сумрачный германский гений…Вот строчки, очень жуткие для людей Запада, которые могут оправдывать беспокойство, которое вызывает Россия:
Виновны ль мы – коль хрустнет ваш скелет В тяжелых, нежных наших лапах?В заключение – обращение к Западу:
В последний раз – опомнись, старый мир! На братский пир труда и мира, В последний раз на светлый братский пир Сзывает варварская лира.Тут с необыкновенной остротой поставлена тема о России и Европе, основная тема русского сознания XIX в. Она не поставлена в категориях христианских, но христианские мотивы остаются. Можно было бы сказать, что мироощущение поэтов-символистов стояло под знаком космоса, а не Логоса. Поэтому космос поглощает у них личность; ценность личности была ослаблена: у них были яркие индивидуальности, но слабо выражена личность. А. Белый даже сам говорил про себя, что у него нет личности. В ренессансе был элемент антиперсоналистический. Языческий космизм, хотя и в очень преображенной форме, преобладал над христианским персонализмом.
Вячеслав Иванов был самой характерной и блестящей фигурой ренессанса. Он не принадлежал к группе молодых поэтов, увидевших зори. В то время он был за границей. Он был учеником Момзена, написал по-латински диссертацию о налогах в Риме. Это был человек западной образованности, очень больших знаний, которых не было у Блока и у Белого. На него влияли, главным образом, Шопенгауэр, Р. Вагнер, Ницше; из русских – Вл. Соловьев, которого он знал лично. Наиболее близок он к Р. Вагнеру. Стихи он начал писать поздно. Поэзия его трудная, ученая, пышная, полная выражений, взятых из церковно-славянского языка, требующая комментариев. Он не исключительно поэт, он – также ученый филолог, лучший русский эллинист, блестящий эссеист, учитель поэтов, он – и теолог, и философ, и теософ. Человек универсальный, синтетического духа. В России он был человеком самой утонченной культуры. Такого и на Западе не было. Ценила его, главным образом, культурная элита, для более широких кругов он был недоступен. Это не только блестящий писатель, но и блестящий рассказчик. Со всеми он мог говорить на тему их специальности. Его идеи по видимости менялись. Он был консерватором, мистическим анархистом, православным, оккультистом, патриотом, коммунистом и кончает свою жизнь в Риме католиком и довольно правым. Но в своих постоянных изменениях он, в сущности, всегда оставался самим собой. В жизни этого шармера было много игры. Приехав из-за границы, он привез с собой религию Диониса, о которой написал замечательную и очень ученую книгу. Он хотел не только примирить, но и почти отожествить Диониса и Христа. Вяч. Иванов, как и Мережковский, вносил много язычества в свое христианство, и это было характерно для ренессанса начала века. Поэзия его также хотела быть дионистической, но в ней нет непосредственного стихийного дионисизма, дионисизм у него надуманный. Проблема личности была ему чужда. Вяч. Иванов имел склонность к оккультизму, который вообще процветал в России около 10-го года нашего века. Как в конце XVIII и начале XIX в., у нас искали в эти годы настоящего розенкрейцерства, искали то у Р. Штейнера, то в разных тайных обществах. Но большее утончение культуры делало это течение менее правдивым и наивным, чем в начале XIX в. Вяч. Иванов был человеком многосоставным и многопланным, и он мог оборачиваться разными своими сторонами. Он был насыщен великими культурами прошлого, особенно греческой культурой, и жил их отражениями. Он частью проповедовал взгляды почти славянофильские, но такая гиперкультурность, такая упадочная утонченность была не русской в нем чертой. В нем не было того искания правды, той простоты, которые пленяли в литературе XIX в. Но в русской культуре должны были быть явлены и образы утонченности и культурного многообразия. Вячеслав Иванов останется одним из самых замечательных людей начала века, человеком ренессансным по преимуществу.
Во всем противоположен Вяч. Иванову был Л. Шестов, один из самых оригинальных и замечательных мыслителей начала XX в. В отличие от Вяч. Иванова Л. Шестов был моноидеистом, человеком одной темы, которая владела им целиком и которую он вкладывал во все написанное им. Это был не эллин, а иудей. Он представляет Иерусалим, а не Афины. Вышел он из Достоевского, Л. Толстого и Ницше. Его тема связана с судьбой личности, единичной, неповторимой, единственной. Во имя этой единичной личности он борется с общим, с универсальным, с общеобязательной моралью и общеобязательной логикой. Он хочет стать по ту сторону добра и зла. Самое возникновение добра и зла, самое их различие есть грехопадение. Познание с его общеобязательностью, с порождаемой им необходимостью есть рабство человека. Будучи философом, он борется против философии, против Сократа, Платона, Аристотеля, против Спинозы, Канта, Гегеля. Его герои – это немногие люди, пережившие потрясения, это – Исайя, ап. Павел, Паскаль, Лютер, Достоевский, Ницше, Кирхегардт. Тема Шестова – религиозная. Это тема о неограниченных возможностях для Бога. Бог может сделать однажды бывшее небывшим, может сделать, что Сократ не был отравлен. Бог не подчинен ни добру ни разуму, не подчинен никакой необходимости. Грехопадение для Шестова не онтологическое, а гносеологическое, оно связано с возникновением познания добра и зла, т. е. с возникновением общего, общеобязательного, необходимого. У Достоевского особенное значение он придает «Запискам из подполья». Он хочет философствовать, как подпольный человек. Опыт потрясения выводит человека из царства обыденности, которому противоположно царство трагедии. Шестов противополагает древу познания добра и зла древо жизни. Но он всегда был гораздо сильнее в отрицании, чем в утверждении, которое было у него довольно бедно. Ошибочно считать его психологом. Когда он писал о Ницше, Достоевском, Л. Толстом, Паскале, Кирхегардте, то он интересовался не столько ими, сколько своей единственной темой, которую он вкладывал в них. Он был прекрасный писатель, и это скрадывало недостатки его мысли. Пленяет в нем независимость мысли; он никогда не принадлежал ни к каким течениям, не подвергался влиянию духа времени. Он стоял в стороне от основного русла русской мысли. Но Достоевский связывал его с основными русскими проблемами, прежде всего с проблемой конфликта личности и мировой гармонии. Под конец жизни он встретился с Кирхегардтом, с которым имел большое родство. Л. Шестов является представителем своеобразной экзистенциальной философии. Книги его переведены на иностранные языки, и его ценят. Но нельзя сказать, чтобы его верно понимали. Во вторую половину жизни он все более и более обращался к Библии. Религиозность, к которой он шел, была скорее библейская, чем евангельская. Но он чувствовал родство с Лютером, которого он оригинально сближал с Ницше (по ту сторону добра и зла). Главное для Шестова была вера, противополагаемая знанию. Он искал веры, но он не выразил самой веры. Фигура Л. Шестова очень существенная для многообразия русского ренессанса начала века.
3
Около 1908 г. в России образовалось религиозно-философское общество, в Москве – по инициативе С. Н. Булгакова, в Петербурге – по моей инициативе, в Киеве – по инициативе профессоров Духовной академии. Религиозно-философское общество сделалось центром религиозно-философской мысли и духовных исканий. В Москве общество называлось «Памяти Вл. Соловьева». Это общество отражало нарождение в России оригинальной религиозной философии. Для них характерна была большая свобода мысли, несвязанность школьными традициями. Мысль была не столько богословской, сколько религиозно-философской. Это характерно для России. На Западе существовало резкое разделение между богословием и философией, религиозная философия была редким явлением, и ее не любили ни богословы, ни философы. В России в начале века философия, которая очень процветала, приобретала религиозный характер, и исповедание веры обосновывалось философски. Философия совсем не ставилась в зависимость от богословия и от церковного авторитета, она была свободна, но внутренне зависела от религиозного опыта. Религиозная философия охватывала все вопросы духовной культуры и даже все принципиальные вопросы социальной жизни. Религиозно-философские общества первоначально имели большой успех, публичные заседания с докладами и прениями очень посещались, посещались и людьми, которые имели умственные и духовные интересы, но не специально религиозно-христианские. В Москве центральной фигурой религиозно-философского общества был С. Н. Булгаков, тогда еще не священник. Произошло соединение с течениями XIX в., главным образом с Хомяковым, Вл. Соловьевым, Достоевским. Началось искание истинного православия. Его пытались найти в св. Серафиме Саровском, любимом святом той эпохи, и в старчестве. Обратились также к греческой патристике. Но в религиозно-философском обществе участвовали также такие люди, как В. Иванов. Участвовали и антропософы. Русская религиозная философия подготовлялась с разных концов. Очень характерной фигурой ренессанса был отец Павел Флоренский. Это был разнообразно одаренный человек. Он – математик, физик, филолог, богослов, философ, оккультист, поэт. Натура очень сложная и не прямая. Он вышел из кружка Свентицкого и Эрна, которые одно время пытались соединить православие с революцией. Но постепенно он делался все более и более консервативным и в профессуре Московской духовной академии был представителем правого крыла. Впрочем, его консервативность и правость носили не столько реалистический, сколько романтический характер. В то время это часто случалось. П. Флоренский сначала окончил математический факультет Московского университета и подавал большие надежды в качестве математика. После духовного кризиса он поступает в Московскую духовную академию, делается профессором академии и хочет стать монахом. По совету старца он не делается монахом, а лишь священником. В то время многие люди из интеллигенции принимают священство – П. Флоренский, С. Булгаков, С. Соловьев, С. Дурилин и др. Это было желание войти в глубь православия, приобщиться к его тайне. П. Флоренский был человеком утонченной культуры, и в нем был элемент утонченной упадочности. В нем совсем нет простоты и прямоты, нет ничего непосредственного, он все время что-то прикрывает, много говорит нарочно и представляет интерес для психологического анализа. Я характеризовал его православие, как стилизованное православие[84]. Он стилизатор во всем. Он – эстет, в этом он – человек своей эпохи, человек, равнодушный к моральной стороне христианства. В русской православной мысли в первый раз появляется такая фигура. Этот реакционер по эстетическому чувству, во многом является новатором в богословии. Его блестящая книга «Столп и утверждение истины» произвела большое впечатление в некоторых кругах и на многих имела влияние, например, на С. Н. Булгакова, человека совсем другой формации и иного душевного склада. Книга П. Флоренского по своей музыке производит впечатление падающих осенних листьев. В ней разлита меланхолия осени. Написана она в форме писем к другу. Ее можно было бы причислить к типу экзистенциальной философии. Наиболее ценна в книге ее психологическая сторона, особенно глава об epoc. Положительна также борьба с рационализмом в богословии и философии и защита антиномичности. П. Флоренский хочет, чтобы богословие было духовно-опытным. Мысль его все же нельзя назвать творческим словом в христианстве. Он – слишком стилизатор, слишком хочет быть традиционным и ортодоксальным. Но по душевному складу своему он все-таки новый человек, человек своего времени, даже известных годов начала XX в. Он слишком понимал движение Духа как реакцию, а не как движение вперед. Но он ставит проблемы не традиционные. Такова прежде всего проблема Софии – Премудрости Божией. Самая эта проблема не традиционно-богословская, сколько бы Флоренский ни пытался опереться на учителей церкви. Постановка проблемы Софии означает уже иное отношение к космической жизни, к тварному миру. Развитие темы о Софии и ее богословское оформление будут принадлежать о. С. Булгакову. Но о. П. Флоренский давал первые толчки. Он говорил враждебно и даже пренебрежительно о «новом религиозном сознании», но он все-таки слишком производит впечатление современника Д. Мережковского, Вяч. Иванова, А. Белого, А. Блока. Особенно близко он себя чувствует к Розанову. Он равнодушен к теме о свободе и потому равнодушен к моральной теме. Он погружен в магическую атмосферу. Характерно, что в книге, которая представляет целую богословскую систему, хотя и не в систематической форме, почти совсем нет Христа. П. Флоренский старается скрыть, что он живет под космическим прельщением и что человек у него подавлен. Но, как русский религиозный мыслитель, он тоже по-своему ждет новой эпохи Духа Св. Выражает он это с большими опасениями, так как книга его была диссертацией для Духовной академии, и он стал ее профессором и священником. Во всяком случае, П. Флоренский – интересная фигура годов русского ренессанса.
Но центральной фигурой в движении русской мысли к православию был С. Булгаков. Он был в молодости марксистом, профессором политической экономии в Политехническом институте. Происходит он из духовного звания, предки его были священниками, первоначально учился он в духовной семинарии. В нем была глубоко заложенная православная основа. Он никогда не был ортодоксальным марксистом, в философии был не материалистом, а кантианцем. Пережитый им перелом он выразил в книге «От марксизма к идеализму». Он первый в этом течении делается христианином и православным. В известный момент основное влияние на него имел Вл. Соловьев. Его интересы от вопросов экономических переходят к вопросам философским и богословским. По складу своему он всегда был догматиком. В 1918 г. он делается священником. Высланный из Советской России в 1922 г. с группой ученых и писателей, он делается профессором догматического богословия в Париже в Православном богословском институте. Уже в Париже он создает целую богословскую систему под общим заглавием: «О Богочеловечестве». Первый том называется «Агнец Божий», второй том – «Утешитель», третий том – «Невеста Агнца». Еще до войны 1914 г. он изложил свою религиозную философию в книге «Свет Невечерний». Я не собираюсь излагать идеи о. С. Булгакова. Он – современник. Укажу только самые общие черты. Его направление называют софиологическим, и его софиология вызывает резкие нападки правоортодоксальных кругов. Он хочет дать отвлеченно-богословское выражение русским софиологическим исканиям. Он хочет быть не философом, а богословом, но в его богословии есть много философских элементов, и для его мысли большое значение имеют Платон и Шеллинг. Он остается представителем русской религиозной философии. Он остается верен основной русской идее Богочеловечества. Богочеловечество есть обожение твари. Богочеловечество осуществляется через Духа Св. Софиологическая тема есть тема о Божественном и тварном мире. Это есть тема прежде всего космологическая, которая интересовала русскую религиозную мысль более, чем западную. Нет абсолютного разделения между Творцом и творением. Есть предвечная не тварная София в Боге, мир платоновских идей, через нее наш мир сотворен, – и есть София тварная, проникающая в творение. О. С. Булгаков называет свою точку зрения панентеизмом (термин Краузе), в отличие от пантеизма. Можно было бы это назвать также панпневматизмом. Происходит как бы сошествие Духа Св. в космос. Панпневматизм вообще характерен для русской религиозной мысли. Наибольшее затруднение для софиологии связано с проблемой зла, которая и недостаточно поставлена и не разрешена. Это – система оптимистическая. Основной оказывается не идея свободы, а идея Софии. София есть Вечная Женственность Божья, что вызывает наибольшие нарекания. Самая проблема о. С. Булгакова имеет большое значение, и она недостаточно разрешена в христианстве. Ее постановка указывает на творческую мысль в русском православии. Но критику вызывает неясность определения того, что такое София. Софией оказывается и Св. Троица, и каждая из Ипостасей Св. Троицы, и космос, и человечество, и Божья Матерь. Является вопрос, не происходит ли слишком большое умножение посредников. О. С. Булгаков решительно возражает против отожествления Софии с Логосом. Неясно, что должно быть отнесено к откровению, что – к богословию и что – к философии, неясно также, какую философию нужно считать обязательно связанной с православным богословием.
Неясно, как примирить эсхатологическую перспективу с софиологическим оптимизмом. Происходит отожествление церкви с Царством Божьим, что противоречит эсхатологическому ожиданию. Я не разделяю софиологического направления, но очень ценю у о. С. Булгакова движение мысли в православии, постановку новых проблем. Философия его не принадлежит к типу экзистенциальному. Он – объективист и универсалист, в своей первооснове – платоник, он слишком верит в богопознание через понятие, катафатический элемент слишком преобладает над апофатическим. Как и все представители русской религиозно-философской мысли, он устремлен к новому, к царству Духа, но остается неясным, в какой мере он признает возможность нового третьего откровения. О. С. Булгаков – одно из течений русской религиозной мысли, главным образом сосредоточенных на теме о божественности космоса. Самой большой правдой его остается его вера в божественное начало в человеке. Он – горячий защитник всеобщего спасения. В этом смысле его мысль противоположна томизму и особенно бартианству, а также – традиционно-православному монашески-аскетическому богословию.
Сам я принадлежу к поколению русского ренессанса, участвовал в его движении, был близок с деятелями и творцами ренессанса. Но во многом я расходился с людьми того замечательного времени. Я являюсь одним из создателей образовавшейся в России религиозной философии. Я не собираюсь излагать свои философские идеи. Кто интересуется, может познакомиться с ними по моим книгам. Очень важные для меня книги написаны уже за границей, в эмиграции, т. е. выходят за пределы ренессансной эпохи, о которой я пишу. Но я считаю полезным для характеристики многообразия нашей ренессансной эпохи определить черты отличия меня от других, с которыми я иногда действовал вместе. Своеобразие моего миросозерцания было выражено в моей книге «Смысл творчества. Опыт оправдания человека», написанной в 1912—1913 гг. Это был Sturm und Drang. Книга была посвящена основной теме моей жизни и моей мысли – теме о человеке и его творческом призвании. Мысль о человеке, как о творце, была потом развита в моей книге «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики», изданной уже на Западе, – лучше развита, но с меньшей страстью. Меня не без основания называли философом свободы. Тема о человеке и о творчестве связана с темой о свободе. Такова была моя основная проблематика, которую часто плохо понимали. Большое значение для меня имел Я. Бёме, которого я в известный момент моей жизни с энтузиазмом читал. Из чистых философов я более других обязан Канту, хотя во многом расхожусь с кантианством. Но первоначальное определяющее значение для меня имел Достоевский. Позже имел значение Ницше и особенно Ибсен. В моем отношении к неправде окружающего мира, неправде истории и цивилизации в очень ранней молодости большое значение для меня имел Л. Толстой, а потом – К. Маркс. Моя тема о творчестве, близкая ренессансной эпохе, но не близкая большей части философов того времени, не есть тема о творчестве культуры, о творчестве человека в «науках и искусстве», это тема более глубокая, метафизическая, тема о продолжении человеком миротворения, об ответе человека Богу, который может обогатить самую божественную жизнь. Мои взгляды на поверхности могли меняться, главным образом в зависимости от моих иногда слишком острых и страстных реакций на то, что в данный момент господствовало, но я всю жизнь был защитником свободы духа и высшего достоинства человека. Моя мысль ориентирована антропоцентрично, а не космоцентрично. Все, мной написанное, относится к философии истории и этике, я более всего – историософ и моралист, может быть, теософ в смысле христианской теософии Фр. Баадера, Чешковского или Вл. Соловьева. Меня называли модернистом, и это верно в том смысле, что я верил и верю в возможность новой эпохи в христианстве, – эпохи Духа, которая и будет творческой эпохой. Для меня христианство есть религия Духа. Более верно назвать мою религиозную философию эсхатологической. И я в течение долгого времени пытаюсь усовершенствовать мое понимание эсхатологии. Мое понимание христианства – эсхатологическое, и я противополагаю его христианству историческому. Понимание же эсхатологии у меня активно-творческое, а не пассивное. Конец этого мира, конец истории зависит и от творческого акта человека. Вместе с тем я раскрывал трагедию человеческого творчества, которая заключается в том, что есть несоответствие между творческим замыслом и творческим продуктом; человек творит не новую жизнь, не новое бытие, а культурные продукты. Основной философской проблемой для меня является проблема объективации, которая основана на отчуждении, потере свободы и личности, подчинении общему и необходимому. Моя философия – резко персоналистическая, и по ставшей модной ныне терминологии ее можно назвать экзистенциальной, хотя и совсем в другом смысле, чем, например, философию Хайдеггера. Я не верю в возможность метафизики и теологии, основанных на понятиях, и совсем не хочу строить онтологии. Бытие есть лишь объективизация существования. Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух – образы и символы невыразимого Божества, и это имеет огромное экзистенциальное значение. Метафизика есть лишь символика духовного опыта, она – экспрессионистична. Откровение Духа есть откровение духовности в человеке. Я утверждаю дуализм мира феноменального, который есть мир объективации и необходимости, и мира нуменального, который есть мир подлинной жизни и свободы. Этот дуализм преодолим лишь эсхатологически. Моя религиозная философия не монистическая, и я не могу быть назван платоником, как о. С. Булгаков, о. П. Флоренский, С. Франк и др. Более всего я сопротивляюсь тому, что можно назвать ложным объективизмом и что ведет к подчинению индивидуального общему. Человек, личность, свобода, творчество, эсхатологически-мессианское разрешение дуализма двух миров – таковы мои основные темы. Социальная проблема у меня играет гораздо большую роль, чем у других представителей русской религиозной философии, я близок к тому течению, которое на Западе называется религиозным социализмом, но социализм этот – решительно персоналистический. Во многом, и иногда очень важном, я оставался и остаюсь одинок. Я представляю крайнюю левую в русской религиозной философии ренессансной эпохи, но связи с православной Церковью не теряю и не хочу терять.
К религиозно-философскому течению начала века принадлежали также кн. Е. Трубецкой и В. Эрн. Кн. Е. Трубецкой был близок к Вл. Соловьеву и был активным участником московского религиозно-философского общества. Направление его было более академическое. Наибольший интерес представляет его «Мировоззрение Владимира Соловьева», с ценной критикой. Мировоззрение самого Е. Трубецкого прошло через немецкий идеализм, но он хочет быть православным философом. Он очень критически относится к софиологическому направлению о. П. Флоренского и С. Булгакова, видит в нем уклон к пантеизму. В. Эрн, который не успел вполне себя выразить, так как рано умер, наиболее был близок к софиологии о. П. Флоренского и о. С. Булгакова. Вся его критика, часто несправедливая, была направлена главным образом против немецкой философии, которая делалась особенно популярной в кругах русской философской молодежи. Русский ренессанс был также ренессансом философским. Никогда, кажется, не было еще у нас такого интереса к философии. Образовывались философские кружки, в которых была интенсивная философская жизнь. Наиболее замечательными представителями чистой философии были Н. Лосский и С. Франк, которые создали оригинальные философские системы, которые можно назвать идеал-реализмом. Самая их манера философствовать более напоминала немецкую. Но направление их было метафизическое, когда в Германии еще господствовало враждебное метафизике неокантианство. Н. Лосский создал своеобразную форму интуитивизма, которую можно было бы назвать критическим восстановлением наивного реализма. Он не вышел из философии Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля. Его истоки другие, близкие к Лейбницу, Лотце, Козлову. С. Франк ближе к классическому германскому идеализму. Он, подобно Вл. Соловьеву, хочет создать философию всеединства. Сам он называет себя продолжателем Плотина и Николая Кузанского, особенно последнего. В общем его философия принадлежит к платоновскому течению русской философии. Его книга «Предмет знания» – очень ценный вклад в русскую философию. Много позже, в Германии, Н. Гартман будет защищать точку зрения, близкую к С. Франку. И Н. Лосский, и С. Франк, в конце концов, переходят к христианской философии и входят в общее русло нашей религиозно-философской мысли начала века. Основная тема русской мысли начала XX в. есть тема о божественном космосе и о космическом преображении, об энергиях Творца в творениях; тема о божественном в человеке, о творческом призвании человека и смысле культуры; тема эсхатологическая, тема философии истории. Русские мыслили о всех проблемах по существу, как бы стоя перед тайной бытия, западные же люди, отягченные своим прошлым, мыслили о всех проблемах слишком в культурных отражениях, т. е. в русской мысли было больше свежести и непосредственности. И можно установить что-то общее между богоискательством в народной среде и богоискательством в верхнем слое интеллигенции.
И все-таки нужно признать, что был разрыв между интересами высшего культурного слоя ренессанса и интересами революционного социального движения в народе и в левой интеллигенции, не пережившей еще умственного и духовного кризиса. Жили в разных этажах культуры, почти что в разных веках. Это имело роковые последствия для характера русской революции. Журнал «Вопросы жизни», редактированный мной и С. Н. Булгаковым, пытался соединить разные течения. То было время первой малой революции, и журнал мог просуществовать только год. Политически журнал был левого, радикального направления, но он впервые в истории русских журналов соединял такого рода социально-политические идеи с религиозными исканиями, метафизическим миросозерцанием и новыми течениями в литературе. Это была попытка соединения бывших марксистов, ставших идеалистами и двигающихся к христианству, с Мережковским и символистами, частью с представителями академической философии идеалистического и спиритуалистического направления и с публицистами радикального направления. Синтез был недостаточно органическим и не мог быть прочным. То было очень интересное и напряженное время, когда для наиболее культурной части интеллигенции раскрывались новые миры, когда души освобождались для творчества духовной культуры. Наиболее существенно, что появились души, которые вышли из замкнутого имманентного круга земной жизни и повернулись к трансцендентному миру. Но это произошло лишь в части интеллигенции, большая часть ее продолжала жить старыми материалистическими и позитивистическими идеями, враждебными религии, мистике, метафизике, эстетике и новым течениям в искусстве, и такую установку считали обязательной для всех, кто участвует в освободительном движении и борется за социальную правду. Я вспоминаю яркий образ разрыва и раскола в русской жизни. У Вячеслава Иванова на «башне» – так называлась его квартира на углу самого верхнего этажа высокого дома против Таврического дворца – по средам, в течение нескольких лет, собиралась культурная элита: поэты, романисты, философы, ученые, художники, актеры. На «Ивановских средах» читались доклады, велись самые утонченные споры. Говорили не только на литературные темы, но и на темы философские, религиозные, мистические, оккультические. Присутствовал цвет русского ренессанса. В это же время внизу, в Таврическом дворце, и вокруг бушевала революция. Деятели революции совсем не интересовались темами «Ивановских сред», а люди культурного ренессанса, спорившие по средам на «башне», хотя и не были консерваторами и правыми, многие из них даже были левого направления и готовы были сочувствовать революции, но большинство из них было асоциально и очень далеко от интересов бушевавшей революции. Когда в 1917 г. победили деятели революции, то они признали деятелей культурного ренессанса своими врагами и низвергли их, уничтожив их творческое дело. Вина тут лежала на обеих сторонах. У деятелей ренессанса, открывавших новые миры, была слабая нравственная воля и было слишком много равнодушия к социальной стороне жизни. Деятели же революции жили отсталыми и элементарными идеями. В этом отличие от французской революции. Деятели французской революции жили передовыми идеями того времени, идеями Ж. Ж. Руссо, просветительной философией XVIII в. Деятели русской революции жили идеями Чернышевского, Плеханова, материалистической и утилитарной философией, отсталой тенденциозной литературой, они не интересовались Достоевским, Л. Толстым, Вл. Соловьевым, не знали новых движений западной культуры. Поэтому революция была у нас кризисом и утеснением духовной культуры. Воинствующее безбожие коммунистической революции объясняется не только состоянием сознания коммунистов, очень суженного и зависящего от разного рода ressentiments, но и историческими грехами православия, которое не выполняло своей миссии преображения жизни, поддерживая строй, основанный на неправде и гнете. Христиане должны сознать свою вину, а не только обвинять противников христианства и посылать их в ад. Враждебна христианству и всякой религии не социальная система коммунизма, которая более соответствует христианству, чем капитализм, а лжерелигия коммунизма, которой хотят заменить христианство. Но лжерелигия коммунизма образовалась потому, что христианство не исполняло своего долга и было искажено. Официальная церковь заняла консервативную позицию в отношении к государству и социальной жизни и была рабски подчинена старому режиму. Некоторое время после революции 1917 г. значительная часть духовенства и мирян, почитавших себя особенно православными, была настроена контрреволюционно, и только после появились священники нового типа. Церковной реформы и обновления церковной жизни творческими идеями XIX в. и начала XX в. не произошло. Официальная церковь жила в замкнутом мире, сила инерции была в ней огромна. Это тоже было одно из проявлений разрыва и раскола, проходившего через всю русскую жизнь.
4
К 1917 г., в атмосфере неудачной войны, все созрело для революции. Старый режим сгнил и не имел приличных защитников. Пала священная русская империя, которую отрицала и с которой боролась целое столетие русская интеллигенция. В народе ослабели и подверглись разложению те религиозные верования, которые поддерживали самодержавную монархию. Из официальной фразеологии «православие, самодержавие и народность» исчезло реальное содержание, фразеология эта стала неискренней и лживой. В России революция либеральная, буржуазная, требующая правового строя, была утопией, не соответствующей русским традициям и господствовавшим в России революционным идеям. В России революция могла быть только социалистической. Либеральное движение было связано с Государственной думой и кадетской партией. Но оно не имело опоры в народных массах и лишено было вдохновляющих идей. По русскому духовному складу, революция могла быть только тоталитарной. Все русские идеологии были всегда тоталитарными, теократическими или социалистическими. Русские – максималисты, и именно то, что представляется утопией, в России наиболее реалистично. Как известно, слово «большевизм» произошло от большинства на съезде социал-демократической партии в 1903 г., слово же «меньшевизм» – от меньшинства этого съезда. Слово «большевизм» оказалось отличным символом для русской революции, слово же «меньшевизм» – негодным. Для русской левой интеллигенции революция всегда была и религией, и философией, революционная идея была целостной. Этого не понимали более умеренные направления. Очень легко доказать, что марксизм есть совершенно неподходящая идеология для революции в земледельческой стране, с подавляющим преобладанием крестьянства, с отсталой промышленностью и с очень немногочисленным пролетариатом. Но символика революции – условна, ее не нужно понимать слишком буквально. Марксизм был приспособлен к русским условиям и русифицирован. Мессианская идея марксизма, связанная с миссией пролетариата, соединилась и отожествилась с русской мессианской идеей. B русской коммунистической революции господствовал не эмпирический пролетариат, а идея пролетариата, миф о пролетариате. Но коммунистическая революция, которая и была настоящей революцией, была мессианизмом универсальным, она хотела принести всему миру благо и освобождение от угнетения. Правда, она создала самое большое угнетение и уничтожила всякую свободу, но делала это, искренно думая, что это – временное средство, необходимое для осуществления высшей цели. Русские коммунисты, продолжавшие себя считать марксистами, вернулись к некоторым народническим идеям, господствовавшим в XIX в., они признали возможным для России миновать капиталистическую стадию развития и прямо перескочить к социализму. Индустриализация должна происходить под знаком коммунизма, и она происходит. Коммунисты оказались ближе к Ткачеву, чем к Плеханову и даже чем к Марксу и Энгельсу. Они отрицают демократию, как отрицали многие народники. Вместе с тем они практикуют деспотические формы управления, свойственные старой России. Они вносят изменения в марксизм, который должен быть приведен в соответствие с эпохой пролетарских революций, которой еще не знал Маркс. Ленин был замечательным теоретиком и практиком революции. Это был характерно русский человек с примесью татарских черт. Ленинисты экзальтировали революционную волю и признали мир пластическим, годным для любых изменений со стороны революционного меньшинства. Они начали утверждать форму диалектического материализма, в которой исчезает детерминизм, раньше столь бросавшийся в глаза в марксизме; почти исчезает и материя, которой приписываются духовные качества – возможность самодвижения изнутри, внутренняя свобода и разумность. Произошла также острая национализация Советской России и возвращение ко многим традициям русского прошлого. Ленинизм-сталинизм не есть уже классический марксизм. Русский коммунизм есть извращение русской мессианской идеи. Он утверждает свет с Востока, который должен просветить буржуазную тьму Запада. В коммунизме есть своя правда и своя ложь. Правда – социальная, раскрытие возможности братства людей и народов, преодоление классов; ложь же – в духовных основах, которые приводят к процессу дегуманизации, к отрицанию ценности человека, к сужению человеческого сознания, которое было уже в русском нигилизме. Коммунизм есть русское явление, несмотря на марксистскую идеологию. Коммунизм есть русская судьба, момент внутренней судьбы русского народа. И изжит он должен быть внутренними силами русского народа. Коммунизм должен быть преодолен, а не уничтожен. В высшую стадию, которая наступит после коммунизма, должна войти и правда коммунизма, но освобожденная от лжи. Русская революция пробудила и расковала огромные силы русского народа. В этом ее главный смысл. Советская конституция 1936 г. создала самое лучшее в мире законодательство о собственности. Личная собственность признается, но в форме, не допускающей эксплуатации. Назрел новый душевный тип с хорошими и плохими чертами. Но свободы человека все еще нет.
При всей разорванности русской культуры и противоположности между революционным движением и ренессансом между ними было что-то общее. Дионисическое начало прорывалось и там, и там, хотя и в разных формах. Я называю русским ренессансом тот творческий подъем, который у нас был в начале века. Но он не походил на большой европейский ренессанс по своему характеру. Позади его не было Средневековья, позади была пережитая интеллигенцией эпоха просвещения. Русский ренессанс вернее сравнить с германским романтизмом начала XIX в., которому тоже предшествовала эпоха просвещения. Но в русском движении того времени были специфически русские черты, которые связаны с русским XIX в. Это прежде всего религиозное беспокойство и религиозное искание, это – постоянный переход в философии за границы философского познания, в поэзии – за границы искусства, в политике – за границы политики в направлении эсхатологической перспективы. Все протекало в мистической атмосфере. Русский ренессанс не был классическим, он был романтическим, если употреблять эту условную терминологию. Но романтизм этот был иной, чем на Западе, в нем была устремленность к религиозному реализму, хотя этот реализм и не достигался. В России не было той самодовольной замкнутости в культуре, которая так характерна для Западной Европы. Несмотря на западные влияния, особенно Ницше, хотя и по-особенному понятого, влияния западных символистов, была устремленность к русскому самосознанию. В эту эпоху было написано уже цитированное стихотворение А. Блока «Скифы». Только в ренессансную эпоху стал нам по-настоящему близок Достоевский, полюбили поэзию Тютчева и оценили Вл. Соловьева. Но вместе с тем было преодолено нигилистическое отрицание XIX в. Русское революционное движение, русская устремленность к новой социальности оказались сильнее культурно-ренессансного движения; движение опиралось на поднимающиеся снизу массы и было связано с сильными традициями XIX в. Культурный ренессанс был сорван, и его творцы отодвинуты от переднего плана истории, частью принуждены были уйти в эмиграцию. Некоторое время торжествовали самые поверхностные материалистические идеи, и в культуре произошел возврат к старому рационалистическому просвещению. Социальный революционер был культурным реакционером. Но все это, свидетельствуя о трагической судьбе русского народа, совсем не означает, что весь запас творческой энергии и творческих идей пропал даром и не будет иметь значения для будущего. Но так совершается история. Она протекает в разнообразных психических реакциях, в которых то суживается, то расширяется сознание. Многое то уходит в глубину, исчезая с поверхности, то опять поднимается вверх и выражает себя вовне. Так будет и у нас. Происшедший у нас разгром духовной культуры есть только диалектический момент в судьбе русской духовной культуры и свидетельствует о проблематичности культуры для русских. Все творческие идеи прошлого вновь будут иметь оплодотворяющее значение. Духовная жизнь не может быть угашена, она – бессмертна. В эмиграции реакция против революции создала и реакционную религиозность. Но явление это – незначительно в свете более далеких перспектив.
Русская мысль, русские искания начала XIX в. и начала XX в. свидетельствуют о существовании русской идеи, которая соответствует характеру и призванию русского народа. Русский народ – религиозный по своему типу и по своей душевной структуре. Религиозное беспокойство свойственно и неверующим. Русские атеизм, нигилизм, материализм приобретали религиозную окраску. Русские люди из народного, трудового слоя, даже когда они ушли от православия, продолжали искать Бога и Божьей правды, искать смысла жизни. Русским чужд рафинированный скептицизм французов, они – верующие и тогда, когда исповедуют материалистический коммунизм. Даже у тех русских, которые не только не имеют православной веры, но даже воздвигают гонение на православную церковь, остается в глубине души слой, формированный православием. Русская идея – эсхатологическая, обращенная к концу. Отсюда русский максимализм. Но в русском сознании эсхатологическая идея принимает форму стремления ко всеобщему спасению. Русские люди любовь ставят выше справедливости. Русская религиозность носит собор —
ный характер. Христиане Запада не знают такой коммюнотарности, которая свойственна русским. Все это – черты, находящие свое выражение не только в религиозных течениях, но и в течениях социальных. Известно, что главный праздник русского православия есть праздник Пасхи. Христианство понимается прежде всего, как религия Воскресения. Если брать православие не в его официальной, казенной, извращенной форме, то в нем больше свободы, больше чувства братства людей, больше доброты, больше истинного смирения, меньше властолюбия, чем в христианстве западном. За внешним иерархическим строем русские в последней глубине всегда были антииерархичны, почти анархичны. У русского народа нет той любви к историческому величию, которым так пленены народы Запада. Народ, обладающий величайшим в мире государством, не любит государства и власти и устремлен к иному. Немцы давно уже построили теорию, что русский народ – народ женственный и душевный в противоположность мужественному и духовному немецкому народу. Мужественный дух немецкого народа должен овладеть женственной душой русского народа. С этой теорией связывалась и соответственная практика. Вся теория построена для оправдания германского империализма и германской воли к могуществу. В действительности русский народ всегда был способен к проявлению большой мужественности, и он это докажет и доказал уже германскому народу. В нем было богатырское начало. Русские искания носят не душевный, а духовный характер. Всякий народ должен быть мужеженственным, в нем должно быть соединение двух начал. Вернее, что в германском народе есть преобладание мужественного начала, но это скорее уродство, чем качество, и это до добра не доводит. Эти суждения имеют, конечно, ограничительное значение. В эпоху немецкого романтизма проявилось и женственное начало. Но верно, что германская и русская идеи – противоположны. Германская идея есть идея господства, преобладания, могущества; русская же идея есть идея коммюнотарности и братства людей и народов. В Германии всегда был резкий дуализм между ее государством и милитаристическим и завоевательным духом и ее духовной культурой, огромной свободой ее мысли. Русские очень много получили от германской духовной культуры, особенно от ее великой философии, но германское государство есть исторический враг России. В самой германской мысли есть элемент, нам враждебный, особенно в Гегеле, в Ницше и, как это ни странно, в Марксе. Мы должны желать братских отношений с германским народом, который сотворил много великого, но при условии его отказа от воли к могуществу. Воле к могуществу и господству должна быть противопоставлена мужественная сила защиты. У русских моральное сознание очень отличается от морального сознания западных людей, это сознание более христианское. Русские моральные оценки определяются по отношению к человеку, а не к отвлеченным началам собственности, государства, не к отвлеченному добру. У русских иное отношение к греху и преступлению, есть жалость к падшим, униженным, есть нелюбовь к величию. Русские менее семейственны, чем западные люди, но безмерно более коммюнотарны. Они ищут не столько организованного общества, сколько общности, общения, и они малопедагогичны. Русский парадокс заключается в том, что русский народ гораздо менее социализирован, чем народы Запада, но и гораздо более коммюнотарен, более открыт для общения. Возможна мутация и резкие изменения под влиянием революции. Это возможно и в результате русской революции. Но Божий замысел о народе остается тот же, и дело усилий свободы человека – оставаться верным этому замыслу. Есть какая-то индетерминированность в жизни русского человека, которая малопонятна более рационально детерминированной жизни западного человека. Но эта индетерминированность открывает много возможностей. У русских нет таких делений, классификаций, группировок по разным сферам, как у западных людей, есть большая цельность. Но это же создает и трудности, возможность смешений. Нужно помнить, что природа русского человека очень поляризованная. С одной стороны – смирение, отречение; с другой стороны – бунт, вызванный жалостью и требующий справедливости. С одной стороны – сострадательность, жалостливость; с другой – возможность жестокости; с одной стороны – любовь к свободе, с другой стороны – склонность к рабству. У русских – иное чувство земли, и самая земля иная, чем у Запада. Русским чужда мистика расы и крови, но очень близка мистика земли. Русский народ, по своей вечной идее, не любит устройства этого земного града и устремлен к Граду Грядущему, к Новому Иерусалиму, но Новый Иерусалим не оторван от огромной русской земли, он с ней связан, и она в него войдет. Для Нового Иерусалима необходима коммюнотарность, братство людей, и для этого необходимо еще пережить эпоху Духа Св., в которой будет новое откровение об обществе. В России это подготовлялось.
Примечания
1
Это вполне подтверждается и русской революцией, в которой народ остается духовно пассивным и покорным новой революционной тирании, но в состоянии злобной одержимости.
(обратно)2
Русская революция наглядно показала всю опасность русской абсолютности.
(обратно)3
См. книгу Розанова «Темный лик».
(обратно)4
См. Крэмб. Германия и Англия.
(обратно)5
См. мою статью: Империализм священный и империализм буржуазный. (Эта статья Н. Бердяева была напечатана в газете «Биржевые ведомости» 5 ноября 1914 г. и в настоящий сборник не вошла. – Примечание составителя.)
(обратно)6
Я не касаюсь здесь церковных идей Хомякова, которые очень глубоки и сохраняют свое непреходящее значение.
(обратно)7
Тот же Герцен пророчески предсказал царство прусского милитаризма и неизбежность столкновения с ним.
(обратно)8
В начале было дело! (нем.) – цитата из «Фауста» Гёте. (Примечание составителя.)
(обратно)9
Положение, существующее до перемен, происшедших в результате войны (лат.). (Примечание составителя.)
(обратно)10
Н. Михайловский и П. Лавров.
(обратно)11
Попустительство и беспрепятственность (франц.).
(обратно)12
Я это выразил в старом этюде «Душа России», который вошел в мою книгу «Судьба России».
(обратно)13
См.: Г. П. Федотов. «Святые Древней Руси».
(обратно)14
См.: П. Милюков. «Очерки по истории русской культуры», т. III. Национализм и европеизм.
(обратно)15
См. книгу С. Ф. Платонова «Москва и Запад».
(обратно)16
См.: А. Щапов. «Социально-педагогические условия умственного развития русского народа».
(обратно)17
См.: Боголюбов. «Н. И. Новиков и его время».
(обратно)18
См. книгу Пыпина «Религиозные движения при Александре», а также его книгу «Русское масонство XVIII века и первой четверти XIX века». См. также книгу о. Г. Флоровского «Пути русского богословия».
(обратно)19
См.: В. Семевский. «Политические и общественные идеи декабристов».
(обратно)20
См. книгу М. Гершензона «История молодой России».
(обратно)21
Это центральная проблема моей книги «Смысл творчества. Опыт оправдания человека», в которой я привожу пример Пушкина и св. Серафима.
(обратно)22
См.: о. Г. Флоровский. «Пути русского богословия».
(обратно)23
См. цитированную книгу Щапова.
(обратно)24
См.: Г. Шпет. «Очерк развития русской философии».
(обратно)25
См.: П. Сакулин. «Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский»; Г. Шпет. «Очерк развития русской философии».
(обратно)26
См.: М. Гершензон. «П. Чаадаев».
(обратно)27
См. книгу В. Зеньковского «Русские мыслители и Европа».
(обратно)28
О роли философии Гегеля см. у Чижевского: «Hegel in Russland».
(обратно)29
См. материалы у Колюпанова: «Биография А. Кошелева».
(обратно)30
См. мою книгу «А. С. Хомяков».
(обратно)31
См. об этом мою книгу «А. С. Хомяков».
(обратно)32
Слова из стихотворения Вл. Соловьева: «Каким ты хочешь быть Востоком, Востоком Ксеркса иль Христа?»
(обратно)33
Сюсини принадлежат также два тома: «Fr. Baader et le romantisme mystique». Это первая обстоятельная систематизация миросозерцания Баадера.
(обратно)34
См. мою книгу «Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли».
(обратно)35
См.: Чижевский. «Hegel in Russland».
(обратно)36
См. книгу П. Сакулина «Социализм Белинского», в которой напечатано письмо к Боткину.
(обратно)37
См. мою книгу «Миросозерцание Достоевского».
(обратно)38
См.: И. Лернер. «Белинский».
(обратно)39
См. книгу К. Мочульского «Духовный путь Гоголя».
(обратно)40
Розанов терпеть не мог Гоголя за его нечеловечность и резко о нем писал.
(обратно)41
См.: Spengler. «Der Untergang des Abendlandes». Zweiter Band.
(обратно)42
Макс Шелер ошибочно противополагает христианство и гуманизм (гуманитаризм), который связывает с ressentiment (злопамятство), см. его «L’homme du ressentiment».
(обратно)43
См.: В. Розанов. «Легенда о Великом Инквизиторе».
(обратно)44
См. мою книгу «Константин Леонтьев».
(обратно)45
Особенно интересна статья: «Philosophie und Nazionale konomie».
(обратно)46
См. интересную книгу иезуита Ганса фон Бальтазара «Presence et pensene. Essai sur la philosophie religieuse de Gregoire de Nysse».
(обратно)47
К. А. Пажитнов. «Развитие социалистических идей в России» и П. Сакулин. «Русская литература и социализм».
(обратно)48
Цитата взята из «Былое и думы».
(обратно)49
См. необыкновенно интересную книгу «Любовь у людей 60-х годов», где собраны письма Чернышевского, особенно к жене, с каторги.
(обратно)50
См. мою старую книгу «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии».
(обратно)51
См.: П. Н. Ткачев. «Избранные сочинения». Четыре тома. Москва. 1933 г.
(обратно)52
См.: А. Воронский. «Желябов». 1934 г.
(обратно)53
См.: О. Spengler. «Der Untergang des Abendlandes». Zweiter Band.
(обратно)54
См.: о. Г. Флоровский. «Пути русского богословия».
(обратно)55
См. мою книгу «Психология русского нигилизма и атеизма».
(обратно)56
См.: Е. Соловьев. «Писарев».
(обратно)57
А. Щапов. «Социально-педагогические условия умственного развития русского народа».
(обратно)58
См. мою книгу «А. С. Хомяков».
(обратно)59
См.: A. Harnack. «Marcion: Das Evangelium vom Fremden Gott». Гарнак утверждает, что у русских есть склонность к маркионизму.
(обратно)60
См. мою книгу «Миросозерцание Достоевского», в основу которой положено истолкование «Легенды о Великом Инквизиторе».
(обратно)61
См. недавно вышедшее самое обстоятельное изложение философии Баадера: Е. Susini. «Franz von Baader et le romantisme mystique». Deux volumes.
(обратно)62
См.: J. A. Mahler. «Die Einheit in der Kirche» и книгу Е. Wermeil. «J. A. Mahler et l’école catholique de Tibingen». Вермейль считает Мёлера родоначальником модернизма.
(обратно)63
Для характеристики личности Вл. Соловьева особенно интересна книга К. Мочульского «Владимир Соловьев». Для изложения и критики философии Вл. Соловьева наибольший интерес представляет кн. Е. Трубецкой – «Миросозерцание Вл. Соловьева». Два тома.
(обратно)64
Кн. А. Оболенский и Лукьянов.
(обратно)65
См.: Вл. Соловьев. «Критика отвлеченных начал» и «Философские начала цельного знания».
(обратно)66
См. мою еще не напечатанную книгу «Творчество и объективизация. Опыт эсхатологической метафизики».
(обратно)67
См.: Тареев. «Основы христианства». Т. IV. «Христианская свобода».
(обратно)68
См. мою статью «Учение Якова Бёме о Софии» в «Пути».
(обратно)69
См. в «Schriften Franz Baaders». Insel-Verlag: «Sotze aus der erotischen Philosophic» и «Vierzig Sotze aus einer religisen Erotik».
(обратно)70
Много материалов дает П. Бирюков – «Л. Н. Толстой. Биография».
(обратно)71
См. его книги «Об отношении православия к современности» и «О современных потребностях мысли и жизни, особенно русской».
(обратно)72
См. «Сочинения Архиепископа Иннокентия».
(обратно)73
Я, кажется, первый обратил внимание на Несмелова в статье «Опыт философского оправдания христианства», напечатанной в «Русской мысли» 35 лет тому назад.
(обратно)74
Сейчас католики, главным образом иезуиты, заинтересовались св. Григорием Нисским. См. интересную книгу: Hans von Balthasar. «Presence et pensene. Essai sur la philosophiе religieuse de Gregoire de Nysse».
(обратно)75
См.: Тареев. «Основы христианства». Четыре тома.
(обратно)76
См. изумительную книгу Л. Блуа «Exegese des lieux communs». Это – страстное обличение буржуазного духа и буржуазной мудрости.
(обратно)77
Много интересных материалов можно найти у A. Wiatte: «Les sources occultes du romantisme». Deux volumes.
(обратно)78
Эсхатологическое понимание христианства можно найти у Вейса и Луази.
(обратно)79
Наибольшее влияние на Достоевского имел образ св. Тихона Задонского, который был христианским гуманистом в стиле XVIII в.
(обратно)80
Одной из первых статей о Н. Федорове была моя статья «Религия воскрешения» в «Русской мысли».
(обратно)81
См. книгу В. А. Кожевникова «Николай Федорович Федоров», очень богатую материалами.
(обратно)82
Издано по-французски. Cte A. Ciezkowski. «Notre Рare», 4 тома.
(обратно)83
Воспоминания А. Белого об А. Блоке, напечатанные в четырех томах «Эпопеи», – первоклассный материал для характеристики атмосферы ренессансной эпохи, но фактически в нем много неточного.
(обратно)84
Моя статья в «Русской мысли» о книге П. Флоренского «Столп и утверждение истины» называлась «Стилизованное православие».
(обратно)

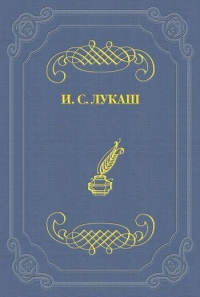

Комментарии к книге «Судьба России», Николай Александрович Бердяев
Всего 0 комментариев