Герман Гессе Магия книги (сборник)
Предисловие
Жизнь и творчество Германа Гессе (1877–1962), одного из крупнейших писателей XX века, мастера психологического символизма, тонкого мыслителя, лирика и стилиста, автора таких известных на весь мир произведений, как «Демиан», «Сиддхартха», «Степной волк», «Нарцисс и Златоуст» и «Игра в бисер», много раз подробно описаны и сравнительно хорошо изучены, но удивительно мало найдется работ об отношении творчества и личности Гессе к книжной культуре и самой книге. Библиофильство Гессе представляют обычно как очень большое увлечение, не связанное с творчеством писателя. А ведь книга формировала личность Гессе, придала неповторимый характер его поискам, стала лейтмотивом, то скрытым, то выходящим на поверхность, всех его произведений, в собственном смысле слова стала его судьбой.
Повод так думать дает даже самый поверхностный обзор жизни и творчества писателя, которые сплавлены с книжной культурой, как, пожалуй, мало у кого из других авторов времен минувших и нынешних. Прямо или косвенно книга выступает у Гессе и объектом, и субъектом его писательства; она и источник его идеалов, и опосредованный им самим источник его книг (но не в банальном смысле «вторичности», а в уникальном формообразующем смысле книги как архетипа культуры); книга — и бесконечная цель устремлений Гессе, и пафос его воистину поразительной — притом что он писатель — деятельности в качестве пропагандиста книжной культуры. А эта деятельность составляет большую часть творчества Гессе: на протяжении 60 из 85 лет его жизни он написал и опубликовал в германоязычной прессе свыше 3000 рецензий и эссе о произведениях всех жанров из самых разнообразных литератур, времен и народов. Это была пропаганда всего лучшего — лучшего, по мнению Гессе, — что создано в различных идейных и стилистических ключах, осуществление известного гессевского кредо служения и жертвенной самоотдачи, а также магическое действо посредника, связующего в единое целое эпохи, пространства, культурные миры, людей и противостоящие друг другу части своего сознания. Кроме того, Гессе 58 раз выступал издателем — по оценке Томаса Манна, издателем первоклассным — многочисленных немецкоязычных и иностранных авторов. С 1910 по 1962 год Гессе написал 39 предисловий к книгам, изданным другими людьми. Испытывал себя Гессе и в роли переводчика художественной литературы. В начале своего творческого пути он несколько лет был пропагандистом книги и как книготорговец (книготорговцем и издателем в очень специальном смысле Гессе оставался всю жизнь). Почти все герои художественной прозы Гессе — писатели, поэты или художники, и во многих его произведениях материалом художественного конфликта прямо или символически опосредованно являются отношения героев с миром книг. Отношения с миром книг — ведущая тема и библиофильской прозы Гессе, его многочисленных статей, эссе и рассказов, значительную часть которых впервые собрал и издал в 1977 году западногерманский гессевед Фолькер Михельс. Этот пока единственный крупный сборник гессевской библиофильской прозы в несколько измененном и отчасти дополненном виде мы и предлагаем советскому читателю.
Излишне анализировать и истолковывать отдельные вещи этого сборника расположенные в хронологической последовательности и отмечающие развитие «книжного человека» Гессе, они говорят сами за себя. Но у читателя, особенно если он поклонник творчества Гессе, возможно, возникает много вопросов: как писатель стал таким выдающимся библиофилом, в чем корни его книжной одержимости, как связана эта одержимость человека-Гессе с одержимостью писателя-Гессе, в чем особенность такого феномена? Читатель, задающий такие вопросы, видимо, испытал магическое воздействие гессевской прозы и уже догадывается, что ответ на них будет непростым, затрагивающим что-то глубоко личное и вместе с тем всеобщее. Библиофильская по преимуществу биография Гессе действительно двуедина в отношении жизни и творчества и, внешне неброская, исполнена сложнейших и трагичнейших напряжений и противоречий. Подчиняясь необходимости этого предназначенного для библиофилов издания, в жизнь писателя — «книгу за семью печатями, написанную изнутри и отвне», — мы попытаемся заглянуть в послесловии, которое связывает эту книгу со всем, что пережито и написано Гессе. А пока — в счастливый путь по малой библиофильской прозе писателя!
Выражаю глубокую признательность моим коллегам: С. К. Апту, О. В. Давыдову, А. В. Карельскому и H. H. Федоровой, которые любезно согласились прочитать перевод, статью и комментарии и на разных стадиях работы сделали ценные теоретические замечания и предложили поправки, существенно улучшившие издание.
А. Н.
О ВЫСТАВКЕ СОВРЕМЕННЫХ ИЗДАНИЙ[1]
За исключением последних двух десятилетий, в прошлом веке было выпущено очень немного особо красивых изданий, а книги, оформленной по-настоящему художественно, не вышло в свет практически ни одной. Но в том же столетии необычайно развилась и обогатилась графическая техника. Быстрое следование друг за другом новых изобретений, безостановочная конкуренция новых техник и некое особенное, тщеславное удовлетворение огромными успехами препятствовали, однако, спокойному росту художественности в книгопечатании. Нередко увлекались нагромождением новых полиграфических способов в одном и том же издании, печатали роскошные книги, похожие на рекламные каталоги крупных типографий, в которых пестрят, чередуются образцы цветной печати, цинковые клише, литографии, фотогравюры и т. п. Почти все эти напыщенные роскошные издания сегодня можно приобрести по сильно сниженным ценам в любой сравнительно большой книжной лавке. Но явлением, куда худшим, чем эта безвкусица, оправдываемая, впрочем, быстрыми и крутыми переменами в книжном производстве, было стремительное распространение древесной бумаги, дешевизна которой в два счета ликвидировала всякую конкуренцию. Наряду со многими книгами, гибель которых отнюдь не потеря, на этой бумаге было напечатано и немало важных произведений последних десятилетий. Уже сегодня найдется немало книг этого периода, рядом с которыми хорошие издания XV и XVI веков выглядят новыми и не пожелтевшими, тогда как многие книги нашего времени становятся нечитабельными и разрушаются за сто, а то и за пятьдесят лет.
Естественно, что и у публики и в самом книжном производстве должна была родиться потребность в более добротно напечатанных и более благородно оформленных изданиях. Первой возникла нужда в лучших материалах для изготовления бумаги, и поначалу эта нужда породила много новых промахов. Бумагу начали каландрировать и лощить так, что она стала походить на переплетный прессшпан. Такая ослепительно белая бумага была не прогрессом, а для зрения — скорее ядом, к тому же никто не знал, выдержит ли ее химический состав испытание временем. Может показаться странным, что мы так придирчиво требуем для своих книг гарантии долговременной белизны. Вопрос этот, однако, важный. Если бы для издания книг предыдущих столетий была использована та же бумага, что и для книг семидесятых и восьмидесятых годов, то до нас, вероятно, дошла бы в лучшем случае треть всей той литературы, и замечательные издания Альдов и Эльзевиров, которые и поныне свежи и сохранны, а по читабельности превосходят многие совсем еще нестарые книги, давно бы сгнили.
Почти все немецкие издатели — не просто фабриканты — вернулись ныне к бумаге без содержания древесины. Труднее было удовлетворить потребность в художественном оформлении книги. В этой области наиболее плодотворные импульсы и образцы наиболее здорового вкуса дала нам Великобритания. Начавшееся там движение за прикладное искусство, которое впитало в себя идеи Рёскина и неутомимо деятельного У. Морриса, сильно и благотворно повлияло и на книжную полиграфию. В самом деле — почему бы художникам, занимающимся проектированием мебели, обоев и домашней утвари, не заняться также и книгами?
Да, именно! Книга может быть оформлена художественно и не содержать при этом ни одного рисунка или «иллюстрации». Расположение строк, соотношение белого поля и покрытого печатью пространства страницы, подача заглавия и особенно гармония между цветом бумаги и цветом печати для эстетического впечатления куда важнее, чем «иллюстрации», которые зачастую могут быть очень художественными, но, не приведенные в гармоническое соответствие с печатью, все-таки мешать. Неизящно и незаботливо набранной книге не помогут иллюстрации хоть самого Клингера или Бёклина, напротив — несоответствие между книгой и иллюстрациями подействует неприятно.
Новый важный элемент современных книжно-оформительских тенденций попытки создать новые литеры. Последние годы этим занимались многие выдающиеся художники.
Рассмотрим-ка по этим главным пунктам образцы, выставленные издательством Дидерихса! Прежде всего бумага у него недревесная и шероховатая, и мы можем убедиться, что шероховатость эта приятна не только для пальцев, но и для глаз. А обратив внимание на литеры отдельных книг, наряду с привычной готической фрактурой и антиквой, мы обнаружим ряд попыток создать новые шрифтовые и числовые формы. Очевиден идеал этих новых литер слияние строгих и ясных «латинских» изображений букв с более раскованными и податливыми «немецкими». Очевидно также, что этот идеал, примыкающий скорее всего к так называемому «триумфально-готическому» шрифту, еще не достигнут. Современной литеры, которая по красоте и безыскусному благородству не уступала бы латинской литере (а именно — венецианской) ренессансных изданий, не существует.
Не будем, пожалуй, подробно останавливаться на обложках. У обложки сброшюрованной книги практически нет внутренней взаимосвязи с самой книгой, ибо книга требует переплета; бумажная обложка для книги лишь временная защита, и у оформления ее может быть лишь одна цель — возбуждение зрения, чтобы привлечь наше внимание к книге на витрине или в лавке. Что же касается переплетов, то несколько очень красивых выставочных экземпляров по своему материалу (большей частью это грубое полотно) и цвету кажутся ладными и солидными, они не навязчивы и не перегружены излишней роскошью. То, что в нескольких случаях использованы кричащие, яркие цвета, видимо, следствие практического соображения: темные и нежные колеры менее стойки, и в местах, обращенных к свету, они быстро выцветают.
Внутреннее оформление дидерихсовских книг заслуживает очень пристального рассмотрения и выдерживает его. У того, кто бросит лишь беглый взгляд на книжные развалы, возникнет, наверно, впечатление, что изготовление этих книг не только не предоставлено ни случаю, ни художнику, занимающемуся оформлением лишь время от времени, а является результатом личной работы издателя в создании всех художественных средств. У г-на Дидерихса есть не только вкус, но и приобретенное длительным, старательным штудированием знание доброй старины — книг и гравюр из лучших мастерских минувших столетий. Мы знаем, сколь долго и серьезно он всякий раз взвешивает, какими литерами и на какой бумаге набрать то или иное новое произведение. Ему хорошо известно, почему произведения мистика Метерлинка следует печатать иными литерами, чем естественнонаучные беседы Бёльше, и т. д. Он стремится отразить в печати хотя бы толику настроения, создаваемого текстом. Страницы и буквы книги для него не равнодушные посредники, а обитель или облачение духовного содержания, и он стремится, чтобы это облачение как можно более подходило содержанию, было ему стилистически родственным. А то, что в этом стремлении он порою заходит слишком далеко, понятно и простительно, ибо оформительское движение еще молодо. К сожалению, все книги выставлены в стеклянных витринах, а надо было бы пойти на риск нескольких возможных краж и выложить книги открыто. Ведь не исключено, что при виде раскрытых книг у кого-то возникнет желание полистать некоторые из них, и тогда книготорговец с удовольствием вручит своему клиенту один экземпляр для более внимательного ознакомления.
Почти все без исключения художники, творцы красивых форм для выставленных книг, — носители хорошо известных имен, и не нуждаются здесь ни в каких характеристиках. Наряду с Петером Беренсом, создателем новой литеры, назовем Б. Панкока, X. Фогелера, И. В. Циссарца, Фидуса, Р. Энгельса и Мельхиора Лехтера. Самый оригинальный и сильный иллюстратор Панкок все же несколько навязчив; Фогелер — самый тонкий и изящный, а Циссарц — наиболее приятный и удачливый.
(1901)
РАРИТЕТ
Несколько десятилетий назад один молодой немецкий поэт написал свою первую книжку стихов. То был сентиментальный, слабенький, неосмысленный лепет о любви, не имеющий ни формы, ни особого смысла. Читатель ощущал лишь вялое дуновение нежного весеннего ветерка и среди кустов с набухшими почками видел бледные очертания гуляющей девушки. Она была белокурой, нежной, одетой в белое и скиталась в сумерках по прозрачному весеннему лесу, — ничего более конкретного о ней не говорилось.
Поэту же это казалось достаточным, и, будучи не без средств, он храбро начал известную, трагикомическую борьбу за опубликование. Шесть знаменитых и несколько менее крупных издателей один за другим вежливо вернули страдающему в ожидании юноше его чисто переписанную рукопись. Их краткие письма сохранились, и по стилю они, в сущности, не отличаются от беглых ответов нынешних издателей; но все-таки они все были написаны от руки, то есть почерпнуты, видимо, не из предварительных заготовок.
Раздраженный и утомленный этими отказами, поэт выпустил стихи на собственные средства тиражом четыреста экземпляров. Книжечка объемом в тридцать девять страниц и французским форматом в двенадцатую долю листа была переплетена в толстую, изнутри шероховатую красно-коричневую бумагу. Тридцать экземпляров автор подарил своим друзьям, а двести передал своему книготорговцу для распространения, и эти двести экземпляров вскоре погибли во время большого пожара в магазине. Оставшиеся сто семьдесят экземпляров тиража поэт оставил у себя, и, что с ними сталось, неизвестно. Сборничек оказался мертворожденным, и поэт, видимо, прежде всего из экономических соображений, до поры до времени от дальнейших поэтических опытов отказался.
Однако семью годами позже он случайно набрел на способ изготовления ходовых комедий. Он рьяно приналег на это занятие, ему повезло, и ежегодно он начал выдавать по комедии, быстро и качественно, как недюжинный фабрикант. Театры были битком, в витринах красовались книжные издания его пьес, фотографии сцен из спектаклей и портреты сочинителя. Наконец-то он прославился, но свои юношеские стихи издавать не стал; наверно, потому, что теперь их стыдился. Он скончался в расцвете лет, и вышедшая посмертно краткая автобиография, оказавшаяся в его литературном наследии, приобрела у читателей большую популярность. И из этой автобиографии стало известно о существовании давно забытой юношеской публикации.
Минуло время, многочисленные его комедии вышли из моды и больше не ставились. Книжных изданий их можно приобрести сколько угодно, по какой угодно цене, преимущественно комплектами, в букинистических магазинах. А та маленькая книжечка-первенец, которая, вероятно, — и даже скорее всего существует лишь в тридцати раздаренных в свое время автором экземплярах, стала предметом неустанных розысков коллекционеров, отдающих за нее бешеные деньги. У букинистов в списках искомых книг она фигурирует ежедневно и, появившись в продаже всего четыре раза, вызвала среди книголюбов жаркое сражение депеш за обладание ею. Ибо, во-первых, на ее обложке знаменитое имя, во-вторых, это первая книга автора, да к тому же еще изданная на его собственные средства, и потом — более изощренным любителям интересно и приятно иметь в своей библиотеке томик сентиментальной юношеской лирики драматурга, знаменитого рутинерской холодностью.
Словом, на эту книженцию колоссальный спрос, и ее неразрезанный, в безупречном состоянии экземпляр считается настолько дорогим, что за ним охотятся даже некоторые американские коллекционеры. Из-за чего заволновались и ученые, уже написавшие о редкой книжечке две диссертации, одна из которых освещает ее с языковой стороны, а другая — с психологической. Факсимильное переиздание в шестидесяти пяти экземплярах, на повторную публикацию которого ни у кого нет права, давно распродано, и в библиофильских журналах вышли о нем уже десятки статей и заметок. Идет спор о том, сохранились ли избежавшие пожара те самые сто семьдесят экземпляров, уничтожил ли их автор, растерял или продал. Это неизвестно; наследники автора проживают за границей и к этому вопросу не выказывают никакого интереса. В настоящее время коллекционеры предлагают за экземпляр сей книжечки куда больше, чем за столь редкое первоиздание «Зеленого Генриха»[2]. Если же где-нибудь случайно всплывут проблематичные сто семьдесят экземпляров и каким-нибудь коллекционером не будут en bloc[3] уничтожены, то знаменитая книжечка обесценится и лишь чрезвычайно редко, да и то мимоходом и с иронией будет упоминаться в истории книголюбительства наряду с прочими забавными анекдотами.
(1902)
О НОВОЙ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ Предисловие к будущим ежемесячным литературным обзорам
Вот уже несколько лет, как Германия и немецкая пресса стали такими литературными, что смертельно серьезное отношение ко всем новым «направлениям» в нашей литературе, ее мучительнейший анализ и, словно у тяжелобольного, ежечасное прощупывание ее пульса вылились в настоящую моду. Точно, как на бирже, регистрируются и описываются малейшие движения от реализма к неоромантизму, от эстетизма к «новым кредо», от Ницше к Геккелю и т. д. Можно вообразить, что наши литераторы собраны строго по «школам», результаты их труда изолированы друг от друга, и для каждого из литераторов необычайно важно, к какому направлению он принадлежит.
В действительности выглядит все, к счастью, иначе. Писатели, если они чего-то стоят, заботятся ныне о всяких там направлениях и объединениях столь же мало, как и прежде; предводители и глашатаи новых литературных сект большей частью не писатели, а предприниматели, и слава их зиждется на умении заставить о себе говорить каких-нибудь пару месяцев или лет. Недюжинные старики, как, к примеру, мастер Вильгельм Раабе и другие, спокойненько жили себе год за годом, ни с кем не объединяясь, и, глядя на то, как одна за другой возникают и исчезают со сцены единственно спасительные школы, беззаботно продолжали создавать хорошие произведения. Еще решительней и определенней отгораживались от мира лучшие мастера и в изобразительных искусствах, где тоже процветает сектантство. Знакомясь с каким-нибудь человеком, я, естественно, стараюсь узнать его подлинную сущность, темперамент, характер и настроение в первую очередь по взгляду, речи, чертам и выражению лица, а не спрашиваю о его вероисповедании, политических взглядах, группировке, к которой он, возможно, принадлежит, и т. д. Зачем же поступать иначе с писателями и их книгами? Отличительное и ценное в них как раз не направление и манера, роднящие их с таким-то и таким-то количеством литераторов, а новое, собственное, личное. Какая польза мне знать, что тот-то и тот-то символист, натуралист, ученик Метерлинка или друг Стефана Георге? Мне интересно, есть ли у него своя манера жить и видеть, художник ли он или только виртуоз, создает ли он нечто живое или только пускает мыльные пузыри, есть ли в его языке личный аромат и ритм. Я хочу знать, способен ли он сообщить мне что-либо ценное, может ли его книга быть для меня другом и утешителем или она годится только для времяпрепровождения, есть ли в ней кровь и душа или она не более, чем просто книга.
Так что пусть классифицируют по модным девизам парижане и берлинцы, равно как и судят о толпе ловких виртуозов и профессионалов, чье искусство лишь в том, чтобы взвешивать слова как золотую пыль и малое вино наливать в драгоценные сосуды. Тем самым мы, однако, не отказываемся от сопоставлений и сравнений, как и от возможности при случае подметить ощутимые влияния, что оказывается иногда чрезвычайно интересным. С недоверием относимся мы и к авторам, демонстрирующим не партийную программу, а поддельное простодушие отечественных писателей[4] и с гордой скромностью именующим себя мекленбуржцами, гессенцами или швабами. У настоящего писателя национальная принадлежность видна и без ее сознательного подчеркивания. Средоточием своих произведений настоящий писатель редко делает провинциальные и местнические моменты, он обращается скорее к более глубокому человеческому началу, привнося национальные особенности, используя их как средство создания тонкого очарования, нюансов и углубления достоверности.
С такой точки зрения многие литературные знаменитости, возможно, теряют в значении и ценности, хотя наша повествовательная литература в целом, о чем здесь и идет речь, отнюдь не бедна новыми отрадными явлениями. Отдельные имена и произведения будут темой последующих ежемесячных обзоров. Здесь же мы выскажем лишь несколько общих соображений.
В результате развития двух новейших главных течений нашей литературы, натуралистического и эстетико-артистического, а также расширения области материала, возросла техническая тщательность, прежде всего в языке и в искусстве композиции. В среднем значительно окрепли навыки, что хотя в сущности и отрадно, но, конечно, тесно взаимосвязано с избытком технически хороших, однако в человеческом и культурном отношении бессодержательных произведений.
Но речь отнюдь не просто о расширении области материала. Особенно в романе отрадно наблюдать, как пошатнулось самодержавие любовных историй. Писатели все чаще идут на риск, рассказывая целые биографии и создавая романы, содержание которых не «история», а развитие личности, вся человеческая жизнь, душевные рост и борьба. Почти совершенно новая область и психологически углубленные детские истории. К этому чудесному материалу крупные писатели с радостью обращались во все времена, но только отдельные писатели, и ограничивались они преимущественно автобиографиями. Однако с тех пор, как жизнь ребенка столь тщательно и увлеченно изучается педагогами и психологами (Прайером, Салли и другими), с новой радостью вступила в исполненную предвкушений страну детства также и литература.
В последнее время эстетики то и дело заводили речь о том, что роман как художественная форма начал стареть и даже изжил себя. Такие прорицательские заявления, кажется, очень любы теоретикам, и они в них периодически нуждаются. И в самом деле я не мог бы назвать другого десятилетия в истории литературы, которое породило бы столько хороших романов, как последнее. Но даже если об этом не говорить, даже если выйдет из моды само слово «роман», что из того? Возможно, что какой-нибудь другой теоретик вскоре обнаружит, будто чтение книг вообще уже устарело и в ближайшее время прекратится вовсе. Тенденция к этому растет! Но то, что люди будут рассказывать друг другу о пережитом и о том, что из него удержали они для души, не прекратится никогда, пока есть на земле жизнь. И всякий раз среди этих людей будут находиться такие, для которых пережитое — выражение и символ изначальных законов мира, такие, которые в преходящем усматривают вечное, а в переменчивости и случайности — следы божественного и совершенного, и как эти сочинители назовут свои произведения, романами ли, откровениями, душевными историями или как-то еще, будет не особенно важно.
Если же, конечно, понимать под «романом» преимущественно роман развлекательный, сиречь произвольно выдуманную историю, то тезис об устаревании будет менее бессмыслен. И в этой области ситуация действительно стала намного лучше. По сравнению, скажем, с 80-ми годами у нас появилась не столько лучшая литература, сколько более образованная, более литературная публика. Чисто развлекательных романов, имевших огромный успех, в последние годы у нас почти что и не было. А все, что пользовалось успехом, было довольно ценным и в литературном и в человеческом отношении. Тот же факт, что Френссен и Байерляйн издавались в десять раз больше, чем Келлер и Мёрике, вопрос уже иного порядка. Большая публика предпочитает свои книги не искать, а брать то новое, что плывет в руки само собой, и ценит книгу тем выше, чем больше она кажется ей современной.
А в таких произведениях в последнее время недостатка не было. Большинство новейших хороших романов полностью подлаживалось под современные течения и современные культурные проблемы, и авторы некоторых книг обязаны своим успехом лишь темпераментному подходу к проблемам и потребностям нашего времени. Выходили даже исключительно тенденциозные книги, и не самые плохие. Отраднее и благороднее были, однако, те немногие, чьи авторы стремились выразить не столько современное, сколько извечно человеческое. Кто же является только литератором, только наблюдателем и повествователем, правильно делает, что не преступает круг современного, интересного; подлинный писатель всегда затронет нас тем глубже и тем больше обогатит нас, если облечет в звуки древнюю песнь творения и человеческих чаяний.
Относительно редкими в новейшей романной продукции были создания чистой фантазии, те обольстительные — и не менее опасные разновидности литературных произведений, в которых нет непосредственной связи с жизнью наших дней и даже в известном смысле со временем и местом; мастерами таких творений были наши ранние романтики. Кажется, что после какого-то периода переоценки чисто литературного элемента взошла новая радость от изображения фактического, реального, которая очень ощутимо проявляется и в склонности к народному.
В области новеллы и короткого рассказа можно указать на два между собою в сущности различных основных направления. Одно клонится к упразднению строгой новеллистической формы, к эскизному, фрагментарному живописанию настроения, к образам, схватывающим мгновения. Другое же направление полагает ценность в завершенности, в сохранении и дальнейшем развитии классической новеллистической техники, в строгой экономии средств, создающих напряжение, короче — в композиции. В обоих жанрах есть мастера слова, которыми можно восторгаться, но которым, чувствуется, грозит непосредственная опасность впасть в виртуозный артистизм, уже испортивший много недюжинных дарований. Несколько мастеров в этой деликатной области, несколько хороших новеллистов, два или три хороших рассказчика анекдотических историй есть, но их немного. В среднем же уровень здесь не особенно высок, и большинство вещей, которые созданы ныне в этом жанре, не более чем газетный очерк.
Пусть этот этюд будет предисловием к будущим ежемесячным обзорам. Мне хочется, чтобы он прозвучал не как критика, не как взвешивание слов, а как выбор и характеристика лучшего из всего нового. Хорошо бы мои старания были поддержаны и публикацией фрагментов для ознакомительного чтения. И эту деятельность я начинаю с радостным убеждением, что хороших произведений из года в год появляется отнюдь не так мало, как это зачастую считается, и что в нашем народе заметно растет радость от подлинных, истинно хороших произведений.
(1903)
ОБРАЩЕНИЕ С КНИГАМИ
О чтении
Вот уже почти пять веков печатная книга — один из своеобразнейших и могучих факторов в культурной жизни Европы. Едва ли найдется другое, относительно молодое искусство, без которого для нас настолько не представима современная жизнь, как книгопечатание. При этом Германия, как это часто бывало, играет трагикомическую двойную роль: подарив миру изобретение печатного искусства и одни из лучших и благороднейших оттисков, она, однако, чуть ли не сразу отказалась от последующих лавров, и в печатном деле — как и в покупке красивых книг — уже около трех столетий далеко отстает от других стран, особенно Англии и Франции. Но в новейшее время в этой давно заброшенной у нас области ощущается прилив немалых новых сил, несомненно порожденный потребностями и нуждами народа. «Дом без книг» постепенно перестает быть правилом, и мы надеемся, что вскоре он будет все более редким исключением.
В Германии писали, печатали и читали, конечно, много во все времена, и, возможно, даже больше, чем за границей. По сравнению с другими странами, у нас лучше, чем где бы то ни было, организована книготорговля, и самая надежная библиография — немецкая; но забота о книге, радость от книжного собирательства и обладания красивой домашней библиотекой, отобранной личным вкусом, — вещь у нас еще далеко не всеобщая и не естественная, по крайней мере в неученых кругах. Но она неотъемлемая и важная деталь всякого культивированного образа жизни, и, вероятно, стоит немного поговорить об этом. Обращение с книгами, искусство чтения столь же достойны умной, радостной заботы и столь же необходимы, как и всякая другая отрасль искусства жизни.
Если книги не рекомендованы и не навязаны текущей модой, то неученый человек испытывает перед ними зачастую такой же необоснованный страх, как и перед произведениями изобразительного искусства. Он чувствует, что «ничего в этом не смыслит», он не доверяет собственным суждениям и, чтобы не покупать и не читать никаких книг, пугливо обходит стороной все книжные лавки, или что бывает чаще — при случае тем неизбежнее попадается в сети назойливого книгоноши, оказываясь в один прекрасный день владельцем дорогостоящих, красиво позолоченных, роскошных томов, с которыми неизвестно что делать и которые вскоре при каждом взгляде на них начнут вызывать раздражение.
Вряд ли найдется человек — если только он не вырос среди книг, — не нуждающийся в известном воспитании, а при случае и в поучении. И здесь, как и во всем, главное — не знание, а желание, не готовое суждение, а восприимчивость, честность, непринужденность. С определенных высот жизни, достижимых для всякого, кто к ним стремится, границы между искусствами и областями знания стираются: нет исторических периодов и жанров, нет драм и пьес — видны лишь произведения искусства. С этой точки зрения никто уже не воспользуется такими расхожими, свидетельствующими о лени фразами, как «я из принципа не читаю современных романов» или «я принципиально не хожу на пантомимы» и т. п. Каждый, независимо от того, разбирается он в искусствах или нет, будет смотреть тогда на вещи более непринужденно и — только руководствуясь тем, говорят ли и значат ли они для него нечто прекрасное, обогащают ли они его жизнь чувствами и мыслями, открывают ли новые источники силы, хорошего самочувствия, радости или размышлений. При чтении книги, равно как и при слушании музыки или созерцании ландшафта, он не будет сообразовываться ни с чем кроме желания почерпнуть для себя нечто новое, радостное, незабываемое, стать в результате чуть богаче, оптимистичнее или умнее; и ему будет почти безразлично, кому он обязан этим новым, этим обогащением и углублением: стихотворцу ли, философу, трагику или остроумному собеседнику.
На такую точку зрения стать много легче, чем принято думать. Нужно только отбросить смущение, презрительность или испуг, равно как и дутую предвзятость и всезнайство. Тем самым будет почти сделан решающий шаг к действительному «собственному мнению». Не существует списка книг, которые надо обязательно прочесть и без которых нет благодати и образования! Но для каждого человека существует значительное число книг, которые могут доставить ему удовлетворение и наслаждение. Эти книги следует подбирать исподволь, вступая с ними в длительные отношения, приобретая их одну за другой по мере возможности в постоянную, внешнюю и внутреннюю собственность, что для каждого человека задача исключительно личная, пренебречь которой значит сильно сузить круг своего образования и своих наслаждений, а вместе с тем и ценность своего бытия. Но как же прийти к этому? Как в грудах книг, составляющих всемирную литературу, отыскать одну-другую или несколько дюжин авторов, которые особенно ценны и отрадны? Этот дежурный вопрос звучит обескураживающе и пугающе, и многие предпочитают сразу же сложить оружие и отказаться от части образования, которое, судя по всему, столь труднодоступно.
Но те же самые люди ежедневно находят время и силы для чтения одной или нескольких газет! И девяносто процентов газетных статей читают они не из интереса, не из потребности, не для удовольствия, а просто по старой дурной привычке — «надо же читать газеты!» Автор этих строк не читал в свои школьные годы ни одной газеты, за исключением нескольких номеров в дороге, и не стал от этого не только ни беднее и ни глупее, а сэкономил для лучшего многие сотни и тысячи часов. Любители газет не знают, что если взяться за дело планомерно, то по меньшей мере половины времени, затрачиваемого ими ежедневно на чтение, хватило бы, чтобы познакомиться с сокровищами жизни и истины, накопленными в книгах учеными и писателями.
Подобно тому, как по учебнику ботаники ты не много узнал об особенно любимом дереве или цветке, ты вряд ли сумеешь опознать или выбрать по учебнику истории литературы или теоретической работе книги, которые станут для тебя любимыми. Но человек, приучившийся по возможности ежедневно осознавать истинную цель каждого своего поступка (а это основа всякого образования), вскоре и к чтению научится применять сущностные законы и различия, даже если он ориентируется поначалу только на газеты и журналы.
Заложенные в книгах мысли и характеры авторов всех времен не что-то мертвое, а живой, совершенно органичный мир. Очень даже возможно, что и без всяких литературных познаний, будучи лишь внимательным и достаточно тонко чувствующим читателем, человек самостоятельно найдет дорогу от своей ежедневной газеты к Гёте. С той же удивительной уверенностью, с какой отыскиваешь ты в толпе двух сотен знакомых несколько человек, годящихся тебе в друзья, откроешь ты и в пестрой газетной или журнальной мешанине тона и голоса, которые могут сказать тебе что-то существенное и которые, если последовать за ними, приведут затем и к другим отрадным именам и произведениям. Среди тысяч читателей «Ёрна Уля»[5] многие безусловно обнаружили, что в этой книге наиболее существенно, и затем открыли для себя, что некоторые другие, более крупные писатели, Вильгельм Раабе, например, изобразили это наиболее существенное еще чище и изящнее. Большинство знают о Раабе только то, что он немного пространен и порою трудно читается. На самом же деле Раабе и вполовину не столь пространен и вполовину не столь трудно читается, как Френссен, только он, к сожалению, не моден. И так же обстоят дела со многими книгами, популярными сегодня, — у них у всех есть менее известные, но более ценные образцы. Их-то и нужно искать, чтобы вскоре обрести понимание высоких законов всякой литературы.
Я знаком с одним мелким ремесленником, у которого есть целая полка книг, и среди них произведения Раабе, Келлера, Мёрике и Уланда. Как пришел он к этим писателям, счастливым обладателем и частым читателем которых он ныне стал? Однажды в «Берлинер цайтунг», попавшей к нему в виде обертки, он случайно наткнулся на парочку стихотворений и маленький очерк одного современного писателя. Слова писателя запомнились ему, и подобные вещи он начал читать с жадным и обостренным вниманием, и этот однажды пробудившийся интерес безо всякой помощи со стороны повел его дальше — к Уланду и Келлеру.
Это только один пример и, возможно, исключение. Он показывает, что к более высокому чтению можно прийти и от газет. Вообще же газета, конечно, один из опаснейших врагов книги, и не только потому, что за небольшую плату она якобы много дает; и не только потому, что чересчур много отнимает времени и сил; опасна она и тем, что своей безликой мешаниной портит вкус и способность к тонкому чтению у тысячи людей. Безвкусица, введенная в моду газетами и по-прежнему недостаточно критикуемая, современный моветон — также и чтение сочинений и романов «с продолжениями».
Автора, которого ценишь, никогда не следует позорить таким чтением. Надо покупать его произведения в форме книги или по крайней мере дождаться, чтобы собрались все номера, разнесшие его сочинение на куски, и прочесть целое, не прерываясь.
Кому не безразлично, с какими людьми общаться, кто для своего окружения выбирает людей предпочтительно симпатичных, кому не все равно, как и где он живет, как одевается, кто считает важным характер и тип своих основных жизненных привязанностей, тот обязательно должен иметь и личное, дружелюбно-доверительное отношение к миру книг и выбирать себе чтение, следуя собственному независимому, индивидуальному вкусу и собственным потребностям. Здесь властвует еще слишком много несвободы и неразборчивости, иначе бы из двух равноценных книг одна не оставалась бы совершенно без внимания, как это случается ежегодно, а другая не продавалась бы сотнями тысяч экземпляров благодаря случайности моды.
Для ценности, какую может иметь для меня книга, прославленность и популярность ее не значат ровным счетом ничего. Замечательная книга Эмиля Штрауса «Дружище Хайн» знаменита и всем известна, а не менее прекрасный «Хозяин-ангел» того же автора навечно застрял на первом издании. То есть «Дружище Хайн» читается не потому, что Штраус значительный писатель, а потому, что именно эта его книга случайно стала известнее, чем другие. Но книги существуют не для того, чтобы за какое-то время быть прочитанными всеми, дать расхожую тему для беседы и кануть затем в Лету, подобно актуальному репортажу о спортивном событии или убийстве с ограблением, а для того, чтобы спокойно и серьезно наслаждаться ими, любить их. Лишь тогда обнаружат они свою внутреннюю красоту и силу.
Потрясающе усиливается воздействие многих книг, когда они прочитываются вслух. И это касается необязательно только стихотворений, небольших рассказов, изящных коротких эссе и тому подобного. Попробуйте сделать это хотя бы с «Легендами» Готфрида Келлера, «Картинами из немецкого прошлого» Фрайтага, новеллами Шторма или с двумя лучшими современными сборниками маленьких историй — «Фантазиями реалиста» Линкойза и «Принцессой Востока» Пауля Эрнста. Более объемные произведения, большие романы, раздробленные при чтении вслух на слишком многие части, теряются и становятся утомительными. При хорошем чтении вслух подходящих для этого произведений учишься чрезвычайно многому: обостряется прежде всего чувство скрытого в прозе ритма, составляющего основу всякого личного стиля.
Только лишь разовое, обязательное чтение или чтение из любопытства никогда не приносит настоящей радости и глубокого наслаждения, давая в лучшем случае мимолетное, быстро проходящее напряжение. Но если какая-нибудь книга при первом, возможно даже случайном, знакомстве произвела на тебя достаточно глубокое впечатление, то некоторое время спустя не премини прочесть ее еще раз! Удивительно, как при повторном чтении проступает ядро книги, как после спада чисто поверхностного напряжения становятся очевидны внутренняя жизненная ценность, своеобразие красоты и сила изображения. И книгу, которую ты прочел с наслаждением дважды, нужно купить обязательно, даже если это будет недешево. Один из моих друзей никогда не покупает книг, не прочтенных им прежде с удовлетворением один или два раза, и у него целая стенка книг, которые он почти все без исключения перечитывал многократно, полностью или частично. Новеллы флорентийца Саккетти, которые он особенно любит, были прочтены им более десяти раз. Я сам по нынешний день четыре раза прочел «Зеленого Генриха» Готфрида Келлера, семь раз «Сокровище» Мёрике, три раза «Дорожные тени» Юстинуса Кернера, шесть раз «Бездельника» Эйхендорфа, по четыре-пять раз большинство рассказов из турецкой «Книги попугая»[6], и всякий раз, видя эти книги на полке, я радостно предвкушаю тот день, когда буду читать их вновь. Необходимо иметь собственный экземпляр каждой такой книги. Утверждая это, мы подходим к разговору о покупке книг. Последняя в наши дни перестала уже, к счастью, быть спортом чудаков и бесполезной роскошью: люди все больше сознают, что обладание книгами это нечто отрадное и благородное, что иметь собственный экземпляр книги и брать его в руки, когда заблагорассудится, — наслаждение несравненно большее, чем одалживать ее где-то или у кого-то на несколько часов или дней. Однако еще ежедневно встречаются списки имущества по наследству, в которых серебряной посуды перечисляется на тысячу марок и на двадцать марок книг. Для состоятельного человека не иметь библиотеки должно быть позором точно таким же, как не иметь фарфора и ковров. В каждом богатом доме, по которому меня проводит владелец, я обычно спрашиваю: а где ваши книги? — и людям, у которых больше денег, чем у меня, я не даю читать книг. Тот же, кто живет на средства умеренные, будет поступать, вероятно, правильно, покупая только такие произведения, которые настоятельно рекомендованы ему близкими друзьями или которые он уже знает и ценит и о которых ему точно известно, что он возьмет их в руки не однажды. Для знакомства и первоначального чтения можно повсюду воспользоваться публичными библиотеками, и, кроме того, почти все новые книги выставлены в книжных магазинах. При умеренных потребностях, помимо прочего, рекомендуется поддерживать регулярную связь с каким-нибудь недюжинным книготорговцем. Немецкие ассортиментные книготорговцы, которых зачастую очень несправедливо ругают, своими советами, подборками, справками относительно неточно или неверно объявленных книг и сотнями других мелких услуг оказывают читательским кругам и тем самым нашей духовной жизни содействие, воистину достойное признания.
Давать определенные советы, что читать и покупать каждому отдельному человеку, естественно, невозможно. В этом деле каждый должен следовать собственному разумению и вкусу. Нередко предпринимались попытки составить список тысячи или сотни «лучших» книг, что для частных библиотек, разумеется, не имеет никакого смысла. Еще раз следует подчеркнуть, что первыми добродетелями читателя должны быть свобода выбора и непредвзятость мнения. Часто слышишь и от очень умных людей, что чтение стихов — это пустая трата времени и годится разве что для подростков; большинство этих людей думают, что читать следует только поучительные, научные книги. Но целые народы и эпохи излагали свою сокровищницу поучения и знаний исключительно в стихах! Есть множество стихотворений, сказок и драм, в которых глубины, ценности и даже пользы для повседневной жизни содержится больше, чем в бесчисленных учебниках, и, с другой стороны, есть научные труды, чей стиль и способ преподнесения столь личны, свежи и полнокровны, что могут равняться с лучшей художественной литературой. Книги Данте и Гете можно читать как философские произведения, а философские эссе Дидро как формально совершенные стихотворения.
Одинаково несостоятельны и неправильны как и чрезмерный трепет перед академической ученостью, так и однобокое превознесение чисто поэтических произведений. На наших глазах почти ежегодно один-два замечательных таланта покидают академии и кафедры, чтобы, облегченно вздохнув, посвятить себя свободной литературе с ее более обширным радиусом действия, и наоборот — как часто мы видим довольно способных писателей, которые с жарким рвением сосредотачиваются на чисто научной работе. Тот, у кого есть что сказать хорошего и кто способен облечь это хорошее в новую, прекрасную, своеобразную форму, должен благодарно приветствоваться нами независимо от того, пишет ли он при этом «Вильгельма Мейстера» или «Культуру итальянского Возрождения»[7].
Странно наблюдать, как стыдливо и боязливо скрывают свои литературные пристрастия нередко даже довольно образованные люди: один из моих знакомых, который обычно высказывается довольно свободно, без обиняков, как-то в разговоре со мной лишь после длительных колебаний признался, что роман К. Ф. Майера, взятый у меня для прочтения, ему не по вкусу. Он боялся опозорить себя этим, ибо знал, что Майер — признанная знаменитость. Но при чтении совсем не важно несовпадение личных мнений с общепринятыми, важна лишь радость от умножения своих внутренних богатств еще одним новым, полюбившимся сокровищем! А другой знакомый как-то открылся мне, да так робко, будто винился в преступлении, что для него нет чтения любимее, чем сочинения Жан Поля, которые считаются устаревшими. Но именно то, что, читая их, он испытывает сокровенную радость, пусть даже он в ней одинок, достаточное доказательство того, что Жан Поль не устарел и не умер, а по-прежнему живет и волнует.
Вся эта боязливость, это недоверие к собственному вкусу, этот безграничный страх перед суждением знатоков и специалистов — явления почти всегда плохие. Не существует сотни лучших книг или авторов! Нет вообще никакой абсолютно точной, неопровержимо верной критики! Подбитый ветром бездумный читатель, набредя на какую-нибудь книгу, бывает восторженно хвалит ее, чтобы затем, при новом свидании с нею, отказаться понимать себя самого и стыдливо умолкнуть. Но тот, у кого с книгой отношения доверительные, кто перечитывает ее вновь и вновь, испытывая всякий раз новую радость и удовлетворение, может спокойно полагаться на собственное чувство и не портить себе радость никакой критикой. Есть люди, которые всю жизнь с наслаждением читают сборники сказок, и есть другие, которые отбирают сказки даже у своих детей, держат их подальше от такого чтения. Прав всегда только тот, кто следует не принятым нормам и шаблонам, а собственному чувству и сердечному влечению. Поэтому я обращаюсь отнюдь не к тем, кто читает все подряд. Есть ненасытные, которые даже обрывка газеты не выпустят из рук, не прочтя его, которые читают как заведенная машина — неважно что, — будто воду наливают в сито. Этим обжорам советами не поможешь, их изъян коренится не в манере чтения, а глубже — в самом их характере; они неполноценны и как люди. Полезными и приятными не сделает их никакая, даже самая утонченная методика чтения. Но достаточно много серьезных мужчин и женщин, которым в искусстве и литературе требуется помощь, которые просто, но тщательно культивируя чтение становятся жизнерадостнее и внутренне богаче. И неуклонно следуя своим внутренним потребностям, не заботясь о моде и сохраняя верность своим советчикам, они получат настоящее литературное образование быстрее и увереннее, чем слишком трепетно прислушиваясь ко всякой влиятельной критике. Тональность, которая им полюбилась в произведении молодого автора, ученика или подражателя, они будут с радостью обнаруживать у других, и, оттачивая свое чутье, прокладывая путь в направлении, где эта тональность звучит чище и полнее, они придут к самому мастеру. И тогда они, может быть, с удивлением обнаружат, что мастера знают немногие, в то время как его последователь и, возможно, незначительный подражатель благодаря случайному успеху читается всеми и вся. Кто собственными стараниями дошел до таких подлинных мастеров, как Г. Келлер, Мёрике, Шторм, Енс Петер Якобсен, Верхарн, Уолт Уитмен, владеет ими лучше, чем самый ученый знаток. Такие открытия на собственном пути не только укрепляют веру в личную способность суждения, но и сами по себе — восхитительнейшая и чистейшая радость, какую только можно пережить.
С чтением дело обстоит точно так же, как и со всяким другим наслаждением: оно всегда тем глубже и устойчивей, чем искреннее и любвеобильнее мы ему предаемся. С книгами надо поступать, как со своими друзьями и любимцами, ценить каждую за своеобразие и не требовать от нее ничего чуждого этому своеобразию. Книги следует читать не когда попало, не в любое время, не слишком быстро каждую и не одну за другой, а лишь в часы, наиболее благоприятные для восприятия — на досуге и в уюте. Любимые книги, язык которых звучит для нас особенно нежно и импонирующе, хорошо бы время от времени читать вслух.
Произведения иноязычных литератур надо бы, конечно, по возможности, читать на языке оригинала и пытаться сохранить это обыкновение, если оно не сопряжено с существенными потерями. Но при этом нельзя впадать в крайность и поступать только так. Иностранная литература, язык которой нам не привычен и затруднителен, в хороших переводах читается обычно лучше и с большей пользой, чем в оригинале. Читать на языке оригинала Данте, или Шекспира, или Сервантеса могут немногие, и все же наслаждаются ими тысячи. Бесплодно и опасно лишь торопливое копание во многих литературах, жадная погоня за все новыми, небывалыми прелестями, которые ныне сулятся персидскими сказками, завтра скандинавскими сагами, послезавтра современным американским гротеском. Кто читает нетерпеливо, с пятого на десятое, пригубляя и то и это, стремясь постоянно только к самому пикантному, самому лакомому, самому отменному, вскоре утратит чувство стиля и красоты изображения. Читатели, производящие зачастую впечатление утонченно образованных знатоков искусства, почти все в конце концов опускаются до восприятия лишь фактуры или до неполноценных литературных «изысков». Так не лучше ли противоположность этой неустанной суеты и вечной погони, не лучше ли оставаться на длительное время с произведениями одного и того же писателя, одной и той же эпохи, одной и той же школы?! Владеешь по-настоящему только тем, что знаешь основательно. Кто читал только трех-четырех наших лучших авторов, но зато полностью и многократно, духовно богаче и образованней, чем тот, кто гонимый зудом любопытства проглотил кучу отрывков и фрагментов литератур всех времен и народов. Знать немного книг, но зато досконально — чтобы, лишь взяв их в руки, вновь оказаться во власти чувств и мыслей, пережитых за бесчисленные часы чтения этих книг, — благороднее и отраднее, чем засорять голову ворохом смутных воспоминаний о тысячах книжных заглавий и писательских имен.
И все же есть тип литературного образования, отношения на «ты» с самым лучшим, фундамент суждения, которые складываются из понимания лишь всей литературы как органического целого и доступны тем не менее каждому, кто захочет потрудиться. Прочитав историю всемирной литературы, этого, конечно, не достигнешь — поможет здесь только непосредственное знакомство с лучшими авторами былых времен, пусть даже в переводах и скупых антологиях. Не нужно знать много греков и римлян, но тем внимательнее следует читать нескольких избранных. Для начала хватит тщательного прочтения хотя бы одного из гомеровских гимнов, хотя бы одного произведения Софокла. Точно так же надо бы знать небольшую подборку из Горация, римских элегиков и сатириков (для чего очень рекомендуется «Книга классических стихотворений» Байбеля) и несколько латинских писем и речей. Из литературы раннего средневековья следовало бы взять в первую очередь «Песнь о Нибелунгах» и «Кудруну», а затем — несколько сборников фаблио, саг, народной поэзии, одну или несколько хроник. Затем — Вольфрама фон Эшенбаха («Парсифаль»), Готфрида Страсбургского («Тристан»), Вальтера фон дер Фогельвайде! Старофранцузские сказания собрал и перевел А. фон Келлер. Данте, чья «Божественная комедия» действительно доступна лишь немногим, написал также не слишком трудную для чтения «Новую жизнь» — рассказ о его отношениях с Беатриче, рисующий более интимный образ этого поэта. Старых итальянских новеллистов, которые сами по себе изящны и развлекательны и важны как образец всего последующего новеллистического искусства, в отличном подборе и переводе предлагает вниманию читателей Пауль Эрнст в своем издании «Староитальянские новеллисты».
Вокруг так называемых «классиков» процветает слишком много лицемерия и поверхностного культа. Но хорошо знать самых великих необходимо, прежде всего — Шекспира и Гёте. В последнее время стало глупой модной болезнью говорить с некоторым пренебрежением о Шиллере, и это нельзя обойти молчанием. Незаслуженно оттеснен на задний план и Лессинг. О великих писателях не следует читать ничего или почти ничего по крайней мере до тех пор, пока не узнаешь этих писателей из их же произведений. Чтением монографий и жизнеописаний легко испортить чудесное наслаждение самому вычитать характер великого человека из его произведений, самому составить представление о нем. И вслед за художественными произведениями нельзя пренебречь писательскими письмами, дневниками, беседами — например Гёте! Если первоисточники близки и удободоступны, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вы их получали из вторых рук. Если читать биографии, то только самые лучшие, число плохих велико, и имя им легион. И тем самым мы вступаем в область «книг о жизни». В самом широком смысле под ними подразумеваются книги, в которых выдающийся, замечательный, достойный подражания человек высказывается об искусстве жизни и великих вечных вопросах бытия то в форме теоретического поучения, то повествуя о собственных переживаниях и делясь собственным мнением по данному предмету. К последнему жанру принадлежат, таким образом, все книги, содержащие письма, дневники, воспоминания незаурядных, хороших и умных людей. К этому жанру относится, вероятно, почти треть значительных произведений всех времен. Среди новейших образцов этого жанра следует наверно, выделить семейные письма Бисмарка, «Былое» Рёскина, переписку Готфрида Келлера, подборку из Леонардо да Винчи, сделанную Херцфельдом, письма Ницше, переписку Роберта Браунинга и Элизабет Барретт. Кто уже начал поиски и продолжает их, откроет множество сокровищ.
Сюда же можно причислить научные и эссеистические произведения выдающихся писателей, интересность которых удваивается своеобразием личности, мировоззрения автора и при чтении которых познаешь не только сам предмет, но и в не меньшей мере также и значимость, ценностное своеобразие личности сочинителя. К произведениям такого рода относятся, например, «Культура итальянского „Возрождения“» Буркхардта, «Камни Венеции» и «Сезам и лилии» Рёскина, «Возрождение» Патера, «Герои, культ героев и героическое в истории» Карлейля, «Философия искусства» Тэна, «Psyche» Роде, «Основные течения» Брандеса.
И наконец, особые сокровища этой категории — истинно глубокие, мастерские биографии, каких не очень много. Есть несколько жизнеописаний, в которых изображаемый герой обрел конгениального изобразителя, в которых живое и сокровенное личное при обработке не только не теряет, но и выигрывает в весомости и воздействии тем, что автор, с глубоким пониманием и умом преподносящий материал повествования, подобно недюжинному ювелиру помещает драгоценный камень, используя фон и оправу, в единственное правильное, ярчайшее и благороднейшее освещение. Чтобы привести несколько имен, назову такие произведения, как «Веласкес» Юсти, «Франциск Ассизский» Сабатье, «Дюрер» Вёльфлина, «Мысли о Гёте» Хена; сюда же относятся рассуждения Рикарды Хух в ее «Расцвете романтизма», а также Хеттнера в «Истории литературы восемнадцатого века».
Всегда существовали и такие писатели, чья личность оказывалась сильнее и темпераментней их стремления к стилизации и объективности, из-за чего их книги импонируют как личные обращения, беседы и исповеди. У этих сочинений, в художественном отношении порой отнюдь небезупречных, есть особая прелесть и ценность. Их авторы чаще всего натуры с нестандартным мышлением, со всевозможными закавыками; им не по нраву шлифовка ради высшей художественной объективности. Что-то от этой свежести есть у Вильгельма Раабе и Петера Розеггера, а также у Фрица Линхарда. Но более типичные примеры такого склада — Ф. Т. Фишер в своем грубовато смелом, беспощадно ироническом романе «Еще один» и Мультатули (голландец Э. Д. Деккер) в «Максе Хавелааре». Эти выдающиеся художественные произведения в еще большей мере документы мощных, самобытных характеров, к которым неприменимы никакие шаблоны.
«Книги о жизни», многие из которых расположились в стороне от общеизвестной литературы в ожидании, когда их отыщут, составят безусловно одну из ценнейших радостей и задач для образованных книгочеев. И по наличию таких книг увереннее всего можно судить о характере библиотеки и ее владельца.
Книга
Собственно «книголюбительство» начинается лишь по другую сторону предыдущих рассуждений и может быть названо деликатнейшим спортом. Оно предполагает расширенные познания и совершенно особые склонности. Большинство любителей и собирателей ограничиваются старанием составить наивозможно полную коллекцию книг определенных авторов или определенных, точно разграниченных эпох и направлений или собирают подряд все, что было написано на какую-то тему в течение одного столетия, и при этом причуд, смехотворного честолюбия и соперничества хоть отбавляй.
Особое любительство, например, собирание старейших образцов книгопечатного искусства (примерно до 1500 года), а также изданий с виньетками и рисунками определенных художников, граверов и ксилографов; книг мельчайших форматов (с микроскопической печатью) и старинных ценных оттисков. Другие собирают книги с рукописными посвящениями авторов и тому подобное. Человеку же, у которого нет особых склонностей к одной из таких специальных областей и который не хочет оказаться дилетантом, лучше бы воздержаться от участия в этом спорте, доведенном всемирно известными собирателями и великими букинистами до сверхутонченного искусства.
Изысканное и не ограниченное собственно библиофилией любительство собирание произведений любимых писателей в ранних и по возможности первых изданиях. Для действительно сверхутонченных книголюбов-гурманов наслаждение, исполненное сокровеннейшего смысла, — читать и иметь любимую книгу в первом издании, в котором бумага, буквы и переплет не только излучают особое настроение, аромат времен напоминая своим видом об эпохе возникновения литературного произведения, но и радуют мыслью о том, что эту книжечку держали в руках и боготворили целые поколения.
Очередная, особенно импонирующая прелесть — обладание старыми книгами, прежние владельцы которых известны. Эти издания унаследованные семьей нынешнего владельца или одной из родственных семей, возможно, несут на себе имена и пометки, сделанные в давние лета. У таких книг есть своя история, и современному владельцу они рассказывают о традициях былой культуры. Владелец раннего издания Эйхендорфа, или Гофмана, или старого альманаха, купленного еще бабушкой, а затем читанного и любимого матерью, — экземпляра, в котором рукой хорошо знакомого и уже скончавшегося человека помечены или заложены пожелтевшими бумажками любимые места, никогда не променяет его ни на одно, пусть даже ценнейшее, современное издание.
Но довольно об этом. Библиофилия и книгособирательство не поддаются краткому описанию, а требуют специального очерка. Кого привлекает эта область, пусть возьмет отличную книгу Мюльбрехта «История книголюбительства». — Однако теперь следует поговорить еще и о том, как мы обращаемся с нашими книгами, как нам за ними следует ухаживать.
Когда из прикупания особо ценимых нами произведений ради того, чтобы владеть ими и постоянно держать под рукой, постепенно складывается домашняя библиотека, большинство владельцев быстро становятся рачительней и требовательней также и по отношению к внешнему виду своих книг. Для разового прочтения вполне годится любое издание. Но книги, к которым возвращаешься чаще и охотнее, чем к другим, хочется иметь по возможности все-таки в более красивых, привлекательных, а также в более практичных и добротных изданиях. Поэтому стоит пораздумать, в каком издании купить произведение, если оно существует в нескольких. Вслед за гарантией неиспорченного, то есть несокращенного текста, покупатель интересуется прежде всего читабельностью, четкостью и красотой печати. Но он должен убедиться также и в том, что бумага прочна! Последние десятилетия в немецком книгопечатании часто безответственно используется плохая бумага, особенно в общедоступных изданиях классиков, которая, едва попав из упаковки на свет, воздух и в руки, чуть ли не на глазах желтеет и портится. Совсем недавно наступило наконец-то улучшение. Если же нет хороших современных изданий давнишних авторов, то нужно обратиться к букинистам, чтобы приобрести хорошо сохранившиеся старые издания, которые зачастую намного лучше и по бумаге и по печати. Отдельных выдающихся писателей прошлого, к примеру — Жан Поля, несмотря на предприимчивость наших издателей, в новых и добротных изданиях по-прежнему нет.
Затем надо обратить внимание на формат и переплет! Не годятся ни чванливые гигантские форматы, ни крошечные, игрушечные миниатюрные книжечки. Есть также книги, почти нечитабельные и непригодные потому, что издатель, стремясь их продать как можно дешевле, напихал в один том слишком много листов. Особенно поэтическую литературу, которую хочется читать по возможности без затруднений, следует приобретать лишь в легких, негромоздких, без труда открывающихся изданиях. И при необходимости поступиться небольшими деньгами и сваленное издателем в один том переплести для удобства в два, три или большее количество томов. Приведу только один пример: к четырем толстым томам произведений Э. Т. А. Гофмана, изданным Гризбахом, в свое время я долго не мог подступиться, пока не разделил их на двенадцать легких томиков.
Переплетенные книги, если речь не о совсем дешевых изданиях, без исключения следует покупать, если только у них не проволочная, а нитяная брошюровка. Проволочная брошюровка — один из злейших пороков современного фабричного переплета и должна отвергаться покупательской публикой еще категоричнее. Это грех многих издателей, и нередко даже в самых дорогих книгах. Если издание сброшюровано проволокой или покупателю не по душе фактура переплета и цвет, он может отдать книгу в новый переплет, что удорожит ее лишь незначительно. Кто находит в своих книгах радость, заказывает обычно для них такой переплет, какой ему нравится. Он выделяет каждую книгу, делает ее узнаваемой, особенной, индивидуализирует, выказывает ей почет и любовь, заключая ее в новый, по возможности самый красивый, удобный и уникальный переплет по собственному замыслу и чертежу, лично подбирая цвет бумаги и материала. Он может заказать любое расположение заглавия и любые буквы для него. В этом есть своеобразная прелесть, значительно умножающая радость от обладания книгой; собственным, хорошо продуманным, любовно выбранным переплетом владелец становится как бы соавтором каждого издания, выразительно отличающегося от всех прочих существующих в мире экземпляров данной книги. Такой способ выделять собственную книгу куда утонченней и приглядней, чем впечатывать в книгу свое имя или вклеивать свой знак (экслибрис). Собиратель, переплетающий все книги по собственному разумению, узнает свой экземпляр, если каким-то образом его лишится, по переплету намного уверенней, чем по всем монограммам и экслибрисам.
Вслед за этим, собственно, и начинается забота владельца о своих книгах. Хочется, чтобы любимые книги были удобны, легкодоступны, но этого мало — хочется и оберегать их от порчи. Лучшим хранителем книг было и есть хранение их на простых стеллажах вдоль стены с полками без стекла, защищенными от сильного солнечного света разве что легкими занавесями. Стеллажи или закрытые полки лучше всего делать так, чтобы внизу были прочные коробки определенной высоты и глубины, а над ними располагались подвижные полки для установки на любое расстояние. Кто имеет собственную комнату для книг или занятий, должен отказаться в ней от настенных украшений или, во всяком случае, принять как главное украшение ряд книжных корешков. Помещение должно быть как можно менее пыльным; враг книг — еще более опасный, чем пыль, — влажность, вызывающая гниение при нехватке воздуха. От пыли книги следует спасать, периодически слегка выколачивая их и расставляя на полках так тесно — но без втискивания, — чтобы они не раскрывались веером. Пользование книгами, естественно, подразумевает чистоту и опрятность; особенно следует остерегаться дурной привычки в паузах между чтением класть книги на стол раскрытыми страницами вниз. Не следует использовать в качестве закладок и толстые предметы (прессы, линейки, карандаши и прочее), а брать для этого только специальные книжные закладки из бумаги, сатина или шелка. Для драгоценных переплетов, которых особенно жалко, легко можно изготовить суперы из тонкого картона, по вкусу разнообразно украшая их цветной бумагой, материей, вышивкой, шелком.
Особую радость доставляет упорядочивание библиотеки, придумывание и сохранение определенного порядка. Можно разделить научную литературу и художественную, старую и новую, ввести подразделы по языкам и отраслям знания, а затем тщательно и выверенно расположить книги в каждом разделе. Делается это обычно по именам авторов в алфавитном порядке — метод наиболее простой и надежный. Куда утонченнее расположение по внутренним принципам и взаимосвязям, по хронологии и истории например, или согласно продуманному личному вкусу. Я знаю одну частную библиотеку из нескольких тысяч томов, не упорядоченную ни по алфавиту, ни по хронологии, в которой владелец установил свою сугубо личную иерархию, и о каком бы произведении его ни спросили, он достает его немедленно — настолько органично все размежевано и настолько хорошо просматривает он свое внушительное собрание. Пусть пока скромна такая постепенно сложившаяся библиотека, пусть она занимает лишь несколько стеллажей, но зато с каждым томом ее связана вереница драгоценных, милых сердцу воспоминаний со дня покупки и первого прочтения, и зато в каждом мало-мальски восприимчивом владельце такой библиотеки день ото дня будет расти сокровенная радость обладания ею, и вскоре он не сможет уже понять, как это он раньше существовал без собственного книжного собрания. Несмотря на то, что с чисто материальной точки зрения книга не более чем недорогой фабрично изготовленный поточный товар, она была, есть и будет фрагментом материи, облагороженной духом, маленьким чудом и святыней, заслуживающей в каждом хорошем доме почетного места, и она должна быть всегда наготове как тихий источник радости, приподнятости и удовлетворения желаний. Дом без книг беден, даже если его стены покрыты дорогими обоями и картинами, а пол устлан красивыми коврами. И только тот, кто сам знает книги, имеет их и любит, в состоянии оказать умную и действенную помощь своим подрастающим детям, только такой человек сможет руководить их чтением, предостеречь как от бульварщины, так и от преждевременной привередливости по отношению к лучшему и сопережить с юными душами постепенное открытие и саморазворачивание царства духа и красоты. Как чем-то новым, вдвойне замечательным насладится «Фаустом», или «Зеленым Генрихом», или «Гамлетом», когда впервые даст их в руки сыну, впустив его в свою библиотеку как совладельца и самого дорогого гостя.
(1907)
НЕИЗВЕДАННЫЕ СОКРОВИЩА
В последние годы опять случилось чудо: произведения немецких писателей вновь стали выходить многочисленными тиражами и в кратчайшее время сбываться десятками тысяч экземпляров. Как всегда, в равной мере отрадно и нежелательно, что читательская публика давно взяла моду из года в год расхваливать, покупать и читать не более одной-двух ходовых книг. А ведь наша современная повествовательная литература, о коей в основном здесь и идет речь, ежегодно производит куда больше вещей, заслуживающих внимания.
Насколько непредсказуемы капризы случая и благосклонность толпы, почти ежедневно может убедиться любой книготорговец и любой критик. Одновременно выходят в свет два романа, оба у хороших издателей, оба одинаково хорошо оформлены, об обоих с похвалой отзываются газеты, и один остается нераскупленным, а другой вновь и вновь переиздается. Почему? Этого не знает никто. Литературная и человеческая ценность книги — момент, во всяком случае, не решающий, ибо известно, что медленнее всего «идут» зачастую как раз очень хорошие произведения. И как получается, что писатель становится известен и даже знаменит благодаря одной-единственной книге, хотя он издал и другие, столь же хорошие и все-таки никому не ведомые?
Профессиональный критик вновь и вновь с болью в душе осознает, как мало результатов приносит его труд. Книги, к которым отрицательно отнеслись лучшие рецензенты, все равно пользуются успехом благодаря рекламе и другим коммерческим ухищрениям. И наоборот — произведения, о которых авторитетные литературоведы отзываются в больших газетах наилучшим образом, остаются совершенно незамеченными.
Профессиональный рецензент, на которого ежедневно сваливаются новые книги, редко находит в таких случаях время и возможность вновь обратиться к произведениям, незаслуженно отвергнутым публикой, и вновь вступиться за них. И все-таки это надо бы делать. Если о всякой новой публикации пишут и судят зачастую даже слишком подробно, то почему бы время от времени вновь не обратить внимание и на книгу, вышедшую пять или десять лет назад, но для широких читательских кругов оставшуюся все-таки незнакомой, а следовательно, и новой? Если рекомендации не были услышаны тогда, то, возможно, они будут замечены сегодня. Поэтому нашему журналу периодически следует обсуждать хорошие книги также и прошлых лет, особенно романную литературу, и делать это не для знатоков и узких литературных кругов, а для всех. Вместе с тем не должны чрезмерно пропагандироваться ни поэтические деликатесы для избалованных гурманов, ни первенцы молодых, начинающих авторов. Первые найдут своих покупателей и без нашей помощи, а на последних работает газетная критика.
Я не рискую единолично предлагать список хороших книг, которые вышли за последнее время и по отношению к которым нашему народу следует очиститься от греха упущения. Но время от времени напоминать о таких произведениях можно и не вредно ни для кого. Начнем с некоторых сегодня же!
Книги, о которых говорилось выше, я назвал «неизведанными сокровищами» потому, что публика не знает о них и не владеет ими и поныне. Но есть и другие сокровища, которые неразведаны, забыты по вине не публики, а издателей. Есть писатели более отдаленных времен, о которых или вовсе ничего не известно, или известно недостаточно. Сколько нам еще ждать издания таких писателей, как Жан Поль? А Новалис, Гёльдерлин и Гофман в пригодном для постоянного и всестороннего пользования виде изданы вновь лишь совсем недавно. Помимо Жан Поля, не хватает Арнима, не хватает Вайблингера, не хватает немецких народных книг в хорошей новой редакции и многого другого. Сколько роскошной бумаги, великолепных шрифтов, книжных форм и переплетов используются издателями, в то время как некоторые наши любимые и великие писатели изданы хотя и целиком, но совсем дешево и маленькими тиражами. Почему не могу я подарить своей жене красиво напечатанного Эйхендорфа, хорошо оформленного Ленау, приятно выглядящих (но не «иллюстрированных») Гриммов? Я знаю многих, кто в обмен на эти книги с удовольствием бы отказались от многочисленных новинок, созданных современными писателями и напечатанных на пергаментной и ручной выделки бумаге.
(1907)
ДЕШЕВЫЕ КНИГИ
Дешевых книг из года в год становится все больше, и те, кому они нужны, их чаще всего и приобретают. Другое дело — подарки. Состоятельные люди дарят зачастую книги и детям, и знакомым, и друзьям, дарят и дорогие вещи и вещи бесполезные, как, например, девическую литературу ко дню конфирмации и тому подобное. Однако дарить книги людям победнее, особенно мелким служащим и прислуге, еще не очень принято. В ходу раздаривание религиозных и политических агитационных сочинений, назидательно-набожной беллетристики, что, хотя делается и добронамеренно, сплошь и рядом оказывается неуместным, вызывая порою насмешки, а то и злость. В последнее время усердно гоняются и за бульварщиной, низкопошибной литературой, и видимо небезуспешно. Немногим лучше дело обстоит порою и с «набожными» трактатиками, которые по меньшей мере эстетически столь же непотребны, как и по праву пресловутые опусы литературных халтурщиков об ужасах и сыщиках. Для непредвзятого человека они, во всяком случае, скучны, непривлекательны и неприятны; своей докучливой тенденциозностью они портят настроение, принося этим только куда как больше вреда, чем пользы. Если своей служанке я подарю назидательную брошюрку «Набожная Ида, или Божие благословение в жизни слуги», она, во-первых, наверняка решит, что я ее воспитываю, как школьницу, и либо никогда не раскроет сей шедевр, либо будет читать его с отвращением. И во-вторых, справедливо рассудит, что сам «Он» такого, естественно, не читает. Если же я подарю ей книгу Готхельфа, Келлера, Раабе, она, как минимум, не ощутит никакой навязчивости и, не думая, что ее воспитывают, опекают, считают несовершеннолетней, очень вероятно прочтет ее.
Делать подарки считается естественным к Рождеству. И прислугу жалуют одеждой, бельем, сигарами, и, наверно, даже не скупясь. А ведь можно бы преподнести и какую-нибудь грошовую книжку, которая в худшем случае осталась бы без внимания, а в лучшем принесла бы много радости и плодов. Одалживание книг такой службы не служит. Человек, взявший книгу на время, чувствует себя обязанным читать ее не слишком долго и затем вернуть; да и удовольствие от собственных книг всегда больше. Если я книгу дарю, то прочитывают ее куда быстрее, чем если бы я заимообразно ее навязал.
Дарить в наше время книги действительно стало нетрудно. За пфенниги можно приобрести отличные вещи. У моих друзей есть неплохой обычай (им пользуюсь порою и я) — в поездках и местах, где они в гостях, оставлять свои взятые на дорогу дешево изданные книги. Слуги, которым так достается рекламовское издание, в нем видят уже не просто находку; они уверены, что эта книга не ерунда, рассчитанная только на них, а чтение людей образованных…
Вновь и вновь сталкиваешься с утверждением, что произведения великих писателей предназначены «далеко не для всех», что они бисер, который негоже метать перед свиньями. Вздор. Известная опасность хорошей литературы, угрожающая наивным людям, и вполовину не больше опасности всем доступной газеты или, к примеру, Библии. Не очень образованный читатель, не ощутив и не поняв всех красот и прелестей «Знамени семи стойких»[8], скажем, тем непринужденней и заинтересованней насладится предметом повествования, порадуется и поучится, и по прочтении в нем непременно что-то останется и от неуловимой тонкости собственно литературной стороны. Ведь «Робинзон» и даже «Гулливер», которых любят и читают наши дети, были в свое время чисто литературными книгами для литературно образованных читателей! Распространенное заблуждение думать, что простые читатели красот не понимают. Сколько сотен раз, строя дом или разбивая сад, после всевозможных изощрений мы в конце концов с благодарностью возвращаемся к крестьянским способам, а значит, допускаем, что понятие о прекрасном заключено не в том, что называется «образованием», а в чем-то другом. И настоящего писателя мы спокойно можем вручить простым читателям. Владельцы больших отборных библиотек читают своих писателей с наслаждением и проникновенностью порою меньшими, чем простой человек, наткнувшийся на «Фауста» или «Дон Кихота». Календарные истории Хебеля, собранные в «Семьянине»[9], прочно укоренились в народе, по крайней мере на родине писателя[10], в то время как многим, и даже очень образованным, невдомек, что истории эти — видимо, лучшее из всего когда-либо созданного немецкими новеллистами.
Больше книг следует дарить и детям. Опасность принудительного чтения здесь еще меньше; ведь мало-мальски здоровый ребенок мало-мальски разумных родителей очень скоро и решительно начнет отвергать все, что чуждо ему и не подходит. Я не считаю необходимым пичкать детей чтением. Книгу следует вручать им только тогда, когда в них есть желание и потребность читать. На Рождество или в день рождения мальчику зачастую дарят одну или две дорогостоящие книги с картинками, рассчитывая, что читать он их будет несколько месяцев или пусть даже год, вместо того, чтобы в подобном случае воспользоваться дешевыми народными изданиями. И надо, конечно, вдвойне внимательней следить за тем, чтобы книги, которые дети от нас получают, не портили им при чтении глаза.
(1908)
ЧТЕНИЕ КНИГ И ОБЛАДАНИЕ КНИГАМИ[11]
То, что всякий лист бумаги с печатным текстом ценность, что все печатное результат духовного труда и заслуживает уважения, взгляд для нас устаревший. Лишь изредка где-нибудь на пустынном побережье или высоко в горах встречаются отдельные люди, чьей жизни еще не коснулось бумажное наводнение и для которых какой-нибудь календарь, какое-нибудь сочиненьице и даже газета — драгоценные, достойные сохранения предметы обладания. Мы привыкли почти задаром получать на дом кучу печатных издании и смеемся над китайцами, для которых священна всякая бумага, покрытая письмом или печатью.
Однако глубокое уважение к книге у нас сохранилось. Только вот в последнее время книги начали распространять чуть ли не бесплатно, то тут, то там превращая их в бросовый товар. Хотя кажется, что радость от обладания книгами растет именно в Германии.
Но понимания того, что значит обладать книгой, конечно, еще очень не хватает. Бесчисленное множество людей боятся отдать за книги хотя бы десятую долю тех денег, которые и глазом не моргнув отдают за пиво и всяческую дребедень, а для других, людей более старомодного склада, книга — это святыня, которая в лучшей комнате пылится на плюшевой скатерти.
Каждый настоящий читатель в сущности одновременно и книголюб. Ибо кто способен воспринимать книгу сердцем и любит ее, старается по возможности и приобрести ее, чтобы перечитывать, иметь, знать, что она всегда поблизости и доступна.
Книгу, конечно, можно просто у кого-то взять и вернуть, но прочитанное уходит в таких случаях почти одновременно с исчезновением книги из дома. Ведь есть читатели, главным образом неработающие женщины, способные проглатывать по книге чуть ли не каждодневно, и библиотека — это именно то, что им нужно, ведь цель их не накопление сокровищ, не услада и обогащение жизни, а всего лишь удовлетворение прихоти. Эту разновидность читателей, которых некогда хорошо обрисовал Готфрид Келлер[12], следует предоставить их собственному пороку.
Для хорошего читателя читать книгу значит познавать характер и образ мышления чужого человека, пытаться понять его и по возможности подружиться с ним. Особенно при чтении поэтов знакомимся мы не только с неким кругом лиц и обстоятельств, а прежде всего с самим поэтом, с его образом жизни и видением, темпераментом, внутренним обликом, почерком, наконец, его художественными средствами, ритмом мышления и языка. Только тот, кого книга к себе приковала, кто познакомился с ее автором и начал понимать его, у кого сложились с автором какие-то отношения, — только тот и начинает испытывать настоящее воздействие книги. И поэтому он не забудет купить ее, чтобы, когда захочется, вновь и вновь перечитывать и переживать ее. Кто покупает именно так, кто приобретает только те книги, дух и настрой которых взволновали его сердце, вскоре перестанет читать, глотая все подряд без разбора и цели, и со временем соберет вокруг себя любимые, ценные для него произведения, в которых он обретет радость и познание и которые при любых обстоятельствах будут для него ценнее бездумного, случайного чтения всего, что ни попадется под руку.
Не существует тысячи или сотни «лучших книг», но для каждого отдельного человека есть особый подбор того, что ему близко и понятно, что он любит и ценит. Потому-то хорошая библиотека и не может возникнуть по заказу: собирая книги, каждый должен следовать собственным потребностям и предпочтениям и не торопиться — как в выборе друзей. И тогда даже маленькое собрание станет целым миром. Безупречными читателями были всегда люди, чьи потребности ограничивались очень немногими книгами, и некоторые крестьянки, имевшие и знавшие только Библию, вычитывали из нее и черпали в ней знания, утешения и радости больше, чем избалованные богатейки из своих драгоценных библиотек.
Таинственная это вещь — воздействие книг. Всякий отец или воспитатель по опыту знает, что вроде бы своевременное вручение мальчику или юноше хорошей и умной книги оказывается потом все-таки не впрок. Дело в том, что, хотя совет и дружеская опека и способны помочь кое в чем, каждый человек, стар он или молод, должен отыскать в мире книг собственную дорогу. Некоторые чувствуют себя в литературе как дома уже сызмальства, а другим, чтобы узнать, как сладостно и чудесно читать, требуются многие годы. Можно начинать с Гомера и заканчивать Достоевским, или наоборот, можно вырасти с писателями, а потом перейти к философам, или наоборот, — путей тут сотни. Но есть только один закон и один-единственный способ образоваться и духовно вырасти на книгах — уважать то, что читаешь, быть терпеливым в порыве понять, осторожным в суждениях и уметь слушать. А читающий лишь для того, чтобы убить время, сколько бы и чего, пусть даже самого лучшего, он ни читай, все равно все забудет, оставшись таким же бедным, как и прежде. Но тому, кто читает книги так же, как слушает своих друзей, они откроются и будут принадлежать. Прочитанное таким человеком не утечет сквозь пальцы и не утеряется, а останется в нем, станет его собственностью, чтобы радовать и утешать его так, как это могут только друзья.
(1908)
О ПИСАТЕЛЕ
Кто в результате тысячи случайностей жизни пришел к необходимости существовать или уметь существовать на средства от своего литературного дарования, с которым он родился, должен как-то осознать свою сомнительную «профессию», не являющуюся собственно профессией. Деятельность так называемого свободного писателя считается ныне «профессией», хотя такого в мировой истории никогда не было, вероятно, потому, что многие, не имеющие помимо этого никакой профессии, занимаются ею как производством. И в самом деле — эпизодическое, никем не навязанное сочинение неплохих вещей, чью совокупность называют литературой, не кажется мне работой и не заслуживает в моих глазах права именоваться профессией в привычном смысле этого слова. У «свободного» писателя, то есть у приличного человека и в известном смысле художника, нет профессии; напротив — он человек частный и праздный, пишущий лишь от случая к случаю, по настроению и в удобное время.
Всякому свободному писателю довольно трудно найти себя в двойственном положении между частным человеком и несвободным писателем, то есть журналистом. Иметь профессию, которая таковой не является, не всегда отрадно. Есть люди, которые, испытывая потребность в непрерывной деятельности, производят больше, чем то позволяет их природное дарование, и превращаются в графоманов. Других же свобода и незанятость подбивают на безделье, что для человека без профессии явление не редкое. И те и другие, усердные и ленивые, одинаково страдают неврастенией и чувствительностью недостаточно занятых, слишком предоставленных самим себе людей.
И все-таки я хотел бы поговорить не об этом, такие проблемы каждому следует улаживать с самим собой. Отношение к своей так называемой профессии писатели должны определять в одиночку. Совсем непохоже на взращенные горькой самоиронией мысли писателя и литератора о своей работе — восприятие писательской профессии общественностью.
А общественность, то есть пресса, народ, всевозможные организации, короче — все те, кто сами не писатели, воспринимают эту профессию и обязанности, входящие в ее круг, намного проще. И литератора, как и врача, судью или чиновника, о сути и характере его профессии просвещают определенным набором требований, предъявляемых ему извне. Всякий ставший мало-мальски известным писатель из поступающей к нему почты каждый божий день узнает, что от него хотят и требуют публика, издатели, пресса и коллеги.
Публика и издатели в своих притязаниях, как правило, единодушны и очень скромны. От автора имевшей успех комедии они и в другой раз ждут комедии, у которой будет успех, от сочинителя крестьянского романа требуют очередного крестьянского романа, от создателя книги о Гёте — новых книг о Гёте. Порою не мыслит и не желает себе ничего иного и сам писатель, и тогда на всю жизнь воцаряются единодушие и взаимная удовлетворенность. Автор «Тирольских переливов» продолжает себя «Тирольской девушкой», творец «Картинок из жизни рекрутов» пополняет литературу «Картинками казарменной жизни», а за книгой «Гёте в кабинете» следуют «Гёте при дворе» и «Гёте на улицах».
У авторов, которые так поступают, действительно имеется профессия, они действительно заняты производством. Они спекулируют своим талантом и являются носителями эпитета и негласной цеховой меты истинно цеховых писателей — «золотое перо».
«Золотое перо» — изобретение того оставшегося, к сожалению, безымянным редактора, который так называемую «индивидуальность» определил для журналистики как раковое заболевание. Личность он, как известно, подменил «именем», а всякое полезное «имя» снабдил титулом «золотое перо», имея в виду просто литературный заказ с наиболее щадящими для авторского самолюбия требованиями. Эта техника господствует ныне во всей очерковой журналистике, отправляя культ обезличивания отнюдь не посредством куда более благородной абсолютной анонимности.
Так мы дошли до того, что автор нашумевшего романа может быть, к примеру, огорошен следующей депешей от какой-нибудь всемирно известной газеты: «Срочно прошу рассуждений из-под Вашего золотого пера о предположительных путях развития воздухоплавательной техники; максимальный гонорар гарантируется». Для редактора всякий относительно известный автор не более чем имя, и он рассуждает так: читатели требуют интересных и актуальных заголовков, но и знаменитых имен тоже — так скомбинируем и то и другое! А о чем, собственно, будет заказанный очерк, совершенно безразлично: ведь если у кого-то золотое перо, то размышление о Герхарте Гауптмане вполне может быть введено притравочной фразой о Цеппелине. И есть сверхзолотые перья, которые преспокойно существуют на это мошенничество.
Такова примерная картина требований прессы к свободным писателям. Сюда же относятся «анкеты», в которых словно на маскарадном увеселении профессора высказываются о театре, актеры о политике, писатели об экономике, гинекологи об охране памятников. Безобидный и развлекательный оживляж, никем всерьез не воспринимаемый и почти безвредный. Хуже те притязания прессы, которые рассчитывают на тщеславие и потребность литераторов в рекламе под девизом «manus manum lavat»[13]. Неприглядными я считаю и украшенные портретами маленькие рекламные статеечки и автобиографии во многих журналах и воскресных приложениях.
Так по предложениям и требованиям писатель постепенно познает свою профессию, и, если порою ему нечего работать, у него всегда есть возможность заполнить день разбором в сущности бесполезной корреспонденции. Со временем, нарастая и становясь более разнообразной, к ней присоединяется еще и многочисленная частная корреспонденция. О просительных письмах говорить не буду, их достаточно много получает любой человек. Но присланное мне однажды только что выпущенным на свободу заключенным с 35 судимостями описание его жизни для любого литературного употребления в обмен на единовременную компенсацию в тысячу марок меня все-таки ошеломило. Не очень отрадно и убеждение всякой небольшой библиотеки и некоторых бедных студентов, что автору доставляет удовольствие пачками раздаривать свои книги. И то, что все объединения Германии к своим юбилеям и все muli[14] Германии к своим абитуриентским празднествам должны ежегодно получать литературную продукцию всех немецких писателей, — тоже странно. При этом просьбы автографоманов, даже тех, кто вынуждают им отвечать, прилагая бланк оплаты обратного письма, играют минимальную роль.
Но издатели, редакции, абитуриенты, девочки-подростки и объединения всего света, вместе взятые, не причиняют писателю столько хлопот, как коллеги — от шестнадцатилетнего школьника, присылающего для подробного разбора и суждения несколько сот трудночитаемых стихотворений, до набившего руку литератора со стажем, который наикуртуазнейшим образом просит о благосклонной рецензии на его новую книгу и при этом отчетливо и не менее осторожно дает понять, что как в благоприятном, так и неблагоприятном случае его ответная услуга не заставит себя ждать. И если к издателям и газетам, просителям и всем наивным людям можно отнестись спокойно и с юмором, то бессовестное делячество и корыстная докучливость тоже-писателей вызывает порою лишь отвращение и злость. Сверхвежливый юноша, посылающий тебе сегодня свои стихи в высокопарном льстивом письме и полностью доверяющийся твоему мнению, на твое продуманное, любезное, но не положительное суждение послезавтра может ответить дикой поносной статьей в местной газете. Я лично знаком и дружен со многими высоко ценимыми мною писателями, которые испытали то же, что и я, и никто из нас никогда не вступал на путь попрошайничества и вымогательства. И можно, вероятно, предположить, что никогда не вымирающие попрошайки и льстецы от литературы люди все-таки неполноценные; можно предположить, что ни один честный человек и ни один гений не поступит дурно, если пренебрежет ежедневно обновляющейся прорвой назойливых писем и бросит их в ту же корзину, куда попадают все, не имеющие касательства к литературе прошения. И в конце этого круговорота ясно, что вся с виду профессиональная и должностная работа выливается у писателя в сплошную ерунду и бесполезную писанину, в то время как его собственная работа, несмотря на все противоположные мнения, не может быть отрегулирована и превращена в профессию. Наша профессия — пребывать в покое, внимательно наблюдать и выжидать благоприятного часа, и после этого работа, даже если она требует усилий в поте лица и бессонных ночей, доставляет наслаждение и перестает быть «работой».
(1909)
МОЛОДОМУ ПОЭТУ
Письмо, адресованное многим
Уважаемый господин!
Благодарю Вас за любезное письмо, а также за присылку Ваших опытов в стихах и в прозе, которые я с участием просмотрел, узнав в них кое-какие уже почти забытые черты и своих собственных писательских начал. Ваше теплое письмо и приложенные к нему сочинения свидетельствуют о доверии, которого я не заслуживаю, ибо, к сожалению, должен Вас разочаровать.
Вы предлагаете мне ознакомиться с тем, что Вы до сих пор сочинили в стихах и других литературных жанрах, и, когда я сделаю это, просите оценить Ваш литературный талант. Вопрос кажется простым и безобидным, тем более что требуете Вы не похвалы, а самой что ни на есть доподлинной правды. И на вопрос без обиняков мне было бы приятнее всего ответить также без обиняков но если бы я только мог! «Правду» не так легко обнаружить. Мало того — по опытам новичка, с которым очень хорошо не знаком лично, я считаю совершенно невозможным делать какие-либо выводы о его таланте. По Вашим стихам я могу сказать, читали ли Вы больше Ницше или Бодлера, является ли Вашим любимцем Лилиенкрон или Гофмансталь и, предположительно, есть ли у Вас уже сознательно выработанный вкус к искусству и природе; но все это не имеет никакого отношения к литературному дарованию. В лучшем случае — и это будет в пользу Ваших стихов — я могу раскопать и следы отразившихся в них переживаний и составить представление о Вашем характере. Большего сделать невозможно, и тот, кто, подобно штатному графологу, определяющему характер человека по письму, присланному в газету, сулит оценку Вашего таланта по первым рукописям, — человек довольно поверхностный, если попросту не обманщик.
Мне также нетрудно, прочитав «Вильгельма Мейстера» или «Фауста», объявить Гёте выдающимся писателем. Но в начальном периоде его творчества с тем же успехом можно бы наскрести горстку стихотворений, из которых бы явствовало только то, что автор усердно читал Геллерта и других своих образцов, да ловок в рифмовке. Уже после того, как Гёте написал «Вертера» и «Гёца»[15], ему еще долго приписывали некоторые произведения Ленца, и наоборот. То есть даже у самых великих писателей почерк их первых опытов отнюдь не всегда отмечен действительно характерными особенностями и неопровержимо оригинален. В юношеских стихотворениях Шиллера есть прямо-таки удивительные банальности и безвкусицы.
Так что суждение о способностях молодежи, которое Вам кажется таким простым, — это ноль. Если я сам Вас хорошо не знаю, мне неизвестно, на какой ступени развития Вашей личности Вы находитесь. В Ваших стихах могут быть наивности, которые через каких-нибудь полгода Вы никогда уже не повторите, но те же самые промахи можете допустить и через десять лет. Есть молодые поэты, сочиняющие удивительно прекрасные стихи в двадцать лет, а в тридцать — уже никаких или, что еще хуже, точно такие же. И есть таланты, пробуждающиеся лишь в тридцать, сорок лет.
Словом, заданный Вами вопрос о видах на грядущую писательскую славу сродни вопросу матери о том, останется ли в будущем ее пятилетнее дитя таким же большим и стройным или маленьким. До четырнадцати-пятнадцати лет ребенок может быть малявкой, а потом внезапно вымахать.
Меня приятно тронуло то, что не в пример многим Вашим уважаемым коллегам Вы не взваливаете на меня ответственность за Ваше поэтическое будущее. Ведь немало таких, кто с вопросом, подобным Вашему, обращаясь к уже опытному писателю, не без пафоса ставят в зависимость от его ответа или суждения то, что будут ли они продолжать писать стихи или нет. И мучайся тогда всю жизнь чувством, что, совершив небольшую ошибку, ты, возможно, лишил историю немецкой литературы Песен о Нибелунгах или Фаустов!
Этим я уже, собственно, ответил на Ваше письмо. Вы просили еще об одной услуге, которую оказать Вам, увы, не могу, ибо она превышает мои возможности. Но мне бы все же не хотелось распроститься с Вами на суждении, которое Вас не удовлетворяет и которое в конце концов Вы истолкуете как не более чем хитроумно замаскированный отказ. И посему позвольте сказать Вам еще одно дружеское слово.
Станете ли Вы через пять-десять лет выдающимся поэтом, предсказать я не в состоянии. Но если Вы им и станете, то зависеть это будет, безусловно, не от стихов, которые Вы пишете сегодня.
И наконец, нужно ли Вам вообще становиться поэтом? Быть поэтом — идеал многих способных молодых людей, подразумевающих под поэтом человека, сохранившего оригинальность, чистоту сердца, восприимчивость, тонкость чувства и яркую эмоциональность. Но этими добродетелями может обладать кто угодно, не становясь поэтом, и лучше обладать ими, чем вместо них — всего лишь сомнительным литературным дарованием. Но кто лишь потому заинтересован в поэтическом восхождении, что оно ведет к славе, пусть идет в актеры.
Ваша нынешняя потребность писать стихи, сама по себе не похвальна и не постыдна. Привычка прояснять сознанием и в сжатой форме излагать пережитое поможет Вам развиться и стать настоящим человеком. А сочинительство может и повредить, и оно вредит очень многим, ибо велик соблазн выплеснуть пережитое, поскорее отделаться от него вместо того, чтобы насладиться им в просветленном виде. Многие молодые поэты привыкают оценивать свои переживания по их поэтичности и превращаются в сентиментальных украшателей, слишком прямолинейных, чтобы быть поэтами.
Но пусть молодые пишут, пока у них есть чувство, что поэтические опыты их развивают, помогают разобраться в себе и в окружающем мире, усилить интенсивность своих переживаний, обострить свою совесть. Неважно, поэты они или нет, но из них получатся достойные, деятельные, проницательные люди. И если, надеюсь, это и есть Ваша цель, и если в своем чтении и сочинении поэтической литературы Вы усмотрите хотя бы малейший огрех, малейший соблазн вступить на нечестные окольные пути, позыв к тщеславию и угасание простодушного мировосприятия, то отбросьте литературу прочь, и свою и нашу!
С наилучшими пожеланиями,
Ваш Г. Г.
(1910)
О ЧТЕНИИ
Большинство людей не умеют читать, и большинство не знают толком, зачем читают. Одни смотрят на чтение как на преимущественно трудный, но неизбежный путь к «образованию», всякое чтение их только «образовывает». Для других же чтение — легкое удовольствие, способ убить время, и им в сущности совершенно безразлично, что читать, только бы не было скучно.
Так г-н Мюллер читает «Эгмонта» Гёте или воспоминания маркграфини Байройтской, надеясь с их помощью стать образованней и восполнить один из многочисленных пробелов в своих познаниях. Эти пробелы он воспринимает со страхом и постоянно помнит о них, что является уже симптомом: образование для него — нечто привходящее извне, нечто добываемое трудом, и потому всякое образование, как бы много он ни учился, останется в нем мертвым и бесплодным.
А г-н Майер читает «для развлечения», то есть со скуки. У него есть время, он рантье, и у него даже намного больше времени, чем он способен препровести собственными силами. Писатели, стало быть, должны ему помочь убить длинный день. Он читает Бальзака, как курит хорошую сигару, и он читает Ленау, как читает газету.
Но те же самые г-н Мюллер и г-н Майер, равно как их жены, сыновья и дочери, в других вещах далеко не так неразборчивы и несамостоятельны. Они покупают и продают государственные бумаги не без веских оснований; на собственном опыте они убедились, что тяжелая еда на ночь вредна для здоровья; и они не затрачивают физических сил больше, чем то крайне необходимо для обретения и поддержания здоровья. Некоторые из них занимаются даже спортом и имеют представление о таинстве этого странного времяпрепровождения, при котором умный человек может получить не только удовольствие, но и помолодеть, окрепнуть.
Так вот: как г-н Мюллер занимается гимнастикой или греблей, так же ему следует и читать. От часов, затраченных на чтение, он должен ожидать выгоды не меньшей, чем от часов, проведенных за работой, и ему не следует искушаться книгой, которая не обогатит его новыми знаниями, не сделает его на йоту здоровее, на день моложе. Об образовании ему следует заботиться столь же мало, как о приобретении звания профессора, и общения с бандитами и сутенерами из романов ему следует стыдиться так же, как водиться с действительными подлецами. Но так просто читатель не думает, а рассматривает мир напечатанного либо как безусловно возвышенное, стоящее вне добра и зла, либо он презирает этот мир как нереальный, выдуманный фантазерами, в который можно погружаться лишь со скуки и из которого нечего вынести, кроме чувства нескольких относительно приятно проведенных часов.
Но несмотря на эту лжеоценку и умаление литературы, г-н Мюллер, как и г-н Майер, читают обычно чрезмерно много. Делу, которое, в сущности, их совершенно не трогает, они уделяют внимания и времени больше, чем иному бизнесу. Следовательно, они смутно чувствуют, что в книгах все же имеется нечто не совсем малоценное. Только по отношению к ним они пассивны и несамостоятельны, что давно бы разорило их в бизнесе.
Читатель, ищущий отдыха и времяпрепровождения, и читатель, заботящийся о своем образовании, чувствуют в книгах некую освежающую и духовно возвышающую силу, которая им, однако, точно не известна и которую они не могут оценить. Поэтому они поступают подобно неумным больным, которые, зная, что в аптеке много хороших лекарств, стремятся испробовать в ней все средства, перебирая ящик за ящиком и склянку за склянкой. А надо бы, как в настоящей аптеке, найти в книжной лавке и в библиотеке каждому свое средство, чтобы каждый, не травясь и не пичкая себя сверх меры, мог черпать в них силы и свежесть.
Нам, авторам, приятно, что так много читают, и, возможно, неумно со стороны автора говорить, что читают слишком много. Но на большом протяжении занятие, которое повсеместно неверно истолковывается и употребляется во зло, приносит мало радости, и иметь десять хороших, благодарных читателей, несмотря на меньшую от них прибыль, лучше и радостней, чем тысячу равнодушных. Поэтому я и беру на себя смелость утверждать, что повсеместно читают слишком много и многочтение это для литературы не честь, а урон. Книги пишутся не для того, чтобы несамостоятельных людей сделать еще более несамостоятельными, и тем не менее пользуются ими, чтобы нежизнеспособным людям поставлять по дешевке видимость и замену жизни. А ведь книги имеют ценность только тогда, когда ведут к жизни и служат ей, и каждый час чтения истрачен впустую, если он не вселил в читателя хоть капельку силы, молодости, свежести.
Чисто внешне чтение — это занятие, вынуждающее к сосредоточению, и нет ничего более ложного, чем читать, чтобы «развеяться». Недушевнобольным людям совершенно ни к чему развеиваться, напротив — им следует быть сосредоточенными повсюду и, где бы они ни находились, чем бы ни занимались, о чем бы ни думали, что бы ни ощущали, всегда быть в гуще событий всеми силами своего существа. Так же и при чтении следует понимать, что каждая приличная книга — это прежде всего сосредоточение, стяжение в одну точку и интенсивное упрощение запутанных вещей. Такое упрощение и сосредоточение человеческих чувств — уже самое маленькое стихотворение, и если при чтении во мне нет воли к тому, чтобы, напрягая внимание, соучаствовать и сопереживать, то я плохой читатель. Несправедливость, которую я тем самым причиняю стихотворению или роману, может меня не волновать. Но плохим чтением я причиняю несправедливость прежде всего самому себе. Трачу время на что-то, не имеющее ценности, употребляю силу зрения и внимание на вещи, для меня вовсе не важные, которые я уже заранее готов вскоре забыть, утомляю свой мозг впечатлениями, для меня бесполезными, которые я неспособен переварить.
Часто говорят, что в таком неправильном чтении виноваты газеты. Я считаю это абсолютно неверным. Можно ежедневно читать газету или несколько газет и быть при этом сосредоточенным и радостно энергичным, а в выборе и быстром комбинировании новостей можно даже обрести совершенно здоровое и ценное упражнение. И в то же время «Избирательное сродство»[16] может прочитываться совершенно негодным способом и Майерами, стремящимися к образованию, и искателями развлечений.
Жизнь коротка, и по ту сторону ее никого не спросят о количестве одоленных книг. И поэтому неумно и вредно тратить время на чтение, не представляющее ценности. При этом я имею в виду не только плохие книги, а прежде всего качество самого чтения. От чтения, как от каждого шага и дыхания в жизни, следует чего-то ждать, отдавать силы, чтобы собирать урожай сил еще больших, терять себя, чтобы обретать себя вновь еще более сознательного. Не имеет смысла знать историю литературы, если каждая прочитанная книга не стала для нас радостью или утешением, силой или душевным покоем. Бездумное, рассеянное чтение — это то же, что прогулка по прекрасной местности с завязанными глазами. Читать мы должны не для того, чтобы забыть самих себя и нашу повседневную жизнь, а чтобы твердо удерживать кормило жизни с еще более зрелым сознанием. Мы должны подходить к книгам не как боязливые школяры к высокомерным учителям и не как бездельники к бутылке шнапса, а как скалолазы к Альпам, как бойцы к арсеналу; не как беглецы, спасающиеся от жизни, а как добрые люди приходят к друзьям и помощникам. И если бы все было и происходило так, то вряд ли бы читалась и десятая доля того, что читается ныне, а все бы мы были в десятки раз веселей и богаче. И если бы это привело к тому, что наши книги не раскупались бы, а мы бы, авторы, писали поэтому в десять раз меньше, то мир отнюдь не потерпел бы ущерба. Так как, естественно, с писанием книг дела обстоят не лучше, чем с их прочтением.
(1911)
[ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К ЛИРИЧЕСКОЙ АНТОЛОГИИ][17]
Из всех литературных наслаждений чтение стихов самое высокое и чистое. Только в чистой лирике возможно порою достичь того блаженного совершенства, того преисполненного жизни и чувства идеала формы, которые составляют, впрочем, лишь таинство музыки.
Чудесно впервые читать прекрасное стихотворение, но, быть может, еще восхитительней вновь насладиться целостностью и совершенством уже знакомого, чьи слова как предчувствие еще хранит наша память. У некоторых народов, прежде всего восточноазиатских, наклонность к этому благородному наслаждению выражена предельно и доходит порой до религии или, в зависимости от эпохи и места, — до виртуозности. В Европе, особенно в Германии, при нынешней мешанине всех духовных культур эта прекрасная наклонность претерпела сильный ущерб: наши отцы и поболее деды не только умели читать стихи, но и во множестве собирали их, переписывали, выучивали наизусть. Это стало редкостью, и нам следует остерегаться, что из-за недостатка упражнения нежный и благородный орган будет чахнуть и дальше. Иначе со временем, может статься, замечательные сокровища давней немецкой поэзии сгинут, окажутся чуждыми нам, подобно тому, как из-за постепенного огрубления и некультивирования чисто музыкального чувства полностью утрачены ныне целые жанры, представленные сохранившимися произведениями драгоценной старинной музыки; эти произведения мы никогда уже не сможем исполнить своими обедненными, недостаточно тонкими средствами даже с нотами на руках, даже представляя тоскующим чутьем их звучание.
Сегодня, конечно, уже отпала нужда в переписывании стихотворений. Книги стали дешевыми, и у немцев появились полные, в кассетах, собрания сочинений национальных классиков. Поэтому обыватель, да к тому же ученый, склонен считать, что не хватает теперь антологий. Но у него в полных собраниях есть ведь стихи и Гёте, и Ленау, и Мёрике — зачем загромождать дубликатами полки?
В самом деле, зачем? Ибо, если стихи на полках просто стоят, обывателю их, естественно, не хватает. А если он и в самом деле читает те многотомные издания классиков и не настолько варвар, чтобы вообще пренебречь наслаждением от стихов, то антология понадобится ему разве что для дачи или поездки. Впрочем, возможность прочесть любимое стихотворение должна быть всегда под рукой у каждого человека. Так как минуло время частного коллекционирования и переписывания стихов (косным пережитком остались только барско-девические альбомы), собирание, отбор и упорядочивание их следует предоставить доверенному лицу. В такие посредники лучше всего попросить любителя поэзии, много прожившего среди книг и хорошо разбирающегося в стихотворном творчестве своего народа благодаря не столько прилежанию и учебе, сколько многолетнему чтению и эмоциональному опыту. Еще не возникнет мысль об издании книги, а у него давно уже будет индивидуальная антология, состоящая из рукописных копий, газетных вырезок, закладок и помет на полях книг его библиотеки; и чтобы составить книгу стихотворений, он не станет систематически сортировать и перечитывать «классиков», а из часто читанного выберет то, что уже оправдало себя. В такой антологии у него будут родные дети и пасынки, и каждое перелистывание ее будет вызывать в нем борьбу между слепой любовью и справедливостью.
Недавно эстеты придумали новое возражение против всякого выборочного чтения. Сведение под одну обложку нескольких поэтов, считают они, хулиганство и сродни мешанине изысканных вин и блюд. Этим сверхчувствительным людям настоящая увлеченность чтением, можно подумать, настоль невдомек, что им важнее необходимость материального целого книги! Не только каждый поэт, но и каждое стихотворение есть нечто цельное и неповторимое. Если мне мешает знание того, что в антологии кроме Гёльдерлина есть еще и Эйхендорф, при чтении Гёте мне точно так же должно мешать, что несколькими страницами после «Ночной песни путника» напечатаны застольные песни и шарады.
Но несмотря на такое ворчание, те эстеты останутся в Германии вскоре единственными людьми, которые еще сознательно и с наслаждением будут уметь читать поэзию! А радость от цветения немецкого духа, от задушевнейших и сладчайших звуков немецкого языка станет уделом всего лишь нескольких чутко организованных чудаков!
(1914)
ИНДИЙСКИЕ СКАЗКИ
Когда проходишь по базарам восточноазиатских городов и на штуках выложенного на прилавки шелка пытаешься прочесть хитросплетения фигур, шедевры древнеиндийского или древнекитайского искусства вышивания по шелку, то зрение и мысли оказываются вскоре странно порабощены богатством и бесконечностью, вечным повторением и вечным обновлением форм, сказочным изобилием и неисчерпаемостью. Головы драконов и фигуры богов, многорукие идолы и стилизованные тела животных, тонкие растительные формы и жутковатые полипообразные изображения в целом образуют прекрасные орнаменты, в которых волшебство само собою разумеется, кричащая яркость преображается в мягкость, а несоответствия кажутся естественными. Любуясь, европеец недоумевает, считать ли ему эти причудливые изображения плодом прихотливой фантазии высокоодаренного примитивного народа или проявлением предельной духовной и душевной вышколенности, лишь наполовину понятной нам как существам, стоящим на более низкой ступени развития.
То же происходит с тобою, когда читаешь древнеиндийскую книгу сказок, «Катхасаритсагару» или «Океан сказаний», записанных Сомадевой около середины одиннадцатого века[18]. Это произведение восходит, конечно, к более стародавним временам, и многие истории его в Древней Индии звучали, вероятно, чище и благороднее, но в пестрой мешанине своей, то утонченном, то варварском объединении наивности и высокой духовной культуры, — и оно тоже подлинно индийское. Это уникальное гигантское произведение в переводе Альберта Вессельского выйдет по-немецки в шести томах у Моравы и Шеффельта в Берлине, если роковая война не погубит сего предприятия, как и много других ценностей; недавно появился первый том, безусловно, потребующий продолжения и завершения целого[19].
От сказок других народов эти сказки отличаются прежде всего типичным колоритом индийского духа, его исконной склонностью к набожности и учености. Под стать набожности индусов, заключающейся преимущественно в самолишениях и самоотречениях, их ученость уводит в удивительно нереальную страну чистых формальностей. И то и другое сильно выражено в сказках.
Вместе с тем мы видим и индийскую этику, глубоко коренящуюся в индийском мышлении убежденность в неценности мира явлений, в возможности освобождения путем умерщвления плоти и самобичевания — убежденность, эмоционально и гротескно связанную со сказкообразной мифологией и путаным догматизмом. Ярчайшие идеи индийских ученых об освобождении духа рядятся в серьезно рассказанные, преисполненные дикой и произвольной символики истории о богах, в которых соприкасаются наивнейшие и глубочайшие вещи. Именно из-за этого странного соседства, и поныне характерного для жизни и мышления индусов немусульманского вероисповедания, сказочный сборник Сомадевы представляется мне источником ценных сведений.
Но я не ученый, и что мне пользы от сказок, чтение которых лишь источник культурно-психологических данных? От сказок я требую куда большего — высших поэтических достоинств, подлинно собирательных образов, ситуаций глубокой внутренней правдивости, раскованной, обаятельной в своей прекрасной игре фантазии.
Но эти индийские сказки многое дают и в поэтическом отношении. Благодаря переводу, уже сам их язык радует многочисленными чарующими подробностями. Приведу, например, несколько образов: некое известие для одного из двух друзей радостно, а для другого огорчительно, «подобно тому, как водоплавающие птицы рады приходу времени дождей, а перелетные птицы опечалены этим». Или истинно восточный образ разлуки двух любящих: «Воск жизни тает в огне разлуки». Или о человеке, которому нужно ознакомить со своим стихотворением как можно больше людей: «Он будет распространять его повсюду, как ветер — аромат цветов».
Старинный сказочный вопрос «кто самая красивая во всей стране?» мы встречаем в удивительно просветленной форме. Демон губит сотни людей, спрашивая их: «Кто самая красивая в этом городе?» — пока не сталкивается с мудрецом, который дает прекрасный ответ: «Дурень ты, женщина краше всех для того, кем любима».
В этих замечательных историях есть и отшельник, живущий в лесу и питающийся листьями, и странствующий кающийся грешник, и любопытный царь, и хитрый купец, и многие другие характеристические типы Индии. И гротескные образы, которые прямо-таки огорошивают: как, например, рыба, которая при виде глупости, совершенной принцем, разражается хохотом.
Один в сущности мало индийский персонаж привлекает своим подлинно ветхозаветным характером. Это министр Сакатала, которого царь бросает в темницу вместе с его ста сыновьями. Все они получают еды столько, сколько нужно для поддержания жизни только одному-единственному человеку, и министр просит своих сыновей выбрать среди них того, кто для мести царю чувствует себя достаточно сильным. И все они выбирают отца, который ежедневно питаясь данной порцией пищи, в то время как сыновья один за другим умирают, в жажде мести живет много-много лет. Выйдя на свободу и получив возможность отомстить, он подыскивает себе достойного помощника, брахмана, который занят тем, что из сухой земли выпалывает с корнями траву, мстя ей за то, что как-то раз одна травинка уколола ему ногу. Этот человек неистощимого гнева и свергает царя.
Мы обнаруживаем, естественно, и множество историй, содержащихся в несметных сборниках сказок и анекдотов, которые были распространены в Европе вплоть до средневековья, до Боккаччо.
Но есть и такие истории, которые возможны только в Индии, как, например, известная с древних времен сказка о голубе: он спасается от коршуна на груди доброго царя, и царь обороняет его ценою собственной жизни. Есть и похожая история о добром пастухе, позволяющая заглянуть в самую суть благороднейшего индийского духа.
Истории связаны друг с другом рамочным повествованием, бесподобным в своих переходах и напоминающим азиатскую вышивку с переплетением древнейших мифических орнаментов.
Так пусть же Германия, первенствовавшая до сих пор в независтливом признании зарубежных достижений и в понимании наднациональной человечности в литературе, вновь обратится к работе над произведениями, способствующими миру и пониманию между народами! И пусть это будут не отдельные произведения, а дух в целом, который медленно и терпеливо будет вести человечество к тому еще, возможно, отдаленному, пока только снящемуся нам будущему, когда прекратятся все войны.
(1914)
НЕМЕЦКИЕ ПРОЗАИКИ
Военное время побуждает нас как можно отчетливей вновь осознать свой характер. Но не для того, чтобы напрочь отсечь все элементы иностранных влияний, а чтобы увидеть, на каких, собственно, основаниях притязаем мы на соучастие в формировании всемирной истории. Можно, пожалуй, провести эксперимент, чтобы убедиться, насколько мы, немцы, смогли бы существовать, ограничиваясь лишь собственной продукцией также и в области духа.
Допустить возможность этого в музыке было бы нетрудно, сделав попытку отвлечься от предыстории — от итальянских учителей, хотя без них, конечно, мало бы что осталось от самостоятельности немецкой музыки. А меж тем благодарное восприятие иностранного было всегда именно немецким идеалом, причем восприятие не только внешнего, а самой что ни на есть сути. Немецкая добродетель или слабость полностью погружаться в иностранное всегда представлялась мне признаком возвышенности мышления и терпимости, горделивым непризнанием таможенных и расовых границ в чисто духовном!
Сколько итальянского в Моцарте, и какой он вместе с тем немецкий! Так же обстоит и с Дюрером, так же с Гёте. Но музыка все же, по-видимому, единственное искусство, в котором с высокими притязаниями на самобытность немцы в случае нужды могли бы просуществовать без каких-либо заимствований у других наций, а с высокими притязаниями расставаться нам в этой области действительно не хочется. В литературе же об этом не может быть и речи; немецкому духу в ней издревле присуща чрезмерная космополитичность, чрезмерное благоговение перед лучшим, что до нас дошло, — перед Гомером и перед Римом. Но несмотря на это, немецкая литература достаточно богата! В ней нет Ариосто, нет Свифта, нет Достоевского; но Гёте она бы не променяла ни на одного из них и на всех трех, вместе взятых. Остается еще Шекспир, близкий наш родственник, которого Германия приняла к сердцу куда ближе, чем его собственная родина.
Попробуем-ка поставить опыт и вообразить, что в выборе книг для повседневного чтения мы на какой-то длительный срок оказались ограничены только отечественной литературой — немецкими прозаиками, ибо у большинства людей в чтении преобладает все-таки проза (романы, новеллы). При этом современную, неподдающуюся пока окончательному суждению продукцию мы исключаем, беря только тех писателей и произведения, ценность которых надвременна в нашем сознании и не зависит от моды. При этом не должна, к сожалению, фигурировать здесь и вся старинная наша литература, написанная не современным языком и образованными людьми читающаяся ныне не без усилий. Таким образом остается период от тридцатилетней войны до семидесятых годов прошлого века.
Эту подборку книг я мыслю себе как идеальную домашнюю библиотеку и в дальнейшем — разумеется, не без претензий на полноту — попытаюсь ее описать. Причем о некоторых знаменитых произведениях я буду говорить так, словно они никому не известны, и попытаюсь забыть, какой это, собственно говоря, позор, что они действительно почти никому неизвестны. И с удовольствием представлю себе какого-нибудь образованного, гоняющегося за модой многочея, оказавшегося запертым в этой библиотеке и с удивлением вынужденного осмотреться в здании немецкой литературы, где до сих пор он знал практически только чердак.
По своим истокам повествование не преследует никаких иных целей, кроме по возможности наиболее точной передачи пережитых, услышанных, приснившихся событий. И порою, хотя и редко, высокоорганизованное и даже рафинированное искусство вновь возвращается к этому виду совершенно беспристрастного рассказа, и отлично натренированная художественная воля проявляется тогда в сознательном подавлении всего субъективного, всякой партийности. Однако обычно художественная проза проклевывается именно в субъективном, прежде всего в выборе материала, и в конце концов субъективность эта вымахивает настолько — особенно в немецкой литературе, — что переставший быть наивным читатель в сюжете усматривает уже нечто побочное, лишь средство автора выразить свое личное отношение к миру, свои лично окрашенные мировосприятие и темперамент. Тысячи путей разветвляются здесь на вариации и оригинальности, отчетливо демонстрируя, что форма, какую принимает сюжет, целиком и полностью зависит от личности писателя, его таланта, духовности, настроя души. Мы также убеждаемся, что полной свободы «выбора материала» нет вообще, что индивидуально повествующий — заложник объективного. Клейст не смог бы воспользоваться «материалом» рассказов Штифтера, а Мёрике немыслим как автор «Михаэля Кольхааса»[20].
Чем же мы руководствуемся в оценке? По какому эталону, закону и чувству считаем мы какой-либо роман или новеллу более ценными, чем другие?
Есть, очевидно, две единственные возможности оценки наивно-человеческая и эстетическо-формальная. Мы способны любить какую-нибудь историю и приписывать ей ценность, потому что нас восхищает талант автора, потому что она приятна и гармонична с чисто художественной точки зрения. Или мы любим ее, потому что нам нравится и импонирует как человек сам писатель, потому что его изображение поступков и событий кажется нам значительным, добросердечным, умным, понятным и сулит развитие наших собственных взглядов на жизнь. Из достаточно здоровых людей, которым чуждо сомнение в себе, страстные будут любить в писателе страстность, умные — ум, добрые — доброту; среди плохо уравновешенных читателей зачастую будет наблюдаться противоположное: сильные духом потянутся к наивной эмоциональности, необузданные — к обузданной отстраненности. Мы и у писателей обнаруживаем, что их персонажи — то отражения и свидетельства личности автора, то противоположно организованные типы, выражающие то, чем автор хотел бы стать. И в каждом над индивидуальными характеристиками бессознательно господствуют сверхиндивидуальные — от родовых и семейных до общечеловеческих.
И все же превыше всего мы неизменно ценим те произведения, которые укрепляют нас в человеческих чувствах и эстетически удовлетворяют. И идеальным автором был бы тот, у кого достигают максимума и талант, и характер. Но никому не дано существенно улучшить свою натуру. У художника единственный путь к такому улучшению — это путь борьбы за наивозможно большее взаимосоответствие таланта и характера. Виртуоз, который нам кажется способным создавать своим произведением и прямо противоположные вещи, вызывает у нас подозрение и вскоре становится неприятен. И человеческое суждение в конце концов одерживает верх над эстетическим. Ибо мы нелегко прощаем таланту, который злоупотребляет собой, и очевидные формальные промахи легко прощаем произведению, ценному с человеческой точки зрения. Мы не слишком строги и в оценке широко задуманных, но потерпевших формальную неудачу вещей (как, к примеру, в случае оставшихся незавершенными многих великих произведений), прощаем и неловкое выражение искреннего чувства; и напротив — мы беспощадны к писателю, стремящемуся выказать ума и чувства больше, чем он имеет.
Созвучие таланта и характера можно проще обозначить как верность самому себе. К писателю, обладающему этим качеством, мы испытываем доверие. Нам не нравится только, когда простодушный рассказчик без нужды пытается остроумничать. Но всплески юмора у писателя сильного вызывают в нас любовь и восхищение; люб нам и дорог также и слабый, интеллектуально перегруженный автор, находящий на наших глазах спасительный выход в иронии. И наиболее глубоки корни доверия к писателю, в котором мы распознаем качества, свойственные нашему племени или народу в целом.
Но неизменно наше верное чутье требует от литературы некоего сокровенного унисона с жизнеспособностью вообще. Только не надо с пристрастием заклиниваться на этом, подобно однобоким адептам отечественного искусства, почвенности и здоровья. Жизнь права во всем, и запоздалого дитятю, утонченного и чахлого отпрыска нисходящего рода естество хочет не в меньшей степени и держит его от себя не дальше, чем деревенского крепыша. Иначе бы любая история из жизни крестьянских молодцов была сама по себе ценнее «Гипериона»[21], и всякий разудалый капельмейстерский марш считался бы лучше Шопена. Но и вне этих нелепейших противопоставлений остается все-таки непреложным: всякое отрицающее жизнь искусство в себе не едино и глубоко сомнительно. Не существует непригодных для повествования событий; Клейст и другие писатели рассказали об ужаснейших вещах так, что мы им за это благодарны. Ведь не просветленные любовью и разумом писателя отвратительные и устрашающие в своей непредсказуемости вещи обдают читателя холодом и глубоко обескураживают. Классическим примером может служить одна из страшнейших историй, что известны мне в нашей литературе периода упадка, искусно сочиненная новелла Хеббеля «Корова». Притом что в ней ничто не приукрашено, не смягчено, не подтасовано, она пронизана глубоким состраданием автора — состраданием, на мой взгляд, даже невысказанным, совершенно скрытым, передающимся читателю совершенно косвенно, но отчетливо и недвусмысленно. Если его нет, то рассказ, который мог бы быть скорбным и величественно ужасным, вызывает только неприязнь.
В прочем же поступают правильно, делают то, чего хочет природа, и полный свежих сил молодой писатель, восхваляющий жизнь во всем ее многообразии, и недоверчивый страдалец, с тоскою фиксирующий тончайшие нюансы и боязливо-любовно взирающий на то, как распадается по нитям ткань бытия. Делают свое, способны быть художниками, верны своей собственной сущности и наивный влюбленный, обнимающий дерево или скалу, и ребенок, самозабвенно и бережно улыбающийся прекрасным играм древней Майи[22]. И в крике тоски преследуемого злой судьбой, проклинающего свое появление на свет, тоже торжествует жизнь и стенает темное сладострастие бытия.
Каждый писатель дает нам тем больше, чем совершенней выражает собственный тип. Меланхолик, как ни подавляй он свои слезы, жизнерадостности нам не внушит, а тот, чье мировосприятие окрашено в сумеречные тона и настроено на уныние, утверждает бытие тем более страстно, чем глубже ощущает он тернии во всякой усладе, чем зримее для него тревожные тени, нависающие над прекрасным. Писатель с ложным оптимизмом не лучше и опаснее (потому что чаще встречается), чем дилетант, без нужды прибегающий к лире, увитой цветами мрака. Глупцы — и тот и другой. Но исполнены смысла и ценности, способны дать утешение всякое обретшее форму мировосприятие, всякий пафос, всякая радость, всякая меланхолия. Только ценность и значимость писателя, конечно, тем выше, чем неохватнее его душа, и кто, помимо Вертера, может быть и Вильгельмом Мейстером, является большим, чем каждый из двух в отдельности. Но тот, кто сочиняет нечто a la «Вильгельм Мейстер», в то время как с таким же успехом мог бы сочинить нечто подобное «Вертеру», — в лучшем случае просто талант.
Повлияет ли автор на читателей, зависит в конце концов не от индивидуальных возможностей, не от техники, ума и вкуса, а от темперамента его натуры, от полноты и мощи, с коими удастся ему выразить самого себя. Четкая позиция в жизни, глубочайшее понимание необходимостей, изведанная чувством, а не вымышленная гармония с жизнетворным началом природы — вот что решает.
На взятом нами отрезке истории немецкая проза испытала сильное развитие, куда более сильное, чем поэзия, чья культура несколько столетий тому назад была в Германии выше, чем ныне. Языку семнадцатого и даже шестнадцатого столетия, еще не утраченному и не ставшему для нас чужим, немецкая проза придала гибкость и обилие нюансов, что в официальном использовании нашего языка давно привело к странной неуверенности и неловкости, но зато таланту позволило бесконечно индивидуализировать выражение. Такая дифференциация письменного языка мало что дала технике чистого повествования, которая в Италии, Испании и Франции была высокоразвитой уже давно. Но для писателей она оказалась возможностью приспособиться к языку, обрести с ним резонанс, музицировать на нем, без чего при прочих равных условиях наши филиграннейшие произведения не приобрели бы своего задушевного очарования. Открылся путь для радости от выражения в языке самого что ни на есть личного, хотя этот путь зачастую был ложным, заводившим в дебри, но порою открывались на нем и невиданные красоты. Подобно тому как набожность писателя спасалась, бывало, бегством из религиозной литературы в светскую, пристыженная поэзия все чаще укрывалась в языке прозы. Завершается этот путь тем, что можно назвать чисто музыкальным романом, жанром, который никогда не станет нормой; многим он, к сожалению, не удавался, но в ценности его и исключительной красоте не сомневается никто из читавших с пониманием «Гипериона»[23] и «Гимны к ночи»[24]. Еще немного и этот жанр становится покоящейся в себе поэтической прозой «Заратустры»[25]. Как лирика вторгается в прозу, мы видим еще до Гёте, у Геснера и других, а позднее, особенно у романтиков, — как прочная форма прозаического повествования вновь и вновь разрушается восторженными мечтателями, вновь и вновь реформируясь твердой рукой отдельных пуритан, и, когда было еще далеко до возведения романа, этого новейшего жанра литературного искусства, в жесткие формальные рамки, широкий простор оставался для всякого, кого отпугивали требования определенной формы. В других же странах, к примеру в Англии — естественно, не без участия буржуазной нравственности и политических норм, — сложилась и поныне господствующая четкая романная форма, и, благоприятствуя податливым талантам, она, как и тогда, по-прежнему не допускает до себя бесцеремонных гениев. А у нас в блистательно размашистой попытке воплотить вселенную в одной-единственной книге еще Гёте взорвал «Фаустом» драму, а «Вильгельмом Мейстером» — роман. И то, что культура романа у нас все-таки полностью не погибла, что более скромные в своих желаниях писатели позднейших времен сумели возродить роман как художественную форму, стало возможным благодаря именно зарубежной романной литературе. Почти все великие немецкие романы, возникшие в прошлом вплоть до «Зеленого Генриха», — не образцы, а разновидности этой повествовательной формы. Но зато какие разновидности! «Вильгельм Мейстер», «Гиперион», «Озорные годы»[26], «Генрих фон Офтердинген», «Художник Нольтен»[27]! В отношении формы у крупных немецких произведений этого жанра бесконечно мало общего; зачастую даже кажется, что их авторы не заимствовали друг у друга ничего, кроме ошибок. Но общим является у них все-таки главное: верность писателя себе самому, широта устремлений и взвинченная порою до трагического воля к сотворению мира по собственному образцу и подобию, по ритму собственного дыхания.
То, что наряду с писателями во все эпохи работал еще и цех ремесленников, фабрикантов от литературы, для нас сейчас неважно. Их книги канули в Лету. Кроме Жан Поля, ни один из немецких прозаиков не пользовался в свое время особенной популярностью, не было ее вовсе и у самого Гёте, которому уже ни разу не удалось добиться столь быстрого и большого успеха, каким оказался успех «Вертера». А «Гиперион», «Нольтен», «Зеленый Генрих» нашли своих читателей лишь спустя десятилетия.
Выходит, что наши лучшие авторы, в сущности, совсем не прозаики? Что наши лучшие романы — поэзия, замаскированная философия, оргии упивающегося самим собою языка? Однако дело обстоит не так уж и плохо. Оргии эти священного свойства, а чудовища формы — воистину дивные природные экземпляры; и, кроме того, у нас все же есть несколько мастеров, которые ни разу не теряли объективности чистого повествования и к тому же позволяли нам выглядеть довольно неплохо рядом с французами и англичанами даже тогда, когда фантазеров наших повсюду освистывали. Но нет и речи о том, что, скажем, Гёте и Новалиса освистывают за границей, хотя они и там слывут фантазерами. Напротив, перед ними снимают шляпу, считая заслугой их то, что иностранцам, вероятно, не понять вполне никогда, но что достойно высшего восхищения. Из наших романтиков, которые для читателя, наверно, порой нелегки, во Франции, например, очень популярен был именно Гофман, создатель повествовательной формы на пределе разрушения жанра. Мы можем этим удовлетвориться. И со своей стороны у некоторых лучших французов и англичан — у Жерара де Нерваля, у Карлейля и других — нам следует поучиться чтить выше святыни нашей литературы. Во всех областях это не дешевая массовая продукция, коей Германия способна надолго заполонить весь мир, а скорее деяния и творения типа «Зеленого Генриха», «Геспера»[28], «Вильгельма Мейстера». К таким произведениям ныне относятся за границей с меньшей благосклонностью и терпимостью, чем когда Германия соперницей не считалась. И это для нас еще один повод добиться успеха.
Нужно признать, что немецкая проза не систематически и по всем правилам культивируемый и расширяемый растениеводческий резерват, а одичалый сад, засоренный случайной, произвольно выросшей флорой. Здесь и анархия, и саморазрушение, лавина метафор и фанатическое идолопоклонство — хватает всего, и повинны мы в этом не больше, чем в том, что у нас длинный нос. Эту литературу мы унаследовали от предыдущих писательских поколений, для которых публика чаще всего была чем-то невыразимо побочным. Отсутствовала академия, каждый работал, как умел, и если его награждали придворным орденом, он зачислялся коллегами в карьеристы. В детстве наша литература не получила хорошего воспитания. Но не эта нехватка в последнее время, кажется, мстит за себя.
Но достаточно предисловия. Все можно изобразить и иначе. За последние два-три века можно обнаружить совершенно прямое и с виду самим Богом приуготовленное развитие — если угодно. Но угодно быть не должно, хотя вообще-то и не очень важно, как это объяснять. С началом войны мировоззрения опять упали в цене. И совсем безразлично, какие линии мы усматриваем или проводим в истории нашей литературы. Но очень небезразлично, будем ли мы заботиться о сохранении унаследованного сокровища с благодарным почтением, как это должно по отношению к деяниям предков, и содержать его в чистоте или, подобно парвеню, будем покровительственно похлопывать по плечу устаревших господ писателей. Ибо литература не разведение грибов, как думают читатели новейших произведений; дыхание народа неторопливо, медленно бьется пульс также и у литературы. Кто же преодолеет робость и какое-то время будет вдыхать непривычный аромат старины, тот убедится: литература двух истекших столетий не только заслуживает почтения, но и куда интересней, чем то, что написано за последнее десятилетие. И станет явным, что некоторые — а их немало — книги семидесятых, восьмидесятых и девяностых годов допотопны и даже попахивают гнилью уже сейчас, в то время как старик Гриммельсхаузен, старик Гёте и прочие подобные им гиганты под тонким слоем патины полностью сохранились и, словно в сказке, по-прежнему живы.
Новое немецкое искусство прозы начинается с произведений, отмеченных наивным совершенством, возможным лишь в бесхитростные времена, — с чудесных анонимных «народных книг». Добротной, народной прозой пересказан в них почти весь материал, сохранившийся тогда в крупных стихотворных эпосах и латинских исторических сочинениях. «Магелона» и «Геновева», «Дети Хаймона» и «Фортунат» веками оставались близки немецкому народу и по-прежнему публикуются во все новых обработках. Из последних немногочисленных обработок наиболее достоверны, пожалуй, обработки Рихарда Бенца. Подобно народным сказкам, почти все истории эти сотканы из древнейшего материала, отражающего бессознательные сущностные чаяния и мечты человека, и уже только этим они в известной степени вечны; к тому же некоторые великолепно рассказаны и преподнесены; о, какой источают они аромат, бередящий нам, современникам, душу! Они погружают в средневековую атмосферу спасения в вере, подобно тому, как возводит над нами умиротворяющие своды арабская сказка; эти истории нам чужды и любы, как рай, который покинули мы по собственной воле, но о котором еще не совсем разучились мечтать.
После народных книг в нашей только что начатой истории отверзается большая пустота. С конца шестнадцатого до начала восемнадцатого столетия Германия кишела толстенными романами, которые примечательным образом все до единого канули в Лету, — их была уйма, и заглавия их звучали довольно забавно, жирными кондитерскими украшениями барочного стиля возвышаясь над книжным потопом — сплошь посредственными подражаниями испанским и прочим иноплеменным образцам. Храбрецы, пожалуй, получат еще удовольствие от «Филандера Зиттенвальдского» Мошероша, но больше ни от одного из тысяч этих романов. Вот с такими заглавиями: «Христианских королевских князей Геркулискуса и Геркуладисла, а также их высокознатного общества прелестная история» или «Азиатские Банизы, или Кровавый, но мужественный Пегу. Покоится на исторической и облаченной в плащ благородной героической и любовной истории истине». Этот по моде причесанный мир рыцарей и тоскующих любовников, коварных камердинеров и смелых путешественников в Ост-Индию кажется вполне привлекательным, пока читаешь трескучий титульный лист и рассматриваешь зачастую очень неплохие гравюры, которые имеются обязательно. Но эту макулатуру, к тому же, как правило, многотомную, не читают даже литературоведы.
Многое из нее, пожалуй большую часть, поглотила тридцатилетняя война. Сгинули тогда произведения и получше. Но, как говорится, не было счастья, да несчастье помогло, и это величайшее несчастье Германии породило одну из лучших наших книг и, несомненно, лучший из всех немецких романов «Симплициссимуса» Гриммельсхаузена. Как ни ищи, в последующие сто лет не найдешь ничего столь замечательного. Бесчинства солдатни и крестьянская нищета, торгашество и страдания народа, бесшабашные боевые призывы и потаенный стон истерзанной земли — обо всем этом пишется в «Симплициссимусе» и еще о многом другом; и весь он — глубокий, торжествующий вздох обновленного немецкого языка.
Быстро сбежались подражатели, и скончавшегося героя стали растаскивать по кусочкам. Вот как порою получается: следующей после «Симплициссимуса» замечательной книгой стала пародия на него, даже и не пародия, а веселое передразнивание симплициады — разудалый «Шельмуфский» Рейтера. Трагикомические беды громоздятся в нем друг на друга, но с таким безудержным хвастовством преподносятся — честное слово, и черт меня побери, коли это было не так, — что хочешь не хочешь — рассмеешься. Но в пройдохе кроется умный, проницательный молодой человек с добрым и честным сердцем.
Кроме этого, из семнадцатого века следует упомянуть разве только еще экзотические описания путешествий в Америку, Африку, Ост-Индию. Некоторые из них я прочитал с удовольствием: кое-какие современные книги этого жанра скучнее. Сюда же относятся фантастические путешествия и робинзонады, из которых любители прошлого смогут, пожалуй, еще насладиться «Островом Фельзенбург» Шнабеля.
Романы, выходившие тогда зачастую даже княжеским форматом ин-кварто, целиком и полностью ныне забыты. Романы о графинях Лоэнштайна и Геллерта встречаешь порою в старых библиотеках, листаешь их, находишь удачные пассажи, откладываешь и забываешь. В то время, как Вольтер писал своего утонченного «Кандида», Дидро — остроумного «Жака», Руссо — «Элоизу», в то время, как в Англии выходили замечательные романы, настроенные на психологический поиск, в Германии кропались галантные стишки или поучительные библейские эпосы. Но в то же время Лессинг, смелый последователь Лютера, боролся за новый немецкий язык, оттачивал его, делал пластичным и выразительным; этим языком мы пользуемся и поныне.
Нельзя не упомянуть Маттиаса Клаудиуса с его сочной народной прозой, искренней и яркой человечностью. Писал он, правда, не рассказы в собственном смысле, а так называемые календарные истории — смесь нравоучений, проповедей, анекдотов и фельетонов, которая, сама по себе будучи варварской мешаниной, изложена, однако, отличным немецким языком, занимательна и преисполнена мелких красот и находок. (Довольно неплохое малое избранное Клаудиуса издал Феликс Гросс.)
Генрих Юнг (Юнг-Штиллинг), друг юности Гёте, оставил нам в наследство прекраснейшую историю детства и юности, написанную им в период между Гриммельсхаузеном и Гёте. Интересны и продолжения «Жизнеописания Юнг-Штиллинга», но наиболее замечательное произведение догётевского периода, пожалуй, только первая часть. Каждое слово здесь дышит радостью и покоем тесного домашнего уюта, это фрагмент жизни маленького человека, чью целомудренность и степенную чистоту в совершенном изображении находим впервые мы у Жан Поля, а позднее у Штифтера. Этот безыскусный рассказ останется документом простонародной немецкой жизни, сокровищем наивно-здорового немецкого языка даже тогда, когда все остальное творчество Генриха Юнг-Штиллинга будет забыто еще больше, чем ныне. И хотя та жизнь была деятельной и значительной, хотя стяжала обширнейшее влияние, авторитет и успех, искусство неумолимо верно себе, сохраняя для будущего лишь минимум когда-то исчерпывающе запечатленного «содержания»; развеивается все, что лишь содержание, лишь наполовину воплощенная жизнь.
Теперь у нас есть почва под ногами. Следующая немецкая прозаическая книга называется «Страдания юного Вертера». Сильнейший образ страстного молодого чувства, первый полный расцвет юношеского языка Гёте, эта в прошлом модная книга и поныне пользуется любовью у молодежи. Гёте, автору более великих произведений, в дальнейшем так и не удалось еще раз создать столь совершенную малую форму, прозаическую книгу, рожденную на одном жарком дыхании и вплоть до каждой фразы, до каждого огреха преисполненную столь стремительного, всеувлекающего потока сверхнапряженного чувства. Мне никогда не приходилось защищать «Вертера» от уничижительных суждений. Зато я часто встречался с жестким и почти пренебрежительным неприятием «Вильгельма Мейстера», а также «Избирательного сродства»; способные молодые люди клеймят эти произведения за нечеловеческую холодность, за «нестерпимо поучительный гувернантский тон». Это совершенно неверно по отношению к первой части «Вильгельма Мейстера», которая начинается с чрезвычайно родственной «Вертеру» теплотой и в каждой детали насыщена трепетным чувством. И только последующие части теряют эту теплоту и пленительную непосредственность, становясь безучастными и статичными, автор подолгу начинает останавливаться на абстракциях, то тут то там выводя чуть ли не аллегорические персонажи. Нередко отчетливо ощущается, что рука писателя стареет, что бразды рассказа она подбирает вновь, словно после утомительных побочных дел, как бы нехотя, лишь подчиняясь безрадостной дисциплине. Одна из глав начинается, к примеру, так: «Чтобы польстить обычаю уважаемой публики…» или «Чтобы не судить о нем, однако, превратно, мы должны направить свое внимание на происхождение и жизнь этого достойного, достигшего уже немалого возраста человека». Все это, несомненно, могло бы быть поживее, не излучать такой утомленности, не производить впечатление порою даже склеротичности. Но к этому великому произведению надо бы попытаться подойти иначе: с удовольствием прочтя «Годы учения», дышащие в целом свежестью юношеского чувства, отложить книгу и подождать, пока само собой не проснется любопытство, потаенный интерес к тому, как же будет дальше плестись эта ткань, что же в конце концов получится из столь многочисленных нитей. И тогда в тебе возникает чувство, которое, нарастая и постепенно гася раздражение, приведет к пониманию того, насколько стоек был автор в своей грандиозной попытке создать историю становления человека, предпринятой им в плодотворные годы юности, как преданно все чаще и чаще возвращался он к ней с годами и десятилетиями. И по отношению к идее строительства столь огромной башни было бы несправедливо осуждать за недостатки в деталях, за то, что не заполнены какие-то части каркаса. В упрямой верности авторов своим произведениям, которые и завершить-то невозможно, я сам с годами все больше нахожу нечто стоящее выше всяких умений и талантов — огромное напряжение духа в жажде укротить жизнь и упорядочить хаос. И все же читать «Мейстера» не надо уговаривать никого: ведь, чтобы произведение это принесло человеку плоды, необходимы годы. Но уклоняться образованным людям от «Избирательного сродства» я бы не разрешил. Оно не просто произведение Гёте, не просто вместилище его глубоких познаний, высокой нравственности и жизненной силы. Оно еще и образцовый роман, совершенное по форме творение, и «прохладность» его, на которую часто ссылаются, — не отстраненность, не старческое малокровие, а строгая, кристально чистая атмосфера потрясающей сосредоточенности и самообладания. Книга преисполнена потаенного тепла! Потому что преисполнена любви — любви уже не юноши, не прекраснодушной мечтательности, а куда более глубокой, выстраданной, дорого доставшейся, жизнеутверждающей любви мудреца, познающего мир. В том, что последующие поколения немецких писателей взяли за образец «Вильгельма Мейстера», а не «Избирательное сродство», у которого как романисты они могли бы научиться большему, — перст судьбы и глубокая необходимость. Но умению делать романы они предпочли далекие странствия, предпочли соизмерять себя с несоизмеримым. «Избирательное сродство» как пример совершеннейшей книги классической эпохи стоит абсолютно особняком и на диво — среди сплошь проблематичных произведений. Единственный из живущих прозаиков, чье имя в этой связи я из благодарности хотел бы назвать и кто в своих лучших произведениях напоминает порою одинокое «Избирательное сродство», подобно тому как малое напоминает великое, — это Эмиль Штраус.
Известно, что роман пытался создать также и Шиллер. «Духовидец» неплох, хотя, собственно говоря, он скорее просто блестяще написан и в первой части его есть нечто от добротной, развлекательной книги, что опьяняет при чтении. Но он недостаточно завершен, и шиллеровский дух присутствует в нем лишь наполовину.
Как прозаик стал не нужен ныне и Виланд, хотя в истории романа и он занимает определенное место. С наслаждением читаешь его добротные аттические фразы, с удовольствием следишь его остроумие. Но он не излучает ничего существенно характерного, он был в конечном счете лишь виртуозом, и лучшее, что создано им, заключено в «Обероне» и прочих стихах.
Сюда же относится и Музеус, рассказчик со вкусом и уверенным стилем, но гладкость его выдает не только умение ловко избегать трудностей, но зачастую и недостаток природной энергии. Исключение составляют сказки, в которых его манера хотя и пробуждается, выводится из расслабленного состояния мощью самого материала впечатляющих результатов все равно не дает. Так возникло нечто во многом чарующее, более подлинное, чем прочие его сочинения, но совершенно неискреннее; материал заключен в прочную, хотя и не совсем адекватную форму, и просматривается так же отчетливо, как комар в янтаре.
Хорош «Антон Рейзер» Морица, так называемый «первый психологический роман». Неслыханная до той поры правдивость в подробнейшем изображении пережитого делает эту книгу ценной и ставит ее в один ряд с достовернейшими, какие у нас только есть, записями юношеских воспоминаний.
Несмотря на богатство тогдашней немецкой литературы, прозаические произведения нашего восемнадцатого века по сути все же близки к друг другу. Можно назвать еще Гермеса и Тюммеля. Нежное мгновение еще трепещет у меня в руках от «Жизненных путей» Хиппеля. Эта книга тоже, наверно, обречена на забвение, но она очень мила, умна и талантлива.
Я чуть не забыл того, о ком здесь надо сказать непременно — о веселом озорнике, последыше из семейства Шельмуфского, об «Удивительных путешествиях и приключениях Мюнхгаузена». По-настоящему так и не стало известно, кто, собственно, отец этого жизнеспособнейшего бастарда. Бытовала легенда, которую охотно принимали на веру и которая, видимо, сохранится. Книга якобы выдумана из чистого баловства в Гёттингене около 1785 года знаменитыми своим шалопутством поэтом Бюргером и профессором Лихтенбергом. О том, что это, кажется, не совсем верно, недавно дал краткую справку Пауль Хольцхаузен в послесловии к неплохому изданию «Мюнхгаузена». Хотя и не Бюргер выдумал этого враля, немецкая литературная запись принадлежит все же ему. И несчастливец Бюргер, как бы в противовес трудностям, с которыми, несмотря на всю гениальность, творчество его прокладывало себе дорогу в постоянной борьбе, раскрываясь лишь перед теми, кто проникали в него глубоко и терпеливо, придал своему небольшому произведению такую форму, что из сомнительного пантеона литературы оно вскоре перешло в дома народа и стало просто безымянно странствующей народной книгой, подобной «Уленшпигелю»[29] или «Шильдбюргерам»[30].
Питаемый Гёте рождается новый дух, «романтизм», о котором говорится так часто. В него до безумия, до пресыщения можно влюбиться и, превозмогая дурман, можно вновь далеко уйти от него. Но изжить его просто как нелепую болезнь было бы примерно то же, что объявить досадной ошибкой существование дедов. Ведь именно потрясающей плодотворности эпохи романтизма мы и обязаны появлением блистательной вереницы замечательных произведений.
По истории, надо бы сейчас сказать о Гёльдерлине. Но его «Гиперион» не относится к книгам, которые обычно рекомендуются читателям. По крайней мере, он не для тех, чью душу не задевает эта возвышеннейшая тоскующая песня! Мы же, другие, вновь и вновь возвращаемся к его прекрасной печали и навсегда сохраняем в душе пафос его удивительной музыки.
Тем с большим удовольствием рекомендуют обычно Жан Поля. Натурам поэтическим — для наслаждения, меланхолическим — как неисчерпаемый источник бодрости, филистерам — как чудодейственный горчичный пластырь. Жан Поль единственный немецкий писатель, у которого есть все прелести, все таланты, все задушевнейшие чувства романтизма и над которым распахнута прохладная высота звездного неба классического немецкого гуманизма. Кому, как не Жан Полю, немцу в каждой добродетели и каждом пороке, неисправимейшему идеалисту, как нельзя хуже воспитанному мальчишке-сорванцу и одновременно человеку матерому, следовало восстановить в правах чуть ли не дефективную историю немецкого романа-неромана и обнести ее солнечным и лунным нимбом кому, как не ему, нашему величайшему дилетанту и величайшему мастеру? К четырехтомному роману с сотней персонажей потехи ради навешивает он еще двухтомное «юмористическое приложение», сколь прекрасное, столь же и лишнее. И в тот миг, когда мы чувствуем, что хорошо сошлись с этим славным малым и уже вовсю хохочем над его неистощимыми анекдотами, непостижимый, он вдруг выпрямляется и, весь как грозное божество или по меньшей мере Иоганн Себастьян Бах, своими большими глазами вскидывает на нас взгляд, преисполненный величественнейшего человеческого достоинства. Рассказать о Жан Поле на сотне страниц столь же невозможно, как и в двадцати строках. А зачем это, собственно, делать? Когда разум склоняется перед тем, что превыше всякого разума. Знать одну из его книг и знать хорошо — обладать величайшим богатством, которого никогда не убудет, сколько из него ни черпай. Возьмите хоть «Озорные годы», хоть «Квинта Фиксляйна», «Зибенкеза» или «Вуца».
Перед изобильностью Жан Поля почти бедно выглядит Новалис. Но именно он ближе всех принял к сердцу «Вильгельма Мейстера» и с этим опасным образцом мужественнейше сражался почти до ненависти. «Генрих фон Офтердинген», крупный фрагмент, созданный столь храбрым чахоточным юношей, столь разумнейшим мистиком, нам безусловно необходим. Как и «Вильгельм Мейстер», начинается он тепло, задушевно, по-добротному повествовательно, чтобы затем, разрастаясь и ввысь и вширь, потерять очертания и исчезнуть за облаками. Это самое магическое и самое религиозное произведение собственно романтизма. Если Новалис хотя бы наполовину известен был так, как известен сейчас Метерлинк, тогда бы, возможно, мы и были достойны его.
Едва я подумаю о странно двуликой продукции Людвига Тика как прозаика, как тут же вспоминаю «Белокурого Экберта». Сколько прекрасного, глубокого и композиционно уравновешенного создал Тик, но эта сказка — его сильнейшее прозаическое произведение. В немногих рассказах, в том числе и романтических, нашла столь полное и непроизвольно мощное выражение таинственная первооснова душевной жизни, та бездонная пропасть страстей, психического наследства и ранних воспоминаний, которую мы называем бессознательным. Этой сказке присуща жизненная сила, как ни одному из более рационалистических и реалистических произведений Тика, неустанного рассказчика, оставившего около двадцати томов эпической прозы. Кроме «Экберта», в нашу библиотеку должны войти еще и несколько других его вещей, даже в том случае, если мы откажемся от двух больших романов проблематичного «Ловелла» и более приятного «Штернбальда». Необходима, например, его, к сожалению, незавершенная повесть «Мятеж в Севеннах»; к нашей библиотеке должны мы присоединить и восхитительную новеллу «Виттория Аккоромбона». Необычайно прелестна и одухотворена вереница рамочных диалогов в его юношеском собрании стихов «Фантазус», зажигательная динамичность их и изящество, пожалуй, уникальны в нашей литературе. Тик, автор еще и нескольких непонятно почему забытых стихов, куда более, чем Жан Поль, пал жертвой своей прижизненной сверхпрославленности. Теперь он практически только имя, хотя, возможно, у него и вправду было больше умений, чем силы, больше таланта, чем личных качеств. Мне бы не хотелось об этом судить. Только вот виртуозы (а Тик, помимо прочего, был еще и виртуозом) таких вещей, как «Экберт», никогда не писали.
Среди сочинений Брентано, трагически заблудшего гения, едва ли найдется такое, где магически то тут, то там не вспыхивали бы остроумие или глубокая мысль. Но, если смотреть на произведения Брентано отдельно от его личности, эти вспышки сливаются в морочащее глаза мерцание. Тому же, кто любит Брентано, многое дадут и его пресловутый «Годви»[31] и особенно сказки. Но человека, читающего их вчуже, они вскоре утомляют и разочаровывают. Ценность сохранили для нас только его небольшие вещи — «История о бравом Касперле», «Несколько Горемельников» да, пожалуй, фрагмент «Хроники странствующего школяра».
Трудно обстоят дела и с Арнимом. В его многотомных, ставших уже редкостью сочинениях заключены восхитительные сокровища. Счастье, что братья Гримм в свое время не передали ему и Брентано собранный ими материал для сказок (что чуть было не произошло!)[32]. Самая прекрасная вещь Арнима незавершенный роман «Хранители короны». Кто полюбит его, прочтет и «Изабеллу» и «Долорес»[33], заинтересуется также новеллами. Удивительной изобильностью, восхитительной барочной перегруженностью отмечен стиль этих книг; поначалу они захватывают, а потом пресыщают. Но тяжелые эти напитки любы потайным знатокам, которые наслаждаются ими неторопливо, по каплям.
Шамиссо, истолкованный недавно одним остроумцем как великий преодолитель романтической несуразицы, в нашей благодарной памяти остается все-таки прежде всего автором насквозь романтического юношеского произведения, восхитительной новеллы «Петер Шлемиль». Удивительно при этом, что Шамиссо по рождению француз, что Германия поначалу была для него вынужденным пристанищем и лишь в дальнейшем стала отчизной, настоящей, избранной им самим, и что «Шлемиль» не только преисполнен подлинно немецкого романтического духа, но и написан тонко прочувствованным, лично-живым немецким языком. Удивительная история об утраченной тени толковалась по-разному, ее символика примечательным образом смыкается с народной сказкой, в которой она, естественно, глубоко коренится. Томас Манн высказался о ней недавно столь убедительно и прекрасно, что я позволю себе воздержаться от перепевов.
Немало немецких прозаических сочинений содержали стихи; достаточно упомянуть лишь «Миньон», «Арфиста», «Филину»[34]. Но то, что новеллы и романы в своих эмоциональных кульминациях совершенно органично начали звучать как чарующие стихотворения, оказалось все-таки новым. В первом же своем романе с небрежной естественностью добился этого Эйхендорф, что было, видимо, некорректно, но необыкновенно прекрасно. Мир Эйхендорфа, несмотря на миниатюрность и детскость, лучисто непогрешимый; исполненный божества, подобный магическим переливам крыл мотылька, он просто прекрасен, в нем нет ни проблем, ни вопросов. «Бездельник» знаменит. Но не общеизвестно, что у Эйхендорфа имеются и другие сокровища, прежде всего — «Замок Дюранд». На чтение того и другого романа я не хочу подбивать никого. Но кто все-таки соблазнится, пойдет через сады и леса тихими и сокровенными тропами детства и без объяснений поймет, как пленительно восхитителен мир, как замечательно жить, и с благодарностью будет порой замечать, что за руку его ведет не ребенок, а сильный и, случись беда, неустрашимый мужчина.
Но где же «швабская поэтическая школа»[35], о которой узнали мы гимназистами и чье убиение рукою Гейне мы единодушно приветствовали, когда нам было по семнадцать? Разве все ее многочисленные последователи не создали ничего прозаического? Кое-что мне приходит на память, но мало, чрезвычайно мало. Сокровище (но не прозаическое, а поэтическое) — «Дорожные тени» Кернера. Очень тонки и великолепны и его «Картинки детства». И вслед за ним, уже совершенно похороненный, Густав Шваб основал свое негромкое бессмертие на прочнейшем фундаменте — любви молодежи. Его народные книги, и в особенности «Сказания классической древности», — по-прежнему свежи и неувядающи.
Э. Т. А. Гофман, последний подлинно романтический рассказчик, демонический волшебник, жгуче любимый писатель, ночами напролет опьянявший своими книгами в юности! Бесполезно его ловить на встречающемся порой легком стилистическом озорстве, не удастся его развенчать и за сомнительность психологизма! Кто по значимости уравнивает Гофмана с По, более того — кому могут заменить Гофмана новейшие авторы фантастических ужасов, тот никогда у него не бывал в сокровенном святилище. Сила несравненнейшей личности Гофмана формировала и его несравненный язык, неподражаемый, музыкальный и почти всегда чуть лихорадочно торопливей: «Быстро ринулся я, забыв накидку и шляпу, в темную, бурную ночь!» И хотя его единственный обширный роман, «Эликсиры сатаны», не лучшее, что им создано, он обязательно должен быть включен в нашу библиотеку. Но включены должны быть и «Золотой горшок», и «Мадемуазель де Скюдери», и «Щелкунчик», и «Принцесса Брамбилла», и «Советник Креспель», и «Кавалер Глюк», и «Мастер Мартин». И во многих рассказах, фрагментах, нуждающихся еще в последней отделке, в том, что написано по-фельетонистски, — во многих этих малых вещах душа Гофмана вспыхивает зачастую удивительно чистым и мощным светом. Она не мерцает, не колеблется туда-сюда, как у многих романтиков, а повернута совершенно конкретно, в анфас: с насмешкой и ненавистью — к филистерам, толстосумам, прагматикам и с жаркой любовью — к искусству, красоте, всяческой идеальности! И эта прирожденная — почти болезненная, гротескная особенность Гофмана, эта искра лучшего немецкого национального чувства в нем сильно способствовала тому, что его искусство, так проявившееся, восторжествовало над многими метаморфозами вкуса. Некоторые причуды его техники и синтаксиса уже начинают казаться нам чуть устаревшими, и все же мы чувствуем в них нечто большее, чем просто дистанцию времени. Суть Гофмана, в какие бы провоцирующие цвета очередной эпохи и группировки ни были окрашены ее проявления, жива и поныне. Пару лет назад одна немецкая газета, опубликовав вещь Гофмана, а вслед за ней рассказ почтенного современного автора, задала читателям вопрос — которая из двух историй лучше. И читатели указали на современного автора с единодушием, ясно свидетельствующим о высоких достоинствах Гофмана.
С 1808 по 1819 год ректор и настоятель баденского лицея Иоганн Петер Хебель в своем народном календаре, «Рейнском семьянине», напечатал ряд очерков и коротких рассказов, которые вот уже сто лет вновь и вновь привлекают внимательного читателя своим непостижимым художественным совершенством; ныне, как и тогда, ими простодушно, самозабвенно зачитывается и народ, и молодежь. Его книга историй, знаменитая «Шкатулка», которую с удовольствием перечитывает каждый крестьянин Шварцвальда, и в самом деле лучший и совершеннейший подарок, какой когда-либо преподносил своей родине немецкий рассказчик, это вершина и сокровище немецкого повествовательного искусства. Хебель безоговорочно был бы нашим крупнейшим прозаиком вообще, если бы высота его искусства была тождественна высоте его личности, его человеческой сути. А это не так. Хебель тонкий и обаятельный человек, безусловно умный, но не великий, и содержимое благородных сосудов его произведений никогда не льется через край, не бывает непостижимо, не взрывает формы. Он мастер подробностей, и мастер первоклассный, в немецкой литературе единственный и непревзойденный. Он не испытал хоть сколько-нибудь заметного влияния ни Жан Поля, ни романтиков; одинокий и далекий от крупных течений своей эпохи, писал этот идиллик для обитателей маленьких городов и крестьян классические рассказы, в каждом из которых, словно в ювелирном изделии материал взят, повернут и заключен в оправу настолько точно, как не вышло бы лучше ни у какого мастера в мире. Для юго-западных немцев его истории дышат подлинно родной атмосферой; столь же отрадно осознавать особенности своей породы алеманы[36] могут только еще у Готфрида Келлера. На первом месте у Хебеля шутка, находчивость, кураж и наряду с ними унаследованная от стародавнего крестьянства близость к родной природе, добрая восприимчивость ко всему человеческому, сострадательная понятливость, где надо уравновешивающая шельмоватое ехидство. Но при всем господстве личности рассказчика, суверенного художника и даже виртуоза, нигде не примешано его сочувствия или гнева, не нарушена прочная отстраненность, и самую что ни на есть зримую его историю из наполеоновских войн овевает итожащий, претворяющий события в былое, испытанный повествовательный тон, тон календарного рассказчика, умеющего сочно поведать у теплой печи о приключениях в холодные зимние ночи.
Крупным примером того, что способности драматурга не обязательно ущемляют рассказчика и что, наоборот, необычайно способны его поощрять, является Клейст. Его манера повествовать выдает драматургический подход: все персонажи тщательнейшим образом очерчены и охарактеризованы, повсюду созданы прозрачные, динамичные ситуации, и нигде нет отклонения от целого; каждая линия устремлена к центру. Из рассказов Клейста, многие из которых близки старым итальянским новеллам, а своей несентиментальной вещностью напоминают порою даже Стендаля, невозможно отказаться ни от одного. Шедевр этого величайшего среди наших прозаиков драматурга — «Михаэль Кольхаас». С первой же страницы мы сразу попадаем в гущу событий и, чуть не задыхаясь, залпом прочитываем все. Длинные, живописные, богато построенные предложения, воплощающие чувство грамматически чистейшим образом, производят странное впечатление краткости, их течение — это аллегро, аллегро обостренное, несмотря на досадно сверхизобильную пунктуацию. Новелла рассказывает о том, как во времена Лютера конноторговец Кольхаас из-за двух вороных, несправедливо отнятых у него юнкером, напрасно ищет правды и, не найдя ее, становится разбойником, поджигателем и убийцей. Все это, от оклика сторожа и конфискации лошадей до гибели Кольхааса на эшафоте, включая перипетии сложного судебного процесса, рассказано сжато и беспристрастно; повествование о небольшой тяжбе, с напряженнейшей психологической прямолинейностью, но без жестокостей, перерастающей в акцию государственного масштаба, — плавно, округло, человечно и глубоко трогательно, ибо за беспристрастностью кроется большое сердце писателя, который сочувствует своему несчастному герою и не забывает ни одной черточки, служащей оправданию его. А каковы образы, каковы ситуации! Никогда не забудешь, как при входе в зал юнкера Михаэля встречает смех бражничающей компании — уже тогда возникает в душе давящее предчувствие рокового исхода! А как он хоронит свою жену! Несмотря на краткость, везде находится место богатым чувствам, глубоко запечатлевающимся деталям: оловянному гребню, которым живодер расчесывает свои волосы; фруктам, которыми принц угощает детей Кольхааса; и особенно магической истории с запиской ворожеи. Или — как Кольхаас, разоренный и плененный, «перед ликом смерти», предлагает сторожащему его рейтару остаток своей хорошей еды. Все здесь подлинно, темпераментно, схвачено верной рукой и пронизано сокровенной нежностью. После «Кольхааса» долгое время просто невозможно читать современные романы.
Вильгельм Гауф — писатель, против которого многое что можно бы возразить и которого тем не менее прилежно читают вот уже целое столетие. Литературно небезупречный, с сильным уклоном в журнализм, этот непосредственный, душевно здоровый человек так мощно выразил мировосприятие своей молодой, веселой натуры, что созданное им держится непоколебимо прочно. Достаточно хорошо известны его прелестные «Сказки».
По себе довольно одиноким выглядит большой юмористический роман «Мюнхгаузен» Иммермана. «Оберхоф», дошедший до нас произвольно вырванный из этого романа кусок, хотя и делает целому честь, но не дает о нем никакого представления. Кроме Жан Поля, у нас так мало писателей-юмористов (ирония романтиков — не юмор), что мы обязаны лелеять эту редкость. «Мюнхгаузен», внук старого барона-враля, не только остроумен, но и действительно комичен; он разворачивает перед нами столь многогранную картину мира, что, несмотря на ряд длиннот, стоит того, чтобы заполнить его чтением несколько вечеров.
Фридрих Хеббель, хотя и не рассказчик по натуре, тоже не должен быть забыт. Для эпического ему не хватало главного: уюта в душе, умения не торопиться, досужести. Он сам как-то сказал: едва начнешь, и уже конец, и все опять, в сущности, неважно. Однако этот непоседливый человек создал хорошие вещи и в прозе. Его лучшие новеллы — не столько рассказы, сколько портреты характеров, выведенные тончайшей кистью образы неповторимого, сжато очерченного страшного человеческого нутра. Его вещи странны, и стоит читать их все, но для нашей библиотеки я все-таки выбрал бы только «Шнока». Это сложенный из многих сотен деталей мозаичный образ труса, небольшое юмористическое произведение, одухотворенное и наглядное. Но подлинного юмора оно тем не менее лишено и овеяно холодной неумолимостью аналитика, хотя и прекрасно как образец высшей художественной дисциплины.
Мы видим, что, когда дело доходит до собственно повествовательного, бесхитростные народные писатели нередко превосходят мастеров высокой литературы. Небольшая хеббелевская история о пройдохе рассказана намного лучше, чем фактурно умнее преподнесенная, экономичнее скомпонованная «Новелла» Гёте или какая-нибудь вещь Брентано или Новалиса. Позднее это несоответствие изменил только Келлер, сделав благороднейшую художественную прозу абсолютно популярной по меньшей мере в двух поколениях. Но перед тем появился у нас еще один первоклассный рассказчик от природы, своей неумолимой правдивостью и наглядностью превзошедший всю образованную литературу, — Иеремия Готхельф. Называя его рассказчиком от природы, я имею в виду только его большой литературный талант, который неосознан у него в той же мере, в какой необыкновенно осознано его творчество проповедника, воспитателя, политика, — осознано настолько, что зачастую губит литературность целых глав. Но, несмотря на это, невозможно отказаться от чтения Готхельфа, не лишив себя чего-то очень важного. Вот его-то произведения и есть «отечественное искусство» и «почва»! Как богат и первозданен его бернский немецкий язык, звучащий как средневерхненемецкий! Если бы не локальность его языка (о собственно диалектальной литературе я не говорю, но Готхельф слишком насытил свой немецкий словами и формами родного диалекта), то для крестьянского люда своего столетия он был бы по меньшей мере таким же классиком, каким некогда стал Гриммельсхаузен.
На последней полке нашей библиотеки располагаю я произведения еще трех писателей, да так, чтобы были они всегда под рукой и прилежно читались. Никто так хорошо не замкнет нашу пеструю вереницу, как Штифтер, Мёрике и Келлер. Усиленно пропагандировать нужно, пожалуй, только Штифтера, ибо мне кажется, что его чаще упоминают, чем читают. «Этюды» Штифтера я настоятельно советую знать всем, кто хочет участвовать в разговоре о немецком характере и немецкой прозе. В них вновь запечатлелись трепетно-наблюдательная графичность Дюрера и природно-набожная детскость Эйхендорфа, в них честность видения и отделки; небудоражащие, «неинтересные» — они суть нечто большее.
О Мёрике говорить я не хочу, да это и не нужно. Наконец-то его распознали, и мы, швабы[37], радуемся, не справляясь, однако, в себе с чем-то похожим на неуловимую ревность к нашему фавориту. Его «Нольтен» сродни тщательно рассчитанному мосту, соединившему романтизм с успокоенным светлым миром, хранитель ворот которого — Келлер.
Келлера еще часто воображают узколобо-блаженным филистером, а в Мёрике за внешностью углядывают довольного собою и жизнью сельского священника. Так девочкам-подросткам Моцарт кажется вечно смеющимся счастливцем. Какие вопиющие заблуждения! Из счастья не рождается искусство. Но неважно. Произведения существуют как данность. И прекрасная Лау[38], и прекрасная Юдифь[39] знать не знают о том, из каких пропастей одинокой тоски родилась их очаровательная естественность,
С почестями следует упомянуть еще несколько отдельных произведений, не утративших силы и много десятилетий спустя. В первую очередь — это трогательно утонченный «Бедный музыкант» Грильпарцера, «Еврейский бук» Дросте, «Резвушка» Людвига. Уж не забыл ли я что-нибудь важное? Перебираю имена. Зимрок? Заллет? Не то. Я пропустил даже Гейне, потому что его прекраснейший рассказ застрял на начале[40], а другие кажутся мне скорей фельетонами, — конечно, хорошими. Но не должен остаться за бортом и рейтлингенец Герман Курц.
И важнее, чем это все, — сказки Гриммов. Благородную достоверность, с коей они обработаны, мы спокойно можем вписать в немецкую книгу почета. Кажется очевидным судить о специфике характера немцев по сказкам, но это недопустимо. Именно сказки и народные сказания ошеломляющими порою совпадениями властно указывают нам на понятие человечества — нечто необъятное, которому, в конце концов, и призвана служить всякая национальная литература.
(1914)
БИБЛИОТЕКА ЗА ГОД
Говорят, что книголюбительство, как и скупость, относится к тем немногим страстям, которые с возрастом не только не проходят, но и растут, легко превращаясь в манию. Это мнение в моем случае, я вижу, пока не подтвердилось. Количество книг, с коими я никогда не хотел бы расстаться, становится с каждым годом все меньше, хотя библиотека моя постепенно растет. Книжные утраты, которые раньше выводили меня из себя, ныне переношу я пожимая плечами, и даже соблюдавшийся мною годами хороший обычай не одалживать книг я давно упразднил.
Но это не значит, что книги свои я люблю уже меньше, чем прежде. Страсть превратилась лишь в замечательную привычку, и относительность ценностей, уйма наложенных на нас ограничений начинают оседать во мне ржавчиной, которую в зависимости от точки зрения можно назвать и мудростью, и зрелостью, и первыми признаками склероза. Помещения, где обитает человек, как и книжные полки, вместе с ним не растут, не говоря уже о досуге и силе зрения. И вот, подытоживая минувший год, я безболезненно снимаю с полок и отдаю кое-какие совсем неплохие книги, хотя еще недавно был убежден, что со временем обязательно их прочитаю. Но нет, долой их, жизнь, становясь все короче и обозримей, вопиет о сосредоточении, а не о том, чтобы умножать мишуру.
Теперь, после летней чистки библиотеки, оценивая прирост ее за первый близящийся к концу год войны, случайных книг я вижу в ней меньше, чем прежде: война произвела отбор и сделала издателей осторожней. Очень мало новых романов, новых стихов, новых драм, почти ничего нет по философии, и очень мало книг по искусству. Даже литература о войне, несколько месяцев кряду заполонявшая мой письменный стол, исчезла большей частью нечитанная. Но стоит, пожалуй, упомянуть «Гений войны» Макса Шелера: я храню эту книгу как выразительное свидетельство немецкой восторженности и немецкого фантазерства, ухитряющихся потребности и необходимости текущего дня переносить в бесконечность и переменчивые нужды страны истолковывать мудростью тысячелетий. Книга неправильная и ужасно опрометчивая, но не плохая, не глупая, не вредная, не отвратительная; в ней говорится о том, как досадно, что Россия нас не приемлет, и о том, что неприятие это мы не простим, но забудем.
Самый ценный прирост моей библиотеки в истекшем году — это Гёте. Необычная с ним вышла история. Со времени четырехтомного покрытого пятнами плесени домашнего Гёте моих детских лет я держал, использовал, читал много изданий его произведений, прикупал их в рассрочку на сэкономленные карманные деньги, обменивал и в конечном итоге — всегда неудачно; я был владельцем пятнадцатитомного прекрасно оформленного издания, продолжение которого обещано было очень давно, но так и не состоялось, а сейчас уже кажется невозможным из-за войны. Что мне до кожаных его корешков и красивого шрифта, когда сколько раз я искал в нем и не находил стихотворений, статей или чего-нибудь из малых юношеских вещей; и слишком поздно сообразил, что этот мой Гёте хуже, чем первый, двадцатилетней давности. А у моих друзей был замечательный Гёте, так называемое «юбилейное издание» книготорговли Котты. Правда, его скучноватые матерчатые переплеты смотрелись похуже, чем темная кожа моего издания, да и печать, хотя и очень хорошая, чуть ли не изысканная, все же не столь особенная и утонченная, как в моем Гёте; но когда в том издании я что-то искал, то всегда находил — находил быстро и безошибочно с помощью очень хорошего тома-указателя, и постепенно это мне показалось столь удобным и ценным, что прелесть моего издания в коже стала меркнуть все больше и больше, пока, спустя двадцать лет всевозможных попыток и экспериментов, я не решил наконец обменять своего Гёте еще раз и приобрести юбилейное издание Котты. И чем чаще из-за войны я вновь и вновь обращался к чтению Гёте как к источнику утешения и покоя, чем больше казалось невероятным продолжение моего лишь наполовину полного издания, тем нетерпеливее ждал я уже заказанного штутгартского юбилейного Гёте в сорока одном томе. И вот теперь он стоит у меня, корешок к корешку, то тут то там со следами того, что пользовались им как следует, и, довольный, ни часу я не скорбел о кожаных корешках, несмотря на их красоту. Это штутгартское издание не только замечательно полное (но не для филологов, изучающих творчество Гёте — такое уже давно выходит в Веймаре, — а скорее для дома и кабинета читателя, которого не удовлетворяют десятки неполноценных изданий!), не только очень хорошо и понятно устроенное, текстуально надежное и удобное в использовании, но также и красивое, солидное и при этом странно дешевое. Правда, матерчатые переплеты мне все еще немного мешают; нет-нет, они отнюдь не уродливы, но есть в них какая-то робость и скованность в их положении между старомодным и современным, и живи мы в лучшие времена, то я бы, наверно, отдал переплести их иначе. И все же этот строй из сорока одного корешка я здорово полюбил, и если от одного из людей, которые взахлеб рассуждают о книгах, не покупая их никогда, опять я услышу избитые утверждения, что к немецким книгам, мол, не подступиться и красивые недорогие издания есть только лишь у французов, — я проведу этого человека вдоль своего Гёте, вручу ему какой-нибудь том и спрошу, знает ли он хотя бы одну французскую книгу, так дешево стоящую при таком объеме, такой бумаге, печати и таком переплете. Я не певец патриотизма, но перед подобными достижениями (книга в переплете объемом примерно в четыреста страниц и напечатанная на прочной, хорошей бумаге стоит две марки) я развожу руками с некоторым удивлением: нет, все-таки это очень неплохо, что Германия Гёте со временем стала Германией также финансов, машин и расчетов! Издатели научились считать, и такой Гёте не вышел бы в свет, не будь для него обеспечено несколько тысяч покупателей. И если четверть, треть или даже пусть половина всех покупателей только поставят Гёте на полки и будут владеть им лишь внешне, мы будем не переживать, а, сочтя сие за порядок вещей, радоваться, что библиофилы-попутчики нам помогают заполучить такие прекрасные книги.
В последние годы я надеялся на издание некоторых произведений, для чего уже сложились гарантии, но чему вновь на неизвестное время помешала война. Прежде всего речь идет о Жан Поле, которого Германия ждет вот уже несколько десятилетий! И из усопших за последние годы писателей, наиболее заслуживающих любви, требуется красивое издание сочинений Германа Банга. Хотя любой из членов романного цеха известен у нас лучше, чем он, произведения Банга бессмертны.
Обогатился среди моих книг и другой уголок, небольшой, но любимый и обихоженный. Это раздел, где разместились восточные произведения и сказки, «Тысяча и одна ночь», «Шицзин», «Бхагавадгита» и тому подобные вещи, а также японские стихи, индийские изречения и беседы Конфуция. Вплоть до недавнего времени в этом разделе почти полностью отсутствовала китайская проза. И вот четыре года назад вышло в свет небольшое избранное китайских легенд и историй о духах Мартина Бубера, чудесная книжица, и, так как недавно во время поездки по Азии с удивлением и чуть не влюбленно я сам заглянул в жизнь китайцев и потому оказался хорошо подготовлен к восприятию этих волшебных историй, они захватили меня сильнее, чем все, что с тех пор я читал. Но то был лишь первый, решающий взгляд в новый мир; примерный объем китайской популярной прозаической литературы знал я и раньше из «Истории литературы» Грубера и из бесед со знатоками и, хотя понятие об этой весьма примечательной области у меня уже было, я испытал тем не менее то, что по весне испытываешь с цветами, которых долго и с нетерпением ждешь, но которые появляются все же внезапно, врасплох. Каждый год приобретал я все новые книги и теперь, недели две назад, прикупил опубликованные X. Рудельсбергером в издательстве «Инзельферлаг» еще два томика «Китайских рассказов». Кроме них и той прелестной книжечки Бубера, нужно упомянуть и «Китайские вечера» Лео Грайнера, а также вышедшие у Дидерихса китайские сказки Вильгельма. У Георга Мюллера в Мюнхене увидел свет и сборник китайских новелл Пауля Кюнеля; три рассказа из этой книги опубликованы с небольшими изменениями и у Рудельсбергера. Таким образом есть уже что-то вроде возможности анализировать переводы, сверять тексты. Эти несколько книг, в каждой из которых есть что-то характерное для Китая и явственно ощущается субъективность состава, занимали и развлекали меня несчетное количество дней; наряду с многотомным Гёте в последнее время я читаю их ежедневно. В них на меня взирает двойственный лик Китая; ибо во всем китайском, и прежде всего в литературе, я усматриваю два образа, две стороны, два полюса. Одна сторона — это тихая, бесхитростная жизнь, консервативно-практическое отношение к реальностям быта, культ простого существования, здоровья, семейного счастья, процветания, собственности, всяческого богатства. Второе лицо, свидетельствующее о многочисленных индийских влияниях, — это наклонность к созерцанию, носящему у истинных мыслителей Древнего Китая чисто духовный и почти безобразный характер и породившему, однако, в народе чрезвычайно пеструю и нередко гротескную в своей чуждости нам мифологию и демонологию. И если бы спасительно не царила над этим великая первоидея Востока — идея постижения единства бытия, — то преисподняя и небеса, дьявольщина и очарование этого нереального мира, не были бы безусловно приемлемыми везде, тем паче с любовью. Но таковы уж краешки на одеянии истинного Бога[41], и, если хорошенько припомнить, найдется достаточно зеркальных примеров и в нашем средневековье, и в вере нынешних европейцев. Мы, обитатели Запада, поражены этой смесью отчетливейшего чувства реальности с безудержным фантазированием, но она утратит загадочность, если представить себе райское единство мысли и чувства, характерное и для нынешнего Востока. Тому, кто хочет узнать кое-что о Китае, эти рассказы дадут куда больше, чем высокая китайская литература. Я же хочу, чтобы этот любимый мной уголок каждый год пополнялся.
(1915)
ЯЗЫК
От несовершенства и скудости языка писатель страдает более, чем от недостатка всего прочего. Иногда он просто ненавидит язык, обвиняет и проклинает его, а точнее — самого себя за то, что рожден для работы с этим жалким орудием. С завистью думает писатель о живописце, чей язык — краски понятен одинаково всем от Северного полюса до Африки, или о музыканте, который пользуется звуками, тоже говорящими на всех человеческих языках, и которому послушны всякий раз столько новых, неповторимых языков, тонко отличающихся друг от друга — от монотонной мелодии до многоголосого оркестра, от трубы до кларнета, от скрипки до арфы.
Особенно глубоко и постоянно завидует писатель музыканту за то, что он владеет своим языком безраздельно и только для музицирования! А писатель вынужден использовать тот же язык, на котором и учат в школах, и заключают торговые сделки, и строчат телеграммы, и выступают в суде. Как же беден писатель: не имея для своего искусства собственного средства, собственного жилища, собственного сада, собственного окошечка, чтобы смотреть на луну, он вынужден все делить с обыденной жизнью! Говоря «сердце» и разумея трепетную живейшую суть в человеке, его сокровеннейшие свойства и слабости, он невольно указывает и просто на мускул. Говоря «сила», он вынужден сражаться за употребление этого слова с инженером или электриком. А когда он пишет «блаженство», то в образ, сим обозначенный, вкрадывается что-то теологическое. Писатель не может употребить ни слова, которое бы одновременно не значило и что-то другое, на одном и том же дыхании не привносило бы чужих, мешающих, нежелательных представлений, в самом себе не содержало бы преткновений и неловкого смысла и само бы не гибло, зажатое стенами, о кои биясь, оно угасает, так и не прозвучав до конца.
Писатель не может быть хитрецом, который, как говорится, больше дает, чем имеет. Он не в состоянии дать и десятой и сотой доли того, что хотел бы, он рад, если понят хотя бы вчуже, хотя бы примерно, мимоходом и кое-как, хотя бы без грубых недоразумений относительно самого важного. Большего писатель добивается редко. И повсюду, где его хвалят или поносят, где он пожинает успех или насмешки, где его любят или отвергают, речь не собственно о его мыслях и грезах, а лишь о сотой доле того, что сумело пробиться через узкий канал языка и не более просторный канал читательского восприятия.
Потому-то люди так страшно противятся — противятся не на жизнь, а на смерть, — когда какой-то художник или целая группа творческой молодежи, сотрясая мучительные оковы принятых стилей, пытаются ввести в оборот новые выражения и языки. Ведь для сограждан язык (всякий язык, усвоенный ими с трудом, не только словесный) — святыня. Для сограждан святыня все общее и коллективное, все, что каждый разделяет со многими, по возможности — со всеми, что не вынуждает думать об одиночестве, рождении и смерти, о сокровеннейшем Я. Сограждане, как и писатели, лелеют идеал всемирного языка. Но всемирный язык сограждан отнюдь не таков, каким мечтается он писателю, у них он не первобытная россыпь сокровищ, не бесконечный оркестр, а упрощенный набор телеграфных знаков, экономящий силы, слова и бумагу и не мешающий зарабатывать деньги. Ведь литература, музыка и тому подобное всегда мешают зарабатывать деньги!
Сограждане, разучив язык, считающийся у них языком искусства, довольны и мнят, что теперь-то они понимают искусство, теперь-то оно им доступно, а узнав, что язык, с таким трудом изученный ими, годится лишь для незначительной сферы искусства, приходят в негодование. Во времена наших дедов жили прилежные и просвещенные люди, которые в музыке, кроме Гайдна и Моцарта, добились понимания также Бетховена. И почувствовали, что «идут в ногу со временем». Но, когда появились Шопен, Вагнер и Лист, предложив им вновь овладевать еще одним языком, еще раз по-революционному и по-молодому, радостно и без предвзятостей воспринять нечто новое, они забрюзжали, заговорили об упадке искусства и вырождении эпохи, в коей им поневоле приходится жить. То, что случилось с теми несчастными, вновь происходит со многими тысячами. Искусство порождает новые лики, новые языки, по-новому учится говорить и выражать себя, оно сыто по горло вчерашними и позавчерашними языками, оно жаждет не только речи, но также и танца, жаждет сломать все рамки, сдвинуть шляпу набекрень и пойти зигзагом. И от этого сограждане в ярости, им кажется, что это издевка над ними, что с корнем вырывают их ценности, и, разражаясь бранью, они прячутся с головой под одеяло собственного образования. А те сограждане, которые из-за малейшего ущемления их достоинства немедленно бегут в суд, изощряются в оскорблениях.
Но эта ярость и эта бесплодная суета не освобождают сограждан, не разряжают и не очищают их нутра, никак не гасят их внутреннего беспокойства и раздражения. А художник, у которого жаловаться на сограждан оснований не меньше, выражает свой гнев, презрение, горечь, изыскивая, создавая, разучивая новый язык. Он чувствует, что ругань тут не спасает, что оскорбляющий всегда неправ. И, так как в нашу эпоху у художника нет иных идеалов, чем собственная его личность, так как он не желает ничего иного, чем быть самим собой и выражать то, что приуготовлено в нем природой, свою враждебность к согражданам он претворяет в наивозможно личное, наивозможно прекрасное, наивозможно выразительное, но не выплескивая гнева с пеной у рта, а выбирая и строя, отливая и оттачивая справедливую форму для своего гнева — новую иронию, новый гротеск, новый способ обратить неприятное и раздражающее в приятное и прекрасное.
Как бесконечно много языков у природы и как бесконечно много создано их людьми! Пара тысяч незамысловатых грамматик, смастеренных людьми за период между санскритом и волапюком, — достижение сравнительно скудное. Скудное потому, что эти грамматики довольствуются лишь самым необходимым, а самым необходимым сограждане считают между собою всегда только заработки, выпечку хлеба и прочее. А это не способствует процветанию языков. Человеческий язык (я имею в виду грамматику) еще никогда не достигал той легкости, живости, блеска и изящества, которые расточает кошка извивами своего хвоста, а райская птичка серебряной россыпью своего свадебного наряда.
И все же человек, оставаясь собою и не стремясь подражать муравьям или пчелам, превзошел и райскую птичку, и кошку, и других животных, и растения. Он выдумал языки, бесконечно лучше передающие мысли и чувства, чем немецкий, греческий или итальянский. Он словно по волшебству вызвал к жизни религии, архитектуру, живопись, философию, создал музыку, чья игровая выразительность и богатство красок превосходят всех райских птичек и бабочек. Я говорю «итальянская живопись» и слышу тысячи изобильных смыслов, пение хоров, преисполненных набожности и сладости, блаженное звучание разнообразных инструментов, ощущаю прохладу мраморных храмов, вижу склонившихся в жаркой молитве монахов и прекрасных мадонн, величаво царящих среди мягких ландшафтов. Или я думаю: «Шопен», — и ночь наполняется кроткими и меланхоличными жемчужными звуками, в струнах одиноко стенает тоска по отчизне: утонченнейшая, личнейшая скорбь выражена в гармониях и диссонансах куда задушевней, бесконечно точней, достоверней, чем это возможно у иного страдальца посредством всяких там терминов, цифр, кривых или формул.
Кто считает всерьез, что «Вертер» и «Вильгельм Мейстер» написаны одним языком? Что Жан Поль говорил на том же языке, что и наши школьные учителя? А они писатели! Им приходилось работать с языком, убогим и нищим, орудием, созданным совсем для другого.
Произнеси слово «Египет», и ты услышишь язык, мощными, гулкими аккордами славящий Бога, язык, насыщенный предчувствием вечности и трепета перед бесконечностью: окаменелым взглядом неумолимо смотрят цари поверх миллионов рабов, поверх всего и вся, но неизменно — лишь в темные очи смерти; величественно, словно выросшие из земли, застыли священные животные; нежный аромат источают цветы лотоса в руках у танцовщиц. Вселенная, звездное небо, преисполненное бесчисленных миров, — лишь одно это слово, «Египет». Можно лечь навзничь и целый месяц не думать более ни о чем. Но вдруг тебе приходит в голову другое. Ты слышишь имя «Ренуар» — и улыбаешься, видя, как весь мир составляется из округлых живописных мазков, розовый, светлый и радостный. Говоришь «Шопенгауэр» — и тот же мир претворяется в черты страдающего человека, который в бессонные ночи создает из скорби своей божество и с горестным ликом идет по длинной тернистой дороге, ведущей к бесконечно тихому, неприметному и печальному раю. Или прозвучит в тебе «Вальт и Вульт»[42], и все вокруг, словно облако, по-жанполевски пластично преобразится в немецкое обывательское гнездо, где разделенная на двух братьев человеческая душа как ни в чем не бывало живет и действует среди кошмара, вызванного безумным завещанием и интригами филистеров, этой неуемно копошащейся муравьиной кучей.
Обыватель склонен уподоблять фантаста сумасшедшему. И чутье не обманывает обывателя: он немедленно обезумеет, если, подобно художнику, верующему, философу, подпустит себя к бездне собственного нутра. Как бы мы ни называли эту бездну, душой или бессознательным, именно она источник всякого движенья нашей жизни. У обывателя же между ним самим и его душой имеется страж — сознание, нравственность, институция безопасности; и для обывателя не существует ничего, что исходит из душевной бездны его непосредственно, без визы охранительного учреждения. А художник всегда недоверчив к области не души, а к той таможне, и, тайно минуя ее, он туда и сюда курсирует через границу между «сей» и «той» стороной, между сознательным и бессознательным, словно он дома и здесь и там.
Находясь по сю сторону, в известной освещенной области, где проживает и обыватель, он чувствует себя неимоверно угнетенным скудостью всех языков, и жизнь писателя кажется ему тогда тернистой. Но когда он на той стороне, в области души, то всякое дуновение волшебно становится словом, и льется музыка звезд, и улыбаются горы, и мир, Господень язык, совершенен, в нем под рукой все буквы и слова, все выразимо, все звучит и все искуплено.
(1918)
О СТИХАХ[43]
Однажды, когда мне было десять лет, по книге для чтения мы проходили в школе одно стихотворение, называлось оно, кажется, «Сыночек Шпекбахера». В нем говорилось о маленьком мальчике-герое, который в каком-то сражении не то собирал патроны, не то совершал что-то еще очень героическое. Мы, мальчишки, были в восторге. И когда учитель с оттенком иронии в голосе спросил нас: «Ну так что, хорошее это стихотворение?» — мы закричали: «Да!» А он улыбаясь покачал головой и сказал: «Нет, дети, это плохое стихотворение». Он был прав, по канонам и вкусам нашего времени и искусства стихотворение было нехорошим, неизящным, не подлинным, халтурным. И все-таки в нас, мальчишках, оно вызвало прилив восхищения.
Десять лет спустя, в двадцать один год, с первого же прочтения я бы не задумываясь смог сказать о том стихотворении, хорошее оно или плохое. Это было бы просто. Хватило бы одного взгляда, прочтения вполголоса нескольких строк.
Меж тем опять прошло несколько десятилетий, я держал в руках и читал множество стихов, и ныне я вновь сильно сомневаюсь, смогу ли оценить показанное мне стихотворение. Мне часто показывают стихи, их авторы обычно молодые люди, желающие получить о них «суждение» и найти издателя. И юные поэты всякий раз удивлены и разочарованы, видя, что у их старшего коллеги, которому они приписывали опытность, никакого опыта нет; неуверенно листая рукопись со стихами, он ничего не решается сказать об их качестве. То, что в двадцатилетнем возрасте я бы абсолютно уверенно сделал за две минуты, теперь стало трудно, нет, не столько трудно, сколько невозможно. «Опыт» к тому же еще и нечто, о чем в юности думалось, что оно приходит само собой. Но опыт сам собой не приходит. Есть люди, талантливые по части опыта, у них он есть всегда, есть со школьной скамьи, если уже не в материнской утробе; есть и другие, к ним отношусь и я, — они могут прожить сорок, шестьдесят или сто лет и умереть, так по-настоящему не усвоив и не поняв, что же это, собственно, такое «опыт».
В двадцать лет моя уверенность в суждении о стихах зиждилась на любви к определенным стихам и поэтам, любви столь сильной и исключающей почти все остальное, что каждую книгу и стихотворение я тотчас сравнивал с ними. Если сходство обнаруживалось, они были хороши, и, если нет, никуда не годились.
У меня и сегодня есть несколько особенно любимых поэтов, и некоторые из них те же, что и прежде. Но сегодня чаще всего я недоверчив по отношению именно к тем стихам, звучание которых тотчас приводит на память одного из этих поэтов.
Но поведу я речь не о поэтах и стихах вообще, а только о «плохих», то есть о таких, которые почти всеми, кроме самих поэтов, в два счета объявляются посредственными, захудалыми, неполноценными. Подобных стихов за истекшее время прочел я немало и раньше совершенно точно знал, что они плохие и почему. Сегодня я уже не так уверен в этом. Но и эта уверенность и это знание, как бывает со всякой привычностью и всяким знанием, как-то раз показались мне в сомнительном свете, стали внезапно скучными, сухими, чужими и ущербными, все возмутилось во мне против них, и, в конце концов, они обернулись чем-то отжившим, что уже позади и чью ценность я больше не понимаю.
И теперь у меня со стихами бывает порою так, что хочется одобрить и даже превознести несомненно «плохие» стихи, а хорошие и даже отличные кажутся зачастую подозрительными.
То же чувство испытываешь иногда по отношению к профессору, чиновнику или сумасшедшему. Ведь обычно хорошо знаешь и убежден в том, что господин чиновник безупречный человек, законное дитя Божие, вставленный в свое гнездо и полезный гражданин общества, а сумасшедший — бедолага, несчастный больной, которого терпят, жалеют, но считают неполноценным. Однако проходят дни или только часы, когда, бывает, необычно много наобщаешься с профессорами или сумасшедшими, и тогда истина вдруг обращается в свою противоположность: в сумасшедшем начинаешь видеть тихого, уверенного в себе счастливца, божьего любимца, человека по-своему с характером и довольного собственной верой, а профессор или чиновник кажутся жалкими, посредственными, безликими, марионеточными фигурами, каких на дюжину приходится двенадцать.
Так вот то же самое бывает у меня порою и с плохими стихами. Вдруг они начинают казаться совсем не плохими, внезапно приобретают для меня аромат, своеобразие, детскую живость, и их очевидные слабости и недостатки становятся трогательными, оригинальными, милыми и восхитительными, а прекрасное стихотворение, впрочем любимое, по сравнению с ними предстает бесцветным, шаблонным.
С появлением экспрессионизма нечто подобное видим мы и в творчестве некоторых наших молодых поэтов: они принципиально больше не пишут «хороших» или «красивых» стихов. Они считают, что красивых стихов уже достаточно много, что сами они рождены и живут в этом мире вовсе не для того, чтобы продолжить вереницу очаровательных стихов и играть в начатую предыдущими поколениями игру «кто кого перещеголяет». Наверно, они совершенно правы, и стихи их порою звучат столь же трогательно, как это, впрочем, бывает лишь с «плохими» стихами.
И понятно, в чем здесь дело. Причина появления на свете стихов предельно однозначна. Они — разрядка, зов, крик, вздох, жест, реакция взволнованной души, стремящейся выплеснуть или осознать возбуждение, эмоцию. В этой главной, изначальной и важнейшей своей функции не поддается оценке никакое стихотворение. Прежде всего оно обращено лишь к самому поэту, оно его дыхание, его голос, его греза, его улыбка, его припадок. Кто возьмется судить об эстетической ценности ночных сновидений и о целесообразности движений рук и головы, мимики и походки?! Грудной ребенок, засовывающий в рот большой палец руки или ноги, поступает столь же правильно и умно, как и автор, грызущий кончик своего пера, или павлин, распускающий хвост. Ни один из них не поступает лучше, чем другой, ни один не больше и не меньше прав.
Иногда бывает, что стихотворение, давая разрядку и облегчение автору, может радовать, волновать и трогать также и других людей, бывает оно и красивым. Это происходит, вероятно, тогда, когда стихотворение выражает нечто, присущее многим, нечто возможное у всех. Но не обязательно только тогда!
Вот здесь-то и начинается проблематичное круговращение. «Красивые» стихи делают поэтов любимцами публики, из-за чего рождается вновь тьма стихотворений, которые, совершенно забыв о своей изначальной, пред-мировой, священнослужительской функции, все до одного хотят быть только красивыми. Такие стихи по своему рождению созданы для других, для слушателей, для читателей. Они более не грезы, не движения танца или крики души, не реакция на пережитое, не косноязыкие желанные видения или заклинания, не лик мудреца или гримаса безумца, а всего лишь выдуманные изделия, фабрикаты, конфеты для публики. Их смастерили, чтоб распространять и продавать, чтобы покупатели их потребляли для собственного увеселения, возвышения души или отвлечения. И именно эти стихи пользуются успехом. В них не нужно погружаться серьезно и любовно, они не мучат и не потрясают, а весело, уютно качают на своих красивых и мерных волнах.
Эти «красивые» стихи могут показаться порою столь же неприятными и сомнительными, как и все приглаженное и подогнанное по рамке, как профессора и чиновники. И когда правильным миром становишься сыт по горло и хочется бить фонари и поджигать храмы, — в такие дни все «красивые» стихи, вплоть до святых классиков, кажутся немного цензурированными, кастрированными, слишком уж приемлемыми, слишком прирученными, слишком добропорядочными. Тогда обращаешься к плохим. Тогда вообще уже нет ни одного достаточно плохого стихотворения.
Но и здесь подстерегает разочарование. Чтение плохих стихов удовольствие слишком краткое, они быстро вызывают насыщение. Но зачем читать? Почему бы каждому самому не сочинять плохие стихи? — Возьмитесь, и вы увидите, что сочинение плохих стихов делает человека намного счастливее, чем чтение самых распрекрасных стихотворений.
(1918)
КНИЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Жил-был человек, который от пугавших его жизненных бурь еще в ранней юности нашел убежище в книгах. Комнаты его дома были завалены книгами, и, кроме книг, он ни с кем не общался. Ему, одержимому страстью к истинному и прекрасному, казалось, что куда как правильней общаться с благороднейшими умами человечества, чем отдавать себя на произвол случайностей и случайных людей, с которыми жизнь так или иначе сталкивает человека.
Все его книги были написаны старинными авторами, поэтами и мудрецами греков и римлян, чьи языки он любил и чей мир казался ему столь умным и гармоничным, что порою он с трудом понимал, почему человечество давным-давно покинуло возвышенные пути, променяв их на многочисленные заблуждения. Ведь древние достигли вершин во всех областях знания и сочинительства; последующие поколения мало что дали нового — за исключением, пожалуй, Гёте, — и если кое-какого прогресса человечество все же добилось, то лишь в сферах, не волновавших этого книжного человека, казавшихся ему вредными и излишними, — в производстве машин и орудий войны например, а также в превращении живого в мертвое, природы — в цифры и деньги.
Читатель вел размеренную безмятежную жизнь. Он прогуливался по своему крохотному саду со стихами Феокрита на устах, собирал изречения древних, следовал им, в особенности — Платону, по прекрасной стезе созерцаний. Порою он ощущал, что жизнь его ограниченна и бедновата, но от древних ему было известно, что счастье человека не в изобилии разнообразия и что умный обретает блаженство верностью и самоограничением.
И вот эта безмятежная жизнь прервалась: в поездке за книгами в библиотеку соседнего государства Читатель провел один вечер в театре. Давали драму Шекспира; он хорошо ее знал еще со школьной скамьи, но знал так, как вообще знают что-либо в школе. Сидя в большом, погружающемся во мрак помещении, он чувствовал некоторую подавленность и раздражение, ибо не любил больших скоплений людей, но вскоре ощутил в себе отклик на духовный призыв этой драмы, увлекся. Он сознавал, что инсценировка и актерское исполнение посредственны; не будучи вообще театралом, через все препоны различал он, однако, какой-то свет, ощущал какую-то силу и могучие чары, каких по сю пору не ведал. Когда занавес упал, он выбежал из театра опьяненный. Продолжил поездку и привез из нее домой все произведения этого английского поэта. И стал читать — словно в запое, стал читать «Лира», «Отелло», «Ромео и Джульетту» и все прочие драмы, и в душе его поднялся вихрь страстей, разыгралась буря демонической и хмельной жизни. В угаре чтения летели дни; счастливый, чувствовал он, что перед ним распахнулись иные области существования, и долгое время он жил в своем доме и садике, неотступно сопровождаемый персонажами этого непостижимого сочинителя, который, казалось, сорвал с места все, что было напрочно установлено греками, и поступил тем не менее правильно, ибо устранил все возникшие противоречия.
Мир Читателя впервые получил пробоину, и через нее в античный покой хлынули воздух и свет. А может, все это уже имелось внутри самого Читателя и теперь пробудилось и тревожно било крылами? Как это было странно и ново! Сочинитель, давно к тому же усопший, казалось, не исповедовал никаких идеалов, а если и исповедовал, то совершенно иные, чем античные греки; Шекспиру человечество, видимо, представлялось не храмом уединенного созерцания, а бушующим морем, по которому носит захлебывающихся и барахтающихся людей, блаженных собственной несвободой, опьяненных собственным роком! Эти люди двигались как созвездия, каждый — по предначертанному пути, каждый — влекомый ничем не облегченной собственной тяжестью, в неизменно поступательном устремлении даже тогда, когда путь приводит к низвержению в пропасть и смерти.
Когда же Читатель, словно после феерической вакханалии, вновь наконец очнулся и, вспомнив прежнюю жизнь, вернулся к привычным книгам, он почувствовал, что у греков и римлян теперь уже вкус иной — пресноватый, поднадоевший, какой-то чужой. Тогда попробовал он читать современные книги. Но они ему не понравились; в них, как ему показалось, все сводилось к вещам незначительным, мелким, и само повествование велось словно бы не всерьез.
И Читателя больше не покидало чувство голода по новым, великим очарованиям и потрясениям. Кто ищет, тот находит. И следующее, что он нашел, была книга норвежского писателя по имени Гамсун. Странная книга странного писателя. Казалось, что Гамсун постоянно — а он был еще жив — в одиночку скитается по свету, ведя бурное существование без руля и ветрил, без Бога в душе, полубаловень, полустрадалец, в вечных поисках чувства, которое он порою словно бы обретает лишь на мгновение как гармонию сердца с окружающим миром. Этот писатель изображал не мир людей, как Шекспир, а сплошь и рядом только себя самого. Но нередко охватывали Читателя то сильное волнение, то горькая скорбь, а порою он внезапно и для себя совершенно нежданно начинал хохотать. Каким же ребенком был этот писатель, каким строптивым мальчишкой! И вместе с тем каким же бывал он великолепным, и кто вчитывался в него, видел падучие звезды и слышал далекий прибой.
Потом Читатель обнаружил толстую книгу, которая называлась «Анна Каренина», и потом — стихи Рихарда Демеля. А чуть позже набрел он на сочинения Достоевского. С тех пор как прочел он Шекспира, литература будто преследовала его, оказываясь рядом, как только он ощущал пустоту, — словно по волшебству, которое теперь воспринимал он естественным и естественно жил им. Он рыдал и проводил бессонные ночи над русскими книгами. Он забросил Горация и раздарил очень много своих старых книг. Когда он перебирал библиотеку, в руки ему попалась одна латинская книга, которую раньше он мало ценил. Он отложил ее и вскоре прочел. То была «Исповедь» Августина. От нее он вернулся опять к Достоевскому.
Однажды под вечер, начитавшись до ломоты и рези в глазах — он был уже немолодым человеком, — Читатель погрузился в раздумья. Над одним из высоченных книжных стеллажей красовался давно туда водруженный, начертанный золотыми буквами греческий девиз, который гласил: «Познай самого себя». Теперь он приковал внимание Читателя. Ибо Читатель себя не знал, давно уже ничего не знал о себе. По едва заметным следам воспоминаний он мысленно вернулся в прошлое и старательно начал отыскивать в нем то время, когда его восхитила лира Горация и осчастливили гимны Пиндара. Читая античных акторов, он узнал тогда в себе то, что называется человечеством; вместе с писателями он был и героем, и властителем, и мудрецом, он издавал и упразднял законы; он, человек, вышедший из неразличимости первозданной природы навстречу лучистому свету, был носителем высшего достоинства. Теперь же все это сокрушилось, рассеялось, словно никогда не существовало, и теперь он не только читал разбойничьи и любовные истории и испытывал радость от них, нет — он чувствовал себя и со-любовником, и co-убийцей, и co-страдальцем, и co-грешником, и co-насмешником, он падал в бездну порока, преступления и нищеты, диких животрепещущих инстинктов и чувственных страстей; дрожа от страха и наслаждаясь, копался он в мерзостном и запретном.
Его размышления оказались бесплодными. И вскоре он вновь, как в горячечном бреду, погрузился в странные книги. По каплям он впитывал в себя лихорадящую атмосферу аморальных историй Оскара Уайльда, плутал по скорбно-неверующим путям богоискательства Флобера, читал стихи и драмы новых и новейших писателей, которые, казалось, объявляли войну не на жизнь, а на смерть всему гармоничному, всему греческому и классическому, проповедовали мятежи и беспорядки, обожествляли уродство и хохотали над ужасным. И Читатель вдруг понял, что в чем-то правы и они, что есть, должно в человеке иметься и все это тоже. Утаивать это было бы ложью. Было бы самообманом прятаться от кровавого хаоса жизни.
Потом напряжение схлынуло, и Читателя охватила усталость. Книги, в которых к нему бы взывало новое, властное, больше не попадались. Он чувствовал, что болен, стар и обманут. Однажды ему приснилось его состояние. Он трудился над сооружением высокой книжной стены. Стена росла, и, кроме нее, не видел он ничего; задачей его было соорудить огромное здание из всех книг на свете. И вдруг часть стены зашаталась, книги начали выскальзывать из кладки и падать в бездну. Сквозь зияющие бреши ворвался странный свет, и по ту сторону книжной стены увидел он нечто ужасное: в чадящем воздухе невообразимый хаос, кашу из живых существ и предметов, людей и ландшафтов, увидел умирающих и рождающихся, детей и животных, змей и солдат, горящие города и тонущие корабли; он слышал вопли и дикое ликование, лилась кровь, струилось вино, нагло и ослепительно полыхали факелы… В ужасе вскочил он с кровати, чувствуя в сердце давящую тяжесть; все еще оцепенело стоя в лунном свете посередине своей тихой комнаты и глядя на деревья за окном и книгу на ночном столике, он внезапно прозрел.
Он обманут — обманут по всем статьям! Читая, переворачивая страницу за страницей, он жил бумажною жизнью; а за нею, за этой гнусной книжной стеной, бушевала настоящая жизнь: горели сердца, клокотали страсти, разливались кровь и вино, торжествовали зло и любовь. И все это к нему не относилось, все это происходило с другими, он же чувствовал лишь скользящие под пальцами тени на бумажных страницах!
В постель он уже не вернулся. Наспех одевшись, помчался в город. Там метался по сотням освещенных фонарями улиц, заглядывал в тысячи слепых черных окон, подслушивал у сотен запертых дверей. Брезжило утро. Подобно оставшемуся со вчерашнего дня пьянчуге, близкий к обмороку, блуждал он в бледном свете восхода. Город просыпался. Навстречу шла худая, болезненного вида девушка без кровинки в лице. Он опустился перед ней на колени, и она повела его с собой.
Он сидел в ее комнатушке на убогой кровати, над которой висел распахнутый японский веер, пыльный и в паутине. Сидел и смотрел, как играла она его талерами, потом вновь схватил ее за руку и взмолился: «Прошу тебя, не бросай меня одного! Помоги мне! Я стар, и кроме тебя, нет у меня никого. Останься со мной. Наверно, впереди уже нечего ждать, кроме болезней и смерти, но хоть их я хочу прожить сам, хочу сам хотя бы страдать и скончаться, хочу всем своим существом, кровью и сердцем. Как ты прекрасна! Тебе не больно, когда я сжимаю тебя? Нет? Как ты добра! Представь, что всю свою жизнь я был похоронен, заживо похоронен в бумаге! Ты знаешь, что это такое? Нет? Тем лучше. О, мы еще поживем, еще поживем. Солнце уже взошло? Я впервые увижу солнце».
Девушка улыбалась, гладила его беспокойные руки и слушала. Она не понимала его, и в утренней мерещи выглядела осунувшейся и несчастной, она тоже всю ночь провела на улице. Улыбаясь, она сказала: «Да-да, я тебе помогу. Успокойся, я обязательно тебе помогу».
(1918)
ЧИСТКА БИБЛИОТЕКИ
Недавно мне вновь пришлось провести чистку своей библиотеки. Под давлением внешних обстоятельств я должен был расстаться с частью книг. Я простаивал перед полками, шаг за шагом обходил книжные ряды, раздумывая: «Нужна ли тебе, например, эта книга? Ты любишь ее? Будешь ли наверняка ее читать? Настолько ли тебе не хочется ее лишаться?»
Я отношусь к тем людям, которые так и не научились «историческому мышлению» даже тогда, когда ему официально отдавалось предпочтение большее, чем мышлению человеческому. Поэтому я начал с книг по истории, и затруднений оказалось немного. Красивые издания мемуаров, итальянские и французские биографии, придворные истории, дневники политических деятелей — к черту! Разве бывали политики когда-нибудь правы? Разве один стих Гёльдерлина для меня не более ценен, чем все мудрости власть предержащих? Долой их!
Туда же и история искусств. Неплохие книги Вазари об итальянской, нидерландской и бельгийской живописи, сборники писем художников — не очень-то жалко. Прочь!
Очередь дошла до философов. Разве нужно было иметь словарь Маутнера? Нет. Стану ли когда-нибудь снова читать Эдуарда фон Гартмана? Да нет же. А Канта? Я заколебался. Неизвестно, может, и буду. И оставил его на полке. Ницше? Необходим, и все письма его тоже. Фехнер? Было бы обидно его лишаться, пусть стоит. Эмерсон? А-а, не нужен! Кьеркегор? Нет, мы еще подержим его. Шопенгауэра — тем более. Симпатичными, правда, кажутся и сборники и антологии: «Немецкая душа», «Книга привидений», «Книга гетто», «Немцы в зеркале карикатуры», — но разве они мне нужны? Долой! Долой все это!
Но вот писатели! О новейших говорить не буду. Но переписка Гёте? Часть ее я приговорил к изгнанию. Ну а что делать с книгами Грильпарцера? Все ли они нужны? Нет, не все. А полный Арним? Вот его все-таки жаль. Арним остался весь. Остался Тик, остался Виланд. Значительный урон нанес я Гердеру. Бальзак был под вопросом, но в конце концов остался. Анатоль Франс заставил меня поломать голову. По отношению к врагам надо вести себя по-рыцарски, и он был спасен. Стендаль? Его книг много, но все необходимы. Монтень тем более. Зато подвергся сокращению Метерлинк. Четыре издания «Декамерона» Боккаччо! Осталось только одно. Теперь полка Восточной Азии. Я распрощался с парой книг Лафкадия Хёрна, прочее же осталось.
У англичан на меня нашли кое-какие сомнения. Так много книг Шоу! Некоторые надо ликвидировать. А полный Теккерей? Половины хватит. Фильдинг, Стерн, Диккенс остаются вплоть до мелочей.
Остались почти все и русские. Насчет Горького и Тургенева были колебания и нерешительность. Здорово почистил трактаты Толстого. Низвергнул кое-каких скандинавов, Стриндберг остался, Бьёрнсон уменьшился, Гейерстам исчез.
Ну кто собирает литературу о войне? Это же центнеры дешевки. Покупал я ее мало, большая часть попадала в дом как-то сама. Я не прочитал и двадцатой части. Но какая хорошая бумага была еще в пятнадцатом и шестнадцатом году!
И только через несколько дней, закончив, я увидел, как сильно изменилось за эти годы мое отношение к книгам. Выявились целые литературные жанры, которые раньше я по дружбе терпел, а теперь расстался с ними смеясь. Выявились авторы, которых принимать всерьез больше нельзя. Но как утешительно, что Кнут Гамсун еще живет! Как хорошо, что есть Жамм! И как прекрасно освободиться от всех толстенных биографий писателей с их скучной и убогой психологией. Будет светлее в комнатах. Сокровища остались, и теперь они сверкают еще ярче. Здесь Гёте, здесь Гёльдерлин, весь Достоевский. Улыбается Мёрике, дерзко посверкивает Арним, превозмогли все проблемы исландские саги. Пребывают неуничтожимо сказки и народные книги. И старые, зачитанные, богословского вида книги в переплетах из свиной кожи, выглядящие зачастую куда веселее, чем все современные издания, тоже еще здесь. Хорошо, если они переживут и своего теперешнего владельца.
(1919)
О НЕКОТОРЫХ КНИГАХ
Вот пробил час и для меня: после долгих военных лет я наконец-то держал в руках свидетельство об увольнении с места должностного представителя и мог пытаться снова стать человеком. Давалось мне это трудно, а полностью не получилось и ныне. Подобно «Авантюристу» давно забытого Бёклина (через двадцать лет вновь откроют его наши дети), одиноко скачет теперь каждый из нас, выпрямившись в седле под немилосердным солнцем, навстречу стране черепов и праха. Тем же, кто считает делом писателя прославление массовых инстинктов, приходится не так тяжело; насочиняв военных песен и полковых маршей, они теперь публично исповедуются с твердой верой в себя и толпу, которой они фартят. А мы, другие, каким-то чудом избежавшие психоза начала войны, сейчас переживаем свой собственный психоз. Волновавшее нас прежде предчувствие, что дух Европы влеком навстречу погибели и мучительному возрождению, подтвердилось теперь войной и всеми ее последствиями, и мы, видно, тоже обречены.
Как ландскнехты после тридцатилетней войны, мы возвращаемся по домам и видим, что все там теперь изменилось. Мы аннулируем подписки на газеты и не нуждаемся ни в чем — вот только бы пожить еще чуть-чуть и, возделывая свой клочок земли, поразмышлять над безумием мира, наполовину покинутого нами.
Но что-то все-таки продолжается, и так же, как прежде, читаешь какие-то книги, безучастно улыбаясь над вновь закипающей вокруг суетой. Видишь, как семейные журналы, несколько лет подряд полнившиеся лязганьем стали и кровью, вновь открывают и восхваляют уют; с серьезной симпатией следишь за умами, наперекор всему старающимися истолковать знамения и перевести иероглифы судьбы на повседневный язык. Книги Шиккеле («Женевское путешествие»), Аннетты Кольб и других эмигрантов поведали о многом из того, чем за минувшие годы страдал европейский дух в своих наиболее беззащитных представителях. Поэты по-своему, прозаики по-своему играют на одном и том же материале, и возникают такие пестрые вещи, как «Человек-цирк» Маделунга или «Зеленое лицо» Майринка. Обыватель шарахается от этих искаженных гримасами лиц, не видя, что собственное мурло его выглядит много страшнее. В «Демиане», сочинении Эмиля Синклера[44], есть фраза: «Мы можем понять друг друга, но толковать может каждый лишь себя самого».
В целом же к книгам стало серьезности меньше, чем прежде. Мудрость, необходимая нам, есть только у Лао-цзы, и перетолкование ее на языки Европы именно сейчас — наше единственное духовное дело. Так забавно смотрятся с нею рядом книги и речи всевозможных духовных советчиков, равно как и споры об экспрессионизме или о праве писателей на произвольное употребление и расположение слов. С распадом эстетических конвенций у нас неизбежно гибнет и немало ценных традиций (попробуй-ка помыслить, что погибает с Ренуаром?!), но жизнь вершит свое, с чем невозможно не согласиться.
Коротко скажу о том, что прочитал я за эти месяцы.
Первый полутом ежегодника нового журнала «Гений», издаваемого у Курта Вольфа. Красивая книга ин-кварто с многочисленными художественными репродукциями, среди которых самая прекрасная — «Вид Толедо» Эль Греко. Изобразительное искусство вообще преобладает, и предпосланные книге слова Воррингера удачно задают направление и тон. Я воистину был восхищен большим количеством замечательных оттисков старых и новых полотен, вот только жаль, что мало среди них давно и хорошо знакомых, которые с удовольствием рассматриваешь вновь. Заметна безобидная попытка показать родство нынешних экспрессионистов с готикой, негритянской пластикой и т. п. Из современных произведений, репродуцированных в книге, наиболее сильное впечатление производят картины Кокошки. Литературная часть журнала намного беднее, действительно характерными вещами не представлена ни лирика, ни проза; самое ценное — это местами великолепная, чарующая поэзия Верфеля и по духу (но не по выражению) — «Речь к гражданам мира» Курта Пинтуса. В целом этот том определенно доставляет удовольствие, и уже предвкушаешь выход второго. Но не ослабит ли со временем деятельность издания фрагментный характер его литературной части? Объективность информации и чисто деловой, недюжинный отбор лучшего — принципы великолепные, но осуществимы ли они на самом деле? Не является ли ироническая мудрость аутсайдеров такой же иллюзией, как странность адептов? А страстность, какой бы подозрительной для интеллектуалов она ни была, двигатель все же могучий.
Вышли новые книги двух авторов давно минувшей доэкспрессионистской эпохи — Эмиля Штрауса и Кайзерлинга. Штраус мне больше по вкусу. Элегантная меланхолия Кайзерлинга в последних его книгах была, правда, столь же прекрасной, как прежде, но все-таки чуть сладковатой и вялой. Штраус, прямолинейный лишь с виду, натура сложная. Его «Зеркало» не только меланхолическая, но и чуть утомленная книга — книга, пронизанная одиночеством и до конца не высказанной скорбью, — так в мрачные времена закрывают ставни и в полутьме играют камерную музыку.
По-прежнему узнаёшь новое. Недавно прочел я две книги писателя, уже несколько десятилетий в Германии самого читаемого, а мне до сих пор не известного. Карла Мая. Мало-мальски сведущие люди всегда мне твердили, что он ремесленник и халтурщик в наихудшем смысле. Однажды вокруг него возникло даже нечто вроде борьбы. Ну вот теперь я знаю его и от всего сердца рекомендую дядям и тетям, ищущим, что бы подарить подрастающим племянникам. Его книги — сплошь неслыханная фантастика, у них роскошная, здоровая структура, нечто совершенно свежее и наивное, несмотря на лихость техники. Как же сильно он, видимо, действует на молодых! Если бы он к тому же еще пережил войну и стал пацифистом! Тогда бы ни один шестнадцатилетний мальчишка не пошел на фронт добровольцем.
И напоследок — кое-что иностранное, кое-что французское. Я имею в виду француза, который, будучи одним из лидеров возрождения нынешней духовной Франции, ни часа своей жизни все же не отдал мерзости войны. Ромена Роллана. Перевод на немецкий его «Кола Брюньона» — прекрасный, радостный сюрприз. В книге не проблемы эпохи, не трагизм, не грезы о будущем, а милая, простодушная человечность, радостное каникулярное солнце, ветер и сельский воздух, свежее утро и старое домашнее вино, доброта и веселость, само здоровье. Никто не был так прав, как он, устроивший каникулы духу; ему, как никому другому, мы обязаны тем, что на исходе войны, претерпевший немалую горечь на собственной родине, он сохранил для потомков толику наднациональной человечности. При всей любви и уважении, которые я испытываю к этому стойкому человеку, мне, честно говоря, много лет была не совсем по душе его втемяшенность в преходящее и сомнительное, я давно хотел услыхать от него песнь наивному жизнелюбию и просто человечности. Став со временем одним из министров у гуманизма, писатель ли он по-прежнему? Осталось ли в нем достаточно детскости и простодушия, необходимых для чистой, первозданной любви к сочинительству? И вот вам ответ, самый прекрасный, на какой он только способен. В экземпляр, посланный им для меня, он собственноручно вписал краткое посвящение — лучшее, что можно сказать об этой книге: «Ce flacon de vieux Bourgogne, pour tenir tete a la melancolie»[45].
(1919)
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ КНИГИ
Прежде я довольно точно знал, какие книги хорошие и какие нет. Раннему возрасту вообще свойственно знать единственно правильное о стольких вещах, что любо-дорого жить и думать. Теперь же все ставишь под сомнение, и это происходит у меня также и с книгами.
Во время войны мне часто приходилось размышлять о хороших и плохих книгах, ибо я был обязан подбирать книги для полумиллиона людей. Начав с претворения своих замечательных принципов былых времен, я потерпел фиаско, ибо требования тысяч читателей (то были немецкие военнопленные во Франции) меня научили тому, что человек выбирает себе чтение не по этическим и не по эстетическим соображениям. У просвещенного человека они, конечно, есть, и, опираясь на них, он тянется ко многим вещам, которые для него, по сути, неинтересны, в ущерб другим, которые бы его увлекли, не будь для него преградой образование.
Именно так, окольным путем, открыл я писателя, который, оказалось, самый читаемый в наше время и которого я знал до сих пор лишь по имени. Он всегда фигурировал в списках пожеланий, поступавших ко мне от военнопленных. Это Карл Май. Я помню, что им увлекались мои знакомые мальчишки, но не помнил ничего похвального о нем, память хранила только плохое: что он чуть ли вовсе не писатель, а беззастенчивый ремесленник, настоящий проходимец без идеалов и святого в душе. Бог знает, откуда все это я знал, но знал. Писатели для меня делились на овец и козлов[46] — так уж сложилось, — и этот господин Май относился к козлам. Теперь же, из любопытства прочитав наконец-то две его книги, я был совершенно изумлен. Он вовсе не ремесленник, а человек ошеломляюще наивной честности. Он блестящий представитель определенного типа литературы, совершенно оригинальный писатель; созданное им можно бы назвать «литературой как исполнение желаний». В толстых книгах исполняет он все свои желания, не исполнившиеся в жизни: он силен, богат, высокочтим, почти король, повелевающий верными, могущественными союзниками, он демонстрирует свое превосходство над любым врагом, являет чудеса силы, ума и благородства. Он спасает погибающих, освобождают пленников, примиряет смертельных врагов, обращает грешников к вере в добро, сокрушает закоренелых злодеев. С мальчишескими, воинственно-разбойничьими желаниями неиспорченной наивной натуры объединяются у него другие, более сложные — он хочет быть не только сильным и могущественным, не только непостижимо хитрым и ловким, но и сказочно добрым. Таков герой всех его романов; воплощая один и тот же идеал, он меняет лишь имя. То, что при этом Май понимает под добротой европейско-христианскую доброту с примесью национализма, что он впадает в заблуждение, считая европейско-христианскую мораль выше всех прочих, подобно тому, как европейское стрелковое оружие превосходит боевое оснащение примитивных и нецивилизованных народов, — несущественно; ведь он добронамерен и в этом, стремясь к своей цели с завидной непосредственностью. Но я бы не стал говорить, что он крупный писатель, для этого его язык слишком шаблонен и полет души слишком невысок. Однако в нашей высушенной и опустелой литературе своими кричаще яркими, хлесткими произведениями он представляет такой тип словесности, который необходим и вечен. И не его вина, что другим, «лучшим», писателям нашей эпохи не хватает фантазии. Это вина «других», что сомнительными средствами Май достигает того, что для «других» недостижимо средствами более утонченными.
Эта действительная нехватка породила в последние годы новый поворот нашей прозаической словесности к фантастическому; тонкая, умная и культивированная мимика импрессионистов показалась вдруг утомительной и поблекшей, она уже не типична для времени, и молодежь перестала на нее равняться. Ряд новых намеренно-фантастических книг открыл у нас своими известными романами Майринк, но и он, располагающий очень тонкими и деликатными тонами, не пренебрег эффектистскими средствами. Рядом с ним поставлю я А. М. Фрая, чей «Невидимый Золнеман» написан в том же ключе; он только что выпустил новую, красивую и интересную книгу «Кастан и девки» (в мюнхенском издательстве «Дельфин»). Сюда же в каком-то смысле можно причислить и прозаические произведения Клабунда, чей прекрасный «Бракке» (в издательстве Эриха Райсса) преисполнен, кроме того, наигрышей и значений личного и актуального свойства.
«Фантастичность» этих книг, равно как и полный распад традиций в современной живописи, отнюдь не эксперимент, не сознательный поиск одиночками новых эффектов и успехов, не попытка создать что-то новое, а производная процесса, которому в большом мире в точности соответствует разрушение и новое построение европейского духа. В искусстве отражается всегда не случай и не воля отдельного человека, а необходимость. Поворот от утонченного к кричащему, от Томаса Манна к Генриху Манну, от Ренуара к экспрессионизму — это поворот к новым областям нашей души, это распечатывание новых источников и открытие новых пропастей нашего бессознательного. При этом всегда и неизбежно всплывают фрагменты отдаленнейшей юности, обломки атавизма, и во множестве гибнут прекрасные, ценные, благородные традиции. Но ничто не поможет удержать то, что гибнет, новые всходы не упразднить насмешками и игнорированием. Так не дали себе помешать и война и революция[47], и как ни старались филистеры закрывать глаза и ставни и затыкать уши ватой, их старый мир тем не менее рухнул.
Только что у Штреккера и Шредера в Штутгарте вышла фантастическая книга времен наших дедушек и бабушек, настоящая, великолепная поэтическая книга, полная капризов, игры и глубокой, роскошнейшей бессмыслицы, — «Либмунд Мария Виспель» Эдуарда Мёрике. Издатель, В. Эггерт-Виндегг, в этой потешнейшей книге собрал все «виспелиады» Мёрике, присовокупив также репродукции рукописей и рисунков писателя и поэта, великого поэта Мёрике, которого вновь, как всегда, и в этой книге неверно поймут и который все же произведет глубокое и лучезарное впечатление. Явился бы наконец-то знаток (такой же прекрасный, как Бертрам в своем «Ницше»), который изобразил бы Мёрике как одного из предшественников современного мироощущения, каким был его современник Ленау, а до него — Гёльдерлин!
(1919)
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ВИЛЬГЕЛЬМА ШЕФЕРА
Судя о картине, художники не только ставят ее в выгодное освещение, рассматривают ее не только вблизи и издали, не только ищут разные ракурсы, но зачастую и переворачивают, вешают ее криво и вверх тормашками, успокаиваясь лишь тогда, когда, несмотря на все испытания, краски ее не перестают осмысленно и волшебно льнуть друг к другу.
Точно так же я поступаю всегда и со всевозможными истинами, которые очень люблю. Хорошая, правильная истина должна, как мне кажется, выдержать и переворачивание ее. То, что истинно, должно оставаться истинным и в своей противоположности. Ибо всякая истина — это сжатое выражение взгляда на мир с определенного полюса, а нет полюса, у которого бы не было контрполюса.
Очень высоко ценимый мною писатель Вильгельм Шефер несколько лет назад поделился со мной высказыванием о задаче писателя, придумал он его сам и позднее вставил в одну из своих книг. Это высказывание произвело на меня сильное впечатление; несомненно истинное, оно было отлично сформулировано, в чем Шефер мастер. После этого оно еще долго звучало во мне; я, собственно, не забывал его ни на миг, оно то и дело приходило мне в голову. Что не свойственно истинам, с которыми мы абсолютно и полностью согласны. Они обычно проглатываются и быстро перевариваются.
Высказывание было следующим: «Задача писателя не в том, чтобы значительно выразить простое, а в том, чтобы просто выразить значительное».
Часто и подолгу размышлял я над тем, почему это замечательное изречение (которым я восхищаюсь и ныне) не совсем усваивалось мною, оставляло чувство пустоты и противоречия. Над этой фразой бился я сотни раз вплоть до анализа собственного хода мыслей. Первое, что я обнаружил, был какой-то тихий диссонанс, крошечный изъян, совсем малюсенький сдвиг в прозрачном кристалле столь замечательно оправленной формулы. «Просто выразить значительное, а не значительно простое» звучало как безупречный параллелизм и все-таки было не совсем параллелизмом. Ибо в обеих половинах высказывания смысл слова «значительное» был не совсем тем же самым, не тютелька в тютельку тем же самым. То «значительное», которое должен выразить писатель, было несомненно ясным и недвусмысленным и означало здесь примерно то же, что и «безусловно ценное». Другое же «значительное» имело призвук пренебрежения. Если «простое», то есть, очевидно, незначительное, писатель выражает «значительно», то в смысле того высказывания он делает, следовательно, что-то неправильное, получается, что «значительное», которым характеризуется его дело, в сущности — делячество, а значит, разумеется наполовину иронически.
Странным образом поздно сделал я простую попытку испытать афоризм и перевернуть его. Получилось: «Задача писателя не в том, чтобы просто выразить значительное, а в том, чтобы значительно выразить простое». И, о чудо, передо мной была новая истина. Переворачивание формально улучшило фразу уже тем, что слово «значительное» в обеих частях высказывания имело теперь одно и то же значение и при нажиме не меняло своего смысла, как прежде.
И я внезапно понял, что в перевернутом виде истина Шефера для меня еще истиннее, еще ценнее, чем то, что он, собственно, сказал. Теперь наконец-то все стало на место. Высказывание Шефера было, конечно, таким же истинным и прекрасным, как и прежде, но — с его, Шефера, точки зрения. С моей же, противоположной, точки зрения, перевернутое высказывание излучало совершенно новую силу и новое тепло.
Шефер сказал, что задача писателя не рассказывать о произвольных и не имеющих значения вещах так, чтобы они казались значительными, а выбирать для своих произведений истинно ценное и важное и изображать его как можно проще. А перевернутое мною гласило: «Задача писателя не в том, чтобы решать, является ли важным и значительным то или иное. Задача его не в том, чтобы, словно какой-нибудь опекун будущих читателей, произвести отбор в хаосе мира и выделить только ценное, действительно важное. Нет! Напротив, задача писателя состоит как раз в том, чтобы в любой ничтожности увидеть вечное и великое и вновь открывать это сокровище, сообщать знание того, что Бог повсюду и в каждой вещи».
Так для задачи писателя я нашел формулу, которая для меня, с моей точки зрения, — куда ценнее и истиннее, чем исходное высказывание, хотя поначалу, приспосабливаясь, я с ним и соглашался. Нет, писатель, как я понимаю его суть, не должен решать, что на земле значительно и что незначительно. Обязанность его, по-моему, состоит как раз в противоположном — священная обязанность показывать вновь и вновь, что «значение» — это только слово, что значение либо не приписано ничему на свете, либо приписано всему, что нет вещей, которые надо принимать всерьез, как нет и таких, которые принимать всерьез не надо. Шефер, конечно, имел в виду другое. Писатель в отрицательном для него смысле — это человек, который с помощью искусности и ловкости из ничтожности, являющейся ничтожностью и для него самого, создает нечто внушительное на вид; который накачивает вещи значениями; который, короче говоря, комедианствует. Таких писателей не приемлю и я. Но, в отличие от Шефера, я не верю, что граница между «значительным» и «простым» вообще существует.
Исходя из этой мысли, на протяжении нескольких лет я глубже усвоил феномен литературы и истории духа, который всегда мне казался чем-то давящим и темным, который наши учителя и литературоведы ни разу не смогли объяснить так, чтобы я был удовлетворен.
Этот странный феномен воплощен и в писателе, решающем крупные проблемы, и в мастере деталей и идиллии. Есть писатели, чьи произведения нас не восхищают, но веют на нас загадочным духом величия и значимости, потому что эти писатели «избрали» великие темы человечества и придали форму колоссальным проблемам человеческого бытия. С другой стороны, есть так называемые мелкомасштабные писатели, которые не высказали ни одной великой, мощной, всемирно-исторической мысли, которых вообще никогда не волновало происхождение и будущее человечества со всеми его проблемами, которые предпочитали петь и фантазировать о маленьких судьбах, о чувствах любви и дружбы, о скорби над преходящим, о ландшафтах, животных, певчих птицах и облаках в небе, но которых мы очень любим и перечитываем вновь и вновь. Всегда в растерянности гадали, куда, собственно, отнести и как расценить этих писателей, эти простые души, которые ничем не потрясают и которых мы все равно так любим! Я имею в виду всех этих Эйхендорфов, Штифтеров и им подобных. С другой стороны, в сумраке своей знаменитости возвышаются великие искатели проблем, постановщики великих вопросов — Хеббели и Ибсены (я не причисляю к ним немногих действительно великих писателей-пророков: Данте, Шекспира, Достоевского), странные гиганты, которые, поднимая в своих произведениях глубочайшие проблемы, так мало радости доставляли нам в целом.
Так вот, Эйхендорфы и Штифтеры, а все они — писатели настоящие, простое выражают значительно потому, что вообще не видят разницы между простым и значительным, потому что живут в совершенно иной плоскости и смотрят на мир с совершенно иного полюса. И именно они, эти идиллики, эти простые и проницательные дети божии, для которых каждая травинка — откровение, они, называемые нами мелкомасштабными, дают нам больше всего. Они учат нас постигать не «что», а «как». Рядом с глубокомысленными великими они — как матери рядом с отцами, а как часто нам мать бесконечно нужней, чем отец!
Переворачивание истины всегда во благо. Всегда во благо хотя бы на час все картины перевесить у себя внутри вверх тормашками. Тогда мысли приходят легче, возникают быстрее идеи, легче скользит наша лодка по мирскому потоку. Если бы я был учителем и содержал школу, если бы имел учеников, которые писали бы сочинения и тому подобное, то желающих я порою отводил бы на час в сторонку и говорил им: чему мы учим вас — правильно, но попробуйте подчас переворачивать все наши предписания и истины, хотя бы просто так, хотя бы для потехи! Переворачивая даже слово, буква за буквой, нередко открываешь чудесный источник поучений, радостей и великолепных идей.
Такая игра рождает зачастую настроение, при котором спадают с вещей ярлыки, и вещи тогда предстают перед нами ошеломляюще иными. Тогда бледные цветовые разводы на старом оконном стекле становятся византийской мозаикой, а чайник — паровой машиной. И именно это настроение, эту готовность души забыть знакомый ей мир и заново открыть его как еще более значительный мы и находим у тех писателей, которые говорят о значении незначительного.
(1919)
О ЧТЕНИИ КНИГ
Разрабатывать типы и делить на них человечество — врожденная потребность нашего духа. Потребность в типологической систематизации можно проследить от «характеров» Теофраста и четырех темпераментов наших дедов до самой современной психологии. Но и бессознательно каждый человек делит людей своего окружения на типы по сходству с характерами, которые приобрели для него важность еще в детстве. Однако какими бы полезными и поучительными такие типологические разделения ни были, остаются ли они достоянием личного опыта или претендуют на научную формулировку, порою бывает нужно и важно сделать все же иное, поперечное, сечение через царство опыта и увидеть, что каждый человек объединяет в себе черты всех типов и что различные характеры и темпераменты могут быть обнаружены как сменяющие друг друга состояния также и в пределах одной-единственной личности.
Выдвигая в дальнейшем три типа или точнее, три уровня книжного чтения, я тем самым отнюдь не считаю, что на эти три порядка разделяется и весь читательский мир, что один человек относится к одной, а другой — к другой группе. Я убежден, что каждый из нас временами входит в одну, а временами в другую группу.
Возьмем для начала наивного читателя. Каждый из нас читает порою наивно. Такой читатель поглощает книгу, как еду, он только потребитель, он наедается и напивается, как мальчик — книгами об индейцах, как горничная романами о графинях или студент — Шопенгауэром. Такой читатель ведет себя по отношению к книгам не как личность по отношению к личности, а как лошадь по отношению к яслям или как та же лошадь по отношению к кучеру: книга ведет, читатель за нею следует. Содержание книги воспринимается объективно, признается за действительно существующее. Но не только содержание! Есть и образованные, даже рафинированные читатели, и именно художественной литературы, которые полностью относятся к классу наивных. Они, правда, не застревают на содержании и оценивают роман, например, не по количеству приключившихся в нем смертей или свадеб, но вовлекают в оценку и самого писателя, воспринимая эстетическое послание книги совершенно опредмеченно, наслаждаясь вместе с писателем всеми извивами его фантазии, полностью вживаясь в позицию, занятую писателем по отношению к миру, и всецело принимая все толкования, которые сам писатель преподносит как вымышленные. То, что для простодушных представляется содержанием, средой и действием, для таких культурных читателей — искусство, язык, образованность, духовность писателя, принимаемые ими за нечто объективное, за конечную и высшую ценность литературы, подобно тому, как фактической ценностью, реальностью являются для юных читателей подвиги Олд-Шэттерхэнда, описанные Карлом Маем.
В своем отношении к чтению этот наивный читатель вообще не личность, не он сам. События романа он оценивает по их напряженности, степени опасности, эротичности, изощренности или обедненности или оценивает самого писателя, измеряя его достижения масштабами того или иного эстетического воззрения, которое в конечном счете всегда является той или иной конвенцией. Такой читатель ничтоже сумняшеся считает, что назначение книги заключается единственно в том и только в том, чтобы добросовестно и внимательно быть прочитанной и оцененной по своему содержанию или форме. Так же, как он усматривает назначение хлеба в том, чтобы его съесть, а назначение кровати в том, чтобы на ней спать.
Но по отношению ко всем вещам на свете, а значит и по отношению к книге, можно занимать совершенно иную позицию. Следуя своей природе, а не образованию, человек становится порою ребенком и начинает играть вещами хлеб становится у него горой, в которой он пробивает туннель, а кровать пещерой, садом, заснеженным полем. Кое-что от этой детскости и этого гения игры присуще второму типу читателя. Этот читатель не ценит ни содержание, ни форму произведения как единственные и важнейшие ценности. Этот читатель знает, как знают все дети, что смысл каждой вещи может заключать и десять, и сто значений. Этот читатель может, например, наблюдать, как писатель или философ стараются внушить себе и читателям свое толкование и оценку вещей, наблюдать, посмеиваясь и усматривая в кажущемся произволе и свободе писателя лишь вынужденность и зависимость. Этот читатель очень осведомлен: он знает истину, обычно совершенно неизвестную профессорам литературы и литературным критикам, — что свободный выбор содержания и формы есть чистая фикция. Как бы историки литературы ни доказывали, что Шиллер избрал такой-то год и такое-то содержание и решил облечь их в пятистопный ямб, читатель хорошо знает, что никакой свободы выбора содержания или там ямба у поэта быть не может, и он находит удовольствие не в том, чтобы следить за содержанием во власти поэта, а в том, чтобы следить за поэтом во власти содержания. С подобной точки зрения так называемые эстетические ценности почти совершенно пропадают, и наибольшую прелесть и ценность начинают представлять только промахи и нечеткости. Так как этот читатель идет за писателем не как лошадь за конюхом, а как охотник — по следу, и внезапно найденный вид за кулисы, где свобода писателя оказывается мнимой, зрелище принужденности и беспомощности писателя могут привести его в восторг куда больший, чем все прелести хорошей техники и искусного владения языком.
На этом пути, еще одной ступенью выше, мы обнаруживаем третий и последний тип читателя. Еще раз подчеркиваю, что ни один из нас не относится ни к одному из этих типов постоянно, что каждый может относиться сегодня ко второму, завтра — к третьему, а послезавтра вновь к первому типу. Так вот о третьем и последнем типе. На первый взгляд он полная противоположность того, что называют обычно «хорошим читателем». Этот третий читатель — личность настолько выраженная, настолько осознающая себя, что совершенно свободно противопоставляет себя объекту чтения. Такой читатель не желает ни образовываться, ни развлекаться, а пользуется книгой как любым предметом на свете, она для него — всего лишь исходная точка и генератор идей. Ему, в сущности, безразлично, что читать. Философа он читает не для того, чтобы ему верить, усваивать его учение и не для того, чтобы это учение атаковать и критиковать; писателя он читает не для того, чтобы с его помощью понять мир. Он все понимает сам. Он, если угодно, совершенное дитя. Он всем играет, и с определенной точки зрения нет ничего плодотворней и полезней, чем игра со всем и вся. Если этот читатель обнаружит в книге отличное высказывание, мудрость, истину, то поначалу он для пробы это высказывание перевернет. Он давно знает, что истинна и противоположность всякой истины. Он давно знает, что каждая духовная точка зрения — полюс, у которого есть равноценный противоположный полюс. Ребенок он и тогда, когда высоко ценит ассоциативное мышление; но только ему известное и другое мышление. И этот читатель, более того — каждый из нас, может читать с такой точки зрения все, что угодно: роман, грамматику, транспортное расписание, типографскую корректуру. В момент, когда наша фантазия и ассоциативная способность переживают кульминацию, мы читаем уже совсем не то, что видим перед собой на бумаге, а плывем в потоке стимулов и идей, почерпнутых нами из прочитанного. Они могут быть почерпнуты из текста, но могут быть внушены и только шрифтом. Может оказаться откровением объявление в газете. Может возникнуть счастливейшая и убедительнейшая мысль из абсолютно любого слова, которое мы переворачиваем, буквами которого играем как кубиками. Сказку о Красной Шапочке можно читать в таком состоянии, как какую-нибудь космогонию, или философию, или как яркое эротическое сочинение. Можно даже прочесть на сигарной коробке «Colorado maduro» и, играя буквами и созвучиями, проделать путешествие через сотню областей знания, воспоминаний и мышления.
Но мне могут возразить — разве это чтение? Разве человек, прочитывающий страницу из Гёте, не обращая внимания на его интенции и идеи, как объявление или как случайную мешанину букв, вообще читатель? Разве тот уровень чтения, который ты называешь третьим и последним, не самый низкий, самый детский и самый варварский? Где же для такого читателя музыка Гёльдерлина, страстность Ленау, воля Стендаля, широта Шекспира? Возражение правильное. Читатель третьего типа — более не читатель. Человек, относящийся к нему длительное время, вскоре перестал бы читать вообще, ибо рисунок ковра или расположение камней в кладке представляли бы для него ценность точно такую же, как красивейшая страница, полная букв, расположенных в наилучшем порядке. Единственной книгой стал бы для него лист с буквами алфавита.
Так оно и есть: читатель последнего типа больше не читатель. Ему наплевать на Гёте. Не нужен ему и Шекспир. Читатель последнего типа не читает. Зачем вообще книги? Разве он сам не заключает в себе целого мира?
Кто застрял бы на этом уровне, действительно не стал бы больше читать ничего. Но на этом уровне никто не остается подолгу. Однако тот, кто вообще не знает этого уровня, все же плохой, незрелый читатель. Ведь он не знает, что вся поэзия и вся философия мира заключена в нем самом, что даже самые великие писатели черпали из источника, не отличающегося от того, который имеется в каждом из нас. Если ты в жизни хоть раз, час, день побудешь на третьем уровне, на уровне, где нет больше чтения, то по возвращении (а оно дается так легко!) ты станешь читателем еще лучшим, еще лучшим слушателем и толкователем всего написанного. Постой хоть один-единственный раз на уровне, на котором придорожный камень значит для тебя не больше, чем Гёте и Толстой, и после этого ты извлечешь из Гёте, Толстого и всех писателей бесконечно больше ценностей, нектара и меда, утверждения жизни и тебя самого, чем это удавалось тебе когда-либо раньше. Так как произведения Гёте не суть сам Гёте, и тома Достоевского не суть сам Достоевский, они лишь их попытка, их сомнительная и никогда не доведенная до цели попытка подчинить себе тот многоголосый, многозначный мир, центром которого они были.
Попытайся-ка один-единственный раз зафиксировать небольшую вереницу мыслей в том виде, в каком она протекает в тебе во время прогулки. Или на первый взгляд легкий, простой сон, приснившийся тебе ночью! Тебе снилось, будто какой-то человек сначала угрожал тебе палкой, а потом наградил тебя орденом. Но что это был за человек? Припоминая, ты находишь в нем черты твоего друга, твоего отца, но в нем было и что-то другое, женское, было в нем что-то, неизвестно каким образом напоминавшее тебе сестру, любимую женщину. И его палка, которой он тебе угрожал, была с одного конца загнута, что напоминает тебе палку, с которой ты еще в школьные годы пешком совершил свое первое путешествие, и тут обступают тебя сотни тысяч воспоминаний, и если ты захочешь закрепить, записать содержание этого простого сна, записать его стенографически или тезисно, то, еще не доходя до ордена, у тебя получится целая книга, или две, или десять. Потому что сон — это скважина, через которую ты заглядываешь в содержание своей души, а это содержание целый мир, не больший и не меньший, чем мир от твоего рождения до нынешнего дня, от Гомера до Генриха Манна, от Японии до Гибралтара, от Сириуса до Земли, от Красной Шапочки до Бергсона. И как твоя попытка записать сон относится к миру из сновидения, так произведения автора относятся к тому, что он хотел сказать.
Вторую часть «Фауста» Гёте ученые и любители объясняли почти сотню лет и давали прекраснейшие и глупейшие, глубочайшие и банальнейшие толкования. Но эта «сверхдетерминированность символов», как выражается современная психология, эта безымянная многозначность есть в каждом литературном произведении в завуалированной, скрытой под поверхностью форме. Не познав ее хоть один-единственный раз во всей бесконечной полноте и необъяснимости, по отношению к писателю и мыслителю ты будешь ограничен, будешь принимать за целое то, что лишь малая часть его, верить толкованиям, которые едва ли справедливы даже с виду.
Странствия по трем читательским уровням, как само собою разумеется, бывают у каждого человека и в каждой области. Те же три уровня с тысячью промежуточных уровней ты можешь занимать по отношению к живописи, зоологии, истории. И повсюду третья ступень, на которой ты более всего являешься самим собою, будет устранять чтение, разрушать литературу, искусство, всемирную историю. И все же, не имея понятия об этой ступени, все книги, все науки, все искусства ты будешь читать только так, как школьник читает грамматику.
(1920)
ПРЕДИСЛОВИЕ ПИСАТЕЛЯ К ИЗДАНИЮ СВОИХ ИЗБРАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ[48]
Современному писателю, одному из наших любимых прозаиков, предложили подготовить для издания избранное своих произведений и в предисловии поделиться мыслями, которыми он руководствовался при выборе. Через несколько недель он послал своему издателю следующее.
Предисловие
Предложение сделать популярную подборку своих сочинений вынудило меня кое-что проработать и взвесить, но для начала посмотреть, не напрашивается ли в такую почетную подборку какая-нибудь из моих вещей сама собою, благодаря своим особым достоинствам.
Произведения, из которых будет состоять запланированная подборка, прежде всего должны как-то выделяться внутри своего жанра вообще и занимать некое особое место среди прочих моих произведений как вещи, отчетливее, чем другие, выражающие специфичность моего характера, или как отменно удачные, приятные и хорошо сбалансированные по своей форме и манере. Такими принципами я собирался руководствоваться, чтобы выбор был добросовестным.
Наряду с этим, казалось, естественным еще одно, более удобное решение: счесть глас народа гласом Божиим и выбрать просто те произведения, которые уже предпочли читатели. Лучшие мои книги, вероятно, также и те, что наиболее благосклонно были приняты критикой и распродавались самыми большими тиражами. Но если считать правильной ссылку на глас Божий, то статистически доказуемым образом я оказываюсь писателем куда более выдающимся, чем некоторые наши величайшие и смиренно почитаемые мною мастера, и вновь предстаю маленьким и убогим по сравнению с блистательными тиражами некоторых современников, с коими быть перепутанным или сопоставленным для меня страшнее, чем очутиться среди убийц. Так что, к сожалению, после кратчайшего анализа этот, путь оказался запретным, и щекотливая задача висела на мне по-прежнему. Мне следовало, по крайней мере, попытаться сделать невозможное: самому устроить суд об общественной ценности или неценности моих писательских опытов и вынести приговор.
Были возможны два пути: или сравнить свои вещи с произведениями других, испытанных писателей, или — что на первый взгляд как будто проще — строго отбирая, наметить те сочинения, которые лучше всего представляют и отчетливее всего поясняют меня самого, мой характер, мое мировоззрение, мое писательское дарование или мою творческую миссию. Прежде чем избрать один из путей, надо было для пробы пройти до конца по обоим.
И для пробы я пошел сначала по первому пути, взяв за масштаб своего суждения произведения испытанных прозаиков. Сравнивать себя с романистами первого, высшего класса — что и говорить! — я не стал; даже во время сильнейших приступов честолюбия мне и в голову не приходило сопоставлять себя с Сервантесом, Стерном, Достоевским, Свифтом или Бальзаком. Но, думал я, скромное, почтительное сравнение с уважаемыми мастерами очередного, но все еще очень высокого класса, вероятно, все-таки возможно, даже если эти мастера превосходят меня в сотни раз; ведь надо же, казалось мне, определить хотя бы меру моей устремленности к ним. Я думал о таких окруженных почетом и любовью прозаиках, как Диккенс, Тургенев, Келлер. Но и здесь не нашел я, за что зацепиться. И эти мастера стояли надо мной слишком высоко, не говоря о том, что было и нечто другое, делавшее невозможным сравнительное суждение или нахождение меры ценности.
Всякий раз, делая попытку сравнить какую-нибудь свою книгу с одним из почитаемых произведений тех крупных писателей, я чувствовал, что не имею с ними абсолютно ничего общего. Я видел, что пытаюсь установить связь между несоизмеримыми величинами. Не было общего масштаба, не было общего знаменателя. И с того момента я очень скоро нашел свою истину — истину, для меня, впрочем, глубоко постыдную.
На первый взгляд мои романы были сравнимы с произведениями писателей старшего поколения. Их объединяло определение на титульном листе: «роман» или «рассказ». Но на самом деле — и, похолодев, я вдруг увидел это сверхотчетливо — на самом деле мои романы — не романы, а новеллы — не новеллы. Я — не прозаик, никакой не прозаик, и то, что я, никуда не денешься, сочинил вещи, выглядевшие совсем как рассказы, как раз и является моим грехом и пороком. Тех великолепных мастеров прозы я с детства любил и много читал, из чего и возникло стремление им подражать, которого я поначалу совершенно не осознавал и о котором лишь позднее начал догадываться. И только сейчас это дошло до меня полностью.
В своем дилетантстве и подражательстве я был не одинок. Новая немецкая литература вот уже несколько столетий кишит романами, что вовсе не романы, и писателями, которые только изображают из себя прозаиков, на самом деле ими не являясь. Среди них есть крупные, замечательные писатели, чьи якобы новеллы я, однако, горячо люблю, — достаточно назвать лишь Эйхендорфа. С этими писателями сродство у меня есть, но только в отношении моих слабостей. Рассказ как замаскированная лирика, роман как взятый напрокат ярлык для попыток поэтических натур выразить ощущение своего собственного Я и вселенной — специфически немецкая и романтическая особенность, в чем, как я теперь понял, и заключается моя близость к этим натурам и моя со-виновность. Но здесь имеется еще один момент. Такие писатели, как Эйхендорф и многие другие, могли бы, по-видимому, и не заниматься контрабандой лирики под чужим флагом романа; они умели сочинять великолепную, незамаскированную, настоящую лирику и, слава Богу, делали это. Но лирика не только стихосложение, лирика прежде всего сочинение музыки. И, зная, что немецкая проза несравненно чудесный, прельстительный инструмент для музицирования, многие писатели страстно отдавались этому изысканному наслаждению. Но немногие, чрезвычайно немногие были достаточно сильны или тонко организованы, чтобы лишить себя преимуществ заимообразного использования прозаической формы (к этим преимуществам относилась и возможность иметь больше читателей) и свою прозаическую музыку явить миру столь же гордо, как Гёльдерлин своего «Гипериона» и Ницше своего «Заратустру». Получается, что я как обманутый обманщик неосознанно строил из себя прозаика. И то, что при этом я находился в большой и отчасти даже очень неплохой компании, меня не извиняет. Не оставалось никаких сомнений; ни одна из моих прозаических вещей как произведение искусства не была достаточно беспримесна, чтоб удостоиться хотя бы упоминания. Сматывай-ка ты, малый, удочки и ступай домой! С этой точки зрения идея избранного моих сочинений была осуждена и отброшена.
Уничтоженный пониманием этого я вступил на второй путь. Хотя мои книги как произведения искусства и не беспримесны, хотя они и варварские в стремлении объединить несовместимые жанры и неудачные в зародыше, у них все же есть субъективная, преходящая ценность; они — попытка самовыражения души, переживавшей, страдавшей и искавшей себя в нашу эпоху. А значит, для «избранного» моих сочинений следовало определить только одно: какие из них наиболее подлинны, правдивы, в каких отчетливей всего выразилась моя манера и в каких не так много истинности и выразительности пало жертвой подражания, неподлинной формы?
Я начал все сначала и несколько недель кряду заново перечитывал почти все свои вещи, часто удивляясь и становясь в тупик, часто стыдясь и стеная. Некоторые я почти забыл и все до одной представлял себе иначе, чем видел их сейчас, при повторном чтении. Многое из того, что годы и десятилетия назад чудилось мне прекрасным, удачным, выглядело теперь жалко и недостойно. К тому же все эти вещи твердили только обо мне самом, были зеркалом моих собственных перипетий, моих сокровенных грез и желаний, моих собственных горьких бед! Даже те книги, в которых, как непреложно казалось мне прежде, когда их писал, я изобразил совсем посторонние судьбы и драмы, крутили одну и ту же шарманку, воссоздавали одну и ту же среду, рисовали одну и ту же судьбу — мою собственную.
И ни одна из этих вещей вообще не могла рассматриваться для избранного. Выбирать было нечего. Именно те сочинения, в которых когда-то я судорожнее всего работал над стилем, образами и лгал (конечно, бессознательно), несмотря на то, что ныне выглядели они отвратительными и нескладными, именно они больше, чем все остальные, вопили истину, беспощаднее всех выдавали меня с головой зоркому взгляду. И именно в тех сочинениях, которые прежде с твердейшим намереньем писал я как чистую исповедь, я обнаружил теперь странные, не совсем уже понятные виляния, замалчивания и украшательства. Нет — эти книги все до одной были исповедью и звонкой тоской по выражению моей сокровеннейшей сути, но ни в одной из них исповедь не звучала полногласно и чисто, ни в одной не достиг я спасения в слове!
Размышляя о всех усилиях, отречениях, страданиях, жертвах, обращенных за многие годы на создание этих печатных творений, и сравнивая их с результатом, с тем, чем они ныне предстали мне, я мог бы считать свою жизнь неудачной, прожитой зря. Но, рассуждая строго, видимо, мало жизней, с коими обстоит иначе: нет такой жизни и такого дела, которые выдержали бы сравнение с идеалом. Не в руках человека определять ценность или неценность своего бытия и поступков.
И все-таки нет уже оснований публиковать «избранные произведения». Мыслью о них я тешил себя еще до того, как начал эту работу; в сладких снах я их видел порою как четыре или пять красивых томов, от которых не осталось теперь ничего, кроме этого предисловия.
(1921)
РЕЧИ БУДДЫ[49]
Идущая из Индии духовная волна, вот уже сто лет ощутимая в Европе и особенно в Германии, стала ныне зримой для всех; что бы там ни думали и ни говорили о Тагоре и о Кайзерлинге, тоска Европы по духовной культуре Древнего Востока очевидна.
Выражаясь психологически, Европа начинает страдать некоторыми симптомами упадка. Ее духовная культура, доведенная до предела односторонности (яснее всего проступающей, например, в научной специализации), нуждается в корректировке, освежении с противоположного полюса. Всеобщая тоска выражается не только в стремлении к новой этике или новому образу мышления, но и к тем духовным функциям культуры, которые не выполняет наша интеллектуалистическая духовность. Люди тоскуют не столько по Будде или Лао-цзы, сколько по йоге. Мы убедились, что человек может развить свой интеллект до удивительных высот, не управляя при этом собственной душой…
Переводы Ноймана немецкие литераторы осмеяли за дословное воспроизведение повторов, кажущихся на первый взгляд бесконечными. Некоторым же эти спокойные, бесконечно текущие ряды образных медитаций напоминают замкнутые круги молитв. Такая критика, какой бы остроумной она ни была, происходит из установки, которая для существа дела неудовлетворительна. Речи Будды — не выжимка из его учения, а примеры медитаций и само медитирующее мышление, которому мы можем научиться. То, что медитации могут принести другие, более ценные, чем научное мышление, результаты — вопрос праздный. Цель и результат медитаций — не познание в смысле нашей западной духовности, а изменение картины сознания, техника, цель которой — чистая гармония, одновременное и равноправное сотрудничество логического и интуитивного мышления. О достижимости такой идеальной цели судить мы не можем, в этой технике мы сущие дети и начинашки. Но для проникновения в технику медитации нет более непосредственного пути, чем чтение и изучение «Речей Будды». Есть еще немало нервозных немецких профессоров, опасающихся некоего буддистского потопа, гибели западной духовной культуры. Но западная культура не погибнет, и Европа никогда не станет царством буддизма. Кто прочел речи Будды и стал буддистом, нашел в них, вероятно, утешение, но тем самым он избрал аварийный выход вместо того, чтобы пойти по пути, который может указать Будда.
Модница, кладущая рядом с бронзовым Буддой из Цейлона или Сиама три тома «Речей Будды», того пути не найдет, равно как и аскет, спасающийся от пустоты убогих будней опиумом догматического буддизма. Если мы, жители Запада, хоть немного научимся медитации, то результаты ее у нас будут совершенно другими, чем у индийцев. Она станет для нас не опиумом, а средством углубленного самопознания, что было первым и священнейшим требованием для учеников древнегреческих мудрецов.
(1921)
ТИПОГРАФИЯ БОДОНИ В МОНТАНЬОЛЕ
Пока существует цивилизация, всегда будут люди, которые в погоне за благородной роскошью стремятся завладеть не только предметами всеобщей моды, не только безупречными и ценными вещами, но и книгами. Таких людей не очень много, и они, эти тысяч десять избалованных богачей, которые никогда не стали бы носить готового платья или дешевую фабричную обувь, не в состоянии отличить фабричный книжный товар от ручной работы. Но каждый, кто в этой области разборчив и имеет опытный глаз, видит, что разница между обычно напечатанной книгой и книгой, с высшей скрупулезностью сделанной вручную, столь же велика, как велика она меж деловым письмом, настуканным на машинке, и строками, любовно выведенными рукой монастырского каллиграфа.
Для немногих действительных знатоков безупречной книжной печати будет радостной весть о том, что вот уже несколько месяцев существует новый книжный пресс, выпускающий продукцию первоклассного качества. Это пресс Бодони в Монтаньоле под Лугано. Есть уже первые публикации — четыре чрезвычайно благородно и тщательно сработанных оттиска: «Orphei Tragedia»[50] Анджело Полициано — восхитительное, в языковом отношении отменно цветистое и импозантное сочинение флорентийского гуманиста; затем — стихи Микеланджело; тоже факсимильные «Мариенбадские элегии» Гёте и поэма Шелли «Эпипсихидион», которая в настоящий момент еще печатается. Хорошо, если бы за Гёте последовали оттиски и других немецких текстов! Ведь в нынешней Германии это невозможно из-за экономического кризиса. О текстах достаточно сказать, что все они, и по выбору, и по подготовке к печати, свидетельствуют о добросовестности и недюжинных знаниях. Но существо этого достижения не в качестве издания, а в качестве работы. О чем как старый библиофил, сосед[51] и случайный свидетель работы монтаньольского пресса я и хотел бы немного рассказать.
Оттиски изготавливаются руководителями новой типографии с помощью трех-четырех сотрудников на ручном прессе, и за исключением части переплетных работ, например — золочения, все книги делаются на предприятии полностью. То, что в большой по-фабричному работающей типографии производится в считанные часы и дни, требует здесь недель и месяцев добросовестнейшего ручного труда. Порядок набора каждой страницы здесь предмет длительных обсуждений и бесчисленных проб. И в оттиске нет ни одной запятой, ни одной колонцифры, ни одной буквицы, ни одного пробела, которые не были бы следствием самоотверженной работы, терпеливых попыток и высокоразвитого вкуса. Когда набор готов, когда прочитаны и вновь перечитаны корректуры, истреблены все, даже мельчайшие ошибки, начинается кропотливейшая работа по напечатанию. Проверенная лист за листом, бумага разумеется, только самая благородная — слегка увлажняется, и при минимальном давлении делается первый пробный оттиск. Профанам он покажется, вероятно, абсолютно нормальным, и в нем действительно уже нет даже таких опечаток, которые встречаются и в самых лучших книгах. Но на таком оттиске исправляются малейшие перекосы, тонко регулируется любая неравномерность в нажиме и цветовой интенсивности; всякий лист, прежде чем печататься набело, проходит через пробы и корректировки, длящиеся часами; с помощью подложек из тонкой шелковой бумаги, которые в нужных местах удваиваются, утраиваются, учетверяются, оттиск выходит абсолютно равномерным, без бледных и неровных мест. Эта строжайшая точность работы, распространенная на все процедуры вплоть до окончательной готовности переплетенной книги, собственно, и дает настоящее представление о качестве ручного изделия. Изготовленные таким образом книги уже не механически произведенные товары; каждый оттиск результат отменно хорошей, добросовестной работы. Тиражи, конечно, очень малы, редко более двухсот экземпляров, и продажные цены этих книг очень высоки. Но, к примеру, изящный том Микеланджело, напечатанный на пергаменте и стоящий 120 франков, по отношению к затраченному на него труду все-таки не дорог. Представьте себе, что над изготовлением 100 или 200 экземпляров такого оттиска несколько месяцев работают много людей.
Но в чем же особенность монтаньольского ручного пресса и откуда взялось его название? Название происходит от имени величайшего печатника всех времен Джамбаттисты Бодони, который в конце XVIII века работал в Парме и который, будучи замечательнейшим мастером из всех резчиков литер, в своей живой и умной голове спроектировал и вдохновенной рукой вырезал необозримое количество не только латинских шрифтов, не только антикву всех размеров и характеров, но создал разновидности и немецких, и греческих, и русских, и арабских, и других шрифтов — все не перечислишь. Глядя на шрифты Бодони, удивляешься изощренности столь особенно специализированной фантазии; формами букв этот человек пел, играл на флейте, танцевал и строил! Великим он был не только как шрифтовик, но и как печатник. Он сформировал понятие о красивой книге для нового времени — книге, которая своей красотой обязана не украшениям, не иллюстрациям, не материалу переплета, а лишь благородству и очарованию совершенного рукотворного предмета.
Именем этого великолепного мастера и назван новый пресс. Но не только, чтобы почтить старика Бодони или стяжать вящий ореол, но из мыслимо наилучших и отраднейших оснований. Дело в том, что типография Бодони получила от итальянского правительства монопольное право использовать оригинальные шрифты Бодони. Матрицы, то есть литейные формы различных алфавитов Бодони, сохранились в Пармском музее, и теперь, более ста лет спустя, по этим формам были вновь отлиты шрифты, ряд чудесных алфавитов, которыми пресс Бодони печатает свои удивительные книги. Если сравнить оттиски этого нового пресса с Пармскими оттисками самого Бодони, то творчество старика Бодони впечатляет куда больше; его книги, к примеру величественный греческий Гомер ин-фолио, излучают силу и уверенность в себе, что сродни упругой, сияющей ясности музыки Генделя. Пресс в Монтаньоле наследник традиции, и своей ценностью он обязан отчасти именно шрифтам Бодони. Но этот наследник не почиет на лаврах прошлого. Несмотря на старые шрифты, книги типографии современны, отвечают теперешним вкусам, и то, в чем наша эпоха превосходит эпоху Бодони — техника, — доведено здесь до утонченности, какой не ведал старый мастер. Кое-какие из напечатанных книг современный Бодони, прежде чем выпустить их в свет, подверг бы некоторому улучшению. Так что творческий дух гениального печатника обрел не наследника-иждивенца, а достойного, творческого продолжателя.
И в заключение еще одно: известно, что в книгах важно прежде всего духовное содержание и лишь во вторую очередь — их облачение. Как ни милы мне библиофильские изыски, я, видимо, никогда не смогу полностью ими увлечься. Но в случае типографии Бодони речь идет об определенной специализации, об особой узко ограниченной области, а не об изыске, — о том, что во всем, в любом искусстве и ремесле вызывает у нас любовь и восхищение: об увлечении идеалом, о добросовестном и успешном стремлении к совершенству.
(1923)
НЕМЕЦКИЙ НАРОД И НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Уже не один год меня волнует не столько современная литература, сколько отношение издателей и печатников к старой, испытанной литературе немецкого народа. Ничто меня так не радует, как тщательно сработанное новое издание какого-нибудь забытого старого писателя или чье-нибудь полное собрание сочинений, выпуска которого потомкам пришлось ожидать десятилетиями. Если следить за этим постоянно, очень быстро обнаруживается то, что замечено уже давно: зарубежные культуры и сенсационная дребедень интересуют немцев больше, чем собственное, испытанное отцовское наследие. Лишь совсем недавно появились приличные издания Гёльдерлина, Новалиса, Хейнзе, и по-прежнему нет полного собрания сочинений Жан Поля (зато есть полный Макиавелли и Монтень), и ни одного издания произведений Фридриха Шлегеля и т. д. Оплачиваемые государством литературоведы периодически заново издают лишь тех старых авторов, которые и без того уже вновь открыты и почитаемы публикой, и не заметно, чтобы литературоведы руководствовались при этом какими-то принципами и тем более сознательно распоряжались духовным достоянием своего народа. Как ценные, новые явления в этой области мне хотелось бы отметить большое полное собрание сочинений Хейнзе, вышедшее в «Инзельферлаг», издание Лютера у Георга Мюллера в Мюнхене и подготовленное Харихом издание Э. Т. А. Гофмана у Лихтенштейна в Веймаре.
У С. Фишера в Берлине я издаю небольшую книжную серию «Замечательные истории и люди». Один из томиков этой серии — документы биографии поэта и писателя Новалиса — подарил я недавно своему близкому другу. Он с волнением прочел эту книжечку и написал мне, что не знал даже о существовании напечатанных в ней стихов, писем и дневников. А мой друг — не фабрикант, не юрист, а учитель — восемь семестров изучал филологию, знает наизусть половину Гомера и очень восприимчив к литературе. По своему государственному филологическому и педагогическому образованию он обязан был знать Гомера и Горация, а не Новалиса, который всего лишь наш земляк, писал не по-латыни и не по-гречески и скончался более ста лет назад.
Эти слова не обвинение, а подчеркивание факта. Великий писатель Жан Поль, крупнейшее, помимо Гёте, писательское дарование новой Германии, недавно был вновь открыт лишь в связи со столетней годовщиной со дня его смерти, а ведь многие десятилетия никто о нем даже не вспоминал. И ни один будущий немецкий учитель или филолог, сдававший экзамены по древнейшей античной литературе, Жан Поля был знать не обязан. Последнее полное собрание сочинений Жан Поля вышло примерно шестьдесят лет назад!
Учесть бы все эти пожелания. Если немецкий народ мог бы читать своих писателей, прежде всего — великих писателей своих лучших времен, а не глотал бы тоннами «Тарзана» и Оссендовского, то как бы прекрасно всем нам жилось!
(1925)
НЕПРИЗНАННЫЕ ПИСАТЕЛИ
(Ответ на анкету[52])
Не обессудьте, если на Ваш вопрос о непризнанных писателях я отвечу не прямо. Я целый час напрягал свою память, но она у меня плохая, и нужные имена в голову не приходили. Когда же я затем, обратившись к истории, перебрал писателей прошлого, писателей, не признанных и в свою эпоху, и поныне, — Жан Поля, Брентано, Арнима и прочих, — меня осенило: есть только непризнанные, других не бывало и нет. Писатель, феномен и без того проблематичный, в людской толчее на непризнанность, видимо, обречен, и в этом, наверно, и состоит смысл его миссии. Но миссия эта, естественно, не всегда представлена банальной фигурой одиночки, голодающего в нетопленом чердаке, или не менее излюбленной фигурой писателя, сходящего с ума. Есть писатели, чья непризнанность заключается в том, что их не читают, — и к ним относятся ныне все крупные немецкие авторы. А жребий других — издаваться десятками и сотнями тиражей и оставаться при этом столь же непризнанными. Ибо подлинного знания, действительного признания писателя обычными людьми не бывает, оно всего лишь вымысел историков литературы. Писатель, знает он о том или нет, всегда метафизик и, знает он о том или нет, — никогда не занят «действительностью»; миссия, дело писателя — познание человека в его случайности и переменчивости; подмена реальности и переменчивости человеческой жизни собственными грезами о человеческом бытии, собственной догадкой о назначении человека. Так поступали и Данте, и Гёте, и Гёльдерлин, так поступает всякий писатель, хочет ли он того или нет, знает ли он о том или нет. Поэтому у писателя, осознающего суть писательства и тем утрачивающего невинность, есть лишь два вызволения из шаткой своей ситуации: или трагический конец, отторжение от мира людей, или спасение в юморе. По этим обоим путям прошли все великие писатели, третьего не дано.
Глубоко трагическая несуразица человеческой жизни и в том, что человечество, нуждаясь в писателях и даже любя их, ценя — хотя чаще переоценивая, — не в состоянии их понять, последовать их призыву, серьезно отнестись к их занятию. Если бы у человечества писателей не было, игра жизни утратила бы заманчивость и прелесть. Но если бы человечество писателей понимало, воспринимало их всерьез и следовало им, оно бы потерпело крушение, лишившись балласта. Нужно немало ограничений, заземленности, поверхностного идеализма, морали и скудоумия, чтобы сохранить человеческий статус и обеспечить его продолжение. Потому-то писатели, даже самые знаменитые и любимые, вновь и вновь оказывались непризнанными, вновь и вновь какой-нибудь Штифтер лишал себя жизни и сходил с ума какой-нибудь Гёльдерлин.
Есть много писателей, которые вообще не писатели. Есть много писателей, в которых есть всего капля, лишь десятая доля капли писательской сути. Но все они, дарит ли мир им честь стать известными или честь скончаться от голода, — непризнанные, и быть по сему.
(1926)
КРЕДО ПИСАТЕЛЯ
В наше время писатель как чистейший тип одухотворенного человека, зажатого в безвоздушном пространстве между миром машин и миром интеллектуальной суеты, осужден на смерть от удушья. Ибо писатель представитель и адвокат именно тех сил и потребностей человека, которым наше время фанатично объявило войну.
Но было бы глупо обвинять в этом время. Наше время не лучше и не хуже, чем все прочие времена. Оно — рай для тех, кто разделяет его идеалы и цели, и ад — для тех, кто поступает ему наперекор. Следовательно, для нас, писателей, оно — ад. Если писатель стремится остаться верен своему происхождению и призванию, он не должен примыкать ни к миру, опьяневшему от успехов в покорении жизни промышленностью и организацией, ни к миру рационалистической духовности, господствующей ныне в наших университетах. Единственная задача писателя — быть служителем, адвокатом и рыцарем души, даже если он чувствует, что в настоящее миромгновение он приговорен к одиночеству и страданию, которые, впрочем, даруются не каждому. В наше время в Европе очень мало писателей, и в каждом есть отпечаток трагизма и донкихотства. И кишмя кишат «писатели», любимцы читающих обывателей; талантливо и со вкусом без устали прославляют они идеалы и цели, исповедуемые обывателем в данный момент: сегодня — войну, завтра — пацифизм и т. д.
Некоторые из тех, кто и в самом деле достойны звания «писатель», гибнут безмолвно в безвоздушном пространстве этого ада. Другие же вновь принимают страдание, превращая его в свое кредо, не противятся року и не протестуют, видя, что венец, присуждавшийся некогда писателям, стал ныне терновым венцом. Этим писателям отдаю я любовь, их почитаю и боготворю, к их братству желаю принадлежать. Мы страдаем, но не в знак протеста и неприятия. Мы задыхаемся в непригодной для нас атмосфере машинного мира и варварских нужд, окружающих нас, но не отделяем себя от целого, приемля страдание и смерть от удушья как часть всемирной судьбы, как собственное предназначение, как испытание на прочность. Нет у нас веры ни в один из идеалов нашей эпохи, ни в идеал генералов, ни в идеал политиков, ни в идеал профессоров, ни в идеал фабрикантов. Но мы верим, что человек не умрет, что вновь восстановится облик его, как бы его ныне ни искажали, что очищенным выйдет он из всякого ада. Мы не стремимся ни объяснять наше время, ни улучшать его и ни поучать, но, обнажая свои страдания и грезы, вновь и вновь хотим раскрывать перед ним мир образов и мир души. И хотя эти грезы отчасти злые кошмары, а эти образы отчасти страшные дива, нам не следует ничего приукрашивать, не следует отворачиваться от правды. Ведь этим занимаются бульварные «писатели» на потребу филистерам. Мы не скрываем, что душа человечества в опасности и на краю пропасти. Но мы не должны скрывать и того, что верим в ее бессмертие.
(1927)
БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Настоящее образование — не образование в каких-нибудь целях, оно, как и всякое стремление к совершенству, заключает смысл в себе самом. Как старание стать физически сильным, ловким и красивым, не имеющее конечной цели в виде богатства, славы, могущества, вознаграждает нас тем, что развивает жизнелюбие, уверенность в собственных возможностях, делает нас радостнее и счастливее, придает нам чувство большей защищенности и здоровья, так и стремление к «образованию», то есть к духовному и душевному усовершенствованию, — не мучительный путь к каким-то ограниченным идеалам, а отрадное и укрепляющее расширение нашего сознания, обогащение наших жизненных возможностей и шансов. Поэтому подлинное образование, как и подлинная физическая культура, — одновременно и исполнение желаний и стимул, оно везде у цели и все же нигде не успокаивается на достигнутом, оно путешествие в бесконечность, гармония со вселенной, сопереживание вневременности. Его цель — не развитие отдельных способностей и результатов, а помощь в придании смысла нашей жизни, в истолковании прошлого, в бесстрашной готовности встретить будущее.
Из путей, ведущих к такому образованию, важнейшим является изучение всемирной литературы, постепенное усвоение огромного сокровища мыслей, опыта, символов, грез и идеалов, которые сохранило для нас прошлое в произведениях писателей и мыслителей многих народов. Этот путь бесконечен, никто никогда не сможет пройти его до конца, никто никогда не сможет изучить и познать всю литературу даже одного-единственного большого культурного народа, не говоря уже о литературе всего человечества. Но зато всякое умное проникновение в творчество какого-нибудь первоклассного мыслителя или писателя — это самоосуществление, счастливое чувство от соприкосновения не с мертвыми сведениями, а с живым сознанием и разумом. Нам должно быть важно не как можно больше прочесть и узнать, а в свободном, личном выборе шедевров, в полной самоотдаче им в часы досуга получить представление о широте и глубине помысленного и достигнутого человеком и прийти в состояние живого резонанса со всей целокупностью жизни, с биением сердца человечества, что и составляет в конечном счете смысл всякой жизни, если отвлечься от удовлетворения животных потребностей. Чтение должно нас не «развеивать», а мобилизовывать; не морочить бессмыслицей о жизни и одурманивать лжеутешением, а, напротив, помогать вносить в нашу жизнь все более высокий, более полный смысл.
Но выбор произведений для знакомства со всемирной литературой у каждого человека будет свой; зависит он не только от того, сколько времени и средств может пожертвовать читатель этой благородной потребности, но и от многочисленных прочих обстоятельств. Для одного мудрейшим философом будет, к примеру, Платон, а любимейшим поэтом Гомер, и для этого человека они станут средоточием всей литературы, вокруг которого он будет группировать и судить все прочее; у другого же это место займут другие имена. Один приобретет способность наслаждаться благородными поэтическими образами, сопереживать остроумную игру фантазии и ритмичную музыку языка, а другой потянется к вещам скорее рациональным; у одного всегда на первом месте останутся произведения, написанные на родном языке, и он не сможет читать ничего иного, а другой ни на кого не променяет, скажем, французов, греков, русских. Но нужно учесть, что и самый образованный человек знает всего лишь несколько языков, и что на немецкий переведены далеко не все значительные произведения других времен и народов, и что многие сочинения вообще непереводимы. Настоящая поэзия, например, исполнена не только прекрасного содержания, облеченного в стройные стихи, но и музыки творческого языка — символа гармонии мира и жизненных процессов; такая поэзия всегда неотрывна от уникального языка поэта, не только от его родного, но и его личного, лишь у него возможного поэтического языка, и, следовательно, непереводима. Некоторые из благороднейших и ценнейших поэтических сочинений — стихи провансальских трубадуров, например, — доступны и преисполнены смысла лишь для очень немногих людей, ибо язык их, сгинувший вместе с культурной общностью, в которой они родились, может вновь быть озвучен лишь многотрудным ученым путем. Но нам, немцам, повезло: у нас есть чрезвычайно много хороших, истинно драгоценных переводов с живых и мертвых языков.
Чтобы отнестись ко всемирной литературе как к чему-то живому, важно, чтобы читатель познавал произведения, оказывающие на него особенное воздействие, познавая себя самого, а не по какой-то схеме или образовательной программе! Он должен идти путем любви, а не долга. Неправильно принуждать себя к чтению какого-нибудь шедевра только потому, что он знаменит и стыдно его не знать. Напротив, чтение, знакомство и любовь должны быть для каждого естественны. Один еще младшим школьником откроет в себе любовь к красивым стихам, другой — любовь к истории или сказаниям своей родины, третий, возможно, — удовольствие от народных песен, а четвертый ощутит очарование и счастье от чтения лишь тогда, когда придирчиво исследует чувства писателя и убедится, что изображены они высокоорганизованным разумом. Путей тысячи. Начинать можно со школьной книги для чтения, с календаря и заканчивать Шекспиром, Гёте или Данте. Произведение, которое нам расхвалили и которое при попытке его прочесть нам не понравилось, оказало сопротивление, словно не пожелав, чтобы мы в него проникли, следует не укрощать терпением и волей, а на время отложить. Поэтому детей и очень молодых людей никогда нельзя принуждать к определенному чтению; так на всю жизнь можно испортить им прекраснейшие произведения и настоящее чтение вообще. Пусть каждый исходит из тех литературных произведений, песен, очерков, эссе, которые ему понравились, и, опираясь на них, продолжает поиски подобного.
Но достаточно введения! Почтенная галерея всемирной литературы открыта для каждого, и никто не должен пугаться ее изобилия, ибо важно здесь не количество. Есть читатели, которые всю жизнь обходятся десятком книг, и тем не менее они настоящие читатели. Есть и другие, читавшие все и могущие говорить о чем угодно, но чьи труды оказались все же напрасными. Ведь образование предполагает наличие того, что образовывать, а именно: характер, личность. Там, где их нет, где образование протекает без субстанции, как бы в пустоте, в лучшем случае возникнет только знание, но не любовь и не жизнь. Чтение без любви, знание без благоговения, образование без сердца тягчайшие грехи перед духом.
Приступим к нашей задаче! Без претензий на ученый идеал, без пристрастия к полноте, а следуя, в сущности, просто собственному сугубо личному жизненному и читательскому опыту, я попытаюсь здесь описать небольшую воображаемую библиотеку всемирной литературы. Но прежде поделюсь несколькими практическими советами касательно обращения с книгами.
У кого уже позади начальный этап и кто в бессмертном мире книг почувствовал себя уже немного дома, вступит вскоре в новые отношения не только с содержанием книг, но и с книгами как таковыми. То, что книги надо не только читать, но и покупать, — истина, звучащая часто. Как старый библиофил и владелец немалой библиотеки по собственному опыту могу заверить, что прикупание книг не только кормит книготорговцев и авторов; обладание книгами (а не только их чтение) доставляет свои совершенно особенные радости и образует свой совершенно особенный мир. При очень стесненных материальных обстоятельствах радостью и восхитительным спортом всем трудностям вопреки может быть, к примеру, постепенное, умное, упорное и изворотистое составление собственной отборной библиотечки с опорой на самые дешевые народные издания и постоянное штудирование многочисленных каталогов. А уже образованным и при том состоятельным людям совершенно изысканную радость могут доставить розыски лучших, красивейших изданий любимых книг, собирание редких старых книг и облачение уже имеющихся в уникальные, красивые, с любовью придуманные переплеты. Здесь много путей, много радостей — от расчетливой траты сэкономленных грошей до безудержной роскоши.
Кто приступает к собиранию собственной библиотеки, прежде всего должен позаботиться о том, чтобы приобретать только хорошие издания. Под «хорошими изданиями» я понимаю не только дорогостоящие книги, но и такие тексты, которые подготовлены и напечатаны с тщательностью и благоговением, приличествующими благородным детищам духа. Встречаются дорогие, переплетенные в кожу, тисненные золотом и украшенные иллюстрациями издания, которые тем не менее сделаны безвкусно и убого, и есть бросовые народные издания, над которыми поработали добросовестно и образцово. Почти повсеместно укоренившееся безобразие то, что издатели без зазрения совести публикуют авторов под заголовками «Полное собрание сочинений», когда эти книги лишь скромное избранное. И как по-разному выпускают разные издатели избранное одного и того же автора! Воистину небезразлично, составляет ли с глубоким уважением и любовью мудрое избранное писателя человек, неоднократно читавший этого автора на протяжении многих лет, или случайно получивший такой заказ первый встречный литератор, который делает подборку с безразличием и наспех. К тому же очень важно, чтобы тексты всякого приличного нового издания были тщательнейшим образом выверены. Всегда имелось и имеется множество изданий любимых всеми литературных произведений, перепечатанных одно с другого и не сличенных для проверки с первоизданием, в результате чего тексты кишат ошибками, искажениями и прочими огрехами. Я мог бы привести поразительные примеры. Но, к сожалению, невозможно вручить читателю рецепты на сей предмет и привести определенных издателей и их издания как безусловный образец хорошего или дурного. Почти у всякого немецкого издателя классиков есть несколько хороших и несколько менее удачных изданий: у одного обнаруживаем, например, полного Гейне с наилучшим образом сверенными текстами, а другие писатели тем же издателем подготовлены неудовлетворительно. Но и это обстоятельство не бывает постоянным. Одно именитое издательство, которое в своей серии классиков десятилетиями печатало Новалиса с сильно заметной небрежностью, недавно выпустило новое его издание, отвечающее всем строжайшим требованиям. Но, выбирая для себя издание, нельзя соблазняться скорее бумагой и переплетом, чем добротностью текста, нельзя руководствоваться внешним единством и стараться приобретать всех «классиков» в униформированных изданиях; произведения писателей, которых хочешь иметь, надо неутомимо искать в лучших изданиях. Однако есть читатели, которые достаточно самостоятельны, чтобы самим решать, каких писателей приобретать по возможности в полных изданиях и каких им довольно в избранных. Полных и удовлетворительных изданий некоторых авторов в настоящее время нет вообще, или их полные собрания сочинений издаются уже годы и десятилетия безо всякой перспективы когда-либо быть завершенными. В этом случае надо ограничиться каким-нибудь современным неполным изданием или обзавестись у букинистов старыми изданиями. Некоторых немецких писателей есть и по три и по четыре отличных издания, некоторые публиковались только раз, а некоторые, к сожалению, ни разу. По-прежнему нет полного Жан Поля, не хватает удовлетворительного Брентано. Столь важные юношеские сочинения Фридриха Шлегеля, которые сам Шлегель позднее не включал более в издания своих произведений и которые были образцово опубликованы несколько десятилетий назад, вот уже много лет как раскуплены, а восполнения все нет. Некоторые писатели (например, Хейнзе, Гёльдерлин, Дросте) после забвения, длившегося десятилетиями, в наше время чудесно изданы вновь. Среди дешевых народных изданий, в которых можно найти произведения всех времен и народов, неоспоримое первое место по-прежнему удерживают издания «Универсальной библиотеки» Реклама. Некоторых писателей, которых я люблю и не могу не иметь даже мельчайших и незначительнейших их произведений, держу я в двух, а то и в трех различных изданиях, ведь в каждом содержится что-то, чего нет во всех других.
Если таково положение с нашим собственным достоянием, с произведениями наших лучших писателей, то тем щекотливее вопрос о переводах с других языков. Ведь число действительно классических переводов невелико; к ним относятся, например, немецкая Библия Мартина Лютера, немецкий Шекспир Шлегеля — Тика. В этих блестящих переводах язык наш вобрал в себя иностранные произведения на долгое время, но — не навсегда! «Долгое время» когда-то кончается, и Лютерову Библию большинство наших соотечественников давно бы уже не понимало, если бы язык ее постоянно не перерабатывался и не приспосабливался к каждой очередной эпохе. А теперь мы на пороге выхода в свет совершенно новой немецкой Библии, перевод которой осуществляется под руководством Мартина Бубера, и в которой мы вряд ли узнаем хорошо знакомую книгу нашего детства — настолько она изменилась. Библейский язык Лютера плотно прилегает к той временной черте — около 1500 года, — от которой началось формирование современного немецкого языка. А с тех пор прошло очень много времени. Единственным в своем роде исключением является в Европе Данте, чью поэму многие итальянцы и поныне знают наизусть большими частями. Ни один другой писатель Европы не достиг такого возраста без особенных изменений и тем более переводов. Но вопрос, в каких немецких переводах следует читать Данте, для нас неразрешим, ибо всякий перевод — всего лишь более или менее удачное приближение, и когда нас захватывают отдельные места перевода, мы жадно хватаемся за оригинал и пытаемся проникнуть в достойные благоговения староитальянские стихи.
Приступая к задаче составления небольшой библиотеки всемирной литературы, нам сразу же следует усвоить принцип всякой истории духа: самые древнейшие произведения — наименее всего устаревшие. То, что модно и привлекает всеобщее внимание сегодня, завтра может оказаться отвергнуто; что сегодня ново и интересно, перестает быть таковым послезавтра. Но оценка того, что уже пережило несколько столетий и все еще не забыто, не сгинуло, видимо, и на нашем веку не претерпит особенных колебаний. Мы начинаем с древнейших и священнейших свидетельств человеческого духа — с религиозных книг и мифов. Наряду с известной всем нам Библией, я открываю нашу библиотеку фрагментом древнеиндийской мудрости, «Ведантой», то есть «концом вед», в форме избранного из упанишад. Сюда же поставим и подборку из «Речей Будды» и не менее важный «Гильгамеш», родившийся в Вавилоне эпос, — могучую песнь о великом герое, вступившем в единоборство со смертью. Из Древнего Китая берем мы беседы Конфуция, «Даодэцзин» Лао-цзы и великолепные притчи Чжуан-цзы. Этим мы взяли основной аккорд всей человеческой литературы, выражающий стремление к норме и закону, которое великолепно воплощено в Ветхом Завете и у Конфуция; пророческий поиск освобождения от зол земного бытия, провозглашаемый индусами и Новым Заветом; владение тайнами вечной гармонии по ту сторону суетного, многоликого мира явлений; почитание природных и душевных сил в образе богов с почти одновременным знанием или предчувствием того, что все боги суть только символы, что сила и слабость, торжество и скорбь зависят в жизни только от человека. Уже в этих немногих книгах нашли свое выражение все виды абстрактного мышления, вся музыка поэзии, вся скорбь о бренности нашего существования и весь юмор по поводу этого. Сюда же следует присовокупить и подборку из классической китайской поэзии.
Из позднейших восточных произведений наша библиотека нуждается в крупном сказочном собрании, в «Тысяче и одной ночи», источнике бесконечного наслаждения, самой, богатой образами книге мира. И хотя все народы земли сочиняли чудесные сказки, этой классической волшебной книги, дополненной единственно нашими собственными немецкими народными сказками в обработке братьев Гримм, нашему собранию будет для начала достаточно. Очень желательна была бы для нас какая-нибудь очень хорошая подборка из персидской лирики, но в немецком переводе такой книги пока, к сожалению, нет, часто перелагались только Хафиз и Омар Хайям.
Переходим к европейской литературе. Из богатого и великолепного мира античной литературы мы выберем прежде всего обе великие поэмы Гомера, которые передадут нам всю атмосферу и дух Древней Греции; но не забудем и трех великих трагиков: Эсхила, Софокла и Еврипида, к коим присовокупим также «Антологию», классическое избранное лирических поэтов. Обратившись к миру греческой мудрости, мы вновь натолкнемся на болезненный пробел: наиболее влиятельного и, возможно, важнейшего философа Греции, Сократа, мы должны выискивать по кусочкам из сочинений нескольких других философов, особенно Платона и Ксенофонта. Благодеянием была бы книга, которая собрала бы в обозримое целое ценнейшие свидетельства о жизни и учении Сократа. Филологи не рискуют браться за эту работу, которая и в самом деле была бы щекотливой. Собственно философов в нашу библиотеку я не беру. Нам крайне необходим также Аристофан, чьи комедии достойно открывают большую вереницу европейских юмористов. Мы должны взять и, как минимум, одну или две книги Плутарха, мастера героического жизнеописания; нельзя, чтобы совсем отсутствовал и Лукиан, мастер насмешливого вымысла. Теперь нам не хватает еще одной очень важной книги — повествования об историях греческих богов и героев. Популярных пересказов мифологии мало. За недостатком другого прибегнем к «Сказаниям классической древности» Густава Шваба, в очень приятной форме излагающим довольно много прекраснейших мифов. Впрочем, в настоящее время у Шваба появились серьезные последователи: Альбрехт Шеффер начал писать книгу греческих сказаний, чьи первые многообещающие части уже вышли.
Из римлян я всегда предпочитал историографов писателям, но мы все-таки возьмем Вергилия, Горация и Овидия, поставив рядом с ними также Тацита, к которому я бы присоединил еще Светония, «Сатирикон» Петрония, остроумный роман нравов из времен Нерона, и «Золотого осла» Апулея. В последних двух произведениях мы видим внутренний распад античности в цезарианскую эпоху Рима. Тревожный контраст с этими светскими и несколько игривыми книгами времен заката Рима образует великое произведение, написанное в ту же эпоху и тоже по-латыни, но повествующее о другом мире, мире раннего христианства, «Исповедь» Блаженного Августина. Несколько прохладная температура римской античности уступает здесь другой, более горячей, — атмосфере начинающегося средневековья.
Духовным миром средневековья, которое у нас до недавнего времени повсеместно называли «темным», наши отцы и деды сильно пренебрегали, отчего у нас так мало современных изданий и переводов латинской литературы тех столетий: славное исключение составляет отличная книга Пауля фон Винтерфельда «Немецкие писатели латинского средневековья», перед которой двери нашей библиотеки всегда распахнуты. Как воплощение и венец великолепного средневекового духа продолжает жить в литературе «Божественная комедия» Данте. Кроме Италии и научных кругов, она мало где читается всерьез; эта одна из немногих книг человечества, рождающихся раз в тысячелетие, по-прежнему производит глубокое впечатление.
Как ближайшее по времени произведение итальянской литературы возьмем «Декамерон» Боккаччо. Это знаменитое собрание новелл, из-за своих дерзостей пользующееся у чопорных людей дурной славой, — первый великий шедевр европейского повествовательного искусства; оно написано удивительно живым староитальянским языком и много раз переводилось на все культурные языки. Но надо остерегаться бесчисленных плохих изданий. Среди современных немецких я рекомендую те, что выпущены в «Инзельферлаг». Боккаччо не превзойден никем из его многочисленных последователей, на протяжении трех столетий сочинивших немало знаменитых сборников новелл, но подборку из них (есть одна, опубликованная Паулем Эрнстом в «Инзельферлаг», и недавно вышедшее в издательстве Ламберта Шнайдера тяжелое трехтомное избранное) мы иметь должны. Из итальянских поэтов-рассказчиков Возрождения нельзя пропустить Ариосто, автора «Неистового Роланда», волшебного романтического лабиринта, преисполненного восхитительных картин и отменных находок, образца для многочисленных последователей, последним и, вероятно, лучшим из которых был Виланд. Поблизости мы расположим сонеты Петрарки и не забудем также стихов Микеланджело, этой небольшой серьезной книги, одиноко и горделиво возвышающейся посреди своей эпохи. Как свидетельство тональности и жизнеощущения итальянского Ренессанса возьмем в нашу библиотеку и автобиографию Бенвенуто Челлини. Последующую итальянскую литературу мы не будем столь подробно представлять в нашей библиотеке, разве что включим две-три комедии Гольдони и романтические сказочные пьесы Гоцци, а в девятнадцатом веке — замечательных поэтов-лириков Леопарди и Кардуччи. К прекраснейшим произведениям средневековья относятся французские, английские и немецкие христианские героические сказания, прежде всего о рыцарях Круглого Стола короля Артура. Часть этих распространившихся по всей Европе сюжетов сохранилась в немецких народных книгах, которые заслуживают в нашем собрании почетного места. Лучшее современное издание их подготовлено Рихардом Бенцем. Они должны стоять рядом с «Песнью о Нибелунгах» и «Кудруной», хотя это и не оригинальные сочинения, а обработки широко распространенных материалов, переведенных с различных языков. О стихах провансальских трубадуров уже говорилось. Теперь очередь Вальтера фон дер Фогельвайде, Готфрида Страсбургского, Вольфрама фон Эшенбаха; их произведения (то есть стихи Вальтера, «Тристан» Готфрида и «Парсифаль» Вольфрама) мы благодарно примем в нашу библиотеку, равно как и хорошее избранное рыцарских песен миннезингеров. Тем самым мы подошли к концу средневековья. С увяданием христианской латинской литературы и истощением крупных источников сказаний возникло тогда в жизни и литературе Европы нечто новое; постепенно отпочковались от латыни ряд национальных языков, и сложилась уже более немонастырская и безымянная, а светская городская и индивидуально-авторская литература (в Италии этот процесс начался с Боккаччо).
Во Франции расцвел тогда одинокий самородок, потрясающий поэт Вийон, чьи не укладывающиеся ни в какие рамки тревожные стихи несравненны. Углубившись во французскую литературу, мы обнаружим многое, что нам необходимо: нужно иметь по меньшей мере одну книгу эссе Монтеня, «Гаргантюа и Пантагрюэля» Фр. Рабле — врага филистеров и мастера веселого юмора; затем «Мысли» и, наверно, еще «Письма к провинциалу» Паскаля — одинокого набожного мыслителя-аскета. Следует иметь «Сида» и «Горация» Корнеля, «Федру», «Гофолию» и «Беренику» Расина — они дадут нам представление об отцах и классиках французского театра; но здесь должна присутствовать и третья звезда — комедиограф Мольер, мастер насмешки, создатель «Тартюфа»; избранные его пьесы нам часто захочется взять в руки. Не должны отсутствовать басни Лафонтена и «Телемах» утонченного Фенелона. Без драм Вольтера, я думаю, мы можем обойтись, как, впрочем, и без его поэм, но одну или две книги его блистательной прозы иметь надо, прежде всего «Кандида» и «Задига», чьи насмешливость и добронамеренность долго служили миру образцом того, что называют французским духом. Но Франция многолика, равно как и революционная Франция, и, кроме Вольтера, нам нужны также «Фигаро» Бомарше и «Исповедь» Руссо. Но Боже! Я забыл «Жиля Блаза» Лесажа, чудесный плутовской роман, и «Историю Манон Леско», трогательную любовную историю аббата Прево. За ними идет их наследник — французский романтизм, и здесь можно бы назвать много выдающихся романистов, сотни книжных заглавий! Но давайте придерживаться действительно уникального и незаменимого! Это прежде всего романы «Красное и черное» и «Пармская обитель» Стендаля (Анри Бейля), в которых из борьбы жаркой души с превосходящим ее недоверчиво бдительным разумом возник совершенно новый тип литературы. Не менее уникален и сборник стихов Бодлера «Цветы зла». Рядом с этими авторами милые сердцу образы Мюссе и очаровательные романтические рассказчики Готье и Мюрже выглядят совсем мелко. Следует Бальзак, из романов которого нам нужно иметь по крайней мере «Отца Горио», «Гранде», «Шагреневую кожу», «Тридцатилетнюю женщину». Рядом с этими страстными, переполненными материалом, пышущими жизнью книгами мы поставим мастерские, благородные новеллы Мериме и главные произведения тончайшего французского прозаика Флобера «Госпожа Бовари» и «L'education sentimentale»[53]. Отсюда ведут несколько ступеней вниз — к Золя, но нужен и он с его «Assomoir»[54], например, или «Проступком аббата Мюре», а также Мопассан, представленный его несколько болезненными, красивыми новеллами. И вот мы у границ новейшего времени, которые не будем преступать, чтобы не столкнуться с еще многими благородными произведениями. Но не забудем стихов Поля Верлена, наиболее, пожалуй, одухотворенных и нежнейших во всей французской поэзии.
В английской литературе начнем с «Кентерберийских рассказов» Чосера (конец XIV века), сюжеты которых заимствованы частично у Боккаччо, но которые более новы по тональности. Рядом с его книгой мы ставим произведения Шекспира, но не избранные, а все до одного. С большим уважением говорили наши учителя о «Потерянном рае» Мильтона, но читал ли его хоть кто-нибудь из нас? Нет. Так что от него мы откажемся, хотя, возможно, это и несправедливо. Письма Честерфилда к своему сыну не добродетельная книга, но мы ее все же возьмем. Свифта, автора «Гулливера», гениального ирландца, мы возьмем все, что только сумеем заполучить; его большое сердце, его горький и жесткий юмор, его одинокая гениальность перевешивают все его капризы и чудачества. Из многочисленных произведений Даниэля Дефо нам важны «Робинзон Крузо» и «Молль Флендерс», — с них начинается внушительная галерея классических английских романов. По возможности надо приобрести «Тома Джонса» Филдинга и «Перегрина Пикля» Смоллетта, но совершенно обязательно — «Тристрама Шенди» и «Сентиментальное путешествие» Стерна, две книги, подлинно английские по характеру, мгновенно переходящие от сентиментальности к причудливейшему юмору. Что касается Оссиана, романтического барда, то нам достаточно того, что мы найдем в «Вертере» Гёте. Не должны быть забыты стихи Шелли и Китса, они принадлежат к самым прекрасным лирическим произведениям, какие только есть на свете. Байрона же, напротив, как ни восхищаюсь я этим романтическим сверхчеловеком, нам будет достаточно одной из его больших поэм, лучше всего — «Чайльд Гарольда». И исторические романы Вальтера Скотта возьмем мы только из пиетета, например — «Айвенго». Возьмем «Исповедь англичанина-опиомана» злополучного Куинси, хотя это очень патологическая книга. Не следует упустить из виду собрание эссе Маколея и Карлейля, горького скептика; кроме «Героев» последнего, мы возьмем, вероятно, и «Sartor Resartus» из-за его очень английского остроумия. Затем включим крупные звезды романа: Теккерея с его «Ярмаркой тщеславия» и «Книгой снобов» и Диккенса, который, несмотря на встречающуюся порой сентиментальность, все же самый величественный английский прозаик, с добрым сердцем и замечательными причудами; Диккенса мы должны иметь по меньшей мере «Пиквикистов» и «Копперфилда». Из его последователей особенно важным кажется нам Мередит с его «Эгоистом»; при случае приобретем также и «Ричарда Февереля». Нельзя пропустить красивые стихи Суинберна (хотя они в высшей степени непереводимы!), а также одну или две книги Оскара Уайльда, прежде всего «Дориана Грея» и несколько эссе. Американская литература пусть будет представлена томом новелл По, писателя страха и ужаса, и смелыми патетическими стихотворениями Уолта Уитмена.
Из испанских произведений обзаведемся-ка прежде всего «Дон Кихотом» Сервантеса, одной из самых грандиозных и вместе с тем восхитительных книг всех времен, историей о, двух бессмертных героях — странствующем рыцаре, сражающемся с воображаемыми злодеями, и его толстом оруженосце Санчо. Но не откажемся и от новелл того же писателя, они — подлинные сокровища повествовательного искусства. Нам нужно иметь и один из знаменитых испанских плутовских романов, одного из предшественников бравого Жиля Блаза. И как ни труден выбор, я отдаю предпочтение «Истории жизни пройдохи по имени дон Паблое» Кеведо-и-Вильегаса, сочному рассказу, полному необыкновенных приключений и блеска остроумия. Из горделивой и благородной галереи испанских драматургов мы считаем необходимым Кальдерона, великого барочного поэта, мага светско-пышной и духовно-религиозной сцены.
Нам нужно осмотреться еще во многих литературах, как, например, в нидерландской и фламандской, из которых мы выберем «Тиля Уленшпигеля» де Костера и «Макса Хавелаара» Мультатули. Роман Костера, младший брат «Дон Кихота», — эпос фламандского народа. «Хавелаар» — главное произведение Мультатули, который несколько десятилетий назад посвятил свою жизнь борьбе за права угнетенных малайцев.
Евреи, народ, рассеянный по всему свету, оставили свои литературные произведения во многих местах и на многих языках мира; некоторые из них не должны быть забыты и здесь. К ним относятся написанные на иврите стихи и гимны испанского еврея Иегуды Халеви и прекраснейшие хасидские легенды[55]. Их найдем мы в классическом переложении Мартина Бубера в его книгах «Ваалшем» и «Великий Маггид».
Из скандинавского мира мы включим в свою библиотеку «Песни Старшей Эдды» в переводе братьев Гримм, а также исландские саги скальда Эгиля, например, или какое-нибудь избранное их в обработке типа «Исландской книги» Бонуса. Из более новых скандинавских литератур мы выберем сказки Андерсена и прозу Якобсена, главные произведения Ибсена и несколько книг Стриндберга, хотя оба последних для будущих времен станут, видимо, не столь интересными. Особенно богата русская литература минувшего столетия. Так как великий классик русского языка Пушкин относится к непереводимым, мы начнем с Гоголя, включив в нашу библиотеку его «Мертвые души» и повести. Возьмем «Отцы и дети» Тургенева, несколько забытый ныне шедевр, и «Обломова» Гончарова. Толстого, чье великое искусство порою несколько затмевается проблематикой его проповедей и реформаторскими устремлениями, нам по меньшей мере следует взять романы «Война и мир» (по-видимому, лучший русский роман) и «Анна Каренина», не забыв, однако, и его народных рассказов. «Братьями Карамазовыми» и «Преступлением и наказанием», а также одухотвореннейшим романом «Идиот» должен обязательно присутствовать и Достоевский.
Вот мы и прошли по литературам многих народов, от Китая до России, от ранней античности до наших дней, обнаружив массу замечательных и достойных вещей, а наше самое большое сокровище, немецкую литературу, мы еще не рассмотрели, упомянув только «Песнь о Нибелунгах» и некоторые произведения позднего средневековья. Теперь же мы с особой приязнью вступим в мир немецкой литературы примерно с 1500 года и выберем из него то, что, нам кажется, больше всего стоит полюбить и усвоить.
Главное произведение Лютера, немецкую Библию, мы уже называли в самом начале. Но приобретем и какое-нибудь избранное его малых сочинений, или его народных брошюр, или подборку из «Застольных речей», или книгу типа вышедшей в 1871 году антологии «Лютер — классик немецкой литературы». Во время Контрреформации в Бреслау появился странный человек, писатель, из произведений которого до нас дошла только тоненькая книжечка стихов, являющаяся, однако, утонченнейшим цветом немецкой религиозной поэзии: «Херувимский странник» Ангелуса Силезиуса. Впрочем же, для лирики догётевской эпохи будет достаточно одного из многочисленных избранных. Из времени Лютера абсолютно достойным нашей библиотеки нам кажется народный поэт из Нюрнберга Ганс Сакс. Рядом с ним поставим «Симплициссимуса» Гриммельсхаузена, шедевр свежей и ярко оригинальной прозы, в которой звучат ярость и скорбь тридцатилетней войны. Более скромен, но, пожалуй, не менее достоин нашей любви и примыкающий к Гриммельсхаузену «Шельмуфский» Кр. Рейтера, блистательного юмориста. В этот же раздел нашей библиотеки включим и «Приключения барона Мюнхгаузена», книгу, сочиненную в XVIII веке. И вот мы на пороге великого столетия новой немецкой литературы. С радостью поставим мы на полку книги Лессинга, не обязательно полное его собрание, но письма непременно. Клопшток? Его лучшие оды есть уже в нашей антологии, этого достаточно. Трудно обстоят дела с Гердером, основательно забытым и все-таки наверняка еще не сыгравшим до конца своей роли; очень стоит время от времени полистывать и почитывать его, хотя ни одно из его крупных произведений еще не издано целиком. Есть неплохие избранные, вышедшие у Реклама и у Крёнера.
Весьма необходимо и полное собрание сочинений Виланда, но пока что обзаведемся его «Обероном» и, по возможности, — «Историей абдеритов». Приятный, остроумный, изобретательный каллиграф формы, вышколенный на античности и французах, приверженец Просвещения, но не в ущерб фантазии, Виланд очень своеобразная и несправедливо забытая фигура.
Включим в наше собрание издание Гёте, самое лучшее и самое полное, какое нам только позволят средства. В нем могут отсутствовать ряд пьес на случай, какие-нибудь статьи и рецензии, но собственно литературные сочинения, а также лирические стихотворения, должны быть представлены безо всяких пропусков. В гётевских книгах обретает голос все то, что является для нас судьбою души, и многое в окончательно сформулированном виде. А каков путь от «Вертера» к «Новелле», от ранних стихов к второй части «Фауста»! Наряду с сочинениями Гёте нам нужно иметь и важнейшие документы его биографии, «Разговоры» Эккермана и кое-что из переписки, прежде всего с Шиллером и госпожой фон Штайн. Немало выдающегося было создано в дружеском кругу молодого Гёте, самое, вероятно, прекрасное — «Юность Генриха Штиллинга» Юнг-Штиллинга. Эту обаятельную книгу мы поставим по-соседству с Гёте, равно как и избранные произведения Маттиаса Клаудиуса, Вандсбекского Вестника.
В случае Шиллера я склонен к уступкам. Хотя большинство его сочинений я уже почти не беру в руки, этот человек в целом, его дух и жизнь для меня нечто великое и впечатляющее. Отдадим предпочтение его прозаическим (историческим и эстетическим) сочинениям, а также ряду его крупных поэм, написанных около 1800 года, и поставим рядом книгу Петерсена «Беседы Шиллера». Из того времени я бы с удовольствием добавил еще многое — книги Музеуса, Хиппеля, Тюммеля, Морица, Зойме, но мы должны оставаться непреклонными и в библиотеку, отказавшуюся от Мюссе и Виктора Гюго, не протаскивать вещи менее масштабные. Из уникальной эпохи около 1800 года, в духовном отношении самой богатой, первостепенной эпохи Германии, мы и без того должны еще взять целый ряд первоклассных авторов, частью тех, кто до недавнего времени были заслонены современными течениями, однобоко поданы историками литературы и либо забыты вообще, либо удивительно недооценены. Так о Жан Поле, одном из величайших немецких талантов, в популярных историях литературы, служащих учебниками для тысяч студентов, и поныне встречаются суждения, которые копируют давно забытые критические высказывания, совершенно искажающие образ нашего писателя. Отомстим тем, что включим в нашу библиотеку самое полное издание Жан Поля, какое только сумеем найти. Того же, кто считает, что это чересчур, я обязываю иметь хотя бы его главные произведения: «Озорные годы», «Зибенкеза» и «Титана». Не должны мы забыть и «Шкатулочку» классического рассказчика анекдотических историй И. П. Хебеля вместе с его алеманскими стихами.
В последнее время появилось несколько хороших и полных изданий Гёльдерлина, одно из которых мы с благоговением примем в наше собрание; часто мы будем взывать к этой благородной тени, часто будем внимать этому чарующему голосу. По одну сторону от него должны соседствовать произведения Новалиса, а по другую — Клеменса Брентано; удовлетворительного издания Брентано, к сожалению, все еще нет. Хотя рассказы его и сказки не забывались, глубокая музыка его стихов внятна была лишь немногим. Общим памятником ему и его сестре Беттине является книга «Весенний венок Клеменса Брентано». И конечно, должна быть взята одна из прекраснейших и оригинальнейших немецких книг — подготовленное им и Арнимом собрание немецких народных песен «Волшебный рог мальчика». Нам нужно иметь и какое-нибудь добротное избранное арнимовских новелл; обязательно присутствие таких великолепных вещей, как «Старшие в роду» и «Изабелла Египетская». Рядом с Арнимом поставим несколько новеллистических произведений Тика (прежде всего, «Белокурого Экберта», «Жизнь льется через край» и «Мятеж в Севеннах»), а также его «Кота в сапогах», эту самую, пожалуй, прихотливую пьесу немецкого романтизма. Нет, к сожалению, ни одного пригодного издания Гёрреса. Не печатался уже много десятилетий и такой шедевр, как «История Мерлина» Фридриха Шлегеля! У Фуке единственное, на что нам стоит обратить внимание, — его прелестная «Ундина».
Произведения Генриха фон Клейста мы должны иметь все — драмы и новеллы, статьи и анекдоты. И он тоже довольно поздно был открыт своим народом. Шамиссо нам достаточно иметь «Петера Шлемиля», книжечку маленькую, но заслуживающую почетного места. Эйхендорфа приобретем по возможности в полном издании: кроме стихотворений и всеми любимого «Бездельника», должны быть там и другие повести, а от драм и теоретических сочинений можно отказаться. Несколько книг надо иметь и Э. Т. А. Гофмана, виртуознейшего прозаика романтизма, и не только его популярные короткие вещи, но и роман «Эликсиры сатаны».
Можно выбирать между сказками Гауфа и стихами Уланда, но важнее стихи Ленау и Дросте, двух единственных в своем роде мастеров языковой музыки. У нас обязательно должны быть один или два тома драм Фридриха Хеббеля, не преминем обзавестись и его «Дневниками», хотя бы неполными, а также приличным и не слишком скупым изданием Гейне (прозой обязательно!). Далее нам нужно хорошее, достаточно богатое издание Мёрике, прежде всего — стихи, затем «Моцарт» и «Гном» и, по возможности, — «Художник Нольтен». К нему можно присоединить Адальберта Штифтера, последнего классика немецкой прозы, с его «Этюдами», «Бабьим летом», «Витико» и «Пестрыми камнями». Из швейцарцев за минувшее столетие в немецкую прозу влились три выдающихся прозаика: бернец Иеремия Готхельф, великолепный мастер эпических картин из крестьянской жизни; цюрихец Готфрид Келлер и К. Ф. Майер. Возьмем оба романа об Ули Готхельфа, «Зеленый Генрих», «Люди из Зельдвилы» и «Изречение» Келлера и «Юрг Енач» Майера. Келлер и Майер писали также замечательные стихи; поищем их, как и многие другие, авторов которых назвать просто не было места, в какой-нибудь хорошей антологии новой поэзии, каких имеется не одна. Кто хочет, пусть приобретет также и «Эккехарда» Шеффеля; несколько слов я бы сказал и в защиту Вильгельма Раабе: хорошо бы иметь его «Абу Тельфана» и «Чумную повозку». Но на этом мы закончим; не для того, конечно, чтобы отгородиться от современного книжного мира, нет, и для него тоже должно найтись место и в нашей голове, и в нашей библиотеке, но к нашей теме он уже не относится. О том, что войдет в фонды, которые переживут многие поколения, наше время судить не может.
Оглядываясь в конце нашего обзора на проделанную работу, я не могу не отметить пробелов и неровностей. Правильно ли включить во всемирную библиотеку «Приключения барона Мюнхгаузена» и выбросить индийскую «Бхагавадгиту»? Имел ли я право, желая быть справедливым, опустить роскошные комедии старых испанцев, сербские народные песни, ирландские сказки о феях и бесконечно многое другое? Перевешивает ли, в самом деле, сборник новелл Келлера Фукидида, а «Художник Нольтен» индийскую «Панчатантру» или китайскую гадательную книгу «Ицзин»? Нет, конечно нет! Так что очень легко заклеймить мою выборку из всемирной литературы как чрезвычайно субъективную и прихотливую. Но будет трудно, более того — невозможно, заменить ее совершенно справедливой, совершенно объективной. Тогда бы следовало в нее включить всех авторов и произведения, к которым мы привыкли с детства, которые есть во всех историях литературы и содержание которых каждая очередная история литературы переписывает с предыдущей; чтобы действительно прочесть их все, жизнь слишком коротка. И честно говоря, хорошее, красивое стихотворение немецкого поэта, чьей мелодией я могу наслаждаться до замирания последнего звука, дает мне порою куда больше, чем достойнейшее произведение санскритской литературы, если оно мне доступно лишь в сухом, несносном переводе. Кроме того, знание и оценка писателей и их книг часто подвержены большим превратностям судьбы. Мы чтим сегодня писателей, которых двадцать лет назад вообще было не найти в истории литературы. (Господи, я совершил тяжелую ошибку: забыл поэта Георга Бюхнера — он скончался в 1837 году — автора «Войцека», «Дантона», «Леонса и Лены»! Конечно, он должен у нас быть!) То, что нам, современникам, кажется важным и актуальным в немецкой литературе классической эпохи, отнюдь не то же самое, что четверть века назад объявил непреходящим какой-нибудь хороший знаток этой литературы. В то время, как немецкий народ читал «Зекингенского трубача»[56], а ученые в своих справочниках рекомендовали нам Теодора Кёрнера как классика, Бюхнер был неизвестен, Брентано полностью забыт, а Жан Поль фигурировал в черном списке разбазаривших себя гениев! В свою очередь и наши сыновья и внуки сочтут нынешние воззрения и оценки такими же безнадежно отсталыми. И от этого не спасет даже ученость. Однако извечное колебание оценок, забвение гениев, вновь открываемых и высоко прославляемых несколько десятилетий спустя, основано отнюдь не на человеческой слабости и человеческом непостоянстве, а подчинено законам, которые хотя и не поддаются точной формулировке, но могут быть почувствованы и предугаданы. Всякое духовное достояние, влиявшее на публику и показавшее свою ценность за рамками определенного времени, остается в сокровищнице человечества и в любое время может быть извлечено, проверено и вызвано к новой жизни в зависимости от новых течений, новых духовных потребностей каждого очередного поколения. Наши деды не только совершенно иначе читали Гёте, не только забыли Брентано и не только переоценивали Тидге, Редвица или других модных поэтов, но также и вовсе не знали «Даодэцзин» Лао-цзы, одну из великих книг человечества, ибо открытие Древнего Китая и его мудрости произошло только сейчас, а не во времена наших дедов. Зато мы несомненно потеряли из виду многие великие и замечательные области духовного мира, которые были хорошо известны нашим предкам и должны быть вновь открыты нашими внуками.
Конечно, при составлении нашей воображаемой библиотечки мы действовали довольно грубо, оставляя без внимания подлинные сокровища, целиком пропуская крупнейшие культурные сферы. Куда мы дели, например, египтян? Разве они с их почти двухтысячелетней культурой, одной из самых высокоразвитых и единых, с их блистательными династиями, с их могущественной религиозной системой и потрясающим культом мертвых — не для нас, разве все это не должно найти место в нашей библиотеке? Нет, все-таки нет. История Египта отражена, на мой взгляд, в том типе книг, который в нашем обзоре я опустил совершенно, а именно — в альбомах. Есть несколько работ об искусстве Египта, в первую очередь замечательно иллюстрированные издания Штайндорффа и Феххаймер; они часто бывали у меня в руках, и из них я знаю то, что, как мне кажется, я знаю о Египте. Но книга, которая познакомила бы нас с литературой Египта, мне неизвестна. Много лет назад я очень внимательно прочитал одно сочинение о египетской религии, в нем были и фрагменты египетских текстов, законов, надгробных надписей, гимнов и молитв, но, несмотря на мой сильнейший интерес ко всему этому, во мне мало что осталось; книга была хорошей и добротной, но не классической. Вот почему нет Египта в нашем собрании. Но как непостижимо подвержен я забывчивости и греху упущения! Мое представление о Египте покоится, как я сейчас осознаю, отнюдь не только на тех альбомах и той книге по истории религии, но в не меньшей мере и на чтении одного из моих очень любимых греческих писателей, а именно — Геродота, который очень увлекался египтянами и почитал их, в сущности, больше, чем собственных ионических соотечественников. А я совсем про него забыл. Это следует исправить и отвести ему почетное место среди греков.
Вновь и вновь рассматривая и обдумывая предложенный мною состав воображаемой библиотеки, я нахожу его не только весьма неполным и ущербным: не этот косметический изъян смущает меня сильнее всего. Чем больше пытаюсь я помыслить нашу библиотеку как целое, как книжное собрание, составленное хотя и субъективно и непедантично, но все-таки с опорой на какие-то знания и опыт, тем больше мне кажется, что существенный недостаток ее не в субъективности и случайности выбора, а скорее в обратном. Наша воображаемая библиотечка, вопреки ее недостаткам, слишком, на мой взгляд, идеальна, слишком правильна, слишком похожа на шкатулку для украшений. Сколько бы хорошего мы ни забыли, здесь все же представлены прекраснейшие жемчужины литературы всех времен; по добротности и объективности наше собрание превзойти очень трудно. Но, оглядывая выдуманную нами библиотеку, я, сколько ни пытаюсь, не могу вообразить себе потребителя и владельца ее; это и не престарелый твердолобый ученый с запавшими глазами и аскетическим лицом полуночника, и не светский щеголь в своем красивом модном жилище, и не сельский врач, и не священник, и не дама. Наша библиотека кажется изящной и совершенной, но уж очень она безлична; каталог ее мог бы взять за основу почти всякий старый библиофил. Увидев нашу библиотеку в действительности, я бы подумал: довольно неплохое собрание, сплошь проверенные вещи, но разве нет у владельца никаких увлечений, предпочтений, пристрастий, разве в сердце его нет ничего, кроме нескольких книг по истории литературы? Если у него, к примеру, есть лишь по два романа Диккенса или Бальзака, то, значит, ему их навязали. Если бы он выбирал действительно лично и свободно, то он или любил бы обоих авторов и имел бы как можно больше книг того и другого, или предпочел бы одного из них, куда бы больше, к примеру, любил милого, доброго, прелестного Диккенса, чем грубоватого Бальзака, или, напротив, любил бы Бальзака, хотел бы иметь все его книги и выбросил бы из библиотеки слишком сентиментальные, слишком добродетельные, слишком обывательские книги Диккенса. Чем-то таким, личным, отмечены все нравящиеся мне библиотеки.
Так что наш слишком правильный, слишком усредненный каталог я вновь хочу привести в беспорядок и показать — как это бывает обычно при личном, живом, предвзятом общении с книгами, — что иного пути, кроме исповеди в собственных читательских пристрастиях, избрать я не мог. В моей жизни книги мне стали близки очень рано, и, стремясь к умному, правильному выбору их из всемирной литературы, я пробовал разнообразные блюда, обязывал себя непременно познать и понять много такого, что было мне чуждо. Но чтение, изучение иностранных литератур лишь по необходимости образования и осведомленности во всем оказалось отнюдь не по мне; в мире книг я то и дело воспламенялся какой-то особой любовью, восхищался каким-то новооткрытием, загорался новой страстью. Много таких страстей сменили друг друга, некоторые иногда возвращались, другие вспыхивали лишь раз, чтобы затем угаснуть навеки. Поэтому моя собственная библиотека не похожа на вышеописанный образец, хотя и содержит почти все названное. В каких-то разделах она увеличена и даже раздута, что характерно для всякой библиотеки, сложившейся под влиянием личных потребностей: некоторые части лишь обязательны и минимальны, а другие, напротив, — баловни и любимцы и имеют изнеженный и ухоженный вид.
Такие предпочтительные, с особой любовью обихоженные разделы бывали и в моей библиотеке, перечислить здесь все невозможно, но важнейшие назову. И хочу хоть немного рассказать о том, как в каждом отдельном человеке отражается вся мировая литература, как притягивает она его то с одной, то с другой стороны, какое формирующее влияние оказывает она на его характер и как порою человек командует ею и насилует ее.
Любовь к книгам и читательский зуд зародились во мне рано, и единственная большая библиотека, которую я сызмальства знал и которой мог пользоваться, была библиотека моего деда. Львиная доля той обширной библиотеки, состоявшей из многих тысяч книг, была и осталась для меня безразличной, я не мог постичь, откуда взялись в таких количествах книги типа исторических и географических ежегодников, богословских сочинений на английском и французском языках, английских молодежных журналов и назидательных книг с золотым обрезом, ученых вестников, аккуратно переплетенных в картон и заполнявших бесконечные ящики или сложенных стопками и перевязанных крест-накрест бечевкой. Все это казалось мне довольно скучным, пыльным и вряд ли достойным хранения. Но в этой библиотеке, как мало-помалу я обнаружил, были и другие разделы, и прежде всего — несколько книг, которые меня сразу заинтересовали и побудили постепенно перебрать всю эту библиотеку, казавшуюся столь безотрадной, и выудить из нее увлекательные вещи.
Особенно интересными оказались «Робинзон Крузо» с восхитительными рисунками Гранвиля и тоже иллюстрированное немецкое издание «Тысячи и одной ночи» в двух тяжелых томах ин-кварто, выпущенных в тридцатые годы. Обе находки показали, что в этом мутном море есть и жемчужины, и я продолжил поиски на высоких книжных полках залы, часто и подолгу просиживая на вершине лестницы или лежа ничком на полу среди стопок бесчисленных книг.
В этой таинственной и пыльной книжной зале я сделал первое ценное открытие в области словесности: я открыл немецкую литературу XVIII века! В сей странной библиотеке она была представлена на редкость полно, не только, к примеру, «Вертером», «Мессиадой»[57] и несколькими альманахами с офортами Ходовецкого, но и менее известными сокровищами: полным собранием сочинений Гамана в девяти томах, полным Юнг-Штиллингом, полным Лессингом, стихами Вайсе, Рабенера, Рамлера, Геллерта, шестью томами «Путешествия Софии из Мемеля в Саксонию»[58], несколькими литературными газетами и различными книгами Жан Поля. Кроме того, как мне помнится, я впервые прочел тогда имя Бальзака; в библиотеке нашлось его прижизненное немецкое издание — несколько книг в картонном переплете форматом в шестнадцатую долю листа. Я не забыл, как впервые взял в руки этого писателя и как плохо тогда его понял. Начав читать одну из его книг, я наткнулся на подробное описание материальных проблем героя: сколько дохода приносит ежемесячно его капитал, каковы размеры материнского наследства, какие у героя виды на очередные наследства, сколько долгов и т. п. Я был глубоко разочарован. Я надеялся прочесть о страстях и конфликтах, о путешествиях в дикие страны или любовных приключениях, запретных и сладких, а мне совали под нос кошелек молодого человека, вещь, для меня тогда не существовавшую! С отвращением поставил я голубую книжечку на место и долго с тех пор не читал ни единой вещи Бальзака; вновь открыл я его лишь много лет спустя, но тогда уже всерьез и навсегда.
Но главным событием для меня стало открытие в дедовой библиотеке немецкой литературы XVIII века. Я познакомился с чудесными забытыми вещами: «Ноем» Бодмера, «Идиллиями» Гесснера, «Путешествием» Форстера, всеми сочинениями Маттиаса Клаудиуса, «Бенгальским тигром» придворного советника Эккартсхаузена, монастырской историей «Зигварт»[59], «Зигзагами в жизни рыцаря» Хиппеля и несметными другими произведениями. Среди этих старых книг было несомненно много ерунды, много справедливо забытых и последующими временами отвергнутых сочинений, но были среди них и замечательные оды Клопштока, страницы нежно-элегантной прозы Гесснера и Виланда, потрясающие воображение волшебные вспышки гения Гамана; не раскаиваюсь я и в том, что читал недостойные вещи, ибо обширное и подробное знакомство с определенным историческим периодом тоже по-своему полезно. Короче говоря, я постигал немецкую словесность целого столетия с такой полнотой, с какой вряд ли это делают ученые специалисты, и из книг, частью устаревших и странных, веяло на меня дыханием языка, моего бесценного родного языка, который именно в XVIII столетии переживал подготовку к своему классическому расцвету. Я учился немецкому языку именно в той библиотеке, в тех альманахах, в тех пыльных романах и героических поэмах, и, когда сразу же вслед за ними я узнал Гёте и высший цвет немецкой литературы нового времени, мой слух и чувство языка были уже настолько обострены и вышколены, что особая разновидность духовности, породившая Гёте и немецкую классическую литературу, оказалась для меня близка и естественна. К той литературе пристрастен я и поныне, и поныне стоят у меня на полках многие из тех забытых произведений.
Несколькими годами позже, в течение которых я многое узнал и многое прочел, меня начала притягивать другая область истории духа, а именно Древняя Индия. Путь к ней был не прямым. Через разных людей я познакомился с известными сочинениями, которые назывались тогда теософскими и якобы заключали в себе оккультную мудрость. Но все эти сочинения, частью толстенные «кирпичи», частью крошечные скупые трактатики, были какими-то безрадостными, навязчиво назидательными и по-гувернантски моралистскими, содержание их, дышавшее идеальностью и отрешенностью от мира, правда, не отталкивало, но производило впечатление бескровности, и очень неприятной мне вековушеской поучительности. Однако какое-то время эти книжки приковывали мое внимание, и вскоре я разгадал тайну их притягательности. Оккультные учения, которые авторам этих сектантских книжек были якобы нашептаны незримыми духовными вождями, указывали на один источник — индийский. Я продолжил поиски и вскоре сделал первую находку: «Бхагавадгиту» — и, замирая от волнения, начал читать ее перевод. Перевод был ужасный — действительно хорошего не знаю я и поныне, хотя прочел уже несколько, — но тогда я впервые нашел крупицу того золота, которое я предчувствовал в своих поисках: я открыл азиатскую идею единства всего сущего в ее индийском обличье. С тех пор, забросив ничтожные, важные лишь с виду перетолкования доктрины о карме и переселении душ и перестав сердиться на их узколобость и школьность, я пытался усвоить то, что было доступно в первоисточниках. Я познакомился с книгами Ольденберга и Дойссена и их переводами с санскрита, а также с сочинением Леопольда Шрёдера «Литература и культура Индии» и несколькими старыми переводами из индийской литературы. Древнеиндийская философия и мудрость, наряду с важным для меня в те годы миром идей Шопенгауэра, несколько лет кряду сильно влияли на мою жизнь и мышление. И все же меня не покидали чувство неудовлетворенности и какое-то разочарование. Во-первых, все переводы индийских источников, которые я мог достать, были очень ущербными. Чистое, полноценное представление и удовольствие от познания индийского мира доставили мне лишь «Шестьдесят упанишад» Дойссена и «Речи Будды» в немецком переводе Ноймана. Но дело не только в переводах. В индийском мире я искал нечто, чего в нем не было, некий вид мудрости, возможность, наличие и даже обязательность наличия которой я предчувствовал, но нигде не находил выраженной в слове.
Исполнение желаний — насколько можно говорить об исполнении желаний в этих вещах — принесло мне спустя много лет знакомство с новыми книгами. Еще раньше, по совету отца, я познакомился с Лао-цзы в переводе Грилля. А тут одна за другой начали выходить китайские книги: серия китайских классиков в переводе Рихарда Вильгельма, которую я считаю одним из важнейших событий в нынешней немецкой духовной жизни. Мы обрели один из благороднейших и высокоразвитейших плодов человеческой культуры, который для немецких читателей был до сих пор нераспознанным, вызывавшим улыбку курьезом, обрели его не обычным путем, через латынь и английский, не из третьих и четвертых рук, а непосредственно — в переводе немца, полжизни прожившего в Китае, чувствующего себя в духовной жизни Китая как дома, знающего не только по-китайски, но и по-немецки, и в себе самом познавшего значение китайской духовности для нынешней Европы. Эта серия открылась у Дидерихса в Йене «Беседами Конфуция», и я никогда не забуду, с каким изумлением и сказочным восхищением вобрал я в себя эту книгу, как ново и одновременно как точно, знакомо, желанно и сладко отозвалась она во мне. С тех пор эта серия стала солидной: за Конфуцием последовали Лао-цзы, Чжуан-цзы, Мэн-цзы, Люй Бувэй, китайские народные сказки. Одновременно несколько переводчиков успешно переводили китайскую поэзию и народную повествовательную литературу Китая; приятно дополняя Рихарда Вильгельма, много прекрасного создали в этой области Мартин Бубер, X. Рудельсбергер, Пауль Кюнель, Лео Грайнер и другие.
Вот уже несколько десятилетий от этих китайских книг получаю я неизбывное, все растущее удовольствие; одна из них постоянно лежит у меня рядом с кроватью. В них содержится в изобилии все то, чего не хватает индусам: близость к жизни, гармония благородной, открытой высочайшим нравственным требованиям духовности с превратностями и очарованием чувственного, будничного бытия, широкий диапазон между высокой одухотворенностью и простодушной жизнью себе в удовольствие. Если Индия достигла вершин духа и чувства аскезой и монашеской отрешенностью от жизни, то Древний Китай достиг не меньших чудес культом духовности, для которой природа и дух, религия и будничная жизнь противоположности не враждебные, а дружественные, и каждой из них воздается должное. Если индийская аскетическая мудрость по радикальности своих требований носила юношеско-пуританский характер, то мудрость Китая была мудростью опытного, поумневшего, не чуждого юмору человека, которого опыт не разочаровывает, а ум не делает распущенным.
В течение последних двух десятилетий этой благодатной влаги испили лучшие представители немецкой языковой общности, и китаеведческое творчество Рихарда Вильгельма исподволь становилось все значительнее и влиятельнее на фоне некоторых крикливых и быстро гаснущих течений.
Не менее чем пристрастие к немецкому восемнадцатому веку, чем поиск смысла индийского учения и знакомство с философией и литературой Китая изменили и обогатили мою библиотеку и некоторые другие события и страсти в моей жизни. Было, к примеру, время, когда в оригинальных изданиях у меня имелись почти все крупные итальянские новеллисты — Банделло и Мазуччо, Базиле и Поджо. Но было и время, когда я не мог остановиться в приобретении сказок и сказаний зарубежных народов. Эти интересы постепенно угасли. Другие остались, и они, мне кажется, с возрастом не ослабевают, а скорее усиливаются. К ним относится любовь к мемуарам, письмам и биографиям людей, произведшим на меня большое впечатление. Еще в ранней юности я несколько лет кряду собирал и читал все, что мог раздобыть о личности и жизни Гёте. Моя любовь к Моцарту побудила меня прочесть почти все его письма и все написанное о нем. Такую же любовь испытал я в свое время к Шопену, к французскому поэту Герену, автору «Кентавра», к венецианскому живописцу Джорджоне, к Леонардо да Винчи. И так как читал я об этих людях с любовью, то в результате я не только приобрел очень важные и ценные книги, но и обогатился сам.
Нынешний мир склонен недооценивать книги. Сегодня немало молодых людей, которым любить книгу, а не живую жизнь, кажется смешным и недостойным; они считают, что для книг наша жизнь слишком коротка и слишком ценна, и до шести раз в неделю находят время по многу часов отдавать ресторанной музыке и танцам. Каким бы бурным ни был «реальный» мир в университетах, на фабриках, биржах и в местах развлечений, к подлинной жизни мы не будем в нем ближе, чем каждодневно в течение пары часов за чтением философии и литературы минувших времен. Конечно, многочтение может быть вредным, и неблаговидно первенство книг в конкуренции с жизнью. Но все-таки я никого не предостерегаю от чтения. Многое бы надо еще сказать и о многом поведать. К уже упомянутым пристрастиям добавилось у меня еще одно: познание сокровенной жизни христианского средневековья. Меня интересовали Не подробности его политической истории, они были мне безразличны, а противоречия между двумя его крупными силами: церковью и императорской властью. И особенно влекли меня монастыри, но не из-за их аскетизма, а потому, что в их искусстве и литературе я обнаружил чудесные сокровища, потому, что жизнь орденов и монастырей, этих центров культуры и учености, прибежищ набожной сосредоточенности, казалась мне в высшей степени образцовой, завидной. В своих рейдах по монастырскому средневековью я обнаружил несколько очень полюбившихся мне книг, не подходящих, правда, для нашей воображаемой библиотеки. Были среди них, однако, и такие, которые, я считаю, очень достойны включения в наш список, как, например, — проповеди Таулера, «Жизнь» Зузо, проповеди Экхарта.
То, что на нынешний день кажется мне идеалом всемирной литературы, мои сыновья сочтут когда-нибудь столь же однобоким, ущербным, смешным, как некогда это, вероятно, показалось бы моему отцу или деду. Но сей неизбежности нам следует покориться и не воображать, что мы умнее отцов. Как ни прекрасно стремление к объективности и справедливости, нам следует помнить, что идеалы эти недостижимы. Ведь цель изрядной всемирной библиотеки не достичь вершины учености и не стяжать себе право судить обо всем на свете, а лишь через доступные нам ворота вступить в святилище духа. Пусть каждый начинает с того, что способен понять и полюбить! Научиться чтению в высоком смысле этого слова можно только по шедеврам, а не по газетам и случайной бытовой литературе. Правда, порою шедевры не столь упоительны и пикантны, как модные книги. Они требуют серьезного отношения, требуют, чтобы их завоевали. Намного легче усвоить лихо сыгранный американский танец, чем размеренные, упруго-стальные формы какой-нибудь драмы Расина или изобилующий нежными полутонами и переливами юмор Стерна или Жан Поля.
Прежде чем шедевры покажут свою пригодность для нас, нам следует показать свою пригодность для них.
(1927)
ОДНА РАБОЧАЯ НОЧЬ[60]
Этот субботний вечер был мне необходим, ибо я потерял на неделе несколько вечеров: два истратил на музыку, один — на друзей, один — на болезнь. А для моей работы потеря вечера то же, что потеря целого дня, потому что работается мне лучше всего на ночь глядя. Обширное сочинение, которое я вынашиваю уже два года, недавно вступило в самую решающую стадию. Я до деталей помню момент два года назад (тоже в начале зимы), когда в этой опасной и напряженной стадии был и «Степной волк». В работе над вещами, какие я сочиняю, нет, в сущности, ничего подвластного разуму, зависящего от воли и трудолюбия, вымученного прилежания. Новое произведение начинает во мне возникать в тот момент, когда персонаж, способный на какое-то время стать символом и носителем моих переживаний, мыслей, проблем, начинает обретать зримую плоть вымышленной личности, как то было с Петером Каменциндом, Кнульпом, Демианом, Сиддхартхой, Гарри Галлером, и из этого творческого момента рождается все остальное. Почти все мои прозаические вещи — духовные биографии, не повествования о событиях, перипетиях и коллизиях, а, в сущности, монологи, в которых изображается одна-единственная личность — та самая вымышленная фигура — со всеми ее отношениями к миру и собственному Я. Такие произведения называют «романами». Но на самом деле они столь же мало романы, как и их великие, с юности святые для меня образцы «Генрих фон Офтердинген» Новалиса, например, или «Гиперион» Гёльдерлина.
И вот я вновь переживаю короткое, прекрасное, трудное и волнующее время, когда писательский труд терпит кризис, когда все мысли и чувства, связанные с «вымышленной» фигурой, возникают во мне предельно остро, отчетливо и проникновенно. Масса материала, масса слившихся воедино впечатлений и помыслов, которая в нарождающейся книге должна быть ужата до одной-единственной формулы, в это время (длящееся очень недолго!) пребывает в состоянии текучести, плавкости — теперь или никогда материал должен быть схвачен и отлит в форму, иначе я опоздаю. Это время наступало при нарождении всех моих книг, также и тех, которые не были завершены и напечатаны. В случае последних я упускал время жатвы, и внезапно наставал момент, когда персонаж и послание произведения начинали от меня ускользать, терять настоятельность и важность; так, например, неактуальны сейчас уже для меня Каменцинд, Кнульп, Демиан. Так несколько раз шла насмарку и оказывалась в конце концов брошенной многомесячная работа.
Итак, этот субботний вечер принадлежал мне и моей работе, и, чтобы к нему подготовиться, я потратил большую часть дня. Около восьми часов из прохладной соседней комнаты я принес свой ужин — горшочек простокваши и банан, — подсел к настольной лампе и взялся за перо.
Несмотря на необходимость, сделал я это нехотя. Уже с позавчерашнего дня в преддверии этой работы я испытывал не радость, а страх. Ибо роман мой (о Златоусте) дошел до того щекотливого места, чуть ли не единственного в книге, где события говорят сами за себя, где становится интересно, что будет дальше. А «интересных» мест я терпеть не могу, особенно в собственных книгах, и всегда, насколько возможно, их избегаю. Но это место оказалось неминуемым: событие в жизни Златоуста, о котором предстояло мне рассказать, было не вымыслом, не чем-то, что можно выкинуть, а одной из первейших и важнейших идей, породивших фигуру Златоуста, субстанцией этой фигуры.
Три часа просидел я за своим рабочим столом, мучаясь над одной «интересной» страницей и пытаясь добиться как можно более беспристрастного, краткого и как можно менее интересного изложения, и теперь вот не знаю, удалось ли мне это. Такие вещи зачастую видны лишь много позднее. Изнуренный и мрачный, я долго глазел на исчерканную бумагу и терзался хорошо знакомыми нелюбыми мыслями. Имели ли в самом деле смысл, нужны ли были это полуночное сочинительство, это кропотливое воплощение персонажа, явившегося мне как призрак вот уже два года назад, эта отчаянная, приносящая счастье и изматывающая работа? Нужно ли было, чтобы за Каменциндом, Кнульпом, Верагутом, Клингзором, Степным волком последовал еще один персонаж, еще одна инкарнация, еще одно чуть иначе замешанное и иначе вылепленное словесное воплощение моего собственного существа?
То, чем я здесь занимался — занимался всю свою жизнь, в прежние времена называли сочинительством, и никто не сомневался, что это по меньшей мере столь же ценно и осмысленно, как путешествие по Африке или игра в теннис. Сегодня же это называют «романтизмом», да еще в крайне пренебрежительном тоне. Разве романтизм нечто неполноценное? Разве не романтизмом было то, что творили лучшие умы Германии — Новалис, Гёльдерлин, Брентано, Мёрике или все немецкие композиторы от Бетховена и Шуберта до Хуго Вольфа? А некоторые критики к тому, что прежде называлось литературой и романтизмом, применяют теперь еще и нелепый, но в их устах иронически звучащий термин «бидермайеровщина»[61]. Они разумеют под ним нечто «бюргерское», старомодное, сентиментально дебильное, нечто, что в гуще наших замечательных времен носит оттенок глупой забавы и возбуждает смех. Так судят они обо всем, что умом и душою стремится за пределы злободневности. Будто скорбь и видения Шлегеля, Шопенгауэра и Ницше, грезы Шумана и Вебера, сочинения Эйхендорфа и Штифтера были мимолетной, комичной и, к счастью, давно уже отмершей дедовской модой! Но ведь грезы эти воплощались не ради моды, не ради услады и стилистической мишурности, они были растолкованием двух тысяч лет христианства, тысячи лет германства, воплощением понятия человечности. Почему же ныне так мало они уважаются, почему власть имущими слоями нашего общества воспринимаются они как пустяки? Почему тратятся миллионы на «закалку» нашего тела и не меньше на машинизацию нашего разума, а всякому порыву нашей души к образованию не достается ничего, кроме презрения и насмешки?
В самом деле, был ли Дух, породивший слово: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?»[62] — романтизмом или «бидермайеровщиной», упразднен ли он, преодолен ли, заменен ли на что-то лучшее, неужто с ним уже разделались и выставили на осмеяние? Действительно ли «современная жизнь» на заводах, биржах, стадионах, аукционах, в барах и дансингах больших городов чем-то лучше, полнее, умнее, заманчивей, чем жизнь людей, создавших «Бхагавадгиту» или готические соборы? Бесспорно хороши и имеют право на существование и современная жизнь и современная мода, они воплощение перемен и жажды нового, но правильно ли и нужно ли рассматривать все прошлое, от Иисуса Христа до Шуберта или Коро как уже преодоленную и ставшую смешной неразумную дедовщину? В самом ли деле неистовая, дикая, подобная амоку ненависть нового времени ко всему и вся, что ему предшествовало, — доказательство силы этого нового времени? Не слабы ли, не глубоко ли ущербны и невротичны те, кто склонны к такой гипертрофированной самозащите?
И в полуночный час, вновь позволив возникнуть в себе этим вопросам, но не для того, чтобы на них отвечать, ибо ответ мне известен с тех пор, как я существую на свете, а для того, чтобы, проникнувшись скорбностью их, вновь пригубить всю их горечь, — вновь увидал я перед собою Кнульпа, Сиддхартху, Степного волка и Златоуста, сплошь братьев, но не близнецов, сплошь-вопрошающих и страждущих, но составляющих для меня все же лучшее, что подарила мне жизнь. Я приветствовал их и подтверждал их право на бытие, вновь понимая, что никакие сомнения никогда не заставят меня бросить писать, что все счастье счастливых, все рекорды и все здоровье спортсменов, все деньги финансовых воротил и вся слава боксеров перестали бы для меня что-либо значить, если бы ради них пожертвовал я хоть толикой собственного своенравия и страстей. Понимал я и то, что дело вовсе не в исторических и философских доказательствах ценности моей «романтичности», а в том, чтобы продолжать свою игру и создавать свои персонажи, даже если на них ополчатся вся на свете разумность, мораль и премудрость.
С этой уверенностью я отправился спать могучий, как великан.
(1928)
ЭКСКУРС В СПОРТИВНОЕ ПЛАВАНИЕ
Если поэт, поработав лет двадцать-тридцать и обзаведясь неким количеством друзей и врагов, не только будет завален всевозможными почестями и не только поймет, что те же редакции, которые, вежливо извиняясь, вновь и вновь возвращают его стихи, дают работу и рецензентам, чтобы те писали о нем длинные фельетоны, но непосредственно услышит и глас самого народа. Каждое утро будет ему приносить почтальон пачечку писем и бандеролей, по которым поэт убедится, что трудился он не напрасно. Он будет удостоен чести прочитывать рукописи и первые книги многочисленных молодых коллег; те же редакции, которые постоянно просят его о сотрудничестве и потом постоянно возвращают его стихи, срочно и зачастую даже по телеграфу, будут запрашивать его мнение в форме очерка о Лиге наций или о будущем планерного спорта; юные читательницы будут просить прислать его фото, а читательницы постарше посвящать его в тайны собственной жизни и причины их обращения к теософии или Christian Science[63]; будут навязывать ему подписку на текущие справочные издания, ибо в них фигурирует и его высокочтимое имя. Словом, каждое утро почта будет ему подтверждать, что жил он и работал не зря. Так обстоит с каждым поэтом.
Но порою бывает, что нет настроения при первом же глотке кофе и первом куске хлеба респектабельно выпрямляться перед этой компанией и принимать ее приветствия, пожелания и советы по сочинению будущих книг. Так было вчера и со мной, и, отодвинув в сторону почту, на сей раз нежданно обильную, я надел шляпу и пошел чуть-чуть прогуляться.
Спускаясь по лестнице, я миновал дверь моего соседа Г., который теперь, наверно, сидел в своем банке и записывал цифры. Он служил в банке, но честолюбие его устремлялось в иные пределы; в душе он был спортсменом, и на днях, как я узнал из газет и разговоров соседей, каким-то особенным, изобретенным им методом добился первого крупного успеха. Дело в том, что г-н Г. занимался спортивным плаванием и часто жаловался мне, как ограничены возможности в этой области. Однажды он сказал, что минут за десять переплыл Цюрихское озеро, не помню уже сейчас, в длину или в ширину, и как здорово у него это вышло; я выразил свое восхищение, а он с мрачным видом изрек, что в плавании лучших результатов не очень-то можно добиться. В этом спорте люди сейчас натренированы так, что в ближайшее время будет достигнут предел: километр в минуту. Можно, конечно, перекрыть и этот рекорд, но, по мнению специалистов, пловец в лучшем случае окажется на том берегу в тот же миг, когда он покинет этот берег, и дальше дело не пойдет.
Но мой сосед Г. был не обычный пловец, он был гений. В одночасье он изобрел совершенно новое искусство плавания. Несомненно, что и до сих пор, говорил он, плавали замечательно, великолепно; последний заплыв младенцев от Гибралтара до Африки показал, что в спортивном плавании воистину нет уже границ и препятствий. Но по наивности плавали до сих пор только в плоскости, разделяющей воздух и поверхность воды. И мой друг Г., который всегда был хорошим ныряльщиком, создал невиданный спорт: пловец передвигается по дну озера, следуя всем возвышениям и углублениям, подобно человеку, идущему по горам. Таким способом, не выше двадцати сантиметров ото дна, несколько дней назад он переплыл Боденское озеро, и весь мир был потрясен этим достижением.
И все-таки, думал я про себя, нам, литераторам, лучше. Наступит день, когда всякий хорошо тренированный пловец овладеет новым способом; недавняя слава г-на Г. поблекнет, и плавательный спорт будет озабочен новыми проблемами. А как еще не освоено все у нас, литераторов, как широко и неизведанно простирается перед нами весь мир! Даже если предположить, что со времен Гомера за две с половиной тысячи лет действительно достигнут прогресс — что еще не доказано, — то как невелик он! Мысль меня освежила, и, вернувшись домой в приподнятом настроении, я хотел немедленно сесть за работу. Но на столе еще лежала сегодняшняя утренняя почта, и, о господи, в три-четыре раза она была больше, чем обыкновенно! Несколько раздосадованный, я вскрыл для начала сразу дюжину писем и начал читать. Нет, сегодняшний день и вправду счастливый. Письмо за письмом — одно отраднее другого. Каждое начиналось с обращения «Глубокоуважаемый мастер» и содержало только приятные и лестные вещи. Университет моей земли, хотя я не был ни фабрикантом, ни тенором, решил присвоить мне звание почетного доктора. Знаменитая «Швайнфуртская газета», которой я посылал стихи и которая неизменно мне их возвращала, молила меня о сотрудничестве в любой форме и области, каждая моя строчка будет принята с радостью и редакцией, и читателями. И так было конверт за конвертом. Певица Ида из городского театра, обольстительная смуглая цирцея, приглашала меня покататься на автомобиле. Фотограф из Дортмунда и фотограф из Карлсруэ умоляли о разрешении меня увековечить. На четверть года мне бесплатно предлагали для обкатки новый автомобиль. Не было писем ни от теософинь, ни от привержениц маздазнана[64], ни римских трагедий от учеников пятого класса, ни революционных драм от учеников шестого класса. Это было удивительно, это был великий день. Торжества по поводу моего пятидесятилетия и шестидесятилетия напоминали его лишь отдаленно.
Это показалось мне слишком. И оставшиеся письма я решил прочесть позже, после обеда. Но среди них была еще красивая плоская бандероль, которая возбудила во мне любопытство. Видно, что содержание ее — не книга и не рукопись и, следовательно, может быть только приятным. Я перерезал бечевку и снял упаковку. На свет явилась шелковая бумага розового цвета, распространился тонкий аромат, содержимое было на ощупь мягким и нежным. Неторопливо и торжественно, словно с памятника, я снял эту обертку и обнаружил рукоделие из тонкой, похожей на трикотаж материи. С удивлением я развернул вещь и положил на стул. То оказался черный купальный костюм из шелковисто мерцающего трикотажа с большим алым сердцем, пришитым к груди и обрамленным перекрестным стежком, и на этом алом сердце черными буквами было вышито: «Великому Генриху, несравненному пловцу-подводнику».
Черт побери, только теперь я наконец-то сообразил, что вся эта обширная утренняя почта адресована вовсе не мне, а моему соседу Г., пловцу, который сидит теперь в своем банке и очиняет карандаши, но уже завтра возьмет расчет и поедет в Америку, Париж или Лондон, последовав одному из приглашений, получаемых им сейчас ежедневно.
Раздраженный и немного расстроенный, я еще раз вышел на улицу и поплелся на набережную. Передо мной простиралось Цюрихское озеро, я смотрел на него и очень серьезно размышлял над тем, не поменять ли мне свое занятие на плавательный спорт. Если даже не рассчитывать на мировой рекорд, я был еще достаточно крепок, в отрочестве очень хорошо плавал и меня бы, наверно, хватило на неплохие почетные результаты в кантональных заплывах стариков. Но озеро вдруг показалось неприятно холодным и мокрым, и, подумав, что это необозримое расстояние отсюда до того берега мастер Г. проплыл за десять минут, я вспомнил опять, какие благодарные и неистощимые цели и задачи меня еще ждут в поэтическом искусстве.
Нет, я с вежливыми извинениями перешлю соседу Г. его почту, попрошу его о билете на ближайший показательный заплыв, а при случае также и о том, чтобы в редакциях большой периодики он замолвил за меня словечко относительно публикации моих стихов. А сам я, предоставив спортивное плавание карпам и щукам, по-прежнему буду пытать себя в сочинительстве. Вот уже несколько дней я вынашиваю стихотворение о весне, точнее, об исходящем от молодых смолистых почек странном аромате и его чрезвычайно разнообразном влиянии на молодых и пожилых людей и надеюсь, что когда-нибудь мне удастся мало-мальски удовлетворительно выразить связь между распускающимися почками и сердцами, каким бы трудным и невозможным это ни казалось; то есть мне все-таки не хочется попасть в число тех, кто, пренебрегая своим делом, увиливает от выполнения поставленной перед ним жизнью задачи.
(1929)
ЧТЕНИЕ В КРОВАТИ
Если живешь в гостинице больше трех-четырех недель, то с часу на час обязательно жди какой-нибудь помехи. Или устроят свадьбу, которая с музыкой и пением продлится весь день и всю ночь и наутро закончится в коридорах толкотней растроганных пьяных. Или твой сосед слева попытается отравиться газом, и газ проникнет к тебе. Или сосед застрелится, что, в сущности, даже приличнее, но сделает это в то время суток, когда проживающие в гостинице имеют право надеяться на тихое поведение окружающих. Или лопнет водопровод, и придется спасаться вплавь, или в один прекрасный день, часов этак в шесть утра, к твоему окну приставят лестницу, и по ней полезет толпа людей, которым приказано перестелить крышу.
Так как в старом баденском «Хайлигенхофе» я три недели прожил спокойно, то, значит, вот-вот должно было что-то случиться. Казус на этот раз был безобиднейшим: испортилось отопление, и мы весь день замерзали. До полудня я держался героем, сначала пошел прогуляться, потом в теплом шлафроке сел за работу, и радость вспыхивала во мне всякий раз, когда бульканье и посвистывание в холодных змеевиках парового отопления наводили на мысль о возвращении к жизни. Но куда там, и пополудни, когда у меня окоченели руки и ноги, я дрогнул и отступил. Разделся и улегся в кровать. И, раз уж в порядке вещей образовалась пробоина и произошло нечто вроде эксцесса: среди бела дня моя голова коснулась подушки, — я сделал то, чего обычно не делаю. Почти все мои знакомые и критики моих сочинений считают, что я человек без устоев. Эти малопроницательные люди из каких-то наблюдений и каких-то мест в моих книгах заключили, что живу я непозволительно вольно, по-сибаритски, наобум. Потому что утром люблю поваляться в кровати, потому что порою, когда мне хочется, позволяю себе бутылку вина, потому что не принимаю и не наношу визитов. Из этих и подобных мелочей плохие наблюдатели делают вывод, что я изнеженный, ленивый, морально разложившийся человек, который во всем себе уступает, ни на чем не сосредоточивается и живет безнравственной, распущенной жизнью. Но они судят так потому, что их злит и кажется надменностью мое свойство открыто, ничего не тая, признаваться в своих обыкновениях и пороках. Если бы разыгрывал я перед миром пристойную жизнь обывателя (что было бы, впрочем, нетрудно), если бы на бутылку вина я клеил этикетку от одеколона, если бы своим визитерам вместо признания в том, что они мне мешают, я лгал, говоря, что нет меня дома, — словом, если бы я изворачивался и лицемерил, то стяжал бы наилучшую репутацию и мне бы очень скоро присвоили звание почетного доктора.
На самом же деле, чем меньше я следую обывательским нормам, тем строже блюду свои собственные принципы. Я их считаю отличными, мои критики не сумели бы и месяца следовать им. Один из моих принципов — не читать газет, но не из литературного высокомерия и ложного мнения, что мол, пресса литература более низкого сорта, чем то, что современные немцы именуют «словесностью», а просто потому, что ни политика, ни спорт, ни экономика меня не интересуют и потому, что вот уже много лет мне стало невыносимо день ото дня беспомощно смотреть, как катится мир навстречу новым войнам.
Но несколько раз в году, на полчаса нарушая обычай не просматривать никаких газет, и я ощущаю удовольствие от сенсаций, как, впрочем, и от кино, порог которого с тайным содроганием я переступаю примерно раз в году. И в этот отчасти безрадостный день, укрывшись в кровати и, к несчастью, не имея под рукою книг, я взял две газеты. Одна из них, «Цюрхер цайтунг», оказалась довольно свежей, всего лишь четырех- или пятидневной давности, этот номер был у меня потому, что в нем напечатали мое стихотворение. Другая газета датировалась неделей раньше и тоже ничего не стоила, ибо попала ко мне в виде обертки. С любопытством и интересом я начал читать обе эти газеты, то есть, конечно, те их разделы, язык которых я понимаю. Области, пользующиеся специальным, шифрованным языком, а именно — спорт, политику и биржу, я вынужден был, естественно, пропустить. Таким образом остались мелкие сообщения и очерки. И всеми фибрами души я понял вновь, зачем читаются газеты. Завороженный хитросплетениями известий, я постиг магию безответственного созерцания и в течение часа испытывал чувство единодушия со многими стариками, которые, годами сиживая сиднем, лишь потому не хотят умирать, что абонируют радио и каждый час ждут новостей.
У большинства писателей фантазия развита довольно плохо, и поэтому я был опьянен и огорошен вестями, из которых вряд ли сумел бы изложить хоть одну. Я узнавал в высшей степени странные вещи, которые дают мне обычно пищу для размышлений днями и ночами напролет. Равнодушно я воспринял лишь некоторые сообщения: то, что, к примеру, по-прежнему усиленно и безуспешно ведется борьба с раковыми заболеваниями, меня удивило столь же мало, как и известие о создании очередного американского фонда для искоренения дарвинизма. Зато трижды или четырежды внимательно прочитал сообщение из одного швейцарского города, где молодой человек, по неосторожности убивший собственную мать, был приговорен к денежному штрафу в сто франков. Несчастье приключилось так: бедняга в присутствии матери возился со своим огнестрельным оружием, оно выстрелило и убило мать. Событие печальное, но не невероятное, в каждой газете есть куда худшие и куда более страшные известия. Но стыдно признаться, сколько времени я извел, пытаясь понять, чем руководствовались судьи при назначении штрафа. Человек убил свою мать. Если он совершил это преднамеренно, то он убийца, и, как заведено в мире, его не будут препоручать мудрому Зарастро[65], чтобы тот объяснил ему, какая глупость убийство, и попытался сделать из него человека, а упекут на приличное время за решетку, или в странах, где еще в силе доброе старое феодальное право, отсекут ему неразумную голову. Но ведь этот убийца совсем не убийца, а бедолага, с которым случилось ужасное несчастье. Так на основании каких же тарифов, каких расценок человеческой жизни, какой воспитательной силы денежного штрафа суд определил стоимость этой по неосторожности загубленной жизни именно в сотню франков? Я ни на миг не усомнился в честности и добропорядочности судьи и убежден, что к вынесению справедливого приговора он приложил немало усилий, что он пережил тяжелый конфликт между собственным разумом и буквой закона. Но где в мире есть человек, который известие о таком приговоре прочтет с пониманием или с удовольствием?
В разделе очерков я обнаружил другое известие, касавшееся одного моего знаменитого коллеги. «Осведомленная сторона» сообщала, что крупный популярный прозаик М. в настоящее время находится в С. с целью заключения договора об экранизации своего последнего романа и что этот г-н М. заявил: следующее произведение он посвятит не менее важной и жгучей проблеме, но до истечения двух лет вряд ли сумеет завершить эту большую работу. Как, видимо, добросовестность, отлаженно и прилежно работает каждый день мой коллега, чтобы делать подобные предсказания! Но зачем он их делает? Разве не может случиться, что во время этой работы захватит его другая важная и жгучая проблема и вынудит перейти к другой работе? Разве не может сломаться его пишущая машинка или разве никогда не болеет его секретарша? И чего тогда стоит его заявление? Как он будет смотреть людям в глаза, если через два года придется сказать, что, мол, не сумел? А вдруг экранизация романа принесет ему столько денег, что он сможет вести жизнь богатого человека? Тогда не будут написаны ни следующий роман и никакое другое произведение, разве что секретарша сама не продолжит дела его фирмы.
Из другой газетной заметки я узнаю, что цеппелин под командой д-ра Эккенера собирается лететь из Америки обратно в Европу. Значит, он перелетел в Америку. Великолепное достижение! Это известие меня обрадовало. Сколько лет я думать не думал о д-ре Эккенере, в чьем цеппелине 18 лет назад я совершил свой первый полет через Боденское озеро и Арльберг. Я помню сильного, немногословного человека с волевым, внушающим чувство надежности лицом капитана; тогда я хорошо приметил это лицо и имя, хотя перекинулся с их владельцем лишь несколькими словами. Значит, несмотря на такое количество лет и событий, этот человек все так же при деле, продолжает его и вот теперь долетел до Америки, и ни война, ни инфляция, ни превратности личной судьбы не помешали ему нести свою службу, настоять на своем. Я отчетливо вижу его, помню, как тогда, в 1910 году, сказав мне несколько дружеских слов (он счел меня, вероятно, за корреспондента), он поднялся в свою командирскую гондолу. Во время войны он не стал генералом, а во время инфляции — банкиром; он оставался конструктором и капитаном, верным своему делу. Среди многочисленных и обескураживающих новостей, которые устремились в меня из обеих газет, то была первая успокоительная новость.
Но хватит об этом. За чтением газет провел я все время до вечера. Батареи все еще ледяные, и я, пожалуй, попытаюсь немного поспать.
(1929)
ЗАМЕТКИ НА ТЕМУ «ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА»
О хороших и плохих критиках
Всегда отрадное и редкое явление — одаренный, рожденный для своей профессии человек: прирожденный садовник, прирожденный врач, прирожденный педагог. Еще более редкий случай — прирожденный писатель. Каким бы недостойным своего дарования он ни казался, как бы ни довольствовался своим талантом, как бы мало ни было у него при этом верности, смелости, терпения и прилежания, делающих талант дееспособным, он все же неизменно будет очаровывать, будет любимцем природы, одаренным тем, чего не может заменить никакое прилежание, никакая преданность работе, никакая доброта.
Еще более редок, чем прирожденный писатель, прирожденный критик: а именно человек, у которого импульс к критическому творчеству исходит не из прилежания и учености, не из стараний и усилий, не из приверженности чему-либо, не из тщеславия или зловредности, а из благословенности, врожденной остроты ума, врожденной силы аналитического мышления, из чувства серьезной ответственности за культуру. И какими бы личными качествами этот благословенный критик тогда ни обладал, каким бы добрым или злым и, скажем, тщеславным или скромным, пробивным или ленивым он ни был, берег бы он свой гений или хищнически эксплуатировал его, у него будет неизменное преимущество творческой благословенности перед только прилежными или только учеными. Видно, что в истории литературы, особенно немецкой, прирожденные писатели встречаются чаще, чем прирожденные критики. Только в период между молодым Гёте и, скажем, Мёрике или Готфридом Келлером можно назвать дюжину настоящих писателей. И куда труднее заполнить весомыми именами промежуток между Лессингом и Гумбольдтом.
Если писатель, рассуждая трезво, как исключение и редкость кажется своему народу ненужным, то вследствие развития печати критик стал институцией постоянной, профессией, необходимым фактором общественной жизни. Если потребности в писательской продукции, потребности в литературе может быть или не быть, то потребность в критике кажется непреложно обязательной; общество нуждается в органе, который специализирован на интеллектуальном обуздании феноменов эпохи. Смешно говорить о писательских должностях или писательских конторах, но мы привыкли к тому, что имеются сотни постоянных ставок для критиков в прессе, и считаем их нужными. Возразить против этого особенно нечего, но, так как настоящий, прирожденный критик — редкость, так как критическая техника способна к самоусовершенствованию, ремесло — к росту квалификации, и размножение подлинных дарований невозможно, мы видим, что сотни людей в должности критиков всю свою жизнь занимаются делом, чью технику они хотя и усвоили, но чей внутренний смысл остается для них невдомек; точно так же мы видим и сотни врачей или коммерсантов, формально упражняющих усвоенную из нужды профессию и не имеющих к ней призвания.
Не знаю, является ли такое положение ущербом для нации, но для народа со столь скромными литературными притязаниями, как, например, для немецкого (в котором на десять тысяч человек не приходится пока ни одного действительно владеющего родным устным и письменным языком и в котором с равным успехом можно стать и министром, и университетским профессором, не зная немецкого), видимо, безразлично, что наряду с критиками-ремесленниками есть также ремесленники-врачи и ремесленники-учителя.
Для писателя же невольная зависимость от ущербного критического аппарата — беда превеликая. Заблуждение считать, что писатель боится критики, что подлинной, придирчивой критике он из художнического тщеславия предпочитает глупую лесть. Напротив: писатель ищет не только любви, которую ищет всякое существо, он неустанно ищет также и понимания и личного отождествления, и известная насмешка среднего критика над писателем, что тот, мол, не выносит критики, зачата от мутного источника. Всякий настоящий писатель рад всякому настоящему критику — но не потому, что для своего искусства он мог бы многому у него научиться, сделать он это не в состоянии, а потому, что критика для него — источник весьма необходимых знаний и корректировка ради того, чтобы себя и свой труд видеть по-деловому включенными в баланс своей нации и культуры, в обмен на свои способности и достижения, а не остаться непонятым (неважно, из-за пере- или недооценки) и подвешенным в парализующей атмосфере нереальности.
Неспособные критики (из неуверенности агрессивные, ибо постоянно вынуждены судить о ценностях, ядро которых они не постигают, а лишь ощупывают снаружи схематическими приемами) рады упрекнуть писателей в тщеславии и сверхчувствительности к критике и даже во враждебном настрое к интеллекту вообще, да так, что неискушенный читатель вообще теряет способность отличать настоящего писателя от заросшего шерстью кретина-писаки, кропающего бульварную халтуру. Я лично предпринял несколько попыток (естественно, не в моих собственных интересах, а в пользу авторов, казавшихся мне оттесненными) не столько повлиять на ценностные суждения второразрядных критиков, сколько деловой информацией побудить их высказаться вообще, и ни разу не увидел действительной готовности, делового подхода и вообще ничего, напоминающего заинтересованность в работе. Ответ этих профессионалов всегда выражался в гримасе, которая означала: «Оставь нас в покое! Не принимай все так чертовски близко к сердцу! Не видишь, что ли, работы у нас выше головы, и эту проклятую лямку мы тянем изо дня в день; где бы мы сейчас были, если бы каждую статью писали с микроскопом в руках!» Словом, второ- и третьеразрядные профессиональные критики относятся к своему делу так же бездарно и безответственно, как и средний фабричный пролетарий к своей работе. Эти критики усвоили кое-какие методы, которые были в ходу во времена их юности и учебы, и пользуются приемом или мягкого, улыбчивого скепсиса, или прославления всего и вся в диких суперлативах, или другими способами пытаются избежать выполнения поставленной перед ними задачи. Или что бывает чаще всего — они вообще пускают по боку критику собственно произведения и тащат на свет только происхождение, мировоззрение или тенденцию автора. Если же автор принадлежит к оппозиционной партии, то его отметают либо громя, либо высмеивая. Если же он принадлежит к той же партии, его хвалят или по меньшей мере щадят. А если он вообще беспартиен, то его попросту не замечают, потому что за ним никто не стоит.
Следствием такого положения становится не только разочарование писателя, но и полнейшая искривленность зеркала, в котором народу лишь кажется, что он, народ, видит состояние и движение своей духовной и художественной жизни. И в самом деле, между образом духовной жизни, создаваемым прессой, и самой этой жизнью мы видим огромную разницу. Мы видим — и часто на протяжении многих лет, — что считаются важными и подробно обсуждаются имена и произведения, которые нисколько не влияют ни на один из слоев населения, и видим, как совершенно замалчиваются авторы и произведения, оказывающие сильное воздействие на жизнь и настроения нынешнего дня. Ни в одной из областей техники или экономики ни один народ не допустил бы такого произвола и некомпетентности в подаче информации. Раздел спортивных или коммерческих новостей какой-нибудь средней газеты работает куда более по-деловому и куда более добросовестно, чем раздел литературный; притом, что мы отдаем должное встречающимся порою прекрасным исключениям.
Какие бы изъяны и огрехи ни были у настоящего критика — критика по призванию, его суждение неизменно будет более метким, чем у его добропорядочного, добросовестного коллеги без творческой жилки. У настоящего критика развито прежде всего безошибочное чутье к подлинности и неповторимости языка, в то время как средний критик запросто путает оригинал с подражанием, да так, что порою садится в лужу. Подлинный критик узнается по двум важным признакам. Во-первых, он хорошо и живо пишет и, будучи со своим языком на «ты», никогда им не злоупотребляет. Во-вторых, у него есть потребность и устремление, не подавляя своей субъективности и индивидуальности, придать им такую четкую форму, что субъективностью этой читатель сможет пользоваться как эталоном, то есть, не разделяя субъективных мнений и пристрастий критика, только по реакции его будет легко определять объективную ценность вещи. Или проще: хороший критик — личность настолько характерная и настолько четко себя выражает, что читатель всегда безошибочно знает или чувствует, с кем имеет он дело, через какую призму преломился свет, воспринятый его глазом. Поэтому по типу реакции гениального критика, который всю жизнь отвергает, высмеивает или атакует гениального писателя, можно получить правильное представление о сути этого писателя.
И напротив, главный порок слабого критика — малоразвитая индивидуальность или неумение свою индивидуальность выразить. Останутся втуне даже самая энергичная похвала или порицание, если исходят они от кого-то, у кого нет своего лица, кто не умеет о себе заявить, кто ноль и как человек. Именно неспособные критики склонны зачастую разыгрывать объективность, делать вид, что эстетика — наука точная; не доверяя собственному чутью, они маскируются под обдуманность («хотя» — «но») и непредвзятость. А непредвзятость у критика почти всегда подозрительна и свидетельствует о недостатке страстности в духовном переживании. Свою страстность, если таковая имеется, критик должен не скрывать, а, напротив показывать. Он не должен выдавать себя за измерительный прибор или министерство культуры, а оставаться тем, что он есть как личность.
Отношения между дюжинными авторами и дюжинными критиками — это, как правило, отношения взаимного недоверия. Критик, не считая автора значительным, все же боится: а вдруг этот тип гениален. Автор чувствует, что критик его не понял, чувствует, что остались незамеченными не только его преимущества, но и недостатки, и, радуясь, что по крайней мере не столкнулся с беспощадным знатоком, надеется для собственной выгоды все-таки подружиться с критиком. Такие убогие меркантильные отношения господствуют между посредственными немецкими писателями и посредственными немецкими критиками, и в этом смысле социалистическая пресса у нас ничем не отличается от буржуазной.
Однако для настоящего писателя нет ничего более противного, чем быть запанибрата с посредственным критиком, с бездарной литературной машиной. Он стремится скорее провоцировать критика и предпочитает быть оплеванным и разорванным на куски, чем оказаться в положении, когда его благосклонно похлопывают по плечу. Но настоящего критика, выступающего в открытую против, настоящий писатель неизменно встречает с чувством коллегиальности. Удостовериться, что ты досконально понят и продиагностирован могучим критиком, — все равно что попасть на обследование к хорошему врачу. Это не сравнить с необходимостью слушать болтовню шарлатанов! Порою, бывает, и испугаешься, бывает, почувствуешь и обиду, но зато ты при этом уверен, что принят всерьез, пусть даже диагноз — смертный приговор для тебя. А в смертные приговоры люди, впрочем, в душе не очень-то верят.
Разговор между писателем и критиком
Писатель: Я остаюсь при собственном мнении: критика в Германии когда-то была талантливей, чем сейчас.
Критик: Ну хорошо, а примеры, примеры!
Писатель: Извольте. Взять хотя бы статью Зольгера об «Избирательном сродстве» и рецензию Вильгельма Гримма на «Бертольда» Арнима. Вот прекрасные примеры творческой критики. Сейчас редко встречается дух, которым они пронизаны.
Критик: Что же это за дух?
Писатель: Дух благоговения. Скажите честно: возможна ли, по-вашему, сегодня критика уровня Зольгера и Гримма?
Критик: Не знаю. Времена изменились. У меня к вам контрвопрос: возможны ли, по-вашему, сегодня сочинения уровня «Избирательного сродства» или Арнима?
Писатель: Ах вот оно что: вы, значит, думаете, что какова литература, такова и критика! Вы думаете, что, если бы у нас была настоящая литература, у нас была бы и настоящая критика. Расхожее мнение.
Критик: Да, именно так я и считаю.
Писатель: Позвольте спросить, читали ли вы эти статьи Зольгера и Гримма?
Критик: Честно говоря, нет.
Писатель: Но «Избирательное сродство» и «Бертольда» вы знаете?
Критик: «Избирательное сродство», конечно, знаю. А «Бертольда» нет.
Писатель: Но вы все же думаете, что «Бертольд» выше нашей современной литературы?
Критик: Да, я так думаю из уважения к Арниму, а еще больше из уважения к поэтической силе, какая имелась тогда у немецкого духа.
Писатель: Но почему же тогда не читаете вы Арнима и всех прочих настоящих писателей той эпохи? Почему вы всю жизнь занимаетесь литературой, которую сами считаете малоценной? Почему не говорите читателям: «Вот настоящая литература, бросьте современную ерунду и читайте Гёте, Арнима, Новалиса!»
Критик: У меня другие задачи. Я этого не делаю, вероятно, по тем же причинам, по которым вы не пишете похожего на «Избирательное сродство».
Писатель: Вы мне нравитесь. Но чем объясняете вы, что Германия тогда породила таких писателей? Ведь их сочинения были предложением без спроса, их не требовал ни один человек. Ни «Избирательное сродство», ни «Бертольд» не читались своими современниками, как не особенно читаются они и сейчас.
Критик: До литературы народу тогда не было дела, как, впрочем, нет ему дела до нее и сегодня. Таков уж наш народ. Наверно, и другие народы такие. В эпоху Гёте было много приятных развлекательных книг, вот их и читали. Ныне обстоит точно так же. Развлекательные книги читаются, рецензируются, но не воспринимаются особенно всерьез ни читателями, ни критиками. Но они удовлетворяют спрос. Бульварных писателей читают и оплачивают так же, как и их критиков, читают и вскоре быстро забывают.
Писатель: А как же настоящая литература?
Критик: Считается, что она написана для вечности. Время не чувствует себя обязанным ее замечать.
Писатель: Вам надо было бы стать политическим обозревателем.
Критик: Правильно, я и хотел им стать, охотнее всего я бы занялся внешней политикой. Но, когда я поступал на работу в редакцию, не было ни одной вакансии в разделе политики и мне смогли предложить только литературу.
Так называемый выбор материала
Выражение «выбор материала» у многих критиков не только в ходу, они без него просто не могут работать. Посредственный критик, будучи журналистом, ежедневно сталкивается с уймой навязанного ему материала, который он обязан одолеть. Он завидует, если не чему-то еще, мнимой свободе писательского творчества. Ведь газетный критик имеет к тому же дело почти сплошь с бульварной литературой, с имитированной словесностью, ибо ловкий романист и в самом деле может выбирать себе материал с известным произволом и из чисто рациональных мотивов, хотя и здесь свобода сильно ограничена. Но место действия бульварный виртуоз выбирает действительно свободно; следуя каждый раз за модой, события своего очередного романа он переносит то на Южный полюс, то в Египет, то в политические, то в спортивные круги, он обсуждает в своей книге злободневные проблемы общества, нравственности, права. Но даже самый продувной имитатор от литературы подмешивает к внешней злободневности, конечно, и немного жизни в меру своих интимных, закономерно сложившихся представлений, а следовательно, остается пристрастен к определенным характерам, ситуациям и равнодушен ко всем другим. Даже в самой «халтурной» литературе обнаружится душа — душа автора, и самый плохой писатель, не умеющий четко обрисовать ни одного персонажа, охарактеризовать ни единой человеческой ситуации, всегда будет удачно схватывать то, о чем вовсе не думает, а именно — разоблачать в своей поделке собственное Я.
В настоящей же литературе выбор материала не существует вовсе. «Материал», то есть главные персонажи и центральные темы произведения, писатель никогда не выбирает, ибо они — субстанция литературы, они — видение и душевное переживание писателя. Писатель может отстраниться от видения, может бежать от жизненно важной проблемы и подлинно пережитый «материал» бросить из-за собственной бездарности и лени. Но «выбирать» свой материал он никогда не сможет. Содержание, которое по рациональным и художественным соображениям он считает подходящим и желательным, он никогда не сможет представить так, будто оно и вправду снизошло к нему как милость, будто оно и вправду не выдумано, а пережито душою. Конечно, и настоящие писатели зачастую пытались выбирать себе материал, распоряжаться поэтическим началом. Результаты таких попыток всегда весьма интересны и поучительны для коллег, но как литература — это мертворожденные произведения:
Короче говоря, спросить автора подлинного произведения: «А не лучше ли было бы избрать другой материал?» — равнозначно упреку врача к пациенту с воспалением легких: «Ах, почему не предпочли вы насморк!»
Так называемое бегство в искусство
Говорят, что художник не должен спасаться от жизни бегством в искусство.
Но как сие понимать? Почему художник не должен этого делать?
Разве для художника искусство не попытка заменить никудышную жизнь на нечто иное, не осуществление в картинах несбыточных желаний, не исполнение в литературе неисполнимых требований, короче — разве искусство не сублимация[66] в духовное того, что не поддается освоению в действительности?
И почему это глупое требование всегда предъявляется только художникам? Почему от политиков, врачей, боксеров, пловцов-рекордсменов не требуют сделать любезность и, прежде чем спасаться бегством в свои задачи и сносное исполнение своих служебных или спортивных обязанностей, навести примерный порядок в собственной частной жизни?
То, что «жизнь», должно быть, безусловно трудней, чем искусство, критикам-недоросткам кажется аксиомой.
А взгляните на расплодившихся сверх меры художников, которые с завидным успехом бегут из искусства в жизнь: создают столь убогие картины и столь убогие книги, оставаясь при этом обаятельнейшими людьми, милейшими хозяевами, добрейшими семьянинами, благороднейшими патриотами!
Нет, раз человек считает себя художником, то пусть он борется и выводит своего героя в области собственных профессиональных задач. Вероятно, немало правды (но, скорее, полуправды) в предположении, что писатель всякий подъем своего творчества оплачивает жертвами в личной жизни. Только так создаются произведения. Глупо и несостоятельно мнение, что искусство рождается из избытка, из счастья, из довольства и гармонии. Почему же именно искусство должно быть исключением, когда все прочее человеку дается только через страдание и только под жестким давлением обстоятельств?
Так называемое бегство в прошлое
Другое «бегство», впавшее в немилость у нынешней расхожей критики, это так называемое бегство в прошлое. Как только писатель создает нечто, слишком далеко отстоящее от сообщений на злобу дня или о спортивной жизни, как только от проблем текущего момента он переходит к проблемам человечества, обращается к какому-либо периоду в истории или к надисторической поэтической безвременности, против него тут же выдвигается обвинение, что он, мол, «бежит» из своего времени. Так Гёте «сбежал» к Гёцу и к Ифигении, вместо того чтобы информировать нас о проблемах во франкфуртских или веймарских бюргерских семьях.
Психология полуобразованных
Атавизмы, выраженные ярче всего, более, чем прочие, стремятся, как известно, облачиться в одежды современности и прогресса. Так в литературной критике нашего времени наиболее враждебное духу и наиболее варварское течение рядится в панцирь психоанализа.
Разве нужно мне раскланиваться перед Фрейдом и его достижениями? Разве нужно вручать гению Фрейда право рассматривать всех других гениев мира средствами его метода? Разве нужно напоминать о том, что, когда учение Фрейда было еще более спорным, я помогал его защищать? И разве должен я просить читателя не рассматривать как нападки на гениального Фрейда, на его психологические и психотерапевтические достижения мое осуждение смехотворных злоупотреблений фрейдовскими основными понятиями у бездарных критиков и филологов-дезертиров?
С ростом и формированием фрейдовской школы, добивающейся, как и прежде, значительных успехов как в исследовании психики, так и в лечении неврозов и на протяжении лет завоевавшей почти повсюду заслуженное признание, — с распространением этого учения в массах и растущим проникновением его методов и терминологии и в другие духовные области возник исключительно скверный и даже отвратительный побочный продукт: псевдофрейдовская психология полуобразованных и некая разновидность дилетантской литературной критики, исследующей литературные произведения методами, которые Фрейд применяет к исследованию сновидений и других бессознательных психических содержаний.
В результате этих «исследований» ни медицински, ни гуманитарно не образованным литераторам удалось объявить душевнобольным не только самого поэта Ленау, что, впрочем, давно уже не является открытием, но, опираясь на сновидения и фантазии душевнобольных, вообще привести к единому знаменателю высшие достижения его и других поэтов. С помощью опусов какого-нибудь душевнобольного эти полуобразованные исследуют комплексы и любимые образы поэта, чтобы отнести его к тому или иному классу невротиков; интерпретируют какой-нибудь шедевр, выводя его из тех же причин, что и боязнь пространства г-на Мюллера и невротические желудочные недомогания г-жи Майер. Систематически и с определенной мстительностью (мстительностью бездарей по отношению к гению) они отвлекают внимание от достоинств литературных произведений, низводя их до симптомов психических состояний; впадают при истолковании произведений в грубейшую ошибку рационализации и морализации биографий, в результате оставляя после себя руины с разбросанными среди них в крови и грязи внутренними содержаниями великих литературных произведений, что, видимо, делается только из одного побуждения — показать, будто Гёте и Гёльдерлин были всего лишь людьми, равно как «Фауст» или «Генрих фон Офтердинген» — всего лишь ловко стилизованные личины самых обыкновенных душ с самыми обыкновенными инстинктами.
Замалчивается все, что составляет величие этих произведений; индивидуальнейшие формы, созданные людьми, вновь обращаются в безликую материю. Замалчивается все же необъяснимо примечательный феномен: то же содержание, которое у психопата Майера вызывает невротические брюшные боли, у некоторых других людей претворяется в высокие художественные произведения. Во всем усматриваются не выдающиеся явления, не формы, не неповторимости, не ценности, не уникальности, а только безликости, только праматерия. Но нам не нужны столь кропотливые и многочисленные штудии ради знания того, что соматические ощущения у писателей примерно такие же, как и у всех прочих людей. А о том, что нам бы так хотелось знать, что у отдельных творческих людей рядовое переживание становится всемирной драмой, а повседневность сияющим чудом, — об этом диве-дивном не говорят, от интереса к нему отвлекают. Это, помимо прочего, прегрешение и по отношению к Фрейду, чья гениальность и тонкость в деталях для многих его падких на упрощенчество эпигонов стали в наше время сучком в глазу. Понятие сублимации, сформулированное самим Фрейдом, эти недоучки, которых случайно занесло в литературу, давно забыли.
Что же касается определенной ценности психоанализа для биографии и психологии писателя (из чего можно было бы кое-что почерпнуть, но не для понимания художественного произведения, а для биографии и психологии как вспомогательных дисциплин), то она весьма мала и весьма сомнительна. Тот, кто хоть раз испытал психоанализ собственной жизни или провел его на других людях, или сопережил его как при сем присутствующее доверенное лицо, знает, какой уймы времени, терпения и труда он требует и с какой хитростью и упорством стремятся ускользнуть от психоаналитика искомые первопричины, источники вытеснений. Такому человеку известно, что для проникновения в эти возбудители нужно терпеливое слежение за неподконтрольными проявлениями психики, бережный догляд за сновидениями, огрехами в поступках и тому подобными вещами. Если бы пациент сказал своему аналитику: «На все эти сеансы у меня нет ни времени, ни желания, но вот вам пакет, содержащий мои сновидения, желания и фантазии, которые я сумел записать по возможности в связной форме; возьмите этот материал и извлеките из него, пожалуйста, то, что вам нужно знать», — то как бы высмеял врач такого наивного пациента! Если невротик — живописец или писатель, то врач посмотрит и картины, и литературные сочинения, стремясь как-то использовать и их гоже, но попытка выявить по таким документам бессознательную психическую жизнь и давние душевные события любому аналитику покажется в высшей степени наивной и по-дилетантски самонадеянной.
А эти полуобразованные толкователи литературы только тем и занимаются, что необразованных читателей вводят в заблуждение относительно возможности анализа по произведениям писателей. Пациента нет в живых, проверки можно не бояться, вот они и несут отсебятину. Вышел бы забавный результат, если какой-нибудь оборотистый литератор подверг бы анализу сами эти псевдоаналитические истолкования писателей: он бы выявил простейшие инстинкты, питающие пыл псевдопсихологов.
Я не думаю, что сам Фрейд хоть как-то всерьез воспринимает эту писанину своих лжеучеников. Я не думаю, что серьезные врачи или ученые, последователи психоаналитической школы, читают эти статьи и брошюры. Во всяком случае, назрела нужда, чтобы лидеры публично отмежевались от дилетантской профанации. Ведь не то плохо, что эти лжеглубокомысленные разоблачения гениев прошлого, эти лжеостроумные толкования художественных произведений выходят в виде брошюр и книг, и не то, что появился новый литературный жанр, имеющий, правда, мало читателей, но зато дающий возможность честолюбивым авторам пожинать на нем лавры. Неприятно то, что из этого дилетантского анализа расхожая критика научилась новому способу упрощать и облегчать свою задачу имитацией некоей научности. Как только в творчестве несимпатичного ей автора она обнаруживает следы комплексов и невротических коллизий, то тут же всему миру объявляет его психопатом. Конечно, это станет когда-нибудь утомительным. Придет время, когда слово «патологический» утратит свое нынешнее значение. Придет время, когда будет открыта относительность и болезни и здоровья, когда станет очевидным, что принимаемое ныне за болезнь, завтра может оказаться здоровьем и что отсутствие болезней не всегда самый верный признак здоровья. Когда-нибудь откроют и ту простую истину, что для человека, одаренного высоким духом и тонкими, деликатными чувствами, человека, чрезвычайно талантливого и обладающего более дифференцированными представлениями о ценностях, может быть невыносимо и даже ужасно жить при нынешних конвенциях о добре и зле, прекрасном и отвратительном. Тогда Гёльдерлина и Ницше переведут из психопатов снова в гении и обнаружат, что, ничего не достигнув и ничего не развив, мы вновь оказались там же, где были до появления психоанализа, и что для развития гуманитарных наук следует, не выходя за их пределы, пользоваться их собственными средствами и системами.
(1930)
МАГИЯ КНИГИ
Из многочисленных миров, не полученных человеком в дар от природы, а произведенных им самим из собственного духа, мир книг наибольший. Каждый ребенок, выводя на школьной доске первые буквы и делая первые попытки читать, вступает в рукотворный и столь сложный мир, что для полного познания его законов и правил обращения с ним не хватит ни одной человеческой жизни. Без слова, без письменности и без книг нет истории, нет понятия человечества. И пожелай кто-нибудь попытаться в небольшом пространстве, в одном-единственном доме или в одной-единственной комнате, разместить и изучить историю человеческого духа, он сможет это сделать лишь в форме библиотеки. Мы, правда, убедились, что заниматься историей и исторически мыслить небезопасно, и в последние десятилетия наше мироощущение не на шутку бунтовало против истории, но благодаря именно этому мы усвоили, что отказ от захватов и присоединений все новых духовных наследственных масс отнюдь не возвращает невинность нашему бытию и мышлению.
У всех народов слово и письмо есть нечто священное и магическое; именование и написание — действа изначально магические, они — магическое овладевание природой посредством духа, и письмо повсюду превозносилось как дар божественного происхождения. Умение писать и читать у большинства народов считалось священными тайными искусствами, заниматься которыми имели право только жрецы; и великим, чрезвычайным делом было решение какого-нибудь юнца изучить эти могучие искусства, нелегкие, не всем дозволенные и достававшиеся самоотречением и жертвами. С точки зрения наших демократических цивилизаций духовность была в те времена чем-то более редким, но и более благородным, более священным, чем ныне, она пользовалась божественным покровительством и давалась не всякому, к ней вели многотрудные пути, и за нее приходилось расплачиваться. Мы можем себе лишь смутно представить, что значило в культурах иерархическо-аристократического строя владеть секретом письма среди неграмотного народа! Это значило избранничество и власть, белую и черную магию, это было талисманом и волшебной палочкой.
Но совершенно иным это стало лишь с виду. Кажется, что сегодня мир письма и духовности открыт перед всяким, и более того — желающего увильнуть вталкивают в него насильно. Кажется, что умение читать и писать значит ныне не многим больше, чем умение дышать или в лучшем случае ездить верхом. Кажется, что письмо и книга лишились сегодня всякого отличительного достоинства, всякого волшебства, всякой магии. В религии, правда, еще существует понятие «священной», явленной Откровением Книги; но так как единственная еще действительно могущественная церковь не придает особого значения тому, что Библия распространилась как чтение светское, то и священных книг уже не осталось нигде, если не считать немногих набожных евреев и адептов некоторых протестантских сект. Правда, кое-где при отправлении служебной присяги еще действует предписание, по которому клянущийся возлагает на Библию руку, но это жест лишь хладный прах того, что полнилось некогда огненной силой и, как и сама формула присяги, для среднего человека наших дней не содержит никакой магической связи. Книги перестали быть таинством, они доступны каждому — так кажется. С демократическо-либеральной точки зрения это — прогресс и само собой разумеется, но с других точек зрения это также обесценивание и вульгаризация духовности.
Но не дадим лишить себя приятного чувства достигнутого прогресса и порадуемся тому, что чтение и письмо уже не привилегия какой-нибудь гильдии или касты, что с момента изобретения печати книга стала всеобщим, распространенным в огромных количествах предметом потребления и роскоши, что большие тиражи понижают цены на книги и что всякий народ свои лучшие книги (так называемых классиков) может сделать доступными даже для очень необеспеченных людей. Давайте также и не скорбеть чрезмерно о том, что из понятия «книга» выхолощено почти все его былое величие, что в последнее время благодаря кино и радиовещанию ценность и притягательность книги упала, кажется, даже в глазах толпы. Но все же нам вовсе не следует опасаться будущего искоренения книги, напротив: чем больше со временем будут удовлетворены определенные потребности масс в развлечении и образовании с помощью других изобретений, тем больше достоинства и авторитета вернет себе книга. Ибо и до инфантильнейших, опьяненных прогрессом людей вскоре дойдет, что функции письма и книги непреходящи. Станет очевидным, что выражение в слове и передача этого выражения посредством письма не только важнейшие вспомогательные, но и единственные средства вообще, благодаря которым человечество имеет историю и непрерывное сознание самого себя.
Мы еще не совсем достигли момента, когда молодые соперничающие изобретения — радио, кино и другие — способны лишить печатную книгу именно тех ее функций, которых не жаль. К чему, в самом деле, возражать, например, против распространения в литературном отношении неценного, но изобилующего острыми моментами, образами, интересными местами и щекочущего чувства развлекательного романа в виде последовательности кадров, как в кино, или посредством радио, или будущей комбинацией того и другого, чтобы не вынуждать тысячи людей тратить на такие книги уйму времени и силу зрения. Но разделение труда, которое внешне еще не заметно, давно уже частично происходит в тайных пределах мастерских. Уже сегодня мы нередко слышим, что тот или иной «писатель» от литературы или театра обратился к кино. Необходимое и желательное разделение здесь уже произошло. Ибо утверждение, что «сочинять» и делать фильмы — одно и то же или имеют много общего, ошибочно. Я бы совсем не хотел превозносить здесь «писателя», и ничто мне так не чуждо, как в сравнении с ним рассматривать создателя фильмов как человека ущербного. Но человек, устремленный к тому, чтобы описание или рассказ передать средствами слова и письма, делает нечто совершенно и принципиально иное, чем человек, который ту же историю берется поведать с помощью определенным образом расставленных и снятых на пленку человеческих групп. Словесный сочинитель может быть жалким халтурщиком, а киношник гением, дело не в этом. Но то, о чем публика еще не догадывается и что она, возможно, узнает очень нескоро, в кругу сочинителей уже начало определяться: коренное различие в средствах, которыми достигается та или иная художественная цель. Конечно, и после разделения средств будут выходить убогие романы и халтурные фильмы, создаваемые дикорастущими талантами, пиратами в областях, где им не хватает компетенции. Но для прояснения понятий и разгрузки литературы, а также для ее теперешних конкурентов это разделение даст очень много. И тогда литературе кино причинит ущерб не больший, чем тот, который фотография, к примеру, причинила живописи.
Но вернемся к нашей теме! Я уже говорил, что книга лишь «кажется» утратившей ныне свою магическую силу, что лишь «кажется», будто неграмотные стали ныне редкостью. Почему же «кажется»? Разве древняя волшба где-нибудь еще существует, разве в наши времена все еще есть священные книги, сатанинские книги, магические книги? Разве понятие «магия книги» не относится целиком и полностью к прошлому и к сказке?
Да, но дело в том, что законы духа изменяются столь же мало, как и законы природы, и столь же мало поддаются «упразднению». Можно упразднить священства и гильдии астрологов или лишить их привилегий. Знания и литературу, бывшие до сих пор тайным достоянием и сокровищем, можно сделать доступными многим и даже вынудить этих многих хоть как-то овладеть ими. Но все это происходит предельно поверхностно, и в мире духа на самом деле ничего не изменилось с тех пор, как Лютер перевел Библию, а Гутенберг изобрел печатный пресс. Вся магия книги не устранилась, как не устранился и дух таинства в иерархически организованной группе избранных, только эта группа теперь безымянна. Вот уже несколько столетий, как письмо и книга стали у нас достоянием всех классов — подобно тому, как после упразднения сословных предписаний об одежде, стала всеобщим достоянием мода. Только вот право диктовать моду, как и прежде, сохранилось за немногими, и платье, которое носит женщина красивая, хорошо сложенная и с хорошим вкусом, выглядит странным образом иначе, чем точно такое же платье на женщине обыкновенной. Кроме того, с процессом демократизации в области духа произошел очень курьезный и вводящий в заблуждение сдвиг: выскользнув из рук священников и ученых, руководство сместилось куда-то, где оно уже больше не может быть закреплено ни за кем, где оно уже не может быть больше узаконено и возведено к какому-нибудь авторитету. Ибо те носители духовности и письма, которые казались когда-то руководящими, потому что создавали общественное мнение или по меньшей мере выдвигали актуальный лозунг, более не тождественны носителям творческого начала.
Но давайте не углубляться в абстракции. Возьмем любой пример из новейшей истории духа и книг! Представим себе образованного, начитанного немца периода между 1870 и 1880 годами — судью, врача, университетского профессора, например, или частного человека, — который любит книги: что он читал, что знал о творческом гении своего времени и своего народа, в чем выражалось его участие в живой жизни и будущем? Где ныне литература, признанная тогдашней критикой и общественным мнением хорошей, желательной и достойной чтения? От нее почти ничего не осталось. И в то время, когда писал свои книги Достоевский, а Ницше неизвестным или осмеянным одиночкой скитался по разбогатевшей и влюбленной в удовольствия Германии, немецкие читатели, старые и молодые, высоко- и низкопоставленные, читали, например, Шпильхагена и Марлитт или в лучшем случае что-нибудь вроде милых стишков Эмануэля Гайбеля, издававшихся такими тиражами, какие с тех пор вряд ли даже снились лирическим поэтам и по распространенности и популярности превосходили даже знаменитого «Зекингенского трубача».
Примеров наберется множество. Видно, что, хотя духовность, кажется, и демократизовалась и что духовные сокровища времени, кажется, принадлежат всякому современнику, научившемуся читать, все важное свершается на самом деле втайне и безымянно, и, кажется, что где-то во чреве земли скрываются жрецы или заговорщики, направляющие судьбы духа из анонимного подполья, и своих глашатаев, снабженных властью и взрывною силой для многих поколений, шлют в мир под масками и без легитимации, заботясь о том, чтобы общественное мнение, радующееся своей просвещенности, не заметило ничего магического, которое свершается прямо у него под носом.
Но и в более узком и простом кругу мы ежедневно можем видеть, сколь удивительны и сказочны судьбы книг, обладающих то силой полностью околдовывать человека, то способностью делать его незримым. Мы видим, как писатели живут и умирают, известные лишь немногим или неизвестные никому, и как после смерти, нередко десятилетия спустя, их книги, осиянные, внезапно воскресают, будто не существует никакого времени. Мы были очарованными свидетелями того, как единодушно отверженный своим народом и для дюжины умов давно исполнивший свою миссию Ницше несколько десятилетий спустя превратился в любимого автора, тиражей которого все время не хватает, или как стихи Гёльдерлина более сотни лет после их создания внезапно опьянили учащуюся молодежь, или как через тысячелетия в древней сокровищнице китайской мудрости Европа послевоенных лет неожиданно обнаружила Лао-цзы, который, плохо переведенный и мало кем читаемый, оказался модой, как Тарзан или фокстрот, но при этом сильно повлиял на живых, производительных носителей духовности.
И каждый год мы видим тысячи и тысячи детей, идущих в первый класс, рисующих первые буквы, читающих первые слоги, и вновь убеждаемся, что умение читать большинство детей быстро начинают воспринимать как нечто обычное и неценное, в то время, как другие из года в год, от десятилетия к десятилетию все очарованнее и удивленнее прибегают к волшебному ключу, врученному им школой. Хотя возможность научиться читать дается ныне каждому, лишь немногие замечают, как могуществен талисман, который они получили. Ребенок, гордясь недавно приобретенным знанием букв, одолевает стихотворение или притчу, затем первый небольшой рассказ, первую сказку, но непризванные будут вскоре упражнять свои навыки чтения лишь на газетных и коммерческих новостях и лишь немногие останутся навсегда околдованы особой силой буквы и слова (ведь не случайно и то и другое было когда-то чудом и магическим заклинанием!). Из этих немногих и выходят читатели. Детьми открывают они для себя в книге для чтения пару стихов или историй, стихотворение Клаудиуса, например, или рассказ Хебеля или Гауфа и, научившись бегло читать, не отворачиваются от этих вещей, а продвигаются в мире книг все дальше и дальше, обнаруживая шаг за шагом, как велик, разнообразен и отраден этот мир! Поначалу казался он им детским палисадником с грядкой тюльпанов и небольшим озерцом с золотыми рыбками, но постепенно палисадник стал парком, ландшафтом, частью света, всем миром, Эдемом и Берегом Слоновой Кости и все манит и манит новыми чудесами, расцветает все новыми красками. И то, что вчера казалось палисадником, парком или девственным лесом, сегодня-завтра предстанет как храм с тысячью сводов, залов, придворий — как обитель духа всех времен и народов, духа, ждущего неоднократных пробуждений в готовности ощутить вновь и вновь многоголосое разнообразие форм как единство своего проявления. И для каждого настоящего читателя этот необъятный книжный мир выглядит по-своему, каждый ищет и находит в нем и самого себя. Один от детских сказок и книгах об индейцах нащупывает путь к Шекспиру или Данте, другой от первого школьного описания звездного неба идет к Кеплеру или Эйнштейну, третьего детская молитва ведет под священно-прохладные своды Святого Фомы или Бонавентуры, или к торжественной вычурности Талмуда, или навстречу подобным весне притчам упанишад, к трогательной мудрости хасидов или к лапидарным и при этом столь дружески интимным, столь благородным и веселым учениям Древнего Китая. Тысячи путей ведут через дремучий лес к тысяче целей, и ни одна из целей не окончательная, за каждой открываются новые дали.
От мудрости и везения подлинного адепта зависит, заблудится ли он в девственном лесу книжного мира, погибнет или найдет в нем дорогу — претворит свой читательский опыт в опыт личный и пользу для бытия. Те, кому вообще невдомек чары книжного мира, рассуждают, как немузыкальные люди о музыке, и нередко обвиняют чтение как болезненную и опасную страсть, делающую человека недееспособным в жизни. Конечно, они чуть-чуть правы; хотя надо бы прежде определить, что именно понимают они под «жизнью» и мыслима ли жизнь лишь как противоположность духа при том, что немало мыслителей и учителей, от Конфуция до Гёте, были на диво практичными людьми. Книжный мир действительно по-своему опасен, и это известно всякому воспитателю. Но подумать о том, насколько он опаснее, чем жизнь без вселенских книжных просторов, мне до сих пор было все недосуг. Ведь сам я тоже читатель, один из тех, кто с детства очарован книгой, и, живись мне как монаху из Хайстербаха[67], на сотни лет я мог бы затеряться в храмах и лабиринтах, пещерах и океанах книжного мира, не чувствуя сужения его.
При этом я еще не имею в виду, что книг становится в мире все больше и больше! Нет, даже не читая ни одной-единственной новой книги, всякий настоящий читатель непрерывно мог бы познавать сокровища минувших времен, бороться за овладение ими, испытывать радость от них. Каждый новый язык, который мы изучаем, приносит нам новые впечатления, а языков чрезвычайно много, их много больше, чем говорили в школе! Ведь есть не только испанский, или итальянский, или немецкий, или три немецких языка: древневерхненемецкий, средневерхненемецкий и нововерхненемецкий, — нет, имеются сотни немецких; и испанских, и английских столько же, сколько в каждом из этих народов существует образов мыслей, оттенков мироощущения; языков почти столько, сколько есть оригинальных мыслителей и писателей. Современник Гёте, к сожалению, как следует им не распознанный, Жан Поль писал на своем совершенно ином и вместе с тем очень немецком языке. И все эти языки в сущности непереводимы! Попытка высокоразвитых народов (в первую очередь немцев) усвоить всемирную литературу в переводах — явление замечательное, и в ряде случаев она дала великолепные плоды, но все-таки эта попытка не только не совсем удалась, но и неосуществима принципиально. Еще не написаны немецкие гекзаметры, которые действительно бы звучали, как у Гомера. За несколько сотен лет десятки раз и успешно перекладывалась на немецкий великая поэма Данте, а последний и поэтически наиболее одаренный из всех переводчиков Данте[68], осознав нереальность попыток передать средневековый язык современным, чтобы воссоздать это произведение на немецком, изобрел к нашему восхищению совершенно особый язык, поэтизированный на средневековый лад.
Но даже если читатель не овладеет новыми языками и не познакомится с новыми литературами, доселе ему неизвестными, чтение одних и тех же книг он сможет продолжить до бесконечности, обнаруживая не замеченные прежде детали, укрепляя первые впечатления, получая очередные. Одна и та же книга какого-нибудь мыслителя, одно и то же стихотворение какого-нибудь поэта каждую пару лет будут представляться читателю иными, будут восприниматься по-другому, затрагивать ранее молчавшие струны. Прочтенное мною впервые в юности и тогда лишь частично понятое «Избирательное сродство» Гёте было совершенно другой книгой, чем то «Избирательное сродство», которое сейчас читаю я вновь, вероятно, уже в пятый раз! Таинство и величие читательского опыта заключается в том, что чем больше деталей и взаимосвязей мы обнаруживаем, чем тоньше при чтении наши чувства, тем больше видим мы уникальность, индивидуальность и строгую обусловленность каждой мысли, каждого произведения, тем больше уясняем себе, что вся красота и очарование порождены именно этой индивидуальностью и уникальностью, и тем отчетливее, кажется, понимаем, что сотни тысяч голосов различных народов жаждут одного и того же, под разными именами взывают к одним и тем же богам, повествуют об одних и тех же грезах, стенают от одних и тех же бед. Сквозь тясячеслойное кружево бесчисленных языков и книг, сквозь пространство нескольких тысячелетий в моменты озарений проступает перед читателем магически возвышенный и сверхреальный призрак — из тысячи противоречивых черт завороженный в целое лик человека.
(1930)
ОТРЯХИВАНИЕ КНИГ[69]
Последние восемь дней не давало мне передышки чудесное занятие. Накануне переезда, впервые за двенадцать лет, мне вновь пришлось наводить чистоту в своей библиотеке, готовя ее к упаковке. Этой большой, кропотливой работе посвящал я ежедневно от четырех до пяти часов, чтобы по вечерам с разбитой спиной и пустой головой вкушать радость от усталости, вызванной механической работой. Ее можно было выполнить проще и небрежней, но я трудился основательно, очень основательно, ведь эта пара тысяч книг — мое лучшее и любимейшее достояние, не говоря уже о том, что в пору юности, в сказочно счастливые годы конца прошлого века, я привык обращаться с книгами по всем старинным правилам цеха книготорговцев и букинистов, в который тогда входил.
Во время этого многодневного занятия возникали чудесные ситуации. Как-то раз стоял я на своей небольшой обращенной к северо-востоку террасе и, беря с аккуратно разложенных на парапете больших стопок по три-четыре книги, отряхивал их от пыли. При этом мне попались два толстых и тяжелых тома ин-октаво. Нежно похлопывая их друг о друга и глядя на разлетавшуюся пыль, я вдруг очнулся от этого бездумного механического дела, прочитав заглавие на корешках, то был «Закат Европы» Шпенглера. Первое, что я подумал: «Вот бы посмотрели мои сыновья или другие молодые люди, как кропотливо стараюсь я спасти образовательный скарб от запыления и порчи и как нежно очищаю от пыли знаменитую книгу о закате культуры!» И я припомнил, как в девятнадцатом году зашли ко мне в гости несколько английских студентов, приехавших в Лугано на летние курсы, организованные сестрой Ромена Роллана. Среди студентов была красивая девушка по имени Блэйкенай, она заговорила со мной о Шпенглере, о котором тогда я, конечно, уже много слыхал. Я сказал ей, что для меня очень важно прочесть эту книгу, но сейчас я слишком беден, чтобы купить ее. Когда она предложила мне взять на время ее экземпляр (на свои английские фунты в Германии периода инфляции она жила, как королева), я обрадовался и взамен вручил ей первое издание одной из моих книг. Она приняла подарок, и с тех пор ни о ней, ни о Шпенглере не было ни слуху, ни духу; то оказался небольшой инфляционный бизнес с обедневшим писателем, и прошло еще несколько месяцев, прежде чем я сумел купить Шпенглера, чтобы затем, злясь на тщеславный и назидательный тон его предисловия, прийти в восторг от главы о магической культуре. Минули годы, и вот эта книга снова у меня в руках. О, как быстро разваливаются, желтеют и портятся большинство изданий военных и послевоенных времен! И какими удивительно старыми, ветхими, давно прошедшими и забытыми кажутся большинство тех книг сегодня, спустя десяток лет! Они выглядят истлевшими изнутри и снаружи, почти уже отжившими: желтой и ломкой стала никудышная бумага в перекосившихся и отрывающихся картонных переплетах; заглавия и титулы звучат так напряженно и взвинченно, так фанатично и заклинающе. В них отчетливо слышен крик страха и слабости молодых писателей и мыслителей двадцатых годов, чего тогда я не замечал, а если и замечал, то мимоходом; усердно и дотошно читал и изучал я тогда эти книги, которые ныне могли бы вызвать во мне почти что сожаление. «Творческая интеллигенция народа, — думал я, — народа, только что вернувшегося домой после четырехлетней войны, которая завершилась поражением и банкротством, обязана была сказать по сути о многом; это событие должно было необходимо принять хоть какую-то форму и подтолкнуть к его осмыслению». Осмысление в итоге оказалось на редкость убогим, что тогда я только ощущал, но в сущности не понимал. Но в тех книгах с кричащими заголовками и мало содержащих подлинного познания и самоанализа я столкнулся с чем-то иным, что меня заворожило: с возбужденным, пронизанным предчувствием гибели, взбудораженным настроем, серным запахом всемирной катастрофы и Страшного суда. Я читал их с жадностью, с напряженным интересом, как с молодости не читал ничего, ибо, сопережив военные годы до самоуничтоженности, почти до полного разрушения своей внешней и внутренней жизни; но, находясь за границей, самой войны, фронта, окопов и блиндажей я все же не видел и не изведал; и, когда умолкла несносная трескотня военных очеркистов, этих паразитов, выколачивавших построчные гонорары из подвигов и наступлений, когда вернулись с войны лучшие представители народа, вернулись растерянные, потрясенные, сломленные и глубоко озадаченные, именно тогда откуда-то и должен был прозвучать правдивый, реалистический голос, дух подлинной Германии, чтобы помочь нам перемениться, найти где-нибудь братьев или даже наставников, чтобы поставить себя на службу делу, достойному защиты и веры. Но вышло иначе, и, за исключением голоса Ландауэра и совсем иного голоса Шпенглера, ни одно из многочисленных посланий тех времен не дало мне ничего; немецкий дух, казалось, обанкротился так же, как и немецкая политика, и мне не оставалось ничего, кроме одиночества, ожидания и веры в Германию. Удивительно далеким и нереальным смотрит на меня то время с пожелтевших и обветшавших бумаг, из книг, тетрадей и вырезок.
День спустя я наткнулся на другой, еще более забытый, еще более отчужденный и ушедший в прошлое раздел моей библиотеки. То были книги военных лет, книги, которые я сам издавал и редактировал, книги для немецких военнопленных во Франции, обеспечиваемых мною по службе во время войны. Обнаружился «Воскресный вестник для немецких военнопленных», за три года подшитые номера, — раз в две недели тысячами экземпляров я посылал его во Францию, Англию, Россию и Индию. Были тут и малоформатные книги, которые я заказывал для пленных: новеллы Эмиля Штрауса, братьев Манн, Готфрида Келлера, Шторма, мои собственные, — маленькие, простые, но прилично выглядящие книги, напечатанные в подарок военнопленным, чьи просьбы о чтении захлестывали нас тогда в тысячах писем. Эти книжечки стали ныне редкостью, но они есть у меня все до одной и некоторые любы мне и поныне, потому что во время войны я пытался воскресить в них надполитический и наднациональный дух прежней немецкой литературы. Здесь же и диковинные «Известия из немецких лагерей для военнопленных», которые выпускал тогда наш отдел при немецком представительстве в Берне только для внутреннего пользования: странно беспристрастные и в сущности ужасные документы того времени и наших тогдашних усилий хоть как-то, хоть немного вдохнуть в военную машину нечто вроде смысла или, когда это оказалось невозможным, нечто вроде сердечности и любви. Я вновь обнаружил свои статьи военных лет, среди них и те, что, начиная с 1916 года, были подписаны псевдонимом Синклер.
Счастье для моей библиотеки, что этот раздел в ней самый маленький! А самый большой и самый лучший — раздел былой немецкой литературы. Однако совсем неплохо представлена и литература наших дней, единственный раздел, который все еще сильно растет: только этим летом я присовокупил к нему такие восхитительные книги, как посмертное издание Франца Кафки, новый роман Ины Зайдель, удивительную повесть «Буря на Ямайке» Ричарда Хьюза. Меньше, но по-своему тоже довольно полный, другой раздел, который я собирал на протяжении более четверти века и который сильно обогатил меня: это восточная литература. Тут стихи, притчи и речи Древней Индии, мудрецы Китая; некоторые из этих книг, как, например, Люй Бувэй, Конфуций, Чжуан-цзы, всегда у меня под рукой и порою, равно как и «Ицзин», я вопрошаю их, как оракулов.
Теперь эти тысячи книг лежат безмолвно, неразличимо, завернутые в бумагу и сложенные стопками на полках в ожидании того, что их упакуют в ящики и перевезут в другой дом, в другие комнаты. Некоторые из них при распаковке я сразу же отложу и, не ища им места и не ставя их на полку, исключу из библиотеки.
На эту книжную работу я затратил почти целую неделю. Такая библиотека большой балласт, и современные люди считают смешным всю жизнь обременять себя книгами и таскать их за собой. Это те люди, которым не нужны Вергилий и Ариосто, которые десять лет назад покупали «Тарзана» и продолжают покупать подобное чтиво и ныне. Их девиз по отношению к чтению: оно должно быть неглубоким, но приправленным, и — прочти и выбрось из головы! А у нас совсем другой принцип: не допускать в библиотеку никакой дребедени и никогда не расставаться с ценными книгами! И вот настал день, когда состарившийся библиофил, тщательно отряхивая «Закат Европы», говорит себе, что эта книга, при внимательном рассмотрении давно уже сослужившая свою службу и ставшая в сущности ненужной, все же относится к тем книгам, которые формировали лицо своей эпохи и потому нуждаются в известном пиетете, в известном уважении и пощаде…
Хорошо, что молодые люди не видят нас за выбиванием пыли из нашего хлама! И хорошо, что не дано увидеть им и себя, когда однажды волосы их поредеют, станут валкими зубы, и им придется устроить смотр тому, что сопровождало их всю жизнь и чему они сохранили верность.
(1931)
ЗА ЧТЕНИЕМ ОДНОГО РОМАНА
Недавно читал я роман, сочинение одного небесталанного, пользующегося определенной известностью автора, добротное молодежное произведение, которое меня заинтересовало и местами даже доставило мне удовольствие, хотя говорилось в нем сплошь о вещах и людях, в действительности для меня почти безразличных. В нем говорилось о людях, живущих в больших городах и увлеченно занятых насыщением собственной жизни как можно большим числом «впечатлений», удовольствий и острых ощущений, чтобы жизнь эта не стала бессмысленной, ненужной, недостойной познания и рассказа о ней. Таких романов много, и порою беру я один из них, чтобы просветить себя, сельского и уединенно живущего человека, о жизни своих современников, особенно тех, от которых, мне кажется, я оторван большими расстояниями; это совершенно чужие мне люди, и, следовательно, их страсти и мнения приобретают для меня очарование чуда, экзотики и непостижимости. Словом — я интересуюсь жизнью обитателей больших городов и любителей удовольствий. К этим людям я испытываю не только любопытство европейца к слонам и крокодилам, но и обоснованное, законное: ведь и мне осталось небезызвестно, что большие города могут отчасти влиять — да насколько порою сильно и ощутимо! — на жизнь и самочувствие даже такого человека, как я, тихо существующего на своем сельском клочке земли! Ибо именно там, в той сутолоке, в той лихорадочной атмосфере, в той движимой инстинктами и потому непредсказуемой жизни решается: быть войне или миру, как изменится рынок и курс валюты, — но решается не людьми, а модой, биржей, настроениями, «улицей». «Жизнью» обитатели больших городов называют все то, что происходит почти исключительно в названной сфере, и, кроме политики, они понимают под нею также бизнес и общество, а под обществом, в свою очередь, — преимущественно ту область собственной жизни, что посвящена погоне за острыми ощущениями и удовольствиями. Большой город, инородной мне жизнью которого я не живу, определяет, однако, кое-какие вещи, в известной степени важные и для меня. Кроме того, я достаточно осведомлен, что большая часть читателей моих книг это обитатели больших городов, хотя пишу я и способен писать отнюдь не только для них, ведь знаю я их очень издалека и то малое, что вижу из внешней их жизни, воспринимаю ничуть не серьезней, чем собственный кошелек или нынешнюю форму правления, то есть — почти что никак.
Но тем самым я не сужу о ценности ни большого города, ни романов, о нем повествующих. Хотя мне было бы намного приятней и интересней читать произведения о более значительных и более образцовых людях. Но я сам литератор и давно уже знаю, что писатели, «выбирающие» свой материал, — не писатели и не достойны, чтобы их читали, знаю, что материал произведения не подлежит ценностному суждению. Произведение может содержать великолепнейший исторический материал и ничего не стоить, и напротив — может рассказать о ерунде, о потерянной иголке или пригоревшем супе, и при этом быть подлинной литературой.
Так что роман того автора читал я без особого благоговения перед его материалом; благоговеть перед материалом должен сам автор, а не читатель. Читатель же обязан с уважением относиться только к литературе, к тому, что делает писатель, и, не обращая внимания на материал, судить лишь о качестве его обработки. К этому готов я всегда и даже все больше и больше склоняюсь к тому, чтобы добротность профессиональных умений ставить выше идейных и эмоциональных содержаний. Ибо за несколько десятилетий своей жизни и писательского труда я убедился, что имитировать или подделать идеи и чувства можно легко, а добротность профессиональной работы — никогда. Итак, я читал роман с пониманием и коллегиальным уважением, местами не все понимая, очень немногому улыбаясь, многое честно признавая за заслугу. Герой книги молодой литератор, который делит со своими друзьями все удовольствия, что ему очень мешает заниматься профессиональной деятельностью; кроме того, он вынужден тратить время на женщин, чья влюбленность в него — источник его доходов. К большому городу, обществу, журналистским сенсациям автор испытывает немалое отвращение, ибо чувствует, что именно они порождают бессердечность, всяческую эксплуатацию и войну. Но у его героя не хватает характера как-нибудь порвать с этим миром, и он бежит от него лишь по кругу — путешествуя, непрерывно меняя одно удовольствие на другое, одну любовь на другую.
Таков материал. Он влечет за собой необходимость описывать, помимо прочего, рестораны, железнодорожные вагоны, гостиницы, называть суммы, уплаченные по счетам за ужин и тому подобное, и, вероятно, по-своему интересны и эти вещи. Но вот я дошел до места, которое меня озадачило. Герой приезжает в Берлин, останавливается в гостинице, а именно — в комнате под номером одиннадцать. Читая это (как и каждую строчку — заинтересованно и любознательно, потому что автор мой коллега), я думаю: «Зачем ему так точно называть номер комнаты?» Читаю дальше, убежденный, что число одиннадцать вскоре обнаружит какой-то смысл, вероятно, даже ошеломляющий, замечательный, привлекательный. Но разочаровываюсь. Через две или три страницы герой возвращается в свою гостиницу, и вдруг оказывается, что живет он в двенадцатом номере! Листаю назад, я не ошибся, там написано одиннадцать, а здесь двенадцать. И нет в этом ни шутки, ни игры, ни интереса, ни тайны; просто оплошность, недобросовестность, небольшой ремесленный ляп. Один раз автор написал «двенадцать», а другой раз — «одиннадцать»; он, очевидно, не перечитал написанное, как, наверное, не читал и корректуры или читал ее так же равнодушно и небрежно, как писал те цифры: ведь дело не в мелочах, ведь литература, черт побери, не школа, где спрашивают строго за все оговорки и описки, ведь жизнь так коротка, а большой город требует напряжения, и молодому автору в нем некогда работать. Все это так; и, как и прежде, честь и хвала автору за его неприятие безответственных газетных сенсаций, поверхностности и безразличия, которые так характерны для жизни большого города! Но с момента, как я наткнулся на этот разнобой в цифрах, доверие к автору у меня упало, я начал вдруг во всем сомневаться и читать сверхпридирчиво; такие же небрежности, как и с цифрой «двенадцать», я обнаружил и в других местах, открыл их по памяти и в том, что еще позавчера читал я с доверием. И внезапно вся книга стала утрачивать внутреннюю весомость, основательность, подлинность и субстанциальность, а все из-за этой дурацкой цифры «двенадцать». Внезапно у меня возникло чувство, что эта милая книжка написана жителем большого города для жителей большого города, то есть для одного дня, для одного мгновения, что автор относится к ней не очень-то всерьез, а следовательно, и его страдания по поводу бессердечности и поверхностности жизни большого города не серьезнее, чем сочное происшествие для какого-нибудь очеркиста.
Размышляя над этим, я вспомнил о столь же маленьком казусе, случившемся при чтении одной книги уже много лет назад. Молодой автор, уже довольно известный, прислал мне свой роман с просьбой, чтобы я о нем высказался. Помимо прочего, в романе говорилось об очень засушливом лете и жаре: земля изнемогала, крестьяне были в отчаянии, урожай горел на корню, пожухла вся трава. Но через несколько страниц герой или героиня, я уже не помню, тем же самым летом идет по той же земле и наслаждается веселыми цветами, пышно цветущими злаками! Я написал автору, что эта забывчивость и небрежность испортила мне чтение всей книги. А он отказался даже говорить со мною об этом: жизнь слишком коротка, он давно уже был занят другими работами, которые тоже торопили. Он только ответил, что я мелочный педант, что в художественном произведении важны не такие пустяки, а совсем другие вещи. Я пожалел, что высказался, и с тех пор таких писем не писал. Чтобы в художественном произведении, именно в художественном, были неважны правда, достоверность, детальность, тщательность?! Как хорошо, что и поныне есть молодые писатели, которые изображают достоверно и пустяки, тщательно преподнося их с Грациозной легкостью, сродни той, которой искусство акробатики добивается дисциплинированным и добросовестным трудом.
Пусть я буду занудой и старомодным донкихотом художнической морали. Но разве не знаем мы, что девяносто процентов всех книг пишется на скорую руку, без чувства ответственности, что послезавтра вся напечатанная бумага, включая и мои занудства, станет макулатурой? Зачем же тогда так серьезно относиться к мелочам? И зачем тогда автору, пишущему интересные книги-однодневки, причинять несправедливость, читая его так, словно писал он для вечности?
И все-таки я не могу изменить свое мнение. Серьезное отношение к большим вещам и естественно несерьезное к малым — начало всякого упадка. С того, что, высоко почитая человечество, мучат отдельных людей, ему служащих, с того, что, считая священными свое отечество, церковь или партию, при этом плохо, халтурно выполняют будничную работу, и начинается всякая коррупция. Против нее есть единственное спасительное средство: прежде всего в себе самом, а потом и в других, отвлечься от так называемых высоких и святых вещей — от умонастроений, мировоззрений, патриотизма — и со всей серьезностью отнестись к малым и очень малым, к сиюминутным делам. Кто отдает в починку велосипед или плиту, требует от мастера не любви к человечеству, не веры в величие Германии, а добросовестной работы и совершенно справедливо судит о человеке по ней, и только по ней. Почему же работа только потому, что она называется художественным творчеством, не должна быть тщательной и добросовестной? И почему «маленькие» профессиональные огрехи должны мы прощать ради масштабной идеологии? Нет, давайте-ка посмотрим на обратную сторону медали. Ведь что все эти большие размахи, идеологии и программы, как не медали, которые при переворачивании ошеломляют нас порою лишь тем, что оказываются из картона?
(1933)
МИРОВОЙ КРИЗИС И КНИГИ[70]
Ответ на анкету
Конечно, есть много хороших великолепных книг, и я желаю им самого широкого распространения. Но книг, которые были бы способны улучшить ситуацию и повлиять на формирование более отрадных контуров будущего, не существует. Кризис, претерпеваемый нашим миром, боюсь, будет выглядеть вскоре как гибель, даже если она не наступит, и в процессе этого кризиса, помимо многих других замечательных и дорогих нам вещей, сгинут навсегда и бесчисленные книги. То, что вчера еще было святыней, что сегодня еще почетно и непреложно для небольшого круга творческих людей, послезавтра будет полностью сметено и забыто, но — за исключением маленького нерушимого остатка, закваски, которая создаст новые массы и формы. Это вещество не погибнет, пока на земле существуют люди, оно единственное «вечное» в собственности человека.
Это высшее достояние человечества заключено в различных формах и языках; Библия и священные книги Древнего Китая, индийская Веданта и множество прочих книг и собраний являются оболочкой, придавшей форму тому немногому, что в сущности было достигнуто до сих пор. Эта форма не однозначна, и эти книги не вечны, но они содержат духовное наследие нашей истории. Ими порождена вся прочая литература и без них ее бы не существовало: вся возникшая под знаком христианства литература, вплоть до Данте, например — это излучение Нового Завета, и если эта литература сгинет, а Новый Завет останется, то из него могут произойти новые, похожие литературы. Такой силой зачатия обладают лишь несколько «священных» книг человечества, и только они переживают столетия и мировые кризисы. Утешительно при этом, что распространение их отнюдь не существенно. Нужны не столько миллионы и сотни тысяч тех, кто внутренне овладели той или иной священной книгой, сколько немногие, кем овладели эти книги.
(1937)
ЛЮБИМОЕ ЧТЕНИЕ
Бессчетно много раз мне задавали вопрос: «Что больше всего вы любите читать?»
Человеку, любящему всю мировую литературу, ответить на такой вопрос трудно. Я прочел несколько десятков тысяч книг, некоторые не раз, некоторые по многу раз, и принципиально против исключения из моей библиотеки, из круга моих симпатий и интересов каких-то литератур, направлений или авторов. И все-таки вопрос справедливый, и ответить на него в какой-то мере можно. Каким бы благодарным едоком ни был человек, с каким бы удовольствием ни принимал он все, от черного хлеба до спинки косули, от моркови до форели, у него есть все-таки три-четыре любимых блюда. И если, говоря о музыке, человек прежде всего имеет в виду Баха, Генделя и Глюка, то это не означает, что он пренебрегает Шубертом или Стравинским. Так и я, если сосредоточиться, во всякой литературе обнаруживаю области, эпохи и тональности, которые мне ближе и дороже, чем другие. У греков, например, Гомер мне ближе, чем трагики, Геродот ближе, чем Фукидид. Самому себе я должен признаться и в том, что мое отношение к писателям патетического склада не совсем естественное — читая их, я совершаю над собой какое-то насилие; я их в сущности не люблю, и мое глубокое уважение к ним не свободно от принуждения, идет ли речь о Данте или Хеббеле, Шиллере или Стефане Георге.
Область всемирной литературы, которую за свою жизнь посещал я чаще всего и знаю, наверно, лучше остальных, это кажущаяся ныне бесконечно далекой, ставшая чуть ли не преданием Германия столетнего периода между 1750 и 1850 годами, чье средоточие и вершина — Гёте. В эту область, где я застрахован и от разочарований, и от сюрпризов, я неизменно возвращаюсь из походов в самые отдаленные места и времена, возвращаюсь к писателям, эпистоликам и биографам, которые все до одного замечательные гуманисты и однако почти все передают дух родной земли, родного народа. Особенно же, конечно, непосредственно восприятие у меня книг, в которых места, обитатели и язык мне хорошо знакомы и в которых я с детства чувствую себя дома; при чтении их я испытываю ни с чем не сравнимое счастье от понимания тончайших нюансов, сокровеннейших наигрышей, тишайших созвучий; возвращение от них к книгам переводным или таким, чьи язык и музыкальность вообще не органичны, не подлинны и не естественны, всякий раз заставляет меня собраться с духом и испытать небольшое мучение. Счастье доставляет мне прежде всего немецкий язык юго-западной части Германии, алеманский и швабский, достаточно назвать только Мёрике и Хебеля, но ликование охватывает меня и тогда, когда я читаю почти всех немецких и швейцарских писателей благословенных времен — от молодого Гёте до Штифтера, от «Юности Генриха Штиллинга» до Иммермана и Дросте-Хюльсхофф, и в том, что большинство этих великолепных и милых сердцу моему книг имеются ныне лишь в очень немногих библиотеках, публичных или частных, я усматриваю неприятнейшие и отвратительнейшие симптомы нашей ужасной эпохи.
Но чувство родины, родной земли и родного языка — это еще не все, даже в литературе; помимо них есть также и человечество и есть неизменно удивительная и отрадная возможность открывать для себя родину в самых отдаленных и самых чужих областях, полюбить вещи, на первый взгляд самые герметичные и недоступные, сродниться с ними. В первой половине жизни это случилось у меня со свидетельствами сначала индийского, а затем и китайского духа. С Индией все понятно, к ней у меня были ходы и предрасположенность, мои родители жили в Индии, знали ее языки и кое-что вкусили от ее духа. Но то, что существует чудесная китайская литература, китайская разновидность человеческого бытия и человеческого духа, что она станет для меня не только любимой и дорогой, но и многим больше того — духовным прибежищем и второй родиной, до своих тридцати лет я не подозревал. Но потом случилось неожиданное: я, не знавший о литературном Китае ничего, кроме «Шицзин» в переложении Рюккерта, благодаря переводам Рихарда Вильгельма и других узнал такое, без чего не смог уже жить — китайский даосский[71] идеал мудрости и доброты. Поверх двух с половиной тысячелетий мне, не знающему ни слова по-китайски и никогда не бывавшему в Китае, выпало счастье обрести в древнекитайской литературе подтверждение своих предчувствий, иную духовную атмосферу и родину наряду с теми, которыми я обладал в мире, заданном мне рождением и языком. Китайские учителя и мудрецы, о которых поведали великолепные Чжуан-цзы, Ле-цзы и Мэн Кэ, оказались прямой противоположностью патетиков, на диво безыскусными, близкими к народу и повседневному быту; они никому не давали сбить себя с толку и, радуясь жизни в добровольной изоляции и довольстве малым, умели выражать себя так, что вновь и вновь очаровываешься и восторгаешься их словом. Кун Фу-цзы, великого антагониста Лао-цзы, систематика и моралиста, законодателя и хранителя нравственности, единственного из мудрецов древности, в котором есть что-то торжественное, характеризуют, например, порою так: «Разве это не тот человек, который знает, что ничего не выйдет из того, что он делает, и все-таки делает?» Ни в одной литературе я не знаю аналога этой невозмутимости, юмора и простоты. Это изречение, равно как и другие высказывания, я вспоминаю порою, размышляя и о событиях в мире, и по поводу притязаний тех, кто в ближайшие годы и десятилетия собираются сделать мир совершенным и управлять им. Они поступают, как великий Кун-цзы, но за их делами не кроется знание того, «что ничего не выйдет». Не могу не упомянуть и японцев, хотя они занимали и питали меня далеко не так обильно, как китайцы. Но в Японии, которая, подобно Германии, знакома нам теперь как исключительно милитаристская страна, на протяжении многих столетий имелось, как имеется и сейчас, нечто великолепное и вместе с тем смешное, нечто очень одухотворенное и при этом очень решительное, как, например, направленное на сугубо практическую жизнь учение «дзэн»[72], в формировании которого принимали участие буддистская Индия и буддистский Китай, но которое по-настоящему расцвело только в Японии. Я считаю «дзэн» одним из лучших достояний, какими когда-либо обладали народы, это мудрость и практика на уровне Будды и Лао-цзы. И кроме того, я наслаждался чарами японской лирики, хотя и с большими перерывами, прежде всего — ее стремлением к внешней простоте и краткости. От японской поэзии невозможно сразу же перейти к чтению современной немецкой лирики; наши стихи кажутся непомерно раздутыми и жеманными. У японцев есть, к примеру, такое чудесное изобретение, как стихотворная форма из семнадцати слогов, и они всегда знали, что искусство состоит не в облегчении творческой задачи, а наоборот — в ее усложнении. Так один японский поэт написал однажды стихотворение из двух строк, в котором говорится, что в заснеженном лесу расцвели несколько сливовых веток! Это стихотворение автор дал прочесть знатоку, и тот сказал, что «совершенно достаточно одной-единственной сливовой ветки». Поэт понял не только правоту суждения, но и то, как далек он еще от подлинной простоты, и, последовав совету друга, сделал свое стихотворение бессмертным.
Иногда просто смешно наблюдать перепроизводство книг в нашей маленькой стране. Но будь я помоложе и поздоровее, то сегодня не занимался бы ничем, кроме издания и печатания книг. Эту работу по обеспечению непрерывности духовной жизни мы не должны откладывать до той поры, пока воевавшие страны не придут в себя, но не должны рассматривать ее и как краткосрочный конъюнктурный бизнес, в котором не обязательно быть слишком добросовестным. Поспешные и плохие новые издания угрожают всемирной литературе опасностью не меньшей, чем война и ее последствия.
(1945)
БУДНИ ЛИТЕРАТОРА
В жизни того, кто уединился и обосновался вдали от города и общества, известную роль играет почта. Ибо, как бы ты ни любил и ни добивался одиночества и сосредоточения, жизнь не дает себя перехитрить, и люди, чьих визитов и притязаний ты бы избегал, каждое утро заявляются к тебе в образе писем, внося в твой дом, в твою атмосферу — чтобы она не оказалась слишком разряженной — не только частичку будней и трудов, но и частичку жизни и действительности. Однако теперь, в тревожных сумерках исхода войны, какой удивительно маленькой и случайной стала моя корреспонденция! Именно сейчас, когда она так нужна, от нее почти ничего не осталось, именно сейчас, когда так тоскуешь по многим друзьям, так переживаешь за многочисленных близких людей, приток действительности, известий, человеческих страстей, когда-то докучливо бодрый, почти полностью иссяк. Жив ли еще мой вернейший друг и издатель[73], который за свои убеждения и верность ко мне так жестоко пострадал в застенках гестапо, думает ли он о восстановлении моих поредевших и уничтоженных книг, живы ли еще люди, последней весточкой о которых было то, что много месяцев назад вместе со многими тысячами других их угнали из Терезина[74] «без места назначения», или что сталось с моим другом и родственником Ферромонте, органистом, чембалистом и музыковедом, на войне рядовым медико-санитарной службы при огромном лазарете в Польше, — ответа на эти и сотни других тревожных и гнетущих вопросов жду я изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц. Год назад я не смог бы себе и представить, что так откровенно и озабоченно буду ждать писем из Германии, все еще обезображенных погаными гитлеровскими марками и штемпелями цензуры.
Хотя жизнь продолжается, бравая почта все еще не оживилась по-настоящему; и вместо важных и вожделенных писем приходят неважные и нежданные, но порой и у них имеется свое небольшое значение, порой и они наводят на размышления.
Так, например, вчера, помимо прочего, утренняя почта доставила мне три письма, хоть и не важные, но, как ни смотри, все же весточки из реальности, всемирной повседневности, — и они нас чуть позабавили и рассмешили.
На первое письмо, довольно пухлое, я покосился с недоверием, ибо так выглядело большинство писем, в коих молодые и пожилые коллеги присылали мне свои произведения, чтобы я их почитал, оценил, и попытался найти для них издателя. Но, вскрыв его, я оказался посрамлен, там была не рукопись, а хорошо мне известная книжечка, избранное моих стихотворений, вышедшее в издательстве «Инзель»[75]. Внимание автора письма, купившего ее в букинистическом магазине, она обратила на себя тем, что форзац содержал не только посвящение, но и небольшую живопись моей рукой — овальный венок из цветов. Когда-то я нарисовал его для человека, которому хотел доставить особое удовольствие, а тот, выходит, снес книжечку с венком букинисту, ее купил чужой человек, и теперь вот этот чужой переслал ее мне, чтобы я подтвердил, что маленькое изображение действительно сделано мною. Никуда не денешься, придется произвести опознание и дать новому владельцу желанную справку.
Пока я писал несколько строк, чтобы поскорей развязаться с этим делом, в кабинет вошел гостивший тогда у меня мой друг — живописец, которому я каждое утро немного позировал. Мы поздоровались, и, пока устанавливал он мольберт, надевал блузу и фартук, просматривал палитру, из-под кучки корреспонденции я вытащил самое большое послание — плоский, негнущийся пакетик в четвертую долю листа. Он выглядел так, словно в нем был рисунок или масло на картоне, подарок или, например, присланная каким-нибудь знакомым художником вещь для обмена, что было бы очень кстати, ибо в медитацию во время позирования мне хотелось включить представление поприятней, чем любовно нарисованный мною, но отверженный и проданный старьевщику цветочный венок, который хотя и стал мне уже, в сущности, безразличен, все-таки, как я заметил, вызвал чувство обиды. Итак, я поспешил открыть пакет ин-кварто, присланный неизвестным человеком. Если это, как мне казалось, как смел я надеяться, живопись, рисунок, гравюра или литография какого-нибудь молодого художника, то сим отрадным предметом я воспользуюсь для своих размышлений и, возможно, для беседы во время предстоящего позирования. Но в пакете оказалось не то, что я думал, а папка из толстого картона, содержащая четвертной лист белой бумаги, сложенный вдвое, то есть тетрадку в четыре страницы, и впридачу — письмо незнакомца, в любезнейших выражениях просившего меня переслать ему эту бумагу, заполнив ее следующим образом: на первых двух страницах своей рукой написать специально для этого сочиненную краткую автобиографию, на следующую страницу наклеить собственную фотографию, а на последней начертать посвящение для получателя.
Какая странная почта! Ошеломленный этой на редкость наивной или на редкость вызывающей просьбой, и письмо и папку я показал своему другу, только что усевшемуся за мольберт. Он удивился, потом же, приглядевшись к папке, рассмеялся и сказал; «Это та же папка, что побывала и у меня, с таким же письмом, требовавшим от меня рисунка или живописи, фотографии и посвящения. Думаю, что он не простак, а пройдошистый коллекционер, не исключено, что подделаны и неуклюжий стиль и орфографические ошибки».
Теперь я понял, что надо сделать с этой папкой. Мы рассмеялись, и сеанс начался. Художник героически сражался с кознями модели, а я, расслабившись, предался размышлениям, которые в полуденной жаре июля чуть не окунули меня в дрему.
Потом следовало просмотреть остаток утренней почты. Напоследок меня ожидал всего лишь один сюрприз. Господин из близлежащего города на хорошем итальянском любезно просил незамедлительно позвонить ему и договориться о встрече по поводу дела большой литературной важности. Опять, ну что на этот раз? Наверно, его чадо — сын или дочь — сочиняет, и по школьным стихам я должен оценить сей юный талант. Но то, что за этим он обращается к иноязычному писателю, все-таки странно.
Телефоном в нашем доме ведает жена, и я передал письмо ей. Она позвонила автору письма; и трубку там взяла тоже женщина. Услыхав нашу фамилию, она тут же, нетерпеливо спросила, когда я смогу приехать в город на предложенное свидание. Моя жена оказала мягкое сопротивление. Объяснила даме, что я пожилой человек, уже не такой подвижный, к тому же речь, видимо, о каком-то недоразумении, пусть дама будет так любезна и расскажет, в чем, собственно, дело. О, воскликнула собеседница, какое недоразумение! Она навела справки, знает, кто я, знает, что я известный писатель и хорошо делаю свое дело. А ее нужда не такая обыденная, чтобы говорить о ней по телефону. Но моя жена была тверда и повторила свою просьбу. Немного подумав, та ответила приглушенным и возбужденным голосом: «Да, я могу вам сказать, о чем речь. Речь идет о романе».
На что моя жена ответила: «А, о романе? Кто-то написал роман, и вы бы хотели, чтобы мой муж его прочитал?»
Возражение: «Нет, вовсе нет. Синьор должен не читать роман, а написать его. У нас в доме случились события, которые могли бы стать материалом для хорошего романа; мы негласно осведомились в разных местах, и для написания романа выбрали вашего мужа. Итак, когда мне рассчитывать на визит вашего мужа?»
Она была очень удивлена и разочарована, когда жена ей сказала: «Синьор действительно пишет романы, но только выдуманные им самим, и он ни за что не станет писать другое. Примите наши извинения».
Так вот на старости лет довелось мне узнать, что писатель, оказывается, необходимая институция и в гуще добропорядочной бюргерской жизни, что есть ситуации, в которых его зовут и остро в нем нуждаются, ситуации, которые нельзя сообщить по телефону, но которые властно требуют литературы и литератора, как есть ситуации, требующие врача, полицию или адвоката. И пусть урожай моей нынешней утренней почты богатым не назовешь, однозначным минусом он все-таки не был. Чувство примирения едва не побудило меня вернуть коллекционеру его папку хотя бы незаполненную. Однако, подумав, я этого все же не сделал.
(1945)
ПОСЛАНИЕ АВТОРА КОРРЕКТОРУ
Октябрь 1946 г.
Многоуважаемый дорогой господин корректор!
Так как мы вновь во власти друг друга и должны работать совместно, то, возможно, мне будет не вредно отвлечься на час от нескончаемых мелких поправок, нотаций, попыток учить уму-разуму, коими обычно мы мучим друг друга, и постараться высказать нечто принципиальное о моей и Вашей работе, то есть о том, в чем для меня ее смысл, в чем ее функция в целом для народа, языка и культуры. Вы знаете, что тем самым хочу я только добра, с чем Вы должны согласиться, даже если не разделяете моих взглядов. Со своей стороны я предполагаю и, мне кажется — с полным правом, что мое мнение Вам интересно, что Вы так же увлечены нашей общей работой, так же ощущаете ответственность и значение Вашего дела, ибо кто бы из нас мог продолжать заниматься своим трудом, сохранять верность ему, принося ему жертвы, и в обмен испытывать радость, если бы вновь и вновь не желал еще глубже усвоить смысл этой профессии и воспрепятствовать ее вырождению в окостеневшую систему механических приемов. Ведь в эпоху техники, всеобщей переоценки денег и рабочего времени каждой профессии и каждому работающему человеку, даже самому нравственному, непрерывно угрожает опасность стать бездушной деталью машины и превратить свой индивидуально ответственный труд в конвеерный и схематичный. Именно из сопротивления, оказываемого Вами порой моим мнениям и представлениям, я могу заключить, насколько серьезно относитесь Вы к Вашей работе. Не будь я в этом так убежден, то безусловно не стал бы себя утруждать объяснением, которое, как я уже вижу по вступительным фразам, сформулировать не так уж и просто, как мне перед этим казалось, и чем дальше, тем больше это выглядит трудным и щекотливым.
Ведь совместная работа автора и корректора начинается только тогда, когда автор давно уже сделал большую часть своей личной работы, то есть работу как таковую — написание книги. Поэтому-то и склонен корректор обычно к тому, чтоб всю остальную работу, а именно — превращение рукописи в напечатанную книгу, полностью взять в свои руки, а автора по возможности отстранить. Мол, автор, сделал свое, написал эссе, рассказ или роман, издатель работу принял, и превращение рукописного текста в печатный теперь уже дело корректора и наборщика. Что, казалось бы, проще. Автор работу закончил, у него ее взяли, и теперь он может позволить себе отдохнуть, пока его сил не потребует новая вещь! Зачем еще думать ему о процессе дальнейшего становления книги, вмешиваться в дела, для которых есть специалисты? Хотя против правил это может быть зачастую нужным для дела, особенно, когда автор еще молодой и неопытный, и, лишь получив типографскую корректуру, задумывается об улучшении текста, что опытный человек делает до сдачи книги в набор.
Но совершенно ненужным кажется многим, и Вам в том числе, глубокоуважаемый коллега, вмешательство сочинителя в работу корректора, когда речь идет не о первом издании, а о перепечатке давным-давно уже изданной и представленной книги. И речь именно об этой работе, которую неоднократно мы делали вместе, ведь человек я уже пожилой и новые вещи сдаю в производство все реже, зато теперь все чаще необходимо переиздавать мои прежние книги, которых давно уже не найти из-за гитлеровских запретов и американских бомбежек. Поскольку я, автор, хочу издать свои тексты в прежнем их виде, а не перерабатывать их, то это действительно могло бы пройти без меня, быть сделано относительно механически наборщиком и корректором.
Все вроде бы так. И все-таки не совсем. Если я не буду читать корректуру и сам проверять каждую букву, тогда под руками наборщика и Вашими возникнет текст, который на первый взгляд хотя и кажется прежним, в действительности отклоняется от первоначального в дюжинах, нет — в сотнях мелочей.
Если в моем тексте значится, например, «он открыл двери настежь…», Вы ничего не выбрасываете и не прибавляете, но «двери» Вы превращаете в «дверь». Это один из наиболее частых случаев изменений, которые претерпевает мой текст у Вас и у наборщика, одно из сотен мест, которые, Вам кажется, стали лучше, в то время, как я считаю, они стали не лучше, а хуже. Речь постоянно идет о вещах на вид незначительных, о двух или трех буквах, о «двери» вместо «дверей», «быстр» вместо написанного мною «быстрый», «мучая» вместо моего «муча», «постиг» вместо моего «постигнул». Я написал «учителя», Вы сделали из этого «учители», я написал «хладный», Вы напечатали «холодный» и так далее — сплошь крошечные мелочи, но их сотни.
Если бы Вас спросил кто-нибудь, действительно ли всерьез Вы считаете, что владеете языком увереннее и лучше, чем Ваш автор, то Вы бы несомненно запротестовали. Вы бы сказали, что подобная самооценка от Вас столь же далека, как и недооценка писателя и его знания языка. Но сочинительство есть сочинительство, а напечатание книги есть напечатание книги, и есть нормы и правила орфографии и пунктуации, и если писатель, следуя сиюминутному настроению, употребит вариант формы слова, поставит запятую или опустит ее, если один раз напишет «муча», а в другой «мучая» и в одинаковых по типу фразах раз поставит запятую, а в другой — тире, то, по-Вашему, можно сделать вывод, что писатель не совсем уверен в собственной пунктуации, и очень правильно, что корректор следит за тем, чтобы эти внешние формы и средства выражения были едиными.
И Вы, дорогой господин корректор, цитируете Вашего домашнего святого, ваш кодекс — «Дуден».
Возможно, что в деталях я к «Дудену» и несправедлив, то есть порою я усматриваю в нем негибкости и консерватизма больше, чем он действительно содержит. Проверить я это не в состоянии, ибо «Дудена» не имею и не имел никогда. Не потому, что не приемлю словари, у меня их несколько штук, и один из них, большой гриммовский словарь немецкого языка — одна из моих любимых книг.
Не против я и того, чтобы имелось нечто подобное «Дудену» — предписание по орфографии и всеобщее руководство по употреблению знаков препинания. Во времена, когда пишут все, и большинство к тому же — плохо, такое вспомогательное средство вполне необходимо и уместно. Мои претензии к «Дудену» отнюдь не принципиальны; ведь то, что добросовестный учитель помогает своим соотечественникам советами по орфографии и пунктуации, хорошо и правильно. Но «Дуден», как Вы знаете, давно уже не советчик, а в условиях тоталитарной власти став всемогущим законодатель; инстанция, против которой не может быть апелляций, пугало и бог железных правил, бог по возможности абсолютной нивелировки.
Не знаю, но, возможно, и «Дуден» не против того, чтобы писать и «муча» и «мучая», «дверь» и «двери», «постигнул» и «постиг». Вы можете проверить это сами. Я только знаю, что Вы и Ваш наборщик не позволяете мне использовать прекрасный выбор и по нужде писать раз «постигнул» и раз «постиг», раз «муча» и раз «мучая», раз «надсмеяться» и раз «насмеяться». Это то, против чего я протестую и буду протестовать, ибо речь здесь идет о вещах, для которых не может быть ни «Дудена», ни государственного или профессионального авторитета и за которые в ответе только писатели и поэты.
Скажу ли я «закрой дверь» или «закрой двери», смысл предложения не изменится ни на йоту. Но изменится другое. Произнесите фразу вслух — и Вы убедитесь, что совершенно изменились ритм, мелодия. Пропущенная буква преображает фразу, делает ее совсем иной, но не по смыслу, выражаемому ею, а по музыкальности звучания. А музыка, конкретно и совсем особо — музыка прозы, одно из немногочисленных воистину магических, воистину волшебных средств, имеющихся у литературы и поныне. Эти крошечные прибавленные или опущенные слоги, поддержанные, когда необходимо, пунктуацией, несут чисто поэтические или, точнее, музыкальные функции и значения. Недавно это обнаружили и сделали предметом усиленного изучения даже литературоведы.
Теперь же, если до сих пор за ходом моей мысли следили Вы благосклонно, проследуйте за мной еще немного. Представьте себя корректором издательства, выпускающего не книги, а музыкальные ноты. Типографским материалом является партитура, фортепианный концерт или что-нибудь наподобие в рукописи композитора или предыдущем издании. В сотрудники дан Вам нотопечатник, а как справочник и руководство — музыкальный «Дуден», то есть учебное издание по музыке, которое, насколько то позволяет отражаемость звука в нотных знаках, наставляет Вас в законах и средствах музыкального выражения и автор которого человек, хорошо знающий музыкальный язык, но не являющийся ни творцом, ни любителем музыки, ни знатоком музыкального мастерства. Задача этой воображаемой книги служить как справочник людям, желающим писать музыку, но не владеющим в совершенстве законами, договоренностями и цеховыми правилами этого дела. В такой благонамеренной и очень полезной книге было бы роковым то, что государственно-авторитарным путем ее бы ввели как безусловную норму для привыкшего к послушанию народа.
И с Вашим вымуштрованным по музыкальному «Дудену» нотопечатником Вы приступили бы к печатанию нотного произведения. И начали бы работать, как привыкли работать над корректурой романа. При этом, будучи в целом настроенным на достоверную передачу оригинала, Вы бы зорко следили за сохранением норм нотной записи. Вы, например, никогда бы не допустили пропуска целого такта, но местами бы убирали четвертую, восьмую или шестнадцатую долю ноты, а в тех случаях, где, как Вам бы казалось, композитор слишком уж волен и отступает от схемы, делали бы из двух восьмых одну четвертую, вставляли вроде уместный знак убыстрения темпа или вычеркивали по-Вашему неуместный. То были бы вмешательства сплошь незначительные, «Дуденом» разрешенные и даже рекомендованные, но они бы исказили музыкальное произведение. По Вашему изданию через десять — двадцать лет стал бы работать другой нотопечатник, и наборщик бы внес новые изменения по самому последнему «Дудену». И третье, четвертое и десятое переиздание этого музыкального произведения выглядело бы примерно так же, как и большая часть бросовых изданий классиков нашей литературы во времена до повторного открытия редакторской и издательской совести.
Я напуган, многоуважаемый господин корректор, размером, который приняло мое письмо к Вам. Чем старше я становлюсь, тем труднее мне писать, а чем труднее писать, тем больше дыхания и времени мне нужно, чтобы преодолеть уйму возможных недоразумений и достичь хоть какой-то однозначности и действенности. Но я тешу себя надеждой, что послание мое не напрасно, что хотя бы по ночам Вам снятся порою вычеркнутые буквы и измененные слова, подобно тому, как военачальнику снятся порою его павшие в битвах солдаты. И ему их вдруг становится жаль, и он задается вопросом, действительно ли необходима была эта жертва.
(1946)
ПИСЬМО МОЛОДОМУ ЯПОНСКОМУ КОЛЛЕГЕ
Дорогой коллега! Ваше длинное письмо от января, полученное мною в пору цветения вишен, спустя многие годы безмолвия действительно оказалось первым нашедшим дорогу ко мне приветом из Вашей страны. И по ряду примет я воистину вижу, что, как Вы пишете, весточку и привет мне Вы шлете из сильно потрясенного мира, который, кажется, вновь превратился в хаос. Вы предполагаете найти у меня, в моей стране, в этом завидном «островочке мира» еще не разрушенный дух, признанную и по-прежнему значимую иерархию ценностей и владычеств. И в известном смысле Вы правы. Ваше страстное, пронизанное одновременно верой и страхом письмо, написанное среди развалин большого города, где было трудно раздобыть даже конверт и бумагу, было доставлено добродушной сельской почтальоншей в покой нетронутого дома, нетронутой деревни, туда, где полонит зеленую долину вишневый цвет и день-деньской не умолкает кукушка. И так как Вы молоды, а я человек пожилой, то и в моем духовном мире письмо Ваше застает не хаос, а известную упорядоченность и здоровье, которые, конечно, соответствуют не всеобщей, приходящей в равновесие ситуации на Западе, не относительной сохранности эстафеты веры и благих устоев в жизни духа, а моему островному, отшельническому бытию, в коем посреди хаоса жива еще неразрушенная традиция. Таких одиночек, как я, таких надлежаще вскормленных духовно, немолодых людей здесь много; в общем и целом их не третируют, на смех не поднимают и тем более не преследуют, скорее напротив — их ценят, с радостью принимают и в сумерках ценностей, как вымирающих животных, тщательно оберегают в заповедниках, а порою ими даже гордятся и хвастают как чисто западным достоянием, каким не может похвастать ни восходящая Россия, ни восходящая Америка. Но мы, старые писатели, мыслители и христиане, не являемся больше ни сердцем, ни головой европейского мира, мы остатки вымирающей расы, и воспринимаемся всерьез в лучшем случае лишь нами самими; у нас нет смены.
Но буду отвечать на Ваше письмо. Ваши переживания за меня кажутся мне излишними. Вы немного возмещены тем, что друзья Ваши, в отличие от Вас, видят во мне не героя и мученика за истину, а заурядного сентиментального поэта из Южной Германии. И Вы и они и правы и неправы, не стоит всерьез заниматься такими определениями. Или точнее: не стоит поправлять суждение Ваших товарищей, ибо это суждение, правильно оно или нет, никому не вредит. А вот то, как оцениваете и понимаете меня Вы, дорогой коллега, нуждается, вероятно, в поправках и контроле, ибо действительно может быть вредным. Ведь Вы не только молодой читатель, кому в особо восприимчивый период жизни попали в руки несколько книг и кто полюбил их, почувствовал к ним благодарность, стал их ценить и переоценивать. На это имеет право всякий читатель, по склонности сердца он вправе сделать книгу предметом как поклонения, так и презрения, чем никому он вреда не приносит. Но Вы ведь не только восторженный юный читатель, но и, как пишете Вы, еще и мой юный коллега, литератор в самом начале творческого пути, молодой человек, любящий истину и красоту и чувствующий в себе призвание нести людям свет и правду. И то, что позволено наивному читателю, не позволено, по-моему, начинающему литератору, тому, кто сам будет сочинять и публиковать книги; авторам и книгам, произведшим на него сильное впечатление, он не должен слепо поклоняться или брать их за безусловные образцы. Ваша любовь к моим книгам, конечно, не грех, но ей не хватает критичности и меры, и, следовательно, Вас, литератора, развивать она будет мало. Вы усматриваете во мне то, чем хотели бы сделаться сами, что считаете достойным подражания, — видите во мне борца за истину, героя, знаменосца, Богом благословенного носителя света, который чуть ли не сам является светом. И это, как Вы скоро поймете, не только преувеличение и мальчишеская идеализация, а принципиальное заблуждение и ошибка. Пусть наивный читатель, для которого книги в сущности не столь великая важность, мнит себе сочинителя книг, каким ему хочется, это может быть нам безразлично; это — как если бы человек, в жизни не строивший для себя хотя бы самого маленького дома, судил и рядил об архитектуре, то есть — ветром носимая болтовня. Но молодой писатель, страстно влюбленный в книги своих образцов, преисполненный идеализма и, вероятно, в подсознании также честолюбия, в корне неверно глядящий на книги и литературу, вовсе не безобиден, он даже опасен, он может наделать вреда, и прежде всего самому себе. Поэтому на Ваше любезное и трогательное письмо я отвечаю не дружеской открыткой, а этими строками. Как будущий литератор Вы в ответе и за себя самого, и за Ваших будущих читателей.
Герой и светоч, которым ныне считаете Вы любимого Вами писателя и которым хотите стать сами, — не нравится мне эта фигура. Она слишком красива, слишком пуста, слишком высокопарна, в особенности для меня слишком уж европейская, чуждая собственно Вашей, восточной, почве.
Писатель, которому обязаны Вы познанием жизни или пробуждением духа, не свет, не светоносец, он в лучшем случае — окно, через которое свет может дойти до читателя, и у заслуг писателя нет ничегошеньки общего с героизмом, благородством воли и идеальными программами; его заслуга может состоять лишь в том, чтобы быть окном, чтобы открыть дорогу свету. Если же он одержим желанием стать отменно благородным человеком и благодетелем человечества, то не исключено, что именно это и приведет его к падению и помешает ему в пропускании света. Руководящим принципом и движителем для писателя должны быть не гордыня и не натужное стремление к смирению, а лишь влюбленность в свет, открытость перед реальным миром, пропускная способность для истинного.
Но, наверно, не нужно указывать Вам на это, ибо Вы не дикарь, не полуграмотный, а приверженец дзэн-буддизма, то есть Вы знаете, что значит душевная дисциплина, и верите в нее, ведь она, как почти никакие другие, учит человека проторять в себе дорогу свету и благоговеть перед истиной. Такое руководство будет развивать Вас лучше, чем все наши европейские книги, среди коих некоторые столь сильно владеют ныне Вашим сознанием. Я лично к учению дзэн испытываю уважение намного большее, чем к Вашим отчасти по-европейски окрашенным идеалам. Дзэн, и Вы знаете это лучше меня, одна из чудеснейших школ для духа и сердца; с ним могут сравниться лишь некоторые наши традиции, тем более, что их осталось так мало. Так с удивлением смотрим мы друг на друга, Вы, молодой японец, и я, пожилой европеец, каждый с симпатией к другому, каждый чуть очарованный экзотичностью другого и каждый в другом предполагает такое, что ему самому было доступно всегда лишь отчасти. Надеюсь, дзэн Вас убережет от экзотики и псевдоидеализма, а меня при нынешней духовной ситуации у нас — надежная традиция античности и христианства удержит от того, чтобы, презрев свои устои, ринуться в объятия индийской или какой-нибудь другой йоги. Ибо ныне, чего отрицать, такой соблазн существует. Но мое европейское воспитание учит не доверять непонятным или полупонятным разделам в азиатской культуре, несмотря на их чары, и придерживаться лишь того, что я в них действительно понял. Именно этот подход органичен опыту и учениям моей, и только моей духовной отчизны.
Буддизм в наиболее близкой Вам форме дзэн всю жизнь будет Вашим вожатым и Вашей опорой. Он поможет Вам не погибнуть в кошмаре, в который повергнут Ваш мир. Но однажды, возможно, он Вас приведет в противоречие с литературными планами. Ведь для того, кто основательно наставлен в религии, литература опасная профессия. Веруя в свет, неопровержимо зная о нем по личному опыту и будучи открытым ему как можно больше и чаще, литератор не должен считать себя самого носителем света и тем более светом как таковым. Иначе окошко захлопнется, и свет, ничем не обязанный нам, польется другими путями.
(Приписка несколькими днями позже)
Отправленные Вам бандеролью книги, как и это письмо, почта только что мне возвратила как запрещенные для пересылки. Странно выглядит нынешний мир. Вы, житель побежденной и победителями оккупированной страны, могли послать мне письмо на полтора десятка страниц; а я, житель крошечного нейтрального государства, не могу Вам ответить. Но, быть может, когда-нибудь Вы получите это письмо, которое я публикую в газете[76].
(1947)
ЮНЫЙ ГЕНИЙ
Ответ восемнадцатилетнему юноше
Я не забыл о Вашем письме, но не хотел от него отписаться лишь парой вежливых строк, и так как ежедневно получаю я письма, на которые ответить мне легче, а вспомогательный мой аппарат очень скромен, то написать Вам до сих пор никак не получалось. Ведь, помимо письменных принадлежностей, мой аппарат состоит всего лишь из глаз, перенапряженных многолетней работой редко бывает, что они не болят, — да двух рук, вздутых подагрой и пишущих или печатающих каждую букву крайне неловко и неохотно. Глаза бы охотнее занимались цветами, кошками или чтением какой-нибудь книги, чем поступающей ко мне корреспонденцией, да и руки нашли бы себе применение куда поприятней. Кроме того, ответ на Ваше письмо затруднен был и тем, что заниматься исправлением Ваших огрехов в дальнейшем я уже не надеюсь, ибо, по-видимому, это письмо первое и последнее, которое я в состоянии написать. Мне, правда, и впредь будет радостно узнавать что-либо о Вас, но я не могу ни предложить Вам продолжать присылать Ваши рукописи, ни пообещать, что Ваши дальнейшие письма, в случае, если Вы захотите продолжать мне писать, я буду читать с проникновением и в полную меру своего понимания.
Ваше письмо не содержит ни определенных просьб, ни требований, ни вопросов. Оно не столько обращение ко мне, сколько, видимо, желание испытать облегчение хотя бы на час. Вас захлестывает бурная и разнообразная жизнь, еще не могущая себя исчерпать или выразить в художественной форме. Вы чувствуете, что непохожи на сверстников, на «других» вообще, в той мере, которая делает Вас то счастливым, то устрашает; Вы относитесь к выше среднего одаренным и талантливым людям, когда-то называвшимся гениями, и обращаетесь ко мне Вы не потому, что не считаете меня «другим», а потому, что испытываете нечто похожее на чувство родства.
Путь одиноких и избранных роком людей всегда был тяжел и опасен, Ваш путь будет точно таким же. Недоверие к «опыту» других и отказ отчитываться перед другими в Вашем возрасте естественное оружие, которым человек с особо развитой индивидуальностью защищается от окружающего мира, стремящегося всех подмять под себя, навязать свои нормы и вынудить к преждевременному соглашательству. Так гибнут многие молодые Вашей породы, кто-то потому, что жизнь в напряжении и самообороне становится невыносимой, и в нетерпении он преступает границы, кто-то в результате сдается, становится обывателем и жалкие остатки божественного огня с помощью алкоголя или без оного претворяет в обывательский романтизм, увенчанный короной непризнанности. Я знавал немало таких.
Но есть и другие пути, и более благородные, и встречаются на этих путях награда и помощь особого рода. Есть путь творца, художника, писателя, мыслителя. Однако творчество мыслителя или художника предполагает акт самопричащения и самоотречения и, узаконивая гения перед миром, требует от него определенной отдачи, борьбы и нелегких жертв, — того, о чем во времена безответственности гений и понятия не имел. За это даруется гению независимо от того пользуется или нет творчество его успехом, прикосновенность к царству духа, единокровность с тысячами предшественников и творческих современников, восприимчивость к нерушимым и вечно живым через все времена и культуры — мудрости и красоте.
Замечательный, заслуживающий самоотдачи путь. Но тот, в ком достаточно непоколебимы любовь к истинному и прекрасному, жажда быть принятым в их владения и заполучить частичку их света, в своей будничной жизни может оставаться непонятым и одиноким и не однажды еще впадать в мальчишеское упрямство и безответственность; однако жребий его все равно благороден, преисполнен значения и достоин всяческих жертв.
Для такого пути и таких достижений нужен, конечно, не только талант вообще. Мир кишит сочинителями, у которых невпроворот великолепных идей, но нет метких и зажигательных слов; художниками с изобильной фантазией, но без врожденной страсти к живописной игре; мыслителями, одержимыми благороднейшим гуманизмом, но без силы и темперамента выражения. Идеалы в искусстве немногого стоят, и если кто-то Сезанн, то мало ему мастерства творить, как Тициан или Рубенс, — у него должны быть неповторимый дар, чисто своя, сезанновская, дерзость писать, беспримерная терпеливость и одержимость.
Немало есть одиночек, гениальных, благодаря своим данным способных к необыкновенному людей, у которых, однако, нет особенных дарований ни к одному из искусств, а есть только талантливость в целом, изобильность духовности и фантазии, способность к сопереживанию, восприятию и резонированию; в юности, как и многие другие, они страдали от одиночества, от своей непохожести на окружающих и, вероятно, даже пробовали заниматься духовными или художественными профессиями — правда, без особенного успеха, но — движимые любовью, тоской по причастности к целому, по преодолению своего одиночества, по действительной осмысленности своего трудного и опасного существования. Они хотят великого, они жаждут самоотдачи, но они не ораторы, не писатели, не глашатаи, не мыслители. И именно их пример отлично показывает, что такое, в сущности, гений и утверждение бытия, подчеркивает, что лучшие художники и глубочайшие мыслители не только рабы своего таланта, но, кроме того, еще и умельцы, знатоки. Ибо в творцах, не одаренных особо ни для каких искусств и наук, достижение максимума человеческого оправдывает все страдания, все тщеславие и все заблуждения сверх одаренных и гениальных. Не исключено, что однажды, столкнувшись с обнаженной действительностью, они будут разбужены чьим-то взглядом и зовом, имя которому их собственное Я, и увидят лик бытия, его прекрасное и устрашающее величие, его преисполненность болью, страданием, безответной любовью, безысходной тоской. И на взгляд этой бездны ответят они единственной жертвой — полновесной, необратимой жертвой собственного Я. Они принесут себя на алтарь голодным, больным и порочным неважно кому, они позволят себя притянуть, всосать, поглотить любому зиянию, любой наготе, любому страданию. Они-то и есть подлинно любящие и святые. К ним тянется все человеческое, жаждущее большего, чем способна дать повседневность и норма, их жертва наполняет смыслом и ценностью все прочие, менее существенные жертвы, они оправдывают и искупают проблемы изгоев, сверходаренных, трудно живущих и зачастую отчаявшихся. Ибо гений — это сила любви и тоска по служению, и искупает себя он лишь в сем абсолютном и высшем самозаклании.
Вот теперь я сказал Вам примерно то, что собирался сказать. Это мой ответ на письмо, с которым от избытка и настоятельности юношеских проблем Вы обратились ко мне, старику. Как не было в Вашем послании ни просьб ни вопросов, так и в моем ответе нет ни советов, ни утешений. Вы позволили мне заглянуть в беспокойство, красоту и сомнения Вашей расцветающей жизни, а я, сам некогда испытавший беспокойство, красоту и сомнения, попытался поведать Вам то, как видятся проблемы и явления эти пожившему человеку. Будь я святым, то ответ бы мой был лаконичен. Будь я великим художником, то поток откровенностей, исторгаемых Вашим письмом, мне лишь помешал бы в работе. Будь я великим живописцем, то Ваше послание я бы даже не дочитал, а продолжил работу, подобно одряхлевшему Ренуару, привязав кисть к руке, сведенной подагрой.
Вероятно, не случайно и то, что Вы обратились ко мне, а не к какому-нибудь святому или, положим, Ренуару. Вероятно, Ваше письмо написано и отправлено именно мне потому, что Вы чувствуете во мне похожего на Вас человека, то есть не достигшего величия и абсолюта ни в искусстве, ни в жизни и не ощущающего себя дома в недостижимом для Вас потустороннем, а, как и Вы, погруженного в тот же мир и те же проблемы, хотя и с другими привычками, мировоззрением, формами выражения, другим темпераментом и другой, присущей старческим летам манерой обороняться. Пожилой человек, к которому Вы, всем различиям вопреки, обратились как к другу, на Вашу исповедь ответил своей, попытавшись продемонстрировать, как выглядят наши общие с Вами проблемы на каждом из наших уровней жизни.
Ваш Г. Г.
(1950)
БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ АДРЕС ПО ПОВОДУ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ МИРА НЕМЕЦКОЙ КНИГОТОРГОВЛИ[77]
О том, насколько достоин я присужденной мне Премии, пусть судят другие. Есть баловни судьбы, коим выпадают почести, сильно превосходящие их заслуги и коим от такого везения порою, должно быть, очень не по себе, как Поликрату в истории с его перстнем, и наоборот — есть чрезвычайно заслуженные, с благородным характером люди — творцы бессмертных произведений, к которым их время и окружение не сумели быть справедливы, и при звуке этих имен потомки с содроганием вспоминают, что носители их жили и скончались без почестей и в безвестности. Так что пусть решают потомки, насколько везучие достойны везенья. То, что я набрался решимости и принял врученную ныне мне Премию, продиктовано прежде всего ее наименованием.
«Премия мира Немецкой книготорговли» — наименование, с которым есть у меня живая и близкая связь и которое будит во мне самые сокровенные воспоминания.
Начну с учредителя Премии, с Немецкой книготорговли! Для автора, свыше полувека публиковавшегося у немецких издателей, поддерживаемого и поощряемого Немецкой книготорговлей, посвятившего немало работ книге и книговедению, Немецкая книготорговля — высокочтимый и незаменимый институт, испытанное орудие духа, носитель культуры, почти столь же важный, как школа и университет. И у того, кто отдал всю жизнь свою книгам, достаточно часто находился повод с благодарностью засвидетельствовать, что организация книготорговли в Германии одна из лучших и непревзойденнейших в мире.
Но мои отношения к сему благородному цеху намного личнее и интимнее, чем просто у автора и книголюба. Мой отец, а до него и мой дед были руководителями издательства, более сотни лет издававшего и распространявшего дидактическую, богословскую и научно-популярную литературу, и еще в детстве я полюбил аромат свежих версток, холста, картона и клея, запомнил названия многих издательств. И после отроческих катаклизмов, выбирая профессию, я остановился на книготорговле, вероятно, в надежде, что она мне послужит трамплином для писательской деятельности. В Тюбингене и Базеле я основательно изучил ассортиментную и букинистическую торговлю и занимался ею несколько лет: продавал книги, доставлял подписчикам журналы, открывал Лейпцигские книжные балы, участвовал в подведении итогов пасхальных ярмарок, изучал биржевой вестник, наводил справки в тяжелых томах выходившего раз в пять лет каталога Хинрихса и в бытность свою помощником в букинистическом магазине изготовил множество каталожных карточек и оформил несметное количество заказов на книги.
Такие вот старые и интимные, коренящиеся в детстве, мои отношения к книготорговле.
Не столь давнее, но все же более чем сорокалетнее мое отношение к миру на земле, равно как и стремление поставить себя на службу ему. Война 1914 года не длилась еще и двух месяцев, когда в доме моего друга Конрада Хауссмана в Штутгарте я написал стихотворение о мире:
Человек в нем жил, Не ценя подчас, Каждого отрадный ключ поил О, как слово «мир» звучит сейчас! Робко, тяжело, Сквозь туманы слез; Позабытое его тепло Стало плотью наших страстных грез. О, когда ж придет Первый мирный сон, Кроткая звезда когда взойдет Над последним боем в небосклон? Вижу образ твой В сновиденьях я; Неуемно плод твой золотой Снять стремлюсь я с древа бытия. О, когда ж придет Он чрез боль и кровь, Новой будущности небосвод Озарит ли солнце еще вновь?!В то же самое время — в 1914 году, когда немцы еще одерживали победы, в одной из своих цюрихских статей[78] я писал: «Война была всегда, на протяжении всей истории человечества, и у нас не имелось оснований верить в то, что она упразднена. Такое могло лишь показаться из-за привычки к долго длившемуся миру. И война будет продолжаться до тех пор, пока большинство человечества не предпочтет существовать в гётевском царстве духа. И все же преодоление войн по-прежнему остается нашей самой благородной целью и высшей моралью западнохристианской цивилизации. Исследователь, ищущий средство против заразы, не прекращает своей работы, даже если между тем разражается новая эпидемия. Точно так же никогда не перестанет быть нашим наивысшим идеалом мир во всем мире и дружба между людьми. Человеческая культура возникает в результате сублимации животных инстинктов в духовность посредством стыда, фантазии, познания. Жизнь достойна того, чтобы быть прожитой сполна, и это есть высшее содержание и утешение всякого искусства, даже если придется умереть всем панегиристам жизни. Именно эта проклятая мировая война глубже, чем когда-либо, должна выжечь в наших сердцах, что любовь выше ненависти, разум сильнее гнева, мир благороднее войны».
Этот настрой проходит через все мои последующие сочинения вплоть до «Игры в бисер» и далее. И речь не только о войне народов оружием, войне, ужас и бессмысленность которой я понял уже давно. Я выступаю против всякой войны, всякого террора, всякого воинствующего своекорыстия, всякого умаления ценности жизни и насилия над ближним. Говоря о мире, я имею в виду не только военную и политическую сферу, а понимаю под ним и мир каждого человека с самим собой и со своими соседями, гармонию осмысленной и преисполненной любви жизни. Ведь от меня не ускользает тот факт, что в беспощадно жестоких буднях промышленного труда и гонки за материальными благами идеал более благородной и более достойной человека жизни обычно выглядит вычурным и далеким от действительности. Но дело писателя не приспосабливаться к актуальной действительности и не обожествлять ее, а поверх нее показывать возможность прекрасного, любви и мира. Эти идеалы никогда не смогут осуществиться полностью, подобно тому, как в бурном море не может быть идеально прямым курс корабля. И все же курс возможно держать по звездному небу. Так и мы всему вопреки должны жаждать мира и служить ему каждый на своем пути и в своем окружении. Я не смею называть себя набожным в смысле моих предков, но среди слов Библии, которые я религиозно почитаю, на первом месте для меня слова о мире Божием, что превыше всякого ума[79].
(1955)
ПИСЬМО И ПИСЬМЕНА
Мне снился сон, что я сидел за сильно татуированной школьной партой и незнакомый учитель диктовал мне тему сочинения, которое я должен был написать. Тема гласила: письмо и письмена.
Я сидел и, ломая голову, вспоминал те несколько правил, которыми следует руководствоваться ученику в создании таких художественных опусов: вступление, композиция, план, — и потом, мне кажется, деревянной ручкой довольно долго что-то писал в школьной тетради. Но, когда я проснулся, воспоминание о написанном оказалось неуловимым, а со временем и вовсе рассеялось. От сновидения осталась только школьная парта с ее рунами и потрескавшимися краями, тетрадь в линейку и приказание учителя, коему повиноваться хотелось мне и сейчас, наяву. И я написал:
Письмо и письмена
Так как учитель из сна надо мною теперь не стоит и можно не опасаться его замечаний, то никакого плана к своей, уже не обязательной работе я не пишу и не делю ее на пропорциональные части, случаю предоставляя то, какую форму она примет. Я просто поджидаю образы, идеи, представления в той очередности, в какой им возжелается прийти, чтобы при удаче поразвлечь себя, homo ludens[80], и несколько своих друзей.
При слове «письмо» мне прежде всего приходят на ум результаты только людской и более или менее духовной деятельности — живопись или рисование, начертание букв или иероглифов, литература, письма, дневники, письменные подсчеты, индоевропейские рациональные или восточноазиатские образные языки; молодой Йозеф Кнехт когда-то сложил об этом стихи[81].
Иначе обстоит у меня со словом «письмена». Оно пробуждает образы не только пера, бумаги, чернил, пергамента, писем и книг, но и другие следы или знаки, прежде всего — природные «письмена», фигуры и формы, что, возникая вне человека, его духа и воли, свидетельствуют нашему духу о наличии больших и малых владычеств, и, «прочитанные» нами, вновь и вновь становятся предметом наук и искусств.
Когда маленький мальчик пишет в школе буквы и слова, он делает это не добровольно, он никому ничего не желает сим сообщить, а лишь тщится уподобить свои каракули недоступному, но могучему идеалу: прекрасным, правильным, безупречным, показательным буквам, которые учитель с непостижимым, повергающим в дрожь и одновременно в бурный восторг совершенством наворожил на классной доске. Такие строки из букв называются «прописью» и являются составной частью многих других прописей нравственных, эстетических, философских и политических; в пространстве между соблюдением их и пренебрежением ими разыгрывается драма нашей жизни и совести; пренебрежение ими нередко приносит нам радость и торжество, а соблюдение их, как себя ни казни, неизменно бывает лишь тягостным, невротическим приближеньем к идеальному образцу на классной доске. Буквы, написанные мальчиком, разочаруют его самого, а учителя, даже если они очень красивы, полностью не удовлетворят никогда.
Но когда тот же школьник, пока его никто не видит, своим маленьким, почти тупым перочинным ножом на твердом дереве парты старается вырезать или выцарапать собственное имя, по многу недель в благоприятные моменты отдаваясь сей кропотливой, но прекрасной работе, то это нечто совершенно другое. Добровольное, упоительное, секретное и запретное, не требующее соблюдения никаких предписаний дело, при котором не надо бояться критики сверху, да к тому же с целью нечто сообщить, нечто подлинное и наиважнейшее, — провозгласить и запечатлеть навсегда бытие и волеизъявление мальчика. Это еще и борьба, и при успешном исходе — победа и торжество, ведь дерево твердое, волокно его еще тверже, оно учиняет ножу сплошь трудности и препятствия, а инструмент не идеальный, лезвие шатается, острие в зазубринах, режущая кромка тупая. Сложность заключается и в том, что эти и тяжкие и удалые труды следует таить не только от глаз учителя, но — с их скрипом резанья, царапанья и сверленья — и от его ушей. Конечный результат этой упорной борьбы будет совсем иным, чем испещренные безотрадными буквами строчки в бумажной тетради, он будет источником радости, удовлетворения, гордости. Он сохранится надолго, возвещая потомкам о Фридрихе или Эмиле, давая повод к гаданию и размышлению, побуждая творить то же самое.
Много манер писать узнал я с годами, и, хотя я не специалист по почеркам, графика писем и рукописей обычно для меня что-то значила и что-то сообщала. Эта графика распадается на типы и категории; после нескольких упражнений их вскоре распознаешь, зачастую хватает лишь адреса на конверте. Как и почерки школьников, внешне сродни, например, друг другу и имеют множество общих черт письма, содержащие прошения. Люди, которые просят чего-то только однажды и только в крайней нужде, пишут совершенно иначе, чем те, у которых сочинение челобитных стало неизменной привычкой и в какой-то мере даже профессией. И тут ошибался я редко. Ах, эти неровные строчки тяжелых инвалидов, полуслепых, паралитиков, лежачих госпитальных больных с опасной температурной кривой у изголовья! В их письмах дрожанье, шатанье, спотыкание строчек и слов нередко красноречивей, ясней, бередят мою душу сильнее, чем собственно содержание. И наоборот: как успокоительны для меня и отрадны письма, в которых почерк очень старых людей все еще ровен и тверд, энергичен и весел! Такие письма получаю я очень нечасто, но все-таки получаю, и даже от девяностолетних.
Из многочисленных почерков, ставших для меня важными или любимыми, самый странный, уникальнейший в целом свете, был почерк Альфреда Кубина. Он был столь же нечитабелен, как и красив. Страницы его посланий покрывали густые, обостряющие восприятие, графически интереснейшие пересеченья штрихов, многосмысленные каракули гениального рисовальщика. Не помню, чтобы мне хоть раз удалось расшифровать у Кубина каждую строчку, не выходило это и у моей жены. Мы были довольны, когда добивались прочтенья двух третей или от силы трех четвертей его посланий. При виде графики кубинского письма мне всегда вспоминались те места в струнных квартетах, когда в нескольких тактах кряду все четверо с размаху, ошалело врезаются, сплетаясь и царапаясь, друг в друга, пока опять не обозначится линия — главная тема.
Немало великолепных, ласкающих душу письмен мне стали близки и дороги: гётевско-классический почерк Кароссы, бисерный, текучий и умный — Томаса Манна, красивый, старательный и изящный моего друга Зуркампа, нелегкий для чтения, но очень характерный — Рихарда Бенца. Но, конечно, всех важней и дороже стали для меня письмена матери и отца. Таких похожих на птичий полет, таких размашистых и совершенно беглых, раскованных и стремительных и при этом таких ровных и четких, как у матери, я не видел ни у кого; она писала легко, перо скользило само по себе, услаждая ее и читателя. Отец же, приверженец всего италийского, пользовался при письме не готическим алфавитом, как мать, а латинским, почерк его был серьезен, не летел и не прыгал, не тёк, подобно ручью из криницы, слова выписывались им аккуратно, четко отграничивались друг от друга, чувствовалось, насколько он взвешивает и подбирает каждое выражение. Совсем еще молодым взял я за образец его манеру писать свое имя.
Графология породила чудесную технику толкования почерка, почти предельно отточила ее. Технику эту я не штудировал и ей не владею, но в правильности ее убеждался не раз на многих трудных примерах, обнаруживая, кстати, порой, что некоторые графологи по натуре — не на высоте их прерогативы заглядывать в души людей. Имеются, впрочем, печатные, а также с помощью трафаретов запечатленные на дереве или картоне, металле или эмали и тем обреченные на длительное существование буквы и цифры, толковать которые вовсе не трудно. На конторских плакетках, возбраняющих надписях, эмалированных номерках в железнодорожных вагонах я дивился порою, как бескровно, уродливо, нелюбовно, вяло, неигристо, бездарно и безответственно изображены — нет, не изображены, а скорее вымучены буквы и цифры; даже размноженные на жести или стекле они беспощадно разоблачают характер своих создателей.
Я назвал их бескровными, ибо при виде таких вот горе-письмен я всегда вспоминаю слова из одной знаменитой книги, прочитанной мною в юности и тогда меня захватившей, очаровавшей. Слово в слово сейчас я, пожалуй, не вспомню, но что-то вроде: «Из всего написанного я предпочитаю лишь то, что написано собственной кровью». Глядя на конторские буквы-страшилища, я всякий раз немного склонялся к тому, чтобы признать правоту этих слов одинокого горемыки. Но склонялся только на миг; эти слова и юношеское мое восхищение ими родились в бескровные и робкие времена, красота и благородство которых осознавались жившими в них намного меньше, чем несколько десятилетий спустя. Жизнь показала, что восхваление крови может обернуться низвержением духа и что люди, риторически чествующие кровь, обычно имеют в виду кровь не свою, а чужую.
Но пишет не только человек. Можно писать и не рукой, не пером, не кистью, не на бумаге и не на пергаменте. Пишут ветер, море, река и ручей, пишут животные, пишет земля, где-то собирая складки на лбу и тем преграждая дорогу потоку, а где-то и разрушая часть гор или город. Но, конечно, только человеческий дух способен и склонен рассматривать содеянное якобы слепыми силами как письмена, как опредмеченный дух. От изящной птичьей поступи Мёрике[82] до течения Нила или Амазонки и бесконечно медленно меняющего свои формы глетчера — все происходящие в природе процессы могут восприниматься нами как письмена, письменное выражение, как стихотворения, эпосы, драмы. Очень по-своему набожные люди, дети и поэты, а также подлинные ученые, будучи служителями «кроткого закона», как называл их Штифтер, стремятся не эксплуатировать и насиловать природу, подобно самовластительным тиранам, и не молиться в страхе на ее титанические силы, а разглядывать ее, познавать, боготворить, понимать и любить. И поэт, воспевающий в гимнах океан или Альпы, и энтомолог, изучающий под микроскопом сеточку кристаллических линий на крыльях крошечной стеклянницы, одержимы одним и тем же стремлением, одною и тою же жаждой — побратать природу и дух. Они неизменно, сознательно или бессознательно, движимы неким подобием веры, неким предположением о существовании Бога, то есть догадкой, что все целое мира задано и управляется единым Духом, единым Богом, единым Умом, родственным нашему. Служители кроткого закона превращают для себя мир явлений в любимый и близкий, уподобляя его письменам, начертательной манифестации Духа и неважно при этом, мыслят ли они сей всеобъемлющий Дух созданным по образцу их и подобию или наоборот.
Так будьте же благословенны, чудесные письмена природы, несказанно прекрасные в невинности ваших детских забав, несказанно и непостижимо прекрасные, грандиозные и в невинности уничтожения и убиения! Ни одна кисть ни одного живописца никогда не касалась холста так играючи и любовно, так чувственно и так нежно, как летний ветерок прихотливо ласкает, приглаживает или ворошит высокие зыбкие травы или овсяные колосья в полях или играет на небосводе снежно-голубиноперистыми облачками так, что парят они хороводом, и в их дымчато-тонких каемках крошечными семицветиями вспыхивает на мгновения свет. О переходящности и мимолетности всякого счастья и красоты говорят нам сии чародейские кротко-печальные знаки, которые, как вуали Майи, бессущностны и вместе с тем — подтверждения всяческой сути.
И как графолог читает и истолковывает письмена гуманиста, скупца, транжира, авантюриста или калеки, так прочитывает и понимает пастух или ловчий следы лисицы, куницы и зайца, узнает их повадки, семейство, насколько здоровы они, целы ли четыре их лапы или бег их затруднен ранениями или преклонными летами, рыщут ли они бесцельно или поспешают куда-то.
На памятниках, надгробных плитах и мемориальных досках старательный резец человека начертал имена, дифирамбы и цифры столетий и лет. И послания эти читают потомки, дети, внуки и правнуки, а порою и более отдаленные поколения. Твердый камень мало-помалу точат дожди, мало-помалу вырисовываются следы пернатых, улиток; издалека прилетевшая пыль, серым слоем въедаясь в поверхность, гасит блеск, набивается в борозды рун, стирает грани, осуществляя тем переход творения людей в творения природы, покрытые растительностью, мхом, и приуготовляя прекрасному бессмертию неторопливую и кроткую погибель. В Японии, когда-то образцово набожной стране, бесчисленные ущелья и леса скрывают тысячи сгнивающих скульптур, создания художников: прекрасных, кротко улыбающихся Будд, прекрасных благостных Каннон[84], почтительных благообразных дзэнских братьев на всех этапах разрушения, призрачно-гипнотического обесформливания, — тысячелетние каменные лица с тысячелетними бородами из мха, травы, цветов и спутанных ветвей. В наши дни один из набожных потомков тех, кто здесь молился и приносил цветами жертву, собрал немало тех изображений в чудесном альбоме, и никогда не получал я лучшего подарка из его страны, с которой давно уже обмениваюсь многим.
Все, что начертано, сотрется рано или поздно, через тысячелетия или минуты. Все письмена и угасанье всех письмен следит с насмешкою всемирный Дух. Отрадно, что сумели мы прочесть какие-то из них, постичь их смысл. Смысл, ускользающий от всякого письма и вместе с тем ему присущий, всегда один и тот же. И я играл им в этой зарисовке, то проясняя, может быть, на йоту, то вуалируя его, однако нового я ничего не говорил и говорить не собирался. Многие провидцы и писатели запечатлели этот смысл по многу раз и всякий раз чуть-чуть иначе, чуть веселее или чуть печальней, чуть горше или чуть послаще. Можно сочетать слова иначе, иначе подбирать и строить фразы, иначе размещать и брать с палитры краски, использовать и жесткий и мягкий карандаш — послание всегда будет одно: старинное, звучавшее не раз, часто испытуемое, вечное. Но интересно всякое нововведение, увлекателен любой переворот в искусствах и языках, восхитительны все игры мастеров. Что ими выражается, что выражения достойно, что полностью не выразимо, останется навек одним и тем же.
(1961)
ПИСАТЕЛЬ, ОКОЛДОВАННЫЙ КНИГОЙ (послесловие)
Книги, сколько их ни есть,
Счастья не дают,
Но таинственно к тебе
Самому ведут.
Ибо свет в тебе самом
Сказочной страны
Солнце, звезды и луна,
Что тебе нужны.
В книгах мудрость ты искал,
И она, лучась,
Светит с каждого листа
Вся твоя сейчас.
Герман ГессеПроизведение в душе художника — это стихийная сила, которая прокладывает себе путь либо тиранически и насильственно, либо с той неподражаемой хитростью, с какой природа умеет достигать своих целей, не заботясь о личном благе или горе человека — носителе творческого начала. Карл Густав Юнг
«Я сам читатель, один из тех, кто с детства околдован книгой», — писал Гессе в эссе «Магия книги». Слово «околдован», впрочем, редкое в лексиконе писателя, говорящего обычно о волшебстве, высвечивает здесь некий отрицательный смысл — смысл злого волшебства, воздействующего на писателя помимо его собственной воли. Кажется парадоксальным, что источником колдовства, силы, по нашему мифологическому опыту отчуждающей человека от жизни, счастья, собственного Я, выступает у Гессе именно книга. Хотя и наш бытовой опыт говорит об опасности ситуации, когда чтение поставляет человеку замену жизни, создает зависимость от чужих представлений и несамостоятельность в суждениях и поступках. На опасность многочтения на протяжении всей своей жизни неоднократно указывал и сам Гессе. Для него же самого книга стала роком, «судьбой, росшей в нем самом». Преодоление этого рока вылилось у Гессе в творчество, в ведущую тему его жизни, которая, чрезвычайно сложно и противоречиво выраженная, присутствует практически во всех его произведениях, принимая форму разлада с самим собой и окружающим миром и форму грандиозной попытки превратить колдовство книги в благую, творимую свободной волей человека, магию книги.
В мифологическом сознании человека магия испокон веков состоит в искусстве одушевления объекта — в наделении его всеми свойствами живого существа. Волшебник символически овладевает объектом, ритуально-самопожертвенно сливаясь с ним, расчленяя его «изнутри» на «лики мифологического пандемониума» (К. Г. Юнг), которые суть проекции бессознательных содержаний Я волшебника, с тем чтобы сделать зримыми свойства объекта, придать им очертания и из очертаний создать образ символ, который будет подсказывать спасительные действия и волшебнику и окружающему миру, ради которого он, волшебник, и творил свою волшбу. «Всякое явление на земле есть символ, и всякий символ есть открытые врата, через которые душа, если она к этому готова, может проникнуть в недра мира», писал Гессе о символизации как способе овладения миром. Такая мифологизированная трактовка образа, то совпадающего с символом, то лишь образующего символ вместе со «смыслом», равно как и постоянное употребление слова «образ» в самых разных значениях, проходит через все творчество писателя и отождествляется с представлениями о книге и об образовании как претворении власти материального в духовное. Магическое мышление символически осознаваемая Гессе проекция мифологической сизигии (в мифографии — божественного соития мужского и женского начал, порождающих мир) — стало программным в творчестве писателя и отождествилось с благой созидательной, спасительной — функцией любви. Магической связью, опосредующей порождение и непрерывное возрождение вселенной, выступает у Гессе и любовь к книге — библиофилия в ее высшей форме — чтения и знания книг, собирания и усвоения книг, создания книг.
Откуда же возникло в сознании Гессе колдовство книги? Из чего состоит главный, подлежащий магическому преодолению и освоению символический объект в гессевском пандемониуме книги: в психологическом и поэтологическом мире писателя? Как преодолевал Гессе свой рок в жизни и творчестве и в чем был конкретный смысл этого преодоления?
Лейтмотивом жизни гессевского сознания очень рано стал поиск в себе самом и в окружающей действительности древних, устоявшихся образных универсалий — праобразов (как назвал их еще Гёте, переводя греческое слово «архетип», фигурирующее уже в космогонии Платона) — неких символических форм, взаимосвязанных друг с другом и могущих, по принципу аналогий и ассоциаций, потенциально обмениваться содержаниями и притягивать новые содержания, каждая — давать извод всех прочих, рождаясь, по выражению Гёте, из «природного источника впечатлений». Для XX века теория архетипов сформулирована в глубинной психологии Фрейда — Юнга, под знаком которой прошла вторая половина жизни-творчества Гессе. Но стремление к отысканию архетипов и расстановке на них собственных мифопоэтических значений пробудилось у Гессе задолго до знакомства с психоанализом — вероятно, в самом раннем детстве. Цель этих устремлений — установление контакта с окружающим миром, чрезвычайно сложной и противоречивой системой реальных явлений и их отображений, но в первую очередь с иными психическими и духовными мирами. «Ах, если бы мы все думали друг о друге и все бы имели чувство невидимой и молчаливой общности!.. Взаимосвязи и предчувствия, всплывающие в нашей собственной жизни, мы бы вновь находили тогда у других, круг бы расширялся, и нити, начала и концы которых мнили мы у себя в руках, потянулись бы на наших глазах от человека к человеку через части света и поколения. Касаясь этих нитей словно струн гигантской арфы, мы бы продолжили сочинение всеобщей более просветленной жизни и продвинулись бы в познании вечности, чего сделать поодиночке мы не в состоянии», — писал двадцатичетырехлетний Гессе («Герман Лаушер»).
Эмоционально выделенным архетипическим символом «взаимосвязей и предчувствий собственной жизни» (выделенным относительно ограниченного множества архетипов, являющихся и всеобщим достоянием человечества и личным достоянием каждого) была у Гессе книга как предмет, чтение и творчество, доказательство чему находим мы и в многочисленных исповедях писателя, и заключением от обратного — в его произведениях, и в атрибутах, и обстановке его личной жизни.
Личность Гессе черпала «книжные» архетипы и из непосредственных реалий собственного бытия, — и в унаследованном виде — из родового сознания и из архаического архетипического сознания человечества. С генами и через неисповедимые каналы восприятия эти архетипы, напитанные своеобразными душевными содержаниями Гессе-индивида, исподволь складывались в некую уникальную — не по форме, а по внутренней сущности — структуру: не зависящую от сознания и стремящуюся к экспансии психическую формацию, называемую в глубинной психологии автономным комплексом. Природа его у Гессе двойственна. С одной стороны, он складывался сам по себе, бессознательно, с другой же просветлялся сознанием. Он объективировался посредством привычки к самонаблюдению, а главным орудием гессевского самонаблюдения было всепоглощающее чтение, тяга к которому в свою очередь стимулировалась самим автономным комплексом. Назовем поэтому данный комплекс книжным.
Книжная акцентуация автономного комплекса возникла у Гессе из факта рождения в семье библиофилов — на редкость образованных читателей, ученых и писателей, проповедников-миссионеров и издателей; из впечатлений от включенности в атмосферу отношений с отцом и матерью, а также с дедом; из особого — в силу характера Гессе мифологизированного — отношения к матери и из впечатлений от древнейшего архетипа семейных отношений — дома, гессевского дома, наполненного книгами, авторитетом знания, мудрости, религиозно-нравственной непогрешимости и любви. «Любовь, дружба и вожделение есть нечто присущее дому (oiceion)», — формулировал Платон (Лисид 221е) любовь, энергию, воспроизводящую в сознании человека архетип дома. Гессевский дом как проекция родительской сизигии ассоциировался в сознании маленького Германа и с садом — деревьями и особенно цветами, — и с не отграниченной от города, как это было принято в Швабии, вольной природой. Эти ассоциации, присущие и знакомые всякому и породившие устойчивые системы символов, таких, как «дом-природа», «дом-родина», «дом-мать», в архаическом мифологическом сознании человечества представлялись в многочисленных архетипах оплодотворяющей самое себя Великой Матери (как, например, шумерской Нисабы) или верховного мужского божества в той же роли (как, например, египетского Ра) и символизировались также и образом книги. Земледелие как воспроизводство пищи, обеспечение непрерывности жизни сравнивалось с письмом, смысл которого — брошенное в землю-мать семя «прорастал» злаками. Книга представлялась амбаром, наполненным зерном, а вместилища книг — библиотеки — отождествлялись с садами и женщинами, ждущими любовного ухода. Книге-мирозданию уподоблялась связь между небом и землей, осуществляемая нисхождением на землю света-смысла звезд-письмен, из чего возникали все предметы и формы. Как объединение сущностных «верха» и «низа» в книге мироздания представлялся рост флоры и фауны. К книге жизни тянулись нити и от таких первообразов мира, как гора и мировое древо. Архетипы круговорота природы — «токов», циркулирующих между «верхом» и «низом», издревле символизировались образами «пути», «письма», «чтения», «возвращения домой» и «ухода из дома», «посредничества» и «магии», а также бесчисленными другими образами: животными, птицами. Эти архетипы Гессе узнавал не только из книг, не только из совмещения прочитанного и переживаемого в собственной среде, не только из мифологий и религиозных свидетельств, из которых решающую роль в формировании сознания писателя сыграли христианство и греко-римская античность, а в дальнейшем буддизм и даосизм, но и из собственного бессознательного как части коллективного бессознательного. Подобно «магическому кристаллу» со структурой «наивной» картины мира, книжный комплекс Гессе нарастал, захватывал все большие области сознания и все больше отбирал жизнетворную энергию личности, и в годы подросткового кризиса, и в годы учебы и книготорговой работы, и в первый период писательской деятельности, начавшейся еще в детстве как тогда еще не организованное сопротивление внутреннему порабощению. Гессе долго сам способствовал росту этой формации, усваивая всю книжную традицию. В результате он стал одним из самых начитанных и образованных писателей своего времени. Но параллельно в недрах той же творческой книжной формации нарастал и глубоко личный импульс — стремление выразить традиционное через собственные переживания и проблемы, заданные в том же комплексе, прожить совокупность литературных содержаний как собственную жизнь, придать свои очертания доминирующей над сознанием заданности, воспринимаемой уже как вся окружающая действительность, одухотворить ее образами своей деятельности.
Как уже говорилось, всякий автономный комплекс, разрастаясь, отнимает у сознания жизненную энергию и начинает угрожать погашением мыслительных и творческих способностей, отчуждением от собственного Я и мира. От этого есть лишь одно спасение — магически овладеть комплексом с помощью сознания, отождествиться с ним и претворить его в созидательную функцию. В результате все творчество Гессе становится беспрерывным автопортретированием, беспрерывным варьированием в разных планах и материалах ситуаций и подробностей собственной жизни. Этот процесс поступателен и обозначается самим писателем как «путь вовнутрь» — путь углубленного самопознания. Создание собственного образа, выраженного во всеобщих, преобразованных личной мифологией символах, для Гессе и есть магия. Данное свойство творческого сознания и метода порождено интровертированностью личности писателя, обращенностью ее в самое себя. Почерпнутые в объективной реальности представления у интроверта оказываются как бы «вдвинутыми» между действительностью и Я-сознанием в качестве некоей сложной призмы, помещенной у других, экстравертов, в реальности. Характерная для Гессе-интроверта зафиксированная, навязчивая обращенность на свой автономный книжный комплекс приняла форму конфронтации с совокупностью всех психических и духовных проявлений человека вообще — с тем, что интроверты обычно отождествляют с идеалом собственного Я-сознания и, возвышая до центра своей духовной и душевной жизни, опредмечивают. У Гессе это опредмечивание произошло в книге. И, так как реальные образы объектов, символизирующихся в автономном комплексе, в процессе становления личности относительно вытесняются в бессознательное, у интроверта возникает ощущение непостижимости мира, чувство авторитарного давления комплекса, трепета перед ним, восприятия его как колдовской силы.
В процессе «магического» автопортретного творчества, изображающего борьбу двух начал личности, у Гессе сложился метод двойной проекции своего Я: персонифицированной проекции Я-сознания с преобладанием мужского начала и проекции автономного книжного комплекса, принявшего в результате первичных отождествлений вид идеала Я, где опорным компонентом выступает женское начало. По отношению к этим двум проекциям Гессе-писатель выступает как опосредующая, связующая «магическая» функция, направленная на воссоединение и преображение личности. Эта функция есть собственно труд писателя, его искусство, мастерство. Такая троичность в двоичности представлена в произведениях Гессе и композицией материала, и построением образов, и поэтическим языком, и даже синтаксической и метрической организацией текста и символизирует различные планы внутреннего содержания. Подчеркнем лишь тот план, который выражает отношение Гессе к книге как к двусоставности мужского и женского начал и отношение к своей личности как к двусоставности из Я-сознания и книжного комплекса; эта двусоставность символизируется, как правило, двумя персонажами. Один из них спроецирован на ряд других персонажей: это носитель идеала Я, жаждущий осуществления идеала. Другой зачастую выступает повествователем или мнимым издателем произведения, написанного якобы другим человеком, как, например, в «Германе Лаушере», «Кнульпе», «Демиане», «Степном волке», «Паломничестве в Страну Востока», «Игре в бисер». Двойной проекцией триединой психической и творческой стихии в неразрывном единстве с художественным творчеством выступает и издательская, и рецензионная, как, впрочем, и книготорговая, и библиофильская деятельность писателя. Я-сознание Гессе-издателя (рецензента, библиофила) любовью как избирательным принципом выделяет среди множества книжных содержаний какое-то произведение или группу произведений (как правило, произведения просветительско-романтического плана, и в первую очередь — собственно романтические) с тем, чтобы включить их в себя и преобразовать их содержание в познавательную и нравственную функцию.
Интровертированность и книжная акцентуированность еще в раннем детстве сформировали у Гессе расположенность к постоянному самоанализу, именно она, выраженная в любимом девизе Гессе «познай самого себя» (греческая надпись на фронтоне храма Аполлона в Дельфах), и привела писателя, ищущего решения своих конфликтов, к восприятию и усвоению глубинной психологии Фрейда Юнга. Процесс преодоления разлада с самим собой и миром предстал перед Гессе как преодоление «материнского комплекса», отождествленного писателем со своей собственной психической формацией, которую мы назвали книжной, а юнговский процесс индивидуации (вочеловечивания, становления самим собою) соединился в сознании Гессе с фихтеанской романтической философией, согласно которой Я индивида бесконечно стремится к Я космоса. По меткому замечанию американского гессеведа Дж. Милека, психоанализ дал Гессе не много нового, он лишь в известной мере сориентировал сознание писателя, вручил ему уточненный код его символически, как это свойственно интроверту, организованной психики. Этот код Гессе, как и все окружавшее его и воспринимаемое им, подверг собственной переработке.
Индивидуация — в глубинной психологии «процесс формирования и обособления отдельного человеческого существа, развитие психологического индивида как особи, отличной от всеобщей, коллективной психологии» (К. Г. Юнг), — стала для Гессе созданием и пресуществлением своего «образа» в божественное единство мира. Она отождествилась с христианско-гуманистической идеей спасения и жертвенной самоотдачи, с идеей магического овладения внешними по отношению к Я-сознанию психическими формациями, интегрированными в образы книжного комплекса, и с идеей устранения колдовства этого комплекса. В том же смысле Гессе переосмыслил и центральные категории индивидуации. «Анима (анимус)» — душа, по Юнгу, интеллектуально непреодолимое понятие, эмпирически представленное в мифологических сизигиях, приобретает у Гессе лично-психологический смысл и символизируется «домом», «родителями» и «книгой». Тесно связанные в психоанализе с «анимой» представления о «маске (персоне)» как о наносной, неистинной личности и о «тени» как о близнеце-антагонисте (средоточии всего неистинного и злого в человеке, соблазна, вносящего раскол в душу) в поэтическом мире Гессе приобретают этический смысл. «Маска» выступает символом приспособления к поверхностным нормам окружающего мира, к рациональной действительности, образом колдовства, исходящего от автономного комплекса, а «тень» в содержательном и эмоциональном отношении — по-разному наполненным символом «вины (греха) упущения». Именно эти понятия придают в дальнейшем особые смысловые контуры гессевским двойным проекциям и его поискам самого себя в книжном мире.
Согласно психоанализу, процесс индивидуации начинается с инициации (посвящения) во внешний мир, с развития личности от рождения до формирования Я-сознания и «маски». Завершается этот процесс фазой отчаяния, в понимании Гессе — этапом, когда человек со всей силой ощущает неодолимость чувства вины и недостижимость авторитета, выраженных у Гессе в книжном комплексе. Схема индивидуации, поначалу лишь интуитивно узнаваемая Гессе в себе самом и столь же интуитивно воплощаемая в первых произведениях, углубляется и становится осознанной после знакомства с аналитической психологией. «Путь вочеловечивания начинается с невинности (с рая, с детства, с безответственного преддверия). Отсюда он ведет в чувство вины, в знание о добре и зле, в требование культуры, морали, религий, человеческих идеалов. У каждого, кто переживает эту стадию серьезно, как дифференцированный индивид, она неотвратимо завершается отчаянием, пониманием того, что осуществление добродетели, полное повиновение, нравственное служение невозможны, что справедливость недостижима, что доброта несбыточна. Это отчаяние ведет или к гибели, или к третьему царству духа», — писал Гессе о собственном пути и о пути своих героев («Немного теологии», 1932).
Это третье царство — царство безраздельной власти магического мышления, гармонического совпадения противоположностей, царство «самости». Понятие «самости» — одно из центральных в юнговской аналитической психологии; как философско-психологическая категория, обозначающая потенциально-центральное положение личности во вселенной и трактуемая психоанализом как совокупность всех психических и духовных содержаний человека. Оно встречается уже на исходе немецкого Просвещения и у идеологов немецкого романтизма — Фихте и Новалиса, а затем, пройдя через весь XIX век, вновь возрождается в немецком неоромантизме. Но издревле известна «самость» и в быту. Она выражение индивидуализирующейся воли ребенка, чей возглас «я сам!» указывает на то, что ребенок воспринимает себя целым миром, умеющим все. «Самость» в детстве тождественна всей личности ребенка, в которой Я еще не отличает себя от окружающего мира, еще слито с ним. Символ ребенка, один из важнейших в мифологиях и религиозных свидетельствах как главное воплощение «самости», истинной веры, — центральный в творчестве Гессе; по отношению к книге он выливается в требование «непредвзятости», «простодушия» в чтении и творчестве, согласованности стиля и характера у автора и высшего слияния с содержанием у читателя. Отчуждение от «самости» появляется с возникновением рефлексии, осознанием иных, отличных от его, ребенка, психических содержаний, которые, если они притягательны, возводятся ребенком в идеал Я. У Гессе таким идеалом стал книжный комплекс и, опредмеченный, как это свойственно интроверту, был ложно отождествлен с «самостью». В положительный момент кризиса Гессе отделяет его от «самости», которая остается целью сознания и достигается через прорыв «анимы». Иными словами, для интроверта Гессе «самость» есть развеществленный книжный комплекс, сиречь наполненный Я-сознанием идеал Я.
Но нас интересует книжное содержание «самости». У Гессе «самость» символизируется совокупностью духовных содержаний всех книг, «сколько их ни есть», — Книгой Жизни, Великой Матерью, Благом, Любовью, христианским Богом, древнекитайским Дао, древнегреческой Арете, целокупным образом мира, архетипом богочеловека, к воплощению и изображению которого можно пробиться, лишь «становясь самим собою», лишь усваивая лучшие книжные содержания и любовно интегрируя их в Я-сознании, лишь возвышая материальное бессознательное до «меры нашей причастности к Богу, целому, внеличному и сверхличному», если цитировать Гессе. Нейтральное в психоанализе понятие «самости» приобретает у Гессе отчетливо этический смысл и становится символом гуманизма, архетипом скрепляющей человечество во времени и пространстве книжной культуры.
Путь к «самости» у Гессе — это путь к идеалу единства личности и вселенной, индивида и человечества, путь, отмеченный постоянными метаморфозами душевной и духовной жизни, новорождениями и смертями и новыми рождениями, претворениями символов сознания во все новые и волшебным образом одни и те же формы, совпадением их в одной и той же понятийно непостижимой структуре, которую в эссе «Письмо и письмена» Гессе называет Смыслом. Путь этот стирает грань между воображаемым и реальным, между мужским и женским, между «низом» и «верхом», объединяет различные и разрозненные формы культуры, содержания; это — круг символических соитий, порождающий драму жизни и сознания ради магического спасения в искусстве, в слове и в книге.
Древняя, как мир, магия с ее начертанием образа, одушевлением этого образа и любовного объединения с ним, в результате чего и является на свет спасительный плод, многолико возрождается в творчестве Гессе — в двуединой попытке решения своих личных проблем и овладения всей совокупностью содержаний мира явлений, высшей архетипической формой которого выступает книга — творчество, понимаемое как магическое чтение книги жизни, и чтение, понимаемое как воссоздание мира в себе самом. Именно эта магия, происходящая из древнейшего конфликта человека — конфликта субъекта и объекта, выраженного во всех искусствах, — и придает произведениям Гессе, в том числе и библиофильской прозе, атмосферу особой напряженности и драматизма. Под знаком магического служения, любви проходит вся жизнь писателя — «книга, фрагмент материи, облагороженной духом».
***
«Все образованное в природе заключено в нас в виде праобраза, происходит из нашей души», — писал Гессе в «Демиане». Пользуясь многочисленными свидетельствами в творчестве писателя и не менее многочисленными сведениями гессеведов, уже с двадцатых годов занимающихся реконструкцией биографии писателя с самых разнообразных точек зрения, попытаемся показать, как из «праобраза» Гессе — его родных, обстановки и чтения — исподволь складывалась книжная формация писателя, как она обретала свой образ, акцентуированный архетипами «семьи», «дома» и «книги», и как писатель, осознавая этот образ, наполнял и перевоплощал его своим творчеством, претворял колдовство предопределения в магию жизни.
Дед по материнской линии Герман Гундерт, богослов и филолог, — одна из интереснейших личностей среди непосредственных предшественников Гессе. В юности гегельянец и романтик, поклонник Просвещения и революций, пантеист и неукротимый авантюрист, влюбленный в Восток, вскоре после увлечения пиетизмом он вновь обратился к вере и отправился в Индию, где в Малабаре основал базельскую протестантскую миссию и проработал там двадцать лет под знаком пиетистской идеи «практического христианства» и «священства мирян». Знаток многих европейских и индийских языков, Гундерт большую часть жизни занимался индологией, он перевел на малаялам Библию, составил грамматику языка малаялам и малаялам-английский словарь. После возвращения на родину, сначала в Базель, где родился затем Гессе, а потом в провинциальный городок Кальв, Гундерт возглавил «Кальвское издательское объединение», а свой дом превратил в огромную библиотеку и место встречи ученых, богословов и гостей с экзотического Востока. В глазах юного Германа дед, «почтенный, старый, могучий и всезнающий», был «магом», «мудрецом», от которого, «неисповедимого», исходила «тайна, окружавшая и мать — нечто сокровенное и древнее».
Мать, Мария Гессе, урожденная Гундерт, родившаяся в малабарской миссии и воспитывавшаяся в Швейцарии и Германии, впервые вышла замуж за миссионера Карла Изенберга, с которым поселилась в Карачи и родила двух детей, но вскоре овдовела и вернулась в Кальв, где встретилась с помощником отца по издательским делам Иоганнесом Гессе. Будущий отец писателя тоже работал миссионером в Индии, но из-за болезни вынужден был вернуться в Германию. В браке с Иоганнесом Гессе Мария родила еще семерых детей. От отца она унаследовала не только неукротимый темперамент, крепкое здоровье и чувственность, но и ум, проницательность, житейскую мудрость, музыкальность и разнообразные таланты: она владела пятью языками, была прекрасной рассказчицей, сочиняла стихи и написала две книги — биографии епископа Джеймса Хэннингтона и Дэвида Ливингстона. А наряду с этим она заправляла всем домом, вела большую организационную работу в кальвской пиетистской общине, помогала мужу и участвовала в делах издательства, регулярно делала записи в дневнике и образцово воспитывала детей. Для маленького Германа она была существом столь же непостижимым, как и дед, с которым, казалось, была связана не только узами родства, но и таинственностью мира жизни и мира книг. Она была вездесущей, все умеющей, все приемлющей и прощающей матерью матерью большой семьи, а в ранних представлениях Гессе, вероятно, — матерью всего рода человеческого. Через всю жизнь Гессе пронес уверенность в том, что личность его, Гессе, коренится прежде всего в «материнской почве, в темноглазом и волшебном».
В отце же, Иоганнесе Гессе, голубоглазом и светловолосом уроженце Прибалтики, ничего магического и таинственного Герман не находил. Тонкие черты лица его излучали меланхолию и одиночество внутренне страдающего человека. Держал он себя чопорно и холодно, с детьми и домашними был строг и упрям в навязывании своих представлений, что в подростковом возрасте казалось Герману жестокостью. Он вызывал скорее уважение, чем любовь; дети его боялись и часто искали спасения у матери. Вероятно, от него унаследовал Гессе многое в своей телесной и душевной конструкции, как унаследовал эмоциональное отношение и к матери, и ко всему женскому вообще в виде неудовлетворяемого влечения (ведь Мария Изенберг вышла за Иоганнеса Гессе не по любви, а по убеждению, что брак ее будет благим из-за общности интересов и идеалов). Неудовлетворенное влечение отца, видимо, компенсировалось насаждением своего авторитета и наряду с врожденной склонностью к книгам сублимировалось в постоянную учебу, приобретение необъятных знаний и полную самоотдачу издательской работе, в которой отец осознавал себя духовным посредником. Иоганнес Гессе не только постоянно читал, но и писал религиозно-дидактические трактаты и биографии.
Увлеченность семьи «книгами о жизни», перешедшая и к Гессе, была одним из проявлений господствовавшего в доме духа пиетизма. Пиетизм, основанный на идее «духовного пробуждения», на прозрении человеком Бога в самом себе, сильно повлиял на сознание писателя. Еще в XVIII веке пиетизм, в значительной мере питавшийся книжной культурой, способствовал возникновению и развитию в немецкой литературе жанра «биографий души» — романа образования (воспитания, становления), выдающимся мастером которого стал позднее сам Гессе. В пиетизме сложно взаимодействовали две тенденции: культ чувства, самоуглубленности, индивидуальности, свободы в истолковании благодати и идея того, что христианская история спасения совершается в душе человека ежемгновенно; и ригористическая духовность, стремление к интеллектуальной рационализации веры, аскетизм, неприятие искусств и благочестие, доходящее до ханжества. Первая тенденция была присуща скорее матери будущего писателя, вторая — скорее отцу. Обе, отождествившись с проекцией мифологической сизигии на родителей, нашли в психике Гессе-интроверта благодатное вместилище, способствовали закреплению раздвоенности его сознания и повлияли на совмещение авторитарного идеала Я с книжной формацией, которая в результате приняла форму, составленную из рационально-внешнего, недостижимо-отцовского начала и начала женского, чувственно-внутреннего, не менее авторитарного в своей непроницаемости. Оба начала принимали образ дома. Низ четырехэтажного строения был во владении матери и детей, там дышалось вольготно… наверху обитали власть и ум, были суд и храм «отцовское царство» («Душа ребенка»). «Низ» продолжался ухоженным садом, полным цветов, рыночной площадью с фонтаном, могучими каштанами, домами, тесно лепившимися друг к другу, и протекавшей через городок рекой Нагольд, а за городом — полями, лесами и горами Шварцвальда с их голубовато-дымчатыми вершинами, — всем тем, что навсегда запечатлелось в Гессе как природа, жизнь, «материнское царство», что прочитывалось как «книга чудес». «Магия была привычной в нашем доме», — писал впоследствии Гессе. Образ чтения как постижения «дома» и «низа», запечатленный писателем в эссе «Магия книги», возник, видимо, из проекции кальвского дома. «Многие миры, многие части земли протягивали в наш дом и соединяли в нем свои руки и лучи. А дом был большой и старый, с многочисленными, частью пустыми, помещениями, с подвалами и большими гулкими коридорами, пахнувшими камнем и прохладой, и с бесконечными чердаками, полными дерева, фруктов, и сквозняков, и темных пустот… Здесь молились и читали Библию, учились и занимались индийской филологией, играли много хорошей музыки, здесь знали о Будде и Лао-цзы, из многих стран приезжали гости… здесь соседствовали наука и сказка… Многообразной и не во всем понятной была жизнь этого дома, многими цветами переливался здесь свет, богато и многоголосо звучала жизнь», — вспоминал Гессе в «Детстве волшебника» (1922–1937).
В сознании Гессе родной дом был праобразом мира, архетипом «самости» и «книги». Дом был полон книг, дом производил на свет книги, читал книги; книги составляли авторитет дома, и чтение, совмещаясь с наблюдениями за формами окружающего мира, стало для маленького Германа главным каналом восприятия окружающего, буква за буквой, образ за образом — сочинением жизни, «ключом и зовом к творению». Но чтение было также постижением достоинства и власти дома, постижением сосредоточенного, казалось, прежде всего в книгах магического авторитета родителей во главе с отцом. Поначалу чтение было звучащим словом матери, много занимавшейся с сыном. Слово было волшебным, превращалось в зримые образы предметов и событий хорошо известных и неведомых миров; образы возникали из детской книги с картинками, которая в раннем детстве стала для Гессе символом жизни, дома, родителей, а в дальнейшем, пройдя через многие его произведения, — символом самого детства и простодушного восприятия жизни. Уже в три года Герман попытался читать сам, и умение извлекать образы из букв и слов оказалось связано с отцом. «Мой отец застал меня как-то склонившимся над книгой, — вспоминал двадцатитрехлетний Гессе в 1900 году, — и показал несколько букв. Потом он закрыл книгу и в своей умной, любовной манере рассказал мне о большом мире книг и букв, ключ к которому — азбука и для познания тысячной части которого не хватит самой длинной жизни самого прилежного человека». Отождествление с отцом, его характером, ученостью, авторитетом происходило таким образом у Гессе в связи с книгой и чтением, активно формируя книжный комплекс и ощущение его авторитарности. В сочетании с прочими образами и качествами, в том числе с унаследованной от отца интровертированностью, книжная формация стимулировала в нарождающемся Я-сознании мальчика унаследованную от матери неукротимую энергию и ставшее в дальнейшем кредо писателя «своенравие». «Молись (Иоганнес) вместе со мною за маленького Германа и за меня, чтобы у меня хватило сил его воспитать, — писала мать в своем дневнике, — у мальчика огромная воля и воистину удивительная для его четырех лет разумность… Он отнимает у меня порядочно сил во внутренней борьбе против его высокого тиранического духа, его неистовства и напора». Прошло три-четыре года, и в начавшемся нежно-объектном отождествлении с матерью, в стремлении завладеть ее вниманием, в любви к ней, смягчающей страх и чувство вины перед отцом, символом «греха упущения», упрямство и своеволие Германа смягчились. Это означало также вытеснение того, что взрослый Гессе, усвоивший психоаналитическую теорию и практику лечения неврозов, осознает как страх инцеста. Вместе с тем мать, царящая в гессевском книжном доме, усиливает отцовскую авторитарность своими замечательными качествами. «Еще от матери и из собственного неясного чувства почитал я всех женщин как инородный, прекрасный и загадочный пол, который выше нас своей прирожденной красотой и цельностью и который мы должны считать священным, ибо он, подобно звездам и голубым горным вершинам, далек от нас и кажется ближе к Богу», — писал Гессе в 1903 году («Петер Каменцинд»). В процессе отождествления с родителями, бессознательные содержания переносились на связанные с книгами объекты (в последнее время прежде всего на мать) и в калейдоскопе архетипических символов делались, как в «книге образов», видимыми, будто изначально принадлежали этим объектам. Осадок от этих отождествлений примерно к десяти-двенадцати годам сформировался у Германа в то, что в психографии называется идеалом Я. В нечто притягательное, но вместе с тем недостижимое и сковывающее, в нечто, содержащее образы родителей (матери — «внутреннего» и отца — «внешнего»), в символически опредмеченную сложную формацию, слитую с автономным книжным комплексом.
Можно предположить, что растущее давление этой формации на Я-сознание и складывалось постепенно у мальчика в реакцию сопротивления — в желание «стать волшебником». «Это была наиболее глубокая и прочувствованная устремленность моих влечений, некое недовольство тем, что называют „действительностью“ и что порою казалось мне лишь глупой договоренностью взрослых; некое то боязливое, то насмешливое отвергание этой действительности, равно как и жгучее желание ее заворожить, преобразить было свойственно мне очень рано», — вспоминал Гессе в своей программной поэтической автобиографии «Детство волшебника». Желание стать волшебником было выражением психической энергии, все больше отходившей от реальных прототипов автономного комплекса и в поле внутреннего зрения превращавшейся в образ-проекцию Я-сознания. Одним из первых таких образов стал у Гессе «бог Пан, стоявший в виде маленького танцующего индийского божка в застекленном шкафу… деда… За ликом и фигурой (этого божка) обитал Бог, простиралась бесконечность, которую мальчиком я почитал и знал не меньше, чем позднее, когда называл ее Шивой, Вишну, Богом, Жизнью, Брахманом и Атманом, Дао или Вечной Матерью. Это было отцом, матерью, женщиной и мужчиной, Луной и Солнцем». Такое раннее стремление объединить Я-сознание с противостоящей ему и истолкованной как «самость» авторитарной формацией воплотилось у Германа в ипостась индийского божка — образ «серенького человечка», который «из всех магических явлений был самым великолепным». Этот человечек был «крошечным… тенеподобным существом, духом или кобольдом, ангелом или демоном» и имел над мальчиком власть большую, чем отец и мать, разум или просто страх. Он заставлял Германа не слушаться родителей, проказничать, впутывал мальчика во всякие истории, но и спасал его и знакомил с тайнами окружающего мира. Такое явление психологи называют «прорывом бессознательного», центральным образом инициации. Это одно из бесчисленных возможных символических воплощений архетипа «ребенка», «детского бога», который в мифологиях выступает владельцем тайн природы, жизни, помощником в делах, хозяином кладов, спасителем. Этот символ «своенравия» принял в произведениях писателя самые различные образы — «издателя», «рассказчика», «авторского Я», «друга», «ребенка», «детства», «источника», «старца», «волшебника», «творчества», «портрета», «образа», «слова», «книги». В своей по-фрейдовски символизированной автобиографии Гессе, вероятно, обозначает появлением «человечка» исход отождествления с матерью, когда влечение ребенка к матери вытесняется через проекцию собственного, как правило мифологизированного, образа на столь же мифологизированный образ матери, в этом случае — образ лона природы. «Человечек» стал образом ревности Германа к отцу и сопротивления авторитету. В этой ситуации незавершенности отождествления с матерью, закрепившейся из-за последовавших в отрочестве бурных событий, будущий писатель стал подобен Нарциссу, влюбленному в собственное отражение, оказался развернут к собственному книжному комплексу как к зеркалу, а сам книжный комплекс акцентуировался архетипом «матери» и символическими проекциями собственной матери Гессе. К этой ситуации возводятся все двойные проекции Гессе в его автопортретном творчестве, устремленном к «магическому» слиянию с «женским» образом и достижению «самости». Прибавить к этому пиетистское воспитание, вживившее в сознание Гессе ощущение первородного греха как греха собственного, и станет понятен особый накал подросткового кризиса, разразившегося в 1889–1890 годах.
Вылившаяся в символ «серенького человечка» идея стать волшебником по принципу переноса связалась с символом «книги» — средства самому магически претворять в действительность образы собственного «книжного» сознания. По свидетельству матери, писать Гессе начал, когда научился держать в руках карандаш. Первое дошедшее до нас четверостишие датировано 1882 годом, когда Герману было пять лет, а в 1887 году мальчик пишет для сестры Маруллы рассказ «Два брата», первое прозаическое произведение, в котором уже можно усмотреть двойную проекцию его интровертированного сознания. Всего из раннего периода (до 1895 года) сохранилось около 90 стихотворений. На досужее творчество сына родители смотрели благосклонно — тем более что в доме сочиняли все, — но уже приуготавливали Герману карьеру богослова и филолога; мальчик сам подавал на это надежды: много читал, любил возиться с книгами, немало времени проводил в типографии. И в 1890 году Германа отдали в геттингенскую латинскую школу для подготовки к земскому экзамену, необходимому при поступлении в одну из семинарий Вюртемберга. Произошло это не без скандала и было воспринято мальчиком как «ссылка». Состоялся первый конфликт с «книжно-нравственным» авторитетом. Отец, считавший свободные искусства недостойной профессией, настоял на своем. Поддержки у матери мальчик не нашел. Но авторитарный комплекс социально «организованного», как у родителей, знания все-таки делал свое дело. Уже тогда, на пороге подготовки к богословско-филологической карьере, Гессе осознавал социально-психологическую проблематичность профессии писателя, которую усматривал в отсутствии школ для писателей, места такой службы. И маленький Гессе примирился с необходимостью учиться. Но конфликт, несмотря на то что в Гёппингене мальчик учился на «отлично», не только остался, но и обострился. Учителя оказались официальным продолжением идеала Я, они «были, верно, к тому и приставлены, чтобы препятствовать росту выдающихся, свободных людей». Позднее этот конфликт был перенесен на отношение к немецкой тоталитарной государственности, которая в своих школах, семинариях, университетах готовила для себя не людей, не граждан и тем более не художников, а верноподданных, обывателей, служителей обезличенного мира пользы, — к «ужасному времени», закату культуры и духовности. Конфликт Гессе с официозным авторитарным идеалом имел по меньшей мере два результата. Быть писателем стало, по убеждению Гессе, не профессией, а свободным, подчиняющимся лишь собственной воле выражением любви и служения. С другой стороны, под влиянием идеала Я писательство приобрело вид социально организованной, практически регулярной службы посредника на ниве пропаганды книги и нравственности (на эту амбивалентность своенравия и подчинения родительскому императиву обратил внимание советский исследователь Р. Каралашвили в связи с пиетизмом). Сам Гессе в духе всеобщей диалектики снял это противоречие в драматическом, как вся жизнь писателя, афоризме: своенравие, — «на самом деле служение и повиновение, не свобода, а неведомая жутковатая связанность, жертвенность» («Игра в бисер»), — афоризме, который проливает свет на смысл жизни писателя, всей его «индивидуалистической» прозы. Но вернемся к «книжной» биографии Гессе в момент успешной сдачи земского экзамена и начала учебы в маульброннской семинарии, расположенной на территории старого цистерцианского монастыря. Монастырь с его садом, колодцем, фонтаном в крестовом ходе, с обширной библиотекой и средневековым укладом жизни стал для Гессе ипостасной проекцией родительского дома, символом освященного веками книжного знания и средоточия культуры, написанным христианской символикой архетипом «книги» вообще; он вошел во многие произведения писателя как образ инициации во внутренний мир.
Учеба в семинарии поначалу доставляла Герману удовольствие. Он в восторге от Гомера, пытается переводить Овидия, с охотой и много пишет сочинений, устраивает с товарищами инсценировки Шиллера, запоем читает Клопштока и работает над своим стилем по пособию Германа Курца «Учебник немецкой прозы». Об этом он пишет родителям, ни словом не упоминая, насколько угнетает его казарменная дисциплина, о которой в иронических стихах он сообщает только деду. Через пять с небольшим месяцев Гессе сбегает «в белый свет». Его находят, водворяют в семинарию и наказывают карцером, где он читает пятую песнь «Одиссеи»; особенно созвучна ему речь Навсикаи, обещающей страннику скорое возвращение домой. Мальчик становится все более раздражительным и непредсказуемым, от него отворачиваются друзья, он перестает повиноваться учителям. Отец забирает сына из семинарии домой, где разгорается ожесточенная борьба Германа за самоутверждение, происходит эмоциональный разрыв с семьей, вылившийся в нервный сбой, а в дальнейшем в книжно-сублимированной форме — в «поиск матери» и позднее «отца», единения сознания с помощью спасительного творчества. Родители отдают мальчика в интернат для «бесноватых» детей; там Герман влюбляется в Евгению Кольб, которая старше его на семь лет; отвергнутый, он пытается покончить с собой; его переводят в другой интернат, а оттуда разрешают вернуться домой; но отношения с родителями доходят почти до ненависти, и мальчика вновь водворяют в лечебницу. Ярость и глубокая уязвленность пятнадцатилетнего Гессе переходят в тотальный бунт против семьи, общества и религии — бунт, какой тридцать три года спустя привел Степного волка к отчаянию и решению о самоубийстве. Юный Герман одно за другим пишет несколько обвинительных писем родителям: «Когда вы мне говорите, что я сумасшедший или слабоумный, в угоду вам я соглашаюсь и хохочу вдвое сильнее…»; «Чего бы я только не отдал за смерть!.. теперь я потерял все — родину, родителей, любовь, веру, надежду и себя самого…»; «инспектор отобрал у меня „Дым“ Тургенева, а я хочу иметь нечто неповседневное хотя бы в книгах… а мне говорят „обратись к Богу, Христу“ и т. п. Я не могу видеть в Боге ничего, кроме миража, а в Христе ничего, кроме человека, — прокляните вы меня хоть сто раз!» Когда буря улеглась, Герман настоял на том, чтобы продолжить учебу в гимназии Каннштатта. Но учебы не получилось. Он прогуливал уроки, болтался по городу или сидел в своей любимой мансарде и читал. Сначала своих любимых Гейне, Гоголя, Тургенева, Эйхендорфа, потом круг авторов резко расширился, Гессе решил систематически работать над своим образованием. Но чем больше он читал, пытаясь овладеть тем, что составляло силу авторитета домашней «книжной» сизигии, тем выше росла перед ним — до небес — стена знания. В это время он много пишет, посылает стихи в газеты и журналы, которые ему их неизменно возвращают. Возникают новеллы «Карцер» и «Паломничество шпильмана к Рейну», содержащие в зародыше темы будущей гессевской прозы. Попытка их опубликовать тоже оказывается безрезультатной. Германа охватывает отчаяние: он сносит букинисту большую часть своих книг и, купив на вырученные деньги револьвер, вновь пытается покончить с собой. Потом пошли трактиры, долги, сомнительные компании. И во второй раз является ему спаситель — в облике уже не «серенького человечка», а молодого учителя каннштаттской гимназии Эрнста Капфа, который в долгих беседах доказывает Герману, что никакой вины за юношей нет, что нужно жить, повинуясь естественным чувствам, своему призванию, характеру и склонностям, что образование — это вся жизнь человека. Отголоски этих бесед и надолго установившейся переписки между ними мы слышим во многих произведениях Гессе, в том числе и в библиофильской прозе. В октябре 1893 года Гессе исключают из гимназии. По обоюдному согласию отец отдает юношу в книготорговлю Майера в Эслингене, откуда Герман сбегает через четыре дня. Следующие шесть месяцев Гессе проводит дома: ухаживает за цветниками в саду, помогает отцу в издательской работе и вновь начинает штурм «книжных Альп», только сейчас открыв для себя по-настоящему библиотеку деда, состоящую в основном из литературы 1750–1850 годов, периода расцвета немецкой литературы и выдвижения ее в ряд ведущих литератур мира. Для Гессе это был взгляд в самого себя, первое сознательное обретение родины и узнавание своего собственного образа в ней — прежде всего в литературе немецкого романтизма и в Гёте, ставшем для Гессе, по выражению немецкого гессеведа Б. Целлера, «Евангелием образования». Летом 1894 года Гессе требует у отца разрешения покинуть родительский дом, чтобы «на свободе» подготовиться к литературной карьере. Отец наотрез отказывает сыну и, решив, что самое время научить мальчишку хоть чему-нибудь, отдает сопротивляющегося Германа на фабрику башенных часов в родном Кальве, к мастеру Перро, умному, умелому и педагогически одаренному. На фабрике Герман провел подручным чуть больше года, познал радость зарабатывания денег собственным трудом и начал лелеять план эмиграции в США, Россию или Бразилию, чтобы там, живя самостоятельной жизнью, стать писателем. Но изнурительный труд, описанный впоследствии в повести «Под колесом» (1903–1904), отвращает юношу от этой идеи. В это время Герман много пишет Капфу, своему «альтер эго»: отец совершенно не интересуется его, Германа, сочинениями, но он все-таки очень обязан отцу за то, что тот указал ему на хорошие книги; он читает теперь запоем, используя для чтения каждую свободную минуту, и не просто читает, а изучает литературу, он в восторге от Гёте, романтиков, Диккенса и Стерна, Свифта и Фильдинга, Сервантеса и Гриммельсхаузена, Ибсена и Золя, но особенно от Короленко.
В это время в совмещенном с идеалом Я книжном комплексе Гессе, как бы оттесняя проекцию архетипа «дома», на передний план выступает проекция «книги» — ипостаси идеала Я. Этот перенос акцента давно уже начал складываться в архетипический мотив «бегства» — бегства по спирали, которое сродни ходу часов маятника Я-сознания, постоянному возврату ради возобновления поступательного движения во времени-пространстве. Часы стали у Гессе образом его книжного комплекса и возобновления жизни, любви и творчества, музыки и единства; и не случайно фигура мастера Генриха Перро, в мастерской которого произошло у Гессе преодоление кризиса и обновление, послужила прототипом образа «теоретика музыки из Кальва», любившего своими руками изготавливать музыкальные инструменты Бастиана Перро — изобретателя принципа «игры в бисер», квинтэссенции литературного творчества.
Гессе покинул дом и мастерскую Перро, поступив на три года учеником в тюбингенскую книготорговлю Хеккенхауэра, надеясь, что книготорговля «послужит ему трамплином для писательской деятельности», даст возможность объединить свое сознание с образом собственного книжного идеала Я. Он заключает контракт и 17 октября 1895 года приступает к своим обязанностям в лавке, расположенной неподалеку от знаменитого Тюбингенского университета, воспитавшего в своих стенах немало славных представителей немецкой философии и литературы. Первый биограф и друг Гессе, писатель и поэт Хуго Балль, пишет, что Гессе закончил университет как книготорговец, познав, так сказать, вживе вкусы и потребности своих будущих читателей. Такую писательскую школу в книготорговле прошел до Гессе только Эмиль Золя. Книготорговая работа оказалась настоящим испытанием на выносливость. Герман трудился по 10–12 часов в сутки, простаивая за конторкой или за прилавком, упаковывая и разнося книги, рассылая проспекты и заказные открытки, изучая каталоги ярмарок и бухгалтерию книжного дела. Гессе очень скоро осознает свою миссионерскую роль посредника: «Я продавал (в то время) много ходовых книг, и очень хороших тоже; но личную, подлинную радость посредника я испытывал лишь в редких случаях — когда мог продать книги Мёрике, Гёльдерлина, Новалиса». Не заставляет себя ждать и символ этой роли. С первого жалованья Герман покупает белоснежную гипсовую копию праксителевского Гермеса с младенцем Дионисом на руках и устанавливает ее у себя в комнатке на Херренбергерштрассе, 28. Гермес, посредник между мирами земли и неба, искусный гадатель, владелец тайн и маг, неся на воспитание к нимфам маленького Диониса, будущего бога земледелия, остановился отдохнуть и дразнит Диониса гроздью винограда, найденного малышом по дороге. Но в группе двух божеств, символизирующих оплодотворение земли, единства нет — ребенок здесь только атрибут взрослого и совершенно отчужден от него. Находка Германа великолепна в точности, с какой она передает нюансы его двойной самопроекции: и отстраненность от отцовско-семейного начала и зависимость от него, и понимание своей беспомощности и энергии своего творческого порыва, и несоизмеримости с громадой взрослого человека, покоящего его на своей руке, и чувство эстафеты. Через пять лет в «Приложении» к «Герману Лаушеру» образ ипостаси праксителевского Гермеса — хранителя всех знаний о мире Гермесе Трисмегисте воплотится в содержащую квинтэссенцию мудрости «Изумрудную скрижаль», на которую в таинственном помещении с черным фонтаном Лаушер-Гессе будет взирать с чувством безнадежности. Пока же Гермес оказывается в компании фото Герхарта Гауптмана, чью драму «Ганнеле» Гессе тогда читал; двух портретов Ницше, чья концепция дионисийского (женского, жизненного, оргиастического и трагического) и аполлоновского (мужского, созерцательного, логического и интеллектуального) начал как двух пребывающих в вечной борьбе друг с другом начал культуры и бытия представлялась Гессе моделью собственного сознания; и портрета Шопена, в чувственной музыке которого Гессе искал прообраз бытия и творчества.
В тюбингенские годы Гессе, сделавший выводы из отроческого кризиса, начинает строгое самовоспитание, упорно и своенравно строит собственный духовный мир — свой «дом». Его влечет тайна источников знания, мудрости, он ищет ее в собственном сознании, в воспоминаниях, в окружающих предметах и явлениях, в студенческих аудиториях и в книгах, в многочисленных книгах (позднее Гессе писал, что в тюбингенские годы он изучал половину всемирной литературы и философии) и приходит к выводу, что «каждый сам должен позаботиться о том, какие материи ему изучать, чтобы не терять из виду подлинное и благородное», как он пишет родителям. И в том же письме сообщает, что период нигилизма в его жизни преодолен и что, хотя он не может принять ни одной формы христианства, его вдохновляет «вера в вечную чистоту и силу, вера в нерушимый нравственный миропорядок, делающий душу одновременно малой и великой». У Гессе складывается собственный идеал набожности, включающий в себя и любовь, и веру в добро, и предпосылку проникновения в суть вещей, и магию символического претворения мира в духовное благо. Этот идеал проходит в дальнейшем через все произведения Гессе, пронизывает всю его жизнь, становится неотъемлемым от «магии книги». В Тюбингене Гессе по-настоящему открывает для себя Библию — главную книгу родительского дома, особенно деда, прозванного Гундерт Библия. Он очарован поэзией Ветхого завета, с упоением читает Бытие, Иеремию, Екклесиаста и Псалтирь. Болью и тоской отзываются в нем последние слова Екклесиаста: «…и зацветет миндаль; и отяжелеет кузнечик и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы…» (12, 5). Германа мучит тоска по дому и матери, чувство окончательной утраты и невозможности вернуть доконфликтное время детства. Эти чувства и эмоции, известные почти у всех подростков, с гессевским складом характера и обстоятельств жизни, начинают у Гессе сублимироваться и принимать образ символической смерти — магического преодоления раздвоенности сознания, новых рождений личности и «пути вовнутрь», пути к «самости». Насыщенный богатейшими архетипическими смыслами образ смерти в лоне природы-матери пройдет почти через все произведения писателя. Мысль о смерти, сложно соотносясь с главными значениями гессевского автономного комплекса «домом», «родителями», «книгой», становится неизменным спутником растущего чувства одиночества, которое для интроверта закономерно претворяется в программу. «Моя каждодневная молитва — сохранить свой собственный внутренний мир, — пишет Гессе Капфу в 1896 году. — Со школьной скамьи я был неизменно осужден на одиночество, которое в конце концов стало моим вечным спутником. Я не нахожу друзей, верно, потому, что слишком горд и не в состоянии домогаться чьего-либо расположения». Близких знакомств у Гессе было к тому времени много, но не складывалось с ними «домашнего» единства, как не складывалось оно в сознании Гессе между «образом» его творческого комплекса и «смыслом» Я-сознания. Возможность этого единства ощущалась Германом лишь в чтении. И юноше «каждый час, не проведенный над книгой, кажется потерянным». В 1901 году в рассказе «Новалис» Гессе писал: «В многообразии книжного мира я чувствую себя лучше, чем в суматохе жизни, и в отыскании и приобретении старых книг я бывал увереннее и счастливее, чем в моих попытках дружески объединить свою судьбу с судьбою других людей». Книги одушевлялись и принимали облик людей и людских жизней в сознании Гессе с раннего детства. Они имели «внешность» (от переплета до содержания) и «внутренность» (духовное послание), которые взаимодействовали друг с другом как проекции женского и мужского начал. По-разному символизируя на протяжении своего творчества эту двойную проекцию книги и постепенно претворяя «внешнее» во «внутреннее», Гессе всю жизнь искал контактов с людьми через книгу — через реализацию своего автономного комплекса, который от тюбингенского периода и до исхода десятых годов XX века сохранял форму конфликта с отцовской авторитарностью дома и общества. И отношения с книгами как с давящей товарной громадой начинают тяготить Гессе. «По вечерам, — пишет он родителям в 1898 году, — я бегу в книгах от внешнего во внутреннее и планомерно занимаюсь историко-литературными и философскими штудиями, которыми в будущем, надеюсь, сумею воспользоваться».
С первых публикаций творчество Гессе заявило о себе как лирико-философское. В 1898 году вышла первая книга — книга стихов «Романтические песни». В ней отразились влияния многих поэтов, авторов «старых, испытанных книг», из которых Гессе черпал и идеал художнической личности, ищущей в реальности романтические сущности. Это период, когда Гессе читает и изучает Гёте, Жан Поля, Новалиса, Гёльдерлина, Тика, Шлейермахера, Арнима, Брентано, братьев Шлегель, Ленау, Штифтера, — поэтов и писателей, выразивших разлад между идеалом и действительностью, поэзией и прозой будней, тоску по первообразам и первоисточникам, где, по выражению Гессе, «литература и вещи пребывают в полуслиянном виде, где осмысляющая себя человеческая душа созерцает вселенную». Но прежде всего Гессе очарован Новалисом, который уводил его в царство фантазии и сна, способствовал формированию у начинающего писателя своеобразного поэтического пантеизма. Воспитанный на пиетистски окрашенных педагогических идеалах немецкой просветительской словесности — личной ответственности человека за свои дела и поступки, естественного права на автономию сознания, образования и образованности и экзальтации воображения как чуда, — Гессе, переживающий разлад с собой, быстро нашел путь к романтизму, равно как и романтизм — в ипостаси неоромантизма — нашел его, ибо несоответствие между идеалом и реальностью было социально-психологическим синдромом не только Гессе, но и целой эпохи на рубеже XIX и XX веков. Вместе с нарождающимся экспрессионизмом, формулой которого было превращение внешнего во внутреннее, неоромантизм, по очень раннему определению писателя, учил унаследованному от натурализма XIX века «отточенному… умению наблюдать, психологизму и языку» в сочетании с фантазией в реалистическом изображении жизни души: в «труде по углублению жизни и познания во всех областях» учил «мощными, глубоко резонирующими аккордами облекать в звуки общечеловеческое». Этот символ веры был сформулирован в первом гессевском «книжном» манифесте «Романтизм и неоромантизм» (1900).
Путь во «внутреннее» книг означал путь к себе самому, к «самости», под знаком учения Новалиса: «Вернуться в себя самого означает… отвлечься от внешнего мира. Таково же отношение и духов к земной жизни: внутреннее наблюдение, вхождение в себя самого, имманентное действие. Так земная жизнь проистекает из некоей имманентной рефлексии — из простого вхождения вовнутрь, собирая в себе самость, которая столь же свободна, как и наша рефлексия. А духовная жизнь, наоборот, проистекает из прорыва той внутренней рефлексии…» Рефлексия означает здесь архетипическое комплексное отражение мира и могла осознаваться Гессе как собственная книжная формация, а «прорыв» ее — как выход в абсолютную духовность, в «самость». Овладение «самостью», по Новалису, «есть высшая задача образования — одновременное становление Я самостным Я». Изучаемая в тюбингенские годы теория «образования» Новалиса, кульминацией которой явилось «наукоучение» Фихте, была систематизированным философским обобщением гётевской концепции образования как формирования образа, индивидуальности человека в эротически истолкованном процессе жизни человека и природы. Гёте в «Вильгельме Мейстере» прослеживает «образование души» от неосознанной юности до теряющейся в бесконечности зрелости; путь этот ведет через переживание любви и дружбы, через кризисы и борения, через преодоление субъективизма к гармоничному осознанию единства Я и мира, к сформулированному Фихте преодолению «не-Я» человека и слиянию его Я с Я космоса. Гётевский идеал образования стал для Гессе «божественной устремленностью, требованием более высокоорганизованной жизни, более чистой духовности, более глубокой и зрелой человечности… ценностью и прекрасным предназначением человека любить и быть любимым» («О „Вильгельме Мейстере“»). Гессе воплощал этот идеал всем своим бытием и творчеством, претворяя борьбу за единство своей личности в борьбу с бездуховностью, хаосом и злом окружавшего его мира.
После пережитых нравственных потрясений и не без влияния Новалиса этически заряженный книжный комплекс приобретает у Гессе в тюбингенские годы образ идеально-прекрасной сущности, якобы спасительное постижение которой формулируется как «преодоление пропасти между благом и красотой», как «равновесие сознательного и бессознательного» («Герман Лаушер»). В духе такого эстетизма, в котором уже, правда, намечаются драматические нотки, Гессе пишет этюды и под заглавием «Час после полуночи» и выпускает их в 1899 году в Йене у Дидерихса, в главном издательском центре неоромантизма и экспрессионизма. В том же 1899-м Гессе начинает писать роман «Безобразник», вероятно, автобиографию своего кризиса (рукопись романа до сих пор не найдена).
Закончив обучение у Хеккенхауэра и получив диплом книготорговца, осенью 1899 года Гессе, страстно желая жить в старинном городе высокой культуры, приезжает в знакомый ему с раннего детства Базель, чтобы поступить ассортиментным подручным в книготорговлю Райха. Это время, когда Гессе увлеченно читает и изучает Ницше, Шопенгауэра и Буркхардта, время, когда складываются основные черты его творческого мировоззрения и метода, время, когда Гессе начинает ощущать уверенность в себе. В декабре 1899-го он пишет своему другу Финку: «Ценою жгучих жертв мы обрели свою цель… Здесь, в Базеле, я работаю у букиниста, продаю старые, драгоценные книги. Но собираюсь писать новые, такие, каких еще никто не писал». И родителям: «Моя внутренняя жизнь вместе с моими литературными планами обрела ясность и целеустремленность». В Базеле Гессе осознает свой книжный комплекс как символ сизигии природы (материнского, бессознательного начала) и традиции классической культуры и истории (отцовского, духовного начала), «которая покрывает природу, облагораживая и уточняя ее» («Петер Каменцинд»). Эта сизигия символизируется «прекрасной книгой образов, детской книжкой с картинками, в которой дивишься тому, как ладно и красиво выглядят все вещи, на самом деле и наполовину не столь восхитительные» («Петер Каменцинд»). Двойственным символом мира культуры и мира природы выступает образ книги в обоих первых романах Гессе.
В дневнике 1900 года двадцатитрехлетний Гессе оставляет свидетельство отчаяния ввиду невозможности овладеть миром книжной культуры: «Я основательно перепахал обширное поле этого мира… откопал и перелистал даже некоторые почти забытые бульварные вещи. И теперь тех немногих выдающихся слов, которые еще имеют надо мною власть, вряд ли хватило бы на десять томов». И одновременно с утратой наивной надежды «заполнить пустоты в реестре удовлетворений» от приближения к книжному идеалу Я, отождествленного и с автономным творческим комплексом и с «самостью», с 1898 по 1900 год Гессе пишет роман «Герман Лаушер», в котором делает попытку создать образ книжного знания и образ собственного творческого комплекса, «попытку отвоевать кусочек мира и действительности и избежать опасности уединения частью от робости, частью от гордости», как писал позднее сам автор. Роман выходит в 1901 году под заглавием «Посмертные записки и стихи Германа Лаушера». Роман говорит не только о том, что автор сведущ в теории всеодушевленности (панпсихизме) и бессознательного (Эдуард фон Гартман. Философия бессознательного, 1869) и в мифологических представлениях о матери (Якоб Бахофен. Материнское право, 1861), но и об органическом совмещении этих сведений с собственными психическими содержаниями. «Лаушер» прокладывает путь к гессевской магической символизации. Мир образован всеодушевленным бессознательным сущим, которое властвует над человеком подобно вселенской матери. Неразличимо присутствует оно колдовской силой во всех проявлениях жизни души. Лаушер созерцает свою душу как мир чудес, и ему кажется, что не он сочиняет, а оно, бессознательное, сочиняет в нем. Душа Лаушера изображена в символических фигурах, а прототипами их послужили друзья Гессе из тюбингенского периода. Эти фигуры — символы разных сторон характера Лаушера, поэта-волшебника, влюбленного в красавицу Лулу, которая живет и прислуживает в трактире, где собираются друзья. Герои романа становятся свидетелями чуда — таинственной связи между бессознательным и реальностью, «книгой сна» и «книгой творчества». Мечтательный Хамельт увидел во сне книгу, написанную непонятными письменами, которые при взгляде на них волшебно претворяются в зримые события, — упадок заколдованного царства асков, где правит царь Бесскорбей; украден талисман из источника, питавшего царство, рушатся подземные своды замка, сохнут в саду лилии, цветет лишь двухвенечная королевская лилия жизни; дочь Бесскорбея (отцовского символа) Лилия (символ души) с помощью духа Хадебарта (творчества) из воды иссякающего источника жизни натянула на царскую арфу новые струны и запела серебряную песню о том, что арфа возродит погибающее царство. Между тем Лаушер, влюбленный в Лулу, сочиняет ей стихи, которые в руках у одних превращаются в портрет девушки и портрет Лилии из сна Хамельта, а у других в аскские письмена, а сама Лулу знает песню Лилии, играющей на арфе. Лулу, оказывается, не по доброй воле живет у хозяев трактира, и Лаушер хочет ее освободить. Замок асков и трактир — символы-проекции утраченного дома Гессе, «книги материнского царства», «детства», и расколдовать его может только творчество, движущая сила которого — любовь. Начиная с «Лаушера» Гессе наполнял архетип «детства» и. «ребенка» бергсоновской «духовной памятью» о царстве единства Я и родителей, Я и «дома-книги», о ядре личности, объединяющем сознательное и бессознательное, а образ ребенка становился идеалом художника и художественного творчества. Образ ребенка-творчества, погруженного в материнскую стихию бессознательного, противостоит в «Лаушере» «прекрасно разрисованному занавесу» театра сознания и культуры.
В «Каменцинде» архетипы книжного комплекса претворяются в символы природы, которая выступает то противоположностью мира книг, то раскрывается как его истинная сущность. Рукопись романа, готового уже в 1903 году, Гессе посылает влиятельному издателю Самуэлю Фишеру (с ним, а затем с его преемником Петером Зуркампом Гессе будет сотрудничать всю жизнь). Фишер безоговорочно принимает книгу и в считанные месяцы 1904–1905 годов делает Гессе знаменитым на всю Европу. Вероятно, именно история издания «Каменцинда» легла в основу рассказа «Из переписки писателя». В книге звучит призыв причаститься к природе, к великим таинствам ее, «превратить путаницу жизни в великие мифы». Герой романа поэт Каменцинд, выходец из горного селения, пережив много разочарований в обществе, несчастную любовь, гибель друга, своего «второго Я» — одновременно женственного и мужественного, красивого и умного Рихарда (символ идеала Я), переносит все свои помыслы на слияние с природой, сближение с которой проходит как бы в два этапа Каменцинд дружит с горбуном Боппи (он символическая проекция собственной «инаковости», воспринимаемой Каменциндом как уродство), а после смерти Боппи возвращается в родное селение, чтобы вступить во владение винным погребком, стать как бы распорядителем «сока жизни» и, любя природу как мать, служить «подлинному, нелицеприятному и правдивому искусству». Гессе кажется, что идеал Я преодолен, как преодолено и чувство ущербности своего бытия, и что тем самым произошло растворение книжной формации в стихии подлинной жизни природы. Но это растворение было пока лишь взаимодействием с образами природных явлений — архетипов книжной формации, сохранившей свою платоническую автономию. Не литература уподобляется при этом природе, а природа — литературе: «Подобны песням поэтов… реки, моря, бегущие облака и бури — символы и носители тоски, расправляющей свои крылья между небом и землею». Началось приспособление к особенностям своей натуры, поиск возможности «брака по любви как моста к человеческому миру». Это было отражением реального события: в 1903 году Гессе обручился с Марией Бернулли, представительницей старинной базельской ученой семьи, женщиной физически сильной, нежной к своему жениху, любящей одиночество, цветы, книги и музыку и сыгравшей в жизни Гессе роковую роль. Но об этом чуть позже.
В 1903–1904 годах Гессе, как бы стремясь подвести итог своему юношескому развитию и освободиться от гнетущей памяти о конфликте с семьей и школой, пишет роман «Под колесом», который вышел у Фишера только в 1906 году. Эта трагическая история, поставленная современниками в один ряд с «Дружищем Хайном» Эмиля Штрауса, «Смятениями воспитанника Тёрлеса» Роберта Музиля и «Мао» Фридриха Хуха, — автопортрет писателя периода учебы в Гёппингене, Маульбронне и Каннштатте. Мир знания осознается здесь как роковой для человека авторитарный идеал Я, который, как мы уже знаем из биографии Германа-подростка, ассоциирован с образами всего внешнего и внутреннего мира, и спасение от него только в самоубийстве. Этот роман, с большой художественной силой выражающий протест против тоталитарного общества, имеет символический смысл и для психологии самого Гессе. Создание образа мятущегося Ганса Гибенрата, проекции писателя, было магическим действом, способом разложить на типические детали тогдашнее сознание и окружение Гессе, полностью отождествиться с враждебным началом, отбросить ложный выход — дружбу с Германом Хайльнером, презирающим казарменное образование и уходящим из семинарии, и, полностью войдя в свой «образ», вернуть его в лоно рождения — «материнские» воды реки — ради нового рождения.
Символ «книги жизни», выражавшей в первых трех романах борьбу Гессе за самоутверждение и опредмечивание своего автономного комплекса, распределяется в дальнейшем творчестве Гессе на смежные и синонимичные в общей архетипике символы по ходу инициации сознания писателя во внутренний мир.
В 1900 году Гессе начинает писать для прессы статьи и рецензии, которые, по суждению самого писателя, «создали ему некую местную славу, очень поддержавшую его в общественной жизни», и уменьшили риск издателей, печатавших первые произведения Гессе. Эта попытка установить контакт с миром людей во «внутренней», духовной сфере объединялась с главной установкой сознания Гессе — с императивом служения-посредничества. Символом этого посредничества, книготорговой, писательской и издательской деятельности, в эти годы и на всю жизнь становится «самиздатовская» деятельность Гессе, начатая писателем еще в возрасте десяти-двенадцати лет, когда он, словно воплощая собою свой «книжный» и «издательский» дом, начал «издавать» рукописные сборники своих стихов и дарить их друзьям, родственникам и знакомым (сохранилось шесть таких «изданий»). В базельские годы Гессе продолжил эту практику изданием рукописной серии «Ноктюрны». Каждая книжечка содержала около десяти стихотворений (количество их менялось от экземпляра к экземпляру, как видоизменялись и стихи, заменялись вариантами или другими стихами). Только в 1900 году Гессе изготовил 25 экземпляров «Ноктюрнов». Для пополнения скромных доходов книготорговца Гессе сборник продавался по десять марок за экземпляр и до 1902 года — только по предварительному заказу. В 1918 году Гессе начинает так издавать серию «Двенадцать стихотворений», от руки или на машинке. Этого сборника было продано 120 экземпляров. Рано увлекшийся живописью, преимущественно акварельной, и рисунком, Гессе сам иллюстрировал свои издания. С 1945 года и до кончины писателя доходы от продажи таких книг шли на благотворительные цели. В этой деятельности, как бы устраняя между собою и книгой все опосредствующие массовое книгоиздание элементы, Гессе словно сливался с собственной писательской продукцией и во «внешнем» и во «внутреннем», подобно легендарному Пифагору, ставшему книгой в предании неизвестного поэта раннего средневековья, — как бы опредмечивал свою книжную творческую формацию.
В 1901 году Гессе переходит от Райха в кальвскую книготорговлю Ваттенвиля, а в марте 1902 года после долгих колебаний принимает заманчивое предложение — работать ассистентом в Лейпцигском музее книги. Тогда же выходит в свет посвященный матери сборник «Стихи», двести стихотворений которого разделены по символическим темам, описывающим сознание автора и его устремленность в этот период: «Скитания», «Книга любви», «Потеря пути», «К красоте», «Юг», «К покою». Сборник, выдвинувший Гессе в ряд сильнейших и своеобразнейших талантов немецкого неоромантизма, как отмечали издатели и рецензенты, оказался предвестником кончины матери писателя, наступившей в апреле 1902 года. «Осознавая себя, — писал Гессе через год после смерти матери, — я отчетливо понимаю, что обязан ей лучшей частью своего духовного достояния». С этого момента образ матери и материнская символика окончательно входят в творческое сознание Гессе и в его произведения, формируется лейтмотив «поиска матери», «поиска дома» и «любви к собственной судьбе».
В 1903 году, работая над «Каменциндом» и чувствуя себя достаточно прочно утвердившимся литератором, Гессе уходит с официальной службы и становится свободным писателем. В 1904 году он заключает брак с Марией Бернулли. «Теперь, после бурь и жертв, — писал тогда Гессе, — я достиг своей цели: каким бы странным это ни казалось, я все-таки стал писателем и вроде бы выиграл долгое и упорное сражение с миром». Брак с Марией Бернулли, которая была старше Гессе на девять лет и во многом напоминала мать, представлялся писателю единением с самим собой и обретением дома, вожделенным равновесием с судьбоносным книжным комплексом. В 1918 году, когда брак с Марией уже потерпит крушение и сознание писателя будет сориентировано на психоанализ, Гессе посвятит жене сказку «Ирис», где главный герой отождествляет свое сознание, мать и любимую женщину с цветком, чашечка которого предстает и раскрытой книгой, и материнским лоном, и таинственной пещерой, куда, влекомый любовью, герой сказки стремится всеми силами своего существа ради свершения магии единства с миром. Программными для этого этапа стали две гессевские биографии «Боккаччо» и «Франциск Ассизский» — отражения двусоставности творческой формации и характера Гессе. В Боккаччо, апологете свободы человека, в выдающемся писателе-читателе, индивидуально претворившем в новое художественное единство огромную литературную традицию, объявившем природу «матерью и устроительницей всего бытия», Гессе усмотрел собственную писательскую формацию, собственные искания и стремление выразить новое через всю книжную традицию; а во Франциске Ассизском, великом средневековом христианском подвижнике и поэте, Гессе была близка проповедь совершенства бедности, любви к всеодушевленной природе и возглашение самоочищения человека через претворение материального в духовное, через подвижнический аскетизм, цель которого обновление личности. Не заставило себя ждать и воплощение обоих начал (чувственного и духовного, книжного и жизненного соответственно) — проекций автономного творческого комплекса Гессе, связанных общей доминантой «матери» и «природы»: у писателя появился свой дом, — реальный и символический одновременно.
Под влиянием руссоистских, рёскиновских, моррисовских и толстовских идей «возврата к природе» и «опрощения» супруги Гессе в 1904 году поселились в деревушке Гайенхофен на Боденском озере, сначала в пустующем крестьянском, а потом в построенном ими самими доме, где, родив троих сыновей, прожили до 1912 года. Гайенхофен превращается для Гессе, по его словам, в «подлинную мастерскую его профессии». Оттачивается его мастерство, растет популярность, расширяется круг друзей и почитателей, набирает силу рецензионная деятельность.
Нет смысла перечислять все печатные органы, с которыми сотрудничал Гессе, их более двух десятков. В гайенхофенский период выделить стоит, пожалуй, только «Пропилеи», литературный еженедельник, издаваемый Эдуардом Энгельсом для подписчиков газеты «Мюнхенер цайтунг». Для «Пропилеев» с осени 1904 года Гессе пишет обширные ежемесячные сводки «О новой повествовательной литературе», введение к которым публикуется в этой книге. Важнейшей писательской трибуной Гессе становится журнал «Мерц», инициатором издания которого как форума оппозиции вильгельмовскому монархическо-буржуазному режиму, прусскому милитаризму и юнкерству был Альберт Ланген, профессиональный издатель. По его приглашению Гессе и народный писатель-сатирик Людвиг Тома выступили соиздателями. Гессе взял на себя ведение литературного раздела и оставался соиздателем до 1912 года. В журнале «Мерц», помимо бесчисленных рецензий, были опубликованы многие из лучших рассказов писателя, очерков и размышлений. Впрочем, рецензии, которые Гессе превратил в изящные эссе-размышления, трудно отделить от беллетристического творчества писателя не только в глубинном психологическом смысле единства всех устремлений Гессе, но и в жанровом. Отличаются они, наверно, от собственно художественной прозы лишь тем, что содержание их составляют конкретные книги и конкретные писатели, а не символические персонажи и идеи. Это даже и не рецензии, а «образы» прочитанного и пережитого, которыми прямо или косвенно преисполнено все творчество писателя. Рецензирование было для Гессе превращением вымышленной и реальной действительности в общее культурное достояние всех и каждого. Но, как в чтении, здесь присутствовал конфликт между Я-сознанием и совмещенной с идеалом Я книжной формацией писателя. Гессе нередко посещало чувство навязанности этого занятия извне, несоответствия ему, из-за чего оно порою ему казалось «службой без внутреннего призвания и оттого исполняемой с нечистой совестью». В высказывании прорываются отголоски околдованности Гессе конфликтом с отцом и всей совокупностью книжного идеала Я. Но оборотной стороной этого чувства было требование единства сознания, все более переносимого из чисто психологической, философской и эстетической сферы в сферу нравственную. «Сижу я в хорошо натопленной комнате, читаю ненужные книги, пишу ненужные статьи и думаю ненужные думы. Но кто-то же должен в конце концов читать все эти вещи, пишущиеся и издающиеся из года в год, и, так как этого не делает никто, делаю это я — частью из коллегиальности и интереса, частью, чтобы поставить себя как критический заслон и заградительный брус между публикой и лавиной книг», — писал Гессе, охваченный усталостью и отчаянием, но в сознании почти религиозного долга. Такая жертвенная самоотдача диктовалась Гессе всей его творческой формацией, главным принципом ее — благим посредничеством, любовью. Гессе никогда не рецензировал плохих, по его мнению, книг, ибо считал, что «суждения ценны, если они положительны. Каждое отрицающее, порицающее суждение, даже если оно с виду и правильное, становится ложным, как только оно высказывается… Констатация „недостатков“… — не суждение, а скандал». Но принцип любви обоюдоострый, он полагает и неприятие, характерный для Гессе нонконформизм по отношению к бездуховности и несвободе окружения, который сформировался еще в юношеские годы, и нередко в рецензиях Гессе «первоначальная похвала внезапно оборачивается предостережением, и используется всякий повод для беспощадного анализа эпохи», — отмечает немецкий исследователь творчества Гессе Э. Шварц. У Гессе-интроверта это означало и анализ собственного сознания. Он осваивает книги не только для других, но и для себя, споря с ними как писатель и как индивид и принимая лишь то, что соответствует его представлениям, один из движителей которых — дух вечного обновления традиции за счет лучшего в современности и наоборот; дух эстафеты в создании образа единой культуры. Руководимый идеей единства «внутреннего» и «внешнего», Гессе включает в обсуждение и материальную сторону каждого издания: переплет, оформление, эстетические эффекты; пытается также направлять и политику книгоиздания, влиять на экономическую деятельность издателей; высказывает идеи о психологии творчества и чтения. Первым в рецензионной практике Германии он включает в поле зрения публики историю литературы, последовательно проводя в жизнь свой тезис о том, что научиться читать можно только по шедеврам.
Хотя успех и влияние Гессе росли, писателя все больше беспокоила нерешенность своих проблем, которые к тому же усугублялись. Желанное равновесие Я-сознания и стихии творчества, успокоенность на лоне природы и владение «домом» оказывались иллюзорными. У Гессе возникло ощущение, что он слишком много отдал и слишком мало получил взамен — так пишет он в одном из писем. А отдал он свободу, львиную долю собственного «своенравия», которое требовало какого-то иного, более радикального решения творческого и жизненного конфликта с идеалом Я. Гармония личности обернулась «маской», которая под напором неукротимого характера Гессе начала давать трещины. Брак, казавшийся решением многих проблем, переживал кризис. Супруги не подходили друг другу во всех отношениях. Из-за разницы в возрасте Гессе был слишком темпераментен для жены, а она для него — слишком спокойна и сдержанна; оба они были одинаково своевольны и неуступчивы; он упрекал ее в независимости, она его — в непостоянстве; Мария, погруженная в себя и семейные дела, выказывала мало интереса к работе мужа, а Гессе чувствовал себя далеким от семейных дел. Росло отчуждение, Гессе все больше времени проводил вне дома: в деловых поездках, встречах с коллегами, в длительных походах с друзьями. По свидетельствам очевидцев, Гессе завидовал всякому бродяге, проходившему через Гайенхофен. И в 1907 году со своим давним знакомцем Густавом Грезером, поэтом, скульптором, живописцем и бродягой проповедником аскетизма, Гессе долгое время прожил на горе Верита под Асконой в холодной хибаре, голодая и питаясь только овощами, подвергая себя всяческим лишениям ради одухотворенного слияния с природой. Разочарованный в «слиянии» с природой и в возможности буквального бегства, Гессе продолжил «бегство вовнутрь», целью которого стал Восток, принявший в это время для писателя образ древнекитайского учения о Дао — вселенском «пути» к единению мира: «мужского» верха мировой горы — «ян» с «женским» подножием горы «инь». На гайенхофенский период приходится также сильное увлечение живописью, музыкой и мифологией. В музыке Гессе продолжает поиск первопричины и первообраза творчества — источника проекции книжной сизигии. Музыка, как и «материнский» Восток, представляется Гессе стихией чувственности, из которой возникает и мир природы, и мир книжной культуры, а живопись — возможностью переноса внутреннего образа во внешний. Сложно соотносясь с проблемами брака, собственной жизни и творчества, музыка, живопись и бегство становятся в это время главным «образом» автономного комплекса писателя. Не находя адекватной реализации в новеллистическом и рецензионном творчестве Гессе, преобладавшем в течение четырех лет после «Каменцинда», этот «образ» властно требовал своего воплощения, и в последующие несколько лет параллельно с прежними и новыми попытками решить свои проблемы вживе Гессе пишет три истории о Кнульпе, романы «Гертруда» и «Росхальде».
В первых двух историях о Кнульпе-бродяге — «Канун весны» и «Мои воспоминания о Кнульпе», — написанных и напечатанных в 1907 году, главную идею «Каменцинда» о единении с природой Гессе претворяет в образ вечного странствия, вечного бегства от цивилизованных благ, простого переживания многообразия жизни, но этот образ — только меланхолическая мечта. И Гессе одну за другой пишет две символических анатомии брака — неудачной попытки приспособиться к своему становящемуся все «агрессивнее» творческому комплексу.
В «Гертруде», возникшей зимой 1908–1909 года, книжный комплекс Гессе предстает как опера, которую пишет скрипач-исполнитель Кун, ставший из-за любимой девушки калекой и оттого вынужденный заняться сочинительством. Символические участники создания и исполнения оперы — аналога «книги жизни», состоящей из стихии музыки, текста (единства музыки и слова) и спектакля (театра сознания), — сам композитор Кун, его двойная проекция в образах певца Муота и скрипача Тайзера и возлюбленная Куна Гертруда, символ созидательного и спасительного материнского начала. Во время совместной работы над оперой, душа которой — Гертруда, друг Куна Муот, воплощающий опасную стихию чувственности, один из образов Гертруды, влюбляет в себя девушку, уводит ее от Куна и женится на ней. Тайзер, символ детского простодушия, другой образ Гертруды и Куна, пытается утешить друга, который хочет покончить с собой. Но намерению Куна препятствуют внезапная смерть отца и необходимость заботы об овдовевшей матери. Составляющие образ идеала Я родители постоянно присутствуют в романе как возможность преодолеть кризисы любовных отношений. Между тем несовместимость характеров Муота и Гертруды приводит Гертруду к душевному потрясению, а Муота — к самоубийству. Кун полностью посвящает себя творчеству, сохраняя с Гертрудой лишь дружеские отношения.
В «Росхальде», законченном в 1913 году, когда супруги Гессе жили уже практически врозь, хотя и в одном доме, тема «Гертруды» продолжается на новом витке — разворачивается борьба за творчество, символизируемое в сыне живописца Верагута и его жены Адели. Супруги готовы разойтись, лишь когда мальчик, живущий сам по себе в единстве с окружающей природой, решит, с кем ему уйти — с отцом или с матерью. Нервозность обстановки приводит к заболеванию и смерти ребенка. Чтобы спасти брак, ставший воплощением вины и греха, супруги покидают имение. Друг Верагута Буркардт — сама полнота жизни, вторая, наряду с сыном, проекция Верагута-Гессе — уговаривает почти истощившего творческие силы художника уехать в Индию, чтобы обрести там полнокровное единство жизни и творчества. Это отражение реального события в 1911 году Гессе вместе со своим другом, художником Штурценеггером совершил поездку в Индию, откуда вернулся больной и разочарованный.
Разочарование в материнском идеале как возможности самоотождествления со своим творческим книжным комплексом в браке или хотя бы приспособления к собственному складу Гессе выражает в третьей истории о Кнульпе («Конец», 1914). Смертельно больной бродяга Кнульп, сбежав от больницы, посещает места своего детства и принимает добровольную смерть, замерзая в пути. Но в этом трагическом образе есть еще толика самолюбования, лелеяния мечты о возрождении в новом качестве единения с материнским началом «книги жизни».
В 1910 году, когда терпела крушение личная и творческая жизнь, когда, несмотря на рост формального мастерства, не удавалось «заворожить действительность», Гессе с головой окунулся в издательскую деятельность, которая стала не просто продолжением идеи и смысла посредничества и жертвенной самоотдачи, не только отвлечением, когда «не писалось» из-за нервозности и тревог, как отмечают биографы Гессе, но, видимо, также и компенсацией ускользавшей цельности и полноты жизни. Целью этой деятельности, как и в рецензировании, было возобновление связи времен, спором возвышающих дух просветительско-романтических идеалов с современностью, пропагандой этих идеалов. Первой изданной Гессе книгой стал томик стихов любимого Мёрике, за ним последовали антология немецких народных песен и «Песни немецких поэтов»; поэзию романтизма содержал сборник «Волшебный колодец», вышли издания Жан Поля, Эйхендорфа и Кристиана Вагнера. Только в 1913 году вышло шесть книг! Стараниями Гессе увидели свет «Волшебный рог мальчика» Арнима и Брентано, средневековый повествовательный сборник «Деяния римлян», два перечня рекомендательных аннотаций «Для любителей хороших книг», избранные стихи Гёте и многое другое. Эти издания и имена, выбранные отнюдь не по заказу, рассказывают о «книжном человеке» Гессе почти так же много, как и его художественные произведения, рецензии, публицистика и малая библиофильская проза.
В 1912 году Гессе вместе с семьей перебирается в Берн и до 1914 года почти постоянно разъезжает по Швейцарии и Германии с лекциями о книгах, писателях, с чтением любимых авторов и собственных произведений. Бурная пропагандистско-посредническая деятельность тех лет все больше напоминала бегство от собственной жизни, тогда как писательская была попыткой приспособиться к «статус-кво». И если бы не война и сильнейший психический кризис, — вспоминал Гессе много лет спустя, — он, писатель, стал бы лишь мастером формы и не овладел бы проблематикой, ввиду которой чисто эстетическое оказалось несостоятельным.
В начале войны массовый милитаристский психоз даже в среде «людей духа» — писателей и художников — вызывает у Гессе горечь, отчаяние и отвращение. Страстный поборник мира, противник всяческой розни, тем более национальной, в сентябре 1914 года Гессе пишет свою знаменитую статью «О други, не эти звуки!», в которой, отстаивая пацифистские позиции, вместе с тем призывает интеллигенцию к нейтралитету по отношению к войне. Вопреки стараниям писателя преодолеть свое аутсайдерство под знаком неприятия насилия, эта противоречивая установка еще больше углубилась в статье «Листок из дневника» и далее, в 1915 году, в эссе «Военная литература». Выступления Гессе почти всеми, за исключением немногих друзей, воспринимаются как антипатриотические. Писателя со всех сторон начинают оскорблять, поносить его книги и почти злобно оспаривать его писательский талант; от Гессе отворачивается почти вся писательская общественность и даже бывшие друзья. Издатели отказываются печатать его книга, а книготорговцы — продавать. На Гессе обрушиваются и пацифисты, обвиняя его в поверхностности взглядов, сомневаясь в их искренности. Потрясенный и раздавленный, но пытающийся сохранять спокойствие, Гессе отвечал в прессе на нападки и справа и слева, вызывая, однако, своими возражениями еще большую травлю. Как реакция на кампанию против себя и гуманистических ценностей, которые он представляет, в Гессе росло убеждение, что дух книжной культуры — дух исключительно наднациональный, что гуманистический космополитизм, несмотря на нежнейшую, трепетную любовь писателя к родной литературе, составляющей основу его «книжной» формации, — единственное спасение в обстановке кровавого хаоса. И Гессе продолжает свое книжное служение.
В 1915 году писатель добивается места «должностного представителя» (эта должность была утверждена по его настоянию) в немецком посольстве в Берне и, основав вместе с профессором зоологии Рихардом Вольтереком «Службу по обеспечению немецких военнопленных», до конца 1919 года снабжает сотни тысяч немецких пленных в разных странах книгами и журналами, издает «Газету для интернированных немцев», а в 1917 году открывает собственное «Издательство книжного центра для немецких военнопленных», где за два года издает 29 книг: свои собственные произведения, Готфрида Келлера, антологии стихов, Эмиля Штрауса, Адальберта Штифтера, Арнольда Цвейга, сборники анекдотов, Вильгельма Шефера, Теодора Шторма, Томаса Манна, Роберта Вальзера, Кнута Гамсуна и многое другое — преимущественно антологиями, но и отдельно тоже. Правительство почти не давало на это денег, и Гессе, гордец по натуре, просит пожертвований у крупных писателей, обивает пороги филантропических учреждений, обращается в международные организации и, естественно, вкладывает свои собственные средства. И все это на фоне сильнейшего нервного срыва, случившегося в начале 1916 года.
«Запрограммированный» натурой Гессе и стимулируемый обстоятельствами жизни, этот кризис, как мы видели, готовился исподволь; стремление интегрировать свое сознание привело Гессе лишь к попыткам приспособиться к собственной автономной формации; сложившийся метод магической символизации оказался не «путем вовнутрь», а бегством во внешнее; искусство обернулось заменой жизни; пропагандистская деятельность на книжной ниве лишь усиливала раздвоение сознания, удовлетворяя лишь непреодоленному идеалу Я и собственной формации писателя, но не удовлетворяя Я-сознанию, к тому же и результатов своей работы Гессе видел мало; росло чувство вины и страха, которое создавало субъективное ощущение прогрессирующей душевной болезни, переходило в навязчивый невроз. Разваливался брак — попытка претворить символы сознания в объективную жизнь, что еще больше усиливало ощущение тревоги. В 1914 году тяжело заболевает младший сын, что Гессе словно предсказал в «Росхальде» и в чем, конечно, винил только себя. На глазах развивается психическое заболевание жены, в которой Гессе, несмотря на разлад, по-прежнему видел и возлюбленную и мать (в 1918 году она была помещена в лечебницу, а в 1923 состоялся развод). Война и травля довели писателя до отчаяния. Последней каплей была смерть отца, потеря любимого человека и призрачной возможности когда-нибудь «очиститься» перед ним, воплощением правильной жизни и суда над «блудным сыном», снедаемым к тому же чувством вины, которое было порождено вытесненным в бессознательное страхом инцеста, столь важным для книжной формации Гессе.
Кризису суждено было продлиться около десяти лет, и преодоление его происходило у Гессе под знаком психоанализа Фрейда — Адлера — Юнга. Гессе как интроверт был стихийным психоаналитиком и с юности читал и изучал все, что касалось психологии, а в 1914 году он основательно познакомился с работами Фрейда и Адлера, о чем свидетельствует его рецензия на книгу Э. Лёвенштайна «Нервные люди» и что, очевидно, было продиктовано глубокими жизненными интересами Гессе в этот период. Вероятно, именно это чтение побудило Гессе обратиться в 1916 году за помощью к психиатру Йозефу Бернхарду Лангу, ученику Юнга. Ланг, давший писателю свыше ста сеансов психоанализа, видимо, увлек своего пациента учением Юнга, чью знаменитую книгу «Метаморфозы и символы либидо» (1912) Гессе тщательно изучал в 1916–1917 годах. С этого времени Гессе постоянно читает и рецензирует всю психоаналитическую литературу, в первую очередь классиков психоанализа, среди которых уже с 1918 года на первое место в сознании Гессе выдвигается Фрейд, а любимыми книгами Юнга остаются для него лишь «Метаморфозы» и «Психологические типы». Психоаналитические сеансы принесли Гессе заметное облегчение и попутно дали толчок к выходу из творческого кризиса. Гессе взял курс на открытую конфронтацию со своим «заколдованным» автономным комплексом, из которого в первую очередь предстояло выделить осадок от незавершенного отождествления с родителями — идеал Я. Символом веры писателя становится требование «жить самому собственной жизнью», а в произведениях его это выразилось в образах процесса индивидуации, пути к «самости», к интеграции Я-сознания и автономного «книжного» комплекса через прочувствованную символическую реализацию всех осознанных и неосознанных конфликтов. Творчество Гессе из эстетико-дидактического становится ярко исповедническим, черпающим свой материал в бессознательном, которое он теперь уже последовательно рассматривает как подлинный источник образования, в том числе и книжного; образным воплощением коллективного и индивидуального бессознательного предстает в сознании Гессе и вся всемирная литература и каждая входящая в нее книга.
В 1918 году Гессе пишет программный рассказ «Книжный человек», в котором выстроена модель «книжной» индивидуации. Читателя-Гессе, живущего переживанием чужих страстей и постоянно приспосабливающегося к своему книжному складу, чтение (инициация во внешний мир) приводит к образованию «маски», неподлинной личности. В сновидении Читателя, символе бессознательно прогрессирующей болезни, возникает возводимая собственными руками Читателя стена исполинской башни — символ и авторитарного книжного комплекса, и идеала Я, и эстетического нарциссизма, и вины, и первородного греха (прочитываются в этом символе и многочисленные другие универсальные значения). Стена, «маска» Читателя, рушится, обнажая кровавый хаос и упоение жизнью — символ подлинного рождения и инициации во внутренний мир, во все то, что было под спудом, осознанным или неосознанным табу. Женской парой к внутреннему «башни» выступает гулящая девушка, символическое воплощение архетипа «Вечной Матери», плодородия и бессознательного — потенциального источника всех творческих порождений. Содержания книг и гулящая девушка, встреченная Читателем на восходе солнца, рисующем образ «духовного пробуждения», составляют «аниму» — проекцию родительской сизигии. Объединение Читателя с женским началом «анимы» знаменует то, что Юнг называет преодоление «материнского комплекса», доведением до конца отождествления с женским родительским началом. Читатель на пороге отрыва от идеала Я и претворения давящей материальности книжного комплекса в духовную функцию, образующую как бы мост к «самости», «путь вовнутрь».
Прелюдией к этому пути стал написанный годом раньше, в 1917-м, роман «Демиан», созданный в психоаналитическом ключе символический «образ» самого писателя. В «Демиане», мистифицированной автобиографии Эмиля Синклера, прослеживается история становления цельной личности, освобождающейся от своей «тени» (чувства вины) и вместе с тем от авторитарной власти родительского дома. Через зеркально перевернутый ветхозаветный миф о Каине и Авеле функция отца переходит (изменяя свое значение авторитарности и отчуждения на значение свободы и духовного сродства) к другу Синклера Демиану, а не менее авторитарная функция матери переходит к матери Демиана госпоже Еве. Госпожа Ева и ее сын Демиан выступают символом «анимы» главного героя. На пути подчеркнуто эротического стремления Синклера к госпоже Еве как к потенциальной «самости» стоит знание о мире — как бы «содержание» книжного комплекса Гессе, символизированное птицей, которая стремится пробить изнутри скорлупу яйца. Душе-птице Синклера помогает родиться отшельник-богослов Писториус (его прототипом послужил врач Ланг), который вводит главного героя в древние оккультные учения, помогающие преобразить зло в добро. Именованием образа птицы, разбивающей яйцо, соотнесением его с объединяющим добро и зло гностическим божеством Абраксасом открывается путь к любви госпожи Евы. В начале войны, символизирующей возврат к хаосу и «переоценку всех ценностей», сын Евы Демиан, служивший лишь проводником к идеалу женщины и матери, погибает, оставляя Синклеру завещание о необходимости перерождения мира. Но в жизни реального Гессе это завещание не так легко осуществить, о чем свидетельствует преисполненная жесточайших душевных мук и немилосердного самообличения повесть «Клейн и Вагнер», написанная только что оставившим бернскую чиновничью службу Гессе в марте 1919 года, сразу после переезда под Лугано, в деревушку Монтаньолу.
Клейн и Гессе идентичны во всем. Бегство Клейна, бросившего жену и детей, в Италию — это бегство Гессе в Монтаньолу, изменены лишь географические названия; совпадают и мысли и приключения Клейна с событиями в личной жизни Гессе в первые несколько дней пребывания в арендованном Доме Камуцци — вплоть до самоубийства Клейна, которое у Гессе было лишь попыткой. Плод воображения Гессе — лишь танцорка Терезина, воплощающая недостижимую «самость» и служащая контрпроекцией жены Клейна-Гессе. Фрустрация в отношениях с Терезиной, образующей в паре с неизвестным партнером по танцу «аниму» Клейна, — это отчаяние Гессе обрести тождество с собою, со своей авторитарной формацией. Идеал Я, несмотря на понимание цели, остается непреодоленным, и спасение лишь в перерождении через смерть в материнском лоне — в водах озера. И Гессе перерождается в Клингзоре, герое повести «Последнее лето Клингзора» (1919).
История Клингзора, живописца, поэта и философа, разыгрывается в гессевском Доме Камуцци и рисует мыслимый тогда для Гессе в реальной жизни и тогдашнем его реальном состоянии финал индивидуации — изображение собственного автономного комплекса в автопортрете. Живопись здесь символическая визуализация архетипа «образа», «самости», состоящего из двух пар, из двух двойных проекций Гессе. Клингзор — проекция, «второе рождение» гениального китайского поэта Ли (Тай) Бо (701–762), жившего в непрерывном творческом горении, ощущавшего в себе целый мир и не страшившегося одиночества, певца печали и мужества, равного в своих вечных скитаниях могучей природе; а поэт Герман, «альтер эго» Клингзора, — проекция друга Ли Бо, великого Ду Фу (712–750), мечтателя и страдальца, готового к самопожертвованию отшельника. Символов вожделенной «самости» предстает кажущаяся стареющему художнику недоступной «Царица Гор» Эрсилия, прототипом которой послужила Руфь Венгер (в 1924 году Гессе вступил с нею в короткий и неудачный брак). Эрсилия живет в замке на вершине горы. Восхождение Клингзора и его друзей на эту гору символизирует полноту жизни, которую Гессе испытал вслед за отчаянием «Клейна», а спуск с горы, сопровождающийся мимолетными объятиями со встречными красавицами, — нисхождение, возврат в «царство матерей» — к творчеству, целью которого остается лишь создание собственного «образа» и слияние с этим образом, что является символическим аналогом смерти. «Клингзор» — мучительное размышление Гессе о том, не оказывается ли искусство в действительности «лишь заменой, трудно дающейся и вдесятеро дорого оплаченной заменой упущенной жизни, упущенной животности, упущенной любви», не болезнь ли искусство и литература, равно как и их потребление, как и сама духовность. Начиная с подросткового кризиса, вопрос этот Гессе прямо или косвенно решал для себя всю жизнь, изображал его во многих произведениях. Вопрос о болезни связан с «колдовством книги», с властью духовной культуры, трудно совместимой с бытовыми и биологическими потребностями жизни, и, поставленный без оговорок и виляний, в период кризиса он оказывается для писателя главным препятствием на пути к «магическому» слиянию с собственным «образом» — к «образованию» и «самости».
И в «Курортнике» (1923) Гессе бросает юмористически выраженный вызов своему страху перед укоренившимся навязчивым неврозом, открыто объявляя себя невротиком. Жизнеутверждающее воссоединение раздвоенного Я происходит в три этапа. В беседе с врачом курорта Гессе называет объект: болезнь в писателе «первичная сила»… порожденная душой, «оно… самовыражается в пластическом материале». Затем названное «оно» предстает в образе мешающего жить соседа-голландца, которого как врага можно устранить, лишь «преобразив, переработав» его «из объекта ненависти и страданий… в объект любви и братского участия», и Гессе в деталях воссоздает в своем воображении образ голландца, «вдыхает» в него свою любовь, отождествляясь с ним. Так же поступает писатель и со своим ишиасом, превращая его в органический атрибут собственной личности.
В двух эссе 1924 года «Послесловие к Новалису» и «О Гёльдерлине» Гессе довершает «магическую» операцию над своим сознанием, заменяя ницшевскую теорию «облагораживания через вырождение» теорией «вырождения через облагораживание». То, что «гений всегда связан с безумием», писал Гессе, не более чем «обывательское буржуазное учение». Гений может воспротивиться возможному безумию именно потому, что он более чем просто нормальный человек, а сверх одухотворение и утончение души безусловно приведет к безумию. Это было утверждением фрейдовского понятия сублимации, возвышением в духовное всего, что враждебно противостоит Я-сознанию. Такое толкование отличается, в сущности, от психоаналитического, но и сам психоанализ стал для Гессе лишь магическим средством творческого самоосуществления личности, а не принесением духовности и искусства в жертву животному здоровью. Отражение такого взгляда на книжную культуру мы найдем и в библиофильской прозе Гессе начиная с 1918–1919 годов и до конца жизни.
После «Клингзора», когда наступило относительное успокоение, с 1920 по 1922 год с годичным перерывом для вчитывания в «Упанишады» и «Бхагавадгиту» Гессе создал повесть «Сиддхартха. Индийская поэма», где исключительно на книжном материале воплотил образ прожитой и развеществленной «книги жизни» образ «самости». Таинственная Индия и ее религии с детства притягивали Гессе в той же мере, в какой его отталкивала монотонность и строгость родительского пиетизма, сочетавшегося у отца со страдальческим аскетизмом, а у матери — с врожденной чувственностью и любовью к мирским благам, — с качествами, парно объединенными в литературных двойниках писателя, образах его книжного комплекса. До 1907 года Гессе прочитал и изучил всю доступную в немецких переводах древнеиндийскую литературу, но не нашел в ней искомой мудрости о единстве Я и мира знания. В 1907 году он с увлечением прочел отрывки из «Даодэдзин» [«Книги о Дао (Пути) и Дэ (свойствах природы человека)»], а в 1910 году, проштудировав «Беседы Конфуция», стал страстным поборником китайской литературы и философии. С тех пор Гессе читал и пропагандировал в рецензиях все, что выходило китайского на немецком языке. В годы первой мировой войны китайская мудрость, наряду с психоанализом, была для Гессе не только утешением, но и мощным психотерапевтическим средством преодоления кризиса. Плодотворный для Гессе синтез христианства, греко-римской античности, буддизма и даосизма, в освобожденном от конфессиональной догматики виде составивший основу его мировоззрения, принял в «Сиддхартхе» индийскую форму. Из всех героев Гессе лишь Сиддхартха полностью осуществляет идеал писателя — достигает «самости» как высшей стадии «вочеловечивания», проходящего в повести четырьмя этапами. Разочарованный книжно-догматической мудростью своих родителей-брахманов, состоящей лишь в поклонении авторитету, вместе со своим другом Говиндой Сиддхартха уходит к аскетам-саманам, цель которых изжить личность человека (это ситуация «Демиана»). Саманистский идеал сменяется идеалом Будды, проповедующего преходящность всех вещей. Говинда, трехзначная проекция материнского начала, остается навсегда с Буддой, а Сиддхартха, разочарованный в буддистском учении о жизни как о колесе сансары, приходит к реке — символу двуделения мира на духовное и чувственное; там он встречается с собственной проекцией — перевозчиком Васудевой. Сиддхартха осознает, что, познав мир духа, он оказался отчужденным от себя, что боится себя и бежит от себя (это ситуация «Клейна»), и решает учиться лишь у себя самого, у собственного Я материального. «Если кто-то читает письмена, чтобы обнаружить их смысл, он не презирает знаки и буквы, называя их мороком… а читает их, изучает и любит, букву за буквой. Я же, стремившийся прочесть книгу мира и книгу моей жизни, заранее, в угоду предполагаемому смыслу, презирал знаки и буквы, называл их миром иллюзий, мороком, называл мой глаз и мой язык случайными, неценными явлениями», — рассуждает Сиддхартха-Гессе и, переправленный Васудевой на другой берег реки, погружается в чувственный мир, вступает в любовную связь с куртизанкой Камалой после того, как Говинда явился ему во сне в облике женщины. Сиддхартха познает с Камалой вещную сторону «книги жизни». Идеал Я разрушен и превращен в духовную функцию (ситуация «Книжного человека»), но собственное Я Сиддхартхой не найдено. Уйдя из дворца Камалы, он пытается покончить с собой, утопившись в реке. И вновь появляется Говинда, как бы объявляя о начале постижения Я как «самости» — вечного объединения двух миров. Сиддхартха, переживший смерть Камалы, воспитавший и отпустивший в большой мир своего сына, заменил умершего между тем Васудеву на месте перевозчика и сам стал посредником между мирами. И в четвертый раз появляется буддист Говинда, которому Сиддхартха простым прикосновением объясняет свою приобретенную и несообщаемую в словах мудрость-любовь. Перед взором Говинды вместо лица Сиддхартхи возникают «другие лица… катящийся поток из сотен, тысяч лиц», которые, «казалось, существовали одновременно, непрерывно менялись и возобновлялись и тем не менее все были Сиддхартхой», это лицо было словно соткано из вод реки и улыбалось «улыбкой единства над стремительным потоком образований», над «самостью», которую Сиддхартха воплотил в себе, но остался собою. Ипостасью образа Сиддхартхи в его конечном осуществлении станет собирательный образ человека в концовке эссе «Магия книги» (1930). Этот образ намечает ту стадию в развитии Гессе, когда на «пути вовнутрь», в непрерывном снятии средостения между Я-сознанием и книжным комплексом, в нарастающем процессе исповеди у писателя происходит «обезбытивание» (Entwerdung), исчерпание собственной творческой формации с выходом на. самоцельную жизнь в безразличном к окружающему балансе духовного и материального, субъекта и объекта, в «царстве бессмертных» из «Степного волка».
В «Степном волке», написанном в 1924–1926 годах и увидевшем свет к 50-летнему юбилею писателя у Фишера в Берлине в 1927 году, вновь ставится проблема болезни, вновь подвергается магической символизации и ведется к спасению творческое книжное Я писателя. Но, пожалуй, впервые в творчестве Гессе личная драма со всей полнотой перерастает здесь в драму эпохи — в конфликт писателя с подавляющим его сознание бездуховным миром. Подхватывается тема повести «Под колесом» — тема личной коллизии Гессе с враждебным человеку авторитарным общественным устройством и социально окрашенная тема «Демиана» и «Клейна и Вагнера». Не случайно многозначное самоименование главного героя, Гарри Галлера — ипостаси Гессе. Архетип «волка», один из сложнейших в наивной картине мира, включает в себя и образ всеми гонимого зверя; и знания как магического ритуального убийства; и связи при «мировом древе» и «мировой горе»; и единства миров «верха» и «низа». Эта емкая символика гессевского посредничества, противостояния принявшему социальные формы идеалу Я и жертвенной самоотдачи составляет сердцевину романа, который, «облекая глубоко пережитое в форму зримых событий», «преодолевая большую болезнь эпохи» тем, что «делает ее предметом изображения», рисует перед нами превращение «человеко-волка» в «волка» свободного человека, преобразившего сферу своей болезни в сферу борьбы с материальным прагматизмом, с «машинным адом» цивилизации — в сферу ритуальных убийств, готовящих «царство бессмертных». Повествование, оформленное как издание «Записок Гарри Галлера», сразу начинается с фазы «отчаяния» на золотистом, узком, как нить, пути к «самости», к «вочеловечиванию». Это отчаяние сосредоточено в символах книжного комплекса: в самих «Записках», в «серой каменной стене» «между церковью и больницей» символами авторитарности и вырождения сознания, — за которой скрывается «магический театр» сознания, развитие символа бессознательного из «Лаушера» и «оперы» творчества из «Гертруды». А в надличностной форме «книжный» комплекс представлен таинственным «Трактатом о Степном волке» — книгой в книге. Снятие чар, развеществление грозящей гибелью авторитарной формации «книжного человека» Гарри Галлера, вновь происходит с помощью куртизанки, Гермины, которая составляет «аниму» Галлера в паре с символическим материнским, плотским началом — Марией, выполняющей чисто эротическую функцию тем, что она возвращает аскету Галлеру чувство любви как полноты жизни. Совершается инициация Галлера в ожившую «книгу» его сознания — в «магический театр», соотносимый с «книгой асков» из «Германа Лаушера». Инициация происходит ритуальным убийством Гермины в момент ее соития с Пабло, проекцией чувственной стороны натуры Галлера. Давящее отцовское начало повторяется в чисто духовное. В «магическом театре» освобожденного сознания Галлер постигает вершины духа как собственный «образ» на пороге «царства бессмертных». Со «Степным волком» к Гессе пришла мировая слава, кризис был позади, возникла необходимость в итоге — в изображении смысла и роли художника как центральной фигуры раскрепощенной жизни духа, и в 1927–1928 годах Гессе пишет свой очередной шедевр — «Нарцисс и Златоуст» (опубликован в 1930 году).
Гессе, возведший нарциссическую по сути раздвоенность своего сознания в кредо и источник творчества, в романе «Нарцисс и Златоуст» создает романтический образ идеала «жить самому собственной жизнью», который складывался от «Демиана» до «Степного волка». Свою роковую книжную формацию, отделенную от «снятого» в романе идеала Я, Гессе представляет как непрерывное наполнение материи духом, чувственного начала — художническим Я-сознанием. Исходная позиция повествования — символизация психологической ситуации Гессе-подростка: мальчика Златоуста, в имени которого задано чуть ироническое значение красноречивого, но «празднословного и лукавого» литератора-Гессе, а также проекция жития и учения близкого Гессе по духу раннехристианского писателя Иоанна Златоуста, — отец привозит в семинарию монастыря Мариабронн, чтобы мальчик, воспитавшись в монастырской аскезе, навсегда забыл некогда разлюбившую отца и бросившую семью мать. Златоуст становится другом молодого, но мудрого учителя Нарцисса, в котором духовность (отцовское начало) возобладала над чувственностью (женским началом); он тянется к Златоусту как к собственному отражению, ибо и в Златоусте борются чувственность и духовность. Оба становятся «двойниками», символически обменивающимися своими содержаниями на протяжении всего романа. Нарцисс для Златоуста как бы архетип «книги образов», форму которой принимает все содержание романа. Поначалу молодой учитель играет словно материнскую роль: он пробуждает в Златоусте образ забытой матери и, тем самым вызывая в нем к жизни неукротимое творческое начало, побуждает юношу к бегству из монастыря. В своих странствиях ваганта (действие романа происходит в излюбленном Гессе средневековье) Златоуст ищет в каждой женщине, в каждом наслаждении и страдании, в происходящих на его глазах рождениях и смертях почти стершийся в его памяти образ матери, который постепенно складывается в образ едино-сущностной природы — Матери Евы. Целью жизни Златоуста, обучившегося искусству скульптора, становится воплощение этого образа, и художнику удаются лишь два «прочтения» материнской книги жизни: он создает совершенную скульптуру Иоанна Богослова — портрет Нарцисса, наделенного женственными чертами (это образ оплодотворяющей самое себя и тем все порождающей природы); и в конце второй половины своего пути, познав во время чумы всеобщую гибель и вернувшись в монастырь, чтобы работать там художником, Златоуст ваяет скульптуру девы Марии, в которой воплощает образ одухотворенной, все примиряющей, но непостижимой любви. Непримиренный Златоуст умирает на руках у ставшего для него отцом Нарцисса в сознании того, что Мать Ева не желает разоблачения своей тайны и что познание ее только в смерти. Радость творчества и познания мира и печаль о неосуществимости выраженного в «Сиддхартхе» идеала, перемежающиеся в этом сложном философском романе подобно игре света и тени, начинают звучать в концовке трагической нотой. Стареющему писателю, победившему душевный и творческий кризис, не давалось преодоление изоляции, хотя долгу общественного служения и посредничества Гессе не изменял в периоды даже самых жестоких душевных мук.
В 1919 году, еще не оправившись от впечатлений войны, параллельно с лихорадочной творческой работой вместе со своим верным соратником Рихардом Вольтереком Гессе начинает издавать журнал «Vivos voco»[4], который, по замыслу издателей, должен был стать органом духовного обновления Германии, новой культуры и обращался прежде всего к молодежи. Как в «Мерце», Гессе взял на себя литературный раздел. На страницах «Vivos voco» впервые увидели свет отрывки из «Клингзора», «Клейн и Вагнер», «Мысли об „Идиоте“ Достоевского», большое количество эссе, статей и рецензий. Между тем провозглашенная в 1918 году Веймарская республика, на которую Гессе возлагал немало надежд, терпела политический крах, поднимала голову реакция, усиливались нападки на прогрессивных писателей, в том числе и на Гессе, которого начали обвинять в антипатриотизме, интернационализме и пацифизме, в «неврастеническо-сладострастном копании в прекрасном», в «презрении к священным садам немецкого идеализма, немецкой веры и немецкой верности». Одно из таких выступлений было напечатано и в «Vivos voco». Гессе сдержанно отвечал, напоминая, что именно такая безответственная вера в буржуазно-авторитарные идеалы и привела к войне, что именно такие люди губили цвет немецкой литературы во все времена, но напрасно — травля усиливалась. В 1921 году Гессе прекратил соиздательскую деятельность и в «Vivos voco», хотя рецензии для журнала писать продолжал, а в 1924 году сложил с себя немецкое гражданство, приняв гражданство швейцарское. В среде немецкой официозно настроенной интеллигенции Гессе стал persona non grata. В немецкой прессе подвергалось уничтожающей ревизии все творчество писателя, «расчищавшее путь восточному варварству»; разоблачался «предательский эстетизм» «Сиддхартхи»; Гессе обвиняли в преступлениях против родины, в безнравственности и беспринципности. Многочисленные друзья и почитатели молчали, а усилия немногих, вступившихся за писателя, оказались бесплодными. В 1930 году в знак протеста Гессе вышел из Прусской академии искусств, членом которой он не без колебаний стал в 1926 году. Проблематика поиска действенных контактов с официозно-авторитарным внешним миром была снята у Гессе окончательно. Но поиск единения, «избирательного сродства» с «иными», «духовными» Гессе не прекратил, оставаясь в этом столь же стоек, как и в своих нравственных и общественно-политических убеждениях. С 1923 года он все чаще выезжал в Швейцарию и Германию с публичными лекциями о книгах и писателях, с чтением своих произведений; возобновлял прежние дружеские связи, контакты с литературно-художественными кругами. В 1926 году судьба распорядилась так, что Гессе случайно встретился в Цюрихе с искусствоведом Нинон Дольбин, урожденной Ауслендер, которая еще четырнадцатилетней девочкой, в 1909 году, написала Гессе восторженное письмо и тогда же получила от него ответ. Обоюдная симпатия оказалась настолько сильной, что в 1927 году Нинон переехала в дом Гессе и в 1931 году они заключили брак, прочный и на диво счастливый для обоих. Гессе нашел в Нинон идеал женщины, который искал всю жизнь и непрерывно воплощал в своих произведениях.
Годы, проведенные в Доме Камуцци, оказались наиболее продуктивными в жизни Гессе. Был преодолен кризис, достигло вершины мастерство писателя, были написаны «Клейн и Вагнер», «Последнее лето Клингзора», «Сиддхартха», «Курортник», «Степной волк», «Книга образов» (очерки, воспоминания, заметки; 1926), «Нюрнбергское путешествие» (1927), «Нарцисс и Златоуст», «Паломничество в Страну Востока», десятки рассказов, эссе, стихотворений и сотни рецензий. В Доме Камуцци продолжилась и издательская деятельность Гессе — трудами писателя вышло около 20 книг. Осенью 1924 года Гессе задумал выразить в материальном виде ядро своей книжной формации — при поддержке своего племянника Карла Изенберга запланировал издание серии произведений немецких писателей и их автобиографий периода 1750–1850 годов. Новый проект стал важнейшей издательской работой Гессе. Писатель неделями и месяцами просиживал в библиотеках, составил библиографию, которая заняла бы огромную книгу, написал необозримое количество заметок, свидетельствующих о буквально умопомрачительной филологической, философской, психологической и исторической эрудиции Гессе. Первоначально издание называлось «Дух романтизма» и должно было выйти в трех томах. Гессе предложил издание Самуэлю Фишеру, но тот отложил проект на неопределенное время. Гессе, оставив рукопись у своего постоянного издателя, продолжил работу и расширил проект до 7 томов, дав ему заглавие «Классическое столетие немецкого духа 1750–1850 годов»; затем издание выросло до 12 томов, а в продолжение его на случай успеха предприятия было подготовлено 10 томов антологий и еще 8 томов, посвященных отдельным авторам. В 1931 году Гессе, видимо раздраженный колебаниями Фишера, дал заявку в издательство «Дойче ферлаганштальт», которое поначалу ухватилось за эту идею, но, узнав, что Гессе одновременно хочет продолжить у Фишера издание серии «Замечательные истории и люди» (книги отдельных немецких писателей, а также восточные и итальянские новеллы), из которой в 1925–1926 годах уже вышло шесть томов, отказалось от предложения. Несмотря на то, что для серии «Классическое наследие» было уже подготовлено шесть томов, а к большинству из 30 томов всего издания были уже написаны предисловия, Гессе не продолжил поиск издателя (рукописи этого проекта до сих пор не найдены — видимо, они погибли в издательствах или во время бомбежек и пожаров или были сожжены гестаповцами при аресте преемника Фишера — Петера Зуркампа). Дело, вероятно, не в том, что издатели не доверяли Гессе, а в том, что не было спроса на старую национальную литературу, и писатель, поняв, что все его попытки разбудить интерес к «дедовщине», пропитанной идеалами наднационального гуманизма, напрасны, навсегда утратил интерес к издательской деятельности.
Все большее сужение внешнего мира, сопровождавшееся у Гессе расширением мира внутреннего и магическим преображением его в духовность, в 1931 году обрело вещественный образ в подарке музыканта и врача, друга и мецената Гессе Ганса Кристиана Бодмера — в доме, построенном специально для писателя и названном Дом Гессе. Этот дом стал для Гессе прибежищем на всю жизнь, духовной крепостью и символом все более обретаемого тождества с родным домом и духовно интегрируемой собственной книжной формацией. В отличие от Дома Камуцци, экспрессивного и романтического, с балюстрадами, башенками, ступенчатыми щипцами, затейливыми карнизами, окнами и лепными украшениями, с пышным экзотическим садом, Дом Гессе покоил глаз предельной простотой, строго члененными классическими формами, а большой, похожий на парк сад, уход за которым стал органической частью жизни Гессе, тоже был простым и будничным. На втором этаже нового «пространства сознания» находилась рабочая комната писателя — «студия», как он ее называл, а под ней, на первом этаже, — собственно кабинет с большим старинным письменным столом посередине, заваленным бумагами, книгами, рукописями; рядом располагалась огромная библиотека писателя — комната, где принимали гостей, пили чай, слушали музыку в окружении четырех стен-стеллажей, до потолка заполненных книгами. Здесь стал реальностью идеал личной библиотеки, описанный в эссе «Библиотека всемирной литературы», идеал создания своего «образа» как образа духовного космоса и слияния с этим образом, обладания им внешне и внутренне — идеал трансцендентного вочеловечивания. Здесь библиофильская проза Гессе окончательно утратила дидактическую тональность, превратившись в равноправный диалог с родственным по духу читателем, включенным в сознание Гессе на правах «альтер эго». Здесь чтение и писательство стало для Гессе процессом, в котором единый для всех смысл наполовину воспринимается, наполовину создается, — стало «балансом благородного взаимодействия изнутри и извне», по выражению американского гессеведа Штельцига.
Еще до переезда в Дом Гессе горькая нота, звучащая в концовке «Нарцисса и Златоуста», вновь пробуждает в писателе конфликт с его книжной формацией. Гессе, глядящийся в образ Златоуста, вновь ощущает недостижимость полноты бытия, возможности объединить в себе и художника и человека. «Я стал писателем, но человеком я не стал, — писал Гессе в 1929 году. — Я достиг лишь частичной цели, но главной я не достиг… Моя жизнь — это только работа». В крещендо исповедей, достигшем апогея в «Нарциссе и Златоусте», творческая формация, по выражению самого Гессе, казалась «полностью устраненной и уничтоженной… перебесившейся и выжженной». На месте развеществленного идеала Я оказалась пустая форма с контурами Я-сознания. Этой пустой формой был архетип «самости», и, вероятно, осознание этого при пересмотре всего сделанного (свои дневники 1920 года с рассуждениями об опасности исповеди в художественном творчестве Гессе, видимо, тогда перечитывал; они были опубликованы в 1932 году) вызвало у писателя прилив энергии. В 1929 году была задумана, а в 1930-1931-м написана повесть «Паломничество в Страну Востока», одно из эзотеричнейших, сложнейших и наиболее «книжных» произведений. Подлинный мир духа, скрытый в «Лаушере» за красиво разрисованным занавесом жизни, в «Степном волке» реющий перед Галлером «царством бессмертных», а в «Нарциссе и Златоусте» — образом Матери Евы, стал в «Паломничестве» сферой, магически завороженной в целое жизни, сферой книжной культуры, личной биографии и творческого восприятия писателя.
Символический «крестовый поход» в таинственную Страну Востока — не в географический регион, а в воображаемое царство психократии — изображает биографию Гессе предыдущих двенадцати лет его жизни, биографию, выраженную в том числе и через важнейшие для сознания писателя культурные содержания-фигуры. Паломники, члены некоего Братства (повесть эта новаторская переработка синтеза двух господствовавших в любимом Гессе XVIII веке жанров «романа о братствах» и «романа-путешествия») — искатели истины из всех времен и пространств; среди них и друзья Гессе, и герои его произведений, и исторические лица, и герои любимых книг Гессе, и, конечно, сам Гессе, кроющийся под личиной некоего Г. Г., скрипача, и слуги Лео. Прием Г. Г. в Братство, год испытания, дезертирство через несколько месяцев, десятилетние страдания в одиночестве, толкающее к самоубийству отчаяние, месяцы изнурительных усилий обрести себя, попытки восстановить связь с Братством и окончательный прием в его ряды соответствуют реальным событиям и художественным автобиографиям писателя как проекциям этих событий после отъезда из Берна в 1919 году. Г. Г. ищет в походе прекрасную Фатиму. Открытый мальчиком Гессе в дедовом экземпляре «Тысячи и одной ночи» образ Фатимы (ночь 983-я) в «Паломничестве», как явствует из архивной карточки Фатимы в Архиве Братства, наиболее, пожалуй, книжном из всех произведений Гессе символе творческого комплекса писателя, оказывается собирательным символом всех «околдовывающих» женских персонажей в произведениях Гессе, реальных женщин в его жизни и мифологических существ вплоть до праматери Евы. Фатима — скрытое указание на то, что вместе с Г. Г. она потенциальная прародительница всего мира культуры, содержащая в себе все архетипы «самости» — «средоточие происшествий, точка схода, в которой соотносятся и становятся единством все факты». Живым воплощением Фатимы является Нинон Ауслендер, идущая вместе с паломниками. Фатима не будет найдена, Г. Г. не встретится с Нинон, утратится возможность единства, если не отыщется Лео, исчезнувший вместе с оригиналом древней Хартии Братства. С исчезновением Лео, проекцией дезертирства Г. Г., Братство начинает распадаться, как распадается мир на бессмысленные фрагменты без связующей силы любви и деятельного служения. Появление Лео, который оказывается тайным главой Братства, суд над Г. Г., повторное принятие в Братство, пустота в архивном разделе Г. Г., а в пустоте две сросшиеся фигурки — Г. Г. и Лео, немощь и цветущая сила — ведут к магическому событию: содержания прозрачных фигурок начинают обмениваться своими субстанциями, и становится ясно, что субстанция Г. Г. со временем без остатка перетечет в образ Лео, который, как и «волк», является образом связи и посредничества между мирами «земли» и «неба». Претворение колдовства книги в магию книги предстает процессом непрерывного и вечного единения с собой и в себе — со всеобщностью жизни и духа. Эта высшая идея Гессе дает материал и плоть его последнему, масштабнейшему произведению «Игра в бисер», которое было посвящено Паломникам в Страну Востока. Замысел «Игры» родился еще в 1927 году, работу над ней Гессе начал в 1932-м, а закончил в 1943-м.
Причиной столь долгой работы была не только сложность концепции романа, а чрезвычайное оживление жизни самого писателя. Дом Гессе стал средоточием культурных и политических событий 30-х годов: приезжали и гостили поэты, писатели, художники, музыканты, друзья, родственники, а с наступлением фашизма в Германии в гессевском доме начали принимать беженцев и эмигрантов, которым Гессе помогал материально и морально. Вновь набрала силу рецензионная деятельность писателя, приобретшая отчетливо политическую окраску. Сотрудничая с немецкими газетами, Гессе уделяет особое внимание «тем книгам, рецензировать которые никто не рискует, книгам евреев, католиков, книгам, исповедующим какие-нибудь идеалы, противостоящие господствующим там (в Германии)», как свидетельствует сам писатель. Одна за другой немецкие газеты отказываются печатать рецензии Гессе, «попавшего в лапы психоанализу венского еврея Фрейда» и «большевикам от культуры», «охаивающего всю новую немецкую литературу». В 1935 году Гессе начинает писать для ведущего шведского литературного журнала «Бонньеш литтерера магасин», в котором под рубрикой «Новые немецкие книги» пропагандирует произведения Музиля, Кафки, Польгара, Броха, Стефана Цвейга, Томаса Манна и многих других запрещенных или непризнанных нацистами писателей. В 1935 году началась — в который раз! — травля писателя: справа — за «ненависть к Германии» и «предательство», слева — за сотрудничество с фашистской прессой и нейтрализм. Гессе напрасно защищался и в 1938 году, выведенный из себя, прекратил писать рецензии даже для швейцарской прессы. Свои высказывания о книгах Гессе возобновил только после 1945 года, но преимущественно только в письмах, дневниках и эссе; рецензий до конца жизни он напечатал всего 32, и то в основном в швейцарской прессе. Терпевшие очередную неудачу усилия Гессе «заворожить действительность» — создать живое единство своей личности с авторитарной громадой общественно-литературной жизни, принимавшей в родной Германии все более варварские формы, при том что сам писатель снова был на пути к животворному взаимодействию собственного Я-сознания и автономного творческого комплекса, к середине 30-х годов начали претворяться в литературную утопию, роман о противостоянии царства чистого духа хаосу жизни.
Действие «Игры в бисер», как и действие «Паломничества», начинается в пространстве развеществленной книжной формации Гессе, в проекции «педагогической провинции» из «Вильгельма Мейстера» Гёте. Смысл этого пространства задан в его названии. Касталия — парнасский источник, который уже в эллинистическо-римскую эпоху стал символом поэтического и литературного творчества, «копирующего» первообразы. Следовательно, гессевская Касталия — область, где происходит формирование всех образов мира, «образование» вообще как квинтэссенция функции литературы. Возникновение Касталии было реакцией на «фельетонистскую эпоху» XX века, когда шли «бои за „свободу“ духа», бои Гессе с идеалом Я и авторитарной книжной формацией, принявшими образ целого мира, окружавшего писателя. И поэтому Касталия не будущее 2200 года, а творческий мир Гессе, мир его глубоко личных представлений, направленных против дегуманизации культуры, девальвации духовности и грамотности вообще, технократической примитивизации жизни, тоталитарной государственности (в замысле — против империализма и фашизма, но ради типизации Гессе тщательно вымарал из предварительных вариантов романа все многочисленные аллюзии на современную ему нацистскую Германию). И этот творческий мир спроецирован в прошлое, в мифически «самостное» детство писателя — в аграрно-мелкопромышленный южнонемецкий мир исхода XIX века: мир маленьких городков с крепостными воротами и башнями, окрестными деревнями, лесами и пашнями, мир провинциальных монастырей и аббатств, мелких ремесленников и крестьян, свечей, грифелей и рукописей, мир, где мало автомобилей и вовсе нет самолетов. Это мир воссоединения с детством. И вероятно, поэтому: мир Игры — игра чистыми формами.
Судя по произведениям Гессе, игра в его мифопоэтике — движущая сила и образ восхождения культуры к высшим, одухотвореннейшим формам, то есть к литературному творчеству и чтению, к музыке и изящным искусствам, к философии, психологии, истории и богословию и вновь к литературе, объемлющей и пронизывающей всю природу, весь космос. Такое представление об игре, которое мы найдем и во всей библиофильской прозе Гессе, — результат колоссальной традиции от древнейших мифологий и религиозных учений через немецкое Просвещение и романтизм до современной писателю психологии Салли, Ланге, Грооса и культурологии Буркхардта и Хёйзинги, и эта традиция нашла благодатную почву в интровертированной психике Гессе, придав его творческому комплексу принцип калейдоскопа — «калейдоскопа из образов и мыслей, неисчерпаемого для новых смыслов» (стихотворение «Сон»). «Игра стеклянных жемчужин» (так гласит оригинальное заглавие романа), таким образом, архетипический символ магико-символического творчества. Есть, на наш взгляд, и глубинный смысл загадочного названия Игры. В зашифрованном, как это в обычае Гессе, виде оно указывает на то, что писатель хорошо осознавал интровертированность своей психики, в которой, как уже говорилось, представления оказываются словно «вдвинутыми» между Я-сознанием и внешней действительностью и отождествляются обычно интровертом с «внутренним глазом», «внутренним хрусталиком», аналогами природных кристаллов, жемчугов (в психоаналитической символике — сплошь символами «самости»). К тому же интроверт возвышает обычно свои представления до «самости», и Гессе, видимо, уже понимая это, иронически и тонко символизировал стеклом «магический» хрусталик, соединяющий «внутреннее» и «внешнее» зрение.
К магико-символическому творчеству, воплощающему архетипический принцип «все во всем», стремится вся деятельность писателя Гессе, и игроки, оперируя всеобщими законами музыки и математики, отправляя «утонченный культ, unio mystica всех разрозненных звеньев universitas litterarum», вновь и вновь создают «ясный, упорядоченный мир чистых форм и формул, чистых, отшлифованных абстракций». Основополагающая идея Игры иллюстрируется в романе замыслом Альбрехта И. Бенгеля (1687–1752), одного из предтечей пиетизма и знаменитого толкователя Библии, — найти общий знаменатель для всех знаний, стянув их в одну точку, где произойдет взаимопроникновение знаний, объединение внешнего и внутреннего. Цель Игры — сохранение и эстафета духовной культуры в обстановке варварства. Но опасность здесь та же, что грозила Гессе накануне его кризиса, — в отчуждении от жизни, в возврате «заколдованности книгой», в отбрасывании к эстетизму и нарциссическому самосозерцанию, в изоляции от жизни в лоне творчества, и в этом драматизм действия этого «библиофильского» романа, единственный герой которого, как и прежде, — сам Гессе, выступающий прототипом или самопроекцией всех персонажей — фигур собственного сознания на разных стадиях его развития. Среди них и Томас Манн (Томас фон дер Траве), и Фридрих Ницше (Тегуляриус), и Теодор Фонтане (Бертрам), и Карл Изенберг (Карло Ферромонте), и Густав Грезер (Йог), и Якоб Буркхардт (патер Иаков), и многие другие; и сам Гессе (Старший Брат; мастер гадания по «Ицзин»; Александр, предводитель Совета Ордена; историк литературы Плинио Цигенхальс; хроникер). А географические и топографические прототипы «Игры», как и во всех произведениях писателя, — более или менее мифологизированные места жизни и творчества Гессе. Все персонажи идейно группируются вокруг двух центральных персонажей — Йозефа Кнехта (Мастера Слуги — в мифологическо-лингвистической шифровке) и его антипода Плинио Дезиньори (Господина), символизирующих внутреннюю (духовную) и внешнюю (житейскую) биографии Гессе. Их отношения столь же противоречивы и конфликтны, как отношения Касталии и окружающего «светского» мира, и действие романа становление Кнехта мастером Игры, а Дезиньори — господином жизни. Оба исчерпывают сполна смысл своих существований и движутся навстречу друг другу, каждый влекомый тем, что недостает другому. Это ситуация финала «Паломничества». В происходящем в сознании Кнехта-Гессе споре — в романе это беседы с патером Иаковом и с Тегуляриусом — одерживает победу переработанный Гессе буркхардтовский историзм: касталийцы не могут быть изолированы от мира; культура — лишь одно из многих проявлений истории, в том числе и истории души; признание жизни означает признание как физического, так и духовного; человеческие дела требуют и рефлексии и действия; за кажущимся хаосом реальности властвуют порядок и смысл. Это победа над ницшевской теорией «облагораживания через вырождение», устранение средостения между книгой и жизнью. И Кнехт «перешагивает пределы» — покидает вырождающийся книжный мир, чтобы, подобно гегелевскому духу, порождающему связку из себя самого, уйти в жизнь, чтобы стать посредником между «отцовской» духовностью и «материнским» хаосом, чтобы «самому жить собственной жизнью» — жизнью жертвенной самоотдачи и спасения людей. Эта высшая цель Гессе символизируется архетипической парой «взрослого и ребенка» (подростка Германа и «серенького человечка»; Гермеса и Диониса из комнатки Гессе в Тюбингене; Верагута и его умирающего сына; Сиддхартхи и его сына от Камалы; св. Христофора и маленького Иисуса с фрески из «Паломничества»): Кнехт решает стать учителем сына Дезиньори — Тито. В первый день их встречи в горном имении Дезиньори Кнехт гибнет на восходе солнца в водах озера, как бы перерождаясь в Тито в лучистой конфигурации архетипов «самости» — солнца, гор, мироздания и материнского лона.
В «Игре в бисер» — итоге своей жизни-творчества — Гессе перевернул процесс психоаналитической индивидуации, представив мир творчества (чтения-писательства) как инициацию не во внутренний, а во внешний мир; отделил идеал Я от «самости», а «самость» — от книжного комплекса, поместив ее, своенравно противореча своему сознанию интроверта, вовне, возгласив единство всех форм реальности — магическое единство духовной и материальной культуры.
«Игру в бисер», несмотря на все усилия и ухищрения Петера Зуркампа, в фашистской Германии печатать отказались, были объявлены нежелательными «Под колесом», «Степной волк», «Библиотека всемирной литературы» и «Нарцисс и Златоуст». В 1943 году роман вышел в Швейцарии, в цюрихском издательстве «Фрец и Васмут», а в Германии он оставался официально запрещенным до мая 1945 года.
В первые годы после войны Гессе, возобновив свою публицистическую активность трибуна человечности, испытал немало страданий и разочарований, схожих с теми, какие он пережил уже трижды, отстаивая идеалы деятельного гуманизма: терпимости, свободы личного выбора духовного блага и личного выбора человеком самого себя, — идеалы, единые для всех эпох, времен, народов и столь актуальные для всех нас сегодня. В конце 40-х годов к Гессе, еще с 10-х годов одному из самых читаемых немецких авторов, впервые пришло официальное признание. Почести, преувеличенные и запоздалые, посыпались как из рога изобилия: Гессе присуждаются премия Гёте (1946), Нобелевская премия (1946), премия Раабе (1950), Премия мира Немецкой книготорговли (1955); он становится почетным членом всевозможных академий, обществ, объединений и кружков; его чествуют по каждому удобному случаю; родной Кальв избирает Гессе своим почетным гражданином и даже Маульброннская семинария празднует семидесятилетие своего нерадивого ученика. Сам же писатель, державшийся в стороне от этой лавины почестей, пишет малую эссеистическую прозу, рассказы и занимается преимущественно доставляющим ему много хлопот переизданием своих произведений и начинает издавать письма, которых за свою жизнь написал он многие тысячи и которые в его жизни-творчестве играют ту же связующую, посредническую роль любви «в дружеском объединении своей судьбы с судьбою других людей», в преодолении чар своей книжной формации, как все прочие его усилия по магическому преображению действительности. И немало хлопот доставляют Гессе переводы его произведений на десятки языков мира. Совершалось волшебство: в романтической фуге единения личности Гессе с книжным миром, с совокупностью людей и книг, материи и духа «книжный человек» Гессе становился Гессе-миром, осуществляя в отношении писательства и чтения мудрость, высказанную им некогда в «Демиане», — «Все мы творцы в той мере, в какой наша душа принимает неизменное участие в сотворении мира».
Александр Науменко
Понятия и персоналии, встречающиеся в текстах
Список понятий и персоналий (прежнее название раздела — «Комментарии») служат дополнением к статье, то есть неким справочником по литературным и книжным пристрастиям Гессе и в этом смысле расширяют и поясняют тексты нашего издания. Широко известные имена комментируются кратко. Более подробные сведения приводятся о малоизвестных или практически неизвестных советскому читателю именах. Комментарии включают также анонимные произведения мировой литературы. Мифические и литературные персонажи, равно как и прочие культурные и историко-литературные реалии, объясняются в подстрочных примечаниях. В целом акцент сделан на немецких персоналиях. Русские переводы не оговариваются, ибо большинство упоминаемых произведений на русский язык переведены.
Августин, Марк (354–430 н. э.) — лат. раннехристианский писатель-богослов, родоначальник христианской философии истории, классик мировой лит-ры; гл. произв.: «Исповедь», «О Граде Божием», «О Троице». 74, 102
Альд, Мануций (ок. 1450–1515) — венецианский типограф, основатель в 1496 г. издательства, просуществовавшего около 100 лет и выпустившего около 1100 названий книг («альдинов»); создатель шрифта, ставшего классическим.
Ангелус Силезиус, наст. имя Иоханн Шеффлер (1624–1677) — нем. поэт и врач; представитель мистического пантеизма; гл. тема произв. — единение человека с Миром — Богом.
Андерсен, Ханс Кристиан (1805–1875) — датск. писатель, создатель всемирно известного сборника сказок.
Антология — т. н. «Греческая антология» — самый знаменитый западноевропейский сборник древнегреческой лирики, постоянно издающийся в Западной Европе с 1494 (когда он был составлен неизвестным лицом) и содержащий стихотворения около 300 поэтов; восходит к двум более ранним древнегреческим антологиям — к знаменитой «Палатинской антологии» (X в.) с ее 3700 стихотворениями и «Антологии Плануда» (1301) с 2400 стихотворениями; все три антологии частично представлены в совр. русск. издании: Парнас. Антология античной лирики. М., 1980.
Апулей (ок. 124 г. н. э. — ?) — др. — римский писатель и философ; прославился авантюрно-сказочным романом «Метаморфозы в XI книгах, или Золотой осел».
Ариосто, Лодовико (1474–1533) — ит. писатель и поэт, классик мировой лит-ры, автор героической рыцарской поэмы «Неистовый Роланд» (1516) и ряда комедий.
Аристофан (ок. 445 — ок. 385 до н. э.) — др. — греч, поэт-комедиограф, классик мировой лит-ры, создатель комедий как драматического жанра.
Арним, Ахим фон (1781–1831) — поэт и писатель-романтик, классик нем. лит-ры; наряду с К. Брентано первый выдающийся собиратель нем. песенного фольклора («Волшебный рог мальчика», 1806–1808).
Базиле, Джамбаттиста (1575–1632) — ит. писатель, создатель первого в европейской лит-ре сборника сказок в литературной обработке «Пентамерон» (1634–1636), включившего в себя почти все известные тогда в Европе сказочные сюжеты; оказал сильнейшее влияние на формирование европейской литературной сказки как жанра.
Байерляйн, Франц Адам (1871–1949) — нем. писатель, автор реалистических антивоенных романов из военной жизни.
Байройтская, маркграфиня, Фридерика (1709–1758) — старшая дочь короля Пруссии Фридриха Вильгельма I; ее «Мемуары» (изд. 1810, т. 1–2; в течение XIX в. издавались 10 раз) — важный исторический документ по истории Германии; гл. тема — жизнь отца и его двора, против которых и направлена эта ярко и талантливо написанная книга.
Байрон, Джордж Ноэл Гордон (1788–1824) — англ. поэт-романтик, классик мировой лит-ры.
Бальзак, Оноре де (1799–1850) — фр. писатель, классик мировой лит-ры, автор 90 романов и рассказов.
Банг, Герман (1857–1912) — датск. писатель, крупнейший представитель датского литературного импрессионизма.
Банделло, Матэо (1485–1562) — ит. поэт и писатель, прозванный «ломбардийским Боккаччо»; прославился сборником «Новеллы».
Барретт Браунинг, Элизабет (1806–1861) — англ. поэтесса, жена поэта Р. Браунинга; ее переписка с мужем («Письма 1845–1846», изд. 1899) рассказывает о необыкновенной любви этих двух английских поэтов.
Бах, Иоганн Себастьян (1685–1750) — нем. композитор и органист, классик мировой муз. культуры.
Бенц, Рихард (1884–1966) — нем. музыковед, историк культуры и литературовед, развивавший в своих работах тезис о единстве музыки и литературы; его идеи оказали сильное влияние на Гессе.
Бергсон, Анри (1859–1941) — фр. философ, представитель интуитивизма и философии жизни, учил, что подлинная и первоначальная реальность есть жизнь как метафизически-космический процесс, в раскрытии которого главную роль играет самопознание индивида с помощью интеллекта и интуиции; оказал большое влияние на творческую интеллигенцию Зап. Европы, в т. ч. и на Гессе.
Беренс, Петер (1868–1940) — нем. архитектор, график, типограф и дизайнер, один из основателей т. н. «мюнхенского» сецессиона.
Берроуз, Эдгар Райс (1875–1950) — ам. бульварный писатель, прославившийся серией приключенческих историй о Тарзане: «Тарзан у обезьян» (1914), «Возвращение Тарзана из джунглей» (1915), «Животные Тарзана» (1916), «Сын Тарзана» (1917).
Бертрам, Эрнст (1884–1957) — нем. литературовед, поэт и писатель, близкий по стилю к С. Георге; гл. произведения; сб. стихов «Вартбург» (1933), эссе «О возможностях» (1938).
Бетховен, Людвиг ван (1770–1827) — нем. композитор, пианист и дирижер, классик мировой муз. культуры.
Бёклин, Арнольд (1827–1901) — шведск. живописец, график и скульптор, прославился как пейзажист.
Бёльше, Вильгельм (1861–1939) — нем. писатель, автор иронических романов на культурно-исторические темы, научно-популярных произведений и биографий; работы: «Генрих Гейне» (1887); «Естественно-научные основы поэзии» (1877); «Чары короля Арпуса» (1889) и др.
Бехер, Иоханнес Роберт (1891–1958) — нем. писатель и поэт, начинал как один из лидеров нем. экспрессионизма, в дальнейшем выступил как основатель нем. пролетарской революционной лит-ры.
Библия — один из величайших памятников лит-ры Ближнего востока; состоит из разновременных и разнохарактерных сочинений X в. до н. э. — II в. н. э.; священная книга иудаизма (только Ветхий завет) и христианства; один из главных мифопоэтических источников европейской литературы и культуры.
Бисмарк, Отто фон (1815–1898) — нем. политич. деятель; первый рейхсканцлер германской империи (1871–1890); осуществил объединение Германии на прусско-милитаристской основе, оставил значит. литературное наследство, в котором самое большое место занимают письма, важный историко-литературный документ и нем. эпистолярная классика; Гессе ссылается на «Письма Бисмарка к своей невесте и супруге» (с 1900–1919), которые были изданы 6 раз) и «Письма Бисмарка к супруге в 1870–1871 гг.».
Бодони, Джамбаттиста (1740–1813) — ит. печатник; с 1791 г. владелец собств. типографии; прославился изданиями «Анакреонта» (1784) и «Илиады» (1808); создатель классицистких литер, типов «бодони»; автор «Учебника типографии» (1818), где опубликовано 373 его оригинальных шрифта.
Бодлер Шарль (1821–1867) — фр. поэт, классик мировой лит-ры; гл. сборник «Цветы зла» (1857).
Бодмер, Иоханн Якоб (1698–1783) — швейц. литературовед, писатель и поэт; выступал против норм фр. классицизма; прославился как собиратель и издатель памятников средневековой лит-ры.
Боккаччо, Джованни (1313–1375) — ит. писатель и мыслитель-гуманист Раннего Возрождения; классик мировой литры; автор ряда поэм, повести «Фьяметта» (1343) и сборника новелл «Декамерон» (1350–1353).
Бомарше, Пьер Огюстен (1732–1799) — фр. драматург, классик мировой лит-ры; прославился комедиями «Севильский цирюльник» (1775) и «Женитьба Фигаро» (1784).
Бонавентура, Джованни (1221–1274) — ит. христианский писатель, наряду с Фомой Аквинским ведущая фигура в католической схоластике; оказал большое влияние на позднюю средневековую мистику и т. н. «современную религиозность», по которой богословие является предметом личного религиозного чувства, сама религиозность служит лишь объединению людей под эгидой добра и нравственности, а Библия — не более, чем символическое литературное произведение.
Бонус, Артур (1864–1941) — нем. евангелический богослов и писатель.
Борхардт, Рудольф (1877–1945) — нем. прозаик, драматург, поэт и переводчик; был близок к С. Георге и X. Гофмансталю; типичный неоромантик, писал на мифологические и исторические темы; блестящий стилист; переводчик Пиндара, французских трубадуров, Китса и др.; главным делом своей жизни считал перевод Данте: «Новая жизнь» (1922), «Божественная комедия» (1923–1930).
Брандес, Георг, наст. имя Моррис Коэн (1842–1927) — датск. литературовед; испытал влияние позитивизма Тэна, Сент-Бёва и Дж. С. Милля; пропагандировал реализм и натурализм в лит-ре; гл. работа, не потерявшая значения и поныне, — «Главные течения в европейской литературе XVIII века» (т. 1–6, 1872–1896).
Браунинг, Роберт (1812–1889) — англ. поэт, автор интеллектуальных стихов-исповедей и ряда драм; муж англ. поэтессы Элизабет Барретт Браунинг.
Брентано, Клеменс (1778–1842) — писатель и поэт-романтик, классик нем. лит-ры, наряду с Арнимом первый значительный собиратель нем. песенного фольклора, вдохновитель сказочного сборника Я. и В. Гримм (см.: Я. Гримм, В. Гримм. Сказки. Эленбергская рукопись. М.: «Книга», 1988).
Бубер, Мартин (1878–1965) — иудаистский богослов, писатель, переводчик и философ; представитель хасидизма; автор нового нем. перевода Библии; один из основателей современной теории диалога как основы человеческого общения («Я и ты», 1923).
Буркхардт, Якоб (1818–1897) — швейц. искусствовед и историк, основатель научной теории искусства в совр. смысле слова; гл. работы: «Культура итальянского Возрождения» (1860), «История греческой культуры» (т. 1–4, 1898–1902).
Бхагавадгита («Божественная песнь») — памятник санскритской лит-ры 2-й пол. 2-го тысячелетия до н. э. (редакция IV в. до н. э. и V–VII вв. н. э.), раздел «Махабхараты» (VI, 23–40); замечательная по художественной силе и глубине мысли священная книга индуизма.
Бьёрнсон, полн. имя Бьёрнстьерне Мартиниус Бьёрнсон (1832–1910) — норв. драматург, прозаик, публицист, поэт и театральный критик, классик норвежской и европейской лит-ры; лауреат Нобелевской премии (1903); внес решающий вклад в развитие национальной культуры Норвегии, с консервативно-либеральных позиций выступал против пороков буржуазного мироустройства, и против империализма за свободу и равноправие людей и наций, усматривал возможность решения социальных проблем в нравственном усовершенствовании людей; автор многочисленных произведений во всех жанрах и двух романов — «Флаги веют над городом и гаванью» (1884) и «По Божьему пути» (1889).
Бюргер, Готфрид Август (1747–1794) — нем. поэт и писатель, классик нем. лит-ры; представитель «Бури и натиска», создатель жанра нем. народной баллады, переработчик анонимной книги о приключениях барона Мюнхгаузена, изданной в 1786 г. нем. писателем Рудольфом Эрихом Распе (1737–1794).
Бюхнер, Георг (1813–1837) — нем. революционно-демократический писатель и полит. деятель, автор драм «Смерть Дантона» (1835), «Войцек» (1837), новеллы «Ленц» (1835).
Вагнер, Рихард (1813–1883) — нем. композитор и дирижер, писатель и философ, классик мировой муз. культуры и философии.
Вазари, Джордже (1511–1574) — ит. живописец, архитектор, искусствовед, представитель маньеризма; гл. работа «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих».
Вайблингер, Вильгельм (1804–1830) — нем. поэт, поздний романтик, почитатель античности и Гёльдерлина, автор сб. «Песни эллинов» (1823), эпоса «Четыре повести из истории современной Греции» (1821) и ряда литературных сатир; оказал влияние на Гессе.
Вайссе, Кристиан Феликс (1726–1804) — нем. писатель и издатель; автор анакреонтических «Шуточных песен» (1758), «Песен амазонок» (1760), трагедий в подражание Шекспиру, оперетт; был популярным писателем для юношества, издавал «Новую библиотеку… изящных наук и свободных искусств» (17651804).
Вальтер фон дер Фогельвайде (ок. 1170 — ок. 1230) — нем. — австр. поэт-миннезингер, классик европ. лит-ры; мастер любовной и пейзажной лирики, шпрухов.
Вебер, Карл Мария фон (1868–1958) — нем. композитор, дирижер и музыкальный критик, основоположник нем. романтической оперы.
Веданта (санскр. — «конец вед», памятник древнеиндийской лит-ры конца II — начала I тысяч. до н. э.) — собств. «Ведантасутра» (или «Брахмасутра»), произведение, приписываемое мудрецу Бадараяне (IV–III вв. до н. э.); в нем излагается распространенное индийское религиозно-философское учение, по которому высшая реальность и причина сущего — несотворенный Брахман, а цель бытия — освобождение, достижение изначального тождества индивидуального духовного начала, Атмана, и Брахмана; Веданта оказала значительное влияние на Гессе.
Веласкес, Диего (1599–1600) — исп. живописец, один из величайших мастеров искусства Возрождения.
Вёльфлин, Генрих (1864–1945) — швейц. искусствовед, разработал и мастерски применил методику анализа художественного стиля; автор многих ставших классическими работ: «Классическое искусство» (1899), «Ренессанс и барокко» (1888), «Основные понятия истории искусства» (1915).
Верфель, Франц (1890–1945) — австр. писатель и поэт, один из выдающихся представителей европ. гуманистического художественного авангарда XX века.
Вергилий, Марон Публий (70–19 до н. э.) — римский поэт, классик мировой лит-ры; автор сб. «Буколики», поэмы «Георгики», героич. эпоса «Энеида».
Верлен, Поль (1844–1896) — фр. поэт-символист, ввел в лирическую поэзию сложный мир чувств и переживаний, автор сб. «Галантные празднества» (1869), «Романсы без слов» (1874), «Мудрость» (1881).
Верхарн, Эмиль (1855–1916) — бельг. поэт и драматург, выразитель трагического восприятия жизни; автор сб. «Вечера» (1887), «Черные факелы» (1890), «Поля в бреду» (1893), «Города-спруты» (1895).
Вессельский, Альберт (1861–1939) — нем. литературовед и фольклорист.
Вийон, Франсуа (1431 или 1432-?) — фр. поэт, представитель городских низов, в творчестве которого нашло ярчайшее и поэтически совершенное отражение трагическое мироощущение высокоразвитого индивида.
Виланд, Кристоф Мартин (1733–1813) — писатель и поэт, классик нем. лит-ры, представитель просветительского рококо, блестящий мастер сказочно-фантастического повествования, тонкий стилист; автор романов «Агатон» (1766), «История абдеритов» (1774), поэмы «Оберон» (1780) и сб. фантастич. новелл «Джиннистан» (т. 1–3, 1786–1789).
Вильгельм, Рихард (1873–1930) — нем. филолог-китаист и переводчик, основатель совр. нем. китаистики.
Винтерфельд, Пауль (1872–1905) — нем. филолог; автор мастерского перевода на нем. язык и издатель «Немецких поэтов латинского средневековья» (изд. 1913).
Вольтер, наст. имя Мари Франсуа Аруэ (1694–1778) — фр. писатель, поэт и философ-просветитель; сыграл огромную роль в развитии мировой общественно-политической и философской мысли; автор многочисл. произведений в разных жанрах.
Вольф, Хуго (1860–1903) — нем. композитор-песенник, автор оперы «Коррехидор» (1895).
Вольфрам фон Эшенбах (ок. 1170 — ок. 1200) — нем. эпический поэт, классик мировой литературы, автор 8 сохранившихся миннезангов и эпоса «Парсифаль» (1200–1210), который считается первым немецким романом и в котором христианское вероучение связывается с рыцарским кодексом добродетелей.
Воррингер, Вильгельм (1881–1965) — нем. искусствовед; исследователь готического искусства; автор работ «Абстракция и вчувствование» (1908), «Лукас Кранах» (1908), «Проблемы готических форм» (1911), «Старонемецкая книжная иллюстрация» (1912), «Египетское искусство» (1927), «Греция и готика» (1928); оказал влияние на культурное мировоззрение Гессе.
Гайбель, Эммануэль (1815–1884) — нем. поэт и эстетик национально-консервативного направления.
Гайдн, Франц Йозеф (1732–1809) — австр. композитор, один из основоположников венской классической школы, классик мировой муз. культуры.
Гаман, Иоханн Георг (1730–1788) — нем. писатель, философ и филолог, высоко ценимый Гердером, Гёте, Якоби, Кантом, Жан Полем; указывал на созидательную силу чувства и характера в противовес разуму; один из предводителей штюрмеров, проповедывал культ гения; автор работ: «Сократические достопримечательности» (1762), «Крестовые походы филолога» (1762), «Сивилины листки северного мага» (1819), «Мысли о моей жизни» (1758).
Гамсун, Кнут, наст. фамилия Педерсен (1859–1952) — норв. писатель, классик европ. лит-ры; автор психологических романов: «Голод» (1890), «Мистерии» (1892), «Пан» (1894), «Виктория» (1898), в которых изображается индивидуалистический бунт личности против обывательской среды.
Гартман, Эдуард фон (1842–1906) — нем. философ, представитель панпсихизма, учения об одушевленности всех вещей; основой сущего считал некую абсолютную мировою волю; автор произведений: «Философия бессознательного» (1869), «Феноменология нравственного пессимизма» (1879), «Философия религии» (1882); оказал заметное влияние на западноевропейскую творческую интеллигенцию.
Гауптман, Герхарт (1862–1946) — нем. писатель, глава нем. натурализма; автор драм: «Перед восходом солнца» (1889), «Роза Бернд» (1911) и других.
Гауф, Вильгельм (1802–1827) — нем. писатель-романтик, автор литературных сказок на основе нем. и восточного фольклора, лирических стихов и исторических романов.
Гейерстам, Густав (1858–1909) — швед. писатель, представитель реалистического психологизма.
Гейне, Генрих (1797–1856) — нем. поэт и публицист, классик мировой лит-ры.
Геккель, Эрнст (1834–1919) — нем. естествоиспытатель-дарвинист, зоолог, путешественник и писатель; автор путевых записок «Индийские путевые письма» (1882), «От Тенерифы до Синая» (1923), «Поездки по горам и морям» (1923); был первым ученым, рассматривавшим природу с эстетической точки зрения; философским проблемам естествознания посвящены его популярные работы «Художественные формы природы» (1899–1903), «Загадка мира» (1899), «Чудо жизни» (1904); повлиял на Гессе.
Геллерт, Кристиан Фюрхтеготт (1715–1769) — нем. писатель и поэт, представитель умеренного бюргерского Просвещения, глашатай религиозного долга и семейных добродетелей, автор сатирических произведений, высмеивающих феодальную спесь и лжеученость; осн. сочинения: «Лекции о морали» (1170), «Духовные оды и песни» (1757), «Басни и рассказы» (1746–1748).
Гёльдерлин, Фридрих (1770–1843) — нем. поэт, классик европ. лит-ры; в своем творчестве выразил переходный этап между классицизмом и романтизмом, главная цель творчества — поиск гармонии и любви в мире, отмеченном у Г. глубоким пантеистическим и натурфилософским смыслом; автор многочисленных гимнов, отражающих все богатство гуманистической мысли XVIII в.; выразитель краха просветительских идеалов, Г. создал в своих произведениях утопический миф о прекрасном будущем; выдающийся новатор поэтического языка; его творчество оборвало душевное заболевание (безумие Г. истолковывается как выражение разлада между идеалом и действительностью); крупнейшее произведение: «Гиперион, или Отшельник в Греции» (1797–1799), написанный своеобразной поэтической прозой роман, где герой ищет слияния с природой, космосом; сильно повлиял на Гессе.
Гендель, Георг Фридрих (1685–1759) — нем. композитор и органист, классик мировой муз. культуры.
Георге, Стефан (1868–1933) — нем. поэт, один из крупнейших представителей нем. символизма; миру прозаических будней противопоставлял мир чистой красоты, воспевал тайны природы и героическое начало в человеке, единство духовного и физического; автор сб. «Гимны» (1890), «Паломничества» (1891), «Книги пастухов» (1895), «Седьмое кольцо» (1907), «Три напева».
Гердер, Иоганн Готфрид (1744–1803) — нем. философ, литературовед и писатель; крупнейший представитель нем. Просвещения; развил принципы исторического подхода к природе и обществу, к языку и лит-ре, боролся за самобытность художественного творчества, требовал изучения духовной жизни человека и нации; сыграл огромную роль в становлении духовного самовыражения нем. нации.
Герен, Морис де (1810–1839) — фр. поэт, представитель христианского мистико-пантеистического направления во фр. романтизме; автор незаконченной поэмы «Кентавр» и «Вакханка» (опубл. 1861), в которых выражен протест против бездушия окружающей действительности и мучительные поиски смысла жизни.
Гермес, Иоханн Тимотеус (1738–1821) — нем. писатель, главный представитель рационалистического развлекательного романа в Германии, где он сыграл огромную роль в утверждении романа как жанра с опорой на английскую традицию Ричардсона, Фильдинга, Стерна и барочного приключенческого романа; гл. произведение — «Путешествие Софии из Мемеля в Саксонию» (т. 1–5, 17691793), эпистолярный юмористический приключенческий роман.
Геродот (ок. 484 — ок. 425 до н. э.) — греч. историк, автор одного из первых исторических сочинений в античном мире, и поныне важного источника по истории древнего мира.
Гёррес, Йозеф фон (1776–1848) — нем. писатель, литературовед, мифолог; первый издатель нем. народных книг средневековья; в сотрудничестве с Арнимом и Брентано много сделал для возрождения нем. фольклора; сильно повлиял на братьев Гримм в их историко-филологических изысканиях.
Гессе, Иоханнес (1847–1916) — нем. протестантский миссионер в Индии и писатель, отец Германа Гессе; автор около десятка книг по богословию и философии.
Гесснер, Саломон (1730–1788) — швейц. поэт и живописец; был поначалу книготорговцем; сочинял идиллии и пасторали, гл. произведения: «Дафнис» (1754), «Смерть Авеля» (1758).
Гёте, Иоганн Вольфганг (1749–1832) — нем. поэт и писатель, классик мировой лит-ры, один из основоположников нем. лит-ры нового времени; оказал большое влияние на Гессе.
Гильгамеш — аккадско-шумерская эпическая поэма и цикл шумерских эпических песен (III тыс. до н. э.), повествующих о полулегендарном правителе г. Урука в Шумере; выдающийся памятник лит-ры Ближнего Востока.
Глюк, Кристоф Виллибальд (1714–1787) — нем. композитор, один из реформаторов оперы XVIII в.; превратил оперу в муз. трагедию, проникнутую простотой драматургии и героикой в духе классицизма.
Гоголь, Николай Васильевич (1809–1852) — русский писатель, классик мировой лит-ры; наряду с Достоевским пользовался особой популярностью в Германии конца XIX — начала XX в.
Гольдони, Карло (1707–1793) — ит. драматург; создатель национальной комедии, крупнейший реформатор итал. театра, автор 267 комедий.
Гомер — легендарный греч. эпический поэт, которому традиция приписывает создание всемирноизвестных эпосов «Илиада» и «Одиссея».
Гомеровские гимны — собрание др. — греч. стихотворений (VIII–IV вв. до н. э.), посвященных прославлению деяний различных божеств; активно влияли на формирование европейской поэтической культуры; в XIX в. много раз издавались, комментировались и переводились нем. филологами; как тематически объединенный свод мифов, изложенных изящным языком, это интересное чтение и много дает для понимания античного мира.
Гончаров, Иван Александрович (1812–1891) — русск. писатель, классик мировой литры.
Гораций, Квинт Гораций Флакк (65- 8 до н. э.) — римский поэт, классик мировой лит-ры, представитель эпикуреизма и стоицизма.
Горький, Максим (1868–1936) — русск. писатель, классик мировой лит-ры. 76
Готфрид Страсбургский (конец XII в. — ок. 1220) — нем. эпический поэт, классик нем. и мировой лит-ры, автор знаменитого неоконченного рыцарского романа «Тристан и Изольда» (1207–1210), в основу которого положены мотивы одноименного романа Томаса Британского (ок. 1170).
Готхельм, Иеремия (Еремиас), наст. имя Альберт Бициус (1797–1854) швейц. писатель, классик нем. лит-ры; лирично, с мягким юмором и чрезвычайно живо изображал жизнь крестьян, ремесленников и сельской интеллигенции; знамениты его романы «Зеркало крестьянской жизни, или История жизни Иеремии Готхельфа» (1836), «Страдания и радости школьного учителя» (т. 1–2, 1838–1839), а также ряд рассказов и повестей.
Готье, Теофиль (1811–1872) — фр. писатель и критик, один из основателей «Парнаса»; автор знаменитых книг «Новое искусство» (1852) и «Капитан Фракасс» (1863) и сб. стихов «Эмали и камеи» (1852).
Гофман, Эрнст Теодор Амадей (1776–1822) — нем. писатель-романтик, классик мировой лит-ры, композитор и художник; мастер тонкой философской иронии, блестящий стилист и рассказчик.
Гофмансталь Хуго фон (1874–1929) — австр. писатель и драматург, крупнейший представитель неоромантизма и символизма в австр. лит-ре; писал о вечных проблемах жизни и смерти, превозносил красоту; согласно его кредо, поэт как волшебник воплощает свои видения и грезы в гармонических мифах, сотворяет новую реальность; автор пьес, стихов, новелл, эссе; оказал заметное влияние на Гессе.
Гоцци, Карло (1720–1806) — ит. драматург и поэт; создатель жанра театральной сказки (фьябы), вершины его творчества; автор 23 трагикомедий; сыграл определенную роль в развитии нем. лит-ры романтизма.
Грайнер, Лео (1876–1928) — нем. писатель, литературовед и переводчик; автор нашумевшей книги «Китайские вечера. Новеллы и истории, переведенные с китайского вместе с Цзу Пин-Шу. Берлин, 1914».
Гранвиль, Жан Иньяс (1803–1847) — фр. график; прославился иллюстрациями к басням Лафонтена, «Робинзону Крузо» Дефо и «Гулливеру» Свифта.
Греко, Эль Греко, наст. имя Доменико Теотокопулис (1541–1614) — исп. живописец, один из крупнейших мастеров Возрождения и барокко.
Гризебах, Эдуард (1845–1906) — нем. писатель, поэт, литературовед и издатель, крупный библиофил-коллекционер; издатель Лихтенберга, Клейста, Э. Т. А. Гофмана, Граббе, Шопенгауэра и др.; автор известных книг: «Эпоха Гёте и всемирная лит-ра» (1890) и «Каталог всемирной литры» (т. 1–2, 1898–1900).
Грилль, Юлиус (1840–1930) — нем. издатель, переводчик, богослов; автор перевода индийских «Вед» (1879).
Грильпарцер, Франц (1791–1872) — австр. прозаик, поэт и драматург, классик австр. и мировой лит-ры; служил библиотекарем и архивариусом, в судьбе и характере Г. много черт, роднящих его с Гессе; произведения Г. сплав элементов классицизма, романтизма и реализма; гл. темы — место и роль художника в жизни, пагубная власть денег над человеком, чувственная любовь в конфликте с религиозным сознанием; антимилитаризм; семейное счастье; гл. произв. — сб. новелл «Сандомирский монастырь» (1828) и «Бедный музыкант» (1848), драмы «Бланка Кастильская» (1807–1809), «Праматерь» (1817), «Сафо» (1818), «Золотое руно» (1821) и др., драм, поэма «Либуша» (1844), «Еврейка из Толедо» (1855), сб. «Стихи» (1873).
Гримм, братья: Якоб Гримм (1785–1863) и Вильгельм Гримм (1786–1859) нем. филологи, основоположники германистики как комплексной науки (лингвистики, литературоведения, правоведения, фольклористики и пр.); создатели жанра народной книжной сказки под влиянием просветительских идей Гердера, романтической мифологии Кройцера, Гёрреса и Канне и литературной фольклористики Арнима и Брентано; однако их всемирноизвестные «Сказки» представляют в основном не немецкие, а наиболее распространенные в Европе сюжеты разнообразного происхождения.
Гриммельсхаузен, Ганс Якоб Кристоффель (ок. 1621–1676) — нем. писатель, классик европ. лит-ры, автор барочного лит. шедевра, гротескно-сатирического романа «Симплициссимус» (1669).
Груббе, Вильгельм (1855–1908) — нем. филолог-китаист, автор фундаментальных работ по кит. языкознанию, лит-ведению и философии.
Гумбольдт, Вильгельм (1776–1835) — нем. филолог, философ, лингвист, гос. деятель, один из видных представителей нем. классического гуманизма; усматривал в развитии индивидуальности высшую цель деятельности государства, развил учение о языке как «формирующем органе мысли» и о «внутренней форме языка» как выражении индивидуального созерцания народа. 124
Гундерт, Герман (1814–1893) — нем. евангелический миссионер, дед Германа Гессе; после работы в Индии (1857–1862) руководил работой кальвского издательства; лингвист и переводчик Библии; гл. произведения: перевод Библии на язык малаялам (1868), «Малаялам — английский словарь» (1871–1872).
Гутенберг, Иоганн (ок. 1399–1468) — изобретатель книгопечатания в Германии.
Гюго, Виктор (1802–1885) — фр. поэт, писатель и драматург, представитель и идеолог фр. романтизма, классик мировой лит-ры.
Данте Алигьери (1265–1321) — итал. поэт, писатель и мыслитель, классик мировой лит-ры; автор «Божественной комедии».
Де Куинси, Томас (1785–1859) — англ. писатель-романтик, литературовед и философ; прославился автобиографической книгой «Исповедь англичанина-опиомана».
Демель, Рихард (1863–1920) — нем. поэт; один из наиболее выдающихся нем. поэтов на рубеже двух веков; начал как социально ангажированный натуралист, выступал с критикой бурж. общества и его морали; позднее перешел на позиции символизма, в целом поэзия Д., психоаналитическая по содержанию, носит интеллектуальный характер; оказал сильное влияние на последующую немецкую поэзию.
Дефо, Даниель (ок. 1660–1731) — англ. писатель, зачинатель английского реалистического романа, классик мировой лит-ры, автор авантюрных книг: «Робинзон Крузо» (1719), «Капитан Сингльтон» (1720), «История полковника Жака» (1722), «Молль Флендерс» (1722).
Джорджоне, Барбарелли (1476/77-1510) — итал. живописец, представитель венецианской школы живописи, один из основоположников искусства Высокого Возрождения.
Дидерихс, Ойген (1867–1930) — нем. издатель, первый издатель Гессе; основанное в 1896 г. издательство во Флоренции перенес в 1897 г. в Лейпциг, а в 1904 — в Йену; играл ведущую роль в обновлении нем. книжной культуры; выпускал в основном книги по философии и истории; в 1948 г. это издательство переехало в Дюссельдорф, где выпускает ныне книги по гуманитарным дисциплинам, классическую и художественную лит-ру.
Дидро, Дени (1713–1784) — фр. писатель, философ, идеолог Великой французской революции, основатель французской «Энциклопедии», классик мировой лит-ры и философии.
Диккенс, Чарльз (1812–1870) — англ. писатель, классик мировой лит-ры, автор многочисленных сентиментально-юмористических, авантюрно-приключенческих и бытописательских романов.
Дойссен, Пауль (1845–1919) — нем. философ и индолог; под влиянием Шопенгауэра сделал попытку объединить европейскую и индийскую философию; прославился своими переводами из индийской философии.
Дросте-Хюльсхофф, Аннетте (1797–1848) — нем. романтическая писательница и поэтесса; для ее творчества характерны идилличность, задушевность, строгость форм, мастерство в изображении характеров и природы; автор сб. «Стихи» (1838), «Степные картины» (1841–1842), «Горы, леса и озера» (1841–1842), драм «Берта» (1814) и «Вальтер» (1818), романтических поэм, новеллы «Еврейский бук» (1842); оказала влияние на творчество Гессе.
Достоевский, Федор Михайлович (1821–1881) — русский писатель, классик мировой лит-ры; был чрезвычайно популярен в Германии первой трети XX века, где воспринимался как глашатай кризиса европ. цивилизации и спасения в высокой нравственности; один из любимых писателей Гессе.
Дуден, Конрад (1829–1911) — нем. филолог; создатель «Полного орфографического словаря немецкого языка» (1880), послужившего основой для введенной в 1901 г. единой системы правописания, это произведение, называемое с 1915 г. «Дуден» стало законодательным справочником. Дуден также автор «Правописания для немецкоязычных типографий» (1903) и других работ.
Дюрер, Альбрехт (1471–1528) — нем. живописец и график, основоположник нем. Возрождения, выразитель гуманистических представлений о смысле бытия и задачах искусства.
Еврипид (ок. 480–406 до н. э.) — греческий поэт, драматург-трагик, классик мировой лит-ры.
Жамм, Франсуа (1868–1938) — фр. поэт и прозаик; его творчество характеризуется простотой, недогматической религиозностью, философским поиском истины, ее точной литературной передачей; гл. произв.: стихотворный сборник «Торжество жизни» (1902), «Храм, одевшийся в зелень» (1906), романы «Клара д'Эльбез» (1899), «Роман зайца» (1903).
Жан Поль, наст. имя Иоганн Пауль Фридрих Рихтер (1763–1825) — нем. писатель, классик мировой лит-ры, основоположник направления, сочетавшего просветительские идеи с сентиментальным идиллическим романтизмом, создатель своеобразной гуманистической прозы, выражавшей чаяния маленького человека; его литературно-идейные и стилистические достижения нашли продолжение в творчестве таких замечательных немецких писателей, как К. Иммерман, А. Штифтер, Г. Келлер, В. Раабе, Г. Гейне, Э. Т. А. Гофман, Э. Мёрике; гл. произв.: романы «Жизнь премного довольного учитилешки Мария Вуца из Ауэнталя» (1793); «Невидимая ложа» (1793); «Геспер» (1795), «Зибенкез» (1796–1797), «Титан» (1800–1803), «Озорные годы» (1804–1805); оказал сильное влияние на Гессе.
Зайдель, Ина (1885–1974) — нем. поэтесса и писательница, представитель буржуазно-реакционного направления, мастер лирических и литературных форм, в свое время популярный автор мистико-символических, псевдоисторических и религиозных романов.
Заллет, Фридрих фон (1812–1843) — нем. поэт, представитель позднеромантической пантеистической поэзии, автор сб. «Стихи» (1835), афоризмов и эпиграмм «Искры» (1833), новелл «Контрасты и парадоксы» (1838).
Зимрок, Карл (1802–1876) — нем. поэт-романтик, литературовед и переводчик со средневерхненемецкого, автор обработок немецких героических сказаний и народных книг.
Зойме, Иоганн Готфрид (1763–1810) — нем. публицист и поэт; литературную славу стяжал путевыми дневниками «Прогулка в Сиракузы» (1803), «Мое лето 1805» (1806); для его стиля характерны композиционная сжатость, простота, ирония.
Зольгер, Карл Вильгельм Фердинанд (1780–1819) — нем. филолог и эстетик; гл. произведения: «Эрвин. Беседы о прекрасном в искусстве» (1815), «Мифология греков» (1818), «Философские беседы» (1817).
Золя, Эмиль (1840–1902) — фр. писатель, классик мировой лит-ры, основные произведения. 20-томная серия романов «Ругон-Маккары».
Зузо (лат.), нем. имя Генрих Зойзе (ок. 1293–1366) — нем. писатель и богослов-мистик, ученик Мастера Экхарта; его произведения, посвященные неклерикальному богоискательству, — шедевры ранней нем. художественной прозы, отмеченные богатейшим лирическим содержанием и культом духовной жизни высокоразвитого индивида; автор ряда сохранившихся проповедей «Книжица истины» (1326–1327), «Книжица о вечной мудрости» (ок. 1328), «Книжица писем», и автобиографии «Vita» (или «Зойзе»).
Зуркамп, Петер (1891–1959) — нем. писатель и издатель; с 1936 г. руководил издательством Фишер; во время войны проводил издательскую политику, отклоняющуюся от фашистского официального курса, в 1943 был арестован гестапо и заключен в концлагерь; в 1950 году по настоянию Гессе основал издательство во Франкфурте-на-Майне, которое в настоящее время владеет копирайтом на издание произведений Г. Гессе.
Ибсен, Генрик (1828–1906) — норвеж. драматург, классик мировой лит-ры.
Иммерман, Карл Лебрехт (1796–1840) — нем. писатель и поэт переходного периода от романтизма к критич. реализму, автор стихов, драм и романов «Эпигоны» (1836) и «Мюнхгаузен» (1838), вольной обработки текстов Р. Э. Распе и Г. А. Бюргера, сатиры на немецкий абсолютизм и дворянство.
Ицзин (Книга перемен) — китайская гадательная книга, выдающийся памятник литературы Древнего Китая, старейшие ее части датируются VII и VI вв. до н. э., новейшие — I–II вв. до н. э.; содержит способы гадания на тысячелистнике с помощью 64 гексаграмм; более новые части являются систематическим изложением древнекитайской натурософии, основные категории которой: Инь (темная прасила, женское начало) и Ян (светлая прасила, мужское начало); вплоть до нового времени считалась в Китае собранием мировой мудрости, а с эпохи Хань — каноническим конфуцианским сочинением; одна из любимых книг Гессе.
Кальдерон де ла Барка, Педро (1600–1681) — испанский драматург, классик мировой лит-ры, автор 120 драм и 80 сакраментальных ауто.
Кайзерлинг, Эдуард (1855–1918) — нем. писатель, автор импрессионистических новелл, романов, рассказов и драм из жизни курляндского дворянства.
Кант, Иммануил (1724–1804) — нем. философ, родоначальник нем. классического идеализма.
Кардуччи, Джозуэ (1835–1907) — итал. поэт и философ, автор поэмы «К сатане» (1863), сб. «Ямбы и эподы» (1867–1879), «Варварские оды» (1877–1889).
Карлейль, Томас (1795–1881) — англ. писатель, публицист, историк и философ; испытал сильное влияние Гёте и нем. романтиков; критиковал социальное неравенство, в своей гл. книге «Герои, культ героев и героическое в истории» (1841) утверждал творческий приоритет личности в истории.
Каросса, Ханс (1878–1956) — нем. писатель, автор автобиографических произведений на военные темы.
Кафка, Франц (1883–1924) — австр. писатель, был близок к пражским экспрессионистам; отразил в своем творчестве трагизм разлада между нравственным идеалом и бесчеловечной действительностью; классик мировой лит-ры.
Кеведо-и-Вильегас, Франсиско де (1580–1645) — исп. писатель, классик мировой лит-ры.
Келлер, Адельберт фон (1812–1883) — нем. филолог, ученик Л. Уланда, выдающийся медиевист.
Келлер, Готфрид (1819–1890) — швейц. писатель, классик мировой лит-ры, автор знаменитого романа «Зеленый Генрих» (1855), главный герой которого художник, ищущий свой путь в жестокой борьбе за существование; роман полон раздумий над судьбой человека в обществе и назначением искусства; К. - также автор ряда новеллистических сборников «Люди из Зельдвилы» (1856–1874), «Семь легенд» (1872), «Цюрихские новеллы» (1878), «Изречения» (1881); сильно повлиял на Гессе.
Кеплер, Иоганн (1571–1630) — нем. астроном, один из творцов астрономии нового времени.
Кернер, Карл Теодор (1791–1813) — нем. писатель и поэт, певец освободительной войны 1813 г. в Германии.
Кернер, Юстинус (1786–1862) — нем. писатель, один из представителей швабской школы нем. романтизма; проявлял интерес к малоизученным и загадочным явлениям человеческой психики; автор книг «История двух сомнамбул» (1824), «Ясновидящая из Префорста» (1829) и ряда стихотворных сборников.
Китс, Джон (1795–1821) — англ. поэт-романтик, классик европейской лит-ры; воспевал гуманистические идеалы, красоту и гармонию природы.
Клабунд, наст. имя Альфред Хеншке (1890–1928) — нем. писатель, поэт и переводчик (с кит., перс., англ. и фр.), писал лаконичную лирическую прозу, «Бракке» (1918) — его программный роман, «бранденбургский Уленшпигель», выдающийся литературный документ экспрессионизма.
Клаудиус, Маттиас, псевдоним — Вандесбекский Вестник (1740–1815) — нем. поэт и публицист-просветитель, близкий к кружку «Бури и натиска»; в творчестве пользовался живым просторечным языком, лирика отличается живым восприятием природы и музыкальностью.
Клингер, Макс (1857–1920) — нем. живописец, график, скульптор, стяжал славу гравюрами, для которых характерна виртуозная техника и фантастичность.
Клейст, Генрих фон (1777–1811) — нем. писатель-романтик, классик мировой лит-ры, автор новелл, драм, эссе.
Клопшток, Фридрих Готлиб (1724–1803) — нем. поэт-просветитель, автор религиозной эпической поэмы «Мессиада» (1751–1753) и драм на библейские и национально-исторические сюжеты.
Кокошка, Оскар (1886–1980) — австр. живописец и драматург, классик европ. авангарда XX в., представитель экспрессионизма.
Кольб, Аннетта (1870–1967) — нем. писательница и переводчик, гл. произведения: «Экземпляр» (1913), «Бремя» (1918), «Дафна» (1928), «Качели» (1934), «Романы» (1968).
Конфуций, лат. — европ. форма Кун-фу-цзы (Кун-цзы) (551–479 до н. э.) китайский философ; традиция приписывает ему составление летописи «Чуньцю», а также редактирование «Шицзин» (Книга песен) и «Шуцзин» (Книга истории); его беседы с учениками составили одну из основных книг конфуцианского канона «Лунь юй» (Беседы и суждения); в центре его учения — проблемы человека, его умственного и нравственного облика; первым разработал концепцию идеального человека, средоточия высоких нравственных качеств и культуры, учил, что человек должен прежде всего обладать любовью к людям, быть искренним, верным, справедливым; придавал большое значение музыке, средству изменения плохих нравов; идеи К. сыграли большую роль в истории Китая, оказали они ощутимое влияние и на Гессе.
Корнель, Пьер (1606–1684) — фр. драматург, классик мировой лит-ры. 103
Коро, Камиль (1796–1875) — фр. живописец, мастер исторических и одухотворенно-лирических пейзажей.
Костер, Шарль де (1827–1879) — бельг. писатель, классик мировой лит-ры; автор «Легенды об Уленшпигеле» (1876).
Котта — семейство нем. издателей из Штутгарта; основатель издательства: Иоханн Георг Котта; его правнук Иоханн Фридрих — издатель Гёте и Шиллера; в 1889 г. издательство перекупил Адольф Крёнер, семья которого владеет им и поныне; издательство на протяжении своей богатой истории прославилось изданиями классиков немецкой и мировой лит-ры.
Крёнер, Адольф (1836–1911) — нем. издатель; в 1859 году основал в Штутгарте издательство; с 1907 г. до 1945 находилось в Лейпциге; прославилось карманными изданиями.
Ксенофонт (ок. 430–355 или 354 до н. э.) — греч. писатель и историк, классик мировой историографии, автор «Греческой истории» в 7 кн.
Кубин, Альфред (1877–1959) — австр. художник-график и книжный иллюстратор.
Кудруна — средневерхненемецкий куртуазный эпос XII в., выдающийся памятник мировой литературы, примыкающий к «Песни о Нибелунгах» и связанный со многими значительными европейскими эпосами Средних веков.
Кун-цзы — см. Конфуций.
Курц, Герман (1813–1873) — нем. писатель, представитель критического реализма, мастер монументальной и вместе с тем тонкой прозы; гл. произведения: романы «Жизнь Шиллера на родине» (1843) и «Солнечный пастух» (1854).
Кьеркегор, Сёрен (1813–1855) — датск. религиозный писатель и философ, основатель философии экзистенциализма; гл. произв.: «Или- или», «Понятие страха».
Кюнель, Пауль (?-?) — нем. филолог, переводчик японской литературы, издатель нашумевших «Древнеяпонских новелл» (1923).
Ландауэр, Густав (1870–1919) — нем. писатель и революционер-анархист, участник Баварской советской республики, после падения которой был убит.
Лао-цзы, наст. имя Ли Эр (по преданию р. в 604 г. до н. э. — ?) китайский легендарный основатель философии даосизма; ему приписывается составление литер. — философского трактата «Даодэдзин»; разработал три основных концепции: «дао» — естественного пути возникновения, развития и исчезновения всех вещей, материальный праосновы всего сущего; «дэ» атрибута вещей (нравственности), через который проявляется «дао»; «у-вэй» подчинения естественному процессу жизни; оказал огромное влияние на философию Древнего Китая; один из любимых авторов Гессе.
Лафонтен Жан де (1621–1695) — фр. писатель, классик мировой лит-ры, автор «Сказок и рассказов в стихах» (1665–1685), комедий и «Басен» (1668–1679).
Ленау, Николаус (1802–1850) — австр. поэт; примыкал к той линии романтизма, которая связана с творчеством Г. Гейне и Дж. Байрона, лирика его отличается тематическим и лирическим богатством.
Ленц, Якоб Михаэль Райнхольд (1751–1792) — нем. писатель и драматург, теоретик «Бури и натиска»; поэтическое его творчество по характеру близко к любовной лирике Гёте.
Леонардо да Винчи (1452–1519) — ит. живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер.
Леопарди, Джакомо (1798–1837) — ит. поэт-романтик, классик европейской литературы, автор патриотических од, философской лирики и прозаических «Диалогов и мыслей» (1827).
Лесаж, Ален Рене (1668–1747) — фр. писатель, классик европейской лит-ры; под влиянием испанского плутовского романа создал романы «Хромой бес» (1707) и «История Жиль Блаза из Сантильяны» (1715–1735).
Лессинг, Готхольд Эфраим (1729–1781) — нем. писатель-просветитель, филолог, баснописец, драматург, эссеист и литературный критик, один из основоположников немецкой лит-ры нового времени.
Ле-цзы, собст. Ле Юй-коу (IV в. до н. э.) — легендарный мудрец Древнего Китая; ему приписывается составление книги «Ле-цзы», которая на самом деле является продуктом многих эпох, эта собрание песенного и повествовательного фольклорного материала, в основном — философских притч.
Лехтер, Мельхиор (1865–1937) — нем. живописец и книжный график, в конце XIX в. участвовал в движении по обновлению немецкого прикладного искусства.
Лилиенкрон, Детлев фон (1844–1909) — нем. писатель и поэт, один из виднейших импрессионистов 80-90-х годов XIX в., создатель лирики настроений, автор ряда новелл, романов и драм.
Линкойз, наст, имя Йозеф Поппер (1838–1921) — австр. инженер, социал-реформатор и писатель, известен в основном как политолог-пацифист, автор произв.: «Право жить и право умирать» (1878), «Фантазии реалиста» (1899), «Вольтер» (1905) и др.
Линхард, Фридрих (1865–1929) — нем. писатель; поначалу приверженец натурализма, от которого впоследствии отошел; прославился как основоположник «отечественного искусства» (см. прим. с. 15); в романах и драмах воспевал героев средневековых сказаний и ранней немецкой истории.
Лист, Ференц (1811–1896) — венгерский композитор, пианист, дирижер, реформатор музыкального языка, классик мировой музыкальной культуры.
Лихтенберг, Георг Кристоф (1742–1799) — нем. писатель-сатирик, литературовед, мастер афористики Просвещения.
Лоэнштайн, Даниэль Каспар (1635–1683) — нем. поэт и драматург, последователь фр. классицистской драмы, автор исторических трагедий и романа «Арминий» (1689–1690), одного из наиболее выдающихся произведений нем. барочного романа.
Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — греч. писатель-сатирик и философ-эпикуреец, автор произведений в разных жанрах, классик мировой литературы.
Людвиг, Отто (1813–1865) — нем. писатель, автор трагедий высокого стиля, мастер бытописательской новеллы, гл. произведения: «Резвушка» (1854), «Из огня да в полымя» (1857), «Между небом и землей» (1856).
Люй Бу-Вэй (? - 235 до н. э.) — государственный деятель Древнего Китая, первый министр при императоре Цинь Ши-Хуанди, меценат; под его руководством было составлено уникальное энциклопедическое произведение «Люй-ши-чунь цю» (Вёсны и осени господина Люя), ценный источник по истории древнекитайской мысли, включающий гадания, быт, космогонию, общественную мораль и т. д.
Лютер, Мартин (1483–1546) — деятель немецкой Реформации; основатель новой формы христианского вероисповедывания — протестантства (лютеранства); перевел на немецкий язык Библию, утвердив нормы немецкого литературного языка.
Маделунг, Оге (1872–1949) — датск. писатель и журналист; в Германии был популярен его роман «Избранные»; другие гл. произведения: романы «Охота на зверей и людей», «Человек-цирк».
Мазуччо Салернитанец, наст. имя Томмаззо Гуардати (ок. 1420–1475) итал. писатель, классик мировой лит-ры, автор сборника рассказов «Новеллино» (1476).
Май, Карл (1842–1912) — нем. писатель, один из популярных в мире авторов для юношества; прославился приключенческими романами и рассказами из жизни североамериканских индейцев, особенно — серией о Винету, вожде апачей.
Майер, Конрад Фердинанд (1825–1898) — швейцарский писатель, классик европейской лит-ры; писал на исторические темы, стремясь нащупать в прошлом «вечно-человеческое»; мастер психологического и художественного конфликта, гл. произв.: роман «Юрг Йенач» (1876), новеллы «Святой», «Свадьба монаха» (1884); повлиял на Гессе.
Майринк, Густав (1868–1932) — нем. писатель оккультно-религиозного толка; в 1927 г. перешел из протестантства в махаянистский буддизм; предмет его творчества составляли романтически истолкованные сновидения; под влиянием Э. Т. А. Гофмана и Э. По считал обыденную жизнь лишь личиной, за которой кроется гротескное сплетение оккультных сил; мастер антибюргерской сатиры.
Макиавелли, Никколо (1469–1527) — ит. политический деятель и писатель; всемирную славу стяжал философско-полемическим блестяще написанным трактатом «Государь».
Маколей, Томас Бабингтон (1800–1859) — англ. историк, писатель, литературный критик и политический деятель; автор биографических очерков о знаменитых людях; прославился книгой «Песни Древнего Рима» (1842) и сб. «Критические и исторические очерки» (1–3, 1843), гл. труд — «История Англии от восшествия на престол Якова II» (1–5, 1849–1861).
Манн, Генрих (1871 — 1950) — нем. писатель, классик мировой литературы, брат Т. Манна.
Манн, Томас (1875–1955) — нем. писатель, один из наиболее выдающихся представителей европейской интеллектуальной прозы, классик мировой литературы; один из любимых авторов Гессе, который вывел его в романе «Игра в бисер» в образе Магистра Игры Томаса фон дер Траве.
Марлитт, Э., наст, имя Эжени Джон (1825–1887) — нем. писательница, автор развлекательных романов, тривиальных, но умело написанных.
Маутнер, Фриц (1849–1923) — нем. философ и писатель чешского происхождения, один из видных представителей лингвофилософии и номинализма, язык рассматривал как чисто эстетическое явление; автор в свое время нашумевшего «Словаря философии» (т. 1–2, 1910) и многих других работ.
Мёрике, Эдуард Фридрих (1804–1875) — нем. поэт и прозаик, один из крупнейших нем. лириков со времен Гёте; воспевал духовное наследие античности, классицизма, романтизма и христианства, для его творчества характерно тонкое понимание человеческих ценностей и природы, любовь к народу, умелое использование просторечного языка, стремление к гармонии и теплый юмор; автор лирического романа «Художник Нольтен» (1832), новелл и стихов; оказал сильное влияние на Гессе.
Метерлинк, Морис (1862–1949) — бельг. поэт, драматург и эссеист; в своем творчестве стремился преодолеть натурализм средствами символизма и неоромантизма.
Микеланджело Буонаротти (1475–1564) — итал. скульптор, живописец, архитектор и поэт; один из величайших художников Возрождения.
Миллер, Мартин (1750–1814) — нем. писатель; его «Зигварт» — нарочито сентиментальный роман, объединивший просветительские элементы с придворной культурой рококо; в нем идеализируются монастырская жизнь, дружба, древние культуры; повлиял на Шиллера.
Мильтон, Джон (1608–1674) — англ. поэт, публицист, философ и лингвист, классик мировой лит-ры.
Мольер, наст, имя Жан Батист Поклен (1622–1673) — фр. комедиограф, актер, театральный деятель, реформатор театра, классик мировой лит-ры.
Монтень, Мишель де (1533–1592) — фр. философ и писатель, классик мировой лит-ры, гл. произв. «Опыты» (кн. 1–3).
Мопассан, Ги де (1850–1893) — фр. писатель, классик мировой лит-ры.
Мередит, Джордж (1828–1909) — англ. писатель; популярен своеобразной, вычурной прозой и философской лирикой; писал о несовместимости чувств и разума, которая преодолевается духовностью, о земле как источнике всего бытия и матери всех вещей; автор многочисленных психологических романов.
Мориц, Карл Филипп (1757–1793) — нем. писатель народническо-демократического направления, сыгравший большую роль в формировании нем. литер. языка; гл. роман — «Антон Райзер, психологический роман» (1785–1790).
Моррис, Уильям (1834–1896) — англ. поэт, художник-дизайнер, печатник и политич. деятель, создатель трех новых шрифтов; его работы были образцом для нем. дизайнеров и художников-шрифтовиков конца XIX в.
Моцарт, Вольфганг Амадей (1756–1791) — австр. композитор, представитель венской школы, классик мировой музыкальной культуры.
Мошерош, Ханс Михаэль (1601–1669) — нем. писатель; прославился барочным сатирическим романом «Чудесные и истинные лица Филандера Зиттенвальдского» (1640), который написан в подражание «Сновидениям» Франсиско де Кеведо (1627) и является сокровищницей европейской народно-повествовательной культуры; в нем изображено бедственное положение Германии в годы 30-летней войны; это один из первых нем. антивоенных романов.
Музеус, Иоганн Карл Август (1735–1787) — нем. писатель сатирико-моралистического направления в лит-ре Просвещения, автор ряда романов; прославился ироническими литературными сказками «Народные сказки немцев» (т. 1–5, 1782–1787), в которых переработан преимущественно фр. и ит. литературный фольклор в ключе французской салонной сказки эпохи рококо.
Мультатули, наст. имя Эдуард Дауэс Деккер (1820–1887) — голл. писатель, автор знаменитого романа «Макс Хавелаар, или Кофейные аукционы Нидерландского торгового общества» (1860), первого литературного обвинения колониализму.
Мэн Кэ — см. Мэн-цзы.
Мэн-цзы (370–289 до н. э.) — кит. мыслитель классической эпохи кит. Древности, один из наиболее популярных в последующие времена; автор книги «Мэн-цзы»; внес в конфуцианскую доктрину понятия «человечности» и «должного», развив собственную теорию человеческой природы как изначально доброй.
Мюллер, Георг (1877–1917) — нем. книгопечатник и издатель; основатель в 1903 г. издательства «Георг Мюллер» в Мюнхене; много сделал для развития современного европейского книжного искусства, издавал немецких классиков и произведения всемирной лит-ры; в 1932 г. его издательство объединилось с издательством «Георг Ланген».
Мюльбрехт, Отто (1838–1906) — нем. писатель и библиограф, один из наиболее выдающихся нем. книготорговцев своего времени; автор известной книги «Развитие книголюбительства до конца XIX в.» (1896); проч. произв.: «Воспоминания за 30 лет» (1890) и «Из моей жизни» (1898).
Мюрже, Анри (1822–1861) — фр. писатель, представитель сентиментального реализма; писал о тяготах жизни художников и писателей, ввел в обиход понятие «богема».
Мюссе, Альфред де (1810–1857) — фр. поэт-романтик, автор цикла меланхолических поэм «Ночи» (1835–1837), пьес, мастерского психологического романа «Исповедь сына века» (1836).
Народные книги — жанровое понятие, введенное Й. Гёрресом, обозначает прежде всего нем. популярную прозаическую литературу конца XV, XVI и XVII вв. (отчасти — начала XVIII в.) и еще уже — повествовательную беллетристическую литературу (ср. русские лубки); материал нем. народных книг — это обработки, всевозможные сборники, вымышленные продолжения повествовательного наследия прежних веков — героических эпосов, переводов античной и частью восточной литературы, собраний историй различного происхождения; это были дешевые иллюстрированные издания, выходившие относительно большими тиражами и распространявшиеся в основном среди грамотного городского населения; хотя зачастую они выходили анонимно, это большей частью произведения известных авторов (напр. Элизабет Нассауской, Элеоноры Австрийской и многих других представителей всех четырех сословий средневековья); содержание народных книг преимущественно авантюрное или назидательное, нередко религиозно-поучительное; широко известны такие народные книги, как «Фауст», «Фортунат», «Святая Геновева», «Дети Хаймона», «Уленшпигель», «Мелузина», «Клаус-дурень», «Ганс Клаверт», «Шильдбюргеры», «Рейнеке Лис», «Семь мудрых мастеров», «Гризельда», «Прекрасная Магелона», «История о роговом Зигфриде» и др., каждая из которых выдерживала до 100 и более изданий; народные книги служили важнейшей опорой в сохранении и передаче народно-повествовательных традиций Востока и Запада, служили единению литературы и фольклора на книжно-культурной основе.
Нахшаби, Зияддин (?-1350) — персоязычный индийский писатель, автор знаменитого сборника новелл «Книга попугая», созданного по мотивам санскритского сборника «Щукасаптати»; в переработанном виде эта книга переводилась на многие языки; первый немецкий перевод сделан с турецкой обработки XVIII в., отчего Гессе и считает ее турецкой.
Нерваль, Жерар де (1808–1855) — фр. поэт и писатель, автор оригинальных по форме стихов в духе классицизма, но романтических по содержанию, а также романтических пьес, новелл, эссе и знаменитой книги «Путешествие на Восток» (1851).
Нерон (37–68) — император Рима с 54 г.
Ницше, Фридрих (1844–1900) — нем. филолог, философ, писатель, поэт; испытал влияние Шопенгауэра и эстетических идей Р. Вагнера; занимаясь типологией культуры и продолжая философскую линию Шиллера, Шеллинга и нем. романтиков, выдвинул теорию равновесия «дионисийского» (жизненного, трагического) и «аполлоновского» (созерцательного, интеллектуального) начал в духовной жизни человека, в истории культуры и в природе; развил учение о бытии как стихийном становлении, цель и форма которого — индивидуальное самоутверждение; выступал с резкой критикой буржуазной действительности, культуры и нравственности, с романтической идеей счастливого будущего и естественной жизни; современниками был отвергнут и вел жизнь гонимого одиночки; в начале XX в. оказал огромное влияние на прогрессивную творческую интеллигенцию Европы и формирование основных течений западноевропейской философии; автор многочисленных книг — «Так говорил Заратустра», «Веселая наука», «Человеческое слишком человеческое», «Воля к власти» и др.; документом большого литературного значения являются «Письма», выходившие посмертно с 1900 по 1909 (т. 1–5).
Новалис, наст. имя Фридрих фон Харденберг (1772–1801) — нем. поэт, писатель, мыслитель, основатель нем. романтизма в лит-ре; исходя из этического миропонимания Фихте и Канта, ратовал за признание прав природы, чувственной стихии, стремился преодолеть схематический рационализм Просвещения; гл. произв.: «Генрих фон Офтердинген» (1802), созданный как полемика с «Вильгельмом Мейстером» Гёте, и в котором нарисовал образ поэта и поэзии как самой глубокой изначальной силы жизни; Н. - автор замечательных стихов, повести «Ученики в Саисе» (1800) и эссе «Христианство или Европа»; оказал большое влияние на Гессе.
Нойман, Карл Ойген (1865–1915) — нем. филолог-индолог, переводчик буддистских сочинений палийского канона.
Овидий, Публий Овидий Назон (43 до н. э. — ок. 18 н. э.) — римский поэт, автор элегий, од, посланий и знаменитого эпоса «Метаморфозы», классик мировой лит-ры.
Ольденберг, Герман (1854–1920) — нем. филолог-индолог, автор пионерских работ по индийской лит-ре, языкознанию и истории религии; выдающийся переводчик; работы — «Будда» (1881), «Гимны Ригведы» (1882), «Религия вед» (1894), «Речи Будды» (1922).
Омар Хайям (ок. 1084 — ок. 1123?) — персидский и таджикский поэт, математик и философ, автор всемирно известных «Рубаи», философских четверостиший, отмеченных пафосом свободы личности.
Оссендовский, Фердинанд Антони (1878–1945) — польский писатель и путешественник, автор многочисленных романов для юношества и описаний путешествий.
Оссиан — легендарный воин и бард кельтов, живший по преданию в III в. н. э.; зд. мистификация шотл. поэта Джеймса Макферсона (1736–1796), выдавшего свои обработки кельтских преданий за подлинные песни Оссиана; книга оказала огромное влияние на становление романтической поэзии и формирование концепции «народности».
Панкок, Бернхард (1872–1943) — нем. архитектор, живописец, дизайнер, книжный график, один из основателей варианта стиля «модерн» — мюнхенского Сецессиона.
Панчатантра — один из величайших памятников санскритской повествовательной литры (ок. III–IV вв.), крупнейшая восточная сокровищница нарративных сюжетов, прямо и косвенно питавшая всемирные лит-ру и фольклор вплоть до начала XX в.; переведена в разное время более чем на 200 языков мира.
Паскаль, Блез (1623–1662) — фр. философ, писатель, математик и физик; в своих «Мыслях» (изд. 1669) развил идею о трагичности человеческого бытия; сильно повлиял на европейские лит-ры в том числе и на Гессе.
Патер, Уолтер (1839–1894) — англ. писатель, создавший свою концепцию искусства, почерпнутую из эллинизма Возрождения, Винкельмана и Гёте, ее основа — культ красоты и радости; автор книг «Возрождение» (1873), «Марий-эпикуреец» (1885), «Воображаемые портреты» (1887) и др.
Песнь о Нибелунгах — наиболее древний и выдающийся памятник нем. героического эпоса (XIII в.).
Петерсен, Юлиус (1878–1941) — нем. филолог-германист, автор работ «История литературы как наука» (1914), «Наука поэзии» (1939), сборника статей «Об эпохе Гёте» (1932) и «Первый берлинский социальный роман Фонтане» (1932).
Петрарка, Франческо (1304–1374) — ит. поэт, мастер сонетной формы, классик мировой лит-ры. 103
Петроний, Гай (? - 66 н. э.) — римский писатель, прославился эротическим романом «Сатирикон» («Сатуры»).
Пиндар (ок. 518–442 или 438 до н. э.) — греч. поэт-лирик; его поэзия отличается сложностью строфической структуры, торжественной величавостью языка и прихотливостью ассоциативных переходов; автор гимнов и песен.
Пинтус, Курт (1886–1972) — нем. писатель и критик, выдающийся представитель нем. экспрессионистической лирики (см. сборник «Сумерки человечества», 1919).
Платон (428 или 427–348 или 347 до н. э.) — греч. философ, ученик Сократа; его учение — первая классическая форма объективного идеализма; оказал огромное влияние на развитие мировой философской мысли и на всемирную литературу.
Плутарх (ок. 45 — ок. 127) — греч. писатель и историк, автор «Жизнеописаний» и «Моралий»; классик мировой лит-ры.
По, Эдгар Аллан (1809–1849) — амер. писатель-романтик, один из родоначальников детектива, классик мировой лит-ры.
Поджо ди Гуччо, Браччолини, Джан Франческо (1380–1459) — ит. писатель-гуманист; был известен как собиратель латинских рукописей; прославился «Книгой фацетий», сборником коротких сатирич. новелл (1452).
Поликрат (?-522 до н. э.) — греч. купец и тиран о. Самос; прославился эгоизмом, энергичностью, воинственностью, любовью к роскоши, искусствам и наукам; известно предание о Поликрате, описанное в балладе Шиллера «Перстень Поликрата». Поликрат, чтобы сохранить милость богов, совершает жертвоприношение — бросает в море свой драгоценный перстень, но перстень чудесным образом возвращается к нему, возвещая гибель тирана.
Полициано, наст. фам. Амброджини (1454–1494) — ит. поэт и гуманист, автор «Стансов о турнире» (изд. 1518) и многочисленных филологических трактатов.
Прайер, Вильгельм Тьерри (1841–1897) — нем. психолог и физиолог, пионер детской психологии и научной графологии.
Прево д'Экзиль, Антуан Франсуа, аббат (1697–1763) — фр. писатель, классик мировой лит-ры; выступал против мракобесия, ханжества, сословной морали; автор знаменитых романов «Записки и приключения знатного человека, удалившегося от света» (т. 1–7, 1728–1733), «История современной гречанки» (1740), «Английский философ» (т. 1–8, 1731–1739); шедевр Прево — «История кавалера де Гриё и Манон Леско» (1733), являющаяся 7-м томом «Записок»; один из любимых авторов Гессе.
Пушкин, Александр Сергеевич (1799–1837) — поэт и писатель, классик русской и мировой лит-ры; Гессе неизменно восторгался «благородным искусством повествования» Пушкина, его «нежным романтизмом», «задушевностью и очарованием пушкинской поэзии», считая, однако, последнюю непереводимой из-за ее особой привязанности к выразительным средствам русского языка.
Раабе, Вильгельм (1831–1910) — нем. писатель; наряду с Т. Фонтане самый выдающийся нем. прозаик 2-й пол. XIX в., продолжатель традиций Жан Поля и Э. Т. А. Гофмана, изображал гонимых обществом чудаков, жизнь маленьких людей, противоречия между миром духовности и обывательской средой; мастер малых прозаических жанров; автор романов «Голодный пастор» (1864), «Абу Тельфан» (1867), «Чумная повозка» (1870), «Летопись птичьей слободы» (1895), повестей и рассказов.
Рабенер, Готлиб Вильгельм (1714–1771) — нем. писатель, автор прозаических сатир, направленных против обывателей.
Рабле, Франсуа (1494–1553) — фр. писатель-гуманист, классик мировой лит-ры, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532), энциклопедического памятника фр. Возрождения.
Райсс, Эрих (1897–1951) — нем. писатель и издатель, владелец берлинского издательства «Эрих Райсс Ферлаг». 80
Рамлер, Карл Вильгельм (1725–1798) — нем. поэт, переводчик и театральный деятель; друг Лессинга, Клейста и издателя Николаи; мастер одических форм, соперник Клопштока; автор «Песен немцев» (т. 1–4, 1766), «Од» (1767), «Мира стихов» (1772).
Расин, Жан Батист (1633–1699) — фр. драматург, классик мировой лит-ры.
Редвиц, Оскар, барон фон (1823–1891) — нем. писатель, в стиле романтич. эпигонов писал патриотические стихи; автор стих. сб. «Амарант» (1849), ист. драм «Томас Мор» (1856), «Венецианский дож» (1863) и романа «Герман Штарк, немецкая жизнь» (т. 1–3, 1869).
Рейтер, Кристиан (1665–1712) — нем. писатель, классик европ. лит-ры, автор плутовского романа «Шельмуфский» (1696).
Реклам, А. Р. (1807–1896) — нем. издатель, основатель в 1828 г. издательства в Лейпциге для греч. и лат. классиков, словарей и т. п.; с 1867 прославился как издатель серии «Универсальная библиотека»; дело было продолжено Филиппом Рекламом-младшим; ныне издательство с этим названием имеется и в ФРГ, и в ГДР; издает особо массовую и библиофильски оформленную лит-ру.
Ренуар, Пьер Огюст (1841–1919) — фр. живописец, график, скульптор; выдающийся мастер цветовых форм.
Рёскин, Джон (1819–1900) — англ. писатель, искусствовед; в его творчестве протест против буржуазной действительности сочетался с призывом к возрождению творческого духа средневековья.
Роде, Эрвин (1845–1898) — нем. филолог-античник, прославился актуальной и поныне фундаментальной работой «Psyche. Культ души и вера в бессмертие у древних греков» (т. 1–2, 1890–1894), содержащая наиболее полное и систематическое изложение всех античных представлений о душе.
Розеггер, Петер (1843–1918) — австр. писатель, представитель областнической (штирийской) лит-ры; автор стихов, романов и рассказов из народной жизни; бытописатель альпийской деревни.
Роллан, Ромен (1866–1944) — фр. писатель, музыковед, общественный деятель; классик мировой лит-ры; друг Гессе.
Рудельсбергер, Ханс, наст. имя Ханс Мольтан (1868–1938) — нем. филолог-китаист и переводчик; гл. работы — «Древнекитайские любовные комедии» (1923), «Китайские новеллы» (1914), «Китайские шуточные рассказы» (1920).
Рубенс, Питер Пауэль (1577–1640) — фламандский живописец, классик барочного искусства.
Руссо, Жан-Жак (1712–1778) — фр. писатель и философ, классик мировой лит-ры; его идеи оказали заметное влияние на Гессе.
Рюккерт, Фридрих (1788–1866) — нем. писатель, поэт и переводчик, филолог-востоковед; переработав формальные достижения европейского классицизма и романтизма, а также восточных литератур, стал представителем так называемой бидермайеровской семейной литературы; прославился как автор переводов и переложений персидской, арабской, индийской и китайской поэзии.
Сабатье, Поль Огюст (1858–1928) — фр. писатель-богослов; его блестяще написанная биография «Франциск Ассизский» (1893) о легендарном основателе ордена францисканцев пользовалась огромной популярностью; это одна из любимых книг Гессе.
Саккетти, Франко (1330–1400) — ит. писатель, автор знаменитого сборника «Триста новелл» антифеодального и антиклерикального содержания.
Сакс, Ганс (1494–1576) — нем. поэт-мейстерзингер, классик немецкой и европейской лит-ры; автор свыше 6 тысяч религиозных и светских песен, шпрухов, шванков, фастнахтшпилей. 106
Салли, Джеймс (1842–1923) — англ. психолог, философ и логик; ученик Фехнера, Гельмгольца и Вундта; как психологические факторы особо подчеркивал роль и значение искусства, образования и социальной среды; один из пионеров детской психологии, теоретик игры как основы духовного развития личности; гл. работы: «Чувственное восприятие и интуиция» (1874), «Иллюзии» (1881), «Человеческая мысль» (1892), «Детская психология» (1895), «Эссе о смехе» (1902).
Светоний, Гай Транквилл (ок. 70 — ок. 140) — римский историк и писатель, автор знаменитой книги «Жизнь двенадцати цезарей».
Свифт, Джонатан (1667–1745) — англ. писатель, политич. деятель, классик мировой лит-ры.
Сезанн, Поль (1839–1906) — фр. живописец, выдающийся представитель постимпрессионизма.
Сервантес Сааведра, Мигель де (1547–1616) — исп. писатель, классик мировой лит-ры.
Скотт, Вальтер (1771–1832) — англ. писатель, создатель жанра исторического романа, классик мировой лит-ры. 104
Смоллетт, Тобайас Джордж (1721–1771) — англ. писатель, автор знаменитых романов «Приключения Родрика Рэндома» (1748), «Приключения Перегрина Пикля» (1751), «Хамфри Клинкер» (1771), мастер иронии и гротеска.
Сократ (470/469-399 до н. э.) — греч. философ, один из родоначальников диалектики; развил учение о постижении истинного блага.
Сомадева (вт. пол. XI в.) — инд. поэт, создатель выдающегося свода индийской повествовательной лит-ры «Катхасаритсагара» (Океан сказаний) (1036–1081), оказавший большое влияние на формирование европейских литератур.
Софокл (ок. 496–406 до н. э.) — греч. поэт-драматург, великий представитель античной трагедии.
Стендаль, наст. имя Анри Мари Бейль (1783–1842) — фр. писатель, классик мировой лит-ры.
Стерн, Лоренс (1713–1768) — англ. писатель, классик мировой лит-ры; автор романов «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» (1760–1767) и «Сентиментальное путешествие» (1768), мастер пародии, иронии и психологизма.
Стравинский, Игорь Федорович (1882–1971) — русск. композитор и дирижер, классик мировой музыкальной культуры.
Стриндберг, Август Юхан (1849–1912) — швед. писатель, автор исторических, лирических и философских драм; сильно повлиял на европейскую драматургию.
Суинберн, Элджирнон Чарльз (1837–1909) — англ. поэт и критик, прославившийся неоромантическими «Стихами и балладами» (1866, 1878, 1889), сб. «Песни Италии» (1867), «Одами к французской республике» (1870).
Тагор, Рабиндранат (1861–1941) — инд. писатель-гуманист и общественный деятель, классик мировой лит-ры; автор романтически окрашенных произведений всех жанров, а также филологических и философских сочинений.
Талмуд — собрание догматических, религиозных и правовых положений иудаизма; сложился в IV в. до н. э. — V в. н. э.
Таулер, Иоханнес (ок. 1300–1361) — нем. философ-мистик, ученик мастера Экхарта; борец против примата церкви, создатель учения о «внутреннем» (обращенном к Богу) человеке и человеке «внешнем» (обращенном к миру); оказал влияние на Лютера и идеи нем. Реформации; автора «Истории доктора Таулера», «Институций», «Книги о духовной нищете».
Тацит (ок. 58 — ок. 117) — римский историк, автор трудов по истории Рима: «Анналы» и «История».
Теккерей, Уильям Мейкпис (1811–1863) — англ. писатель, классик мировой лит-ры.
Теофраст (372–287 до н. э.) — греч. естествоиспытатель и философ, ученик Платона и Аристотеля; прославился книгой «Характеры», содержащей 30 кратких характеристик человеческих типов.
Тидге, Кристоф Аугуст (1752–1841) — нем. поэт; его написанная под влиянием Канта и Шиллера дидактическая поэма «Урания» (1800) была одним из наиболее популярных произведений его времени.
Тик, Людвиг (1773–1853) — нем. писатель-романтик, классик мировой лит-ры, автор романа «Вильям Ловелл» (1795–1796), анонимно вышедшего сборника литер. сказок «Народные сказки Петера Лебрехта» (1797), новеллы «Белокурый Эгберт», философского романа «Странствия Франца Штернбальда» (1798), ряда пьес, исторических повестей, романа «Виктория Аккоромбона» (1840); один из любимых авторов Гессе.
Тициан (ок. 1476/77 или 1489/90-1576) — ит. живописец, глава венецианской школы Высокого Возрождения.
Толстой, Лев Николаевич (1828–1910) — русск. писатель, классик мировой лит-ры; философские идеи его были очень популярны в Германии нач. XX в. и воспринимались как возможный выход из тупика буржуазной культуры.
Тургенев, Иван Сергеевич (1818–1883) — русск. писатель, классик мировой лит-ры; один из любимейших писателей юности Гессе.
Тысяча и одна ночь — безымянный сборник арабских сказок, возникший на основе персидского собрания «Тысяча сказок» (VIII), свое заглавие получил около XII в., всемирную славу стяжал благодаря переводам в 1704–1717 гг. французского востоковеда А. Галлана.
Тэн, Ипполит Адольф (1828–1893) — фр. философ, эстетик и писатель; его произведения отличаются мощной эрудицией, утонченным вкусом, логикой; родоначальник натурализма и основатель культурно-исторической школы; автор знаменитой работы «Философия искусства» (1865–1869); оказал большое влияние на последующие поколения западноевропейских писателей.
Тюммель, Мориц Аугуст (1738–1817) — нем. писатель, друг Клейста и Геллерта, автор эротико-сатирических рассказов в духе рококо; как автор пародий на героические поэмы прославился на всю Европу.
Уайльд, Оскар (1854–1900) — англ. писатель, классик мировой лит-ры.
Уитмен, Уолт (1814–1892) — амер. писатель, автор сб. «Листья травы» (1855), принесшего ему мировую славу, воспевал гармонию человека и природы, демократию и равенство.
Уланд, Людвиг (1787–1862) — нем. поэт-романтик и литературовед-фольклорист; основные мотивы его стихов, населенных рыцарями, королями, бардами и пастухами — любовь, воспевание родины, романтическая грусть.
Упанишады — памятник индийской литературы; заключительная часть «Веданты»; время создания: VII–III вв. до н. э.; содержание: духовное освобождение человека из оков зла.
Фенелон, Франсуа (1651–1715) — фр. писатель, автор проповедей и богословских трактатов — памятников фр. классицистской прозы, а также «Басен» (1718), философско-утопического романа «Приключения Телемаха» (1699); создатель традиции философско-политического романа.
Ферромонте, Карло, ит. перевод настоящего имени Карл Изенберг (? пропал без вести во время второй мировой войны) — нем. музыкант и музыковед, племянник Г. Гессе, наставник Гессе в теории музыки с 1934 года; Ферромонте — имя, данное ему самим Гессе, который вывел его под этим именем и в повести «Паломничество в Страну Востока» и в «Игре в бисер».
Феокрит (кон. IV–I-я пол. III в. до н. э.) — греч. поэт; основал жанр идиллии (сцен из сельской жизни), в которой предметом любования является простота быта; идиллии Ф. положили начало европейской традиции буколической литры.
Фехнер, Густав Теодор (1801–1887) — нем. психолог, филолог и физик, анализировал противоречие между физико-математическим образом мира и одушевленным миром чувств, создал современную теорию панпсихизма; сильно повлиял на Гессе.
Феххаймер, Хедвиг (?-?) — нем. исследовательница искусства Древнего Египта; ее книга «Пластика Египта», вышедшая в начале XX в. (2-е изд. 1914) переиздавалась более десятка раз.
Фидус, наст. имя Хуго Хёппенер (1868–1948) — нем. художник-график и строитель, представитель стиля «модерн».
Филдинг, Генри (1707–1754) — англ. писатель, классик мировой литературы, прославился романом «История Томаса Джонса, найденыша» (1749).
Фишер, Самуэль (1859–1934) — нем. книготорговец и издатель, основатель в 1886 г. издательства «Фишер» во Франкфурте-на-Майне; издатель Гессе; в 1936 г. его издательство кооперировалось с Петером Зуркампом; при нацизме издавало за границей прогрессивную немецкую лит-ру; в 1950 объединилось с издательством «Зуркамп»; с 1952 вновь существует отдельно.
Фишер, Фридрих Теодор (1807–1887) — нем. писатель, пародист, литературовед и эстетик пантеистического направления; гл. произв. «Эстетика, или Наука о прекрасном» (1846–1847) написано под влиянием Гегеля; автор вдохновленного Жан Полем юмористического романа «Еще один. Дорожное знакомство» (1879) и пародии «Фауст. Трагедии часть третья» (1862).
Флобер, Гюстав (1821–1880) — фр. писатель, классик мировой лит-ры.
Фогелер, Генрих (1872–1942) — нем. художник, книжный график, представитель стиля «модерн».
Фома Аквинский (1225 или 1226–1274) — философ и теолог итал. происхождения; систематизатор христианской схоластики на базе аристотелизма; автор «Суммы теологии» и «Суммы против язычников», оказавших огромное влияние на развитие последующей христианской философии и теологии. 136
Фонтане, Теодор (1819–1898) — нем. писатель, самый выдающийся мастер нем. критич. реализма; автор романов и повестей «Шах фон Вутенов» (1883), «Поггенпулы» (1896), «Штехлин» (1899), «Грешница» (1892), «Пути-перепутья» (1888), «Стина» (1888); итог его творчества — психологический роман «Эффи Брист».
Форстер, Георг (1754–1794) — нем. просветитель и революционный демократ; автор влиятельных трактатов по географии, естествознанию, этнографии, эстетике, литературе и искусству.
Фрай, Александер Мориц (1881–1957) — нем. писатель; представитель фантастико-гротескного стиля, автор нашумевших экспрессионистических и сюрреалистических романов «Тревожный вечер» (1923), «Привидение на Изола Роза» (1946), «Много шума вокруг любви» (1929).
Фрайтаг, Густав (1816–1895) — нем. писатель; основная линия творчества — историческое бытописательство; автор романа «Картины из немецкого прошлого» (т. 1–2, 1859), давших ему материал для серии из 6 исторических романов о Германии.
Франс, Анатоль (1844–1924) — фр. писатель, классик мировой лит-ры; Гессе, высоко ценивший талант Франса, не принимал его воинствующего атеизма и скептицизма.
Франциск Ассизский (1181 или 1182–1226) — ит. проповедник, поэт и мыслитель, основатель ордена францисканцев; развил евангельское учение о бедности и равенстве; приблизил христианство к народной среде, одухотворял природу, проповедывал гармонию человека с нею; автор ряда поэтических шедевров на умбрийском диалекте ит. языка и знаменитых трактатов «Похвала Добродетели» и «Похвала Богу»; один из любимых авторов Гессе.
Фрейд, Зигмунд (1856–1939) — австр. врач-психиатр и психолог; создатель теории психосексуального развития индивида, учения о бессознательном и методики психоанализа для лечения неврозов, основанной на свободных ассоциациях, и анализе сновидений и детских воспоминаний; Гессе, сам прошедший курс психоаналитического лечения у Й. Б. Ланга и К. Г. Юнга в период своего душевного кризиса 1916–1926 гг. и ставший приверженцем психоанализа как источника художественного творчества, выступал, однако, против психологизации общества и культуры.
Френссен, Густав (1863–1954) — нем. писатель, представитель «отечественного искусства», поначалу провозглашал прогрессивные патриотические идеи, а затем перешел на реакционные позиции; гл. произведение «Ёрн Уль» (1901).
Фридрих II Великий (1712–1786) — король Пруссии с 1740 г., в многочисленных войнах основал могущество Пруссии в Европе; играл роль просвещенного монарха; автор многочисленных сочинений.
Фуке, Фридрих де ля Мотт (1777–1843) — нем. писатель; в своих романтических рыцарских романах обращался к средневековью; лучшее произведение — романтическая повесть «Ундина» (1811).
Фукидид (ок. 460–400 до н. э.) — греч. историк, автор «Истории» (в 8 кн.), вершины античной историографии.
Халеви, Иегуда (1083–1140) — еврейский поэт, один из крупнейших лириков средневековья; его написанная по-арабски книга «Кузари» стала народной книгой.
Харих, Вальтер (1888–1931) — нем. писатель-биограф и филолог; автор биографий Гофмана (1923) и Жан Поля (1925), романов «Чума в Турлемонте» (1920) и «Трое вокруг Эдит» (1929).
Хауссман, Конрад (1857–1922) — нем. политический деятель, представитель южнонемецких демократов; в 1919 г. член Веймарского национального собрания; составитель и переводчик «Древних песен Востока» (1920).
Хафиз, Шамседдин Мохаммед (ок. 1325–1389 или 1390) — перс. поэт, классик мировой лит-ры; автор знаменитого «Дивана».
Хеббель (Геббель), Фридрих (1813–1863) — нем. драматург, поэт и прозаик; одна из главных тем драматургии — зависимое положение женщины, продолжающая и переосмысливающая творчество Шиллера; показал косность бюргерского уклада жизни; философские проблемы переводил в этическую плоскость; мастер психологизма; автор драм «Юдифь» (1840), «Мария Магдалина» (1844), «Ирод и Мариам» (1850), «Гиг и его перстень» (1856); трилогии «Нибелунги» (1861); его поэзия относится к лучшим образцам нем. философской и пейзажной лирики; один из любимых авторов Гессе.
Хебель, Иоганн Петер (1760–1826) — нем. писатель-юморист, основатель алеманской (швабской) диалектной литературы; описывал мир с точки зрения крестьянина; мастер малых повествовательных форм; наряду с Г. Клейстом считается основателем жанра литературного анекдота в немецкой литературе; автор фольклорного сборника «Шкатулка рейнского семьянина» и стихов, воспевающих юность, материнскую любовь и природу; оказал влияние на Гессе.
Хейнзе, Вильгельм (1746–1803) — нем. поэт предромантического периода, один из крупнейших представителей «Бури и натиска»; писал анакреонтические стихи; переводчик Т. Тассо; гл. произв. — роман «Ардингелло и блаженные острова» (1787), в котором провозглашал ренессансный культ земной жизни и красоты; один из любимых авторов Гессе.
Хен, Виктор (1813–1890) — эстон. германоязычный культуролог, его работы отличаются беглостью выражения и блеском стиля; гл. произв. — «Италия» (1867) и «Мысли о Гёте» (1887).
Хёрн, Лафкадио (1850–1904) — япон. англоязычный писатель, основатель совр. японистики; гл. произв.: «Взгляд на незнакомую Японию» (1894), «Кокоро» (1896), «Кандан» (1904).
Херцфельд, Эрнст (1879–1948) — нем. археолог-ориенталист, искусствовед и писатель; осн. произв. — «Путешествие в район Тигра и Евфрата» (1910), «Раскопки Самарры» (1921–1927).
Хеттнер, Герман (1821–1882) — нем. искусствовед и литературовед; гл. произв. — «История литературы XVIII века» (т. 1–6, 1856–1870), «Современная драма» (1852), «Греческие путевые очерки» (1853), «Итальянские этюды» (1879).
Хинрихс, Иоханн Конрад (1763–1813) — нем. издатель и книготорговец; владелец основанной в 1791 г. Августом Лебрехтом Райнике издательства «Книготорговля Хинрихса», профилем которой были протестантское богословие, востоковедение и археология.
Хиппель, Теодор Готлиб (1741–1796) — нем. писатель и публицист; при жизни печатался анонимно; автор комедий «Пунктуальный человек, или Порядочный человек» (1765) и «Необычные соперники» (1768), статей об эмансипации женщин, юмористического романа «Жизненные пути по восходящей линии…» (т. 1 — 4, 1778–1781) и антифеодального и антимасонского романа «Зигзаги в жизни рыцаря от А до Я» (т. 1–2, 1793–1794); один из вдохновителей творчества Жан Поля.
Ходовецкий, Даниэль (1726–1801) — нем. график и живописец; мастер миниатюрного офорта; прославился иллюстрациями к изданиям Гёте, Лессинга, Руссо, Смоллетта и др.
Хольцхаузен, Пауль (1860–1926) — нем. писатель и историк, биограф Наполеона, издатель.
Хух, Рикарда (1864–1947) — нем. писательница и поэтесса, в своих знаменитых исследованиях «Расцвет романтизма» (1899) и «Распространение и крушение романтизма» (1902) поставила проблему соотношения разума и интуиции, сознательного и бессознательного, столь волновавших Гессе.
Хьюз, Ричард Артур Уоррен (1900–1976) — англ. писатель и поэт; автор многочисленных романов, роман «Буря на Ямайке» написан в 1929 г.
Цезарий Хайстербахский (1180 — после 1240) — нем. лат. писатель, богослов и проповедник; прославился сборниками назидательных сказок «Диалог о чудесах» (1219–1223) и «Книга о чудесах»; автор исторических сочинений.
Цеппелин, Фердинанд (1838–1917) — нем. конструктор дирижаблей с жестким каркасом — цеппелинов.
Циссарц, Иоханн Винценц (1873–1949) — нем. живописец и книжный график.
Челлини, Бенвенуто (1500–1571) — ит. скульптор, ювелир, писатель; автор всемирно известных мемуаров «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, написанная им самим во Флоренции» — авантюрного романа по содержанию.
Честерфилд, Филипп Дормер Стенхоп, граф (1694–1773) — англ. писатель; гос. деятель, автор нравописательных и сатирических эссе; в историю лит-ры вошел как автор «Писем к сыну» (1774), обширного свода наставлений и рекомендации в духе просветительных идей; мастер иронии и афоризма.
Чжуан-цзы (ок. 369–286 до н. э.) — кит. философ, автор классического даосского трактата «Чжуан-цзы» (ок. 300 до н. э.), собрания притч, коротких новелл и диалогов, направленных против конфуцианства и провозглашающих слияние с «дао» — цельностью вселенской жизни, противопоставляющего «дао» человеку и созданному им миру насилия; один из любимых авторов Гессе.
Чосер, Джеффри (1340?-1400) — англ. поэт, классик мировой лит-ры; прославился стихотворными «Кентерберийскими рассказами».
Шамиссо, Адельберт фон (1781 — 1838) — нем. писатель, поэт и ученый-натуралист фр. происхождения, классик европейской лит-ры; прославился романтической повестью «Необычайные приключения Петера Шлемиля» (1814).
Шваб, Густав (1792–1850) — нем. поэт, представитель швабской школы, кружка вюртембергских романтиков; известен как популяризатор и издатель старинной немецкой лит-ры и автор «Прекраснейших сказаний классической древности» (т. 1–3, 1838–1840).
Шекспир, Уильям (1564–1616) — англ. драматург и поэт, классик мировой лит-ры.
Шелер, Макс (1874–1928) — нем. философ; вначале примыкал к феноменологическому учению Э. Гуссерля; развил этику ценностей, метафизику личности и идеи о религиозном обновлении; занимался социологией знания и основал совр. релятивизм; был близок к идеям Шопенгауэра.
Шелли, Перси Биши (1792–1822) — англ. поэт-романтик, классик мировой лит-ры.
Шефер, Вильгельм (1868–1952) — нем. писатель; мастер яркой метафорической прозы; последователь Хебеля, Клейста и Штифтера; автор литературных сказаний, драм, романов, рассказов, анекдотов; гл. произв. «Тринадцать книг немецкой души» (1922); автор романов: «Швейцарская трилогия» (1913), «Песталоцци» (1915), сб. новелл «Прерванная поездка по Рейну» (1907), «Возвращение Гёльд» (1925), «Анекдоты» (т. 1–3, 1943).
Шеффель, Йозеф Виктор (1826–1886) — нем. писатель; для его творчества характерно романтическое отношение к природе; гл. произв.: лироэпич. поэма «Зекингенский трубач» (1854), роман «Эккехард» (1857).
Шеффер, Альбрехт (1885–1950) — нем. писатель, поэт, драматург, эссеист; стремился связать в своем творчестве миф и рациональную действительность, античность и христианство, психоанализ и импрессионистическое восприятие мира: гл. произв. роман «Спаситель, картины из жизни двух современных людей…» (т. 1–3, 1920–1924). 102
Шиккеле, Рене (1883–1940) — нем. писатель-экспрессионист и пацифист; рассказывал о судьбах эльзасцев в связи с первой мировой войной; автор романов «Чужак» (1909), «Бенкал, утешитель женщин» (1911), новелл «Моя подруга Ло» (1911), «Девушки» (1920).
Шиллер, Иоганн Фридрих (1759–1805) — нем. поэт, драматург, эстетик и философ, основоположник новой немецкой лит-ры, классик мировой лит-ры.
Шицзин (Книга песен) — выдающийся памятник китайской и мировой лит-ры; один из первых дошедших до нас поэтических сводов (305 песен), создававшихся в XII–VII вв. до н. э. и включающий в себя лирические, философские, пейзажные бытовые, обрядовые и гражданственные стихотворения.
Шлегель, Август Вильгельм (1767–1845) — нем. филолог, переводчик и поэт, один из идеологов нем. романтизма и один из основоположников современного языкознания; брат Ф. Шлегеля.
Шлегель, Фридрих (1772–1829) — нем. филолог, философ и писатель; ведущий теоретик йенской школы нем. романтизма.
Шнабель, Франц (1887–1966) — нем. историк; гл. произв.: «Немецкая история в XIX веке» (т. 1–4, 1929–1937), «Источники истории Германии и изображение Германии в новое время» (1931).
Шнайдер, Ламберт (?-?) — нем. издатель, основатель издательства в Берлине в 1925 г.
Шопен, Фредерик (1810–1849) — польск. композитор и пианист, классик мировой музыкальной культуры. 67, 68, 114
Шопенгауэр, Артур (1788–1860) — нем. философ; основное произведение: «Мир как воля и представление»; согласно этике Шопенгауэра, преодоление эгоистических импульсов, свойственных человеку ввиду того, что его сознание зиждется на воле к жизни и на представлении об объективированном в человеке мире, осуществляется в области искусства и нравственности; искусство, создание романтического гения, основывается на способности «незаинтересованного созерцания»; включил в свое учение элементы древнеиндийской философии, открытой немецкими романтиками; оказал огромное влияние на развитие философии, на творческую интеллигенцию Европы конца XIX — начала XX в., и на формирование нем. интеллектуальной прозы, в том числе и Гессе.
Шоу, Джордж Бернард (1856–1950) — англ. писатель, классик мировой лит-ры; утверждал бескомпромиссность в решении социально-этических проблем; основу его творческого метода составляет ниспровержение догматизма и предвзятости; один из любимых писателей Гессе.
Шпенглер, Освальд (1880–1936) — нем. философ, представитель философии жизни; гл. труд — «Закат Европы» (1918–1922); испытал влияние ницшеанской типологии культуры; культуру трактовал как обособленный организм, который, умирая, перерождается в цивилизацию — «массовую культуру», враждебную творчеству; утверждал, что «фаустовская» (западноевропейская), одна из 8, по его классификации, культур мира, в XX веке погибает; отразив в своих взглядах кризис буржуазного общества, оказал влияние на творчество многих, в том числе и прогрессивных писателей первой трети XX века. 139, 140
Шпильхаген, Фридрих (1829–1911) — нем. писатель-натуралист; в свое время были популярны его романы «Проблематические натуры» (т. 1–4, 1861), «Через ночь к свету» (т. 1–4, 1862) и др.; автор ряда работ по теории и технике литературного творчества.
Шрёдер, Леопольд (1851–1920) — нем. филолог-санскритолог и индолог, переводчик; перевел и издал «Бхагавадгиту» (1912); автор многочисленных теоретических работ.
Штайн, Шарлотта фон (1742–1827) — нем. писательница, подруга И. В. Гёте; автор трагедии «Дидо» (1794). 107
Штайндорфф, Георг (1861–1951) — нем. египтолог; гл. произв. — «Коптская грамматика» (1894), «Расцвет царства фараонов» (1900), «Искусство Египта» (1928).
Штифтер, Адальберт (1805–1868) — австр. писатель; писал под знаком идеалов Просвещения; склонный к идеализации и сентиментальности, создал романтический мир мечты, идиллии; автор сб. новелл «Этюды» (т. 1–6, 1844–1850), «Пестрые камни» (т. 1–2, 1853), психологического «романа воспитания» «Бабье лето» (т. 1 — 3, 1857), написанного под влиянием «Вильгельма Мейстера» Гёте, исторического романа «Витико» (т. 1–3, 1865–1867); оказал значительное влияние на Гессе.
Шторм, Теодор (1817–1888) — нем. писатель и поэт; классик европейской лит-ры; мастер тонкого лиризма, композиции и психологизма; для новелл Шторма характерны идиллические и элегические мотивы; оказал влияние на Гессе. 21, 24, 140
Штраус, Эмиль (1866–1960) — нем. писатель; в его творчестве переплетаются романтизм, неоромантизм, любовь к простым вещам, тяга к неизведанному, утопическому; прославился своим романом о школьниках «Дружище Хайн» (1902), автор ряда психологических романов о детских трагедиях; повлиял на Гессе.
Шуберт, Франц (1797–1828) — австр. композитор, создатель романтической песни-романса; классик мировой муз. культуры.
Шуман, Роберт (1810–1856) — нем. композитор, выразитель эстетики немецкого музыкального романтизма, классик мировой муз. культуры.
Эггерт-Виндегг, Вальтер (1880–1936) — нем. писатель, филолог и издатель, составитель антологии «Бард. Прекраснейшие исторические стихи от начала немецкой истории до современности» и многократно переиздававшейся биографии «Эдуард Мёрике» (1904).
Эгиль Скаллагримссон — исл. скальд X в.; его авантюрная жизнь викинга описывается в «Саге об Эгиле» (XIII в.).
Эйнштейн, Альберт (1879–1955) — нем. физик-теоретик, создатель теории относительности; повлиял на мировоззрение Гессе.
Эйхендорф, Йозеф фон (1788–1857) — нем. писатель и поэт постромантического направления; классик европейской лит-ры; его лирика, новеллы и романы создают яркий образ романтической природы и гармонизирующей с ней романтической личности, человека в постоянном движении, странствии, одержимого жаждой личной свободы; в его произведениях реальный мир переплетается с миром сновидений; мастер иронии и сатиры; наиболее известное произв. — новелла «Из жизни одного бездельника» (1826); оказал большое влияние на Гессе.
Эйхродт, Людвиг (1827–1892) — нем. поэт; писал преимущественно в сатирических жанрах; автор сборника «Любовь к песням Бидермейера» (1870).
Эккартсхаузен, Карл фон (1752–1803) — нем. писатель-просветитель, автор многочисленных сочинений по философии, оккультным наукам, магии, воспитанию и богословию, а также романов и рассказов; цитируемая Гессе книга «Бенгальский тигр» вышла в Берлине в 1789 г.
Эккенер, Хуго (1868–1954) — нем. летчик; сначала был писателем; с 1908 г. строил цеппелины, в 1928 совершил перелет в Америку и обратно; в 1929 вокруг света и в 1931 — на Северный полюс; автор книги «На цеппелине через страны и моря» (1949).
Эккерман, Иоганн Петер (1792–1854) — личный секретарь Гёте, автор знаменитых мемуаров «Разговоры с Гёте…» (1837–1848).
Экхарт, Мастер (ок. 1260–1327) — нем. религиозный философ-мистик, проповедник и писатель; один из создателей языка немецкой художественной прозы; далекий от христианской догматики, искал духовного единения человека с Богом-Природой; рассматривал как единство бога, жизнь и человека; автор «Речей о различии», «Сочинения об оправдании», «Благословенной книги». «Трехчастного сочинения»; сильно повлиял на все последующее развитие немецкой философской мысли и литературы.
Эльзевиры — семья голланд. печатников и типографов. Лодовейк (ок. 1540–1617) в 1581 г. начал в Лейдене деятельность, продолженную сыновьями Маттиасом (1564–1640) и Бонавентурой (1583–1652), внуками Абрахамом (15921652) и Исааком (1596–1651) и др.; выпускали малоформатные издания (дуодек 12 д. л.), «Эльзевиры», считающиеся шедеврами издательского искусства.
Эмерсон, Ралф Уолдо (1803–1882) — амер. писатель-романтик и философ, глава школы трансцендентализма в американской литературе; в его программной книге «Природа» (1836) выражена необходимость близости человека и природы, протест против буржуазного миропорядка; прославился соц. — критич. «Очерками» (1841–1844); автор стихов, биографических очерков «Представители человечества» (1850); его этические взгляды привлекали многих писателей Европы, в том числе и Гессе.
Энгельс, Роберт (1866–1926) — нем. художник-график, книжный иллюстратор, живописец и дизайнер; прославился как иллюстратор Г. Сакса, Дюма, Хеббеля, Бехштайна, «Тристана и Изольды» и др.
Эрнст, Пауль (1866–1933) — нем. писатель, главный представитель немецкого неоклассицизма; исповедывал натурализм и революционные идеи; в эстетике — последователь Толстого; требовал независимости искусства от этических ценностей.
Эсхил (ок. 525–456 до н. э.) — греч. поэт-драматург; один из основоположников трагедии как сценического и литературного жанра; классик мировой лит-ры.
Юнг-Штиллинг, Генрих (1740–1817) — нем. писатель гётевской эпохи, друг Гёте; автор медицинских, религиозно-мистических и спиритуалистических сочинений и стихов; для последних характерна близость к народу, природе; прославился своей автобиографической тетралогией о Генрихе Штиллинге: «Юность Генриха Штиллинга» (1777), «Молодые годы Генриха Штиллинга» (1778), «Странствия Генриха Штиллинга» (1778), «Домашняя жизнь Генриха Штиллинга» (1789), высокие литературные достоинства присущи только первым двум частям.
Юсти, Карл (1832–1912) — нем. культуролог и философ, писатель; автор книг о Винкельмане, Мурильо, Веласкесе и Микеланджело.
Якобсен, Йенс Петер (1847–1885) — датск. писатель; один из крупнейших представителей датской прозы; оказал большое влияние на развитие психологизма и импрессионизма в литературах Западной Европы; гл. произведения: романы «Фру Мария Груббе» (1876), «Нильс Люне»; автор ряда новелл и стихов.
Александр Науменко
ПРИМЕЧАНИЯ
1
Отрывок из рецензии «Выставка современных изданий» на передвижную выставку Лейпцигского рекламного агентства.
(обратно)2
Роман Г. Келлера.
(обратно)3
Целиком (фр.).
(обратно)4
«Отечественное искусство (литература)» — направление, сложившееся в Германии на рубеже XIX и XX вв., сориентированное на диалектальную литературную продукцию и идеологию консервативной народности и выродившееся позднее в национал-социалистскую «литературу почвы и крови»; отечественные писатели в лице своего раннего идеолога А. Лангбена требовали возвращения к истокам национальной литературы, к «почве», «народу», возрождения «простодушия» народного рассказа, натуралистического изображения крестьянской, деревенской среды, архаических форм бытия; по сути, движение уже в зародыше было антикапиталистическим и антисоциалистическим, руководствовалось «национальным характером», как идейным и эстетическим критерием.
(обратно)5
Роман Г. Френссена.
(обратно)6
Книга Нахшаби.
(обратно)7
Книга Я. Буркхардта.
(обратно)8
Новелла Г. Келлера из цикла «Цюрихские новеллы».
(обратно)9
«Шкатулка рейнского семьянина» (1808–1819) — сборник Хебеля.
(обратно)10
В земле Рейн-Вестфалия.
(обратно)11
Сокращенный вариант эссе, написанного по поводу выхода в свет 5000-го издания «Универсальной библиотеки» Реклама.
(обратно)12
Речь идет о герое сатирической новеллы «Любовные письма» (из сборника «Люди из Зельдвилы») Вигги Штёртлере, который, стремясь получить образование и достигнуть литературных высот, записался во все библиотеки, во все читательские кружки, подписался на все выходящие книги: «образовавшись», Вигги вскоре стал писателем, каких десятки тысяч.
(обратно)13
Рука руку моет (лат).
(обратно)14
Ослы (лат.); в западноевр. традиции — студенты, только что поступившие в университет.
(обратно)15
«Страдания юного Вертера» (1774) — первый роман Гёте; «Гёц фон Берлихинген» (1773) — первая драма Гёте.
(обратно)16
Роман Гёте.
(обратно)17
Впервые напечатано в журнале «Виссен унд лебен (Знание и жизнь)» 15.7.1914, затем в расширенном виде как предисловие к сборнику «Песни немецких поэтов», изданному Гессе в 1914 г. в Мюнхене у Альберта Лангена.
(обратно)18
См. неполные русские переводы: Сомадева. Океан сказаний: Избр. повести и рассказы. М.: Наука, 1982; Сомадева. Повесть о царе Удаяне: 5 кн. из океана сказаний. М.: Наука, 1967.
(обратно)19
Вышло в указанном издательстве полностью, в семи томах.
(обратно)20
Новелла Клейста.
(обратно)21
Произведение Гёльдерлина.
(обратно)22
Майя — в ведийской мифологии способность к перевоплощению, свойственная божественным персонажам; иллюзия, обман; она обозначает положительную магическую силу, изменение вида, чудесную метаморфозу; в послеведийский период Майя выступает в персонифицированном виде как божественная женщина небесного происхождения; в вишнуизме Майя обозначает иллюзорность бытия, понятого как греза божества, и мир как божественную игру.
(обратно)23
Произведение Гёльдерлина.
(обратно)24
Произведение Новалиса.
(обратно)25
Произведение Ницше.
(обратно)26
Роман Жан Поля.
(обратно)27
Роман Мёрике.
(обратно)28
Роман Жан Поля.
(обратно)29
Безымянное сочинение, позднее народная книга, «Потешная книга о Тиле Уленшпигеле, уроженце Брунсвика, о том, как он прожил свою жизнь», написанное около 1450 г. в районе Брауншвейга (изд. в 1515 г. в Страсбурге).
(обратно)30
Народная книга (изд. 1598 г.).
(обратно)31
«Годви, или Каменный образ матери» (1801–1802) — роман воспитания, написанный в подражание «Вильгельму Мейстеру» Гёте и повествующий о становлении романтической личности; это произведение, сильно пронизанное неприкрытой эротикой, вызвало много споров среди романтиков и было осуждено бюргерской общественностью того времени.
(обратно)32
Гриммы, в 1806 году привлеченные Брентано к работе по сбору стихотворных текстов для «Волшебного рога мальчика», собирали также и сказки, которые Арним собирался издать как продолжение «Волшебного рога», а Брентано — использовать как материал для вольного переложения и опубликовать в запланированном им многотомнике сказок всего мира; эти намерения лидеров гейдельбергского романтизма не осуществились, и после 1810 года Гриммы начали подготавливать собственный сборник сказок. См. об этом: Гримм Я., Гримм В. Сказки, Эленбергская рукопись / Вст. ст., перев. и коммент. А. С. Науменко. М.: Книга, 1988.
(обратно)33
Новелла «Изабелла Египетская» (1812) и роман «Нищета, богатство, грех и покаяние графини Долорес» (1810).
(обратно)34
Стихотворения, вставленные в первую часть «Вильгельма Мейстера» Гёте.
(обратно)35
Не спаянное определенной программой, объединение нескольких швабских поэтов позднего романтизма, писавших стихи в форме народных песен, деревенские идиллии и баллады; наиболее выдающиеся ее представители: Ю. Кернер, Г. Шваб, В. Ф. Вайблингер, К. Майер и др.; с этой школой были связаны и Э. Мёрике и В. Гауф; в творчестве ее поэтов на первый план выступали зачастую консервативные идеалы, обывательская ограниченность, провинциальное самодовольство; именно эти черты ее высмеивал Гейне, видя в них воплощение немецкого убожества и застоя в немецкой литературе.
(обратно)36
Алеманы — западногерманское племя, в 450 г. расселившиеся по Северной Швейцарии, в немецких областях между Иллером и Лехом, а также в Эльзасе, где позднее сложилась алемано-швабская народность; алеманы в современном этнографическом смысле идентичны швабам; после выхода «Алеманских историй» И. П. Хебеля (1806) немецких швабов Баден-Вюртембергской земли тоже стали называть алеманами.
(обратно)37
Швабы — немецкая народность, живущая на территории между Рейном, Неккером и Дунаем и образующая тесную этническую и языковую общность с алеманами; швабом и большим патриотом Швабии был и Гессе.
(обратно)38
Героиня новеллы Э. Мёрике «История прекрасной Лау» (1853).
(обратно)39
Героиня романа Г. Келлера «Зеленый Генрих» (1854).
(обратно)40
Новелла «Флорентийские ночи» (1836).
(обратно)41
Перифраз из Библии, см. I Царств 15, 27 и 24, 5 и 6.
(обратно)42
Герои романа Жан Поля «Озорные годы».
(обратно)43
Новая, 1954 года, редакция эссе, написанного в 1918.
(обратно)44
Псевдоним Гессе, которым он подписывал свои антивоенные статьи и произведения того периода.
(обратно)45
Это бутылка старого бургундского, чтобы дать отпор меланхолии (фр.).
(обратно)46
Перифраз из Библии, Матфей 25, 32–36.
(обратно)47
Буржуазная революция в Германии в ноябре 1918 г., на которую Гессе возлагал много надежд, оказавшихся несбыточными.
(обратно)48
В конце 1920 г. Гессе было предложено его издателем С. Фишером обозреть все его написанные до сих пор произведения и составить из них избранное, а в предисловии высказаться о принципах выбора; предложение совпало с назревшей к этому времени внутренней потребностью Гессе в обзоре своего творчества; писатель взялся за работу, в результате которой и возник нижеследующий фельетон об этой попытке (опубликован в «Нойе цюрхер цайтунг» 20.11.1921 г.).
(обратно)49
«Речи Гаутамы Будды», т. 1–3, переведенные Карлом-Ойгеном Нойманом. Мюнхен, 1921. Первое издание вышло в 1896–1902 гг. Это перевод второго раздела второй части «Типитаки» (буддийского палийского канона, записанного в I в. до н. э. при царе Ваттагамани на Цейлоне) — «Маджджхима-никая» (собрания средних поучений), записанного в форме серии диалогов Будды с царем богов Саккой; неким юношей; соблазнителем Марой и др. Это одно из наиболее значительных произведений индийской литературы. Рецензия опубликована в берлинской «Ди нойе рундшау» в октябре 1921 года.
(обратно)50
Трагедия Орфея (лат.).
(обратно)51
С мая 1919 Гессе жил в Монтаньоле (Тессине), куда он переехал из Берна.
(обратно)52
Анкета под названием «Непризнанные писатели среди нас» была распространена швейцарской газетой «Нойе цюрхер цайтунг»; ответ Гессе опубликован в ней 4.4.1926.
(обратно)53
Воспитание чувств (фр.).
(обратно)54
Западней (фр.).
(обратно)55
Хасиды (иврит. — благочестивые) — представители религиозно-мистического течения в иудаизме, возникшего в первой половине XVIII в. как оппозиция официальному иудаизму; для хасидизма характерна вера в чудеса, почитание провидцев, якобы находящихся в постоянном общении с Богом, и т. п., что нашло отражение в многочисленных произведениях фольклора.
(обратно)56
Лиро-эпическая поэма И. В. Шеффеля (1854).
(обратно)57
Поэма Клопштока.
(обратно)58
Вышедшее анонимно (впервые в 1770–1772 гг.) произведение И. Т. Гермеса; здесь речь идет о Лейпцигском издании 1774–1778 гг.
(обратно)59
Роман М. Миллера.
(обратно)60
Эссе написано 2 декабря 1928 года во время работы над романом «Нарцисс и Златоуст».
(обратно)61
Бидермайер — стилевое направление в немецком и австрийском искусстве ок. 1815–1848 гг., получившее название от вымышленной фамилии простодушного немецкого обывателя в заглавии стихов Л. Эйхродта. Свойственный романтизму интерес к масштабной личности вытеснился в бидермайере интересом к частному человеку, семейному уюту, обыденной жизни бюргеров и крестьян, созерцательности, идеализации; в представлении идеологов немецкой крупной буржуазии все, что тормозило развитие капитала и промышленности, отождествлялось с бидермейером.
(обратно)62
Библия, Матфей 16, 26.
(обратно)63
Христианской науке (англ.).
(обратно)64
Маздазнан (досл. на пехлеви — память) — систематизированный образ жизни, цель которого обновление зороастризма; основатель учения — Отоман Зар-Адушт Ханиш (1844–1936), создавший его на базе древнего арабского учения, якобы явленного праматерью Айнайяхитой 9000 лет назад; с 1900 г. распространилось по всему миру; проповедует всеобщее спасение с помощью планомерно организованной эволюции человечества, средства которой самопознание, самообладание, самовоспитание, всесторонняя физическая культура, вегетарианство, особое дыхание и т. п. — элементы, восходящие к индийской йоге.
(обратно)65
Персонаж оперы Моцарта, «Волшебная флейта».
(обратно)66
Сублимация — заимствованный из химии (лат. — возгонка) термин классического психоанализа: претворение животных (эротических) инстинктов в культурные формации человеческого сознания. Гессе часто пользуется этим и другими терминами глубинной психологии Фрейда — Юнга.
(обратно)67
Речь идет о Цезарии Хайстербахском.
(обратно)68
Р. Борхардт.
(обратно)69
Эссе написано во время переезда в Монтаньолу из арендованного Гессе Дома Камуцци в новый дом, построенный для Гессе его другом и меценатом Г. К. Бодмером.
(обратно)70
Ответ на анкету, распространенную газетой «Пратер тагеблатт»; опубликован в ней 28.3.1937.
(обратно)71
Даосизм — одно из основных направлений древнекитайской философии, представленное трактатами «Лао-цзы» и «Чжуан-цзы»
(обратно)72
Дзэн — одно из течений дальневосточного буддизма; «дзэн» — японское произношение китайской иероглифической транскрипции (чань) санскритского термина «дхяна» (медитация, самоуглубление); согласно дзэну, сложившемуся в Китае под сильным влиянием даосизма, истина не выразима в словах, постичь ее можно лишь путем «скачка», освободив сознание от проторенных путей, которыми движется мысль; дзэн характеризуется отказом от привычных норм разумного, склонностью к парадоксу, интуитивизмом, на первое место выдвинута импровизация, действие без плана; дзэн оказал огромное влияние на дальневосточную культуру и на мировоззрение Гессе.
(обратно)73
Имеется в виду Петер Зуркамп.
(обратно)74
Терезин — фашистский концлагерь на территории Чехословакии.
(обратно)75
О древе жизни. Избранные стихи. Лейпциг: Инзельферлаг, 6. г. [1934], 78 стр., 8°.
(обратно)76
Опубликовано в швейцарской газете «Нойе цюрхер цайтунг» 2.6.1947 г.
(обратно)77
Немецкая книготорговля — полное название: Биржевое объединение немецкой книготорговли — основана в 1825 г. как цеховая организация немецких издателей и книготорговцев; после раздела Германии вновь организована в 1948 г. во Франкфурте-на-Майне как всеобщий профессиональный союз западногерманских издателей с задачей представлять их культурные и экономические интересы, защищать авторское и издательское право, готовить издательские кадры, основывать библиотеки. Премия мира, учрежденная в 1950 г., перенята Немецкой книготорговлей в 1951 г.; ею ежегодно награждается один писатель любой национальности, внесший вклад в дело мира; Премия вручается по традиции в соборе св. Павла во Франкфурте-на-Майне.
(обратно)78
Цитируется знаменитая статья Гессе, первая из серии его антивоенных статей, «О други, не эти звуки!» («Нойе цюрхер цайтунг», 3.11.1914), озаглавленная строкой речитатива из финала 9-й симфонии Бетховена; именно эта статья положила начало травли Гессе в охваченной шовинистическим угаром Германии.
(обратно)79
Перифраз из Послания к Филиппийцам (4, 7).
(обратно)80
Человек играющий (лат.); это выражение навеяно Гессе знаменитым трактатом Й. Хёйзинги «Homo ludens. Опыт исследования игрового элемента в культуре» (1938), где восхождение к высоким областям культуры объясняется игровым инстинктом.
(обратно)81
Йозеф Кнехт — герой романа Гессе «Игра в бисер», речь идет о вставочном стихотворении «Буквы» в главе «Сочинения, оставшиеся от Йозефа Кнехта».
(обратно)82
Аллюзия на стихотворение Э. Мёрике «Песня охотника» (1837):
Поступь птиц изящна на снегах, Чистых и нетронутых в горах, Но изящней милая моя Пишет мне в далекие края. (обратно)83
Одно из наиболее популярных японских буддистских божеств; это милосердная заступница, к которой может обратиться за помощью любой человек; сохранились тысячи статуй Каннон, ей посвящены десятки легенд. </p>
(обратно)84
Начало латинского девиза «Зову живых, оплакиваю мертвых, молнии ломаю», взятого некогда Шиллером как эпиграф к «Песне о колоколе».
(обратно)


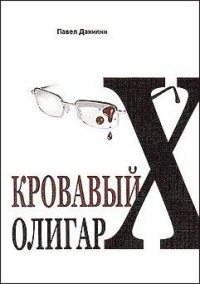
Комментарии к книге «Магия книги», Герман Гессе
Всего 0 комментариев