Герман Гессе Письма по кругу (Художественная публицистика)
СОДЕРЖАНИЕ
«Я верю в законы человеческого рода...» В. Д. Седельник
Детство волшебника. Перевод С. С. Аверинцева
Краткое жизнеописание. Перевод С. С. Аверинцева
Новалис. Перевод С. С. Аверинцева
Друзья, не надо этих звуков! Перевод В. Д. Седельника
Конраду Хаусману. Перевод В. Д. Седельника
Альфреду Шленкеру. Перевод В. Д. Седельника
«Подросток». Перевод М. С. Харитонова
Толстой и Россия. Перевод М. С. Харитонова
«Белые листки». Перевод М. С. Харитонова
Письмо обывателю. Перевод M. С. Харитонова
Альфреду Шленкеру. Перевод В. Д. Седельника
Ромену Роллану. Перевод В. Д. Седельника
Стефану Цвейгу. Перевод В. Д. Седельника
Прибежище. Перевод M. С. Харитонова
Государственному министру. Перевод М. С. Харитонова
Наступит ли мир? Перевод М. С. Харитонова
Если война продлится еще два года. Перевод М. С. Харитонова
Война и мир. Перевод Ю. И. Архипова
Своенравие. Перевод Ю. И. Архипова
Письмо молодому немцу. Перевод Ю. И. Архипова
Братья Карамазовы, или Закат Европы. Перевод Ю. И. Архипова
Размышления об «Идиоте» Достоевского. Перевод Н. А. Темчиной и А. Н. Темчина
Людвигу Финку. Перевод В. Д. Седельника
Самуэлю Фишеру. Перевод В. Д. Седельника
О чтении книг. Перевод Ю. И. Архипова
О романе А. Барбюса «Ясность». Перевод В. Д. Седельника
Предисловие писателя к изданию своих избранных произведений. Перевод H. А. Темчиной и А. Н. Темчина
Письма ненависти. Перевод Н. А. Темчиной и А. Н. Темчина
О Жан Поле. Перевод Н. А. Темчиной и А. Н. Темчина
О Достоевском. Перевод Н. А. Темчиной и А. Н. Темчина
Господину Т. Г. М. Глатц. Перевод В. Д. Седельника
Воспоминания о «Симплициссимусе». Перевод В. Д. Седельника
Библиотека всемирной литературы. Перевод С. С. Аверинцева
Размышления о Готфриде Келлере. Перевод Н. А. Темчиной и А. П. Темчина
Читая "Зеленого Генриха"
Магия книги. Перевод Н. А. Темчиной и А. Н. Темчина
Заметки о литературе и критике. Перевод Н. А. Темчиной и А. Н. Темчина
Томасу Манну. Перевод Е. И. Маркович
Господину Р. Б. Перевод Е. И. Маркович
Из рецензии в журнале «Бюхервурм». Перевод В. Д. Седельника
Томасу Манну, Мюнхен. Перевод Е. И. Маркович
Господину Ф. Абелю. Перевод Е. И. Маркович
Сыну Бруно. Перевод В. Д. Седельника
Генриху Виганду. Перевод Е. И. Маркович
Благодарность Гете. Перевод Е. И. Маркович
Генриху Виганду. Перевод Е. И. Маркович
Генриху Виганду. Перевод Е. И. Маркович
Хелене Вельти. Перевод Е. И. Маркович
Генриху Виганду. Перевод Е. И. Маркович
Людвигу Финку. Перевод В. Д. Седельника
Фрицу Гундерту. Перевод В. Д. Седельника
Томасу Манну. Перевод Е. И. Маркович
Молодому человеку из Германии. Перевод Е. И. Маркович
Д- ру М.-А. Йордану. Перевод Е. И. Маркович
Генриху Виганду. Перевод Е. И. Маркович
Господину А. Шт., Югендсбург Фройсбург, Зауэрланд. Перевод Е. И. Маркович
Господину Ф. Абелю, Тюбинген. Перевод Е. И. Маркович
Читая роман. Перевод Н. А. Темчиной и А. Н. Темчина
Фройляйн Анни Ребенвурцель, Кельн. Перевод Е. И. Маркович
Рудольфу Якобу Хумму, Цюрих. Перевод Е. И. Маркович
Томасу Манну. Перевод Е. И. Маркович
Томасу Манну. Перевод Е. И. Маркович
Томасу Манну. Перевод Е. И. Маркович
Госпоже Берте Марквальдер, Баден. Перевод Е. И. Маркович
Вильгельму Гундерту, Токио. Перевод Е. И. Маркович
Правлению ПЕН-клуба в Лондоне. Перевод Е. И. Маркович
Д- ру К.-Г. Юнгу, Кюснахт. Перевод Е. И. Маркович
Издательству «Филипп Реклам юниор», Лейпциг. Перевод Е. И. Маркович
Франц Кафка. Перевод Н. А. Темчиной и А. Н. Темчина
В немецкую инстанцию, потребовавшую от Германа Гессе свидетельство об арийском происхождении. Перевод Е. И. Маркович
Господину X. М., Кобленц. Перевод Е. И. Маркович
Р. Я. Хумму, Цюрих. Перевод Е. И. Маркович
Томасу Манну, Кюснахт - Цюрих. Перевод E. И. Маркович
Издательству «С. Фишер», Берлин. Перевод E. И. Маркович
Д- ру Эдуарду Корроди, Цюрих. Перевод Е. И. Маркович
Томасу Манну, Кюснахт. Перевод Е. И. Маркович
Господину Ф. Л., Цюрих. Перевод Е. И. Маркович
Р. Я. Хумму. Перевод Е. И. Маркович
Письмо в утешение во время войны. Перевод С. К. Апта
Томасу Манну. Перевод С. К. Апта
Томасу Манну. Перевод С. К. Апта
Томасу Манну. Перевод С. К. Апта
Слово в первый час 1946 года. Перевод С. К. Апта
Предисловие к изданию «Война и мир» 1946 года. Перевод С. К. Апта
Письмо к Адели. Перевод С. К. Апта
Письмо в Германию. Перевод С. К. Апта
Слово к участникам банкета по случаю Нобелевского торжества. Перевод С. К. Апта
Благодарность и нравоучительное замечание. Перевод С. К. Апта
Вильгельму Шуссену. Перевод С. К. Апта
Д- ру Пауле Филиппсон. Базель. Перевод С. К. Апта
Господину Л. Э. Витце. Перевод С. К. Апта
Томасу Манну. Перевод С. К. Апта
Тайны. Перевод С. К. Апта
Томасу Манну. Перевод С. К. Апта
Господину д-ру П. Э., Дрезден. Перевод С. К. Апта
Томасу Манну. Перевод С. К. Апта
Томасу Манну. Перевод С. К. Апта
Господину Ф. Перевод С. К. Апта
Господину А. Ш., Гейслинген. Перевод С. К. Апта
Студенту из Бонна. Перевод С. К. Апта
В журнал «Лас Эспаньяс», Юкатан. Перевод С. К. Апта
Представителю немецкого общества деятелей культуры. Перевод С. К. Апта
Феликсу Лютцкендорфу, Мюнхен. Перевод С. К. Апта
Госпоже Р. Р., Гиссен. Перевод С. К. Апта
Томасу Манну к его семидесятипятилетию. Перевод С. К. Апта
Сейдзи Такахаси, главному редактору журнала «Гундзо», Токио. Перевод С. К. Апта
Ответ на письмо из Германии. Перевод С. К. Апта
О старости. Перевод С. К. Апта
Энгадинские впечатления. Перевод С. К. Апта
Томасу Манну. Перевод C. К. Апта
Рудольфу Панвицу. Перевод С. К. Апта
Господину Гольке, Берлин. Перевод С. К. Апта
Томасу Манну к 6 июня 1955. Перевод С. К. Апта
Гельмуту Кирштейну, Нинбург-на-Везере. Перевод С. К. Апта
Редакции журнала «Вопросы германской и международной политики», Кельн. Перевод С. К. Апта
Приветствие «Коммунита Эуропеа ди Скриттори», Милан. Перевод С. К. Апта
Комментарии. В. Д. Седельник
«Я верю в законы человеческого рода...»
Герман Гессе принадлежит к художникам необычайной судьбы, к писателям, которых безоговорочно принимали и столь же безоговорочно отвергали, о которых высказывали (и до сих пор высказывают) разноречивые, порой диаметрально противоположные суждения. Критическое и читательское восприятие Гессе на Западе отмечено резкими перепадами: спокойная доброжелательность вдруг отступала перед лавиной хулы и поношений, периоды уничтожающих приговоров неожиданно сменялись стремительным ростом интереса к «монтаньольскому отшельнику», а то и непомерным захваливанием его в угоду моде и книгоиздательской конъюнктуре, как это случилось, например, на рубеже 60-70-х годов, когда на короткое время он стал кумиром «бунтующей молодежи» и самым читаемым европейским писателем в США и Японии.
Причуды восприятия писателя во многом объясняются необычайным богатством и глубокими противоречиями его творческого облика. Герман Гессе (1877-1962) - одна из самых сложных фигур западноевропейской культуры XX века. В его книгах воплотились искания и брожения духа нескольких поколений немецкой - и не только немецкой - интеллигенции. Насущные проблемы современного мира он разрабатывал по-своему, перенося их из непосредственной действительности в сферу души и духа. Каждая его книга - это «биография души», роман внутренней жизни личности, жизни ума, исполненного напряженных раздумий о смысле и диалектике бытия. Зрелый Гессе, определив однажды свои духовные и нравственные ориентиры, практически не менялся или менялся очень мало, сохраняя «своенравие» обретшей себя личности, мир же, который его окружал, в котором он жил, менялся беспрерывно, то сужаясь (в пору приливов национализма), то расширяясь и впуская в себя веяния других культур, и требовал перемен от писателя, ревниво реагируя на его поведение.
Спорили и спорят о Гессе и в нашей стране - как правило, спокойно, без эксцессов слепого поклонения или незаслуженного поношения, сохраняя критическую дистанцию и безусловное уважение к большому художнику-гуманисту. Споры эти чаще всего вызывались появлением книг Гессе на русском языке, они пробуждали читательский и издательский интерес к почти забытому у нас в 30-50-е годы писателю. Сегодня советскому читателю известны почти все более или менее значительные произведения Гессе - от романов «Сиддхартха» и «Степной волк» до философской утопии «Игра в бисер», от стихотворений, сказок и некоторых новелл до «Паломничества в страну Востока» и других повестей. Причем известны не только в переводах на русский язык, но и на языки других народов СССР - латышский, эстонский, украинский, грузинский и т. д. В работах советских литературоведов и критиков глубокое и всестороннее истолкование получили многие стороны творчества Гессе.
Многие, но не все. Куда меньше художественных произведений мы знаем политическую публицистику и эссеистику Гессе, его богатейшее критическое и эпистолярное наследие. Без них облик писателя предстает в слегка искаженном свете. Как-то так получалось, что созданная противниками и недоброжелателями Гессе легенда, согласно которой он - одинокий анахорет, отвернувшийся от действительности, преодолевший ее в сфере «чистого духа», невозмутимый мудрец, познавший конечный смысл бытия и достигший внутренней гармонии в отстраненном созерцании мира, не встретила подобающего отпора - отчасти, видимо, и потому, что сам писатель давал основания для таких суждений, когда в пылу полемики называл себя «до фанатизма аполитичным» индивидуалистом. Между тем публицистика и особенно письма Гессе утверждают обратное: он был в высшей степени политическим писателем, более дальновидным и проницательным, чем многие профессиональные политики. Решительно отметая империалистическую и националистическую политику, политику генералов, банкиров и торговцев оружием, он настойчиво и целеустремленно проводил политику иного рода, «политику совести», делал ставку на нравственный стержень личности, на целостного человека. Гессе сосредоточивал внимание на индивидуальности не потому, что отвергал общественное и социальное, а в пику упрощенным представлениям о диалектике личного и общественного. Социальное, общественное было для него чем-то само собой разумеющимся, чему заранее отводилась роль контрапункта.
Гессе был одержим идеей найти себя на «пути внутрь», он был убежден, что каждый человек должен опуститься в самые сокровенные свои глубины, прежде чем он по-настоящему станет индивидуальностью, личностью. Но «поиски себя» никогда не ограничивались у него только внутренними проблемами. «Придти к себе» означало найти себя в мире, научиться великому искусству быть человеком и жить среди людей, не поступаясь собственной сутью. Об этом поистине великом и мучительно трудном искусстве идет речь не только в таких статьях, как «Своенравие» или «Прибежище», но и во всех остальных материалах сборника, особенно в письмах.
Уповая на индивидуальный гуманизм, Гессе хотел помочь личности выстоять, не раствориться в распаде и разобщенности позднебуржуазного общества. Он писал о своем отношении к марксизму: «Между мной и Марксом, если отвлечься от значительно больших масштабов Маркса, разница в следующем: Маркс хочет изменить мир, я - отдельного человека, он обращается к массам, я - к индивидуумам...» Сначала, считает Гессе, люди должны обрести зрелость и чувство ответственности, а потом уже можно будет думать о переустройстве мира. Что переустройство должно быть коммунистическим, в этом он не сомневается. «Я нахожу коммунизм не только оправданным, - писал он, - я нахожу его само собой разумеющимся: он придет и победит, даже если бы мы все были против него. Кто сегодня стоит на стороне коммунизма, тот утверждает будущее».
Стало едва ли не общим местом связывать Гессе, отпрыска южнонемецких проповедников и миссионеров, с традицией швабского пиетизма. Атмосферой родительского дома объясняются и особенности поведения писателя, и такие приметы его творчества, как исповедальность, открытая автобиографичность и многое другое. При этом забывается, что Гессе уже в детстве и юности конфликтовал со средой, из которой вышел, что ему было тесно и неуютно в ней. Что и говорить, прошлое, с его цепкой памятью детства - «детства волшебника», - много дало Гессе, многое определило и предопределило в его судьбе. Вне пиетистской традиции трудно понять внутренний строй его произведений. Но это же прошлое и тяготило его, сковывало, до конца жизни вынуждало как бы оглядываться на многочисленных швабских родственников, всех этих консервативно настроенных священников и проповедников: вдруг сочтут слишком левым! Волю себе он давал только в письмах, поэтому они чрезвычайно ценны для понимания его связей с современностью. В них Гессе, отвечая на вопросы корреспондентов, снова и снова уточняет свои позиции, формулирует основы своего мироощущения и находит в нем новые оттенки, высвечивает новые грани. Письма, как и статьи, помогают в ином свете увидеть и собственно художественное творчество писателя, помогают понять, что его упрямое человеколюбие - не результат внезапного озарения, а плод кропотливой работы души, непрекращающегося эмоционального и интеллектуального напряжения.
Статьи и письма опровергают распространенное мнение, будто Гессе в погоне за некой универсальностью сознательно избегал «поверхностной злободневности» и непосредственных связей с действительностью. Наоборот, он использовал любую «возможность быть продуктивным в качестве обвинителя и критика своей эпохи». Отвечая в начале 30-х годов на открытое письмо о «миссии поэта», он подчеркивал, что «олимпийское парение над схваткой» чуждо его натуре. «Возможно, это задача классического поэта, но не моя, и я не чувствую себя призванным утаивать бездны всеобщего и собственного существования или представлять их безобидными... Целостность моей жизни и творчества не предстала бы возможному наблюдателю как гармония, скорее как непрерывная борьба и непрерывное, хотя и не лишенное веры, страдание».
«Индивидуалист» Гессе искал и находил свои формы социальных связей. В разное время у него были общественные трибуны - журналы «Симплициссимус», «Мерц», «Вивос воко», в которых он активно сотрудничал. Но главным каналом связи с миром была все же переписка. Гессе, как никто другой, любил и умел писать письма. Ответы многочисленным корреспондентам, переписка кратковременная, эпизодическая и длившаяся десятилетиями, письма, обращенные к одному лицу, и письма-исповеди, открытые письма, «письма по кругу» - вот те формы, с помощью которых осуществлялась прямая и обратная связь писателя с обществом. Работе над письмами он придавал исключительное значение, а в поздние годы она стала ведущей в его творчестве.
Обычно письма собирают и издают наследники после смерти их автора. Гессе же при жизни сделал их одним из самых действенных и оперативных жанров. Он снимал со своих писем копии, собирал их, группировал, издавал в виде книг и подборок. Количество тех, с кем он беседовал как бы с глазу на глаз, возрастало, таким образом, в десятки тысяч раз. Без сомнения, это был способ воздействовать на читателя и на действительнось, в том числе и на действительность политическую. Голос, обращенный к одиночкам, достигал широкого читателя, о чем говорят многократные переиздания и немалые тиражи писем.
То, о чем идет речь в письмах и статьях, пропущено через личный опыт автора, касается вроде бы его одного - и странным образом затрагивает всех, имеет общечеловеческое значение. Все сдобрено «приправой» личности Гессе человека неуживчивого и в то же время мягкого, неуступчивого в принципиальных вопросах и снисходительного к слабостям других, в высшей степени своенравного и подверженного перепадам настроения, чуткого к «гримасам» внешнего мира. Лирическая, задушевная струя в его публицистике и письмах соседствует с одержимостью борца, готового жизнью расплатиться за выстраданные убеждения.
Гессе не раз отказывался от роли духовного вождя, учителя жизни, к чему его настойчиво призывали читатели. Но на деле он был им, был замечательным воспитателем доброты, рачительным хозяином всего светлого, что есть в человеческой душе, и беспощадным корчевателем зла, гнездящегося все в том же вместилище. Конкретные проблемы конкретного времени ставились им в широкий исторический контекст, охватывающий, наряду с прошлым и настоящим, и обозримое будущее. К своему времени он подходил с мерой человечности и мерой совести. Его публицистика - не громкие призывы, а настойчивое и внятное напоминание человеку: будь добр, совестлив, заботлив к ближнему, внимателен к своему внутреннему миру и к миру других. Гессе ничего не замалчивает, не знает запретных тем, табуизированных сфер, он идет и ведет за собой читателя крутыми тропами познания, но каждый раз приходит к истинам простым, элементарным - о необходимости мира, любви и взаимопонимания, о святости жизни на земле.
Временами голос его был гласом вопиющего в пустыне бездуховности, шовинизма и национализма. В нем, случалось, звучали нотки мольбы, отчаяния, предостережения, даже угрозы, но из него никогда не исчезали интонации надежды и веры в человека. Живя в нейтральной Швейцарии, Гессе, как одинокий Дон Кихот, самоотверженно сражался с ветряными мельницами зла, и рядом с ним сражалась в те годы националистического помрачения духа частичка другой, «тайной» Германии, страны великих гуманистов, родины Гельдерлина и Жан Поля, Мерике и Новалиса, Гете и Томаса Манна. Многим из этих мастеров Гессе посвятил статьи, вошедшие в настоящий сборник. Статьи эти важны не только как дань любви и уважения благодарного ученика; не менее важно в них то, как соотносится в понимании Гессе творчество мастеров прошлого с современной жизнью. В каждом из великих художников Гессе ценил способность ощущать боль о человеке и человечестве и воспитывал эту драгоценную во все времена способность в себе и в своих читателях.
Гессе на протяжении всей жизни отличало поразительное чувство духовной независимости и человеческого достоинства. В его творчестве, в образе жизни, во всем его неповторимом облике воплотилось растущее противоречие между воинственной «технологической» цивилизацией и неуступчивой личностью, между нахрапистой бездуховностью массовой культуры и радикальной совестью гуманиста. В схватке с «фельетонным веком» он не признавал компромиссов и неизменно вставал на сторону личности, понимая, что от ее масштаба и качества, от привитой ей меры ответственности в конечном счете зависит будущее человечества.
Пожалуй, лучшее в художественной публицистике Гессе - его антивоенные статьи. Гессе-публицист начинается со статьи «Друзья, не надо этих звуков!», опубликованной в начале ноября 1914 года швейцарской газетой «Нойе цюрхер цайтунг». Конечно, писатель и до этого не был равнодушен к политике, его симпатии и антипатии в этой области стали определяться с конца прошлого столетия. Но окончательным толчком к политическому «пробуждению» послужила первая мировая война. Отныне Гессе, ранее старательно отделявший литературу от политики, внимательно следит за событиями в мире и учится соединять в себе художника и публициста. В названной выше статье он призвал деятелей культуры воюющих стран образумиться, отказаться от взаимных попреков, от разжигания ненависти и поддержать рушившиеся «духовные мосты» между народами.
Пресса империалистической Германии ответила на выступление поэта потоками клеветы и злобных нападок. Немецкие «друзья» Гессе спешили публично от него отречься, книготорговцы отказывались продавать книги «крамольного» автора, а сам он, к тому времени окончательно перебравшийся в Швейцарию, с которой его многое связывало и объединяло, был объявлен «дезертиром», «отщепенцем», «предателем национальных интересов».
В это тяжелое для писателя время поддержка пришла быстро и с неожиданной стороны: из Женевы откликнулся Ромен Роллан, который тоже боролся против империалистической бойни и подвергался яростной травле со стороны националистов - как немецких, так и своих, французских. Роллан радостно приветствовал Гессе, видя в нем собрата по духу и борьбе.
Поддержка французского писателя, который был в те дни, по словам С. Цвейга, «нравственной совестью Европы», произвела на Гессе огромное впечатление и укрепила его убеждение в правильности предпринятого им шага. Значительно позже, в предисловии к сборнику своих статей «Война и мир», посвященному памяти Роллана, он вспоминал: «Я забыл многое из удручающих дней 1914 года, когда возникла самая ранняя из этих статей, но не тот день, когда ко мне как единственный сочувственный отклик на эту статью пришло письмо от Ромена Роллана. [...] У меня оказался попутчик, единомышленник, который, как и я, отшатнулся от кровавого безумия войны и военного психоза и восстал против них, и это был не кто-нибудь, а человек, которого я высоко ценил как автора первых томов «Жана Кристофа» (других его произведений я тогда еще не знал) и который сильно превосходил меня политической выучкой и сознательностью... Это было благом, это было спасением и счастьем - узнать, что есть кто-то, кто во «вражеском», во французском, лагере выступил с тем же протестом совести против требования покориться и участвовать в оргиях ненависти и больного национализма».
Возникла дружба. О том, как она развивалась, рассказывает роллановский «Дневник военных лет» и переписка между двумя писателями, которая с более или менее продолжительными перерывами велась около четверти века и напоминает старые фрески: в ней мало броского, но за скупыми деталями кроется глубина и значительность, раскрывается индивидуальность обоих писателей, проясняются сходства и различия их характеров, творческих дарований и политических убеждений. Ведущая роль в этом диалоге двух гуманистов принадлежала Роллану. Он старается пробудить в своем младшем собрате интерес к политической активности, пытается втянуть его в широкое общественное движение; иногда он слегка иронизирует над чрезмерной тягой Гессе к «комфортабельному» одиночеству, но делает это с тактом, догадываясь, очевидно, как трудно дается склонному к созерцательности поэту всякое публичное выступление.
У Роллана и Гессе, у француза и немца, вставших в единый строй защитников гуманистических ценностей мировой культуры, был еще один объединяющий момент: оба они в годы первой мировой войны жили в Швейцарии, в стране, которая казалась им «возвышенным примером для всей остальной Европы», «островом справедливости и мира», куда, спасаясь от «разнузданной слепой силы», причаливают «усталые путешественники всех стран» [Р. Роллан. В стороне от схватки. Пг., 1919, с. 39-40.]. Примечательно, что, говоря о Гессе как о единственном из всех немецких поэтов, сохранившем «поистине гетевское величие духа», Роллан всякий раз соотносит его со Швейцарией, называет «почетном гостем и почти приемным сыном Швейцарии» [Там же, с. 124-125.]
Хотя круг деятельности Гессе значительно уже роллановского, но и он активно включается в повседневную борьбу, работает в Бернском комитете помощи военнопленным, пишет антивоенные статьи, собирает единомышленников. На него, как и на Роллана, огромное воздействие оказали революционные события в России. Благодаря им он все глубже постигает империалистическую сущность войны. Если в послании «К государственному министру» (август 1917 года) еще явственно слышны отголоски иллюзий либерально настроенного интеллигента, видевшего причины безответственной воинственности министра в том, что тот «слишком мало слушает музыку, слишком мало читает Библию и великих писателей», то в написанной три месяца спустя статье «Наступит ли мир?» звучат совсем иные мотивы. Гессе уже не желает победы ни одной из сторон - ведь в любом случае «в выигрыше окажется то, что называют «милитаризмом» и что по справедливости ненавидят». Он призывает последовать примеру русских, которые «первыми среди народов решили пресечь войну в корне и положить ей конец». Приветствуя мирные инициативы революционной России, он порицает другие государства за косность в этом жизненно важном вопросе и требует покончить с постыдной войной, которая не нужна никому, «кроме крошечной кучки больных фанатиков или бессовестных преступников». Он уже не советует государственным деятелям, неспособным «внять голосам человечества», читать Библию или слушать музыку; он требует немедленно лишить их власти, не дожидаясь, пока новые миллионы людей истекут кровью ради их глупых притязаний.
Это уже не просто прекраснодушный призыв к миру, это завет активного гуманиста, наказ всем людям доброй воли бороться за мир на земле решительно и до конца, отбросив равнодушие, вооружившись гражданским мужеством и душевной стойкостью.
То, что с такой убежденностью и страстью высказано в статье «Наступит ли мир?», не утратило своей актуальности и в наши дни.
Исключительно важное место в духовных и художнических исканиях Гессе 10-20-х годов занимает Ф. М. Достоевский. Вообще говоря, в самом факте увлечения русским писателем не было ничего необычного: его имя в те годы было на устах у всех. Но Гессе усваивал и «переживал» Достоевского особенно интенсивно. Он сформулировал общую для многих особенность обращения к Достоевскому: к нему приходят не в пору благополучия и душевной уравновешенности, а в годину отчаяния, в пору личных и общественных потрясений. «Только тогда мы воспринимаем музыку Достоевского, его утешение, его любовь, только тогда нам открывается чудесный смысл его страшного, часто дьявольски сложного поэтического мира».
Такая пора наступила и для Гессе, до войны вполне благополучного человека и удачливого писателя. Разлад и разрыв с Германией, со многими из друзей, крушение веры в незыблемость старого мира, предчувствие надвигающихся перемен, распад семьи, утрата привычного образа жизни - все это поставило писателя перед необходимостью кардинальной переоценки ценностей. Восприятие Достоевского происходило сквозь призму личного надлома и небывалого брожения в умах интеллигенции, сквозь призму «хаоса».
Гессе, как видно из его статей о «Подростке» и «Идиоте», привлекали в Достоевском не столько интерес к темным сторонам души и умение передавать тончайшие движения больного сознания, сколько его нравственная одержимость, сочувствие униженным и оскорбленным. Примерно так же, кстати, воспринимал Достоевского и Томас Манн, писавший о нем как об одном из важнейших факторов своего духовного воспитания. Ни Гессе, ни Манну не удалось однако избежать характерного для той эпохи предвзятого подхода к русскому писателю. И тот, и другой часто излишне акцентировали нечеткость моральных критериев Достоевского, его эксперименты над личностью. Но все же в отличие от большинства других его толкователей и «последователей» на Западе они хорошо понимали, что мучительные парадоксы, которые герои Достоевского бросают в лицо своим противникам-позитивистам, только кажутся человеконенавистничеством; на самом деле они «высказаны во имя человечества, из любви к нему: во имя нового гуманизма, углубленного и лишенного риторики, прошедшего через все адские бездны мук и познания» [Т. Манн. Собр. соч., т. 10. М., 1960, с. 345] .
Правда, Гессе поначалу больше привлекает способность Достоевского передавать состояние ущербности, ощущать скрытое брожение подземных вулканических сил, грозящих колоссальными изменениями «лика сего», глубоко и искренне переживать неизбежность надвигающейся катастрофы. Что понимал он под «духом» Достоевского, изложено в статьях из сборника «Взгляд в хаос» (1920). Уже само название центральной работы сборника - «Братья Карамазовы, или Закат Европы» - говорит о том, что в ней отразились отголоски модных настроений «светопреставления» в духе Шпенглера. В романе о Карамазовых Гессе увидел выражение «заката» уставшей, изжившей себя, жаждущей обновления Европы, идеалом которой стал вытеснивший традиционную духовность западного мира «кризисный человек» Достоевского. «Азиатский», «оккультный» идеал русского писателя в понимании Гессе - это отказ от какой бы то ни было этики и морали во имя всепонимания и всепрощения, во имя новой, опасной, внушающей страх святости, новой человечности, во имя нового мира, рождающегося из хаоса старого.
В рассуждениях Гессе о «таинственной русской душе» много литературщины и банальных противопоставлений. Героя Достоевского - набирающего силу «кризисного европейского человека» - он видит в свете своих увлечений психоаналитическими концепциями З. Фрейда и К. Г. Юнга, а также символико-мистическими теориями исследователя первобытного общества И. Я. Бахофена. В этом «герое» добро и зло якобы существуют в единстве: он одновременно убийца и судья, жесток и нежен, эгоистичен и способен на самопожертвование. Этот человек не может удовлетвориться старой религией, старой моралью, старыми порядками. Ему нужен новый символ, новый бог богодьявол, не признающий границы между добром и злом. Все богатство выдающегося творения Достоевского и даже общественно-политический смысл социальных потрясений Гессе пытается свести к извечному противоборству первобытных инстинктов с установлениями рассудка, с цивилизацией. Сам он не на стороне старой цивилизации, он сочувственно следит за восстанием «подавленных инстинктов», полагая, что если освободившемуся «карамазовскому элементу» дать правильное направление, то могут быть созданы корни новой морали и новой культуры. Но как реализовать богатые возможности нового этого он не знает.
Важно подчеркнуть: решительно осуждая приверженцев старого, Гессе отстаивает право личности на бунт, на революционное преобразование мира. На первом плане у Достоевского он видит не насилие, не жестокость, а правдолюбие и человеколюбие. Он подчеркивает, что Карамазовы, при всей неистовости и разнузданности некоторых из них, невиновны, не совершают никаких преступлений. Единственные преступники в этом романе - прокурор и присяжные. Как раз они совершают ужасную несправедливость и становятся убийцами - убийцами из бессердечия, страха и ограниченности.
Но отметим и другое: растущую тревогу о том, что вышедшие из повиновения разрушительные силы могут привести к катастрофическим последствиям. Ведь если человек доверчиво полагается на свои инстинкты, сливается с «хаосом» и отказывается от «старой» морали, то это еще не значит, что он обретает лучшую мораль. С тем же успехом он может подпасть под власть звериных инстинктов и стать преступником. «Я сам пока еще не знаю, откуда у меня эта глубокая вера, что так все же не случится, если человек вступит на путь в хаос в том смысле, как это понимаю я», записывает Гессе в «Дневнике 1920 года» [Н. Hesse. Aus einem Tagebuch des Jahres 1920. Zurich, 1960, S. 43.].
В связи с этим нелишне упомянуть об отношении Гессе к Фридриху Ницше на страницах сборника читатель не раз встретит это имя, причем не всегда в критическом контексте. Гессе, как и многих других западных писателей первой половины XX века, в книгах Ницше привлекала резкая, агрессивная критика кайзеровской Германии, ему - особенно в 10-20-е годы - было по нраву остроумное, хлесткое высмеивание мещанства, ниспровержение устоев старого мира. Но его не могла не настораживать бесшабашная проповедь насилия и воли к власти. Особенно отталкивали его попытки певца «буйной варварской силы, очерствения и зла», по образному выражению Т. Манна, отринуть нравственные постулаты, упразднить совесть и вместо них утвердить аморализм «белокурой бестии». Со временем Гессе окончательно отмежевался от реакционной сущности ницшеанства.
Зловещие события в Германии и собственная эволюция вынуждают его критически отнестись к психоаналитическим рецептам «оздоровления» человечества. Гессе все больше убеждается, что служение духу не имеет ничего общего с раскрепощением инстинктов. Об усилении этического элемента в его мировоззрении говорит написанная в 1925 году статья «О Достоевском», где речь идет уже не о погружении в хаос бессознательного, а о человеческой совести, которая должна лечь в основу новой действительности, коренным образом отличающейся от унаследованной, буржуазной. Из двух голосов великого русского писателя - из постижения зла и из его преодоления в чувстве любви и надежды - его больше привлекал второй голос - великое человеколюбие, которое утверждается только в борьбе.
С конца 20-х годов рядом с именем Германа Гессе все чаще упоминается имя Томаса Манна. Это не случайно. Даже сопоставление внешних примет позволяет говорить о поразительной близости судеб писателей. Оба - почти одногодки, принадлежат к писательскому поколению, которое вступило в литературу в самом начале XX века и на долю которого выпали тягчайшие испытания двумя мировыми войнами; оба - выходцы из бюргерской среды, рано ставшие профессиональными литераторами; обоих волновали сходные проблемы; оба испытали влияние одних и тех же (или очень близких) философско-эстетических концепций; оба - видные эссеисты и критики, тонкие интерпретаторы литературного творчества; оба - замечательные и неутомимые мастера эпистолярного жанра: в их письмах нашла выражение целая эпоха европейской истории. И во времена кайзеровской Германии, и в годы Веймарской республики, и после захвата власти фашистами дороги писателей неоднократно перекрещивались; то же можно сказать и о послевоенном периоде. Оба закончили жизненный путь в Швейцарии: Гессе гражданином этой страны, которую он считал второй родиной, Томас Манн - подданным США.
Гессе и Томаса Манна на протяжении нескольких десятилетий связывали дружеские отношения. Это была дружба единомышленников, гуманистов, антифашистов, шедших каждый своим путем, но в одном направлении. Она крепла с годами, несмотря на изредка возникавшие разногласия и на различия в темпераменте и творческом даровании. Переписка между ними (фрагменты из нее воспроизводятся в данной книге) читается, как увлекательная повесть: в ней прослеживаются все оттенки взаимоотношений двух крупнейших мастеров немецкоязычной литературы первой половины XX века.
Переписка, длившаяся с перерывами около полувека, начинается в 1910 году и поначалу не выходит за рамки вежливого обмена любезностями двух литераторов, испытывающих взаимную симпатию. С начала 30-х годов дружба их становится теснее, происходящие в Германии события сближают их, делают единомышленниками. Фашизация страны, истерическая проповедь национал-социализма вызывают их отвращение, однако реагируют они на происходящее не всегда одинаково.
Примечательно, что Гессе, порвавший с милитаристской Германией еще во времена первой мировой войны, в своем неприятии буржуазной Веймарской республики оказался проницательнее многих своих коллег, не исключая и Т. Манна. В 1931 году он писал Т. Манну в ответ на приглашение снова стать членом Прусской художественной академии (Гессе избирался в академию в 20-х годах и в начале 30-х вышел из нее): «Я полон недоверия к теперешнему государству не за то, что оно новое и республиканское, а за то, что того и другого в нем маловато». Т. Манн, однако, не терял надежды вовлечь своего швейцарского коллегу в политическую и культурную жизнь Берлинской академии. Тогда Гессе еще раз объяснил, почему он вынужден ответить категорическим «нет» на предложение, переданное «столь уважаемым и любимым человеком». «Итак: конечная причина невозможности для меня войти в какую бы то ни было официальную немецкую корпорацию заключается в моем глубоком недоверии к германской республике. [...] Я с глубокой симпатией приветствовал революцию 1918 года, но с тех пор мои надежды на немецкую республику, которую можно было бы принимать всерьез, давно рассеялись. Германия упустила время для совершения своей революции и нахождения своей формы правления. [...] Короче, от образа мыслей, которые господствуют в Германии, я так же далек, как и в 1914- 1918 годах. Я наблюдал здесь процессы, которые кажутся мне бессмысленными, и вместо маленького шажка влево, который сделал в своих взглядах немецкий народ, мне поневоле пришлось уйти влево на целые мили».
1933 год не был для Гессе неожиданным: такой поворот событий он предсказывал еще в 20-е годы. Томас Манн, с трудом избавлявшийся от иллюзий относительно Веймарской республики, захват власти фашистами воспринял как некую внезапность. Еще в конце 1932 года он писал Гессе, что «пик сумасшествия пройден». Когда же ситуация окончательно прояснилась и ему пришлось публично отмежеваться от гитлеровской Германии и спасаться в эмиграции, его неприятие нацизма было злее, решительнее, активнее, а борьба против него бескомпромисснее, чем у Гессе, - отступления в сферу «чистого духа», о чем иногда заговаривал его натурализовавшийся в Швейцарии собрат, были для него немыслимы.
Т. Манн искренне радовался, когда его осторожный друг занимал ясную позицию в политических вопросах. А Гессе и впрямь приходилось осторожничать: ведь он хотел сохранить самых верных своих читателей в рейхе, хотел до конца быть голосом «тайной» Германии, справедливо полагая, что его поддержка как воздух нужна тем, кто остался в «отравленном мире», что его книги, не запрещенные и не сожженные на площадях, помогут им сопротивляться и выстоять. Гессе не дразнил в открытую нацистских заправил, но он ни на йоту не поступался своими антифашистскими убеждениями, помогал как мог многочисленным беженцам из Германии, вступался за них перед швейцарскими иммиграционными властями. Его монтаньольский дом стал приютом для преследуемых, одним из маленьких, но столь необходимых центров антифашистского сопротивления в Швейцарии.
Когда же Гессе высказался однажды против «политизации духа», Т. Манн тут же уточнил свою позицию: «Если «дух» является принципом, силой, стремящейся к добру, направленной на достижение правды [...] то он носит политический характер, независимо от того, нравится ему это название или нет. Я думаю, ничто живое в наше время не может избежать политики. Аполитичность - это тоже политика, но только политика вредная». И Гессе, всегда чутко реагировавший на замечания друга, в ответном письме спешит заверить, что его понимание «политизации духа» мало чем отличается от манновского: человек «духа» должен противиться политизации только в том случае, если его к этому принуждают извне, со стороны милитаристски настроенных генералов и властей предержащих, как это было в 1914 году.
Из переписки видно, что Гессе и Т. Манн решительно выступали против попыток натравить их друг на друга, предпринимавшихся уже после разгрома фашизма определенными кругами в ФРГ. Они резко критиковали политику милитаризма и реваншизма, проводившуюся руководством этой страны. Т. Манн и Г. Гессе были братьями по духу, коллегами по литературному делу и соратниками на поприще публицистики. Обмениваясь мнениями по поводу своих сочинений, они - особенно в поздний период - отмечали их поразительное сходство, родственность замысла и воплощения. «Трудно представить себе что-либо более похожее, - писал Т. Манн по поводу «Доктора Фаустуса» и «Игры в бисер», - и в то же время близость разительная: так бывает только между братьями».
Чрезвычайно интересна и поучительна переписка Гессе с одним из своих менее именитых корреспондентов - Генрихом Вигандом (1895-1934). Виганд как бы присутствовал при рождении крупнейших произведений Гессе - романов «Степной волк» и «Нарцисс и Златоуст», повести «Паломничество в страну Востока» - и был одним из первых, кто квалифицированно и доброжелательно отозвался на их выход в свет. В Виганде Гессе нашел знатока, тонкого ценителя и умелого истолкователя своего творчества. Он называл его «идеальным читателем», прислушивался к его советам и в то же время деликатно и незаметно совершенствовал литературный вкус своего младшего коллеги.
Переписка между ними составила объемистый том, который читается как «роман» одной дружбы. Есть в этом романе своя завязка, свои конфликты и подводные течения, есть кульминация и трагический финал, вызванный скоропостижной смертью Виганда в антифашистской эмиграции. Есть и очень выпукло - далеко не в каждом романе встретишь такое, - очерченные характеры «героев»; мягкий, но неуступчивый в принципиальных вопросах Гессе и страстный, увлекающийся, чутко реагирующий на тончайшие колебания в настроениях партнера Виганд.
Гессе ввел Виганда в круг своих самых близких друзей. Лейпцигский журналист и музыкальный критик становится чем-то вроде полпреда Гессе в Германии - следит за критическими отзывами о книгах Гессе, пишет о нем сам. Особенно интересна его рецензия на «Паломничество в страну Востока». Писатель сам попросил Виганда написать о ней и «разрушить легенду о чахлом романтике и идиллике» Гессе. Виганд первым указал на то, что повесть о судьбах гуманизма и культуры, о нелегких судьбах мужественных и бескорыстных служителей духа ничего общего не имеет с романтической тоской по идеализированному прошлому, что она устремлена в будущее, продиктована заботой о его духовной наполненности. В нелегком для восприятия произведении критик почувствовал боль о неудавшейся немецкой революции 1918 года, увидел намек на то, что именно социальная революция призвана осуществлять непрерывность развития культуры. Более того, Виганд смело сопоставил повесть о разрушении и возрождении тайного союза служителей человечности и красоты с некоторыми тенденциями молодой советской литературы, с «современным русским романом о разрушении и восстановлении производственного коллектива». И Гессе остался доволен таким толкованием. «Все, что в Вашем эссе касается политики и актуальности, сказано, по-моему, отлично, ясно и в то же время тактично, я рад этому и благодарю Вас».
Если в первые годы переписки в центре диалога между писателем и критиком стоят вопросы литературы, то с начала 30-х годов в письма врывается тревожное дыхание истории. Виганд был членом Социал-демократической партии Германии, был связан с организованным рабочим движением и находился в гуще политической борьбы. Отголоски этой борьбы все отчетливее звучат на страницах писем. Вначале Гессе отмалчивается в ответ на рассказы своего Лейпцигского корреспондента о политической активности, потом признается, что испытывает к немецким социал-демократам чувство, граничащее с брезгливостью. «По своим взглядам я куда больший социалист, чем вся редакция газеты «Форвертс».» (Характерно, что эту газету - орган СДПГ, - название которой означает по-русски «Вперед», Гессе называет не иначе, как «Рюквертс», т. е. «Назад».) Он разделял «антипатию коммунистов к немецким меньшевикам», к партии соглашателей, предавших народ в канун первой мировой войны, предавших немецкую революцию и ее вождей. «Я не революционер по натуре, видит бог, но уж коли дело дошло до революции и до захвата власти, то надобно принимать все всерьез и действовать».
Нужно отметить, что в оценке напряженной ситуации в канун захвата власти фашистами «пацифист» и «индивидуалист» Гессе оказался прозорливее и решительнее Виганда, который единственным надежным бастионом против национал-социализма считал даже не собственную партию, а... католицизм. Гессе же, размышляя о силах, которые могли бы спасти Германию, с надеждой смотрит на Восток. «Коммунистический переворот, только не точная копия московского - вот что, как мне представляется, было бы единственным настоящим решением, но в нашей стране, кажется, сильны всегда только те партии, что не имеют ничего общего с современностью». Так в неожиданном свете предстает в этой переписке политический облик Германа Гессе.
Гессе - письмописец особого склада. С каждым из огромного числа своих корреспондентов он умел находить нужный тон, подходящую меру доверительности. При этом замечено, что с людьми незнакомыми или малоизвестными он был откровеннее, чем со знаменитостями, в переписке с которыми много формул вежливости и скрытого духовного соревнования. Переписка с рядовыми почитателями таланта Гессе иногда дает не меньше материала, характеризующего его личность и общественную позицию, чем обмен мыслями с видными деятелями культуры. К такого рода безымянным адресатам относятся и те, кому предназначены «письма по кругу», - друзья, знакомые, родственники, заинтересованные читатели, искатели смысла жизни.
К этой разновидности эпистолярного жанра - письмам «по кругу», то есть с самого начала предназначавшимся для печати и мало чем отличавшимся от статей или эссе, - Гессе обратился на склоне лет, после того, как ему в 1946 году была присуждена Нобелевская премия. Выросла слава писателя, поток читательских писем увеличился настолько, что ответить, как прежде, лично на каждое уже не было возможности. Приходилось выбирать наиболее часто встречающиеся вопросы и отвечать через газету.
«Письма по кругу» создавались в период угасания политической и творческой активности старого писателя, сужения круга чтения, вызванного болезнью глаз, концентрации на воспоминаниях о прошлом. Они полны жалоб на тяготы послевоенной жизни, на телесные недомогания, на необходимость вести отрешенный, замкнутый образ жизни - и одновременно поражают ясностью политического мышления, стойкостью духа художника, пронесшего через две мировые войны неистребимую веру в основополагающие гуманистические ценности. Вера важна для Гессе не в религиозном смысле - всякие церковные догмы и конфессиональные распри были ему совершенно чужды, - а как противоположность безверия, цинизма, отчаяния, пустоты, как знак исканий и борений духа. Он верил в человека как в «удивительную возможность», не угасающую даже в самые бесчеловечные периоды истории. «Я верю в законы человеческого рода, которые существуют тысячелетия, и я верю, что они переживут всю суету и неразбериху наших дней», - писал он в начале 30-х годов, и голос его звучал и звучит пророчески.
О чем бы ни писал Гессе в своих «письмах по кругу» - о социально и политически значимом («Письмо в Германию», «Ответ на письма из Германии») или же о личном, приватном, на первый взгляд малозначительном («Тайны», «О старости», «Энгадинские впечатления»), - его письма всегда глубинно публицистичны, связаны с представлениями о современном мире, пронизаны заботой и тревогой о человеке. Гессе обладал чудесным даром и великим искусством - передавать почти физически страдания и муки ищущей мысли и все повседневное и злободневное поднимать до уровня общечеловеческого и вечного. Мы знаем, что сегодня пришла пора всерьез задуматься о категориях общечеловеческого и вечного. Гессе заговорил об этом задолго до того, как мысль о единстве человечества и нераздельности духа вошла в сознание многих. Эта мысль пронизывает все его творчество. Никогда, даже в пики мировых раздоров, он ни на минуту не сомневался, что «не существует разных людей и духовностей, но есть лишь одно Человечество и одна Духовность». Смысл своей жизни и своего писательства он видел в служении этому Человечеству и этой Духовности, без которой человек не до конца человек, без которой он, влекомый узкоэгоистическими интересами, может забыть о своем предназначении и подойти к роковому рубежу самоуничтожения.
Гессе-художник и Гессе-публицист неотделимы. В статьях, эссе, рецензиях и письмах выражены те же представления о мире и человеке, что и в прозе или в поэзии, но выражены, как может убедиться читатель, резче и непосредственнее, без охранительного шифра художественных произведений. Публицистичны в высшем смысле его воспоминания о детстве, его «Краткое жизнеописание», его эссе о том, как читать книги и открывать в них магию красоты и человечности, его знаменитая «Библиотека мировой литературы», поражающая безупречностью художественного вкуса и выверенностью критериев отбора. Публицистичны и его литературно-критические статьи -сквозь судьбы писателей и произведений в них просвечивает современная действительность, с ее большими и малыми проблемами, ощущается биение пульса времени.
Есть известный парадокс в том, что именно Герман Гессе, художник высокой культуры и нравственной чистоты, стал на стыке 60-70-х годов святым в пантеоне хиппи, выразителем идей контркультуры. Дело тут, по всей видимости, в том, что в центре его творчества всегда стояла своенравная, стремящаяся к самовыражению и самоутверждению личность. Скоротечный культ Гессе возник на волне демократического протеста против разрушения личности в буржуазном обществе. В его книгах молодые люди на Западе находили то, что терзало их самих, - отрицание технократического прогресса, тоску по «подлинной, индивидуальной, интенсивной, нерегламентированной и немеханизированной жизни». Однако их болезненное пристрастие к «кризисным» книгам Гессе было все же бегством из современной действительности в экзотику незнакомой культуры («Сиддхартха»), в «психоделическое» состояние обостренной восприимчивости, вызванное наркотическими «коктейлями» («Степной волк»), наконец, в зашифрованный внутренний мир («Паломничество в страну Востока»). За внешними броскими атрибутами противодействия и бунта они не замечали внутреннего гуманистического ядра.
Подобные гримасы восприятия, граничащего с идолопоклонством, имеют мало общего с серьезным освоением классического наследия. Культ Гессе и заботливое культивирование его творчества - не одно и то же. Мы сторонники продуктивного отношения к его наследию, сторонники использования гуманистических импульсов в строительстве культуры нового общества. Гессе близок и понятен нам тем, что мужественно и стойко вел сражение за душу человека, которой угрожали официальная идеология, государственный аппарат, церковь, «массовая культура». Он дорог нам тем, что заставлял людей думать, тревожил их совесть, учил, говоря словами А. С. Пушкина, «мыслить и страдать», укреплял нравственный потенциал личности. Любовно воссоздавая прошлое, критически исследуя настоящее, он думал о будущем.
Сегодня, когда в исполинский рост расползавшегося атомного гриба встает проблема человеческого выживания, нас не может не привлекать пропаганда мира, которую до конца жизни терпеливо и мужественно вел Гессе, не может не восхищить его «повышенная сопротивляемость массовым психозам и духовной заразе всякого рода». Он, как и мы сегодня,
был уверен, что мировых войн можно избежать, «но не вооружением и новым накоплением средств уничтожения, а разумом и уживчивостью». Он, как и мы сегодня, без устали предупреждал, что «угрожают нашей земле и миру те, кто хочет войны и готовит ее туманными обещаниями грядущего мира или страхом перед нападением извне...». Он, как и мы, не сомневался, что есть «другие пути к миру и другие средства привести в порядок и дезинфицировать землю, чем бомбы и войны». Он протестовал против разжигания антисоветизма и вражды между народами, предостерегал от бездумного следования на поводу у тех, кому выгодна война и политическая конфронтация, и мы воздаем ему должное за это.
Секрет неубывающей актуальности Германа Гессе в современном мире таится в общегуманистическом содержании его творчества, в заботе о судьбах культуры, в открытости навстречу будущему, то есть в том, что его книги - в том числе и книги публицистические - продолжают работать на завтрашний день человечества, способствуя оздоровлению политического и нравственного климата, сохранению мира и жизни на Земле.
В. Седельник
Детство волшебника
Снова и снова схожу я
В твои глубины, о память ушедших дней,
В глубины, где нахожу я
Смутную жизнь давно отлетевших теней.
Та жизнь меня окликает
Голосом зова, и я покорен ему,
Окликает меня, увлекает,
И я должен никнуть, никнуть во тьму...
Не только одни родители вместе с учителями воспитывали меня, в этом участвовали также иные, более высокие, более сокровенные, более таинственные силы, в числе которых был, между прочим, бог Пан, стоявший за стеклом в шкафу моего дедушки, приняв обличие маленького танцующего индийского божка. К этому божеству присоединились другие, и они приняли на себя попечение о моих детских годах; еще задолго до того, как я выучился читать и писать, они до такой степени переполнили мое существо первозданными образами и мыслями страны Востока, что позднее я переживал каждую встречу с индийскими и китайскими мудрецами, как свидание со знакомцами, возврат в родной дом. И все же я - европеец, да еще рожденный под деятельным знаком Стрельца[1], я всю жизнь исправно практиковал западные добродетели - нетерпеливость, вожделение, неуемное любопытство.
По счастью, как это бывает с большинством детей, я выучился самым ценным, необходимым для жизни знаниям еще до начала школьных лет, беря уроки у яблоневых деревьев, у дождя и солнца, реки и лесов, у пчел и жуков, у бога Пана, у танцующего божка в сокровищнице моего дедушки. Я кое-что смыслил в том, как устроен мир, я без робости водил дружбу с животными и со звездами, не был дураком ни в плодовом саду, ни на рыбалке, и к тому же умел распевать немалое количество песен. Кроме того, я умел ворожить - чему позднее, к несчастью, разучился и должен был осваивать это искусство заново уже в немолодые годы, - да и вообще владел всей сказочной мудростью детства.
Позднее, как сказано, к этому присовокупились школьные предметы, которые давались мне легко и были скорее забавой. Школа очень умно занималась не теми серьезными навыками, которые необходимы для жизни, но преимущественно симпатичными играми ума, доставлявшими мне немало удовольствия, и знаниями, немногие из которых верно остались со мною на всю жизнь: так, я и сегодня помню множество красивых и остроумных латинских словечек, стихов и афоризмов, а также численность населения многих городов во всех частях света - разумеется, не на сегодняшний день, а по данным восьмидесятых годов прошлого столетия.
До тринадцати лет я ни разу не задумался всерьез над вопросом, что, собственно, из меня выйдет и какой профессии я желал бы учиться. Как любой мальчишка, я любил и находил завидными многие профессии: хорошо быть охотником, извозчиком, плотогоном, канатоходцем, арктическим путешественником. Но милее всего другого представлялось мне занятие волшебника. Глубочайшее, сокровеннейшее устремление моих инстинктов побуждало меня не довольствоваться тем, что называют «действительностью» и что временами казалось мне глупой выдумкой взрослых; я рано привык то с испугом, то с насмешкой отклонять эту действительность, и во мне горело желание околдовать ее, преобразить, вывести за ее собственные пределы. В детские годы это стремление к магии направлялось на внешние, детские цели: мне хотелось заставить яблони плодоносить зимою, наполнить мой кошелек золотом и серебром, я грезил о том, чтобы обессилить моих врагов колдовским заклятием, после устыдить их своим великодушием и получить общее признание, как победитель и владыка; я мечтал находить клады, воскрешать мертвых, делать себя невидимым. Это последнее, то есть искусство быть невидимкой, было для меня особенно важно и особенно желанно. И к нему, как ко всем волшебным силам, изначальный порыв вел меня на протяжении всей моей жизни, через метаморфозы, которые я сам не всегда мог сразу опознать. Став взрослым человеком и занявшись профессией литератора, я неоднократно повторял попытку спрятаться за моими произведениями, нырнуть, утаиться за многозначительным измышленным именем; попытки эти, как ни странно, то и дело навлекали на меня раздражение моих коллег и давали повод для всякого рода кривотолков. Когда я оглядываюсь на прожитую жизнь, я вижу, что вся она прошла под знаком этой тоски по волшебству; то, как менялись для меня со временем волшебные цели, как я постепенно уходил от внешнего мира и входил в себя самого, как мне расхотелось преображать предметы и захотелось преобразить себя, как я научился заменять глупую невидимость обладателя шапки-невидимки незримостью мудреца, познающего все и остающегося непознанным, - все это и составляет, по правде говоря, суть моей биографии.
Я был живым и счастливым мальчиком, я играл с прекрасным многоцветным миром и повсюду чувствовал себя дома - среди животных и растений ничуть не меньше, чем в девственном лесу моих собственных фантазий и снов, я радовался моим силам и способностям, мои жгучие желания покуда скорее осчастливливали меня, чем мучали. Кое-какие приемы волшебства я практиковал тогда, сам того не ведая, куда совершеннее, чем мне это удавалось позднее. Легко было мне снискать любовь, легко добиться влияния на других, легко найти себя в роли предводителя, или ублажаемого, или носителя тайны. Младшие товарищи и родственники годами свято верили в мою магическую силу, в мою власть над демонами, в мои права на сокровенные клады и короны. Долго жил я в Земном Раю, хотя мои родители рано ознакомили меня со Змием. Долго длилось мое детское сновидение, мир принадлежал мне, все было реально, все было расположено вокруг меня в порядке для прекрасной игры. А когда во мне пробуждалось недовольство, пробуждалось томление, когда на мой радостный мир падала мгновенная тень, мне по большей части ничего не стоило уйти в иной, более свободный, беспрепятственный мир моих фантазий, чтобы по возвращении найти внешний мир снова приветливым и достойным любви. Долго жил я в Земном Раю.
В садике моего отца была решетчатая переборка, там я поселил кролика и ручного ворона. Там я провел неисчислимые часы, долгие, как мировые эры, в тепле и блаженстве обладания, кролики пахли жизнью, пахли травой и молоком, кровью и зачатием; а в черном, жестком глазу ворона горел светильник вечности. Там же, при свете свечных огарков, возле теплых и сонных животных, один, или с товарищами, я проводил и другие бесконечные вечера, строя всевозможные планы: как я найду несчетные клады, как я добуду корень мандрагоры[2], как совершу победоносные рыцарские странствия по жаждущему избавления миру, буду судить разбойников, спасать несчастных, освобождать плененных, сжигать до основания разбойничьи замки, распинать предателей, прощать мятежных вассалов, добиваться руки королевской дочери, понимать язык зверей.
В большой библиотеке моего деда была огромная, тяжелая книга, которую я часто перелистывал и читал. В этой неисчерпаемой книге имелись старые, диковинные картинки - иногда страницы сразу раскрывались так, что картинки эти светло и гостеприимно как бы встречали меня сами, иногда я подолгу искал их и не мог найти, они куда-то пропадали, словно поддавшись чарам, словно никогда не существовали. Еще в этой книге была одна история, несказанно прекрасная и невразумительная, которую я читал снова и снова. Но и ее не всегда удавалось отыскать, для этого требовался благоприятный час, порой она вовсе пропадала и пряталась, порой словно меняла место жительства, порой представала при чтении удивительно доброй и почти что понятной, порой темнела и закрывалась, словно дверь на нашем чердаке, за которой в сумерках порой можно было слышать духов, как они хихикают или стонут. Во всем была действительность, во всем было волшебство, одно благополучно уживалось с другим, то и другое принадлежало мне.
И танцующий божок из Индии, стоявший за стеклом в обильном сокровищами дедовском шкафу, не был всегда один и тот же. Он являл собой то один, то другой образ, танцевал то так, то совсем по-иному. Порой это был именно божок, странная и немного забавная фигурка, какие выделывают и каким поклоняются в чуждых, непонятных странах, у чуждых и непонятных народов. Порой это была волшебная вещь, полная значения и несказанно жуткая, требующая жертв, коварная, строгая, опасная, насмешливая, и мне казалось, что он нарочно подстрекает меня посмеяться над ним, чтобы потом совершить надо мной свою месть. Он мог изменять свой взгляд, хотя и был из желтого металла; иногда он норовил скосить глаза. Порой, наконец, он становился всецело символом, не был ни безобразен, ни красив, ни зол, ни добр, ни смешон, ни страшен, но прост, древен и невообразим, как руна[3], как пятно мха на скале, как рисунок на речном камушке, и за его формой, за его образом и обличьем обитал Бог, таилось Бесконечное, - а его в те годы, в бытность мальчиком, я знал и почитал без всяких имен ничуть не меньше нежели впоследствии, когда я стал именовать его Шивой или Вишну[4], Богом, Жизнью, Брахманом[5], Атманом[6], Дао[7] или Вечной Матерью. Оно было отец и мать, женственно и мужественно, солнце и луна.
Как поблизости от божка, за стеклом того же шкафа, так и в других дедушкиных шкафах стояли, висели, лежали во множестве предметы разного рода, безделушки, утварь, цепочки из деревянных бусин, нанизанных наподобие четок, свитки из пальмовых листов с нацарапанными на них знаками древнего индийского письма, изваяния черепах, вырезанные из камня жировика, маленькие божки из дерева, из стекла, из кварца, из глины, украшенные вышивками шелковые и льняные покрывала, латунные кубки и чаши, - все это пришло из Индии, или с райского острова Цейлона, где растут древовидные папоротники, а на берегах стоят пальмы, от кротких сингалезцев с глазами, как у лани, или из Сиама, или из Бирмы, все это пахло морем, пряностями, далью, благоухало корицей и сандаловым деревом, все прошло через смуглые или желтые руки, пропиталось влагой тропических ливней и струй Ганга, было иссушено тропическим солнцем, овеялось тенью девственных лесов. И все эти вещи принадлежали дедушке[8], - а он, преклонный годами, досточтимый, с широкой белой бородой, всеведущий и всемогущий, могущественнее, чем отец и мать, находился в обладании совсем иных вещей и сил, у него было кое-что поважнее, чем индийские божки и безделушки, чем все это вырезанное, расписанное, освященное таинственными заклятиями, чем чаша из кокосового ореха и ларец из сандалового дерева, чем зала и библиотека; он был к тому же тайновед, посвященный, мудрец. Он понимал все языки человеческие, свыше тридцати, а возможно - и наречия богов, а заодно звезд, он мог говорить и писать на пали и санскрите, он мог петь дравидийские, бенгальские, сингалезские песни, песни на языке хинди, он знал молитвенные приемы мусульман и буддистов, хотя сам был христианином и веровал в триединого Бога, он целыми десятилетиями живал в жарких, опасных странах Азии, ездил в лодках и в запряженных быками повозках, ездил на лошадях и мулах, и никто не знал лучше него, что наш город и наш край - только очень маленькая часть земли, что тысячи миллионов людей имеют другую веру, другие нравы, языки, цвета кожи, других богов, другие добродетели и пороки. Я любил, почитал и боялся его, ожидал от него всего, полагал, что для него все возможно, непрерывно учился у него и у его переодетого бога Пана в личине божка. Этот человек, отец моей матери, скрывался в лесу противоречий, как его лицо скрывалось в белом лесу его бороды, из его глаз струилась то мировая скорбь, то веселая мудрость, то одинокое знание, то божественное лукавство, люди из многих стран знали, чтили и навещали его, говорили с ним по-английски, по-французски, на хинди, по-итальянски, по-малайски, а после долгих разговоров бесследно исчезали сызнова, - быть может, его друзья, быть может, его посланцы, быть может, его служители, получившие от него поручение. Я знал, что от него, непостижимого, вела свое начало сокровенная, древняя тайна, атмосфера которой окружала мою мать; она и сама долго жила в Индии, говорила и пела на языках малаялам и каннада, обменивалась со своим старым отцом словами и речениями, звучавшими как магическая глоссолалия[9]. И у нее, как у него, появлялась порой улыбка ухода в себя, сокровенная улыбка мудрости.
Другим был мой отец[10]. Он был сам по себе. Он не принадлежал ни миру божка и дедушки, ни городской обыденщине, он стоял в стороне, одиноко, страдалец и искатель, добрый и многоученый, без всякой фальши, ревностный в служении истине, но совсем не знающий ничего о той улыбке, благородный, тонкий, но понятный, без какой бы то ни было тайны. Его доброта и его ум были всегда с ним, но он никогда не исчезал в волшебных облаках дедушкиной стихии, лицо его никогда не скрывалось за теми излучениями младенческого и божественного, игра которых выглядит порой как печаль, порой как тонкая усмешка, порой как безмолвно погруженная в себя личина богов. Отец мой не говорил с матерью на языках Индии; говорил он либо по-английски, либо на чистом, ясном, красивом немецком языке с легкой остзейской окраской. Этот язык и был тем, что меня в нем привлекало, покоряло, воспитывало, я временами подражал отцу восхищенно и рьяно, чересчур рьяно, хотя знал, что мои корни глубже погружены в материнскую почву, в темноглазое, в таинственное. Моя мать была полна музыкой, мой отец - нет, и петь он не умел.
Рядом со мной подрастали сестры и двое старших братьев, уже большие мальчики, предмет зависти и почитания. Вокруг нас лежал маленький городок[11], старый, сгорбленный, вокруг него возвышались строго и немного сумрачно поросшие лесом горы, а в середине текла прекрасная река, дававшая извивы, словно колебавшаяся, куда ей течь, и все это я любил и называл родиной; и в лесу, и в реке я досконально знал почву и растения, камни и ямы, птиц, белок, лисиц и рыб. Все это принадлежало мне, было моим, было родиной - но помимо этого существовали застекленный шкаф и библиотека, добрая насмешка на всезнающем лице дедушки, теплый и темный взгляд матери, черепахи и божки, индийские речения и песни, все это напоминало о более широком мире, о более просторной родине, о более древнем происхождении, о более всеобъемлющей связи вещей. И наверху, на своем высоком домике из проволоки восседал наш красно-серый попугай, старый и умный, с ученой миной и острым клювом, пел и говорил, и он тоже явился из неведомого далека, голосом флейты он заклинал языки джунглей, а его запах был запах экватора. Многие миры, многие части земли протягивали лучи, простирали руки, а местом их встречи, их пересечения служил наш дом. И дом этот был большим и старым, со многими, отчасти пустовавшими комнатами, с погребами, с большими, гулкими коридорами, пахнувшими камнем и прохладой, и с бесконечными чердаками, полными дерева, овощей, сквозняков и темной пустоты. Лучи многих миров перекрещивались в этом доме. Здесь молились и читали Библию, здесь занимались индийской филологией, здесь играли много хорошей музыки, знали о Будде[12] и Лао-цзы[13], из многих стран приходили гости, неся на своей одежде дуновение чужбины, у них были диковинные чемоданы из кожи или из лыка, звучали иноземные языки, здесь кормили бедных, здесь праздновали праздники - ученость и сказка уживались здесь совсем близко друг от друга. Еще была бабушка, ее мы немного боялись и почти не знали, потому что она не говорила по-немецки и читала французскую библию. Многообразной и не всегда понятной была жизнь этого дома, многими красками играл здесь свет, богатым, многоголосным было звучание жизни. Все было хорошо и нравилось мне, но прекраснее был мир моих мечтаний, и мои сны наяву играли еще богаче. Действительности никогда не было достаточно, требовалось еще волшебство. Для магии в нашем доме было много места. Помимо шкафов моего дедушки были еще мамины шкафы, наполненные азиатскими тканями, платьями, покрывалами; магическим было то, как божок принимался косить взглядом, тайной пахли многие старые комнатки и уголки на лестнице. И внутри меня многое отвечало магии, обступавшей меня снаружи. Были такие вещи, такие связи вещей, которые существовали только во мне и для меня одного. Ничто не могло быть столь таинственным, столь мало сообщимым, настолько стоящим вне повседневной обыденщины, и все же ничто не могло быть более реальным. Уже капризное возникновение или исчезновение картинок и рассказов в упомянутой выше большой книге относилось сюда, равно как перемены в облике вещей, которые можно было наблюдать ежечасно. Насколько иначе выглядела дверь дома, беседка в саду и улица в воскресенье вечером, нежели в понедельник утром! Какое изменившееся обличье показывали стенные часы и образ Христа в жилой комнате по тем дням, когда там царствовал дух дедушки, по сравнению с днями, когда это был дух отца, и как все еще раз менялось по-новому в те часы, когда вообще никакой иной дух не давал вещам их сигнатуры, никакой, кроме моего собственного, когда душа моя играла с вещами, наделяя их новыми именами и значениями! Тогда какой-нибудь давно знакомый стул или табурет, какая-нибудь тень возле печки, какой-нибудь газетный заголовок могли стать красивыми или безобразными и злобными, значительными или заурядными, завлекательными или отпугивающими, забавными или грустными. Как мало, однако, твердого, стабильного, неизменного! До чего все жило, претерпевало перемены, желало преобразиться, жадно подстерегало случая разрешиться в ничто и родиться заново!
Но самым важным и самым великолепным из магических явлений был «человечек». Не могу сказать, когда я увидел его в первый раз, мне кажется, что он присутствовал всегда и явился на свет вместе со мной. Человек был крохотным, серым, тенеподобным существом, каким-то гомункулусом[14], духом или кобольдом[15], ангелом или демоном, который то появлялся, то уходил от меня, и которого мне приходилось слушаться, больше, чем отца, больше, чем мать, больше, чем разума, порой даже больше, чем страха. Когда маленький человечек становился для меня зримым, на свете был только он, и куда бы он ни пошел или что бы он ни начал делать, я должен был следовать за ним, делать как он. Показывал он себя во время опасности. Если за мной гнался злой пес или разъяренный мальчик постарше и положение мое делалось отчаянным, тогда-то, в самое трудное мгновение, человечек появлялся, бежал передо мной, показывал путь, приносил избавление. Он показывал мне дыру в заборе, через которую я благополучно выбирался в последний опасный миг, он выделывал передо мной то, что как раз надо было делать - упасть, повернуть, улепетывать, кричать, молчать. Он отнимал у меня то, что я собирался съесть, он отводил меня на место, где я находил потерянное. Бывали времена, когда я видел его каждый день. Бывали времена, когда он не давал о себе знать. Эти времена были для меня нехорошими, все было тогда безразлично и смутно, ничего не происходило, дело не двигалось вперед.
Однажды на рыночной площади человечек бежал передо мною, а я за ним, и он подбежал к огромному рыночному фонтану, в чаши которого, глубиною больше чем в рост человека, лились четыре струи, он вскарабкался по каменной стене до самого верха, я последовал за ним, и когда он оттуда соскочил проворным прыжком в глубокую воду, я соскочил тоже, выбора у меня не было, и я едва-едва не утонул. Однако я не утонул, меня вытащили, собственно, вытащила меня молодая милая жена соседа, с которой я до этого почти не был знаком, а теперь вступил в чудесный союз насмешливой дружбы, на долгое время осчастлививший меня.
Однажды отец вызвал меня для обсуждения одного моего проступка. В разговоре я с грехом пополам выкрутился, еще раз пожалев, что так трудно объяснить что-нибудь взрослым. Были слезы, было мягкое наказание, а под конец на память об этом часе мне был подарен красивый и маленький настольный календарь. Несколько пристыженный, чувствуя неудовлетворенность всем происшедшим, я вышел из дома и пошел по мосту через речку, и вдруг перед мной побежал человечек, он вскочил на перила моста и жестом приказал мне выбросить подарок моего отца, кинуть его в речку. Я сейчас же выполнил это, не было ни сомнений, ни колебаний, если только человечек был тут, сомнения и колебания появлялись лишь тогда, когда его не было, когда он пропадал и бросал меня одного. И еще я помню, как я однажды пошел гулять с моими родителями, и появился человечек, он шел по левой стороне улицы, я следовал за ним, и сколько бы ни приказывал мне отец перейти к нему на другую сторону, человечек не переходил, он упорно продолжал идти слева, и мне приходилось каждый раз бежать обратно к нему. Отцу в конце концов это наскучило, и он разрешил мне идти, где вздумается. Он был оскорблен, и лишь позднее, дома, задал мне вопрос, почему же все-таки я был до такой степени непослушным и что заставило меня идти по другой стороне улицы. В таких случаях я оказывался в затруднении, хуже того, в безвыходном положении потому, что сказать кому бы то ни было хоть слово о человечке, было самой невозможной вещью на свете. Не было ничего более запретного, более страшного, более греховного, чем выдать человечка, назвать его, рассказать о нем. Я не смел даже думать о нем, даже звать его или желать, чтобы он пришел. Если он являлся, это было хорошо, и надо было идти за ним. Если он не являлся, все было так, словно он никогда не существовал. Имени у него не было. Но совершенно немыслимо было бы не пойти за ним, раз уж он появился. Куда бы он ни пошел, я шел за ним, в воду - так в воду, в огонь - так в огонь. Это было не так, чтобы он нечто приказывал или советовал сделать. Нет, он просто делал, и я повторял за ним. Не делать того, что делал он, было столь же невозможно, как невозможно было бы для моей тени не повторять моих движений. Возможно, я был только тенью или зеркалом человечка, или он моим; возможно, то, что, как мне представлялось, я делал за ним, я на самом деле делал раньше него, или одновременно с ним. Беда в том, что он не всегда присутствовал, и когда его не было, моим действиям недоставало определенности; тогда все могло бы повернуться, как-то иначе, тогда для каждого шага возникала возможность сделать и не сделать, помешкать, задуматься. Но все правильные, радостные и счастливые шаги моей тогдашней жизни были сделаны разом, не задумываясь. Царство свободы - это, возможно, также и царство заблуждения.
Какой очаровательной была моя дружба с веселой соседской женой, которая вытащила меня тогда из фонтана! Она была живой, молодой, прелестной - и глупой, это была очень приятная, почти гениальная глупость. Она слушала мои рассказы про разбойников и про волшебство, верила мне то чересчур, то недостаточно, и почитала меня по меньшей мере за одного из Трех Волхвов[16], против чего я не возражал. Она восхищалась мной до крайности. Когда я рассказывал ей что-нибудь потешное, она принималась громко и горячо смеяться, задолго до того, как ей удавалось понять соль рассказа. Я выговаривал ей за это, спрашивая: «Послушай, госпожа Анна, ну как ты можешь смеяться над шуткой, когда еще не поняла ее? Это очень глупо, и это для меня обидно. Либо ты понимаешь мои остроты и смеешься, либо ты их не схватываешь, тогда нечего смеяться и делать вид, будто ты поняла». Она продолжала смеяться. «Нет, - кричала она, - ты просто самый смышленый парень, которого я когда-нибудь видела, ты прелесть. Быть тебе профессором, или министром, или доктором. А смеяться, - уж тут, знаешь ли, нет ничего худого. Смеюсь я просто потому, что мне с тобой весело и что ты самый забавный человек на свете. А теперь растолкуй мне, что там было смешного!» Я обстоятельно растолковывал, ей всегда нужно было еще кое-что переспросить, в конце концов она на самом деле понимала, и хотя уже раньше, казалось бы, посмеялась как следует, от всего сердца, теперь начинала смеяться по-настоящему, хохотала как сумасшедшая, так заразительно, что это передавалось и мне. Как часто мы вместе смеялись, как она меня избаловала, до чего она мной восхищалась! Есть трудные скороговорки, которые я иногда должен был ей произносить, совсем быстро и по три раза подряд, например: «У быка губа тупа», или про колпак, который сшит не по-колпаковски. Она тоже должна была попробовать, я на этом настаивал, но она начинала смеяться уже заранее, не могла выговорить правильно даже трех слов, да и не хотела этого, и каждая начатая фраза прерывалась новым взрывом хохота. Госпожа Анна была самым довольным человеком, которого мне случилось видеть. Я в моем мальчишеском умничанье считал ее несказанно глупой, в сущности, она такой и была, но она была счастливым человеком, а я нередко склоняюсь к тому, чтобы считать счастливых людей за тайных мудрецов, даже если они представляются дураками. Ах, что глупее ума, и что делает более несчастным!
Прошли годы, моя дружба с госпожой Анной уже прошла, я рос и поддавался искушениям, страданиям и опасностям ума, и вдруг она мне понадобилась снова. И снова отвел меня к ней человечек. Я был с некоторого времени мучительно занят вопросом различия полов и происхождения на свет детей, вопрос становился все более жгучим, и в один прекрасный день он принялся до того терзать меня, что я предпочел бы не жить больше, чем оставить тоскливую загадку неразрешенной. Дико и угрюмо шел я, возвращаясь из школы, по рыночной площади, несчастный и омраченный, и вдруг мой человечек был тут как тут! Он стал к этому времени редким гостем, он уже давно изменил мне - или я ему; но тут я увидал его снова, он бежал передо мной по земле, маленький и шустрый, одно мгновение было его видно, и тут же он вбежал в дом госпожи Анны. Он исчез, но я уже последовал за ним в этот дом, уже догадывался, почему, и госпожа Анна вскрикнула, когда я неожиданно вбежал в ее комнату, потому что она как раз переодевалась, однако меня она не выставила, и скоро я знал почти все, что мне так отчаянно требовалось узнать. Из этого могла бы получиться любовная связь, если бы возраст мой еще не был чересчур нежен для этого.
Чем веселая глупая соседка отличалась от большинства взрослых, так это тем, что хоть и была глупа, однако же была естественна, проста, вся тут, не ломалась, не лгала. Обычно взрослые были другими. Встречались исключения, например, моя мать, воплощение таинственного действия жизненных сил, мой отец, воплощение справедливости и разума, мой дедушка, почти уже и не человек, провидец, все вмещавший, всему улыбавшийся, неисчерпаемый. Но в большинстве своем взрослые, хотя их требовалось почитать и бояться, были очень даже глиняными богами. До чего комичны были они со своим неловким актерством, когда говорили с детьми! Каким фальшивым был их тон, какой фальшивой была их улыбка! До чего они принимали всерьез самих себя, свои установления, свои делишки, с какой преувеличенной важностью держали они, выходя на улицу, свои портфели, книги, зажатые под мышкой, и другие атрибуты своей деятельности, как напряженно дожидались они, что их узнают, поприветствуют, воздадут им знаки почитания! По воскресеньям к моим родителям иногда приходили люди лишь за тем, чтобы «нанести визит»: мужчины, державшие цилиндры неловкими руками в лакированных перчатках, важные, едва не поперхнувшиеся от избытка достоинства, адвокаты и окружные судьи, пасторы и учителя, директоры и инспекторы, и с ними слегка испуганные, слегка подавленные их значительностью дамы. Они рассаживались на стульях в негнущихся позах, ко всему их надо было принуждать, во всем им надо было оказывать помощь - когда они снимали пальто, когда они входили в комнаты, когда присаживались, когда обменивались вопросами и ответами, когда уходили. Не принимать этого мещанского мира до такой степени всерьез, как он этого требовал, было для меня нетрудно, потому что мои родители к нему не принадлежали и сами находили его забавным. Но и тогда, когда взрослые не ломали комедию, не носили перчаток и не наносили визитов, они представлялись мне чаще всего странными и смешными. До чего они важничали со своей работой, со своими ремеслами или должностями, какими священными и неприкосновенными казались они сами себе! Когда извозчик, или полицейский, или мостовщик перекрывал проход, это было дело святое, само собой разумелось, что каждый уйдет, освободит место, даже поможет. Но вот дети со своими работами и своими играми - те не были важны, их можно было прогнать окриком. Так что же, было ли то, что они делали, менее правильно, менее существенно, менее свято, чем дела взрослых? О нет, напротив, просто у взрослых была власть, они правили, они повелевали. При этом у них, точь в точь как у нас, детей, были свои игры, они играли в пожарные учения, в солдатские учения, они шли в клубы и в трактиры, но все с такой важной, с такой значительной миной, словно выполняли некую непререкаемую заповедь, прекраснее и священнее которой вообще ничего быть не могло.
Надо признать, умные люди попадались порой и между взрослыми, даже между учителями. Но разве не было примечательно и подозрительно уже то, что среди «больших», которые, как-никак, сами были некоторое время тому назад детьми, так трудно было найти хоть одного, который не ухитрился бы полностью забыть, что такое ребенок, как он живет, работает, играет, думает, что его радует, что огорчает? Немногие, очень немногие сохранили об этом представление! На свете были не только деспоты и грубияны, которые вели себя по отношению к детям злобно и некрасиво, гоняли их отовсюду, смотрели на них искоса и с ненавистью, а порой чувствовали перед ними явный страх. Нет, и другие, благорасположенные, охотно снисходившие время от времени до разговора с детьми, и они по большей части не знали, о чем же с ними говорить, и они принуждены были с мучительной неуверенностью корчить из себя детей, чтобы добиться понимания, - но только не настоящих детей, а выдуманных, дурацких детей из какого-то шаржа.
Все, или почти все взрослые, жили в другом мире, дышали другим воздухом, не таким как мы, дети. То и дело они бывали не умнее нас, очень часто у них не было перед нами никакого преимущества, кроме их таинственной власти. Ну конечно, они были сильнее нас, они могли, не получая от нас добровольного повиновения, принуждать нас и надавать нам колотушек. Но разве это было настоящее превосходство? Разве любой бык, любой слон не был сильнее, чем этот взрослый? Но они держали власть в своих руках, они повелевали, их мир, их мода считались правильными. Однако самым странным и почти что жутким было для меня то, что при этом многие взрослые, как кажется, завидовали детям. Иногда они могли высказать это с наивной откровенностью, например, сказать вздохнув: «Да, вам-то, детки, пока хорошо живется!» Если это не было притворством - а притворством это все-таки не было, временами я ощущал в подобных заявлениях искренность, - значит, взрослые, эти властители, эти полные важности повелители, ничуть не счастливее, чем мы, обязанные им повиновением и почтением. В одном нотном альбоме, по которому меня учили, была записана песня с таким поразительным припевом: «Какое блаженство - дитятею быть!» Тут была какая-то тайна. Существовало нечто, что имели мы, дети, и чего недоставало взрослым, они были не просто больше и сильнее, в определенном отношении они были беднее, чем мы! И они, которым мы так часто завидовали за их длинный рост, за их важность, за их кажущуюся свободу и уверенность, за их бороды и брюки, - они временами завидовали, даже в песнях, которые пели, нам, маленьким!
Что ж, до поры до времени я был счастлив наперекор всему. На свете было немало такого, что я охотно изменил бы, будь на то моя воля, особенно в школе; и все-таки я был счастлив. Меня, правда, с разных сторон увещевали и наставляли, что человек совершает свой путь земной не просто для своего удовольствия, что истинное счастье доступно только в ином мире и лишь тому, кто выдержал испытания, - это вытекало из многих стихов и афоризмов, которые я учил и порой находил прекрасными и трогательными. Однако такие вещи, сильно занимавшие моего отца, мной переживались не особенно остро, и когда мне было плохо, когда я болел или терзался неосуществленными желаниями, или ссорился с родителями, я редко искал прибежища у Бога, но шел окольными путями и выходил снова на свет. Когда обычные игры теряли прелесть, когда железная дорога, игрушечный магазин и книжка со сказками становились затрепанными и скучными, как раз тогда мне приходили на ум самые чудесные новые игры. А когда не оставалось ничего другого, как вечером в постели закрыть глаза и забыться в созерцании сказочного зрелища являвшихся передо мной цветных кругов, - о, как разгоралось во мне сызнова блаженное упоение тайной, каким предчувственным и многообещающим становился мир.
Первые школьные годы миновали, не особенно меня переделав. Я выяснил из опыта, что доверчивость и прямодушие могут нам повредить, я выучился, приняв уроки нескольких равнодушных учителей, азам лжи и притворства; дальше все пошло само. Но постепенно и для меня увяло первое цветение, постепенно и я неприметно для себя самого разучил, как по нотам, эту фальшивую песню жизни, это низкопоклонство перед «действительностью», перед законами взрослых, это приспособление к миру, «каков он есть». Я давно понимаю, почему это в песенниках у взрослых стоят такие строки, как приведенная выше: «Какое блаженство - дитятею быть», - и ко мне приходили такие часы, когда я завидовал тем, кто был еще ребенком.
Когда мне шел двенадцатый год и возник вопрос, буду ли я учиться греческому языку, я без размышлений ответил согласием; стать со временем таким же ученым, как отец, а по возможности - как дедушка, представлялось мне необходимым. Но с этого момента для моей дальнейшей жизни уже существовал план: я должен был учиться и затем становиться либо пастором, либо филологом, потому что на это давалась стипендия. Дедушка тоже в свое время шел этим путем.
По видимости в этом не было ничего худого. Просто у меня теперь было будущее, просто на моем пути стоял указатель, просто каждый день и каждый месяц приближал меня к предназначенной цели, все указывало в сторону этой цели, все уводило меня от игры, от вечного настоящего моих прежних дней, имевших смысл, но не имевших цели, дней без будущности. Жизнь взрослых поймала меня покамест за волосы или за палец, но скоро она изловит меня как следует и будет крепко держать - жизнь, ориентированная на цели и выгоды, на порядок и профессию, на должность и экзамены; скоро час пробьет и для меня, скоро и я стану студентом, кандидатом, духовным лицом, профессором, буду наносить визиты с цилиндром в руках, одетых в кожаные перчатки, не смогу понимать больше детей, может быть, примусь им завидовать. А ведь я сердечно не хотел всего этого, я не хотел уходить из моего мира, где было так хорошо, так чудесно. Правда, была еще одна совсем тайная цель, которая маячила передо мной, когда я думал о будущем. Одного я желал для себя пламенно стать волшебником.
Это желание или мечтание долго владело мной. Но оно начало терять свою власть, у него были враги, против него было то, что серьезно и реально, чего нельзя отрицать. Медленно, медленно отцветало для меня его цветение, медленно надвигалось на меня из безграничности нечто ограниченное - реальный мир, мир взрослых. Желание мое стать волшебником, хотя мне и хотелось удержать его, обесценивалось в моих же глазах, медленно превращалось для меня же самого в ребяческую глупость. Уже существовала некая сфера, в которой я больше не был ребенком. Уже бесконечный и многообразный мир возможностей был для меня обнесен оградой, разделен на клеточки, поделен заборами. Медленно изменялся девственный лес моих дней, Земной Рай вокруг меня умирал. Я не оставался тем, чем был раньше - принцем и королем в краю возможного, я не делался волшебником, я учился греческому, а через два года - еще и древнееврейскому, через шесть лет мне предстояло стать студентом.
Неприметно сужался мир, неприметно исчезало вокруг меня волшебство. Удивительная история в дедушкиной книге была по-прежнему прекрасна, но она находилась на странице, номер которой я знал, ее можно было там отыскать и сегодня, и завтра, и в любое время - чудес больше не было. Равнодушно улыбался бронзовый танцующий бог из Индии. Я редко смотрел на него теперь и уже никогда не заставал его скосившим глаза. А хуже всего было то, что переставал показываться серый человечек. Повсюду меня подстерегало разочарование: что было широким, становилось узким, что было бесценным, становилось убогим.
Но это я чувствовал только внутри, только под кожей; по-прежнему был я веселым и жаждал власти, учился плавать и бегать на коньках, был первым учеником на уроках греческого, все шло по видимости отлично. Только краски делались бледнее, звуки - более пустыми, мне прискучило навещать госпожу Анну, из моей жизни тихо ушло нечто незамеченное, невостребованное, чего, однако, недоставало. И когда я теперь хотел ощутить полноту жизни, я нуждался в более острых ощущениях, должен был встряхнуть себя, взять разбег. У меня появился вкус к пряным блюдам, я норовил лакомиться тайком, мне случалось воровать карманные деньги, чтобы доставить себе какое-нибудь особенное развлечение, потому что без него жизнь никак не хотела делаться достаточно хороша. Я начал испытывать интерес к девушкам; это было довольно скоро после того дня, когда человечек еще раз явился мне и еще раз отвел меня к госпоже Анне.
1923
Краткое жизнеописание
Я родился под конец Нового времени, незадолго до первых примет возвращения средневековья, под знаком Стрельца, в благотворных лучах Юпитера. Рождение мое совершилось ранним вечером в теплый июльский день, и температура этого часа есть та самая, которую я любил и бессознательно искал всю мою жизнь и отсутствие которой воспринимал, как лишение. Никогда не мог я жить в холодных странах, и все добровольно предпринятые странствия моей жизни направлялись на юг. Я был ребенком благочестивых родителей, которых любил нежно и любил бы еще нежнее, если бы меня уже весьма рано не позаботились ознакомить с четвертой заповедью[1]. Горе в том, что заповеди, сколь бы правильны, сколь бы благостны по своему смыслу они ни были, неизменно оказывали на меня худое действие; будучи по натуре агнцем и уступчивым, словно мыльный пузырь, я перед лицом заповедей любого рода всегда выказывал себя строптивым, особенно в юности. Стоило мне услышать «ты должен», как во мне все переворачивалось и я снова становился неисправим. Нетрудно представить себе, что свойство это нанесло немалый урон моему преуспеянию в школе. Правда, учителя наши сообщали нам на уроках по забавному предмету, именовавшемуся всемирной историей, что мир всегда был ведом, правим и обновляем такими людьми, которые сами творили себе собственный закон и восставали против готовых законов, и мы слышали, будто люди эти достойны почтения; но ведь это было такой же ложью, как и все остальное преподавание, ибо, стоило одному из нас по добрым или дурным побудительным причинам в один прекрасный день набраться храбрости и восстать против какой-либо заповеди или хотя бы против глупой привычки или моды - и его отнюдь не почитали, не ставили нам в пример, но наказывали, поднимали на смех и обрушивали на него трусливую мощь преподавательского насилия.
По счастью, еще до начала школьных годов мне удалось выучиться самому важному и незаменимому для жизни: мои пять чувств были бодрственны, остры и тонки, я мог на них положиться и ждать себе от них много радости, и, если позднее я безнадежно поддался приманкам метафизики и временами даже налагал на свои чувства пост и держал их в черном теле, все же атмосфера развитой чувственной впечатлительности, особенно по части зрения и слуха, никогда не покидала меня и явственно играет свою роль и в мире моего мышления, каким бы абстрактным этот мир подчас ни казался.
Итак, некоторой оснасткой для жизни я обзавелся, согласно выше сказанному, еще задолго до школьных годов. Я не был неучем в нашем родном городе, смыслил кое-что в птичниках и лесах, в виноградниках и мастерских ремесленников, я распознавал деревья, птиц и бабочек, умел распевать песни и свистать сквозь зубы, знал и другие вещи, не вовсе бесполезные для жизни. К этому добавились школьные предметы, которые давались мне легко и славно меня развлекали, я получал особенно удовольствие от латыни и начал сочинять латинские стихи почти так же рано, как немецкие. Что до искусства лжи и дипломатии, то ему я обязан второму школьному году, когда господин учитель и помощник учителя обогатили меня соответствующими навыками, между тем как до того я, по моей ребяческой открытости и доверительности, навлекал на себя одну неприятность за другой. Оба вышеназванных наставника сумели исчерпывающе разъяснить мне, что честность и правдолюбие суть свойства, отнюдь не желательные в школьнике. Они приписали мне один случившийся в классе пустячный проступок, в котором я был решительно неповинен; поскольку же им не удалось побудить меня сознаться в несодеянном, из сущей безделицы проистекло форменное судебное расследование, и оба совместными усилиями после долгого мучительства извлекли из меня если не желаемое признание, то последние остатки веры в порядочность учительской касты. Позднее мне встречались, благодарение богу, и настоящие учителя, достойные самого глубокого почтения, но непоправимое уже свершилось, и мое отношение не только к школьным педагогам, но и ко всякому авторитету было извращено и отравлено. В общем же, я был на протяжении первых семи или восьми школьных годов хорошим учеником, по крайней мере место мое было всегда среди первых в классе. Лишь при начале тех испытаний, которых не минует ни один человек, обреченный стать личностью, я вступил в конфликт со школой, становившийся все тяжелее и тяжелее. Понять смысл этих испытаний мне удалось лишь два десятилетия спустя, тогда же они были голой данностью и отовсюду обступали меня против моей воли, как тяжкое несчастье.
Дело обстояло так: с тринадцати лет мне было ясно одно - я стану либо поэтом, либо вообще никем. Но к этой определенности постепенно прибавилось другое открытие, и оно было мучительно. Можно было стать учителем, пастором, врачом, ремесленником, торговцем, почтовым служащим, даже музыкантом, даже архитектором или живописцем - ко всем на свете профессиям вела какая-то дорога, проходившая через подготовку, через школу, через обучение начинающих. Только для поэта не существовало ничего подобного! Что разрешалось и даже считалось за честь, так это быть поэтом, то есть получить в качестве поэта успех и признание - по большей части, увы, лишь после смерти. Но вот стать поэтом было немыслимо, а желать им стать было смешно и постыдно, как я очень скоро имел случай убедиться. В один миг вывел я тот урок, который только и можно было вывести из ситуации: поэт есть нечто, чем дозволено быть, но не дозволено становиться. И еще: наклонность к поэзии и личный к ней талант делают тебя в глазах учителей подозрительным и навлекают то неудовольствие, то насмешки, а то и смертельное оскорбление. С поэтом дело обстояло в точности так, как с героем и со всеми могучими или прекрасными, великодушными или небудничными людьми и порывами: в прошедшем они были чудны, любой учебник в изобилии воздавал им хвалу, но в настоящем, в действительной жизни их ненавидели, и позволительно было заподозрить, что учителя затем и были поставлены, чтобы не дать вырасти ни одному яркому, свободному человеку, не дать состояться ни одному великому, разительному деянию.
И вот я увидел между мною самим и моей далекой целью одни пропасти, все стало сомнительным, все потеряло цену, оставалось только одно: что я намерен стать поэтом, легко это или трудно, смешно или почетно. Внешние результаты этого решения - или этого несчастья - были следующими.
Когда мне исполнилось тринадцать лет и вышеозначенный конфликт только начался, поведение в родительском доме и в стенах школы оставляло желать столь многого, что меня отправили в изгнание в иногороднюю школу[2]. Годом позднее я стал питомцем одной теологической семинарии[3], учился выписывать буквы древнееврейского алфавита и уже готовился узнать что есть «дагеш форте имплицитум» [Термин грамматики древнееврейского языка] , как вдруг внутри меня разразились бури, которые привели к моему бегству из монастырской школы, к наказанию строгим карцером, к прощанию с семинарией.
Некоторое время я силился продвинуть вперед мои знания в одной гимназии[4], однако и здесь скоро все окончилось карцером и расставанием. Затем я три дня пробыл учеником в торговом доме, снова сбежал и пропал на несколько дней и ночей, к немалой тревоге моих родителей. В течение полугода я был помощником моего отца, в течение полутора лет я работал практикантом в механической мастерской и на фабрике башенных часов[5].
Короче говоря, более четырех лет все попытки сделать из меня что-нибудь путное кончались неукоснительным провалом, ни одна школа не хотела удержать меня в своих стенах, ни в какой выучке я не мог протянуть сколько-нибудь долго. Любая попытка сделать из меня общественно полезного человека оканчивалась неудачей, иногда позором и скандалом, иногда бегством и изгнанием - а между тем за мной признавали хорошие способности и даже известную меру доброй воли! Притом я всегда был довольно трудолюбив; к высокой добродетели ничегонеделания я неизменно относился с почтительным восхищением, но никогда не усвоил ее сам. В пятнадцать лет, потерпев неудачу в школе, я принялся сознательно и энергично работать над самообразованием, и для меня было радостью и блаженством, что в доме моего отца обреталась огромная дедовская библиотека, целый зал, наполненный старыми книгами и содержавший, в частности, всю немецкую литературу и философию восемнадцатого столетия. Между шестнадцатым и двадцатым годами я не только исписал кучу бумаги своими первыми литературными опытами, но и прочел за эти годы половину всей мировой литературы и занимался историей искусства, языками и философией с таким усердием, которого за глаза хватило бы для занятий по обычному школьному курсу.
Затем я сделался книготорговцем[6], чтобы наконец-то самому зарабатывать свой хлеб. С книгами у меня были отношения, во всяком случае, лучше, нежели с коленчатым валом и литыми зубчатыми колесами, с которыми я всласть намаялся на поприще механика. Плавать и утопать в море книжных новинок было поначалу удовольствием, почти опьянением. Однако прошло время, и я приметил, что жить духом только в настоящем, в новом и новейшем - непереносимо и бессмысленно, что духовная жизнь вообще делается возможной только через постоянную связь с былым, с историей, со стариной и с древностью. А посему, как только первое удовольствие было исчерпано, для меня стало потребностью вернуться от потока новинок к старине, и я осуществил это, перейдя из книжной лавки в лавку букиниста. Однако я сохранял верность и этой профессии лишь до тех пор, покуда она была мне нужна, чтобы прокормиться. В возрасте двадцати шести лет, после первого литературного успеха, я отказался от этого занятия.
Теперь, после стольких усилий и жертв, цель моя была, стало быть, достигнута; сколь бы это ни казалось невозможным, я стал-таки поэтом и, по видимости, выиграл свою долгую и упрямую борьбу против всего мира. Горечь годов школы, годов становления, когда я часто оказывался недалеко от гибели, была теперь забыта и стоила разве что улыбки - и родственники, и друзья, которые только что ставили на мне крест, теперь добродушно улыбались вместе со мной. Я победил, и стоило мне совершить самый глупый, самый бесполезный поступок, как его находили восхитительным, да и сам я был немало восхищен собою. Только теперь до меня дошло, в каком устрашающем одиночестве, в какой аскезе, в какой опасности жил я год за годом; тепловатый воздух признания отогревал меня, и я начал уже превращаться в довольного человека.
Еще изрядный срок моя внешняя жизнь протекала спокойно и приятно. У меня были жена и дети, дом и сад. Я писал свои книги, я слыл за поэта, достойного всяческих симпатий, и жил в согласии со всем миром. В 1905 году я помогал основывать некий журнал[7], направленный прежде всего против личной власти Вильгельма II[8], однако нельзя сказать, чтобы я принимал эти политические цели по-настоящему всерьез. Я отправлялся в славные поездки по Швейцарии, по Германии, по Австрии, по Италии, по Индии[9]. Казалось, что все в порядке.
Потом пришло достопамятное лето 1914 года, и в мгновение ока все переменилось внутри меня и вокруг меня. Стало ясно, что прежнее наше благополучие стояло на непрочной основе, а теперь, стало быть, наступало неблагополучие - великая школа. Так называемая великая эпоха разразилась, и я не могу сказать, будто я встретил ее удары достойнее, более подготовленным и в лучшем состоянии духа, нежели остальные. От остальных меня отличало тогда лишь то, что я был лишен немалого утешения, дарованного столь многим, а именно - энтузиазма. Через это я опять возвратился к себе самому и вступил в разлад с окружающим, жизнь снова школила меня, снова отучивала от довольства миром и довольства собой, и лишь ценой этого я переступил через порог посвящения в таинства жизни.
Не могу забыть один маленький случай из первого года войны. Я зашел в большой госпиталь, силясь на правах добровольца отыскать для себя какое-то осмысленное место в изменившемся мире, что тогда еще казалось мне возможным. В этой больнице для раненых я познакомился с почтенной старой девой, которая прежде вела состоятельное приватное существование, а теперь исполняла обязанности сиделки в госпитале. Она с трогательным энтузиазмом поведала мне о радости и гордости, которые она испытывает при мысли о том, что ей дано было дожить до этой великой эпохи. Я нашел такие чувства понятными, ибо для подобной дамы нужна была война, чтобы превратить ее праздное и сосредоточенное на себе стародевическое существование в жизнь деятельную и сколько-нибудь ценную. Но когда она делилась со мной своим счастьем в коридоре, наполненном перевязанными и увечными солдатами, по пути из одной палаты с ампутированными и умирающими в другую такую же палату, сердце перевернулось во мне. Я, безусловно, понимал энтузиазм этой тетушки, но я не мог его разделить, не мог его одобрить. Если на каждые десять раненых приходилось по одной такой восторженной сиделке, остается признать, что счастье этих дам было оплачено чересчур дорого.
Нет, я не мог разделять радости по случаю «великой эпохи», и так случилось, что я с самого начала горько страдал от войны и год за годом из последних сил защищался от несчастья, нагрянувшего, по видимости, извне, как гром с ясного неба, между тем как вокруг все на свете вели себя так, как если бы именно это несчастье наполняло их бодрым энтузиазмом. И когда я вдобавок читал газетные статьи поэтов, где говорилось о благах войны, и призывы профессоров, и все боевые стихотворения, рожденные в уютных кабинетах прославленных авторов, мне становилось еще тошнее.
В 1915 году у меня вырвалось однажды печатное признание в этих чувствах, а в придачу слово сожаления о том, что так называемые люди духа тоже не способны ни на что другое, кроме как на проповедь ненависти, распространение лжи, восхваление великой беды. Последствием этой жалобы, высказанной довольно робко, было то, что я был провозглашен в прессе моего отечества изменником и предателем - переживание, имевшее для меня новизну, ибо, несмотря на многочисленные столкновения с прессой, я дотоле ни разу не испытал, что же чувствует тот, кого оплевывает сплоченное большинство. Статья с вышеупомянутым обвинением[10] была перепечатана двадцатью газетами и журналами моей отчизны, между тем как из всех моих друзей, которых у меня было в журнальном мире, по видимости, немало, лишь двое отважились за меня вступиться. Старые друзья оповещали меня, что они вскормили у своего сердца змею и что сердце это впредь бьется только для кайзера и для нашей державы, но не для такого выродка, как я. Ругательные письма от неизвестных лиц поступали во множестве, и книготорговцы ставили меня в известность, что автор, имеющий столь предосудительные взгляды, для них не существует. На многих письмах из этой корреспонденции я увидел украшение, о котором дотоле ничего не знал: это был оттиск маленькой круглой печатки со словами: «Боже, покарай Англию!»
Кто- нибудь мог бы подумать, что я изрядно посмеялся над этим недоразумением. Однако посмеяться я не сумел. Опыт, сам по себе незначительный, принес плод, и плодом этим было второе великое перерождение моей жизни.
Следует вспомнить: первое перерождение наступило в тот миг, когда я осознал свою решимость стать поэтом. Прежний образцовый ученик Гессе сделался отныне плохим учеником, он навлекал на себя наказания, изгонялся вон, нигде не уживался, готовил себе и своим родителям одно беспокойство за другим - и все потому, что он не усматривал никакой возможности примирить мир, как он есть или каким он представляется, и голос собственного сердца. Теперь, в годы войны, это повторилось сызнова. Снова я видел себя в распре с тем самым миром, с которым только что жил в добром согласии. Снова все несло мне неудачу, снова я был одинок и несчастлив, снова каждое мое слово и каждая моя мысль наталкивались на враждебное непонимание. Снова между действительностью и тем, что казалось мне желательным, разумным и добрым, открывалась безнадежная пропасть.
Однако на сей раз я не избежал суда над собой. Прошло немного времени, и мне пришлось отыскать вину, причину моих мук, уже не вокруг себя, но в себе самом. Ибо одно я понимал ясно: корить весь мир за его безумие и бездушие - да на это не имеет права никто из людей и никто из богов, и я меньше всех. Значит, во мне самом должен был обретаться какой-то непорядок, раз я вступил в конфликт со всеобщим ходом мироздания. И вот великий непорядок и впрямь был налицо. Было вовсе не сладко заняться этим непорядком и попытаться навести порядок. Тут для начала обнаружилось вот что: доброе согласие, в котором я пребывал со всем миром, не только было оплачено с моей стороны слишком дорогой ценой, но и само по себе оно было таким же недоброкачественным, как и внешнее согласие в мире перед войной. Я воображал, что долгими и трудными испытаниями моей юности выстрадал себе место в мире и что теперь я - поэт. Однако тем временем успех и благополучие не преминули сделать свое обычное дело, я стал довольным любителем спокойной жизни, и, если присмотреться как следует, поэта уже не отличишь от развлекательного беллетриста. Я был чересчур преуспевающим. Что же, неблагополучие, являющее собой всегда хорошую и строгую школу, было мне отныне обеспечено в изобилии, и потому я все больше учился предоставлять делам мирским идти своим чередом и обретал умение заниматься собственной долей во всеобщем неразумии и всеобщей вине. Отыскать следы этого занятия в моих книгах я предоставляю читателю. Между тем у меня все еще оставалась тайная надежда, что со временем и мой народ - пусть не как целое, но в лице очень многих мыслящих и ответственных своих представителей - подвергнет себя такому же испытанию и на место жалоб и проклятий по адресу злой войны, злого неприятеля и злой революции в тысячах сердец станет вопрос: в чем делю вину я сам и как мне снова стать невинным? Ибо невинным всегда можно стать снова, если познать свою боль и свою вину и перестрадать их до конца, вместо того чтобы винить во всем других.
Когда новое перерождение начало проступать в моих книгах и в моей жизни, многие из моих друзей покачали головой. Другие просто бросили меня. Это входило в изменившийся облик моей жизни наряду с утратой моего дома, моей семьи и прочих приятных вещей. Пришло время, когда мне каждый день приходилось с чем-то расставаться, когда я каждый день дивился тому, что смог вытерпеть еще и это, и продолжаю жить, и все еще за что-то люблю эту диковинную жизнь, по всей видимости не приносящую мне ничего, кроме мучений, разочарований и потерь.
Однако здесь я должен внести поправку: и в военные годы у меня было нечто вроде благоприятной звезды или ангела-хранителя. Между тем как я ощущал себя одиноким перед лицом моих мук и вплоть до начала перерождения ежечасно находил мою судьбу зловещей и проклинал ее, именно моя боль, моя опьяненность болью послужили мне защитой и ограждением против внешнего мира. Дело в том, что я провел военные годы в мерзком переплетении политики, шпионажа, игр, подкупа и ухищрений спекуляции, замешанном так густо, что подобную концентрацию нелегко было отыскать на земле даже в те годы - то есть в Берне, в средоточии немецкой, нейтральной и неприятельской дипломатии, в городе, который в мгновение ока оказался перенаселен, и притом сплошь дипломатами, тайными агентами, шпионами, журналистами, скупщиками краденого и жуликами. Я жил среди послов и военщины, общался с людьми разных национальностей, в том числе и неприятельских, воздух вокруг меня являл собой одну огромную сеть шпионажа и антишпионажа, слежки, интриг, политического и приватного делячества - и все эти годы я ухитрялся ничего не замечать! Меня подслушивали, меня выслеживали, за мной шпионили, я попадал в число подозрительных лиц то для неприятеля, то для нейтральных стран, то для своих же соотечественников, и мне это было невдомек; лишь много позднее я узнал обо всем и не мог понять, как мне удалось прожить в такой атмосфере без вреда для себя. Но это миновало благополучно.
С окончанием войны совпал также завершающий момент моего перерождения, и мучительный искус достиг предела. Искус этот уже не имел ничего общего с войной и мировыми судьбами, так что и поражение Германии, которое для нас, заграничных жителей, было очевидным, наступив, оказалось не таким уж страшным. Я всецело погрузился в себя самого и в свою судьбу, хотя порой не без ощущения, что дело идет о человеческой участи вообще. Всю войну, всю похоть человекоубийства, все легкомыслие, всю грубую тягу к удовольствиям, всю трусость мира я находил сполна и в себе самом, я потерял для начала уважение к себе, потом испытал даже презрение, я не мог делать ничего иного, как только доводить до конца свое заглядывание в хаос - с надеждой, то разгоравшейся, то гаснувшей, что снова обрету по ту сторону хаоса природу, обрету невинность. Что говорить, каждый проснувшийся к истинному самосознанию человек проходит тот же узкий путь через пустыню, а рассказывать об этом прочим было бы напрасной потерей труда.
Когда друзья становились мне неверны, я порой испытывал печаль, но никогда не обиду, напротив, я скорее воспринимал это как подтверждение правильности моего пути. Эти прежние друзья были в конце концов совершенно правы, когда говорили, что раньше я был таким симпатичным человеком и писателем, между тем как теперешняя моя проблематика попросту неаппетитна. Вопросы тонкого вкуса или нравственной респектабельности были уже давно не для меня, не было никого, кто понимал бы мой язык. Друзья эти, наверное, с полным основанием корили меня, что мои книги потеряли красоту и гармонию. Сами эти слова вызывали у меня разве что смех - что красота, что гармония тому, кто приговорен к смерти, кто надрывается, силясь пробежать между обваливающимися стенами? Кто знает, может быть, вопреки вере всей моей жизни я все-таки вовсе не поэт и все мои усилия по эстетической части были ошибкой? Почему бы и нет - даже это больше не имело значения. Преобладающая часть того, что я увидел, спускаясь по кругам ада в себе самом, была фальшью и подделкой без всякой ценности - так и с бредом моего призвания, моего таланта дело, наверное, обстояло не лучше. Ах, до чего все это было несущественно! И то, что я некогда с тщеславием и ребяческой радостью рассматривал как свою задачу, тоже улетучилось. Свою задачу, или, лучше сказать, свой путь к спасению, я видел теперь не в сфере лирики, или философии, или еще какой-нибудь подобной специальной области, но единственно в том, чтобы дать немногому действительно живому и сильному во мне пережить свою жизнь до конца, единственно в безоговорочной верности тому, что я еще ощущал в себе живущим. Это была жизнь - это был бог. Теперь, когда эти времена высокого, смертельного напряжения прошли, все выглядит до странности изменившимся, потому что имена, которыми все тогда для меня называлось, да и суть, скрывавшаяся за этими именами, нынче лишены смысла, и то, что позавчера было святым, может прозвучать сегодня почти комически.
Когда война наконец-то окончилась и для меня, а именно - весной 1919-го, я уединился в отдаленном уголке Швейцарии[11], чтобы стать отшельником. Из-за того что я всю жизнь (как то было унаследовано мною от родителей и деда) много занимался индийской и китайской мудростью, причем и новые мои переживания были выражаемы отчасти также при посредстве восточного языка символов, меня часто именовали «буддистом», над чем я мог только смеяться, ибо знал, что в глубине души я дальше от этого исповедания, нежели от какого бы то ни было иного. И все же в этом скрывалось нечто верное, зерно истины, как я понял немного спустя. Будь так или иначе мыслимо, чтобы человек чисто лично избирал себе религию, я по сокровеннейшей душевной потребности присоединился бы к одной из консервативных религий - к Конфуцию[12], или к брахманизму[13], или к римской церкви. Однако сделал бы я это из потребности в противоположном полюсе, отнюдь не из прирожденного сродства, ибо я не только случайно родился как сын благочестивых протестантов, но и есмь протестант по душевному складу и сути (чему нимало не противоречит моя глубокая антипатия к наличным на сегодняшний день протестантским вероисповеданиям). Ибо истинный протестант обороняется и против собственной церкви, как против всех других, ибо его суть принуждает его стоять больше за становление, нежели за бытие. И в этом смысле, пожалуй, Будда тоже был протестантом.
Вера в мое писательство и в смысл моей литературной работы со времен вышеописанного душевного перелома потеряла во мне, стало быть, всякую опору. Писанина не доставляла мне больше настоящей радости. Однако без радости человек жить не может, и я в самые черные дни не переставал ее домогаться. Я способен был отказаться от справедливости, от разума, от смысла жизни и мироздания, я видел, что мироздание отлично обходится без всех этих абстракций, но от малой радости я не мог отказаться, и стремление к этим крохам радости было одним из тех живых огоньков внутри меня, в которые я еще верил и из которых замышлял заново построить мир. Нередко искал я свою радость, свою грезу, свое забвение в бутылке вина, и весьма часто она мне помогала, я воздаю ей хвалу за это. Но ее было недостаточно. И пришел день, и я открыл для себя совсем новую радость. Внезапно, дойдя уже до сорока лет, я начал заниматься живописью. Не то чтобы я почитал себя за живописца или желал стать таковым, но живопись - чудесное времяпрепровождение, она делает тебя веселее и терпеливее. После нее у тебя пальцы не черные, как после писания, но красные и синие. И это мое занятие злит многих моих друзей. Что делать - всякий раз, стоит мне начать что-нибудь необходимое, блаженное и прелестное, люди хмурят брови. Им хотелось бы, чтобы ты оставался таким, каким ты был, чтобы ты не изменял своего лица. Но мое лицо сопротивляется, оно хочет вновь и вновь меняться - это его потребность.
Другой упрек, который мне делают, представляется мне самому очень верным. Мне отказывают в чувстве действительности. Этой действительности-де не отвечают ни книги, которые я сочиняю, ни картинки, которые я пишу. Когда я сочиняю, я по большей части выкидываю из головы все требования, которые образованный читатель привык предъявлять уважающей себя книге, и прежде всего у меня впрямь отсутствует почтение к действительности. Я нахожу, что действительность есть то, о чем надо меньше всего хлопотать, ибо она и так не преминет присутствовать с присущей ей настырностью, между тем как вещи более прекрасные и более нужные требуют нашего внимания и попечения. Действительность есть то, чем ни при каких обстоятельствах не следует удовлетворяться, чего ни при каких обстоятельствах не следует обожествлять и почитать, ибо она являет собой случайное, то есть отброс жизни. Ее, эту скудную, неизменно разочаровывающую и безрадостную действительность, нельзя изменить никаким иным способом, кроме как отрицая ее и показывая ей, что мы сильнее, чем она.
В моих книгах зачастую не обнаруживается общепринятого респекта перед действительностью, а когда я занимаюсь живописью, у деревьев есть лица, домики смеются, или пляшут, или плачут, но вот какое дерево - груша, а какое - каштан, не часто удается распознать. Этот упрек я принимаю. Должен сознаться, что и собственная моя жизнь весьма часто предстает предо мною точь-в-точь как сказка, по временам я вижу и ощущаю внешний мир в таком согласии, в таком созвучии с моей душой, которое могу назвать только магическим.
Иногда мне все еще случалось не удержаться от дурачеств, например я сделал некое безобидное замечание об известном поэте Шиллере, за которое все южногерманские клубы игроков в кегли незамедлительно объявили меня осквернителем отечественных святынь. Однако теперь мне удается уже в течение многолетнего срока не делать никаких высказываний, от которых святыни оказываются осквернены и люди краснеют от бешенства. Я усматриваю в этом прогресс.
Поскольку, согласно вышесказанному, так называемая действительность не имеет для меня особенно большого значения, поскольку прошедшее часто предстает передо мной живым, словно настоящее, а настоящее отходит в бесконечную даль, постольку я равным образом не могу отделить будущего от прошедшего так отчетливо, как это обычно делается. Очень важной частью существа моего я живу в будущем, а потому не имею надобности кончать мое жизнеописание сегодняшним днем, но волен преспокойно позволить ему продолжаться далее.
Я хочу вкратце рассказать, как жизнь моя завершает свое круговращение. Вплоть до 1930 года я еще написал несколько книг, чтобы затем навсегда отвернуться от этого ремесла. Вопрос, должен ли я быть причислен к поэтам в истинном значении этого слова, составил для двух молодых трудолюбцев тему их диссертаций, однако остался нерешенным. А именно: тщательный анализ новейшей литературы заставил констатировать, что субстанция, делающая поэта поэтом, появляется ныне только в чрезвычайно разбавленном виде, так что различие между поэтом и литератором уже не может быть уловлено. Из этой объективной констатации оба соискателя ученой степени сделали противоположные выводы. Один из них, более симпатичный молодой человек, держался мнения, что столь комически разбавленная поэзия вовсе перестает быть поэзией и, коль скоро просто литература не имеет права на жизнь, остается предоставить то, что сегодня называется творчеством, его тихой кончине. Однако другой был безоговорочным почитателем поэзии, даже в ее разбавленном состоянии, а потому полагал, что лучше из осторожности признать сотню поддельных поэтов, чем нанести обиду хоть одному, в ком, может статься, все еще есть хоть капля подлинно парнасской крови.
Занят я был предпочтительно живописью и китайскими магическими упражнениями, однако год от года все более и более обращался к области музыки. Честолюбие моих поздних лет сосредоточилось на том, чтобы написать оперу особого рода, где человеческая жизнь в качестве так называемой действительности не слишком принималась бы всерьез и даже служила предметом осмеяния, но в то же время сияла бы, как подобие, как текучее одеяние божества. Магическое восприятие жизни всегда было для меня близким, я никогда не был «современным человеком» и неизменно почитал «Золотой горшок» Гофмана[14] или даже «Генриха фон Офтердингена»[15] за учебники более полезные, нежели все на свете изложения мировой и естественной истории (вернее же сказать, я и в последних, поскольку читал их, всегда усматривал восхитительные баснословия). Теперь же для меня начался тот жизненный период, когда больше не имеет смысла и далее строить и дифференцировать свою готовую и сверх нужды дифференцированную личность, когда вместо этого является новая задача - дать пресловутому «я» снова раствориться в мировом целом и пред лицом бренности включить себя в вечный и вневременной распорядок.
Выразить эти мысли или настроения казалось мне возможным при посредстве сказки, причем высшую форму сказки я усматривал в опере - потому, надо полагать, что магии слова в пределах нашего оскверненного и умирающего языка я уже не доверял, между тем как музыка все еще представлялась мне живым древом, на ветвях которого и сегодня могут произрастать райские плоды. Мне хотелось осуществить в моей опере то, чего никак не удавалось сделать в моих литературных сочинениях: дать человеческой жизни смысл, высокий и упоительный. Мне хотелось восхвалить невинность и неисчерпаемость природы и представить ее путь до того места, где она оказывается принуждена неизбежным страданием обратиться к духу, этой своей далекой противоположности, и это кружение жизни между обоими полюсами - природой и духом - должно было предстать веселым, играющим и совершенным, как раскинутая радуга.
К сожалению, однако, завершить эту оперу мне так и не было дано. С ней дело шло точно так, как прежде с писательством. Я принужден был отказаться от писательства, когда усмотрел, что все, что мне хотелось сказать, уже было сказано в «Золотом горшке» и в «Генрихе фон Офтердингене» в тысячу раз чище, чем смог бы я. То же самое случилось и с моей оперой. Стоило мне окончить многолетние приготовления и набросать текст в нескольких вариантах, после чего еще раз попытаться возможно отчетливее уяснить себе суть и смысл моей работы, как я внезапно понял, что стремился с моей оперой не к чему иному, как к тому, что давно уже наилучшим образом осуществлено в «Волшебной флейте».
С тех пор я бросил означенные труды и теперь уже всецело посвятил себя практической магии. Пусть моя мечта о творчестве оказалась бредом, пусть я не могу создать ни «Золотого горшка», ни «Волшебной флейты», что ж, я все-таки родился волшебником. Я достаточно продвинулся по восточному пути Лао-цзы и «И цзина»[16], чтобы ясно распознать случайный, а потому податливый характер так называемой действительности. Теперь, стало быть, я приспосабливал эту действительность средствами магии к моему норову, и я должен сознаться, что получил от этого немало удовольствия. Мне приходится, однако, сделать еще одно признание: я не всегда ограничивал себя пределами того сладостного сада, который зовется белой магией, нет, живой огонек время от времени манил меня и на черную ее сторону.
В возрасте старше семидесяти лет, когда два университета только что удостоили меня почетной докторской степени, я был привлечен к суду за совращение некоей молодой девицы при помощи колдовства. В тюрьме я испросил разрешения заниматься живописью. Оно было мне предоставлено. Друзья принесли мне краски и мольберт, и я написал на стене моей камеры маленький пейзаж. Еще раз, стало быть, вернулся я к искусству, и все разочарования, которые я уже испытал на пути художника, нимало не могли помешать мне еще раз испить этот прекраснейший из кубков, еще раз, словно играющее дитя, выстроить перед собой малый и милый мир игры, насыщая этим свое сердце, еще раз отбросить прочь всяческую мудрость и отвлеченность, чтобы отыскивать первозданное веселье зачатий. Итак, я снова писал, снова смешивал краски и окунал кисти, еще раз с восторгом искушал это неисчерпаемое волшебство - звонкое и бодрое звучание киновари, полновесное и чистое звучание желтой краски, глубокое и умиляющее пение синей и всю музыку их смешений, вплоть до самого далекого и бледного пепельного цвета. Блаженно и ребячливо играл я в сотворение мира и таким образом написал, как сказано, пейзаж на стене камеры. Пейзаж этот содержал почти все, что нравилось мне в жизни, - реки и горы, море и облака, крестьян, занятых сбором урожая, и еще множество чудесных вещей, которыми я услаждался. Но в самой середине пейзажа двигался совсем маленький поезд. Он ехал к горе и уже входил головой в гору, как червяк в яблоко, паровоз уже въехал в маленький тоннель, из темного и круглого входа в который клубами вырывался дым.
Никогда еще игра не восхищала меня так, как на этот раз. Я позабыл за этим возвратом к искусству не только то обстоятельство, что я был под арестом, под судом и едва ли мог надеяться окончить свою жизнь вне исправительного заведения, - мало того, я часто забывал упражняться в магии, находя самого себя достаточно сильным волшебником, когда под моей тонкой кистью возникало какое-нибудь крохотное деревце, какое-нибудь маленькое светлое облачко.
Между тем так называемая действительность, с которой я на деле окончательно порвал, прилагала все усилия, чтобы глумиться над моей мечтой и разрушать ее снова и снова. Почти каждый день меня забирали, препровождали под стражей в чрезвычайно несимпатичные апартаменты, где посреди множества бумаг восседали несимпатичные люди, которые допрашивали меня, не желали мне верить, старались меня ошарашить, обращались со мной то как с трехлетним ребенком, то как с отпетым преступником. Нет нужды побывать под судом, чтобы свести знакомство с этим поразительным и поистине инфернальным миром канцелярий, справок и протоколов. Из всех преисподних, которые человек странным образом обречен для себя создавать, эта всегда представлялась мне наиболее зловещей. Пожелай только сменить местожительство или вступить в брак, возымей нужду в визе или паспорте - и ты уже ввержен в эту преисподнюю, ты принужден проводить безрадостные часы в безвоздушном пространстве этого бумажного мира, тебя допрашивают и обдают презрением скучающие и все-таки торопливые унылые люди, твои простейшие и правдивейшие заверения не встречают ничего, кроме недоверия, с тобой обращаются то как со школьником, то как с преступником. Что тут говорить, это всякий знает по собственному опыту. Давно уже я задохнулся бы и окоченел в этом бумажном аду, если бы мои краски не дарили мне снова и снова утешения и удовольствия, если бы моя картина, мой чудесный маленький пейзаж не возвращал мне воздух и жизнь.
Перед этим пейзажем стоял я однажды в моем узилище, как вдруг снова прибежали тюремщики со своими докучными понуканиями и вознамерились оторвать меня от моей блаженной работы. Тогда я ощутил усталость и нечто вроде омерзения от всей этой маеты и вообще от этой грубой и бессмысленной действительности. Мне показалось, что теперь самое время положить мукам конец. Если мне не дано без помехи играть в мои невинные художнические игры - что же, мне оставалось припомнить занятия более существенные, которым я посвятил не один год моей жизни. Без магии не было сил выносить этот мир.
Я вспомнил китайский рецепт, постоял минуту, задержав дыхание, и отрешился от безумия действительности. Затем я обратил к тюремщикам учтивую просьбу, не будут ли они так любезны подождать еще мгновение, потому что мне надо войти в поезд на моей картине и привести там кое-что в порядок. Они засмеялись, как обычно, ибо считали меня душевнобольным.
Тогда я уменьшил мои размеры и вошел внутрь моей картины, поднялся в маленький вагон и въехал вместе с маленьким вагоном в черный маленький тоннель. Некоторое время еще можно было видеть, как из круглого отверстия клубами выходил дым, затем дым отлетел и улетучился, вместе с ним - вся картина, а вместе с ней - и я.
Тюремщики застыли в чрезвычайном замешательстве.
1925
Новалис
Этот поразительно богатый, гибкий, дерзновенный ум, этот подлинный провидец и сердцевед, на целое столетие опередив свое время, как в пророческом сне творил идеал немецкой культуры духа, а идеал синтеза научной мысли с душевным переживанием он разработал и развил с такой мощью, с какой это удалось разве одному только Гете. В нем к нам обращается голос той овеянной легендами Германии самоуглубленной духовности, которую сегодня многие отрицают, ибо уже не она господствует на поверхности немецкой жизни. Этот человек, почти до конца преобразовавший себя в дух, в своем творчестве, в своей чудной власти над словом, являет единственную в своем роде чувственную красоту и полноту, некое созвучие духовного и телесного, которое только и можно отыскать у нашего странного любимца смерти, С благодарностью и восторгом следуем мы за окрыленным ходом его писаний и растроганно думаем о его человеческом облике, о котором его первый биограф написал прекрасные слова: «Как он сам сказал, ему свойственно было жить не в сфере чувственности, но в области чувств ибо внешнее его чувство руководилось внутренним. Так создал он для себя в зримом мире - иной, незримый мир. Это была страна, куда звало его томление, и туда он возвратился, рано достигнув цели своего бытия!»
1919
Бывают особенные дети - тихие, с большими, одухотворенными глазами, взгляд которых нелегко выдержать. Им пророчат недолгий век, на них смотрят, как на благородных чужаков, со смесью почтения и жалости.
Таким ребенком был Новалис. Толпа знает его лишь по имени и по двум или трем песням, включаемым в сборники. В образованных кругах он также мало известен, о чем говорит уже то обстоятельство, что лежащее перед нами новое издание его сочинений - первое за полвека.
Глубоко симпатично, глубоко притягательно явление этого поэта, чьи песни и чье имя продолжают звучать нежной музыкой в памяти немецкого народа, между тем как известность и воздействие того, что было им создано за его короткую жизнь, не выходит за пределы самого узкого литературного круга. Новалис умер двадцати восьми лет от роду и унес с собой в могилу лучшие ростки ранней немецкой романтики. В благоговейной памяти своих друзей он сохраняет непреодолимое обаяние юношеской красоты, его продолжают любить, о нем продолжают тосковать, его незавершенное творение овеяно тайной прелестью, как это едва ли было дано другому поэту.
Он был самым гениальным среди основателей первой «романтической школы», которую, к сожалению, слишком часто смешивают с ее поздними, вторичными отголосками, перенося на нее вызванное ими недоверие, вместе с ними предавая ее забвению. На самом деле история немецкой литературы знает немного эпох, которые были столь же интересны, столь же притягательны, как ранняя романтика. Судьбу этой эпохи легко изложить в немногих словах: это краткая история кружка молодых поэтов, художественные возможности которых оказались подавлены господствующей тенденцией эпохи - неимоверным перевесом философии. Но наиболее трагический момент в судьбе этой школы определен тем, что ее самая большая надежда, ее единственный представитель, который был первоклассным поэтом, умер в юности. Этот юноша - Новалис.
Никогда, пожалуй, не имела Германия более интересной, более живой литературной молодежи, чем в то время, когда Вильгельм Шлегель[1] начинал свою организаторскую деятельность, когда его гениальный, но не подвластный собственной воле брат Фридрих[2] жил в Берлине вместе с упорным, трудолюбивым Шлейермахером[3], когда легко возбуждающийся, беспокойный Тик[4] увлек за собой нерешительного Ваккенродера[5] и внушил ему поэтический порыв. Шлейермахер носил свои «Речи», которым предстояло сделать эпоху, в своей честной, восторженной душе, старший Шлегель шлифовал филигранную отделку своих образцовых критических работ и начинал вместе с умной Каролиной[6] свой неоценимый перевод Шекспира, Фридрих Шлегель написал между тысячью взаимоисключающих планов и восторгов свою пресловутую, для нас уже неудобочитаемую «Люцинду», Гете обращал на чету братьев свое внимательное око, Новалис после головокружительно быстрого развития протягивал тонкую руку к высочайшим венцам, а рядом с Фихте[7] так ново и значительно явился глубокий душой Шеллинг[8]. Если не считать Дильтея[9] («Жизнь Шлейермахера») и Гайма[10] («Романтическая школа в Германии»), ни один историк литературы не сумел понять богатство и своеобразное очарование этой эпохи. Из десятилетия в десятилетие ярлык «романтика» приклеивали без разбора целой куче писанины, чтобы с ней покончить.
И все же злоупотребление словом «романтика» и недостаточное знание вышеназванных отличных работ Дильтея и Гайма об этой эпохе - не единственная и даже не самая важная причина почти полного забвения, в которое погрузилось созданное Новалисом. Новалиса трудно читать, труднее, чем любого другого немецкого писателя новейшего времени. От него остались почти одни фрагменты, в которых поэт только отыскивал дорогу к чистому творчеству через умозрение. И все-таки чтение его сочинений для хорошего читателя, безусловно, окупает себя. Они пробуждают чувство близящейся художественной победы, той победы, в которой нуждались его время и его школа и которая именно в нем более всего приблизилась к воплощению. Нас охватывает мучительно острое чувство: еще один шаг, еще десять лет жизни, и у нас было бы одним бессмертным поэтом больше. Но мы должны довольствоваться фрагментами, при чтении которых перед нашими глазами снова и снова возникает прекрасное, улыбающееся, мучительно милое лицо слишком рано взятого от нас юноши. Необычным и прискорбным образом мы не располагаем, строго говоря, ни одним вполне оконченным произведением этого писателя. Таковое могло бы представлять собой совершенно исключительную ценность. Тот же Тик, например, написал в своем раннем периоде несколько очаровательных сказок, но одна-единственная строка Новалиса, в силу своей фрагментарности менее нас удовлетворяющая, имеет в себе несравнимо больше волшебства высшей поэзии. В отдельных образчиках его творчества, также и в песнях, веет совершенно неописуемое дуновение нежности, самой души; у него есть и такие слова, которые трогают нас, как ласка, и такие, от которых хочется затаить дыхание, чтобы всецело предаться этой чистой, почти неземной красоте. При этом его мысли хранят в себе тепло юношеской, до крайности привлекательной личности. Представая таким свободным от чувственности, таким отрешенным от мира, он не был, однако, ни аскетом, ни визионером. И все же в его личности было нечто удивительное, необъяснимое, каковы его жизнь и его конец, краткое описание которых сохранилось и оставляет такое странное и растроганное состояние души.
В свои последние дни Новалис был хотя и болен, однако полон жизни, полон интереса к жизни: он расхаживал, болтал, занимался работой, а в одно прекрасное утро, при звуках фортепьянной музыки, он заслушивается, присаживается, улыбается дремотной улыбкой и умирает. Не кажется ли, что эта благородная, удивительно глубокая и живая душа перешла голубые горы своей ностальгии без муки, без прощания, следуя за легкими звуками, в ритме звучавшей музыки, чтобы обрести край неспетых песен? Загадка Новалиса как человека - его тихая улыбка, его голубоглазая веселость, под покровом которой его душа и тело были тайно снедаемы тяжелой мукой. Таким описывают его друзья, и таким предстает он перед нашим внутренним взором со страниц своих сочинений - стройный, благородный облик, отмеченный бросающимся в глаза достоинством, без единой обыденной черты, но и без всякого пафоса. Когда я думаю о нем, мне видится его дружелюбное, серьезное лицо, полное внимания к звукам музыки его смертного часа, привлекающее к себе сердца выражением сдержанной нежности, и на лице этом мне видится та улыбка, просветленная мягкость которой составляет самое тайное очарование его незавершенного творчества и его незавершенной жизни.
В сочинениях Новалиса, как они дошли до нас, все явственно распадается на две части: философия и поэзия. Но я убежден, что мы несправедливы к поэту, когда воспринимаем мистику и натурфилософию хотя бы «Учеников в Саисе» или «Гимнов к ночи» как философию. Все это гораздо ценнее как настроение, как поэзия, и некоторые афоризмы Новалиса заставляют полагать, что он в конце жизни сознательно приблизился к своей цели. Рядом с его поэтическими фрагментами посмертно публикуемые наброски даже и знаменитых литературных деятелей пугают своей скучной трезвостью или деланностью. В нем жила такая богатая поэтическая душа, что его работа предстает исключительно как введение в русло и формирование удивительного душевного переизбытка, никогда не как сочинительство, как изобретение и выдумывание. Поистине загадочной предстает контрастирующая с большой изысканностью в деталях литературной работы совершенно нелитераторская полнота, чистота и детскость его настоящих творений. Может быть, больше ни один немец не обладал такой переливающейся через край поэтической душой; а этот единственный пал жертвой всепожирающего духа своего времени. Ибо те годы - время подлинного рождения нашей современной литературы. Прежде всего Тик - первый производитель книжной продукции в современном смысле; таких подвижных, деятельных, эластичных талантов не знало ни одно из предшествовавших столетий Германии. С основанием «Атенея», с возникновением берлинских салонов[11] у нас впервые делаются ощутимы литература как вещь в себе и писательство как профессия; с тех пор мы имеем своих романистов, журналистов, мастеров болтовни, фельетонистов и вообще весь набор серьезных и несерьезных литераторских типов. Нежный росток романтики первый стал жертвой этого литературного бума; тонкие начинания Новалиса были беззастенчиво употреблены для своих целей модными романтиками двадцатых и тридцатых годов, из числа которых мы, разумеется, исключаем наиболее чистые натуры, хотя бы Эйхендорфа[12].
Сегодня уже никто не прислушивается к этой отцветшей романтике, никто не знает больше ожесточенной борьбы против романтики как элемента реакционного. Когда наблюдаешь меланхолическое устремление наших современников к перспективам «нового искусства», именно в новейших литературных кругах видишь настроения и начинания, которые с поражающей отчетливостью напоминают возбужденную поэтическую молодежь около 1800 года.
Итак, теперь у нас наконец-то снова есть издание Новалиса. Оно может принести только благо, если наши «неоромантики» испытают свою силу и свою поэтическую честность мерой этого забытого мертвеца. О, если бы среди нас нашлись такие, которые сумели бы выдержать взгляд этих огромных детских глаз, эту полноту души! О, если бы достаточно многие читатели позабыли всю модную технику чтения, вообще все внешнее, и отважились погрузиться в эти таинственные глубины! У них явилось бы чувство, одновременно сладкое и мучительное, какое бывает у нас, когда мы слышим напев, звучавший нам в детстве, или вдыхаем запах цветка, который был нами любим в родительском саду, а потом забыт на долгие годы.
1900
Друзья, не надо этих звуков!
Народы вконец рассорились друг с другом, и каждый день неисчислимое множество людей мучается и гибнет в жестоких сражениях. Так уж случилось, что, читая тревожные сообщения с театра военных действий, я вспомнил давно забытый эпизод детства. Мне только что исполнилось четырнадцать, знойным летним днем я сидел в Штутгарте на знаменитом швабском земельном экзамене[1] и записывал тему сочинения: «Какие положительные и какие отрицательные стороны человеческой натуры пробуждает и развивает война?» Моя работа на эту тему не основывалась на каком-либо опыте и, естественно, не попала в число лучших. То, что я, мальчишка, понимал тогда под войной, под ее доблестями и тяготами, давно уже не совпадает с моими нынешними взглядами на эти вещи. В связи с последними событиями и с упомянутым эпизодом детства я много размышлял в эти дни о войне, и, раз уж теперь вошло в обычай, чтобы мужи науки и люди искусства публично оглашали свое мнение на сей счет, я решил отбросить, наконец, колебания и высказать то, что думаю. Я немец, и все мои симпатии на стороне Германии, но то, о чем я собираюсь говорить, касается не войны и политики, а позиции и задач нейтралов. Под нейтралами я разумею не страны, придерживающиеся политического нейтралитета, а всех тех ученых, учителей, художников, литераторов, что трудятся на пользу мира и человечества.
В последнее время обращают на себя внимание прискорбные симптомы пагубного смятения мысли. Мы слышим об отмене немецких патентов в России, о бойкоте немецкой музыки во Франции, о таком же бойкоте творений духа «враждебных» народов в Германии. Скоро в большинстве немецких газет нельзя будет переводить, хвалить или критиковать произведения англичан, французов, русских, японцев. Это не слухи, это факты, такое уже начинает входить в практику.
Стало быть, отныне надо замалчивать прекрасную японскую сказку или добротный французский роман, точно и любовно переведенный немцем еще до начала войны. Прекрасный и добрый дар, от всей души предлагаемый нашему народу, отвергается только потому, что несколько японских кораблей осаждают Циндао[2]. И если я захочу сегодня с похвалой отозваться о книге итальянца, турка или румына, то сделать это можно лишь при условии, что до публикации отзыва какой-нибудь дипломат или журналист не изменит политическую ситуацию в этих странах!
С другой стороны, мы видим деятелей искусства и ученых мужей, выступающих с протестами против воюющих держав. Как будто сейчас, когда пожар войны охватил весь мир, печатное слово имеет хоть какую-нибудь цену. Как будто художник или литератор, даже самый талантливый и знаменитый, хоть что-нибудь понимает в военных делах.
Иные участвуют в великих событиях, перенося войну в свои кабинеты и сочиняя за письменным столом кровожадные боевые гимны или статьи, пропитанные злобой и раздувающие ненависть между народами. Вот это, наверно, самое скверное. Любой солдат на фронте, каждодневно рискующий жизнью, имеет полное право на ожесточение, на вспышки гнева и ненависти. Любой активный политик тоже. Но только не мы, люди иного склада, - поэты, художники, журналисты. Пристало ли нам усугублять то, что и без того худо, к лицу ли нам умножать уродливое и достойное сожаления?
Выиграет что-нибудь Германия, запретив у себя распространение английских и французских книг? Станет ли мир хоть чуточку лучше, если французский писатель начнет осыпать противника площадной бранью и разжигать в войсках звериную ярость?
Все эти проявления ненависти - от нагло распространяемых «слухов» до подстрекательских статеек, от бойкота «враждебного» искусства до хулы и поношений в адрес целых народов - основываются на скудоумии, на лености мысли, которую легко простить солдату на фронте, но которая не к лицу рассудительному рабочему или труженику на ниве искусства. Мой укор не относится к тем, для кого мир и раньше не простирался дальше пограничных столбов. Я веду здесь речь не о тех, у кого вызывает возмущение любое доброе слово о французской живописи, кто впадает в ярость от каждого иностранного выражения. Такие люди и впредь будут делать то, что делали до сих пор. Но все остальные, те, кто до недавнего времени сознательно или неосознанно помогали возводить наднациональное здание человеческой культуры, а теперь вдруг возжаждали перенести войну в сферу духа, - вот они творят непоправимое и вступают на ложный путь. Они до тех пор служили людям и верили в существование наднациональной идеи человечества, пока этой идее ничего не угрожало, пока думать и действовать так было удобно и привычно. Теперь же, когда приверженность величайшей из идей требует работы, сопряжена с опасностью, становится вопросом вопросов, они предают ее и затягивают мелодию, которая по душе большинству.
Само собой, я ничего не имею против патриотических чувств и любви к своему народу. В эту тяжкую годину меня не будет среди тех, кто отрекается от своего отечества, и мне не придет в голову отговаривать солдата от выполнения своего долга. Раз уж дело дошло до стрельбы, пусть стреляют. Но не ради самой стрельбы, не ради уничтожения ненавистного врага, а чтобы как можно скорее взяться за более возвышенную и достойную работу! Сегодня каждый миг гибнет многое из того, над чем всю жизнь трудились лучшие из художников, ученых, путешественников, переводчиков, журналистов. Тут уж ничего не поделаешь. Но тот, кто хотя бы один-единственный светлый час верил в идею человечества, в интернациональную науку, в красоту искусства, не ограниченного национальными рамками, а теперь, испугавшись чудовищного напора ненависти, отрекается от прежней веры, а заодно и от лучшего в себе, тот поступает безрассудно и совершает ошибку. Я думаю, среди наших поэтов и литераторов вряд ли найдется хотя бы один, чье собрание сочинений украсит когда-нибудь то, что сказано и написано им сегодня под влиянием злобы дня. И среди тех, кто заслуживает право называться писателем, вряд ли встретится такой, кому патриотические песни Кернера были бы больше по душе, чем стихотворения Гете, который столь странным образом держался в стороне от освободительной войны своего народа.
Вот- вот, тут же воскликнут ура-патриоты, этот Гете был нам всегда подозрителен, он никогда не был патриотом, он заразил немецкий дух тем мягкотелым, холодным интернационализмом, которым мы уже давно болеем и который изрядно ослабил наше германское самосознание.
В этом суть дела. Гете никогда не был плохим патриотом, хотя он и не сочинял в 1813 году национальных гимнов. Любовь к человечеству он ставил выше любви к Германии, а ведь он знал и любил ее, как никто другой. Гете был гражданином и патриотом в интернациональном мире мысли, внутренней свободы, интеллектуальной совести, и в лучшие свои мгновения он воспарял на такую высоту, откуда судьбы народов виделись ему не в их обособленности, а только в подчиненности мировому целому.
Такую позицию можно в сердцах обозвать холодным интеллектуализмом, которому нечего делать в годину испытаний, - и все же это та самая духовная сфера, в которой обретались лучшие поэты и мыслители Германии. Сегодня самое время напомнить о духовности и призвать к чувству справедливости и меры, к порядочности и человеколюбию, в этой духовности заключенных. Неужели наступит время, когда немцу потребуется мужество, чтобы сказать, что хорошая английская книга лучше плохой немецкой? Неужели дух воюющих сторон, которые сохраняют жизнь взятым в плен врагам, посрамит дух наших мыслителей, неспособных признать и оценить противника даже тогда, когда тот проповедует миролюбие и творит добро? Что принесет нам послевоенное время, которого мы уже теперь слегка побаиваемся, время, когда путешествия и духовный обмен между народами окажутся в полном запустении? И кому, как не нам, предстоит работать над тем, чтобы все снова стало по-иному, чтобы люди снова научились понимать и ценить друг друга, учиться друг у друга, кому, как не нам, сидящим за письменными столами, в то время как наши братья сражаются на фронте? Честь и слава тому, кто проливает кровь и рискует жизнью на полях сражений под взрывами гранат! Но перед теми, кто желает добра своей отчизне и не утратил веры в грядущее, стоит иная задача: сохранять мир, наводить мосты между народами, искать пути взаимопонимания, а не потрясать оружием (пером!) и не разрушать до основания фундамент будущего обновления Европы.
В заключение несколько слов для тех, кто страдает от войны и впадает в отчаяние, кому кажется, что она уничтожает остатки культуры и человечности. Войны были всегда, с тех пор как человечество помнит себя, и никогда не было оснований считать, что с ними наконец покончено. Если мы и думали иначе, то исключительно потому, что привыкли к долгому миру. Войны будут до тех пор, пока большинство людей не научится жить в гетевском царстве духа. И все же устранение войны остается нашей благородной целью и важнейшей задачей западной христианской цивилизации. Исследователь, ищущий средство против заразной болезни, не откажется от своей работы только потому, что его застала врасплох новая эпидемия. Мы тем более не откажемся от нашего идеала и не перестанем бороться за «мир на земле» и за дружбу всех людей доброй воли. Человеческая культура возникает из облагораживания и одухотворения животных инстинктов, из чувства стыда, из фантазии и стремления к знанию. Жизнь стоит того, чтобы ее прожить, - в этом высший смысл и утешение всякого искусства, несмотря на то что никому из воспевавших ее не удалось избежать смерти. Пусть эта злополучная война заставит нас глубже, чем когда бы то ни было, почувствовать, что любовь выше ненависти, понимание выше озлобленности, мир благороднее войны. А иначе какая же еще от нее польза?
1914
Конраду Хаусману
Берн, 25 октября 1914
Дорогой друг Хаусман,
[...] В войне меня больше всего мучает сейчас жестокость, с какой, поверх всего политического и солдатского, презирают и оплевывают общепризнанные духовные ценности. Уже залихватский наскок на Годлера[1] был ни к чему, но еще более досадная ошибка - тотальный бойкот искусства и литературы «враждебных» народов. Он с пугающей ясностью показывает, что мы, прогрессивно настроенные люди, носители культуры и гуманизма, - всего лишь крохотная кучка чудаков. Швейцарская пресса в этих вещах внимательна и разумна.
Дни, проведенные с Вами, были прекрасны, я все еще нахожу в голове и в записной книжке массу наблюдений. Я мог бы написать сейчас отличные рассказы о войне, но какой от них прок. Жаль. [...]
Альфреду Шленкеру
Берн, 10 ноября 1914
Дорогой друг,
твое славное письмо меня по-настоящему обрадовало. Я и сам давно хотел написать тебе, да все никак не мог до конца преодолеть в себе сопротивление, связанное с нашей глупой размолвкой в Констанце. Я бы не сказал, что мне досаждал сам предмет спора; меня, человека вспыльчивого и неуравновешенного, мучила мысль, что я привык встречать бережное к себе отношение у других, более здоровых, вместо того чтобы проявить больше такта и доброй воли к своим друзьям, которые тоже могут оказаться во власти дурного настроения. Но теперь это дело прошлое, хватит о нем.
Я рад, что «Книга песен»[1] пришлась тебе по душе. Сделать такого рода книжку совершенно безукоризненно нельзя, но она, кажется мне, вышла все же недурной, по крайней мере она дает довольно точное представление о том, что я понимаю под настоящей лирикой; немногие образцы в другой тональности, менее, на мой взгляд, глубокие, я включил в сборник ради сохранения объективной картины.
Из-за войны я оказался в довольно щекотливом положении. Мои симпатии целиком на стороне Германии, и мне вполне понятен воцарившийся там сейчас всеподавляющий дух национализма, но я не в состоянии разделить его до конца, как подобало бы истинному патриоту. Я живу за границей, вдали от очага великого психоза и все еще не могу придти в себя от того, как обошлись с Бельгией[2]. По своему происхождению и привычкам я настолько интернационален, что в глазах чистого патриота мне по теперешним временам трудно рассчитывать на снисхождение. Мой отец -прибалтийский немец, подданный России, моя бабушка родом из Невшателя, сам я с детства считаю Швейцарию своей второй родиной, правда только немецкую Швейцарию. Добавь к этому мою жажду путешествий и любовь к литературе других народов. Германии сейчас ни к чему правота в малом и умеренность; великий психоз, даже ярость неизбежны в военную пору. Но я не могу позволить себе радоваться войне, находить ее великолепной, ждать от нее золотого будущего. После всего, что случилось, нам надо как можно скорее сдружиться с Англией и Францией, сойтись с ними еще теснее, чем до войны, в будущем без этого не обойтись, и без войны все было бы куда проще. Мы теперь расплачиваемся за никудышную политику Франции, за ревность Англии, за наши собственные политические промахи, и вместе с нами исходят кровью Австрия, Бельгия, Франция. Тут уж не до дискуссий на тему, кто прав, а кто виноват, каждой стороне пристало твердо верить в свою правоту. Поэтому война в целом - это достойная сожаления потасовка из-за мнимых ценностей. Можно только удивляться, какие при этом вызревают плоды единства и духа самопожертвования, но то же самое мы наблюдаем и у противника, и нам, сидя дома, легко говорить, что ради этого стоит воевать. А те, кто заживо гниет там, в лесах, и те, у кого война разрушила города и деревни, поля и надежды, думают об этом иначе, и я не могу думать о войне, не прислушиваясь к их голосам.
Нынче вечером наш первый симфонический концерт - программа великолепная, только Бетховен - начинается «Кориоланом» и заканчивается «Героической». Еще несколько недель назад я бы не смог наслаждаться этим, но вот наконец для меня снова существуют и хорошая музыка, и отличная книга, и я снова способен воспринимать прекрасное. В остальном все, как обычно, я бы с удовольствием как следует поработал, но не получается - почти беспрерывно болят глаза. [...]
Я тоже предчувствую временами гармонию Вселенной. Но она плохо согласуется с жизнью моего тела и с моими инстинктами, поэтому я принужден искать ее в сфере духа, а здесь, оставаясь до конца последовательным, оказываешься в зависимости от разума, единственного из наших органов, способного, несмотря на разлад с чувственностью, ощутить себя в единстве с мировым порядком и воздать ему должное. А поскольку не только война и жизнь народов, но и самое ценное в искусстве возникают отнюдь не под диктовку разума, то и разрыв между ними сохраняется. [...]
«Подросток»
Нельзя сказать, чтобы роман «Подросток» был у нас до сих пор неизвестен, но по-немецки читали его сравнительно мало, и это примечательно, ведь речь идет об одном из великих романов Достоевского, написанном между «Бесами» и «Братьями Карамазовыми».
Между тем уже десять лет назад появился очень хороший перевод Корфица Хольма[1]. Я тогда же его и прочел с тем острым, живым интересом, с каким Достоевского читаешь всегда, но теперь, перечитав, был несколько удивлен, до чего успел с тех пор забыть собственно весь роман, то есть саму «историю», переплетение интриг, событий и отношений. Зато осталась в памяти общая атмосфера, образы главных персонажей, звучание основных разговоров, особенно же некоторые места из этих разговоров, отмеченные глубиной психологических прозрений, исповедальными откровениями о сути русского человека. Любопытно, однако, что вся внешняя сторона этой без малого тысячестраничной книги опять готова была от меня ускользнуть. Это лишь подтверждало всегдашнюю мою внутреннюю нерасположенность ко всяческим бурным «историям», к слишком яркому, разветвленному, перенапряженному действию, к слишком ярким, слишком пестрым, слишком захватывающим ситуациям. У Достоевского они всюду, и обычный читатель на них основывает свое суждение об этом авторе, считает их показателем его величия. Что говорить, и чисто внешняя техника повествования у этого нагоняющего жуть мастера тоже способна ошеломить. Ошибкой было бы считать эту яркость, эту избыточную красочность его сюжетов чисто наивной или просто случайной, мы бы недооценили роман, выделив в нем лишь духовное содержание. Об этом не может быть речи. Весь этот поразительный, невероятно впечатляющий и при всем том, однако, всегда немного сомнительный сюжетный аппарат Достоевского, это неистовое, яркое, лихорадочно захватывающее при первом чтении переплетение тайн, измен, догадок, таинственных документов, где есть и револьвер, и тюрьма, убийство, яд, самоубийство, безумие, подслушанные заговоры и убогие каморки - весь этот аппарат для него не является чем-то внешним, это отнюдь не маска, за которой можно скрыть свои истинные намерения, он абсолютно честен и именно потому производит столь сильное впечатление. Достоевский не просто гениальный писатель, превосходно владеющий русским языком и глубоко проникший в русскую душу; он, кроме того, еще и одинокий искатель приключений, человек удивительной, необыкновенной судьбы, каторжник, помилованный в последний миг перед расстрелом, одинокий, бедный страдалец.
Однако мне кажется, если в нем что-то со временем устареет, то прежде всего этот до сих пор еще столь впечатляющий аппарат его увлекательных историй. Уже нынешняя война способствовала тому, что приключения для нас упали в цене, нас не так теперь влечет все опасное и дикое. Тем сильней будет когда-нибудь действовать дух этих поразительных книг. И чем дальше будут они удаляться в прошлое, тем станет очевидней, что в них гораздо шире и глубже, нежели в произведениях Бальзака, оказался запечатлен в вечных образах для потомков один из самых захватывающих и странных периодов человеческой истории. Когда-нибудь, когда в книгах, подобных «Идиоту», «Преступлению и наказанию» или «Братьям Карамазовым», устареет все внешнее, они в своей совокупности останутся для нас уже во многих частностях непонятным, как творение Данте, но все же бессмертным и потрясающим воплощением целой всемирной эпохи.
«Подросток», однако, отличается от других великих романов мастера в двух отношениях. С одной стороны, характером сюжета, необычайно живого, порой даже неистового, но ограниченного исключительно домашней, семейной сферой. С другой - на редкость «литературным», чуть ли не ироническим звучанием. Подростку двадцать лет, он сам рассказывает о своих переживаниях, это странный, одинокий, уязвленный и в то же время честолюбивый, весьма необычный для своих двадцати лет человек. И, увлеченные самой историей, которая широко охватывает русскую действительность, не зная недостатка в запутанных ходах и волнующих подробностях, мы в то же время с почти неприятным удивлением наблюдаем, как расчетливо, с редкостным мастерством и точностью оттенков выстраивается характер немного высокомерного, незаурядного, неопытного, не по годам развитого подростка. Возможно, форма повествования от первого лица позволяет лучше сгруппировать персонажи и события, одновременно облегчая их оценку, но в результате психологически все оказывается бесконечно более сложным, рискованным и деликатным. Перед иными местами, когда между двумя взвинченными сценами на миг вдруг как бы приходишь в себя, останавливаешься прямо-таки в ошеломлении, словно перед немыслимо смелым и даже дерзким трюком. Упомянутый «аппарат» и здесь то и дело заявляет о себе во всей своей грубости, и здесь не обходится без всяких черных ходов и неожиданных сцен. Это может раздражать, но все же ни на миг не возникает впечатления, будто сам Достоевский стоит за кулисами и руководит фигурами. Ибо перед нами не фигуры, а живые люди. И люди эти потому так волнуют нас, что они (одни об этом не думая, другие почти сознательно) живут не просто своими личными, частными, особыми заботами и проблемами, в них выражено нечто более типичное, существенное, имеющее более глубокие корни - заботы и проблемы целого поколения, всего народа, что мучается злыми кошмарами на грани яви и сна.
Мир, в который вводят нас эти книги, беспощаден, жесток, безобразен сущий ад. Здесь соседствуют преступление и душевная болезнь, мания величия и обычная подлость, пороки большого города и выродившаяся аристократия, и все это погружено в атмосферу гнетущей затхлости, во мрак кошмара и безнадежности. Кажется, нигде на тысяче страниц этой книги не выглянет солнце, нигде не покажется зеленое деревце или трава, не запоет птица разве что соловей из клетки в жалком окраинном трактире. Здесь нет ни времен года, ни пейзажа, люди словно затеряны в петербургском тумане. Они как будто не дышат воздухом, не идут по земле, но плывут по течению своей судьбы, отчаявшиеся, никому не нужные. Кажется, в этом мире нет ничего, что мы привыкли считать красивым, милым, теплым, здесь нет доброй улыбки, нет солнца. Однако сказать так будет неверно: солнце здесь есть. Религия, ясность веры, простодушное благочестие - вот солнце этого мира. Среди петербургского света, где мечутся люди, выбитые из колеи, без руля, без ветрил, без добрых традиций, люди, утратившие общность веры, желаний и действий - среди этих бедных, больных, злых людей возникает приветливый и добрый странник Макар, такой же наивный и лукавый, такой же ясный и добрый, как тог дивный святой в «Братьях Карамазовых», улыбчивый, словно дитя, и многомудрый, словно старец. Он - знающий, а не ученый, он - народ, он Россия, его глубокую мудрость нельзя просто сформулировать и облечь в слова, она тогда станет плоской и обесценится. Ибо в основе ее не познание, но сама жизнь.
Это русская способность, это умение улыбаться в горе, это глубокое добродушие, этот дар самоотверженности иногда пророчески, умиротворенно начинают просвечивать и в других. И однажды мы слышим слова старого Версилова, типичного представителя глубоко больного русского дворянства: «Да, мальчик, повторяю тебе, что я не могу не уважать моего дворянства. У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высокий культурный тип, какого нет в целом мире: тип всемирного боления за всех. Это - тип русский, но так как он взят в высшем культурном слое народа русского, то, стало быть, я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России». И этот же самый Версилов, этот несчастный, утонченный, страдающий в каком-то смысле болезненным переизбытком культуры представитель утратившего корни дворянства, этот человек с уязвленным сознанием и неспособностью принять решение, этот добряк, от которого неизвестно чего можно ждать, и красноречивый интеллектуал иногда произносит суждения из области практической этики, простые, прекрасные и естественные, как, например: «Осчастливить непременно и чем-нибудь хоть одно существо в своей жизни, но только практически, то есть в самом деле, я бы поставил заповедью для всякого развитого человека; подобно тому, как я поставил бы в закон или в повинность каждому мужику посадить хоть одно дерево в своей жизни ввиду обезлесения России».
Нынешняя война, вероятно, будет иметь следствием ускоренную европеизацию России, ибо необходимость дисциплины, организации, своего рода милитаризации души оказывается первым требованием эпохи для всякого государства, которое желает выстоять и играть роль в будущем. Пассивная Россия, Россия христианская, терпеливая, самоотверженная больше, чем когда-либо прежде, вынуждена будет искать прибежище в душе наивного народа. Тем внимательнее нам следует вслушиваться в голоса этой таинственной, душевной России. Всему «европейскому» Россия научилась у Запада и научится у него еще многому. Что же касается пассивных, азиатских добродетелей, которые Запад до сих пор еще недостаточно ценит, здесь русские вновь станут нашими учителями, и это коснется даже вопросов практической политики. Ибо однажды к нам вновь должен приблизиться некий другой полюс, мы должны снова принять, между прочим, в расчет и ту душевную культуру, которая пренебрегает действием, предпочитая терпение. В этом искусстве, в котором европейцы до сих пор остаются детьми, русские еще долго будут посредниками между нами и нашей праматерью Азией.
1915
Толстой и Россия
Давно ушли в прошлое времена, когда наше национальное чувство, встревоженное внезапной опасностью, полно было вражды и неприязни ко всему чужому, так что возникали даже сомнения, ставить ли у нас в самом деле пьесы англичанина Шекспира, а высшую добродетель немцев - готовность с уважением относиться ко всем ценностям и ко всем достижениям на земле - иные, слишком усердные, объявляли слабостью, которую надо поскорее преодолеть. Понося эгоистичную, закоснелую в убогом своем себялюбии Англию, эти люди хотели бы направить немецкий дух по той же стезе безлюбовной и в конечном счете бесплодной ограниченности. Все это позади; теперь уже не требуется особой смелости, чтобы воздать должное Флоберу или Гоголю.
Уже давно пора возобновить разговор и о том, что после этой войны Германии ни к чему дольше оставаться в мире островом, ей вновь надо наладить сотрудничество с соседями и стремиться к общей с ними цели, следовать общим методам, почитать общих богов. Теперь больше, чем когда-либо прежде, стали говорить о «Европе»[1], и я тоже считаю, что прекраснейшим, выходящим за национальные рамки плодом этой эпохи должно стать укрепление европейского чувства, новое уважение к европейскому духу. Однако понимание Европы у многих при этом так ограничено, что впору призадуматься; так, иные наши лучшие умы (например, Шелер[2] в своей замечательно страстной книге «Гений войны») совершенно исключают из своей Европы Россию. Вообще европейская мысль в наши беспокойные дни дышит агрессивностью и больше, кажется, склонна к размежеванию, нежели к единению. Представление о том, что Европа, как некое идеальное единство будущего, могла бы оказаться ступенью к единству общечеловеческому, ныне резко отвергается, как всякий космополитизм, и изгоняется в область поэтических мечтаний. Что ж, спорить не стану, однако я очень ценю поэтические мечтания и считаю мысль о единстве всего человечества не просто милой грезой прекраснодушных умов вроде Гете, Гердера[3] или Шиллера, а душевным переживанием, то есть самым реальным, что только может быть. Ведь эта же идея лежит и в основе всех наших религиозных чувств и представлений. Одна из первых основ всякой высокоразвитой и жизнеспособной религии, всякого художественно-творческого мировоззрения есть вера в достоинство и духовное предназначение человека, человека как такового. Мудрость китайца Лао-цзы, как и мудрость Иисуса или индийской Бхагавадгиты[4], как и искусство всех времен и народов, ясно указывают на общность душевных основ у всех народов. Человеческая душа, с ее святостью и способностью к любви, с силой ее страданий, с ее страстью к освобождению, проявляет себя в каждой мысли, в каждом деянии любви у Платона и у Толстого, у Будды и у Августина[5], у Гете и в сказках «Тысячи и одной ночи». Отсюда вовсе не следует, что христианство и даосизм, философия Платона и буддизм должны отныне соединиться или что из слияния всех духовных миров, которые разделены эпохами, расами, климатом, историей, может возникнуть некая идеальная философия. Христианин есть христианин, а китаец есть китаец, и каждый отстаивает свой способ существовать и мыслить. Но для сознания, что все мы суть лишь разделенные части вечно единого, не может быть в мире лишним никакой путь, никакая окольная тропа, никакое действие или страдание. Ведь и сознание своей детерминированности тоже не сделает меня свободным! Но оно может придать мне скромности, может придать терпимости, придать доброты, ибо, если я детерминирован, я должен предполагать, уважать, принимать в расчет детерминированность и всякого другого существа. Если мы поймем, что святость и предназначение человеческой души по всей земле одни и те же, это тоже будет означать служение духу, в котором, видимо, больше благородства и широты, чем во всякой приверженности одному учению - духу благоговения и любви. И для этого духа открыт путь совершенства и чистого стремления.
Если же теперь, размышляя о будущем, мы исключим из своего европейского понимания Россию и русскую сущность, мы тем самым отсечем себя от глубокого и мощного источника. Европейский дух знал два великих переживания античность и христианство. Наше средневековье было эпохой победоносной борьбы христианства с античностью, Ренессанс знаменовал новую победу античности и одновременно рождение окончательно сформировавшегося европейского духовного метода. Россия вместе с нами этой борьбы не пережила, это отделяет Россию от нас, это позволяет нам в каком-то смысле считать Россию средневековой. Зато от России к нам вновь приходит столь мощный поток душевности, изначально христианской любви, по-детски непоколебимой жажды искупления, что наша европейская литература внезапно обнаруживает узость и мелочность перед этим потоком душевной страсти и внутренней непосредственности.
Лев Толстой соединил в себе две характерные русские черты: в нем есть гений, наивная интуитивная русская суть - и русская суть осознанная, доктринерская, антиевропейская, причем то и другое представлены у него в высшей степени. Мы любим и почитаем в нем русскую душу, и мы критикуем, даже ненавидим в нем новоявленное русское доктринерство, чрезмерную односторонность, дикий фанатизм, суеверную страсть к догмам русского человека, лишившегося корней и ставшего сознательным. Каждому из нас довелось испытать чистый, глубокий трепет перед творениями Толстого, благоговение перед его гением, но каждый из нас с изумлением и смятением, а то и с неприязнью держал в руках также и догматические программные сочинения Толстого.
1915
«Белые листки»
Несмотря на войну, после перерыва в несколько месяцев Лейпцигские «Белые листки» начали второй год своего существования, и эхо кровавой эпохи отзывается в этих листках новейшей поэтической юности Германии с такой серьезностью и в то же время с такой надеждой, с такой благородной волей, что нам к этим звукам стоит прислушаться. Пусть нынче еще говорят пушки, завтра или послезавтра дух народов должен будет вернуться к языку более нежному, более сложному, и для этого он всюду изберет почву юности, доверия и надежды, даже там, где почва эта еще представляет собой неустоявшуюся и незнакомую новь.
«Белые листки», ежемесячник немецкой поэтической молодежи (о них минувшим летом говорили довольно часто; укажем еще раз на пьесу К. Штернхайма «1913»[1] в февральском номере), начали свой второй год издания в воюющей Германии обращением к читателям, где есть такие слова: «Европейское сообщество кажется сегодня совершенно разрушенным - и разве не долг каждого, кто не носит оружия, стараться сегодня жить так, как после войны обязаны будут жить все немцы?»
А в февральском номере «Белые листки» без сокращений печатают примечательную статью одного австрийского офицера, мужественно прекрасную статью, которая, будучи анонимной, выражает, похоже, мнение целой группы здравомыслящих людей и которая столь благородно отличается от всего, чем нынче грешат журналисты и литераторы в Германии, да и во всех воюющих странах. Там говорится дословно: «Эту другую, бескровную войну (то есть войну перьев и чернил) ведут люди, которые умеют неплохо оберегать от опасности себя самих и свое добро, которые слышали гром пушек лишь в стихах патриотов-поэтов, люди, чей вклад в эту войну равен нулю». И далее: «Эта газетная война также никому не нужна. Если пишущие в газетах полагают, что, дискредитируя врага, они вселяют в нас мужество и уверенность, им стоило бы сказать, что мы склонны черпать воодушевление из других источников. Мы отказываемся от такого подбадривания, тем более что недооценка противника до сих пор всегда приносила лишь вред и никогда - пользу».
Этот чистый, добрый голос разума и достоинства звучит среди потока ненависти, который ежедневно проносится сейчас по всем воюющим странам, и очень важно, что молодые писатели, литературная надежда Германии, произносят такие слова и хотят их довести до всеобщего сведения. Что сами они переживают войну всерьез и не склонны сводить полнокровную жизнь лишь к литературе, ясно из других их заявлений, но еще ясней это становится, когда прочтешь имена тех участников этого круга самых молодых, которые уже погибли на войне. Особого уважения среди них заслуживает, нам кажется, эльзасец Эрнст Штадлер[2], автор книги стихов «Выступление». Штадлер погиб, будучи офицером резерва германской армии; но он был также лектором в Брюссельском свободном университете, был другом и переводчиком французских поэтов, имел тесные связи с Англией и, если бы не война, отправился бы в сентябре в Канаду профессором германистики. Ему было тридцать лет.
Пусть только не говорят, что это всего лишь исключительный случай, что тут происхождение, особые отношения, дарования и судьба предопределяли некую духовную интернациональность. Он ведь не был лишен и национальной принадлежности, иначе не оказался бы германским офицером резерва и не погиб бы на фронте. Было бы ошибкой считать обособленным исключением немца, способного ощущать себя европейцем, чему во Франции соответствует такой, например, ум, как Ромен Роллан. Здесь нечто большее, здесь перед нами ранний, пока еще единичный цветок европейского духа, проявление потребности в дружбе между германско-готическим и романско-классическим духом. Здесь перед нами плод этого духа, во имя которого многие одареннейшие и серьезнейшие юноши в Германии и во Франции вот уже более двух десятилетий пытаются наладить добрососедское, дружеское, плодотворное сотрудничество обоих народов. Неважно, «только» ли о литературе и искусстве здесь речь или также о политических тенденциях, а что без политики тут не обходится, свидетельствует созыв двух межпарламентских конференций в Берне и Базеле.
То, что пишут авторы «Белых листков», еще не вошло в сознание «публики». Тем не менее они имеют влияние и действуют подспудно, примерно так же, как оказывают свое воздействие и влияние могучие усилия новых и новейших направлений в области изобразительных искусств, пока их более или менее злобно высмеивают или ругают бюргеры, гордые своим превосходством над этими сумасшедшими. Уже из того, что они даже теперь, во время войны держатся в стороне от дешевого словесного патриотизма, предчувствуя задачи будущего, уже из одного этого можно видеть, что в них, неизвестных пока поэтах, проявляются и живут лучшие черты немецкого духа; можно лишь пожелать, чтобы и во Франции, и в России появилось больше такой молодежи. Мы не считаем нужным и плодотворным уже сейчас сочинять программы для будущей жизни, но мы, несомненно, верим и знаем, что лишь позитивная, серьезная воля людей духа, не имевшая возможности проявить себя до сих пор, способна породить достойные и плодотворные взаимоотношения между взбудораженными народами. Пусть армиям сейчас, на поле брани, плевать на литературу, стихи и всякие мысли о человечности - они на это имеют право. Но мы, сидящие дома, этого права не имеем, как не имеем права действовать в духе ненависти. Достоин презрения тот, кто отвернется сегодня от своей родины, - но в конце концов должно стать ясно, что можно всей душой любить свою родину, не отказываясь от идеи вечного сотрудничества человеческого разума и воли всех народов. Никто не верит в вечность политических союзов - как же можно верить в вечность национальной вражды?!
Желающий познакомиться с мыслями лучших представителей немецкой молодежи не может пройти мимо ее литературы. Поэтому интересующимся ею следует указать на «Белые листки». Я здесь сознательно подчеркнул их актуальность. Однако не следует думать, что это в них главное и что молодежь занята лишь эстетической игрой в великие идеи. Характерно лишь, что именно в отряде самой свежей, самой бурной литературной молодежи звучат голоса умеренности и заботы о будущем. Таким образом, эти молодые поэты делают свое дело еще до того, как стихи их достигли полной зрелости и нашли путь к народу. Уже то, что столь серьезный, далекий от популярности литературный ежемесячник, ставящий чисто духовные цели, возобновляет свой выход сейчас, в самый разгар войны, вызывает во мне доверие.
Для кого- то из читателей это доверие будет поколеблено произведениями, которые он найдет в «Белых листках». Что-то покажется им здесь не совсем понятным, что-то -своевольным и дерзким, и доля истины в этом, пожалуй, будет. Здесь говорит юность, которой нет дела до хороших манер, ей надо выразить свои жизненные устремления, пусть даже иногда порывая с отцовским наследием, и, как повсюду, рядом с подлинным нам встретится и подражание. Однако среди подлинных, к которым относились Штадлер, Верфель[3], Штернхайм, Шикеле[4], Эренштайн[5] и другие, мы, преодолев первое замешательство перед нарушением многих формальных традиций, сможем найти отзвуки души в стихах и статьях, исполненных серьезности и энергии, проявления которой вовсе не обязательно во всех случаях одобрять, чтобы тем не менее полюбить и воздать должное стоящей за ней жизни восходящего поколения.
1915
Письмо обывателю
Город Ц., господину М., 1915
Вы будете удивлены, господин М., получив от меня письмо, и удивитесь еще более, узнав, что написать его меня побудило воспоминание о нашей последней встрече и нашей беседе; ведь Вы, я думаю, давным-давно забыли и эту встречу, и этот разговор. Со мной между тем случилось нечто противоположное, то есть поначалу я не придал никакого значения ни самому событию, ни прозвучавшим тогда словам, я сразу все забыл, господин М., в том числе и сказанное Вами, забыл, так сказать, уже в момент самого разговора и пошел дальше своей дорогой, не испытывая на сей счет никаких заметных чувств. Однако позднее, еще вечером того же дня, наш небольшой глупый разговор вспомнился мне вдруг снова; он застрял в мозгу этакой неприятной маленькой занозой, а там стал напоминать о себе все чаще и чаще, все тревожней, все неприятнее. С тех пор прошло несколько месяцев, почти целый год, и не меньше двух-трех раз в каждый из этих месяцев я поневоле думал о Вас, господин М., и перебирал в памяти тот разговор, и продолжал с Вами долгий мысленный спор, спор, которого Вы скорей всего не заслуживаете и который пересказывать Вам не стану.
Однако начнем с самого начала, ведь Вы-то наверняка давно обо всем забыли! Итак, это было месяцев десять-одиннадцать назад; я прибыл в Ваш город около полудня, в руках у меня был желтый портфель и зонт, и мы встретились с Вами у трамвайной остановки на той стороне тоннеля. Мне надо было ехать в пригород, где жил мой друг, Вы же, наверное, возвращались после своих неведомых мне финансовых дел пообедать к себе домой, ибо, как мог я убедиться тогда, у Вас был там, в прекраснейшей местности за городской чертой, роскошный дом с большим садом.
Я поздоровался с Вами, поскольку вспомнил, что несколько раз видел Вас прежде. Я встречал Вас время от времени на литературных чтениях, на концертах и тому подобных мероприятиях. Вы, если не ошибаюсь, входили также в какую-то комиссию по литературе или искусству. Во всяком случае, нам уже не раз случалось друг с другом беседовать. Вы проявляли некоторый интерес ко мне, на меня же произвели впечатление человека приятного, светского, достаточно образованного, чтобы иметь представление об искусстве, но все-таки слишком в большой степени дельца, человека, слишком занятого деньгами, то есть ничем, чтобы быть свободным и дышать тем воздухом, в котором только и может естественно расцветать прекрасное. Мне казалось, Вы были не чужды прекрасному, но Вы знали его, лишь как знают рабыню, которую ценят и втайне предпочитают. Иногда - так мне казалось - Вы ощущали тоску по какой-то более просветленной жизни, по голосам из мира, где нет ни денег, ни финансовых дел. Потому ведь и заседали Вы в комиссиях по искусству и посещали литературные вечера, а в комнатах Вашего прекрасного дома наверняка имелось несколько хороших картин.
Итак, я приветствовал Вас дружелюбно, с той невинной радостью, какую испытываешь, повстречав человека, о котором у тебя существуют лишь легкие, добродушные, приятные, необязательные воспоминания. Вы в том же тоне ответили мне, в улыбке Вашей была и небольшая радость узнавания, и небольшой оттенок покровительственности, которую проявляют едва ли не все богатые или влиятельные люди по отношению к художникам и им подобным странным существам и которая меня отнюдь не отталкивает. Возможности для беседы у нас не было, мы сидели не рядом, и вагон трамвая в этот дневной час был переполнен.
Но затем Вы сошли на той же остановке, что и я, и направились по той же самой ведущей в гору боковой улице, так что нам еще пришлось подать друг другу руки и обменяться несколькими словами. Вы дружелюбно поинтересовались, что привело меня в Ц., и я ответил; я приехал сюда на одну музыкальную постановку, которой должен был дирижировать мой друг и о которой мы затем заговорили. С нами шел еще третий господин, которого Вы мне также представили, и, если я верно помню, именно этот третий перевел вяло текущий разговор (мы поднимались в гору и были все голодны) на ту тему, которая с тех пор столь часто меня занимала. Он завел речь о моей новой книге и поинтересовался, не выйдет ли она этой зимой, сопроводив все полушутливым замечанием о материальных выгодах литературной работы, о гонорарах и тиражах. Я с улыбкой постарался отпарировать, и это был единственный момент во всем разговоре, который запомнился мне совершенно точно.
Дело в том, что Вы вдруг оживились, и голос Ваш стал громким и немного язвительным, когда Вы, взглянув на меня с насмешливой улыбкой, воскликнули: «А что, вы, художники и поэты, тоже ничуть не отличаетесь от остальных! Вы думаете лишь о деньгах да о заработке, ни о чем больше!»
Так было дело. Я ничего не ответил, и, хотя странно агрессивная невежливость Ваших глупых слов в первый миг меня удивила, долго я на них не задерживался. При всем том они неприятно меня задели, и я был рад, что Вы уже добрались до своего дома. Я приподнял шляпу, пожелал Вам всего доброго, но, испытывая все же неприятный осадок, уже не подал Вам руки, почти тут же расстался и со вторым своим спутником и небольшой остаток пути проделал один.
А там свидание с моим другом, его женой и детьми, обед, разговоры и музыка заставили меня совершенно забыть встречу с Вами, но вечером она вдруг опять вспомнилась. Я испытывал чувство неудовольствия и беспокойства, даже нечто вроде мерзкого чувства, будто я чем-то испачкался, не давало покоя смутное ощущение, будто меня сегодня оскорбили, будто я был свидетелем чего-то недостойного и сам при этом вел себя недостойно. И вдруг мне стало ясно, что связано это с Вашими словами, господин М., Вашими глупыми и грубыми словами обо мне и вообще о художниках.
Причем я скоро заметил, что мучило меня не мелкое оскорбление, которое в Ваших словах можно было бы отнести к себе, а чувство раскаяния, нечистой совести. Я слышал, как человек, к которому я привык относиться достаточно уважительно и всерьез, высказался грубо и гадко обо всех художниках, а я при том промолчал. Я упустил момент, когда в душу этого человека все же могло бы проникнуть серьезное слово, которое пусть на миг, но, может, смутило бы этого господина М. и заставило бы его внутренне устыдиться или даже склониться перед миром, в котором он увидел бы больше чистоты, нежели в собственном.
С тех пор, как уже было сказано, я не раз перебирал эти слова в памяти. И все более получалось так, что досада на Вашу персону, господин М., отступала на задний план, а куда важней оказывалась досада на самого себя. Нетрудно было раз и навсегда решить, что я с Вами просто больше не стану знаться и подавать Вам руки, но это была мелочь. Моей ошибки это не могло исправить, моей терпимости это не извиняло. Я вспомнил: точно такое же чувство недовольства собой, досады и стыда, как от мысли, что я молча принял Ваши дурацкие слова, я уже испытал однажды два-три года назад. Мне вспомнилась история, которую я, казалось, совсем забыл, но теперь, вместе с Вашей она меня какое-то время стала буквально мучить.
Вот что это была за история. Как-то, путешествуя по морю, я, покуда наше судно в порту загружалось углем, сошел на берег вместе с еще одним господином. Он уже бывал в этом экзотическом портовом городе и, взяв на себя роль проводника, сумел за два-три часа показать мне там все, что можно было найти по части кафешантанов, танцулек, увеселительных ресторанов и тому подобных развлекательных заведений. Я же, едва оказавшись в первом из них, испытал сильнейшее отвращение, мне казалось в высшей степени неприятным, отвратительным и недостойным не только это несимпатичное мне место, но и сам этот господин, его подмигивания и смешки, я шел с ним рядом раздраженный, озлобленный и просто не находил в себе мужества отделаться от своего спутника, вслух или молча выразить ему свое неодобрение и пойти прочь. Нет, этого просто не получилось; его жирная, веселая, наивно грубая натура взяла верх над моей, более слабой, я следовал за ним, как за своим палачом, и сколь жестоко ни досадовал на него и на самого себя, но речи его выслушивал молча.
Да, так было дело. Оскорбляло меня не то, что в мире есть мерзость и свинство; на это я мог не обращать внимания, над этим я мог посмеяться. Но то, что эту сторону мира, которую я презираю и отвергаю, я однажды принял спокойно к сведению, так что могло показаться, будто я одобряю и эти вещи, и своего провожатого, который их искал и любил, - вот что осталось сидеть во мне занозой. И к этой-то занозе добавилась другая - небольшое происшествие с Вами, господин М.
Я пишу Вам это не для того, чтобы хоть как-то задним числом оправдать себя, совсем напротив. Я пишу это вообще не для Вас, а для себя, и пишу для того, чтобы признать свою вину. В тот раз я не имел права без протеста выслушивать Ваши некрасивые слова о художниках. Ведь, может, у Вас на уме было совсем другое! Быть может, Вы, богатый финансист, в душе изголодавшийся по искусству, хотели, собственно, лишь поддразнить меня, лишь услышать мои оправдания, лишь спровоцировать меня на ответ, который подтвердил бы для Вашего усомнившегося сердца существование идеалов, наличие того самого более чистого мира. А мое молчание поколебало, загасило и в Вас эту тайную надежду, это тайное желание верить, и чем дольше я, расстроенный, шел с Вами молча, тем глубже позволял Вашей колеблющейся душе погрузиться в неверие, в тот глупый, дешевый скепсис, который более опасен и враждебен искусству, жизни духовной, чем любой грех.
Если почти год спустя я делаю Вам такое признание, то вовсе не для того, чтобы исправить невольно причиненное Вам. У меня больше нет потребности говорить с Вами и подавать Вам руку. Ах, как было бы легко возразить на Вашу тогдашнюю глупость, безо всяких сантиментов, одними фактами, цифрами и расчетами! Но и это теперь ни к чему. Не Вас обвиняю я, тем более что уже и не придаю Вам особого значения, а себя самого я считаю повинным в том, что своим молчанием, а может, даже и слишком двусмысленной улыбкой мог пробудить впечатление, будто я с Вами согласен и разделяю Ваше мнение, которое на самом деле я глубоко отвергаю и ненавижу.
Можете думать обо мне что угодно! Можете думать, что я тогда был с Вами и вправду согласен! Можете, если угодно, думать, что я всегда так считал и до сих пор считаю! Относите меня к тем художникам, которых связывает с искусством лишь случай да ремесло... Мне все равно, я легко обойдусь и без Вашего уважения. Но ведь сейчас, господин М., Вы, богатый человек, Вы, в своем доме, в своем красивом саду, больше уже не полагаете, что можно безнаказанно совершать подобные маленькие убийства, как Вы сделали это тогда своими словами! Я знаю, Вы уже давно чувствуете, что наказаны, я знаю, это наказание становится все больше, все чувствительней, оно все сильней и сильней отравляет Вам жизнь. И покуда Вы не попытаетесь восстановить в душе своей веру, покуда Вы заново и всерьез не обдумаете мысль о том, существует ли добро, до тех пор Ваша душа будет болеть и страдать. У Вас всегда будет все, что можно купить за деньги, но Вы будете обречены видеть, что именно самого лучшего, самого желанного нигде и никогда за деньги купить невозможно! Лучшее, прекраснейшее, желаннейшее в мире можно оплатить лишь собственной душой, его нельзя купить, как никогда нельзя купить любви, а тот, чья душа нечиста, неспособна к добру, неспособна по крайней мере верить в добро - для того и самое лучшее, самое благородное уже лишено чистоты, более того, он обречен навеки довольствоваться уменьшенным, испорченным, омраченным образом мира, который создала его собственная мысль себе же на муку и на убожество.
1915
Альфреду Шлейхеру
Март- апрель 1915
Мой дорогой Фреди,
[...] Люди, которые трезво смотрят на войну, все чаще и чаще говорят теперь о будущем Европы, а не только о будущем Германии, как раньше. Мне это очень по душе, но и в объединенной Европе я вижу лишь подготовительную ступень истории человечества. Миром станет править европейский дух, с его методическим мышлением, однако со временем нам понадобятся культура души и глубокие религиозные ценности, а они лучше развиты у русских и азиатов. Национализм не может быть идеалом - это особенно ясно теперь, когда нравственные устои, внутренняя дисциплина и разум духовных вождей с той и другой стороны проявили полнейшую несостоятельность. Я считаю себя патриотом, но прежде всего я человек, и, когда одно не совпадает с другим, я всегда встаю на сторону человека. Гете сказал Эккерману[1]: «На самой низкой ступени культуры Вы найдете самую сильную и ожесточенную национальную рознь. Чем ниже ступень культуры, тем сильнее и ожесточеннее национальная ненависть».
Впрочем, в последнее время раздаются и многие добрые голоса, разумные и ясные, и даже иные фронтовики начинают понимать, что противостоят друг другу не враждующие народы, а братья, которые сегодня повздорили из-за недоразумений и ошибок, а завтра снова помирятся. Сочинителям ругательных статеек и песен ненависти, направленных против Англии, России и т. д., скоро станет очень стыдно. В общем, все те, кто в этой войне столь неожиданно «перевоспитался» и стал провозглашать нечто прямо противоположное своим прежним убеждениям, скоро с такой же поспешностью объявят о новом повороте в мыслях и полностью разоблачат себя как пошлые фразеры.
Право же, я питаю глубокое уважение к силе и сплоченности, которые отличают сегодняшнюю Германию, но я слишком ее люблю - и поэтому ненавижу немецкий ура-патриотизм. Чем настойчивее выискиваем мы изъяны у англичан, русских и т. д., чем меньше задумываемся о себе, о том, чтобы избавиться от собственных застарелых ошибок, тем хуже для нас.
Я кое- чего ожидаю от ближайшего будущего. «Гражданский мир»[2], который я тоже готов считать священным, не станет, не должен стать препятствием на пути свободы. В Германии много истинных патриотов, которым давно осточертел поток фразеологии, лучшие из них пока еще на фронте, но, возвратясь на родину, они помогут навести порядок. Это пойдет на пользу делу. Насколько храбро воевали наши солдаты, настолько трусливыми оказались наши литераторы и многие ученые, изо всех сил подпевавшие филистерам, хотя раньше, когда для этого не требовалось никакого мужества, они охотно выдавали себя за великих трубадуров либерализма.
Я думаю, однако, что все образуется и повернется к лучшему, хотя не сразу и не везде. Реакция не замедлит поднять голову, но в целом, мне кажется, победят прогресс и обновленное чувство ответственности. Именно молодые в литературе поразительно единодушны в борьбе за новое. А это добрый знак. Если тебе попадется на глаза номер «Форума»[3] или «Белых листков», ты найдешь подтверждение моим словам.
Я бы с удовольствием приехал к тебе, во-первых, чтобы показать свои давно не леченные зубы и, во-вторых, чтобы посмотреть, что у вас произошло и как вы живете. Но мне теперь нельзя отлучаться, поездка за границу - дело хлопотное и дорогое, я должен сперва выяснить, буду ли я призван на военную службу.
Жду от тебя вестей!
Ромену Роллану
Берн, 28 февраля 1915
Глубокочтимый господин Роллан,
пришло Ваше милое письмо и очень меня порадовало. Отвечаю по-немецки; хотя по-французски я понимаю и читаю, но писать не могу.
Не знаю, известно ли Вам, что в Швейцарии создается интернациональный журнал[1] - нейтральная трибуна для обмена мыслями в поисках взаимопонимания между людьми духа воюющих народов. Немецкие сотрудники есть, но нет французских. Мне предложили редактировать этот журнал, и была выражена надежда, что и Вас удастся привлечь к сотрудничеству. Я смирный лирик, которому для таких дел недостает активности. Сейчас подготовкой журнала заняты один немецкий швейцарец[2] и один женевец. Сообщаю Вам об этом на всякий случай. Женевским издателем выступает господин Г. де Рейнольд[3].
У меня нет личных связей с журналом «Белые листки», но я поставил издателя в известность о Вашем желании с ним познакомиться. Там работает много дерзкой молодежи, но немало и благородных, надежных молодых людей.
Вы знаете, как я сожалею о безрассудной ненависти, которая разделяет сегодня мыслящих людей в наднациональных вопросах. И все же я твердо верю, что осознание необходимости Вашего «union de l'esprit europeen» [«Союза европейского духа» (фр.)] скоро начнет стремительно набирать силу. Однако пока я воздерживаюсь от каких бы то ни было высказываний, имеющих отношение к политике; в теперешние времена из каждого доброжелательного призыва, словно по злому волшебству, получается нечто враждебное. Ненависти еще много, но она скоро уляжется.
Я с удовольствием узнал, что Вам известны мои книги. Вы, следовательно, можете представить, как дороги мне Ваши, особенно история детства Жана Кристофа.
С сердечным приветом и уважением Ваш
Стефану Цвейгу
Берн, 20 ноября 1915
Дорогой господин Цвейг,
одно из моих самых сокровенных желаний сегодня - ответить на Ваше милое, доброе письмо не на пишущей машинке, а без спешки, в прекрасные часы досуга. К сожалению, это невозможно. Я только что вернулся из Германии, около шестидесяти писем по делам военнопленных ждут, когда я на них отвечу: в связи с этим мне придется почти ежедневно заседать и делать много другой работы. А тут еще эта ужасная газетная история. Сейчас она вроде улеглась, остальное возьмет на себя адвокат. Мне она доставила много неприятностей, но в конечном счете, я полагаю, пошла все же на пользу. Истинные друзья стали мне еще ближе, а от остальных я и сам рад отделаться. Да и мое отношение к актуальным вопросам - в той мере, в какой они касаются художника, - выражено теперь яснее. Полагаю, что моя позиция Вам известна. Она почти ничем не отличается от позиции Роллана, разве что я все же работаю непосредственно в интересах немцев, в том числе и как журналист. Но меня нет и не будет среди тех, кто разжигает ненависть и развязывает травлю; в отличие от большинства крикунов я надеюсь увидеть в будущем иную Германию, иные приметы немецкой нации.
В своем милом письме Вы о многом говорите и на многое намекаете, так что я вижу, насколько хорошо Вы меня знаете. Ваше чувство Вас ни разу не подвело. Заминка в моем творчестве, давно преодоленная, связана, по сути, с тем, что в ту пору, после первых успехов, дела мои пошли чересчур гладко. Теперь же все в корне изменилось, мне пришлось много раз испить из чаши страдании, и я, не говоря уже о душевных муках, так много перенес, что давно погиб бы, не найди я в себе самом точки опоры, которая смягчает мою зависимость от внешнего мира. Во время войны я пережил и осознал это в полной мере.
Я рад, что Вам понравился именно «Кнульп»[1]! Наряду с «Росхальде»[2] и несколькими стихотворениями это самое дорогое из того, что я сочинил.
Визит Роллана этим летом стал для меня прекрасным, добрым событием. Беседа была сильно затруднена моей неспособностью выражать свои мысли по-французски, но мы все же быстро нашли общий язык, и из строк письма я вижу, что Роллан меня любит и ясно чувствует самое сокровенное во мне. Это замечательный человек большой чистоты, и мне дорого и утешительно знать, что он мой соратник по духу.
Вы ни слова не пишете о своей службе. Сообщите мне об этом, когда будет время и желание. Меня уже второй раз освободили от воинской повинности (до конца декабря), по предложению здешней дипломатической миссии я работаю как доверенное лицо и посредник между германским Красным Крестом и местными нейтральными организациями по оказанию помощи пострадавшим от войны. В первую очередь я занят библиотеками для военнопленных. Если Вам попадется состоятельный человек, готовый внести пожертвование в наше дело, или великодушный издатель, который пришлет нам книги, то я буду Вам благодарен. Но пусть это ни в коей мере Вас не обременяет. Люди в Германии, отвечающие за подбор книг для военнопленных, отдают предпочтение всякого рода литературным трактатикам, так что мне по собственной инициативе и из собственных средств приходится их дополнять и поправлять. [...]
Довольствуйтесь пока этим приветом, придет время и для спокойной беседы.
Сердечное спасибо за то, что не забываете меня!
Прибежище
С давних пор одна заветная мечта сопутствовала моей жизни. И даже не сопутствовала, она пустила во мне корни, она питалась моими соками, как иногда «сопутствуют» нам друзья и родственники, которых надо любить и почитать, так что наш дом становится их домом и наша сила - их силой.
Со стороны эта мечта могла показаться прекрасной и не такой уж нескромной. Суть ее можно было определить одним словом: прибежище. В разные времена прибежище это рисовалось по-разному. То это был домишко на Фирвальштедтском озере, с весельной лодкой у берега. То хижина дровосека в Альпах, с деревянной лежанкой для сна, в четырех часах ходьбы до ближайшего жилого дома. Иногда это была пещера или небольшое нагромождение камней в скалах Южного Тессина, близ светлой каштановой рощи, на уровне самого высокого виноградника, с окошком и дверью, но, может быть, и без них. Другой раз прибежищем оказывался билет, позволявший занять маленькую каюту на пароходе, где можно было в одиночестве совершить трехмесячное путешествие. Иногда же оно имело вид и того скромней - всего лишь какая-нибудь дыра в земле, маленькая могила, худо-бедно выкопанная, с цветами наверху, с гробом или без гроба.
Но смысл и суть его оставались всегда неизменны. Будь то домик в деревне или каюта на пароходе, хижина в горах или сад в Тоскане, пещера в Тессинских горах или дыра в кладбищенской земле - смысл был все тот же: прибежище! Девизом этой мечты всегда оставался для меня стих швабского пастора[1], того самого милого болезненного чудака, что, уединясь от мира в деревне и ни о чем не заботясь, писал:
О мир, оставь, оставь меня в покое!
Мне это казалось пределом желаний: найти бы только где-нибудь такую нору, такое прибежище, такой тайник, надежный и тихий, еще бы с лесом или видом на море - и ничего больше не надо, во всяком случае, никаких людей, приносящих заботы и крадущих мысли, никаких писем, никаких телеграмм, никаких газет, никаких тебе коммивояжеров от культуры. Пусть будет там ручей или водопад, пусть тихо горит там свет солнца на бурых соснах, пусть порхают мотыльки или пасутся козы, откладывают яйца ящерки или гнездятся чайки неважно, главное сохранить свой душевный покой, свое уединение, свой сон и свою мечту. Никто не вправе был войти в это прибежище, если я его не позвал, никто не должен был даже знать о нем, никто не мог ничего от меня хотеть, ни к чему меня принуждать. Я не значился бы там ни в одной адресной книге, ни в одном налоговом списке.
Да, прелестна была моя мечта, мое видение, она звучала скромно и сладостно, она могла ссылаться на образцы, на знаменитых поэтов. И разве я не имел на нее права? Разве для человека, который не искал власти, старался по возможности выполнять все, что от него требовал мир, был просто поэтом и тихим бюргером, - разве могла для меня существовать мечта более естественная и понятная, нежели мечта о своем пристанище, о местечке на юге, об уголке среди гор, о пещере, об укрытии, о норе, яме? Пусть загородный домишко или каюта на пароходе - претензия чрезмерная, но о соломенной лежанке в хижине, о небольшой могильной яме без имени этого уж не скажешь никак.
Многие часы и многие годы лелеял я свою мечту, я возвращался к ней в часы прогулок и во время работы в саду, засыпая и пробуждаясь, в вагоне поезда и бессонными ночами. Я выстраивал ее, я разрисовывал ее и расцвечивал, я разыгрывал ее, как музыку, все более нежную, прелестную, восхитительную, я дописывал ее на лесных тенях, угадывал в меканье коз, я вплетал в нее нити своей тоски и вливал в нее свою любовь. Я нежно освещал мою милую, я, как мать, гладил ее, я ласкал ее, как возлюбленный. Если вспомнить, то, право, не много нашлось бы вещей на земле, а может, не нашлось бы и вовсе, во что я вложил столько любви, столько заботы, столько тепла своей крови, столько силы и страсти.
И как же порой светила она мне, как волновала и утешала, как проникновенно, сердечно звучала, как пылала розовым светом, возлюбленная мечта моя! Какими она была пронизана нежнейшими золотыми нитями, какие проникновенные тающие краски украшали ее продуманный тысячекратно узор!
Шли годы, и порой, случалось, иные голоса захватывали меня, вдруг долетали до меня призывы, касались меня прозрения, которые наносили мечте ущерб, они оставляли мелкие трещины на ее драгоценной разноцветной поверхности, расстраивали в ней какую-то струну, увядший листок вдруг становился заметен в ее кроне. Я поскорей старался заделать трещины, добавить новой любви, клял себя за то, что позволил мечту замутить, добавлял в нее свежей питательной крови! И вот она уже вновь была нетронута и прекрасна. Скажу сразу, она и поныне способна после всех утрат воспрянуть и заблистать, как прежде.
Но все чаще подступали ко мне мысли, несовместимые с этим видением. Слово в беседе с друзьями, фраза в книге, стих в Библии, строка у Гете поневоле завладевали мной, одиночество, уход друзей, утрата радостей говорили со мной на грубом своем языке, боль стала вить во мне свои гнезда. Все это были лишь возгласы, лишь предостережения, на каждое в отдельности можно было и не обращать внимания, но все вместе они вновь и вновь растравляли одну и ту же рану. И все было против моей мечты. Шекспир над ней издевался, Кант опровергал ее, Будда ее отрицал. Лишь боль то и дело возвращала меня к ней. Может быть, она утихла бы и исчезла, если бы мне все-таки удалось обрести вдруг свое убежище? Может быть, там, в пещере у ручья, на лоне природы, вдали от шума, вдали от суеты, я вновь узнаю, что такое сон и чувство голода, улыбка и открытый взгляд, свободное дыхание и жажда деятельности?
Но и боль становилась сильней, продолжительней, она была против моей мечты; в иные минуты я уже видел: грош ей цена. «Прибежище» не исцелит меня, боль не отпустит ни в лесу, ни в хижине, я нигде не обрету единения с миром и мира с самим собой.
Все это совершалось медленно, тесные витки спирали повторялись, и сотни раз желанное видение возвращалось, ручей отрадно бежал по золотистой гальке, и озеро баюкало задушевные цветные сны. Но и предостережения звучали все явственней, а главное, все сильней становилась боль, и часто Иов представлялся мне братом[2].
И вот однажды в мой ум постучало новое понимание, оно было еще хуже прежнего, еще отчетливей, враждебней, грозней. Вот что дошло до меня: «Твоя заветная мечта была не просто ложной, она была не просто ошибкой, не просто милым ребячеством и мыльным пузырем. Она сожрала тебя, она высосала твою кровь, она украла у тебя жизнь. Уделил ли ты когда-нибудь хоть половину такой же любви, как ей, другу, женщине, ребенку, столько заботы, столько тепла, столько дней, ночей, часов вдохновения? Не страшно ли тебе теперь? Не видишь ли ты теперь, кого ты вскормил, кого носишь у своего сердца? А кому обязан ты своей усталостью и своей болью, своим старением, своей слабостью? Ей, ей, все ей, твоей мечте, ей, змее, ей, кровопийце!»
Это понимание тоже победило не сразу, и, хоть оно сидит во мне глубоко, ему и сейчас ведомы и сомнения, и поражения. Но оно сохранилось.
И пришел еще один день - и поразил мою мечту в самое сердце.
Она подверглась последнему испытанию - ей дано было осуществиться. Нашлось прибежище, домик, маленький, тихий, отдаленный, прекрасный, высоко в горах над южным озером, прибежище, укрытие, гнездо покоя, колыбель сновидений. Его можно было получить, оно было мне предложено.
Вот тут- то мечта и попалась. Попалась на всей своей лживости. Она попросту испугалась, когда ей дано было осуществиться. Ей не хотелось осуществления, она струсила, она искала предлогов, она прибегала к отговоркам, она возражала, она отшатывалась в ужасе.
Ах, иначе и быть не могло! Она так долго обманывала, так долго сулила, слишком много сулила. Она все получала и получала, теперь ей вдруг пришлось отдавать. А отдавать оказалось нечего. Ей захотелось ускользнуть, как мошеннику, который назвал ложный адрес, и вот его привели туда, где никто его не думает узнавать, где ему надо замолкнуть, где он разоблачен.
Это был смертельный удар.
Но вампиры способны перенести и смертельные удары, они вдруг оживают опять, они снова тут, они хотят снова жрать, снова питаться живой кровью. И эта мечта еще жива, у нее есть свои лазейки, свои уловки. Только теперь я знаю, что она мой враг.
Я знаю это с того самого дня, как ко мне пришло последнее понимание.
Как и всякое понимание, оно явилось в облике хорошо знакомом, я его уже не раз встречал. Это было изречение, случайно прочитанное мною в одной книге, старая фраза, которую я давным-давно знал и помнил наизусть. Но теперь оно звучало по-новому, оно звучало во мне.
Царство божие внутри нас[3].
Я опять получил что-то, чему могу следовать, чем руководствуюсь, чему отдаю свою кровь. Это не желание и не мечта, это - цель.
Цель эта - снова прибежище. Но не пещера и не корабль. Я ищу и жажду прибежища внутри самого себя, ищу пространства или точки, куда не достигает мир, где я один дома, оно надежней гор и пещер, надежней и укромней, чем гроб и могильная яма. Вот моя цель. Туда ничто не может проникнуть, ибо это слито со мной.
Пусть там могут быть бури и боль, пусть может там литься кровь.
Я еще далек от этой цели, я пока лишь в самом начале пути, но теперь это именно мой путь. А уже не просто мечта.
О глубокое прибежище! Ты недоступно никаким бурям, тебя не опалит огонь, тебя не разрушит никакая война. Маленькая каморка в глубине собственного существа, маленький гроб, маленькая колыбель, к тебе устремляюсь я.
1917
Государственному министру
Сегодня вечером после дня напряженной работы я попросил жену сыграть мне сонату Бетховена. Звуки этой музыки, ангельские голоса вновь позвали меня от дел и забот вернуться в подлинный мир, в мир той единственной реальности, что нам дана, что несет нам муки и радости, реальности, в которой и ради которой мы все живем.
Потом я прочел несколько строк в той книге, где есть Нагорная проповедь и где звучат возвышенные, древние, насущнейшие для нас слова: «Не убий!»
Но не было почему-то покоя, я не мог ни отойти ко сну, ни читать дальше. Тревога и страх полнили меня, я пытался понять, выяснить, в чем тут причина, и вдруг вспомнил несколько фраз из Вашей, господин министр, речи, которую на этих днях прочел.
Речь Ваша была благопристойна, но ничего особенно нового, важного или способного будоражить мысль она не содержала. Если выделить ее суть, в ней говорилось примерно то же, что давно уже, как правило, говорят все правительственные деятели: что хотя вообще-то нет для них ничего более вожделенного, нежели мир, нежели новое единство и плодотворная деятельность во имя будущего народов, что хотя ни у кого нет желания наживаться или удовлетворять страсть к убийству - тем не менее не наступил еще «миг для переговоров», а посему пока надо храбро сражаться дальше. Пожалуй, каждый министр каждой воюющей страны мог бы произнести такую речь и, наверное, произнесет ее - не завтра, так послезавтра.
И если речь эта не дает мне все же сегодня спать, хотя подобные речи со столь же печальными выводами я читаю уже не впервые, виной тому, теперь мне это совершенно ясно, соната Бетховена, она да еще та старая книга, что я читал потом, в которой звучат удивительные заповеди синайские и светлые слова Спасителя.
Музыка Бетховена и слова Библии говорили мне об одном и том же, это были воды из одного источника - из того единственного источника, откуда приходит к человеку добро. И я вдруг почувствовал, что речь Ваша, господин министр, как и речи правящих Ваших коллег, сплошь и рядом берут начало не из этого источника, что в них не хватает чего-то, придающего значение и цену людским словам. В них не хватает любви, в них не хватает человечности.
В Вашей речи звучит чувство заботы и ответственности за свой народ, за армию своего народа, за честь своего народа. Но в ней не звучит чувство общечеловеческое. И она, коротко говоря, означает десятки тысяч новых человеческих жертв.
Наверно, Вы назовете сентиментальностью мое воспоминание о Бетховене. Слова Иисуса и Библии Вы помянете скорей уже с некоторым почтением, во всяком случае, публично. Но если Вы действительно верите хотя бы в один из тех идеалов, во имя которых ведете войну, будь то свобода стран или морских путей, будь то политический прогресс или права малых народов, - если Вы действительно в глубине своей души верите хотя бы в один из этих идеалов, в одну-единственную из этих неэгоистических мыслей, то, перечитав свою речь, Вы не сможете не увидеть, что она этому идеалу не служит, что она не служит вообще никакому идеалу. Она не есть выражение или плод какой-либо веры, какого-либо чувства, какой-либо человеческой необходимости, но лишь выражение и плод замешательства. Замешательства, конечно, понятного, ибо нет ничего более трудного, чем сегодня, сейчас признать известное разочарование результатами войны и искать ближайший путь к миру.
Между тем замешательство, охвати оно даже десяток правительств, не может быть состоянием бесконечным. Сильней замешательства оказывается необходимость. И когда-нибудь, рано или поздно, Вы и Ваши коллеги-враги почувствуете, что необходимо и неизбежно это замешательство осознать и найти решение, чтобы покончить с ним.
Ибо все участники этой войны сегодня, да, впрочем, уже и давно, разочарованы ее результатами. Где бы там ни одерживались победы, сколько бы ни брали или ни теряли пленных, какие бы территории ни захватывали и ни уступали - результат войны все равно не тот, какого от нее ожидали. Решения, выхода, ясности нет и не предвидится.
Чтобы как-то на время скрыть от себя самих и от своего народа это состояние великого замешательства, чтобы до поры до времени отложить большие и важные решения (всегда требующие жертв), Вы и произнесли свою речь - для этого произносят их и другие правительственные деятели. Это понятно. Уяснить человеческую сущность происходящего и сделать из этого выводы проще революционеру или писателю, чем ответственному государственному лицу. Людям нашего типа это легче, поскольку мы не отягощены личной ответственностью за ту чудовищную депрессию, которая охватит народ, когда он увидит, что цель войны не достигнута и что, может быть, сотни тысяч человеческих жизней, не говоря о миллиардных «ценностях», принесены в жертву напрасно.
Но не только поэтому Вам трудней осознать замешательство и начать поиск решения, чтобы окончить войну. Вам труднее это и потому, что Вы слишком мало слушаете музыку, слишком мало читаете Библию и великих писателей.
Вы усмехнетесь таким словам. Возможно, Вы даже скажете, что как лицо частное испытываете душевную склонность к Бетховену, ко всему прекрасному и благородному, и это действительно так. Но мне бы очень хотелось, чтоб именно в эти дни Вы как-нибудь случайно услышали благородную музыку и вдруг вняли вновь голосам, исходящим из этого святого источника! Мне бы очень хотелось, чтобы в один из этих дней Вы как-нибудь в минуту покоя прочли бы притчу Иисуса, стихотворение Гете, изречение Лао-цзы.
Миг, когда бы Вы это сделали, мог бы оказаться бесконечно важным для мира. Возможно, он принес бы Вам внутреннее освобождение. Возможно, Ваше зрение и Ваш слух внезапно открылись бы. Ведь уже не первый год, господин министр, Ваше зрение и Ваш слух обращены лишь к целям теоретическим, но не к действительности, Вы давно привыкли - это было даже необходимо! - не воспринимать, не видеть, отстранять от себя массу подлинных реальностей. Знаете ли Вы, что я имею в виду? Да, Вы это знаете. Но быть может, голос великого поэта, голос Библии, вечно ясный голос человечности, которым говорит с нами искусство, поможет Вам на миг стать действительно видящим и слышащим. Ах, что бы Вы тогда увидели и услышали! Вы услышали бы не про нехватку рабочих рук и не про цены на уголь, не про тоннаж, не про союзы, не про займы, мобилизации и тому подобные вещи, которые давно стали для Вас единственной реальностью. Вы увидели бы землю, нашу старую терпеливую землю, усеянную телами мертвых и умирающих, землю растерзанную и разрушенную, испепеленную и оскверненную. Вы увидели бы солдат, лежащих между линиями окопов целыми днями, неспособных даже согнать простреленными руками мух со своих ран, от которых они погибают. Вы услышали бы голоса раненых, крики обезумевших, стоны и проклятия матерей и отцов, невест и сестер, вопли голода, от которого страдает народ.
И если бы Вы только вновь смогли услышать то, что усердно не позволяли себе слышать месяцами, годами, может быть, тогда Вы заново переосмыслили бы цели войны, свои идеалы, теории, переоценили бы их и попробовали бы понять истинную их цену в сравнении с бедствиями одного-единственного месяца, одного-единственного дня войны.
Если бы только это когда-нибудь сбылось, если бы мог состояться этот час музыки, этот возврат к подлинной действительности! Я знаю, голоса человечества коснулись бы Вашего слуха, я знаю, Вам захотелось бы уединиться и зарыдать. А на другой день Вы пошли бы исполнять свой долг перед человечеством. Вы не посчитались бы с несколькими миллионами или даже миллиардами затрат, с ничтожными соображениями незначительной утраты престижа, с тысячью других вещей (всех тех вещей, за которые Вы теперь на самом деле только и боретесь); Вы, если надо, поступились бы вдобавок своим министерским креслом, зато начали бы делать то, чего ждет и о чем молит Вас в несказанных своих муках и бедствиях человечество, - Вы первым среди правительственных деятелей прокляли бы эту злосчастную войну, первым среди облеченных ответственностью выговорили бы то, что втайне уже чувствуют все: что полгода или один месяц войны стоят дороже всей возможной выгоды от нее.
Мы тогда вовек не забыли бы Вашего имени, господин министр, и человечество оценило бы Ваше деяние выше, нежели дела всех, кто когда-либо вел и выигрывал войны.
1917
Наступит ли мир?
Совсем недавно Ллойд Джордж[1] и Вильсон[2] заявили о своей непоколебимой воле продолжать войну. В итальянской палате с социалистом Мергари, произнесшим несколько естественных, человеческих слов, обошлись, как с помешанным. И телеграмма Вольфа[3], опровергающая слухи о новых мирных предложениях Германии, сформулирована жестко: «У Германии и ее союзников нет ни малейших причин повторять свое великодушное предложение мира».
Итак, все продолжается по-прежнему, и, как только где-нибудь в мире попробует высунуться мирная травинка, ее тотчас придавит военный сапог с каблуком, подбитым гвоздями!
Но одновременно читаешь, как в Брест-Литовске начались мирные переговоры, как, открывая их, господин Кюльман[4] напомнил о значении рождества и привел евангельские слова о мире на земле. Если он говорил это всерьез, если он хоть смутно, хоть намеком почувствовал смысл этих потрясающих слов, мир должен установиться. Увы, до сих пор за библейскими цитатами, произнесенными устами государственных деятелей, не следовало отрадных дел.
Уже несколько дней взгляды всего мира обращены к двум местам. Все чувствуют, что именно там решаются судьбы народов, с ними связано будущее, отсюда грозит рок. На Востоке, в Брест-Литовске, идут мирные переговоры, за которыми мир следит с крайним напряжением. Но одновременно все со страхом прислушиваются к германскому Западному Фронту, ибо каждый чувствует, каждый знает, что здесь, если прежде не случится чуда, предстоит ужаснейшее в человеческой истории: самая жестокая, самая лютая, самая кровавая, самая отвратительная схватка, какую когда-либо видел мир.
Каждый знает это, и каждого, если не считать нескольких отчаянных политических говорунов да тех, кто наживается на войне, это ввергает в трепет. Относительно исхода этого массового удушения мнения и надежды расходятся. Незначительное число людей в каждом из лагерей верит всерьез в окончательную победу. Но никто, если он не совсем утратил способность мыслить, не верит, что будут осуществлены те идеальные цели человечества, о которых столько твердят в своих речах все государственные деятели. Чем более масштабными, кровавыми, разрушительными окажутся эти последние битвы мировой войны, тем меньше смягчатся ненависть и соперничество, тем менее невозможной будет казаться идея достичь политических целей преступными средствами войны. Если даже и впрямь какая-то из сторон добьется победы (а только этой целью оправдывают предводители свои поджигательские речи), в выигрыше окажется то, что называют «милитаризмом» и что по справедливости ненавидят! Уму непостижимо, до чего бессмысленны и безумны все устремления участников войны, если, конечно, считать, что хоть слово о своих идеальных целях произносилось ими самими всерьез и от души. Уму непостижимо!
И ради этой путаницы безнадежно ложных выводов, ради этих противоречивых по внутренней сути планов и надежд вновь должно начаться смертоубийство необозримых масштабов? В то время как все народы, хоть немного изведавшие бедствия войны, затаив дыхание, с мольбой ожидают, чем кончатся мирные переговоры с русскими, в то время как весь мир от души благодарит и приветствует русских за то, что они первыми среди народов решили пресечь войну в корне и положить ей конец, в то время как полмира страдает от голода и всякая достойная человека деятельность замерла или идет вполсилы - в это самое время Франция готовит нечто, о чем как будто боятся говорить вслух, гигантскую бойню, которая должна решить исход войны, но не решит его, последний бессмысленный порыв героизма и терпения, последний ужасный триумф динамита и машин над человеческой жизнью и человеческим духом!
Перед лицом этого положения долг всех нас, единственный и святой долг всех людей доброй воли на земле - не вооружаться равнодушием, не предоставлять событиям развиваться, как им угодно, а сделать все возможное, чтобы им воспрепятствовать.
Но что делать? - восклицаете вы. Будь мы государственными деятелями или правителями, мы бы, конечно, сделали что могли, но у нас же нет никакой власти!
Этот удобный ответ может снять с человека всякую ответственность, покуда его совсем уж не припечет. Спросите у политиков и руководителей, ведь они точно так же качают головами и заявляют о своем бессилии. Так что если кто и мешает нам, то не они.
Мешают наша общая инертность и трусость, наше собственное упрямство и неразумие. Точно так же, как Соннино[5] не пожелал сказать этому храбрецу Мергари «что-нибудь способное обрадовать врага», точно так же, как упомянутая телеграмма Вольфа утверждает, что у Германии нет «ни малейших причин» предпринять еще раз какие-то чрезвычайные усилия ради мира, - точно так же поступаем мы все каждый день. Мы принимаем все происходящее таким, как оно есть, мы радуемся победам, сожалеем о потерях собственной стороны, мы молча одобряем и признаем войну как средство политики.
Ах, у каждого народа и каждой семьи, у каждого отдельного человека во всей Европе и далеко за ее пределами есть более чем достаточно «причин» прибегнуть к крайним и последним средствам ради мира, о котором мечтают все. Лишь ничтожно малая горстка людей на земле всерьез желает продолжения войны - они, впрочем, могут не сомневаться в нашем презрении и в нашей благороднейшей ненависти. Никому больше, никому, кроме крошечной кучки больных фанатиков или бессовестных преступников, война совсем не нужна, - и все-таки - непостижимо! - она длится и длится, и во всех лагерях браво продолжают вооружаться ради якобы последней великой бойни на Западе!
Это возможно лишь потому, что все мы слишком косны, слишком спокойны, слишком робки. Это возможно лишь потому, что где-то в глубине души мы тайно одобряем и терпим войну, ибо мы то и дело приносим в жертву все, что знает наш ум, наша душа, и во имя господне позволяем бессмысленной войне катить дальше. Так поступают правители, так поступают армии, так поступаем мы, зрители. Что войне, если всерьез захотеть, можно положить конец, знаем мы все. Мы знаем, что осуществить любое, даже самое смелое желание можно наперекор всему, если проникнешься чувством, что это необходимо. Изумленно, с сильно бьющимся сердцем наблюдали мы, как русские положили оружие и заявили о своем стремлении к миру. Не было народа, которого бы не захватило это чудесное зрелище, у которого оно не взволновало бы сердце и совесть! Но в следующий же миг оказались отброшены обязательства, налагаемые такими чувствами. Каждый политик в мире всей душой за революцию, за разум, за то, чтобы отложить оружие - но только у врага, не у себя! Если взяться всерьез, мы можем покончить с войной. Русские вновь дали нам урок древний, религиозный, святой, они показали, как уязвим даже самый могучий. Почему никто за ними не последовал? Почему парламенты и палаты всюду продолжают лишь болтать о повседневных мелочах, но нигде не поддержат этой великой, единственно насущной сейчас идеи? Почему за самоопределение наций высказываются лишь там, где это может быть выгодно? Почему еще верят лживым фразам официальных ораторов о каких-то идеалах? Давно было сказано, что каждый народ имеет правительство, какого он сам хочет и заслуживает. Что ж, тогда мы, европейцы, имеем именно то, чего хотим и заслуживаем, - кровавую, жестокую и свирепую власть войны.
Но мы же этого все не хотим! Мы же хотим противоположного! За исключением небольшого слоя дельцов, ни одна живая душа на земле не желает, чтобы длилось это постыдное и прискорбное состояние! Так пошевелимся же! Провозгласим нашу готовность к миру любым путем! Отвергнем ненужные провокации вроде этого вольфовского опровержения, выступим против заявлений таких людей, как Соннино. Пробил час, когда можно уже не стыдиться небольшого унижения, уступки, шевеления человеческих чувств! Сейчас, когда мы все по макушку измараны кровью, не время думать о мелком национальном тщеславии!
А государственному деятелю, который и сейчас желает проводить мировую политику, исходя из национально-эгоистических программ, который до сих пор не внял голосам человечества, лучше указать на дверь сегодня же, чем ждать, пока еще миллионы людей истекут кровью ради его глупости!
И давайте все вместе, великие и малые, воюющие и нейтральные, не закрывать глаза на страшное предостережение этого часа, когда готовится невообразимое! Мир - вот он! Он уже с нами - как мысль, как желание, как предложение, как тихо действующая сила, во всех лагерях, во всех сердцах. Если каждый отдельно окажется открытым для него, если каждый будет тверд в стремлении что-то сделать для мира, быть носителем и проводником его идей, его предчувствий, если каждый человек доброй воли сейчас будет способствовать только тому, чтобы воля к миру не встречала никаких помех, никаких преград, никаких препятствий, тогда у нас будет мир.
И тогда мы все вправе будем сказать, что помогли установить его, что достойны его великих задач, - а покуда в сердцах наших нет чувства сильней, чем чувство своей совиновности.
1917
Если война продлится еще два года
Еще со времен юности завел я обыкновение время от времени исчезать, уходить в другие миры, дабы освежить свои силы; меня какое-то время обычно искали, а потом объявляли пропавшим, и, возвратясь, я всегда с удовольствием узнавал суждения так называемой науки о себе и о своем «рассеянном» или сумеречном состоянии. Хотя я не делал ничего сверх того, что было для меня естественным по природе и что рано или поздно смогут делать большинство людей, этим странным господам я представлялся неким феноменом. То ли я был одержимым, то ли наделенным чудесной силой.
Словом, какое-то время я опять отсутствовал. После двух-трех лет войны современность мне изрядно поднадоела, и я потихоньку ретировался, дабы немного подышать иным воздухом. Знакомым путем покинул я области, где мы обитаем, и погостил в областях иных. Я недолго побыл в далеком прошлом, мимо меня проносились народы и времена, и ничто не давало удовлетворения, я видел все те же распятия и раздоры, видел приметы прогресса и усовершенствований на Земле, затем на некоторое время удалился в области космические.
Когда я вернулся, шел год 1920-й, и народы, к моему разочарованию, повсюду с тем же бездушным упорством все еще вели друг с другом войну. Какие-то границы передвинулись, какие-то регионы самых древних и высоких культур были разрушены с особой тщательностью, но внешне на земле изменилось, в общем, немногое.
Вот по части выравнивания прогресс был достигнут немалый. По крайней мере в Европе, как я слышал, во всех странах можно было увидеть одно и то же, почти исчезло даже различие между странами воюющими и нейтральными. С тех пор как гражданское население начали обстреливать с помощью аэростатов, которые механически, по ходу движения сбрасывали свои снаряды с высоты пятнадцати-двадцати тысяч метров, границы между странами, хоть они и охранялись по-прежнему строго, стали довольно-таки иллюзорными. Рассеивание при такой лихой стрельбе с воздуха было столь велико, что люди, посылавшие эти аэростаты, радовались, если снаряды не попадали на их собственную территорию, а уж сколько там бомб упадет на нейтральные страны или даже в конце концов хоть на территорию союзников, их и подавно не заботило.
В собственно военной области прогресс, по сути, этим и ограничился; таким образом, хоть немного прояснился наконец смысл войны. Мир потому и был разделен на два лагеря, стремившихся уничтожить друг друга, что тот и другой хотели одного и того же, а именно освободить угнетенных, положить конец насильственным действиям и установить длительный мир. Мир, не обещавший быть вечным, вызывал всеобщее сопротивление - если вечного мира нельзя было достигнуть, приходилось со всей решительностью вести вечную войну, и беззаботность, с какой военные аэростаты, поднявшись на чудовищную высоту, орошали оттуда своей благодатью правых и неправых, вполне отвечала смыслу этой войны. В остальном, однако, ее продолжали вести на старый лад, средствами значительными, однако недостаточными. Скромная фантазия военных и техников изобрела еще кое-какие средства уничтожения, но не так уж много; фантаст, придумавший аэростат для механической бомбардировки, был в своем роде последним, поскольку с той поры люди духовные: фантасты, поэты и мечтатели чем дальше, тем больше теряли к войне интерес. Ее, как уже было сказано, оставили военным и техникам, оттого столь невелик был прогресс. Терпение, с каким на всех фронтах противостояли и противолежали друг другу армии, было невероятным, и, хотя из-за недостатка материала солдатские награды уже давно теперь делались всего лишь бумажными, храбрость от этого нигде не стала существенно меньше.
Жилище мое оказалось частично разрушенным бомбардировками, но все же я намеревался здесь поспать. Было, однако, холодно и неуютно, щебенка на полу и сырая плесень на стенах никак не располагали ко сну, и скоро я вновь вышел на улицу, решив прогуляться.
Я шел городскими переулками, замечая, как сильно все изменилось. Прежде всего совершенно исчезли куда-то лавки. Улицы были безжизненны. Успел я пройти немного, когда ко мне подошел человек с жестяным номером на шапке и спросил, что я тут делаю. Я сказал, что просто гуляю. А разрешение имеется? - спросил он. Я не понял его слов, мы перекинулись еще несколькими фразами, и он потребовал, чтобы я следовал за ним до ближайшего местного управления.
Мы вышли на улицу, где на домах повсюду висели белые таблички. На них можно было прочесть названия учреждений с номерами и буквами.
«Гражданские лица без определенных занятий» - значилось на одной табличке, тут же стоял и номер -2487 Б 4. Мы вошли туда. Я увидел обычные служебные помещения, комнаты ожидания и коридоры, где пахло бумагой, сырой одеждой, учрежденческим воздухом. Мне задали еще несколько вопросов, потом отвели в комнату 72д и там допросили.
Передо мной стоял чиновник и смотрел на меня испытующе.
- А поровней вы стоять не можете? - спросил он строго.
- Нет, - сказал я.
- Почему нет?
- Я этому не учился, - сказал я робко.
- Значит, вы были задержаны, когда прогуливались, не имея на то документа. Признаете ли вы это?
- Да, - сказал я, - это верно. Но я про документы не знал. Видите ли, я долго болел.
Он кивнул.
- За это вы будете наказаны: в течение трех дней вам запрещается ходить в ботинках. Снимайте свои ботинки!
Я снял свои ботинки.
- Э, дорогой! - возмущенно воскликнул чиновник. - Послушайте, да на вас же кожаные ботинки! Откуда они у вас? Вы что, совсем спятили?
- Возможно, я не вполне нормален душевно, самому судить трудно. А ботинки я купил когда-то, в прежние времена.
- Вы что, не знаете, что штатским лицам строжайше запрещено носить какие бы то ни было изделия из кожи? Ваши ботинки останутся здесь, они конфискованы. Кстати, покажите-ка ваше удостоверение.
Бог ты мой, да у меня не было никакого удостоверения!
- Такого уже год не бывало! - простонал чиновник и кликнул охранника: Отведите этого человека в управление 194, комната 8!
Меня босиком провели через несколько улиц, там мы опять вошли в какое-то учреждение, прошли по коридору, вдыхая запах бумаг и безнадежности, затем меня втолкнули в комнату, где я был допрошен еще одним чиновником. Этот носил униформу.
- Вас задержали на улице без документов. Придется уплатить штраф, две тысячи гульденов. Сейчас я выпишу квитанцию.
- Прошу простить, - сказал я робко, - но таких денег у меня нет. Может, вы вместо этого подержите меня какое-то время под арестом?
Он засмеялся громко.
- Под арестом? Милый мой, как вы это себе представляете? Думаете, что нам охота вас кормить? Ну нет, мой дорогой. Если вы не в состоянии уплатить такую небольшую сумму, вам не избежать более сурового наказания. Я вынужден временно лишить вас права на существование. Пожалуйста, дайте мне вашу карточку на право существовать.
У меня таковой не было.
Тут чиновник остолбенел совершенно. Он кликнул двух коллег, долго с ними шептался, несколько раз показывал на меня, и все посматривали на меня с ужасом и глубоким изумлением. Затем он велел, покуда дело мое будет обсуждаться, отвести меня в помещение для арестантов.
Там сидело или стояло несколько человек, у дверей дежурила вооруженная охрана. Мне бросилось в глаза, что я, хоть и босой, одет был все-таки гораздо лучше всех остальных. Не без почтения мне уступили место, и тотчас ко мне протиснулся какой-то маленький пугливый человек, осторожно склонился к моему уху и зашептал:
- Слушайте, я сделаю вам сказочное предложение. У меня дома есть сахарная свекла! Целая, безупречная сахарная свекла! Почти в три кило весом. Предлагаю ее вам. Сколько вы за нее дадите?
Он склонил ухо к моим губам, и я прошептал:
- Скажите сами! Сколько вы за нее хотели бы?
Он тихо прошептал мне в ухо:
- Ну, скажем, полтораста гульденов.
Я покачал головой и погрузился в раздумье.
Да, похоже, я отсутствовал слишком долго. Трудно было вновь войти в эту жизнь. Много бы я отдал сейчас за пару ботинок или носков, потому что мои босые ноги совсем замерзли от хождения по сырым улицам. Но в комнате не было ни одного обутого человека.
Спустя несколько часов меня увели. Я был доставлен в управление 285, комната 19ф. Охранник на сей раз остался тут же, он стал между мной и чиновником. Похоже, это был чиновник весьма высокого ранга.
- Вы поставили себя в прескверное положение, - начал он. - Вы остановились в этом городе, не имея при себе документа на право существования. Да будет вам известно, что это тягчайше карается.
Я слегка поклонился.
- С вашего разрешения, - сказал я, - у меня есть одна-единственная просьба. Я окончательно убедился, что не созрел для нынешней ситуации и что мое положение будет становиться лишь все более затруднительным. Что, если бы вы приговорили меня к смерти? Я был бы за это весьма признателен!
Высокий чиновник сочувственно посмотрел мне в глаза.
- Понимаю, - сказал он мягко. - Но этак каждый бы захотел. Для этого случая вам надо сначала запастись разрешением на смерть. Но есть ли у вас на это деньги? Разрешение стоит четыре тысячи гульденов.
- Нет, такой суммы у меня нет. Но я бы отдал все, что имею. После всего, что я видел, мне очень хочется умереть.
Он как- то странно усмехнулся.
- Охотно в это верю, тем более что вы не единственный. Но со смертью дело обстоит не так просто. Вы, дорогой мой, принадлежите государству, и государство распоряжается вашей жизнью. Следовало бы это знать. Впрочем, вот я смотрю, вы записаны тут как Синклер, Эмиль. Может, вы тот самый писатель Синклер[1]?
- Разумеется, я тот самый.
- О, весьма приятно. Надеюсь, что смогу вам оказаться полезным. Шуцман, вы пока свободны.
Охранник вышел, чиновник протянул мне руку.
- Я с большим интересом читал ваши книги, - сказал он любезно, - и хотел бы по возможности вам помочь. Но скажите мне, однако, ради бога, как вы попали в этот немыслимый переплет?
- Видите ли, я некоторое время отсутствовал. Я удалился в сферы космические, это длилось года, наверное, два-три, и признаться вам по чести, я надеялся, что война тем временем так или иначе кончится. Но скажите, вы могли бы устроить мне разрешение на смерть? Я был бы вам невероятно признателен.
- Думаю, это возможно. Только сначала вам надо получить разрешение на существование. Без него вам просто шагу не ступить. Я дам вам рекомендацию в управление 127, там вы под мое поручительство получите по крайней мере временный билет на существование. Он, правда, действителен всего на два дня.
- О, этого более чем достаточно!
- Ну, хорошо! А потом зайдите, пожалуйста, опять ко мне.
Я пожал ему руку.
- Да, вот еще что, -сказал я тихо. - Можно задать вам еще один вопрос? Вы сами видите, как плохо я ориентируюсь в современных событиях.
- Пожалуйста, пожалуйста.
- Да, так вот: мне прежде всего хотелось бы понять, как при нынешних обстоятельствах вообще может продолжаться жизнь. Неужели человек такое выдерживает?
- О да. Ведь это вы находитесь в положении особенно скверном, вы лицо штатское, да к тому же еще без бумаг! Штатских уже осталось очень мало. Если ты не военный, ты чиновник. Это уже делает для большинства жизнь гораздо более сносной, многие даже весьма счастливы. А к нехваткам человек мало-помалу привыкает. Когда постепенно не стало картофеля и пришлось привыкать к древесной каше - ее теперь слегка сдабривают дегтем, выходит вполне вкусно, - каждый думал, что долго этого не выдержит. Однако все ведь продолжается. И так во всем.
- Понимаю, - сказал я. - Собственно, тут больше нечему удивляться. Я не совсем могу осознать только одно. Скажите мне: ради чего, собственно, прилагает мир такие колоссальные усилия? Столько лишений, столько законов, тысячи служащих и чиновников - что в конце концов хотят с помощью всего этого защитить, поддержать?
Господин удивленно посмотрел мне в лицо.
- Странный вопрос! - воскликнул он и покачал головой. - Вы же знаете, что идет война, весь мир воюет! И все наши законы, все наши жертвы - ради этого. Ради войны. Без этих крайних мер, без этих усилий армии не выдержали бы и недели. Они погибли бы от голода - можно ли перенести такое!
- Да, - медленно сказал я, - какова, однако, идея! Стало быть, война и есть то благо, которое нужно отстаивать ценою таких жертв! Но все же позвольте мне один странный вопрос - почему вы цените войну так высоко? Неужели она всего этого стоит? Неужели война - вообще благо?
Чиновник сострадательно пожал плечами. Он видел, что я его не понимаю.
- Дорогой господин Синклер, - сказал он. - Вы сильно оторвались от жизни. Но попробуйте, пройдитесь по любой улице, поговорите с любым человеком, напрягите хотя немного свои умственные способности и спросите сами себя: что у нас еще осталось? К чему сводится наша жизнь? Вам придется сразу же сказать себе: война - вот единственное, что у нас еще есть! Удовольствия и личные занятия, честолюбие, алчность, любовь, духовная деятельность - всего этого больше не существует. Война - только ей одной мы обязаны тем, что в мире есть еще что-то похожее на порядок, закон, мысль и дух. Неужели вы этого не видите?
Да, теперь я это видел, и я от души поблагодарил господина.
Потом я покинул его, механически сунув себе в карман рекомендацию для учреждения номер 217. Я не собирался пускать ее в дело, у меня не было никакого желания докучать больше какому бы то ни было учреждению. И пока никто не мог меня снова заметить и окликнуть, я произнес про себя небольшую молитву к звездам, остановил биение своего сердца, дал телу своему исчезнуть в тени куста и продолжил прежнее свое странствие, не помышляя больше о возвращении домой.
1917
Война и мир
Положительно правы те, кто считает войну состоянием первобытноестественным. Поскольку человек принадлежит к животному миру, он живет благодаря борьбе, живет за счет других, боится и ненавидит других. Жизнь, таким образом, - это война.
А вот что такое мир, определить труднее. Мир - это и не состояние первобытного рая, и не форма упорядоченной соглашениями совместной жизни. Мир - это то, чего мы не знаем, что мы лишь ищем и о чем смутно грезим. Мир - это некий идеал. Нечто невероятно трудное, неустойчивое, легкоуязвимое - только дунь, кажется, и он развеется. Когда всего лишь двое, соединенные какими-либо узами, живут по-настоящему мирно - и то уже такая удача представляется нам редкостным достижением, куда более трудным, чем любое другое, моральное или интеллектуальное, достижение.
При всем том мир, как идея и чаяние, как цель и идеал, - вещь очень древняя. Уже тысячелетия живут могучие, основополагающие для этих тысячелетий слова: «Не убий!» То, что человек способен на такие слова, на такие неимоверные требования к себе, характеризует его более, нежели любой другой признак, отличает его от зверя и зримо выделяет его из «природы».
Человек, как чудится нам из этих великих слов, - не зверь, и вообще не что-то определенное, ставшее и готовое, единственное и однозначное, он становящееся, некая попытка, предположение, очерк будущего, воплощенная тоска энергичной природы по новым формам и возможностям. «Не убий!» В ту пору, когда впервые прозвучали эти слова, они явились требованием неслыханным, чуть ли не равнозначным требованию «Не дыши!». Они казались невозможными, безумными и губительными. И все же эти слова продержались века, и сегодня они значат не меньше, чем всегда, они породили законы, воззрения, этические учения, они оказались плодоносными и, как лишь немногие другие слова, потрясли и перетряхнули жизнь человека.
«Не убий!» - это не мертворожденная заповедь назидательного «альтруизма». Альтруизм - это то, чего нет в природе. «Не убий!» вовсе не означает: не причини зла другому. Но: не лишай себя самого другого, не причиняй вреда себе самому! Другой - это ведь не чужой, то есть не нечто далекое, не имеющее к тебе отношения, живущее само по себе. Ведь все в мире, все эти несчетные тысячи «других» существуют для меня лишь постольку, поскольку я их вижу, ощущаю, имею к ним отношение. Из отношений между мною и миром, «другими», и состоит, собственно, моя жизнь.
Постичь это, дойти умом до этого, нащупать эту непростую истину - в этом и был путь человечества до сих пор. Оно делало шаги и вперед, и назад. Бывали светоносные идеи, из которых мы возводили мрачные законы, погребавшие, будто склепы, нашу совесть. Бывали странные вещи вроде гностики, вроде алхимии, о которых ныне принято держаться самоуверенно презрительного мнения, хотя, может быть, как раз эти вещи и были высочайшими вершинами на пути человеческого познания. А из алхимии, от которой путь вел к самой чистой мистике и к окончательному исполнению завета «Не убий!», мы, смеясь и в полном сознании своего превосходства, сделали техническую науку, производящую взрывчатые вещества и яды. В чем же прогресс? И в чем регресс? Нет ни того, ни другого.
И великая война настоящего времени являет нам оба лика, оборачиваясь то прогрессом, то регрессом. Одичалые толпы и чудовищная техника истребления нередко выглядели, как регресс, более того - как издевка над любыми поползновениями прогресса и духа. Однако некоторые новые, рожденные войной, потребности, уроки и устремления мы воспринимаем едва ли не как прогресс. Правда, некий журналист счел себя вправе окрестить все эти душевные напластования «нутряным хламом» - но не ошибся ли он? Не промахнулся ли, обозвав грубым словом как раз самое живое, самое тонкое, самое важное и сокровенное, что несет в себе наше время?
Совершенно неверно, однако, мнение, которое не раз высказывалось в ходе этой войны: что эта война будто бы одним своим размахом, своими жуткими гигантскими масштабами отпугнет будущие поколения и отвратит их от войн навсегда. Запугивание - плохое средство воспитания. Кому убийство доставляет удовольствие, того не отвратит от этого удовольствия никакая война. Не поможет и осознание размеров материального ущерба, который она причиняет. Поступки людей вообще вряд ли больше чем на одну сотую проистекают из рациональных соображений. Можно быть полностью убежденным в бессмысленности какого-либо деяния и все же отдаваться ему со всем пылом души. Любой человек, обуреваемый страстями, хорошо знает это.
Вот почему я не пацифист[1], как думают обо мне многие мои друзья и враги. Я так же мало верю в установление вечного мира рациональным путем, посредством проповедей, всяческих объединений и пропаганды, как и в открытие камня мудрости вследствие какого-нибудь химического конгресса.
Откуда же в таком случае может явиться истинный мир на земле? Не из заповедей и не из материального расчета. Но - как и всякий человеческий прогресс - из познания. Всякое же познание - если понимать под ним нечто живое, а не академическое - имеет один предмет. Истина едина, хотя ее могут высказывать тысячи людей на тысячи ладов. Это - познание живого в нас, в каждом из нас, во мне и в тебе, познание тайного волшебства, тайной божественной силы, которую каждый из нас в себе носит. Это - познание возможности примирения в этой сокровеннейшей точке всех противоречий, превращения белого в черное, зла в добро, ночи в день. Индус называет это «атман», китаец - «дао», христианин говорит о благодати. Там, где обретается это высшее познание (как у Иисуса, у Будды, у Платона, у Лао-цзы), там преступается некий порог, за которым следуют чудеса. Там прекращается война и вражда. Об этом можно прочесть в Новом завете и в речах Готамы[2], которые при желании тоже нетрудно осмеять, обозвав «нутряным хламом». Но кому дано это испытать, для того враг станет братом, смерть - рождением, позор честью, беда - судьбой. Всякая вещь на этой земле имеет две ипостаси, одну «от мира сего» и другую - «не от мира сего». Все, что вне нас, может стать врагом, опасностью, страхом и смертью. Но лишь когда понимаешь, что все это «внешнее» - не только предмет нашего восприятия, но одновременно и творение нашей души, лишь тогда начинается превращение внешнего во внутреннее, мира в «я», начинается просветление.
Я высказываю тут очевидные вещи. Но как всякий убиенный солдат есть вечное повторение одной и той же ошибки, так и истина нуждается в том, чтобы ее высказывали на тысячи ладов ныне и присно.
1918
Своенравие
Есть добродетель, единственная, которую я очень люблю. Называется она своенравием. Ни одна из добродетелей, о коих читаем мы в книгах или слышим от наставников, не вызывает у меня такого почтения. Ведь все это многообразие изобретенных человеком добродетелей можно свести к одному имени. Добродетель - это послушание. Вопрос лишь в том, кому ты послушен. Ибо и своенравие - это тоже послушание. Однако все прочие столь излюбленные и высоко ценимые добродетели являются послушанием по отношению к законам, данным людьми. И только своенравие не спрашивает об этих законах. Кто своенравен, подчиняется другому закону, единственному непреложно святому, тому закону, что заключен в самом человеке, - «своему нраву».
Как жаль, что своенравие так мало любят! Внушает ли оно хоть какое-нибудь уважение? О нет, его даже считают пороком или, во всяком случае, чем-то вроде непростительной невоспитанности. В полный голос его поминают лишь тогда, когда оно мешает и вызывает ненависть. (Кстати, истинные добродетели всегда мешают и вызывают ненависть. Примеры: Сократ, Иисус, Джордано Бруно и все прочие своенравные.) Когда же хотят хоть в какой-то степени воздать должное своенравию если не как добродетели, то как занятному украшению человека, то обычно прибегают к смягчению грубого названия сей добродетели. «Характер» или «личность» звучит все же не так резко и почти порочаще, как «своенравие». В ходу и «оригинальность», что звучит приличнее. Но это слово применяют к испытанным чудакам - художникам и прочим индивидуумам. В искусстве, где своенравие не угрожает заметным ущербом капиталу и обществу, оригинальность даже в почете: художнику определенная доза своенравия даже как бы вменяется в обязательное условие хорошей оплаты. В остальном же под «характером» или «личностью» нынешний повседневный язык понимает нечто крайне путаное, а именно такой характер, который хоть и имеется в наличии и при случае может себя показать, но во всяком действительно важном деле неукоснительно подчиняется чужим законам. «С характером» - говорят о человеке, у которого имеется собственное мнение и взгляды, но который не живет в согласии с ними. Он лишь дает время от времени понять, что мыслит иначе, что у него есть свое мнение. Приняв такую смягченно тщеславную форму, такой характер и при жизни может стяжать ему славу человека добродетельного. Однако если у человека действительно есть мнение и он живет в согласии с ним, то он немедленно лишается похвального отзыва - «характер» - и за ним признается лишь «своенравие». Но давайте же вдумаемся в смысл этого слова! Что же такое своенравие? То, что имеет собственный нрав, то есть природу, смысл. Разве нет?
Но ведь «собственный нрав» имеет всякая вещь на этой земле, попросту всякая. Любой камень, любая травинка, любой Цветок, любой куст, любой зверь растет, живет, действует и ощущает лишь по «собственному нраву», и в этом-то основа того, что мир добр, богат и прекрасен. В мире есть цветы и плоды, дубы и березы, лошади и куры, цинк и железо, золото и уголь - и все это лишь потому, что любая, пусть и самая малая, вещь во вселенной имеет собственный «нрав», несет в себе свой собственный закон и с безошибочной уверенностью следует собственному закону.
И только два бедных, проклятых существа на сей земле не могут следовать этому вечному зову и быть такими, то есть так расти, жить и умирать, как велит им врожденный собственный нрав. Только человек и укрощенное им домашнее животное обречены на то, чтобы заглушать в себе голос жизни и роста, следуя неким законам, выдуманным людьми и время от времени нарушаемым, изменяемым этими же людьми. И что самое любопытное: те немногие, что не желают считаться с этими произвольными законами и следуют законам собственным, естественным, - они хоть и бывали всегда осуждены и побиваемы камнями, зато впоследствии именно они провозглашались на веки вечные героями и освободителями. То самое человечество, которое провозглашает величайшей добродетелью послушание своим произвольным законам и требует его от живущих, принимает в свой вечный пантеон как раз тех, кто отказывается подчиняться этим требованиям и скорее готов проститься с жизнью, чем изменить «своему нраву».
«Трагическое» - это чудесно высокое, мистически святое слово, исполненное трепета времен мифической юности человечества, а ныне выданное произволу любого поденного репортера; так вот, «трагическое» не означает ничего, кроме судьбы героя, гибнущего из-за того, что он следует своей звезде вопреки сложившимся установлениям. Отсюда-то, и только отсюда узнает человечество о «своем нраве». Ибо трагический герой, своенравный вновь и вновь, являет миллионам обыкновенных людей, трусов, что непослушание людскому диктату - вовсе не грубый произвол, но верность куда более высокому и священному завету. Иначе говоря: стадное чувство требует от всякого человека прежде всего приспособления и подчинения, однако самые почетные лавры оно оставляет вовсе не терпеливцам, молчальникам, трусам, но своенравным, героям.
Как репортеры всуе пользуются словом, называя всякое происшествие на фабрике «трагическим» (что для них, профанов, значит примерно то же, что «печальное» происшествие), так и мода не права, когда она говорит о «героической» смерти солдат, этих бедняг, загнанных на бойню. Это ведь тоже одно из излюбленных речений людей сентиментальных, в особенности тех, кто остался дома. Разумеется, солдаты, павшие на войне, заслуживают нашего самого большого участия. Нередко на их долю выпадают чудовищные страдания, и в конце концов они отдают свою жизнь. Но одно это еще не делает их «героями»; не становится героем, наткнувшись на смертельную пулю, простой солдат, на которого еще недавно кричал офицер. Массовый, миллионократный «герой» - вещь достаточно бессмысленная.
«Герой» - это не послушный, бравый бюргер, исполняющий свой долг. Героические деяния может совершать только единственный, положивший «свой нрав», свое благородное и естественное своенравие в основу своей судьбы. «Судьба и характер - это разные названия одного и того же понятия», - сказал Новалис, один из самых глубоких и потаенных немецких умов. Но только герой обретает мужество следовать своей судьбе.
Если бы таким мужеством и таким своенравием обладало большинство живущих на земле людей, земля выглядела бы иначе. Наши получающие свое жалованье учителя (те самые, что так умеют расхваливать своенравие героев прежних времен) говорят, что тогда все бы просто погибло. Доказательств у них нет, и они в них не нуждаются. В действительности же если бы люди следовали своему собственному закону и нраву, то и жизнь в целом была бы богаче и возвышеннее. Может, тогда иное бранное словцо или выходка остались бы ненаказанными - из числа тех, коими занимается сегодня почтенный государственный судия. Случались бы иной раз и убийства - но разве не случаются они теперь, несмотря на все законы и наказания? Зато многие ужасы и немыслимо печальные безумства, которые, как мы видим, процветают в упорядоченном мире, были бы неизвестны и невозможны. К примеру, войны между народами.
В ответ на это мне приходится слышать от особ, облеченных духовным саном: «Ты проповедуешь революцию».
Опять заблуждение, возможное только среди стадных людей. Я проповедую своенравие, а не переворот. С какой стати желал бы я революции? Ведь революция не что иное, как война, и точно так же, как война, она есть «продолжение политики иными средствами». Однако человеку, который обрел мужество быть самим собой и услышал голос собственной судьбы, о, такому человеку до политики нет ровно никакого дела, будь она монархической или демократической, революционной или консервативной! Его заботит другое. Его «своенравие», как и глубокое, великое, богом данное своенравие любой травинки, занято только собственным ростом. «Эгоизм» - если угодно. Однако же этот эгоизм не имеет ничего общего с пресловутым эгоизмом толстосума или одержимого властью!
Человек «своенравный» в моем смысле не станет искать денег или власти. Он пренебрегает этими вещами вовсе не потому, что его распирает добродетель или грызет альтруизм, - напротив! Однако деньги и власть, как и все прочие вещи, ради которых люди мучают и в конце концов стреляют друг в друга, имеют в его глазах мало цены. Одно только ценит он высоко - таинственную силу в себе самом, которая призывает его жить и помогает расти. И деньгами эту силу невозможно ни сохранить, ни углубить, ни увеличить. Ибо деньги и власть изобретены недоверием. Кто не доверяет жизненной силе в себе самом, у кого нет этой силы, тот восполняет ее таким заменителем, как деньги. А кто верит в себя, кто не желает ничего другого, кроме как свободно и чисто изжить собственную судьбу, испить свою чашу, для того эти тысячекратно превознесенные и переоцененные вещи становятся второстепенными, вспомогательными инструментами жизни, обладание и пользование которыми может быть приятным, но никогда не бывает решающим.
О, как я люблю эту добродетель - своенравие! Стоит только познать ее и обнаружить хоть толику в себе самом - и настолько же сомнительными становятся все многочисленные хваленые добродетели.
Например, патриотизм. Ничего не имею против него. Он ставит на место единственного целый обширный комплекс. Однако в качестве истинной добродетели он выступает, лишь когда начинается пальба - это наивное и столь смехотворно недостаточное средство «продолжить политику». Ведь солдата, убивающего врага, всегда считают большим патриотом, чем крестьянина, с предельной добросовестностью возделывающего свое поле. Ибо крестьянин имеет с того свою выгоду. А, как это ни комично, наша архисложная мораль считает сомнительной как раз ту добродетель, которая служит ко благу и выгоде ее обладателя!
А почему, собственно? Потому что мы привыкли достигать благ только за счет других. Потому что мы придерживаемся угрюмого убеждения, что нам не хватает как раз того, что есть у другого.
Вождь дикарей верит в то, что жизненная сила убитых им врагов переходит в него самого. Не лежит ли сия скудная дикарская вера в основе всякой войны, всякой конкуренции, всякого недоверия между людьми? Нет, мы были бы куда счастливее, если бы уравняли в своем мнении славного хлебопашца с солдатом! Если бы смогли отказаться от предубеждения, будто всякий выигрыш в жизненной силе отдельного человека или целого народа должен неминуемо произойти за счет кого-нибудь другого!
Тут я слышу учительский глас: «Все это звучит премило, однако взгляните, пожалуйста, на сию материю по-деловому - с национально-экономической точки зрения! Мировая продукция...»
На что я возражаю: «Покорно благодарю. Точка зрения национальной экономики отнюдь не деловая; это очки, сквозь которые можно видеть что угодно. Например, перед войной с помощью соображений национальной экономики можно доказать, что мировая война невозможна или что она не продлится долго. Нынче - с помощью той же национальной экономики - можно доказать обратное. Нет уж, будем лучше держаться в своих размышлениях действительности, а не этих фантазий!»
В них не много проку, в этих «точках зрения», как бы они ни нарекали себя и какие бы откормленные профессора их ни представляли. Все они - весьма скользкий лед! Мы не счетные машины и не какие-нибудь другие механизмы. Мы люди. А для человека существует только одна естественная точка зрения, только один естественный масштаб. Это точка зрения и масштаб своенравия. Для человека своенравного нет ни капитализма, ни социализма, для него нет ни Англии, ни Америки, для него ничего не существует, кроме тихого и неотвратимого закона в собственной груди. Следовать ему для человека обыкновенного представляется делом бесконечно сложным. Для человека своенравного - это и божий глас, и судьба.
1919
Письмо молодому немцу
Вы пишете мне, что Вы в отчаянии и не знаете, что делать, не знаете, во что верить, не знаете, на что надеяться. Вы не знаете, существует бог или нет. Вы не знаете, имеет жизнь какой-нибудь смысл или нет, имеет отечество какой-нибудь смысл или нет, лучше употреблять свои силы на освоение духовных богатств или просто набивать себе утробу, поскольку все равно ведь мир так скверно устроен.
Я нахожу состояние Вашей души совершенно нормальным. Что Вы не знаете, существует ли бог, и что Вы не знаете, существуют ли добро и зло, - это гораздо лучше, чем если бы Вы это знали. Пять лет назад, если Вы можете это вспомнить, Вы, вероятно, знали довольно точно, что бог есть, и так же точно знали, где добро и где зло, и Вы, конечно, делали то, что казалось Вам добром, и пошли на войну. И с тех пор целых пять лет - лучшие годы Вашей юности - Вы неотступно совершали это добро, стреляли, шли в атаку, валялись в грязи, погребали павших, перевязывали раненых, но постепенно это добро сделалось сомнительным и со временем стало совершенно неясно, не является ли сие прекрасное добро, которому Вы служили, злом или глупостью и великой нелепостью.
Так оно и было. Добро, которое Вы некогда так точно себе представляли, оказалось, очевидно, не истинным добром, не тем нерушимым, вечным добром, и бог, о котором Вы тогда были наслышаны, не был истинным богом. То был, надо полагать, национальный бог наших консисториальных советников и военных поэтов, тот бог, что восседает, яко на престоле, на пушках, избрав любимыми цветами черный, белый и красный. Конечно, то был бог, и весьма могучий, грозный, более великий, чем Иегова, и в жертву ему приносились сотни тысяч кровавых закланий, в его честь вспарывались сотни тысяч животов и разрывались на клочки сотни тысяч легких, он был более кровожаден и жесток, чем любой языческий божок или идол, а сии кровавые жертвоприношения сопровождались пением жрецов, то бишь наших теологов, исполнявших дома свои хорошо оплачиваемые гимны. И те остатки религиозного чувства, которые тлели еще в наших оскудевших сердцах и в наших столь оскудевших и обезлюдевших храмах, погибли напрочь. Обратил ли кто-нибудь внимание, подивился ли кто-нибудь тому, как наши теологи сумели похоронить за эти четыре года свою собственную религию, свое собственное христианство? Они служили любви и проповедовали ненависть, они служили человечеству и перепутали человечество с казенным учреждением, где они получают жалованье. Они (не все, разумеется, но их предводители) хитро и многоречиво доказали, что война великолепно уживается с христианством и что можно быть безупречным христианином и в то же время превосходно стрелять и колоть штыком. Совместить это, однако, нельзя, и если бы наши обе церкви не были бы церквами на службе у трона и войска, то были бы воистину церквами господа, они стали бы в годы войны тем, чего нам так страшно недоставало: оплотом человечности, святыней для обездоленных душ, постоянным призывом к сдержанности, мудрости, любви к человеку, служению богу.
Пожалуйста, поймите меня правильно! Не подумайте, что я упрекаю кого-то! Я хочу только назвать вещи своими именами, никого не обвиняя. К этому у нас не привыкли, у нас привыкли только к крику, обвинениям, ненависти. Люди нашей эпохи - и мы, немцы, не менее других - обучились роковому искусству виноватить других, если нам самим плохо. И только против этого я и выступаю, в этом и есть все мои упреки. В том, что вера наша оказалась столь слаба, в том, что казенноспасаемый бог наш оказался столь кровожаден, в том, что мы не смогли отделить добро от зла, мир от войны, во всем этом все мы равно виновны, хоть и равно невиновны. Вы и я, кайзер и пастор - все мы соратники в этом деле и не можем упрекать друг друга.
Если Вы теперь задумаетесь над тем, где можно было бы найти утешение и нового, лучшего бога и веру, то Вам, посреди Вашего теперешнего одиночества и отчаяния, сразу же станет ясно, что просветление не придет больше извне, из специальных источников, из Библии, с кафедр, с тронов. Не может оно прийти и от меня. Его Вы сможете отыскать только в Вас самих. Оно там, где обитает бог - более высокий и вечный, чем патриотический бог 1914 года. Мудрецы всех времен постоянно возвещали о нем, но придет он к нам не из книг, он живет в нас самих и должен проснуться в собственной нашей душе, иначе всякое знание о нем бесполезно. Он живет и в вас, этот бог. В вас прежде всего - в вас, разбитых, отчаявшихся. Люди, страдающие от бед своего времени, не бывают маленькими. И не бывают дурными те люди, что не довольны богами и божками позавчерашнего дня.
Но куда бы Вы ни кинулись теперь, нигде не встретите Вы пророка и учителя, который снял бы с Вас тяготы поиска и обращения к себе самому. Весь немецкий народ, все мы сегодня в таком же положении, как Вы. Мир наш рухнул, гордость сломлена, деньги пропали, друзья погибли. И вот мы - почти все мы ищем по старому доброму рецепту виновного, ищем злодея, называем его Америкой, называем его Клемансо[1], называем его кайзером Вильгельмом или еще как-нибудь, бегаем с этими обвинениями по кругу и не достигаем цели. Довольно было бы, однако, хоть на час отбросить этот детский и не очень разумный вопрос о виновном и вместо него задать другой: «А как обстоит дело со мной самим? Насколько я сам невиновен? Не был ли и я где-то слишком шумен, слишком нагл, слишком легковерен, слишком суетен и тщеславен? Где во мне та почва, на которую могло пасть посеянное дурной прессой семя удушливой веры в национального Иегову и во все прочие, столь быстро сгинувшие заблуждения?»
Час, в который задаешь себе подобные вопросы, не из приятных. Кажешься себе слабым и дурным человеком, маленьким и придавленным тяжким гнетом. Однако раздавленным до конца себя не чувствуешь. Просто убеждаешься: вины нет. Нет ни злодея кайзера, ни злодея Клемансо, и никто не прав - ни победившие демократии, ни побежденные варвары. Виновность и невиновность, правота и неправота - это упрощения, это детские понятия, и первый наш шаг к святыне нового бога - в понимании этого. Благодаря этому мы не научимся ни предупреждать будущие войны, ни возвращать себе богатства. Мы научимся только одному: не обращаться с наболевшими вопросами, со всеми нашими «проблемами вины» и проблемами совести ни к старому Иегове, ни к фельдфебелю, ни в редакции газет, ожидая от них решения, - но решать их в собственном сердце. Мы должны решиться стать не мальчиками, но мужами. Люди будущего, быть может, объяснят потерю нами флота, машин, денег в том духе, что вот, мол, отняли у ребенка все его великолепные игрушки, и ребенок, вдоволь наплакавшись и набранившись, успокоился и стал мужчиной. По этому пути мы и должны идти, другого нет. И первый шаг на этом пути каждый из нас делает в одиночку, в собственном сердце.
Перечитайте, коль уж Вы любите Ницше, последние страницы тех «Несвоевременных размышлений», в которых речь идет о пользе и тщете истории! Прочтите слово за словом еще раз те места о молодежи, на долю которой выпал жребий свернуть шею гибнущей псевдокультуре и начать все сначала! Как суров, как горек этот жребий - и как велик, как свят! Эта молодежь и есть вы, все вы, сегодняшние юноши, в сегодняшней побитой Германии. На ваших плечах эта тяжесть, в ваших сердцах - задача.
Но не останавливайтесь перед Ницше или перед каким-нибудь другим советчиком и пророком. Не наше дело - учить вас, снимать тяжесть с ваших плеч, указывать вам путь. Наше дело - лишь напомнить вам о том, что бог существует и что бог этот живет в вашем сердце и там вы должны искать его и беседовать с ним.
1919
Братья Карамазовы, или Закат Европы
Ничего нет вне, ничего - внутри, ибо что вне, то и внутри.
Придать связную и удобочитаемую форму мыслям, которыми я хочу здесь поделиться, оказалось для меня невозможным. Способности не те, а кроме того, мне кажется достаточно нескромной и сама манера - из нескольких пришедших в голову соображений выстраивать некое эссе с претензией на законченность и последовательность, в то время как на небольшое количество мыслей в нем приходится большое количество начинки. Нет, у меня, верующего в «Закат Европы»[1], причем в закат культурной Европы в первую очередь, и вовсе нет причин заботиться о форме, которая неминуемо показалась бы мне маскарадом и ложью. Скажу словами самого Достоевского из последней книги «Братьев Карамазовых»: «А впрочем, вижу, что лучше не извиняться. Сделаю как умею, и читатели сами поймут, что я сделал лишь как умел» [Ф. М. Достоевский. ПСС, т. 15. Л., 1976, с. 89] .
Как мне представляется, в произведениях Достоевского, а всего сильнее в «Братьях Карамазовых» с невероятной отчетливостью выражено и предвосхищено то, что я называю «Закатом Европы». В том факте, что именно в Достоевском не в Гете и даже не в Ницше - европейская, в особенности немецкая, молодежь видит теперь своего величайшего писателя, я нахожу что-то судьбоносное. Стоит лишь бросить взгляд на новейшую литературу, как всюду замечаешь перекличку с Достоевским, пусть и на уровне простых и наивных подражаний. Идеал Карамазовых, этот древний, азиатски оккультный идеал начинает становиться европейским, начинает пожирать дух Европы. В этом я и вижу закат Европы. А в нем - возвращение к праматери, возвращение в Азию, к источникам всего, к фаустовским «матерям»[2], и, разумеется, как всякая смерть на земле, этот закат поведет к новому рождению. Как закат этот процесс воспринимаем только мы, современники его [...]
Но что же это за «азиатский» идеал, который я нахожу у Достоевского и о котором думаю, что он намерен завоевать Европу?
Это, коротко говоря, отказ от всякой нормативной этики и морали в пользу некоего всепонимания, всеприятия, некоей новой, опасной и жуткой святости, как возвещает о ней старец Зосима, как живет ею Алеша, как с максимальной отчетливостью формулируют ее Дмитрий и особенно Иван Карамазов.
У старца Зосимы еще одерживает верх идеал справедливости, для него, во всяком случае, существуют добро и зло, хотя своею любовью он одаривает предпочтительно носителей зла. У Алеши этот вид новой святости осуществляется уже куда свободнее и живее, он ступает по грязи и сору своего окружения почти с аморальной непринужденностью, нередко он вызывает в моей памяти благороднейший завет Заратустры: «Я дал обет удаляться от всякого отвращения!» Но взгляните-ка: братья Алеши проводят эту мысль еще дальше, ступают по этому пути еще решительнее, и зачастую дело вопреки всему выглядит прямо так, будто соотношение братьев Карамазовых на протяжении толстой, трехтомной книги круто меняется, так что все незыблемо непреложное становится все более и более сомнительным, святой Алеша становится все более и более светским человеком, его светские братья делаются все более святыми, а самый необузданный и бедовый из них, Дмитрий, - прямо-таки самым святым, самым чутким и сокровенным пророком новой святости, новой морали, новой человечности. Это весьма странно. Чем безудержнее карамазовщина, чем больше порока и пьяной грубости, тем сильнее светит сквозь покров этих грубых явлений, людей и поступков новый идеал, тем больше духа и святости копится там, внутри. И рядом с пьяницей, убийцей и насильником Дмитрием и циником-интеллектуалом Иваном все эти безупречно порядочные типы вроде прокурора и других представителей буржуазности выглядят тем неказистее, тем бесцветнее, тем ничтожнее, чем более они торжествуют внешне.
Итак, «новый идеал», угрожающий самому существованию европейского духа, представляется совершенно аморальным образом мышления и чувствования, способностью прозревать божественное, необходимое, судьбинное и в зле, и в безобразии, способностью чтить и благословлять их. Попытка прокурора в своей длинной речи изобразить эту карамазовщину с утрированной иронией и выставить на осмеяние обывателей - эта попытка на самом деле ничего не утрирует, она даже выглядит слишком робкой.
В этой речи с консервативно-буржуазных позиций изображается «русский человек», ставший с тех пор популярным, этот опасный, трогательный, безответственный, хотя и с ранимой совестью, мягкий, мечтательный, свирепый, глубоко ребячливый «русский человек», которого и по сию пору любят так называть, хотя он, как я полагаю, давно уже намерен стать человеком европейским. Ибо в том-то и состоит закат Европы.
На этом русском человеке стоит задержать взгляд. Он намного старше, чем Достоевский, однако именно Достоевский окончательно представил его миру во всем плодотворном значении. Русский человек - это Карамазов, это Федор Павлович, это Дмитрий, это Иван, это Алеша. Ибо эти четверо, как они ни отличаются друг от друга, накрепко спаяны между собой, вместе образуют они Карамазовых, вместе образуют они русского человека, вместе образуют они грядущего, уже приближающегося человека европейского кризиса.
Между прочим, стоит обратить внимание на одну весьма и весьма странную вещь, а именно: как в ходе повествования Иван из цивилизованного человека делается Карамазовым, из европейца - русским, из оформленного исторического типа - бесформенным материалом будущего! Это осуществлено с единственной, сомнамбулической точностью - это соскальзывание Ивана с первоначального пьедестала выдержанности, разума, трезвости и научности, это постепенное, напряженное, отчаянное падение как раз того из Карамазовых, кто производит наиболее благопристойное впечатление, в истерию, в русскую стихию, в карамазовщину! Именно он, скептик, под конец беседует с чертом! Но об этом мы еще поговорим.
Итак, русский человек (который давно распространился и у нас, в Германии) не сводим ни к истерику, ни к пьянице или преступнику, ни к поэту или святому; в нем все это помещается вместе, в совокупности всех этих свойств. Русский человек, Карамазов, - это одновременно и убийца, и судия, буян и нежнейшая душа, законченный эгоист и герой совершеннейшего самопожертвования. К нему не применима европейская, то есть твердая морально-этическая, догматическая, точка зрения. В этом человеке внешнее и внутреннее, добро и зло, бог и сатана неразрывно слиты.
Оттого- то в душе этих Карамазовых копится страстная жажда высшего символа -бога, который одновременно был бы и чертом. Таким символом и является русский человек Достоевского. Бог, который одновременно и дьявол, это ведь древний демиург. Он был изначально; он, единственный, находится по ту сторону всех противоречий, он не знает ни дня, ни ночи, ни добра, ни зла. Он - ничто, и он - все. Мы не можем познать его, ибо мы познаем что-либо только в противоречиях, мы - индивидуумы, привязанные ко дню и ночи, к теплу и холоду, нам нужен бог и дьявол. За гранью противоположностей, в ничто и во всем живет один лишь демиург, бог вселенной, не ведающий добра и зла.
Об этом много можно было бы толковать, но и сказанного достаточно. Мы уяснили себе существо русского человека. Это человек, который рвется прочь от противоположностей, от определенных свойств, от морали, это человек, который намерен раствориться, вернувшись вспять, в principium individuationis [Принцип индивидуации (лат.)] [3]. Этот человек ничего не любит и любит все, он ничего не боится и боится всего, он ничего не делает и делает все. Этот человек снова праматериал, неоформленный материал душевной плазмы. В таком виде он не может жить, он может лишь гибнуть, падать метеоритом.
Этого- то человека катастрофы, этот ужасный призрак и вызвал своим гением Достоевский. Нередко высказывалось мнение: счастье еще, что его «Карамазовы» не окончены, не то они взорвали бы не только русскую литературу, но и всю Россию, и все человечество.
Но и то, что высказано - даже если сказавший не договорил до конца, нельзя загнать вспять, в небытие, сделать несказанным. Наличное, продуманное, возможное нельзя стереть с лица земли. Русский человек давно уже существует, причем существует и за пределами самой России; он правит половиной Европы, и грохот вызывавшего столько опасений взрыва был достаточно слышен в последние годы всюду. Выяснилось, что Европа утомлена, выяснилось, что ей хочется повернуть вспять, отдохнуть, возникнуть заново, возродиться.
Тут мне приходят в голову два высказывания одного европейца европейца, который для любого из нас, вне всякого сомнения, символизирует старую, бывшую, обреченную ныне на гибель Европу. Я имею в виду кайзера Вильгельма. Одно из этих изречений он некогда вписал под несколько странное аллегорическое изображение, призывая в нем народы Европы беречь свои «святыни» от грозящей с Востока опасности.
Кайзер Вильгельм не был, конечно, особенно прозорливым и глубоким человеком, и все же как поклонник и поборник старомодного идеала он обладал некоторой долей прозорливости по отношению к опасностям, угрожавшим этому идеалу. Он не был человеком духовного склада, не любил читать хорошие книги, да, кроме того, слишком много занимался политикой. Так и упомянутое изображение с предостерегающим призывом к народам Европы возникло не после чтения Достоевского, как можно было бы подумать, но скорее под влиянием смутного страха перед народными массами Востока, которых честолюбие Японии могло бы привести в движение против Европы.
Кайзер едва ли осознавал, что именно вложил он в свое высказывание и до какой чудовищной степени оно справедливо. Он наверняка не был знаком с «Карамазовыми», у него не было, повторяю, склонности к хорошим и глубоким книгам. Но у него было невероятно тонкое чутье. И как раз та опасность, которую он учуял на сей раз, как раз она действительно существовала и с каждым днем приближалась. То были Карамазовы - кого он боялся. То была зараза, шедшая с Востока на Европу, то было падение усталого европейского духа вспять - к азиатской матери, и он боялся всего этого справедливо.
А вот и второе высказывание кайзера, о котором я вспомнил и которое произвело на меня в свое время ужасное впечатление (не знаю, действительно ли он так сказал или то были слухи): «Войну выиграет нация, у которой покрепче нервы». Когда в то время, в самом начале войны, до меня дошло это высказывание, я воспринял его, как глухой раскат приближающегося землетрясения. То есть было ясно, что кайзер хотел сказать что-то очень лестное для Германии. Возможно, у него самого были отличные нервы, как и у его товарищей по охоте и военным смотрам. Знал он и старую глупую сказочку о растленной и порочной Франции и о добродетельных, семейственных германцах и верил в нее. Но для других, тех, кто знал, или, точнее, догадывался, предчувствовал, что будет завтра и послезавтра, - для них это его высказывание прозвучало ужасно. Ибо они-то знали, что у Германии нервы вовсе не лучше, а хуже, чем у неприятелей на Западе. И для них это высказывание тогдашнего лидера нации прозвучало, как жуткое и роковое предсказание слепо надвигающейся катастрофы.
Нет, нервы у немцев были вовсе не лучше, чем у французов, англичан или американцев. Разве что получше, чем у русских. Ибо «иметь дурные нервы» это ведь бытовое выражение для истерии и неврастении, для moral insanity [Душевного нездоровья (англ.)] и всех прочих неприятностей, которые можно по-разному определять, но которые в их совокупности равнозначны карамазовщине. Перед лицом Карамазовых, перед лицом Достоевского, перед лицом Азии Германия занимала бесконечно более безнадежную и слабую позицию, чем любая другая европейская страна, исключая Австрию.
Таким образом, и кайзер на свой лад предвидел и дважды предсказал закат Европы.
Однако совершенно иной вопрос: как следует оценивать этот закат старой Европы? Тут расходятся пути многих умов. Убежденные приверженцы прошлого, верные почитатели освященной благородной формы и культуры, рыцари привычной морали - все они могут лишь, насколько это возможно, противостоять этому закату или безутешно оплакивать его, коли он настанет. Для них закат - это конец, но для других - это начало. Для одних Достоевский - преступник, для других - святой. Для одних Европа и ее духовная культура - это нечто единственное, крепко сбитое, неприкосновенное, нечто прочное и бытийное, для других - это нечто становящееся, изменчивое, вечно преобразующееся.
Карамазовский элемент, как и все азиатское, хаотическое, дикое, опасное, аморальное, как и вообще все в мире, можно оценивать двояко позитивно и негативно. Те, кто попросту отвергает весь этот мир, этого Достоевского, этих Карамазовых, этих русских, эту Азию, эти демиурговы фантазии, обречены теперь на бессильные проклятия и страх, у них безрадостное положение там, где Карамазовы явно доминируют - более, чем когда-либо прежде. Но они заблуждаются, желая видеть во всем этом одно лишь фактическое, наглядное, материальное. Они смотрят на закат Европы, как на ужасную катастрофу с разверзающимся небесным грохотом, либо как на революцию, полную резни и насилий, либо как на торжество преступников, коррупции, воровства, убийств и всех прочих пороков.
Все это возможно, все это заложено в Карамазове. Когда имеешь дело с Карамазовым, то не знаешь, чем он нас ошарашит в следующий миг. Может, ударит так, что и убьет, а может, споет пронзительную песнь во славу божью. Среди них есть Алеши и Дмитрии, Федоры и Иваны. Они ведь, как мы видели, определяются не какими-либо свойствами, но готовностью в любое время перенять любые свойства.
Но пусть пугливые не ужасаются тем, что сей непредсказуемый человек будущего (он существует уже и в настоящем!) способен творить не только зло, но и добро, способен основать царство божье так же, как царство дьявола. То, что можно основать или свергнуть на земле, мало интересует Карамазовых. Тайна их не здесь - как и ценность, и плодотворность их аморальной сути.
Эти люди отличаются от других, прежних людей порядка, расчета, ясной положительности, в сущности, лишь тем, что они столько же живут внутри себя, сколько вовне, тем, что у них вечные проблемы с собственной душой. Карамазовы способны на любое преступление, но совершают они преступление лишь в виде исключения, ибо им по большей части достаточно совершить преступление в мыслях, во сне, в игре с возможностями. В этом их тайна. Поищем же ей формулу.
Любое формирование человека, любая культура, любая цивилизация, любой порядок основываются на соглашении относительно разрешенного и запрещенного. Человек, находящийся на пути от животного к далекому человеческому будущему, постоянно должен многое, бесконечно многое в себе подавлять, скрывать, отрицать, чтобы быть человеком порядочным, способным к человеческому общежитию. Человек заполнен Животным, заполнен древним прамиром, заполнен чудовищными, вряд ли укротимыми инстинктами по-звериному жестокого эгоизма. Все эти опасные инстинкты у нас в наличии, всегда в наличии, однако культура, соглашение, цивилизация их скрыли; их не показывают, с детства учась прятать и подавлять эти инстинкты. Но каждый из этих инстинктов время от времени прорывается наружу. Каждый из них продолжает жить, ни один не искоренен до конца, ни один не облагорожен и не преобразован надолго, навечно. И ведь каждый из этих инстинктов сам по себе не так уж и плох, не хуже любых других, вот только у всякой эпохи и всякой культуры существуют инстинкты, которых опасаются и которые преследуют больше других. И вот когда эти инстинкты снова просыпаются, как необузданные, лишь поверхностно и с трудом укрощенные стихии, когда звери снова рычат, а рабы, которых долгое время подавляли и стегали бичами, восстают с воплями древней ярости, вот тогда появляются Карамазовы. Когда устает и начинает шататься культура, эта попытка одомашнить человека, тогда все более и более распространяется тип людей странных, истерических, с необычными отклонениями - подобных юношам в переходном возрасте или беременным женщинам. И в душах поднимаются порывы, которым нет имени, которые - исходя из понятий старой культуры и морали следует признать дурными, которые, однако, способны говорить таким сильным, таким естественным, таким невинным голосом, что всякое добро и зло становятся сомнительными, а всякий закон - зыблемым.
Такими людьми и являются братья Карамазовы. Они с легкостью относятся к любому закону как к условности, к любому законнику - как к филистеру, с легкостью переоценивают всякую свободу и непохожесть на других, с пылом влюбленных прислушиваются к хору голосов в собственной груди.
Но из хаоса, царящего в этих душах, вовсе не обязательно рождается преступление и произвол. Стоит придать прорвавшемуся наружу древнему инстинкту новое направление, новое имя, новый свод ценностей - как возникнут корни новой культуры, нового порядка, новой морали. Ибо так обстоит дело с любой культурой: убить в себе инстинкты, то есть зверя, мы не можем, поскольку с ними умерли бы и мы сами, но мы можем в какой-то мере направить их, в какой-то мере их успокоить, в какой-то мере подчинить их служению «доброму» - как впрягают норовистого коня в приносящую пользу повозку. Вот только блеск этого «доброго» время от времени стирается, блекнет, инстинкты утрачивают в него веру, не желают больше ему подчиняться. Тогда рушится культура - чаще всего не сразу, как, например, столетиями умирало то, что мы именуем «античностью».
А пока старая, умирающая культура и мораль еще не сменились новыми, в это глухое, опасное и болезненное безвременье человек должен снова заглянуть в свою душу, должен снова увидеть, как вздымается в ней зверь, как играют в ней первобытные силы, которые выше морали. Обреченные на это, призванные к этому, предназначенные и приготовленные к этому люди - и есть Карамазовы. Они истеричны и опасны, они так же легко становятся преступниками, как аскетами, они ни во что не верят, их безумная вера - сомнительность всякой веры.
Любой символ имеет сотню толкований, из которых каждое может быть верным. И Карамазовы могут иметь сотню толкований, мое - лишь одно из них, одно из ста. Человечество, находящееся на пороге великих преобразований, создало себе в этой книге некий символ, образ - так же, как спящий создает во сне образ раздирающих его и уравновешивающих друг друга инстинктов.
Это чудо, что один человек смог написать «Карамазовых». Что ж, раз чудо случилось, нет нужды его объяснять. Зато есть нужда, и очень глубокая нужда истолковать это чудо, прочесть сие писание с наивозможной полнотой, с наивозможной всесторонностью, с наивозможной силой проникновения в его светлую магию. Один из опытов в этом роде и есть моя попытка высказать некоторые мысли и соображения, не более того.
Пусть, однако, не думают, будто я держусь того мнения, что Достоевский сознательно разделял высказанные здесь мною мысли и соображения! Напротив, ни один великий ясновидец или поэт никогда не мог до конца истолковать собственные видения!
Под конец я хотел бы кратко отметить, как в этом романе-мифе, в этом сне человечества не только изображен порог, через который ныне переступает Европа, этот мучительный, опасный момент провисания между ничем и всем, но и, как всюду, в нем чувствуются и угадываются богатые возможности нового.
В этом отношении особенно удивительна фигура Ивана. Он предстает перед нами как человек современный, приспособившийся, культурный - несколько холодный, несколько разочарованный, несколько скептический, несколько утомленный. Но чем дальше, тем он становится моложе, становится теплее, становится значительнее, становится более Карамазовым. Это он сочинил «Великого инквизитора». Это он проходит путь от отрицания, даже презрения к убийце, за которого он держит брата, к глубокому чувству собственной вины и раскаяния. И это он всех резче и причудливее переживает душевный процесс конфронтации с бессознательным. (А ведь вокруг этого все и крутится! В этом ведь смысл всего заката, всего возрождения!) В последней книге романа имеется престранная глава, в которой Иван, возвращаясь от Смердякова, застает в своей комнате черта и битый час беседует с ним. Этот черт - не что иное, как подсознание Ивана, как всплеск давно осевшего и, казалось бы, забытого содержимого его души. И он знает это. Иван знает это с поразительной уверенностью и ясно говорит об этом. И все же он беседует с чертом, верит в него - ибо что внутри, то и снаружи! - и все же сердится на черта, набрасывается на него, швыряет в него даже стакан - в того, о ком он знает, что тот живет внутри него самого. Пожалуй, никогда прежде не изображался в литературе столь отчетливо и наглядно разговор человека с собственным подсознанием. И этот разговор, это (несмотря на вспышки злобы) взаимопонимание с чертом - это как раз и есть тот путь, на который призваны нам указать Карамазовы. Здесь, у Достоевского, подсознание изображается в виде черта. И по праву - ибо зашоренному, культурному да моральному нашему взгляду все вытесненное в подсознание, что мы несем в себе, представляется сатанинским и ненавистным. Но уже комбинация из Ивана и Алеши могла бы дать более высокую и плодотворную точку зрения, основанную на почве грядущего нового. И тут подсознание уже не черт, но богочерт, демиург, тот, кто был всегда и из кого все выходит. Утвердить добро и зло заново - это дело не предвечного, не демиурга, но дело человека и его маленьких богов.
Отдельную главу можно было бы написать еще об одном Карамазове, о пятом, который играет в романе невероятно важную роль, хотя он остается полускрытым. Это Смердяков, незаконнорожденный Карамазов. Это он убил старика. Он - убийца, убежденный во всеприсутствии бога. Это он способен преподать урок из области материй божественных и сокрытых и самому всезнайке Ивану. Он - самый неспособный к жизни и в то же время самый знающий из всех Карамазовых. Но у меня здесь не находится места, чтобы воздать должное и ему, этому самому загадочному и жуткому персонажу.
Книга Достоевского неисчерпаема. Я бы мог целыми днями искать и находить в ней черты, указующие на одно и то же направление. Вот вспомнилась еще одна - прекрасная, восхитительная - истерия обеих Хохлаковых. Здесь перед нами карамазовский элемент - зараженность всем новым, больным, дурным - дан в двух фигурах. Одна из них, Хохлакова-мать, просто больна. В ней, чья сущность коренится еще в старом, традиционном, истерия - это только болезнь, только слабость, только глупость. У роскошной дочери ее - это не усталость, превращенная в истерию, проявленная в ней, но некий избыток, но будущее. Она, терзаемая муками прощающейся с детством, созревающей любви, доводит свои причуды и фантазии до куда большего зла, чем ее незначительная мать, и все же и у дочери проявления даже самые обескураживающие, непотребные и бесстыдные исполнены такой невинности и силы, которые указывают на плодотворное будущее. Хохлакова-мать - истеричка, созревшая для клиники, и ничего больше. Дочь ее - неврастеничка, болезнь которой является знаком благородных, но скованных сил.
И что же, эти душевные бури выдуманных романных персонажей должны означать закат Европы?!
Разумеется. Они означают его точно так же, как в глазах нашей души любая травинка весной означает жизнь и ее вечность и как всякий носимый ветром лист в ноябре означает смерть и ее неизбежность. Ведь закат Европы будет, возможно, разыгрываться лишь внутри, лишь в душевных недрах поколения, лишь в переиначивании устаревших символов, в переоценке душевных ценностей. Как и античность - это первое блестящее воплощение европейской культуры - погибла не из-за Нерона, не из-за Спартака и не из-за германцев, но всего лишь из-за порожденной в Азии мысли, той простой, стародавней, немудреной мысли, которая существовала испокон веков, но которая как раз в ту пору обрела форму учения Иисуса.
Конечно, «Карамазовых» при желании можно рассматривать и сугубо литературно, как «произведение искусства». Если подсознание целого материка и целой эпохи воплощается в видениях одного-единственного пророка-мечтателя, если оно прорвалось наружу в его жутком хриплом крике, то этот крик можно, разумеется, рассматривать и с точки зрения учителя просодии. Достоевский, вне всякого сомнения, был и весьма одаренным писателем, несмотря на нагромождения чудовищных несообразностей, которыми полнятся его книги и от которых свободен какой-нибудь маститый «только-писатель», например Тургенев. Исайя[4] также был весьма одаренный писатель, но разве это в нем важно? У Достоевского, и особенно в «Карамазовых», отыскиваются следы той почти неестественной безвкусицы, которой не бывает у артистов, которая встречается только там, где стоят уже по ту сторону искусства. Как бы там ни было, но и как художник этот русский пророк всюду дает почувствовать свою силу в качестве художника мирового значения, и странно думать о том, какие художники считались великими европейскими писателями в ту пору, когда Достоевский уже написал все свои произведения.
Но я сбиваюсь на второстепенное. Я хотел сказать: чем менее такая, мирового значения, книга является произведением искусства, тем, может быть, истиннее заключенное в ней пророчество. При этом, конечно, и «роман», и «сюжет», и «образы» Карамазовых говорят так много, высказывают столько значительного, что кажутся непроизвольной игрой фантазии отдельного человека, не произведением литератора. Взять хотя бы такой, говорящий сразу обо всем, пример: ведь главное в романе заключается в том, что Карамазовы невиновны!
Эти Карамазовы, все, все четверо, отец и сыновья, - люди подозрительные, опасные, ненадежные, у них странные прихоти, странная совесть, странная бессовестность, один из них пьяница, другой сладострастник, один - бегущий от мира фантаст, другой - тайный создатель богохульных творений. В них заключено много угрозы, в этих странных братьях, они хватают людей за бороды, они отнимают чужие деньги, грозят убийством - и все же они невиновны, и все же ни один из них не совершил никакого реального преступления. Единственные убийцы в этом длинном романе, речь в котором почти исключительно ведется об убийстве, разбое и преступлении, единственные убийцы, единственные виновные в убийстве - это прокурор и присяжные, представители старого, «доброго», устоявшегося порядка, эти безупречные граждане. Они приговаривают невиновного Дмитрия, они глумятся над его невиновностью, они - судьи, они судят бога и мир по своду своих законов. И как раз они заблуждаются, как раз они совершают ужасную несправедливость, как раз они становятся убийцами, убийцами из бессердечия, из страха, из ограниченности.
Это уже не выдумка, это уже не литература. Это не рассчитанная на эффект изобретательная страсть детективщика (а и таковым является Достоевский) и не сатирическая едкость умного автора, принимающего на себя роль критика задворок общества. Это все нам известно, этот тон нам знаком, и мы давно уже ему не верим! Но нет, у Достоевского невиновность преступников и вина судей - вовсе не какая-нибудь хитрая конструкция, она так ужасна, она возникает и вырастает так незаметно и из такой глубокой почвы, что перед ней останавливаешься как вкопанный совершенно внезапно, почти в самом конце книги, как перед стеной, как перед всей болью и всей бессмыслицей мира, как перед всем страданием и всеми заблуждениями человечества!
Я сказал, что Достоевский, собственно, не писатель или не в первую очередь писатель. Я назвал его пророком. Трудно, однако, сказать, что это, собственно, означает - пророк! Мне кажется, примерно следующее: пророк - это больной, так же, как Достоевский в действительности был истериком, почти эпилептиком. Пророк - это такой больной, который утратил здоровый, добрый, благодетельный инстинкт самосохранения, являющийся воплощением всех буржуазных добродетелей. Пророков не может быть много, иначе мир распался бы. Подобный больной, будь то Достоевский или Карамазов, наделен той странной, скрытой, болезненной, божественной способностью, которую азиат чтит в каждом безумце. Он - прорицатель, он - знающий. То есть в нем народ, эпоха, страна или континент выработали себе орган, некие щупальца, редкий, невероятно нежный, невероятно благородный, невероятно хрупкий орган, которого нет у других, который остался у других, к их вящему счастью, в зачаточном состоянии. Эти щупальца, это ясновидческое чутье не надо понимать грубо, считая их чем-то вроде глупой телепатии и фокусов, хотя этот дар может проявляться и в таких экстравагантных формах. Дело обстоит скорее так, что «больной» этого рода обращает движение собственной души в общее, общечеловеческое. У каждого человека бывают видения, у каждого человека есть фантазия, каждый человек видит сны. И каждое видение, каждый сон, каждая фантазия или мысль человеческая на пути от подсознания к сознанию может обрести тысячи различных толкований, каждое из которых может быть правильным. Ясновидец же и пророк толкует свои видения не сам: кошмар, его угнетающий, напоминает ему не о собственной болезни, не о собственной смерти, но о болезни и смерти общего, чьим органом, чьими щупальцами он является. Этим общим может быть семья, партия, народ, но им может быть и все человечество.
То в душе Достоевского, что мы привыкли называть истерией, некая болезнь и способность к страданию послужили человечеству подобным органом, подобным путеводителем и барометром. И человечество начинает замечать это. Уже полЕвропы, уже по меньшей мере половина Восточной Европы находится на пути к хаосу, мчится в пьяном и святом раже по краю пропасти, распевая пьяные гимны, какие пел Дмитрий Карамазов. Над этими гимнами глумится обиженный обыватель, но святой и ясновидец слушают их со слезами.
1919
Размышления об «Идиоте» Достоевского
Князя Льва Мышкина, этого созданного Достоевским «идиота», часто сравнивали с Иисусом. Такое, разумеется, вполне допустимо. Любого человека можно сравнить с Иисусом, приобщившимся к некоей магической истине, не отделявшим с тех пор мысли от жизни и потому сделавшимся одиноким даже в кругу близких и врагом для всех. Поэтому сходство Мышкина и Иисуса не кажется мне особенно удивительным; лишь одна, правда, важная черта его удивляет: робкое целомудрие. Скрытый страх перед полом и зачатием - черта, отнюдь не чуждая «историческому», евангельскому Иисусу, и это явственным образом относится к его мировой миссии. Даже то поверхностное изображение Христа, какое дает Ренан[1], не лишено этой черты.
Но вот что странно: как бы мало ни нравилось мне вечное сравнение Мышкина с Христом, я все же усматриваю какую-то непостижимую связь между этими двумя образами. Такое пришло мне на ум лишь позднее - и довольно занятным путем. Однажды, когда я размышлял об этом безумце, я вдруг понял, что первая моя мысль о нем всегда обращена на что-то второстепенное. Когда я размышляю о нем, в первый момент он видится мне в какой-то особой, побочной сцене, которая не важна сама по себе. Точно так же и Христос [...]
Когда я думаю о Мышкине, об этом «идиоте», он тоже видится мне сначала не в какой-нибудь важный момент, а именно в момент такой же неправдоподобный, полный изоляции, трагического одиночества. Сцена, которую я имею в виду, - вечер в Павловске, в доме Лебедева, где князь, через несколько дней после эпилептического припадка, на правах выздоравливающего принимает визит семьи Епанчиных. Неожиданно среди этого веселого, элегантного общества, чувствующего тем не менее какую-то скрытую напряженность и тревогу, появляются молодые господа, бунтари и нигилисты такие, как словоохотливый малый Ипполит со своим так называемым сыном Павлищевым «боксером» и прочими. При чтении эта противная, во всяком случае неприятная, сцена вызывает возмущение и кажется отвратительной, когда все эти ограниченные, обманутые молодые люди оказываются как бы на залитой чересчур ярким, резким светом арене, голые и уязвимые в своей беспомощной озлобленности. Каждое, буквально каждое сказанное ими слово причиняет боль дважды: во-первых, своим воздействием на доброго Мышкина, а во-вторых - той жестокостью, что разоблачает самого говорящего и дает возможность понять цену ему. Вот эту сцену - редкостную, незабываемую, но не особенно важную и не отмеченную как-либо в самом романе - я и имею в виду. С одной стороны общество, элегантные светские люди, богатство, влиятельность и консерватизм; с другой - разъяренная молодежь, безжалостная, не признающая ничего, кроме мятежа, кроме ненависти к существующему порядку вещей, безрассудная, беспутная, буйная, невыразимо тупая, при всем своем теоретическом интеллектуализме, а между обеими группами - князь, одинокий, легко уязвимый, под критическими, пристальными взглядами с обеих сторон. И как же разрешается это положение? Оно разрешается тем, что Мышкин, совершив лишь несколько мелких промахов, вызванных волнением, поступает в полном соответствии со своей доброй, нежной, детской натурой, с улыбкой терпя невыносимое, на бесстыдство отвечая самоотверженностью, готовностью взять на себя всякую вину, счесть ее своей, - и он терпит полное поражение, подвергаясь осмеянию со стороны не той или другой группы, скажем, молодых, или пожилых людей, но с обеих сторон! Все отворачиваются от него, он задел всех. В один миг внешние расхождения этого общества - возраст, образ мыслей - исчезли; все едины, полностью едины в своем возмущении и гневе против того единственного поистине чистого человека, какой оказался среди них!
Почему же такого рода безумцы невыносимы в мире иных людей? Почему их никто не понимает, хотя они по-своему любят почти всех, хотя их кротость располагает к ним почти всех, часто кажется даже примером для подражания? Что отделяет этих зачарованных людей от остальных, обыкновенных? И почему последние оказываются правыми, отвергая их? Почему они могут поступать так и не ошибаться? Почему у них все получается как у Иисуса, которого в конце концов оставил не только весь свет, но и все его ученики?
Это происходит потому, что безумец мыслит иначе, нежели другие. Дело не в том, что он мыслит не просто менее логично, не просто более по-детски ассоциативно, чем они. Его мышление я назвал бы «магическим». Он, этот кроткий безумец, отрицает целиком жизнь, мышление, чувство - вообще мир и реальность всех прочих людей. Для него действительность совершенно иная, нежели для них. Их действительность ему кажется всецело призрачной. И вот потому, что он видит совершенно новую действительность и требует осуществления ее, он делается врагом для всех.
Разница не в том, что те ценят власть и деньги, семью и государство, а он - нет. И не в том, что он представляет нечто духовное, а они материальное, или как бы там все это ни называлось! Не в этом тут дело. Материальное существует и для безумца, он тоже признает значимость таких вещей, даже если и считает их не многого стоящими. Его требования, его идеалы несхожи с устремлением индийских аскетов, стремящихся уйти прочь от мира иллюзорной действительности ради удовлетворенности духа самим собою, что и представляется им единственно реальным.
Нет, о взаимных притязаниях природы и духа, о необходимости их совместного действия Мышкин легко договорился бы с прочими. Но для них совместность существования и равная значимость обоих миров - лишь нечто теоретическое, а для него - сама жизнь! Чтобы это стало яснее, попробуем представить себе дело с несколько иной стороны.
Мышкин отличается от прочих людей тем, что он «идиот» и эпилептик, но также и весьма неглупый человек, состоит в куда более близких и непосредственных отношениях с бессознательным, нежели они. Наиболее возвышенное из пережитого им - это те доли секунды высшей силы чувства и проницательности, которые он пережил однажды, ощутив свою способность на какой-то, словно освещенный молнией миг стать всем: сочувствовать всем, сострадать всем, понять и принять все, что только есть на свете. Он владеет волшебством, и свою мистическую мудрость он не вычитал, ценя ее, не выучил, удивляясь ей, но действительно вжился в нее (пусть даже на мгновения). Его не только посещают редкие мысли, важные прозрения; однажды или даже не раз он оказывается на той таинственной грани, за которой можно принять все, за которой верна не только данная мысль, но и мысль, ей противоположная.
Это страшно, и не зря он внушает страх другим. Он ведь не совсем одинок, не весь свет против него. Есть несколько человек, весьма сомнительных, внушающих опасения и прямо опасных, которые временами сочувствуют ему и понимают его: Рогожин, Настасья Филипповна. Его понимают преступник и истеричка - его, невинное, кроткое дитя! Но, бог мой, это дитя не столь кроткое, каким кажется. Невинность его отнюдь не безобидна, и не зря люди боятся его.
Безумец временами близок к той грани, за которой вместе с данной мыслью ему представляется истинной и противоположная. Значит, у него возникает чувство, будто не существует вообще никаких мыслей, никаких законов, никаких видов и форм, которые были бы правильны и истинны не иначе, как при рассмотрении с одного полюса, то есть что с каждым полюсом соотносится ему противоположный. Но установление единственного полюса, определение одной точки зрения, откуда рассматривается и организуется мир, есть первейшая основа всякого разграничения, всякой культуры, всякого общества и морали. Кто считает, что дух и природа, добро и зло могут хоть на единый миг поменяться местами, тот злейший враг всякого порядка. Ибо отсюда происходит противоположность этого самого порядка, отсюда начинается хаос.
Образ мысли, возвращающий нас к бессознательному, к хаосу, уничтожает всякий человеческий порядок. «Идиоту» сказали однажды, что он обязан говорить «да» лишь истине, только и всего, - воспоследовало же нечто устрашающее! Вот так-то: все истинно, всему можно сказать «да». Но чтобы упорядочить мир, чтобы достигнуть какой-либо цели, чтобы стали возможными закон, общество, организация, культура и мораль, для этого за «да» должно следовать «нет», мир должен быть поделен на противоположности, на добро и зло. Даже если первоначально введение каждого «нет», каждого запрета вполне произвольно, оно делается священным, как только стало законом, как только обрело далеко идущие последствия, как только сделалось основой некоторой системы взглядов, порядка.
Высшая реальность для человеческой культуры - вот такое деление мира на тьму и свет, добро и зло, дозволенное и запретное. Для Мышкина же высшей реальностью представляется обратимость каждого установления, равнозначность данного и противоположного полюсов. «Идиот» - продолжая мысль до конца вводит матриархат бессознательного, упраздняет культуру. Он не разбивает скрижалей закона, он обращает их другой стороной и показывает, что там начертано противоположное.
И то, что этот враг порядка, этот грозный разрушитель выведен не преступником, а милым, робким человеком, полным какой-то детской прелести, сердечной верности и самозабвенной доброты, - есть тайна этой устрашающей книги. Из самых глубоких побуждений Достоевский изображает этого человека больным, эпилептиком. Все носители нового, устрашающего, неизвестного будущего, все предвестники уже ощущаемого хаоса - у Достоевского больные, подозрительные, отягощенные чем-то люди: Рогожин, Настасья Филипповна, позже - четверо Карамазовых. Все они - странные, особенные фигуры, но перед их исключительностью и болезненностью мы испытываем своего рода священный трепет - вроде того, с каким жители Азии относятся к умалишенным.
Примечательным же и необычным, важным и наводящим на размышления следует считать не то, что где-то в России пятидесятых и шестидесятых годов гениальный эпилептик был обуреваем подобными фантазиями и создал подобные образы. Важно то, что в последние три десятилетия молодежь Европы все сильнее чувствует значительность и пророческий смысл этих книг. Необычно то, что в преступников, истериков и безумцев Достоевского мы вглядываемся совсем иначе, нежели в образы преступников и сумасшедших, выведенных в романах других писателей, что мы так тревожимся за них, так странно их любим, что мы и в себе находим нечто родственное этим людям, сходное с их чертами.
Дело тут не в случайности и отнюдь не в сторонних обстоятельствах или литературных особенностях произведения Достоевского. Некоторые черты его просто сбивают с толку; вспомним хотя бы о том, что он предвосхитил так развившуюся потом психологию неосознанного; его произведение удивляет нас не какими-либо особенно высокими достижениями или законченностью, не художественным отображением в основном знакомого и привычного нам мира нет, мы воспринимаем его как пророчество, как предвестника разрушения и хаоса, какими на наших глазах несколько лет назад была охвачена Европа. Мир созданных им фигур едва ли можно понимать как изображение будущего, как некий идеал; таким его и не считал никто. Нет, мы видим в Мышкине и других подобных ему фигурах не образец для подражания: «Таким ты должен стать!», но неизбежность: «Через это мы должны будем пройти, это наша судьба!»
Будущее неопределенно, путь же к нему указан здесь недвусмысленно. Направление его - к новому душевному строю. Он ведет через Мышкина, требует «магического» мышления, принятия хаоса. Это возврат к неупорядоченному, возврат к бессознательному, лишенному формы, к животному состоянию и еще далее - к началу начал. Не ради того, чтобы превратиться в животное или стать первозданной материей, но чтобы обрести новые ориентиры, чтобы у корней нашего бытия отыскать забытые инстинкты и возможности нашего развития, чтобы вновь приняться за созидание, оценку, разграничение нашего мира. На этом пути не стоит искать какой-то программы, и никакой переворот не откроет туда дверь.
Каждый вступает на него в одиночку, сам по себе. В жизни каждого из нас будет время, когда мы окажемся у той хорошо известной Мышкину грани, за которой исчезают одни истины и возникают другие. Каждый из нас в какое-то мгновение своей жизни испытывает примерно то же, что Мышкин в секунды озарения и что сам Достоевский испытал в те минуты, когда уже стоял на эшафоте, сойдя с которого он обрел взор пророка.
1919
Людвигу Финку[1]
Берн, 10 апреля 1919
Дорогой Угель,
в эти дни я веду бродячую жизнь, почти лишен угла, где мог бы устроиться, поэтому на твое милое письмо отвечаю лишь кратким выражением благодарности. Спасибо за помощь, которую ты мне любезно предлагаешь. Я не могу ее принять, у меня есть деньги в Германии, да только здесь они ничего не стоят. II все же я благодарен тебе!
Что касается остального, то над этим стоит поразмышлять каждому из нас. Меняется мир, но не меняется истина, и то, что было дано почувствовать великим душам от Лао-цзы и Иисуса до наших дней, ни в коей мере не отменяется переживаниями отдельного человека. Конечно, проще всего возложить вину за наши беды на других, я это знаю не хуже тебя. Но я знаю также, что вина никогда не бывает односторонней, как не была она таковой и в этой войне, ее следует возложить на обе стороны. Признание чужой вины еще никому не пошло на пользу, ибо при этом забывалась вина собственная. Я вспоминаю слова, которые ты в начале войны говорил о других, например о швейцарцах. Ты был в высшей степени искренен, произнося их, что не помешало тебе судить о незнакомых людях односторонне и несправедливо. В твоих словах для них заключалась смертельная обида. Вероятно, и мне пришлось ненароком обидеть тебя иным словом, высказать которое было для меня внутренней потребностью. Но если бы я без конца твердил о вине другого только потому, что его взгляды не совпадают с моими, я пошел бы по неверному пути. По пути, который ведет к взаимному уничтожению во имя правды. Б моих глазах это совершенно безнадежный путь. Да, Германию перестали понимать, да, у нее было больше врагов, чем друзей. Все это печально, и в этом не только она одна виновата. Но перемены к лучшему не наступят до тех пор, пока Германия, как и прежде, будет настаивать на своей правоте, а у других видеть только злую волю. За это мы сегодня расплачиваемся. Когда-нибудь выяснится, что и противник был виноват, но никогда не удастся выдать за дальновидную политику постройку германского флота, нападение на Бельгию или выступление Германии против России на переговорах в Брест-Литовске.
Я никогда не требовал от своих друзей, чтобы они разделяли мои взгляды; пусть каждый думает так, как он считает нужным. Нетерпимым, по-моему, надо быть только по отношению к самому себе, а не к другим. У меня много друзей, которые занимают политические позиции, противоположные моим, а среди моих политических единомышленников немало людей, которых я не принимаю всерьез.
Я пишу тебе в спешке. На днях я покидаю Берн, чтобы поискать место для работы в Тессине. Надеюсь, мне удастся преодолеть теперешний упадок, и я еще поживу и поработаю. Здоровье мое никуда не годится, но я не теряю надежды, что теперь, после пяти безумных лет войны, прожитых мной без внутреннего участия, здоровье мое пойдет на поправку. А если ничего не выйдет и нынешние мои трудности усугубятся, то я оставлю семью на произвол судьбы и вернусь в Германию. Я целиком и полностью разделяю твою мысль, что побежденная Германия будет честнее и чище той, какой она стала бы в случае победы. Поражение для меня обернулось такими же утратами, как и для всех вас. Но куда труднее было бы пережить ее победу, победу заносчивости и притязаний на мировое господство, которые были официальной политикой Германии вплоть до ее краха.
Самуэлю Фишеру[1]
27 августа 1919
Мой дорогой господин Фишер,
я был сердечно обрадован, когда получил от Вас еще одно обстоятельное письмо; почитаю за честь для себя, что Вы потратили на него часть Вашего короткого отпуска.
Вы совершенно правы в том, что касается Демеля[2], я тоже люблю и почитаю людей такого склада. Но именно в этой книге я внезапно ощутил пропасть, которая отделяет его от современной молодежи. То же можно сказать о Гауптмане[3] и об отношении немецких писателей к политике, недавно я писал об этом Вашей супруге. Во всех этих вещах и вопросах с самого начала войны (моя первая статья о деградации немецкого духа в военную пору появилась в Цюрихе уже осенью 1914 года) я развивался в совершенно ином направлении и с тех пор по-иному отношусь к родине и к остальному миру. Свое личное отношение к политике я попытался выразить в изданной анонимно брошюре «Возвращение Заратустры»[4], написанной в январе. Несмотря на мою просьбу откликнуться на ее появление, «Нойе рундшау»[5] не сделала этого, вероятно, с полным на то основанием. Но молодежь, и молодежь разная, отреагировала на нее бурно, мне задавали много вопросов, многие нападали на меня, и многие одарили меня доверием. К сожалению, все это пришло ко мне с большим опозданием, после военных лет и ударов судьбы, изменивших и подорвавших все мое существование. Слишком поздно пришло и Ваше любезное приглашение в Берлин. Я выбрал свой путь в годы невыносимого одиночества и буду хранить ему верность до конца не из каких-либо соображений, не из расчета, а просто по закону тяготения.
А теперь о делах! Мне кажется, Ваша тревога по поводу выхода моей книжки в венском издательстве Таля[6] не имеет под собой никаких оснований. Вообще говоря, она должна была выйти в одном швейцарском издательстве. К изданию ее готовил мой друг, гонорар он выплачивает мне франками, Таль всего лишь печатник и технический редактор. Кроме того, для меня принадлежность к этой серии означает выражение солидарности с Ролланом, Барбюсом, Цвейгом и другими немногочисленными людьми духа, с которыми в годы войны я ощущал душевную близость. Книжечка увидит свет лишь однажды, потом я не стану ее переиздавать, в том числе и у Вас, а распределю вошедшие в нее тексты по другим своим книгам.
О них я могу сказать пока очень немногое. Вы и сами заметили, что литератор Гессе в последние годы изменился и поменял кожу. Я пока еще не знаю, как далеко я пойду вместе с экспрессионистами; во всяком случае, со времен войны, примерно с 1917 года, мой курс совершенно изменился. Я анонимно опубликовал «Заратустру» (чтобы не отпугивать молодежь знакомым именем старого писателя). Под псевдонимом же был написан (еще в 1917 году) и «Демиан»[7]; Ваша супруга раскрыла меня, но я прошу Вас пока не выдавать тайну. Все это, включая позднейшие из моих «Сказок», было первыми попытками освобождения, которое, как мне кажется, близится к завершению. Здесь, в Монтаньоле, я закончил две большие работы, одну из них через некоторое время я намерен послать в «Нойе рундшау».
Предполагаю, что и Вы как издатель пострадаете от этих перемен. Круг покупателей моих книг, особенно последних, будет стремительно сужаться. Мне это безразлично. Экономический крах нанесет мне большой ущерб и круто изменит мою жизнь, но это не кажется мне столь уж существенным.
А теперь просьба. Иногда у меня возникает предчувствие, что со мной может что-то случиться. На этот случай прошу Вас пометить, что непременно надо издать следующие мои книги:
Книгу, включающую три повести, мои новейшие и самые смелые работы. Содержание: новелла «Душа ребенка» (находится сейчас в «Нойе рундшау» у Петеля), повесть «Клейн и Вагнер» и слегка фантастический рассказ «Последнее лето Клингзора». Две последние рукописи лежат у меня, вторая еще не совсем готова, когда закончу, предложу ее «Рундшау».
Книга повестей станет самым важным моим произведением, она и еще «Демиан». Название для нее я еще не придумал. Далее, мне хотелось бы, в случае, если я сам не займусь этим, чтобы в память обо мне не предпринимались собрания сочинений и прочие необязательные вещи, но чтобы вместо них была издана небольшая, красивая и недорогая подборка моих стихотворений. Подготовительную работу я уже начал, материалы находятся у меня. Очень прошу Вас не забыть об этих моих просьбах. [...]
Дорогой господин Фишер, ветер жизни и судьбы дует и здесь, в Монтаньоле, в моем рабочем кабинете над старым садом. Берлин ничего во мне не изменит. Но для меня будет радостью и утешением знать, что Вы думали обо мне, приглашали меня к себе и что я могу рассчитывать на Вашу дружбу.
О чтении книг
Врожденная потребность нашего духа - устанавливать типы и подразделять на них все человечество. От «Характеров» Теофраста[1] и четырех темпераментов наших прадедушек и вплоть до наисовременнейшей психологии постоянно ощущается эта потребность в типологизирующем порядке. Да и любой человек часто бессознательно делит людей своего окружения на типы - по сходству с теми характерами, которые стали важными для него в детстве. Как ни привлекательны и благодатны такие деления - не важно, исходят ли они из чисто личного опыта или стремятся к некоей научной типологии, - иной раз может оказаться уместной и плодотворной попытка наметить новый срез опыта, констатируя, что в любом человеке имеются черты любого типа и что самые противоположные характеры и темпераменты, как сменяющие друг друга состояния, могут отыскаться в каждой отдельной личности.
Так что если я в нижеследующих заметках намечу три типа или, лучше сказать, три ступени читателей, то я вовсе не хочу тем самым утверждать, что весь читательский мир делится на эти три категории таким образом, будто этот принадлежит к этой категории, а тот - к той. Но каждый из нас в разное время своей жизни принадлежит то к одной, то к другой группе.
Вот прежде всего читатель наивный. Каждый из нас временами читает наивно. Такой читатель проглатывает книгу, как едок пищу, он лишь берущий, он ест и пьет досыта, будь то Мальчик за книжкой об индейцах, горничная за романом из жизни графини или студент за Шопенгауэром. Такой читатель относится к книге не как личность к личности, но как лошадь к овсу или даже как лошадь к кучеру: книга ведет, читатель следует за ней. Сюжет книги воспринимается объективно, принимается за действительность. Но не только сюжет! Есть весьма образованные и даже рафинированные читатели художественной литературы, которые целиком принадлежат к классу наивных. Они хоть и не ограничиваются сюжетом, оценивают роман не по тому, сколько встречается в нем смертей и свадеб, но воспринимают самого автора, эстетическую природу книги как объективную. Они разделяют все восхищения и воспарения автора, они полностью вживаются в его мироощущение и беспрекословно принимают те толкования, которые автор дает плодам своего воображения. Что для простых душ означает сюжет, обстоятельства, действие, то для этих изощренных - мастерство, язык, знания автора, его духовность; они воспринимают все это, как нечто объективное, как последнюю и высочайшую ценность литературы - точно так же, как юный читатель Карла Мая[2] принимает деяния Старого Чулка за существующую реальность.
Этот наивный читатель в его отношении к чтению вообще не является личностью, то есть самим собой. Он либо оценивает события романа по их напряженности, их насыщенности опасными приключениями, их эротике, их блеску или нищете, либо вместо этого оценивает самого автора, достижения которого он меряет той меркой, которая в конце концов всегда оказывается привычкой. Такой читатель не сомневается в том, что книга для того единственно и существует, чтобы с чувством и толком прочесть и по достоинству оценить ее содержание или форму. То есть книга - это что-то вроде хлеба или постели.
Однако, как и ко всему в мире, к книге можно относиться иначе. Стоит только человеку следовать своей природе, а не воспитанию, как он становится ребенком и начинает играть с предметами; тогда хлеб превращается в гору, в которой прорывают тоннель, постель становится пещерой, садом или полем, занесенным снегом. Что-то от этой детскости и этого игрового гения обнаруживает в себе второй тип читателя. Этот читатель ценит не столько сюжет или форму произведения, сколько его истинные, более важные ценности. Этот читатель знает, как знают дети, что у каждой вещи может быть и десять, и сто значений. Этот читатель может, например, следить за тем, как писатель или философ пытается навязать себе самому и читателю свою оценку вещей, - и улыбаться этим усилиям, усматривая в кажущейся свободе и произволе автора только пассивность и принуждение. Этот читатель ведает и то, что по большей части остается совершенно неизвестным профессорам-литературоведам и литературным критикам: что таких вещей, как свободный выбор сюжета и формы, вовсе не существует. Где историк литературы говорит, что Шиллер избрал в таком-то году такой-то сюжет и решил изложить его пятистопным ямбом, там такой читатель знает, что ни сюжет, ни ямб не были предметом свободного выбора поэта, и удовольствие для него состоит в том, чтобы видеть, не что делает с сюжетом поэт, но что делает сюжет с поэтом.
Для подобной точки зрения так называемые эстетические ценности почти вовсе теряют свою цену, и как раз всякие промахи и несовершенства могут приобрести большую привлекательность. Ибо такой читатель идет за писателем не как лошадь за кучером, а как охотник по следу, и внезапный взгляд, брошенный по ту сторону кажущейся поэтической свободы, взгляд, подмечающий пассивность и принуждение поэта, может извлечь в нем больший восторг, нежели все прелести добротной техники и изысканного словесного мастерства.
Двигаясь по этому пути еще дальше, мы встречаем третий, и последний тип читателя. Еще раз подчеркнем, что никто из нас не обязан на веки вечные оставаться в одной из этих категорий, что любой из нас может сегодня принадлежать ко второй, завтра к третьей, а послезавтра снова к первой группе. Итак, наконец, третья, и последняя ступень.
Она выглядит полной противоположностью тому, что принято именовать «хорошим» читателем. Этот третий читатель в такой степени личность, настолько ни на кого не похож, что он - полный властелин в царстве своего чтения. Он не ищет в книге ни просвещения, ни развлечения, он использует книгу - как и любую другую вещь в этом мире - только как отправную точку, как побуждение. Ему, в сущности, все равно, что он читает. Он читает философа не затем, чтобы ему верить, чтобы перенять его учение, и не затем, чтобы противодействовать ему и критиковать его, он читает поэта не для того, чтобы тот объяснил ему, как устроен мир. Он сам все объясняет. Он, если угодно, совершенное дитя. Он играет со всем - а с определенной точки зрения нет ничего плодотворнее и прибыльнее, чем все превращать в игру. Ежели такой читатель находит в книге какую-нибудь красивую сентенцию, истину, изречение, то он первым делом переворачивает находку наизнанку. Он давно знает, что и отрицание всякой истины тоже истинно. Он давно знает, что всякая точка зрения в области духа является полюсом, у которого существует столь же славный противополюс. Он, как ребенок, в достаточной степени ценит ассоциативное мышление, но он знает и другое. Таким образом, этот читатель, или, вернее, каждый из нас, когда он находится на этой ступени, может читать что угодно - роман, грамматику, расписание дорожного движения, образцы типографских шрифтов. В то время когда наша фантазия и ассоциативная способность находятся на высоте, мы все равно ведь читаем не то, что написано на бумаге, но купаемся в потоке озарений и побуждений, изливающихся на нас из прочитанного. Они могут явиться из текста, но могут возникнуть и из колонок наборного шрифта. И объявление в газете может стать откровением. Самая счастливая и торжествующая мысль может возникнуть из совершенно безжизненного слова, которое крутят так и этак, играя в его буквы, как в мозаику. В таком состоянии сказку о Красной Шапочке можно читать, как некую космогонию или философию или как роскошную эротическую поэзию. Можно просто прочесть «Colorado maduro» на каком-нибудь ящике с сигарами и, предавшись игре в эти слова, буквы и звуки, совершить сокровенное путешествие по всем ста царствам знания, памяти и мысли.
Но - тут могут упрекнуть меня - чтение ли это? Можно ли вообще назвать читателем человека, прочитывающего страницу Гете, не давая себе труда вникнуть в намерения и мнения Гете, словно это какое-нибудь объявление или случайный набор букв? Не является ли та ступень чтения, которую ты называешь третьей, и последней, на самом деле самой низкой, самой детской, самой варварской? Куда девается для такого читателя музыка Гельдерлина[3], страсть Ленау[4], воля Стендаля, глубина Шекспира? Что ж, упрек справедлив. Читатель третьей ступени - не читатель вовсе. Человек, который задержался бы на этой ступени надолго, в конце концов вообще перестал бы читать, потому как рисунок ковра или расположение камней в ограде представляли бы для него не меньшую ценность, чем самая прекрасная страница, составленная из идеально упорядоченных букв. Единственной книгой для него стал бы листок с буквами алфавита.
Так и есть: читатель, находящийся на этой последней ступени, - более не читатель. Плевать ему на Гете. И Шекспир ему нипочем. Читатель, находящийся на этой последней ступени, вообще не читает больше. Да и что ему книги? Разве не заключен целый мир в нем самом?
Кто задержался бы на этой ступени надолго, не стал бы больше ничего читать. Но надолго никто на ней не задерживается. Кто, однако, не знаком с этой ступенью вовсе - тот плохой, незрелый читатель. Ведь он не знает, что вся поэзия и вся философия мира заложены и в нем самом, что и самый великий поэт черпал из того самого источника, что скрыт в каждом из нас. Побудь хоть раз в жизни, пусть недолго, пусть один только день, на этой третьей ступени «уже-не-чтения» - и ты потом станешь (вернуться ведь так легко!) куда лучшим читателем, слушателем и толкователем всего написанного. Постой хоть единственный раз на ступени, на которой придорожный камень значит для тебя столько же, сколько Гете или Толстой, - и ты потом сумеешь извлечь из Гете, Толстого и всех прочих писателей неизмеримо больше ценностей, больше сока и меда, больше утверждения жизни и тебя самого, чем когда-либо прежде. Ибо произведения Гете - это не Гете, а тома Достоевского - это не Достоевский, это лишь их попытка, их отчаянная, никогда до конца не удающаяся попытка укротить многоголосие и многозначность мира, в эпицентре которого они находились.
Попробуй хоть раз удержать короткую цепь мыслей, возникших у тебя на прогулке. Или- что кажется еще более легким - простенький сон, увиденный ночью! Тебе снилось, будто некто сначала угрожал тебе палкой, а потом вручил орден. Но кто это был? Ты силишься вспомнить, находишь в нем сходство со своим другом, отцом, но есть что-то в нем совсем чужеродное, что-то женское, каким-то образом напоминающее твою сестру, хвою возлюбленную. А ручка палки, коей он тебе угрожал, вдруг напомнила тебе шток, с которым ты еще школьником совершил свое первое путешествие, и тут прорываются сотни тысяч воспоминаний, и если ты захочешь удержать в памяти и записать содержание простого сна, хотя бы стенографически или отдельными словами, то, прежде чем ты доберешься до ордена, у тебя получится целая книга, или две, или десять. Ибо сон - это дыра, сквозь которую ты можешь увидеть содержимое собственной души, а сие содержимое - это мир, не больше и не меньше, чем целый мир, весь мир от рождения твоего и до настоящей минуты, от Гомера до Генриха Манна, от Японии до Гибралтара, от Сириуса до Земли, от Красной Шапочки до Бергсона[5]. И, так же как твоя попытка передать свой сон относится к миру, объятому твоим сном, так и произведение автора относится к тому, что он хотел сказать.
Над второй частью «Фауста» Гете ученые и дилетанты колдуют уже почти сто лет, накопив множество прекраснейших и глупейших, глубочайших и банальнейших толкований. Однако в каждом литературном произведении присутствует та тайная, скрытая под поверхностью, безымянная многозначность, которую новейшая психология именует «сверхдетерминированностью символов». Без того, чтобы хоть раз распознать ее в ее бесконечной полноте и неисчерпаемости смысла, будешь лишь узко воспринимать любого писателя и мыслителя, будешь принимать за целое лишь часть его, будешь верить толкованиям, которые едва ли захватывают и поверхность.
Перемещения читателя между этими тремя ступенями возможны, как разумеется, с любым человеком в любой области. Те же три ступени с тысячью промежуточных ступеней можно отметить в архитектуре, живописи, зоологии, истории. И всюду есть эта третья ступень, на которой ты более всего равен самому себе, и всюду она грозит уничтожить читателя в тебе, грозит разложением литературы, разложением искусства, разложением мировой истории. И все-таки, не пройдя этой ступени, ты будешь читать книги и познавать науки и искусства лишь так, как ученик читает грамматику.
1920
О романе А. Барбюса «Ясность»
Переживания военных лет изображены в этой книге, самой читаемой книге Франции последних полутора лет, еще сильнее, еще интенсивнее, чем в «Le feu» [«Огонь» (фр.)] . Начиная со второй части книга становится сплошь исповедью и сплошь обвинением, в ней с кристальной ясностью сформулировано и обобщено то, что вернувшийся с войны и очнувшийся от злого угара одиночка осознал в качестве причины войны и ненависти между народами, причины, в которой не было ни рока, ни фатальности. Барбюс выступает сторонником идеального социализма и интернационализма. В то же время он последовательный приверженец рассудочного атеизма - и здесь мое понимание событий заметно расходится с его благородной, достойной всяческого уважения точкой зрения. В этом пункте я острее всего чувствую разницу между чисто рациональным, направленным на практическое достижение политических целей западным мышлением этого замечательного и достойного идеалиста и моим собственным мышлением. В его мышлении нет ничего иррационального, религиозного, магического, никакой метафизики. Так, вероятно, и должно быть, когда речь идет о практических целях и задачах этой книги. В отличие от Барбюса, я не верю в перемены с помощью учреждений, договоров, перераспределения власти и ответственности. Я верю в перемены, идущие из самых корней, из глубин человеческой души, в то время как Барбюс и весь западный мир делают ставку на проснувшийся от спячки разум. Но к чему спорить о путях? Цель самая возвышенная, и Барбюс непреклонно идет к ней прямой дорогой «ясности», дорогой строгого рационального осознания бесполезности унаследованного национализма и милитаризма.
1920
Предисловие писателя к изданию своих избранных произведений
Один из писателей наших дней, произведения которого любят многие, получил предложение подготовить к изданию свои избранные сочинения, где в предисловии он мог бы сообщить о критериях отбора. Спустя несколько недель он переслал своему издателю следующее
Предисловие
Необходимость произвести отбор моих сделавшихся популярными сочинений понуждает меня выполнить сложную работу и принять во внимание ряд соображений, и прежде всего такое: пересмотреть все мои сочинения, с тем чтобы те или другие из них, особенно удачные, включить в число избранных.
Произведения, из которых предполагается произвести отбор, можно было бы сначала распределить по рангам внутри каждого из жанров, затем выделить те, которые занимают особое место, - потому ли, что дают более точное, нежели другие, представление о моей личности, либо потому, что особенно удались в отношении формы и содержания, ладно сделанные и приносящие радость. Это могло бы стать исходной точкой такого рода отбора.
Вместе с тем можно, видимо, предложить другой удобный выход из затруднения: я полагаю глас народа гласом божьим и попросту отбираю сочинения, которые снискали уже благосклонность читающей публики. Или можно считать лучшими моими книгами просто те, которые наиболее дружелюбно приняты критикой и распроданы в наибольшем количестве экземпляров. Правда, если бы сей божий глас и в самом деле вещал истину, мы получили бы статистическое доказательство того, что я являюсь куда более крупным писателем, чем некоторые наши самые великие, повергающие меня в почтительный трепет мастера; тогда мне осталось бы пребывать малым и сирым среди блестящих изданий некоторых современников, быть перепутанным или просто подвергнуться сравнению с ними, что для меня хуже смерти от руки убийцы. Следовательно, такой принцип отбора после недолгих размышлений пришлось, к сожалению, отвергнуть, и вся эта томительная работа осталась за мной. Мне следовало, во всяком случае, попытаться достигнуть недостижимого, предать своего рода суду мои творческие опыты, со всеми их достоинствами и недостатками, и вынести им приговор.
Возможны два способа действия: либо сравнить мои повествования с произведениями тех или иных известных писателей, либо - что, казалось бы, проще - произвести строгий отбор тех сочинений, какие мне самому кажутся более всего соответствующими моему характеру, тем или иным воззрениям, моим творческим способностям или предназначению и лучше всего представляющими их. Следовало испробовать оба пути, прежде чем выбрать один.
Итак, для начала я двинулся по первому пути, приняв произведения известных прозаиков в качестве мерила при оценке собственных. Романистов первого, высшего ранга - стоит ли говорить об этом? - я сразу исключил из рассмотрения; даже в часы прилива честолюбия мне никогда не приходило на ум сравнивать себя с Сервантесом, Стерном[1], Достоевским, Свифтом или Бальзаком. Но, думал я, осторожное, почтительное сравнение с прочими известными мастерами другого, но очень высокого ранга, вероятно, все-таки можно провести; даже если они во сто крат превосходят меня, тем не менее допустимо установить некоторое соотношение в наших устремлениях. И я думал тогда о таких почитаемых и любимых прозаиках, как Диккенс, Тургенев, Келлер[2]. Между тем и тут не нашлось точек соприкосновения. Помимо того что я считал этих мастеров неизмеримо превосходящими меня, было еще нечто, делавшее невозможным найти здесь решение или хотя бы какое-то мерило для него.
Сколько раз я ни пытался сравнить какую-либо свою книгу с тем или иным удачным произведением крупного писателя, я чувствовал, что между моими и его сочинениями нет ничего общего. Я видел, что пытаюсь найти соотношение несравнимых величин. Нет общего мерила, нет общего знаменателя. И отсюда я извлек для себя некоторую истину, нередко весьма унизительную, заключающуюся в том, что мои романы лишь кажутся сравнимыми с творениями писателей прошлого. Но общее у них - только стоящее на титульном листе наименование: «роман» или «рассказ». В действительности же я вдруг увидел с глубокой, холодной ясностью, что мои романы - вовсе не романы, а мои новеллы - вовсе не новеллы. Я абсолютно не наделен даром рассказчика. И если тем не менее сочинил некоторые вещи, которые очень напоминают рассказы, это лишь мой грех и моя слабость. Я с детства любил и много читал этих замечательных мастеров повествования; отсюда и происходит то подражательство, которого я сначала не чувствовал, а позже понял, но не слишком ясно. Полностью же я осознал его лишь теперь.
Разумеется, я не одинок в своем дилетантстве и подражательстве. В новой немецкой литературе - лет уж сто - полно подобных романов и авторов, считающих себя рассказчиками, отнюдь не будучи таковыми. Среди них есть большие, прекрасные писатели, мнимые новеллы которых я, несмотря ни на что, горячо люблю; назову из них одного Эйхендорфа. И сам я ближе именно к таким писателям - хотя бы в том, что относится к моим слабостям. Рассказ как облачение лирики, роман как условное наименование опытов поэтической души, выражение ее взгляда на мир и себя самое, что стало специфическим делом немецких романтиков, - тут все без лишних слов родственно мне и грешит тем же, что и я. К тому же вот еще что. Писателю вроде Эйхендорфа, да и многим другим совсем, казалось бы, не обязательно протаскивать лирику под фальшивым знаменем романа; они имели возможность создавать превосходную, неприкрытую, истинную лирику и, слава богу, делали это. Но лирика - не одно лишь стихотворство, лирика - прежде всего создание музыки. А то, что немецкая проза есть самый удивительный, чарующий музыкальный инструмент, - это знали многие поэты, с жаром предававшиеся изысканным наслаждениям такого рода. Но только немногие, совсем немногие имели довольно сил или чувства, чтобы отказаться от тех преимуществ (к числу их относится и большая популярность), которые они получали, используя повествовательную форму, чтобы поднять музыку прозы до тех гордых высот, куда Гельдерлин вознес своего Гипериона[3], а Ницше - Заратустру. Вот так же и я, сам того не зная, как обманутый обманщик, играл роль повествователя. А то, что при этом я обретался среди многочисленного и отчасти даже совсем не плохого общества, не служит извинением мне. Среди моих рассказов - в том не осталось никаких сомнений нет ни одного достаточно самостоятельного произведения, которое следовало бы отнести к избранным. Бери свой скарб, малыш, ступай домой! С такой точки зрения самую мысль о выборе каких-либо моих писаний следовало осудить и отвергнуть.
Подавленный сознанием этого, я ступил на другой путь. Допустим, мои книги - не самостоятельные произведения искусства, допустим, эта варварская попытка соединить несоединимое заведомо обречена на неудачу, - но они ведь имеют субъективную, преходящую ценность, являются попыткой выражения души, которая чувствует, страдает, ищет сейчас, в наше время. При отборе моих писаний следует исходить единственно из того, в каком из них мое чувство нашло наиболее полное, неподдельное, точное выражение, где истина и выразительность понесли меньше жертв из-за подражательности и несовершенства формы.
Я снова принялся за дело, и прошло несколько недель, прежде чем я перечитал почти все свои прежние писания, часто удивленный неожиданностью, стыдясь и стеная. Некоторые я уже почти забыл, видя их в воспоминаниях совсем другими, чем теперь, при повторном чтении. Многое из того, что годами и десятилетиями ранее казалось мне прекрасным и удачным, теперь выглядело смехотворным и ничего не стоящим. И во всех этих рассказах речь шла обо мне, отражался мой собственный путь, мои тайные грезы и мечты, мои горькие беды! Даже те книги, что я писал с похвальным намерением изобразить чужие судьбы и внешние конфликты, - и в них я тянул одну песню, дышал все тем же воздухом, толковал одну судьбу - свою собственную.
И среди всех этих произведений нет ни одного, на которое следовало бы обратить внимание при отборе. Нечего выбирать. Сочинения, в которых я когда-то (разумеется, неосознанно) предавался стилизации и лжи, - именно они, показавшиеся мне сегодня столь ужасными и неудачными, яснее всего разглашали эту истину, давали мне самую беспощадную оценку в глазах искушенного читателя. Как раз в тех вещах, которые я писал с горьким желанием исповедаться, теперь нашел я странные, частично непонятные окольные пути, утаивания и приукрашивания. Нет, среди этих книг не найдется ни одной, которая не была исповедью и не продиктована страстным желанием выразить наиболее сокровенное, но также и ни одной, где эта исповедь была бы полна и искренна, а желание выразить свое существо доведено до конца!
Подумав обо всех усилиях, лишениях, страданиях и жертвах, которые понадобились, чтобы создать эти книги, и сравнив их с обнаруженным сегодня результатом, я вынужден был счесть свою жизнь неудавшейся, прошедшей зря. Между тем при строгом исследовании жизнь лишь редких людей покажется иной: ни одна жизнь, ни один труд не выдержат тех идеальных требований, какие предъявляют им. Определить ценность своей личности и дела сам человек не в силах.
И все же у меня не было никаких причин разрешить издание «избранных произведений». Когда я брался за это дело, оно доставляло мне удовольствие, и в приятных мечтах я представлял себе свое «избранное» в виде четырех или пяти красивых томов. Но теперь от таких томов не осталось ровным счетом ничего, кроме этого предисловия.
1921
Письма ненависти
Немецкие студенты издавна имеют забавное и своеобразное обыкновение выражать не только свое почтение и восхищение, но также презрение и ненависть. И некоторые представители немецкого студенчества, кто тщится любой ценой сохранить давние традиции, кто настроен политически реакционно и в высшей степени националистически, шлют мне порой из разных университетов, более всего из Галле, вот такие письма с изъяснением в ненависти. Я не в состоянии отвечать на эти письма, сколь бы интересными они подчас ни были; но поскольку в них время от времени проявляются кое-какие достойные уважения, благонамеренные, даже исполненные одушевления взгляды, направленность которых тем не менее крайне опасна и внушает тревогу за наше будущее, я решил наконец все-таки заговорить об этом. За основу беру совместное письмо нескольких студентов из Галле, чьих имен не назову. Писавший счел необходимым сообщить, что он вместе со значительным числом своих единомышленников весьма недоволен мною, что он упрекает меня в тяжком пренебрежении долгом, что он вместе со своими друзьями глубоко презирает меня, что для него и его товарищей я мертв и погребен, что могу лишь служить посмешищем для них и т. д. Несколько фраз, наиболее характерных, привожу доподлинно: «Ваше искусство - это неврастеническое, сладострастное копание в красоте, влекущая сирена над дымящимися немецкими могилами, все еще разверстыми. Мы ненавидим такого поэта, хотя бы он предлагал нам и еще вдесятеро более совершенное искусство, если оно мужчин обращает в женщин, равняет нас с прочими и превращает в интернационалистов и пацифистов. Мы немцы и хотим навсегда остаться ими. Мы - молодость Шиллера и Фихте, и Канта, и Бетховена, и Рихарда Вагнера - да, да, прежде всего Рихарда Вагнера[1], чей трепетный порыв мы полюбили навеки. Мы вправе требовать, чтобы наши немецкие поэты (а если они понабрались иностранщины, так пусть убираются подобру-поздорову!) встряхнули наш дремлющий народ, чтобы они снова вели его в зачарованные сады немецкого идеализма, немецкой веры и немецкой верности!»
Можно подумать, что это наивное упоение собою, сквозящее в трескучих словах, - одно из тех стилистических упражнений, какие прежде чувствительные юноши писали друг другу в альбомы. Но думать так значило бы проявлять излишний оптимизм; за подобными фразами скрывается куда большее - конечно, не убеждения, - но сильное, болезненное, прямо-таки неврастеническое упорство, приверженность тенденциям, дальнейшее воздействие которых опасно для духовной и всякой иной жизни. Уже одно то, что студент испытывает потребность сообщить поэту: «Вы умерли для нас, мы смеемся над Вами!», есть все-таки потребность несколько необычная. Он вычитал кое-где у меня нечто показавшееся ему неврастеническим, болезненным, или «ненемецким», или «отдающим иностранщиной» - но для него оказалось недостаточным просто отложить книгу и более не обращаться к данному поэту, нет, он что-то почуял в этом поэте, какой-то яд, соблазн, нечто от иностранщины и интернационального чувства, просто человеческое, возвышающееся над отдельными нациями, нечто источающее соблазн, против которого следует тем более непримиримо бороться и истребить его на корню! О том, что этот отдающий иностранщиной, пацифистски настроенный ненемецкий поэт умер для него, что ни один порядочный, патриотически и шиллеровски мыслящий юноша не должен даже слышать о таком поэте, - обо всем этом он почел за благо громогласно и с подозрительным возбуждением прокричать мне (и себе самому).
Я не намерен, разумеется, подробно отвечать здесь на это письмо, а равно и сходные с ним, какие получаю во множестве. Меня не интересует, читают ли мои книги столько-то сотен или тысяч студентов, одобряют ли они их; у меня довольно других, более насущных забот. Но меня, несомненно, интересует отклик нынешних немецких студентов на произведения отдающего иностранщиной, пацифистски настроенного поэта, на его усилия рассеять варварство и утвердить человечность.
Интерес тут прежде всего представляет фраза, начинающаяся словами: «Мы вправе требовать». Итак, по мнению наших студентов, поэт не есть личность, создающая нечто ей необходимое - и тем более совершенное и ценное, чем точнее и безошибочнее воплощено и представлено ее существо, ее сознание, ее истина; напротив, поэт - своего рода действующее лицо, коему студенты должны указать, как следует поступать и говорить. Да ведь поэт способен обороняться, если какой-то тевтонский студентик примется звякать своим клинком! Мальчик, ты выдал себя с головой!
Но еще явственнее обнаруживает натужную, опасную ограниченность подобного мировоззрения признание пишущего, где он говорит о немцах, которых воспринимает как великих, за кем, он считает, следует идти! Он студент-медик, и, вероятно, был несколько лет на войне, и, без сомнения, проявил изрядное усердие в учении, если только он не станет серьезно уверять, что, будучи студентом, изучил все упомянутые им литературные произведения. И тут мы вправе предположить, что он почерпнул свои знания о немецкой истории и немецких гениях из лекций какого-нибудь пангерманиста либо читая тенденциозные статьи Чемберлена[2], Рорбаха[3] или в лучшем случае Науманна[4]. Несколько имен, не лишних для его программы, вроде Лютера и Гегеля, он позабыл уже, но сама программа ясна и так. В некоторое замешательство меня приводит имя Бетховена; правда, перечисляя немецких музыкантов, я не назвал бы его первым, но тем не менее оно слишком священно для меня, чтобы поминать его в связи с таким ничтожным делом. Поэтому оставим - или скорее согласимся с нашим студентом в том, что среди имен, священных для него, есть единственное, равным образом почитаемое и мной, и людьми, одинаково со мною мыслящими, - Бетховен. Пожалуй, худо, что рядом с ним нет ни Моцарта, ни Баха или Глюка - один лишь Вагнер. Но в конце концов музыка не для каждого, и почему бы юному автору письма не получить доступного ему удовольствия от «Лоэнгрина» или увертюры к «Риенци»[5]? Но он не знает ни одного из величайших немецких поэтов, его память не воскресила в тот миг, когда он перечислял собственных святых, ни одного из тех глубоких, обретших свою истину (а потому не умевших приспособиться к своему времени и оставшихся одинокими) немецких мыслителей - и вот это действительно худо. Значит, для немецких студентов такого типа существует лишь немецкий дух, однозначно и блестяще представляемый Шиллером, Фихте, Кантом! Нет Гете, нет Гельдерлина, нет Жан Поля, нет Ницше! Боюсь, автор письма слегка покривил душой; у меня возникает чувство, будто про себя такие имена, как Шарнхорст[6], Блюхер[7], Бисмарк[8], Роон[9] и т. д., он считает еще роднее. Боюсь, и Шиллера он знает более как декоратора, нежели как преобразователя, а у Канта менее внимательно прочел критику чистого, нежели практического, разума[10], да, пожалуй, Канта он тоже знает лишь как одну из звезд первой величины.
По мне же, все превозносимые автором письма представители немецкого духа принадлежат, откровенно говоря, к величинам декоративным. За два стихотворения Гельдерлина я отдам всего Шиллера, да и Фихте в придачу; а Кант, несмотря на свое величие, оказал отнюдь не одно лишь чистое и благотворное влияние на немецкий дух. По крайней мере неумолимо критический образ его мысли, равно как и абсолютная чистота метода, вовсе не представляет собой всегда подходящего примера для следовавших за ним философов и ученых Германии, а его уступки требованиям принятой, господствующей морали и раболепие перед земными владыками - и того менее.
Короче, возвещаемая с таким воодушевлением немецкая вера нашего корреспондента представляется мне решительно ничем не отличающейся от той, какая и прежде распространена была в посредственно образованных кругах немецкого общества, - удобной, несамостоятельной, поддержанной непререкаемыми авторитетами, единой с идеалами большинства обывательской веры, против которой воевал и возражал так часто Гете, о которую разбился Гельдерлин, приверженцы которой высмеивали Жан Поля, злобно порочили и клеймили Ницше. Это тот дух, который вечно возникает, когда под колыхание знамен и скрежет мечей надо провозгласить начало «великих времен» либо бросить миру свой протест на манер группы девяноста трех[11]. Это тот дух, который испытывает страх перед самим собой, а всякий отход от своего знамени принимает за сатанинское искушение, который собственное таящееся малодушие заглушает сабельным звоном. Дух этот выдает себя за истинно немецкий; поддержанный начиная с 1870 года государством[12], он протрубил о себе на весь свет. Вот поэтому те из нас, кто не выносит такой дух и считает его пугалом, сделались интернационалистами и пацифистами. Ибо подобный ложно понятый немецкий дух, говоря проще, есть именно то, что весь мир по праву винит как причину войны. Кто исповедует такую веру, несет и дальше часть этой вины. Чтобы найти выход из-под гипноза авторитетов, а равно «идеализма» весьма шатких истин, не надо, как полагает наш корреспондент, отбрасывать нечто поистине важное для немца; надо лишь позволить себе настолько отдавать иностранщиной и интернационализмом, чтобы стать готовым учиться у таких иноземцев, как Иисус, Франциск Ассизский[13], Данте и Шекспир. Вообще же то, что я проповедую и что автор письма считает не немецким и недостойным мужчины образом мыслей, можно найти у многих воистину мужественных немцев, пророков и мучеников. Только для этого следует сделать еще несколько шагов, для которых автор письма среди прочих своих занятий не нашел времени. Нужно углубиться в прошлое Германии чуть дальше классико-идеалистических времен, когда достойные, а иногда и просто гениальные люди закладывали основание того, что сейчас вырождается в казенно-немецкий образ мысли, становясь музейным экспонатом, но что при желании можно обнаружить: молодую, полную сил Германию, ее средневековую церковь и поэзию. А в более поздней Германии можно знать и ценить наряду с Вагнером и Баха, и даже Моцарта, наряду с Кантом - Шопенгауэра и Ницше, наряду с Шиллером - Гете, Гельдерлина и Жан Поля. Тогда можно остаться мужчиной и немцем и все-таки держаться важнейшей мысли о любви к человеку и разумности человека и способствовать всему этому. Конечно, с убеждениями нашего корреспондента, с односторонним, идеалистически-националистическим германизмом, знающим лишь Канта, Шиллера, Фихте и Вагнера, тут далеко не уйдешь. Такой односторонний, убогий германизм, которому поучают со всяких амвонов и кафедр, что, похоже, не кончилось с войной, должен уступить место бесконечно более широкому, гибкому германизму, если только Германия не желает навеки остаться среди народов мира одинокой, озлобленной и проливающей слезы.
1921
О Жан Поле
Если бы кто-нибудь задал мне чисто экзаменационный вопрос, в какой из книг новейшего времени душа Германии представлена сильнее и выразительнее всего, я без размышлений назвал бы «Годы шалостей» Жан Поля. В Жан Поле воплотила точнейшим образом свой необычайно богатый, прихотливый дух та полная тайн Германия, которая все еще жива, хотя в последние десятилетия на свет явилась и другая, более шумная, бойкая, бездушная; он - одно из величайших поэтических дарований всех времен, чьи произведения поистине представляют собою первобытный лес поэзии. И вот такого поэта удивляющая своим богатством и отсутствием памятливости Германия лишь на миг делает модным автором, а затем тут же забывает. Отдельные его произведения, чаще всего «Годы шалостей», порой еще известны в тех или иных семьях с добрыми традициями; вообще же знаком он одним литераторам. В Германии, даже новой, послевоенной, существуют полные издания «Тысячи и одной ночи», произведений Вольтера и Дидро, но собрания сочинений Жан Поля нет.
Собственно говоря, Жан Полем звался Иоганн Пауль Фридрих Рихтер, сын учителя и органиста, явившийся в этот мир 21 марта 1763 года в Вунзиделе.
«Не приведи господи родиться и воспитываться в столице,- сказал он однажды, - лучше уж в какой-нибудь деревне или, куда ни шло, в захолустном городке. Чрезмерно разнообразная, полная искушений жизнь большого города подает слишком прямую пищу для трепетного ума ребенка, его душа купается здесь в кипящих водах и языках пламени. Еще в детские годы жизнь теряет для него привлекательность, и, взрослея, он не желает почти ничего или, самое большее, хочет чего-то простого, деревенского. Размышляя о самом важном в жизни поэта, я полагаю, что он должен поделить город как бы на теплый климатический пояс и значительно превосходящие его холодную и полярную зоны: на старых своих друзей и на просто знакомых, не снискавших его любовь, встречи с кем безразличны ему, к коим он способен воспылать любовью или теплым участием не более, чем команда одного судна к команде другого, прошедшего мимо. В деревне же все живут вместе, тут ни одного младенца не похоронят без того, чтобы его имя, его недуг и горе близких не разделил всякий, и это теплое участие в каждом, кто хоть слегка напоминает человека, даже в случайном чужаке или нищем, исподволь растит соединяющую всех любовь к людям, истинную сердечность»[1].
Два года спустя после его рождения семья перебралась в Иодиц, где Жан Поль провел большую часть своего детства. Жаждущий знания, готовый учиться всему, он получил довольно скудное образование и не обрел толковых, заботливых учителей. Он рассказал однажды, как впервые, еще ребенком, ощутил пробуждение самого себя: «Когда я присутствовал при рождении моего самосознания, время и место какового события мне доподлинно известны»[2]. Отец его, добрый человек, похоже, мало понимал и поощрял сына. Последние годы детства Жан Поль провел в Шварценбахе, а в 1779 году поступил в гимназию в городе Хоф. В том же году скончался его отец. В Хофе пылкий юноша не встретил, правда, ни одного значительного человека, зато нашел множество книг и устремился в царство духа. С понятным рвением принялся он прежде всего за литературу эпохи Просвещения, как и подобает одаренному сыну пастора, исполнившись преобразующего, критического, непреклонного духа, свойственного настоящей молодости, лишь изредка старчески мудро и досадливо слушающей себя. Немало тетрадей наполнил он всякими записями, статьями, заметками, программами, кажется, тогда же им написан или начат какой-то роман. А потом он находит и двух-трех друзей, среди них Иоганна Рихарда Германна, который был, похоже, смелым, уверенным в себе человеком, короче, мог послужить прообразом мужественных, смелых персонажей поздних творений Жан Поля - всех этих Шоппе, Ляйбгеберов, Джаноццо[3].
В 1781 году наш поэт, сделавшись студентом-теологом, переезжает в Лейпциг, но изучает с великим усердием не теологию, а все, к чему его влечет и что не дает куска хлеба. С воодушевлением продолжает он писать, и мало кто из наших поэтов получал такое наслаждение от самого процесса творчества, как Жан Поль. Будучи студентом, в 1783 году он выпустил книгу «Гренландские тяжбы». Тот же критический, ниспровергательский, шутливый и сатирический дух юности сквозит здесь в дерзких замечаниях обо всем на свете, о самом мироздании. Но лишь примерно год спустя, следуя св. Августину, он пишет «Книгу молитв», в которой обращается к себе самому с критикой; циник делается моралистом. Поздней осенью 1784 года юный Жан Поль вынужден скрыться из Лейпцига, поскольку есть ему решительно нечего, а долгов пропасть. Рано сбившийся с пути истинного, не способный найти себя в этом гнусном мире и обрести в нем свое место, он проводит два безотрадных года у матери в Хофе, в глухой провинции. Наконец брат одного из школьных друзей приютил его у себя, неподалеку от Хофа, в качестве домашнего учителя; около двух лет он прожил там, затем нашел место частного преподавателя в Шварценбахе и так перебивался годами, вечно полуголодный, но всегда с усердием пишущий, а временами, кроме того, и окруженный поклонением какой-нибудь из мечтательных девушек, которых он всю жизнь умел привлечь к себе своеобразной магией нежного влюбленного, но отнюдь не лучшего любовника. К тому же в любовных делах он отличался крайней ветреностью, не хранил верности и придавал слишком большое значение дружбе. Около 1790 года появляются на свет его первые значительные произведения, среди которых и «Учитель Вуц». А потом на его небосводе стремительно вспыхивают одна за другой звезды: выходит «Невидимая ложа» и «Геспер», в 1794-м - «Квинт Фикслейн», в 1795-м - удивительная книга «Зибенкез», в которой в образе Ляйбгебера впервые ясно представлена одна из сторон личности самого Жан Поля.
Веймар, куда молодой писатель совершил паломничество в 1796 году, несколько разочаровал его, да и вообще разочарование было вечным уделом этой неудовлетворенной, требовательной, всегда искавшей идеала души, которой претил аромат так называемой действительности. Лишь у женщин, у чувствительных начитанных дам находил он часто понимание, любовь и почтение к себе; но как бы приятно то ни казалось, вскоре он пресыщался и этим. Неудовлетворенность, душевный голод вели его дальше. Будучи то учителем, то писателем, живет он несколько лет в Хофе, Лейпциге, Берлине, Веймаре, Майнингене, Кобурге. Внезапно сделавшийся знаменитым, снискавший внимание и покровительство даже князей, он приводит в восхищение мечтателей и возмущает обывателей такими поворотами жизни истинно необычного человека, у которого что на уме, то и на языке, который пренебрегает этикетом и прочими условностями, открывает свое сердце ближним или наступает им на ноги - как когда получится. Часто его упрекали за ошибки и слабости, за недостаточную приспособленность к обычаям сего мира. Но тут необходимо принять в расчет соображение, что разочаровавшийся в сем мире, враждебный действительности поэт-идеалист как раз и должен противопоставить себя одного - нищего и голодного - целому миру и упрямо хранить свой нрав и свою безнравственность, иначе его согнут или сломают. Так он и держался всегда, всю жизнь.
Когда Жан Поль, уже знаменитый поэт, обручился и затем повенчался с дочерью некоего сановника[4] из Берлина, он давно уже закончил своего «Зибенкеза» и мог знать, как обстоят дела с любовью и браком у людей, привыкших строить воздушные замки. Как и следовало ожидать, брак его оказался неудачным, выносимым лишь по соображениям приличия. И снова пошли сочинения - великие, полные огня, могучие шедевры: «Титан» и «Годы шалостей». Здесь его жизнь, безусловно, достигает высшей точки. Полдень уже позади, когда в 1804 году он селится в Баварии, знаменитой множеством бездельников, где замыкается между письменным прибором и кружкой пива, в радостях творчества силясь позабыть несовершенство жизни. А несовершенство это очень значительно: кроме считанных друзей и переписки, в его жизни нет ничего стоящего, она распадается на две части: одна проходит за письменным столом, за кружкой пива, в упоении творчеством, другая, достойная Зибенкеза, влачится среди серой повседневности. Соединить их Жан Полю не удалось, в чем бедного учителя нещадно попрекают, признавая тем не менее великими и гениальными его труды. Только ни один из этих трудов не был бы написан, имей Жан Поль счастье легче находить примирение с миром и самим собой. Они все возникли из такой раздвоенности; эта особенность, пропасть между той и другой сторонами, собственно говоря, и есть настоящий источник его творчества. В бесчисленных статьях, обращениях, рецензиях, рассуждениях, афоризмах, где столь многое ценно, этот источник иссякает - или так по крайней мере кажется; громадная жажда творчества обращается в тоску по творчеству, и лишь к концу былая его мощь ярко полыхнула еще раз - в романе «Комета», к сожалению неоконченном. 14 ноября 1825 года Жан Поль скончался.
О Жан Поле много писали. Он, кого Германия полюбила, как, пожалуй, ни одного другого поэта, продолжал оказывать свое влияние вплоть до времен молодости наших родителей, и почти в каждой автобиографии, вплоть до середины прошлого столетия, найдешь так или иначе признание личности Жан Поля - строки о чарах, колдовстве, об обольщении или о призвании, миссии, понятой благодаря ему.
Едва ли не прекраснее всех о поэте сказал другой великий немец, Йозеф Геррес[5], тоже забытый со временем, но оказывающий и поныне такое же глубокое влияние, как сам Жан Поль, который в один прекрасный день вернется из безвестности и примется действовать, когда уже угаснут сотни великих имен нашего и прошлых дней. На него, как и на всех читателей нашего поэта, произвело глубокое впечатление это изобилие. Некоторые его строки о Жан Поле так прекрасны, что было бы жаль не привести их здесь.
«Серебряные, искрящиеся и чистые, словно снежинки, светятся мысли в голубизне того неба, что он создал для всех нас; под этим небом простирается спокойная гладь моря, и из его светлых волн он свободно извлекает, подобно гениальному Ямвлиху[6], небесного амура в образе трогательного, красивого, безмерно прелестного мальчика, тельце которого тем не менее вполне земного происхождения. Но капризная стихия не всегда так легко возвращает ему это сокровище, иногда она бунтует и мутится до самого дна, на поверхности появляются, играя, тритоны, русалки затевают свой хоровод, прыгают и пляшут дельфины, все чудища глубин спешат присоединиться к колдовскому танцу: неведомые, странного вида рыбы, тысячерукие полипы, кольчатые черви и моллюски, запертые в свои фарфоровые крепости. А поэт возносится надо всем этим смятением; вихри, опустившись из подвластных ему грозовых туч, выпивают море - и вот уже эти странные существа мчатся, как метеор, напоминающий суму того апостола, что несет все живое с небес на землю, а творец этого видения, удовлетворенный, шагает туда и сюда, похожий на гигантов Апокалипсиса, чьи ноги - две колонны, а голова - Солнце».
А в другом месте той же статьи, названной «Романтизм и его отзвук», есть такие слова: «Его произведения напоминают те индийские изображения Говинды[7], где бог едет на слоне, сложенном из множества сплетенных друг с другом фигур девушек, опахала этих баядерок - павлиньи перья, волосы их превращаются в змей, из коих образовано тело Мадхавы[8], и яркие змеиные кольца охватывают колосс, глаза змей как бы повторяют водяные лилии, из чашечек которых выглядывают колибри, а среди листвы мелькают фламинго, но фигурки девушек, и цветы, и птицы сами состоят из крыльев бабочек и цветочной пыльцы, пестрых раковин, многоцветных камней, электрических искр и вспышек света, и таинственная сила искусства соединяет тем не менее все это в живое, замкнутое целое».
Изрытое морское дно, мечущее вверх клубы ила и раковины, сума апостола, в которой он несет чистых и нечистых тварей, индийское божество, в чьем образе выражено все сущее в вечном превращении форм, все формы в вечном изменении собственного смысла, вечно меняющиеся и порождающие самих себя, где действительное и мнимое, форма и существо, порыв и творение равно значительны, превращаясь одно в другое, - все эти образы сегодня опять стали близкими, их можно найти в экспрессионистической поэзии, равно как и в научном труде (скажем, у Юнга или Зильберера[9]), и все они означают как раз то, что современная психология именует подсознанием. Здесь заключена тайна богатства Жан Поля, его изобилия, его неиссякаемой жизненной силы: связь с подсознанием для него представляла собою несложную игру; в своей душе ему надо было преодолеть лишь тонкую преграду, чтобы стать на почву воспоминаний, где оставило следы раннее детство, даже древний период существования человечества и самой планеты, - на ту почву, из которой возникает вся история, где росли и всегда растут все религии, все искусства. И тут надо сразу же сказать (ибо всякий поэт творит неосознанно), что Жан Поль не просто обладал такой счастливой способностью, этой легкостью в игре мысли, ощущением постоянного присутствия всего, казалось бы, позабытого, нет, он еще и знал о том, он прозревал тайну этого источника, он высказал мысли, сходные с представлениями современного психоанализа; каждый цветочный мост между известным и неизвестным был знаком ему, пройден и изучен, как никем из поэтов, за исключением, быть может, одного Достоевского. Жан Поль прозревал то, что мы сегодня ищем в иных образах и с помощью иных теорий счастья, завершенности, душевной гармонии, заключающихся в равновесии душевных проявлений, мирном и плодотворном соседстве знания и прозрения, мысли и чувства.
Если мы посмотрим, какая молва идет сегодня о Жан Поле как о поэте, то обнаружим следующее: по мнению знающих историков и образованных людей, он гениальный, в высшей степени одаренный, но беспорядочный и прежде всего невыносимо сентиментальный автор. Попытайтесь возразить на это, и вам припомнят, сколько слез пролито в сочинениях Жан Поля, сколько умиления и печали в изображенных им мужских душах, сколько утонченности, нежности, неземной, безмерной чувствительности в образах его девушек, способных проливать слезы по любому, самому ничтожному поводу. Все это верно. Жан Поль очень любил слезы и нежные чувства, он блаженствовал среди хрупких, прелестных, милых, подобных феям девушек, но, кроме этого, он любил и изображал совсем другое. Он создал образы людей, подобных эоловой арфе нежных, слабых, вечно чем-нибудь обеспокоенных, - но рядом поставил и другие натуры - твердые, холодные, поистине мужественные, презирающие мир и внутренне одинокие, каких мало найдешь у других поэтов. Итак, Жан Поль не сентиментален? Да нет же, конечно, сентиментален, жалкая робость современных молодых писателей перед изображением чего-то трогательного, перед одним упоминанием чувствительности действительно незнакома ему! Но он также и нечто противоположное сентиментальности, он, кроме того, и мыслитель, и насмешник, и одинокий Прометей, познающий невозможность истинного понимания для человека, запертый в своем одиноком величии, холодный и горестно суровый.
Ибо Жан Поль не есть воплощение ума или сердечности, только мыслитель, или только провидец, или только воплощение чувства - но все это вместе, подобно тому, как и всякий человек несет в себе любую из таких способностей. Жан Поль - пример гения, развившего себя не ради какого-то одного рода деятельности, чьим идеалом была свободная игра всех сил души, который всему сказал «да», все вкусил, все любил и всему дал жизнь. Таким видим мы нашего поэта в каждом его произведении (за исключением нескольких мелких идиллий вроде «Вуца» или «Фибеля») - беспрерывно мечущимся между жаром и холодом, между твердостью и мягкостью, между сотней противоположных полюсов своей натуры, и электрические разряды между этими полюсами как раз и составляют истинную жизнь его поэзии.
В этом признании разносторонности дарования Жан Поля могут усмотреть несоответствие с тем, что я сказал прежде о его неприспособленности к повседневному окружению. Выше я говорил, будто он был нищим, вечно отчаивающимся мечтателем, а теперь - наоборот, будто это был удивительно свободный дух, легко, играючи находящий способ действия в любых, самых разнообразных условиях. Несоответствие между двумя этими утверждениями как раз и есть несоответствие жизни и поэзии. Будь Жан Поль и в жизни таким, как в поэзии, имей он ту же глубокую рассудительность, основательное знание важнейших тайн жизни - все, чем он владел как поэт, - он сделался бы образцом для подражания, избранным счастливцем, сыном божества. Но только мы, вероятно, ничего не узнали бы о том, поскольку у него тогда не стало бы никаких причин взваливать на свои плечи тяготы создания всех этих сложных и обширных произведений.
То, чего Жан Поль не умел сделать в жизни, - примирить противоположное, сказать «да» всему, и своим грезам, и повседневности - он пробовал осуществить в поэзии; здесь он и преуспел более многих немецких поэтов. Кроме того, он принадлежит к числу больших писателей-юмористов, и его юмор основан отнюдь не на знании скрытых от стороннего глаза черт собственного характера, маленьких слабостей поэта, который в своем кабинете - бог, а в повседневной жизни - бедный, невротичный, измученный человек. Того окончательного знания, какого вообще можно, по-видимому, достигнуть на этом пути, - познания собственного «я», «я» вневременного и подвластного времени - этого он нигде ясно не высказал; но как предчувствие оно пребывает во всех его произведениях.
Наше время, когда сами стражи обывательского порядка, отчаявшись, желают отвергнуть его, пребывает под знаком хаоса. Закат Европы действительно настает, но не в том балаганном обличье, как его представляли себе филистеры. Он действительно настает, поскольку каждый человек, даже не причастный к этому угасающему миру, находит в себе самом хаос - мир, не управляемый каким-либо сводом законов, в котором добро и зло, красота и безобразие, свет и тьма не разделены более. Отделить их друг от друга есть дело каждого. Поэтому в искусстве и поэзии наших дней повсеместно возникает тема хаоса и творца, желающего понять этот хаос, вжиться в него, прежде чем дать ему новый порядок.
Как раз в такое время Жан Поля должны, видимо, легко понять. Он, так живо ощущавший полярные противоположности всюду, чрезвычайно многое может сказать нам сегодня. Конечно, «вождем» он не станет и не должен стать, но подтвердить истину и утешить может, ибо то, что «важнейшее для поэта, жизнь», не пострадает, если признать существование противоположностей, что гармония между различными силами души есть жизненная, живительная цель, все это ни один поэт не проповедует нам так настойчиво, как он.
1921
О Достоевском
О Достоевском трудно сказать что-либо новое. Все, что можно было сказать о нем умного и дельного, уже сказано, все казавшееся когда-то новым и оригинальным устарело в свой черед, но всякий раз, когда в годину горя и отчаяния мы обращаемся к нему, притягательный и страшный образ писателя является нам в ореоле вечно новых тайн и загадок.
Истинным читателем Достоевского не может быть ни скучающий буржуа, которому призрачный мир «Преступления и наказания» приятно щекочет нервы, ни тем более ученый умник, восхищающийся психологией его романов и сочиняющий интересные брошюры о его мировоззрении. Достоевского надо читать, когда мы глубоко несчастны, когда мы исстрадались до предела наших возможностей и воспринимаем жизнь, как одну-единственную пылающую огнем рану, когда мы переполнены чувством безысходного отчаяния. И только когда мы в смиренном уединении смотрим на жизнь из нашей юдоли, когда мы не в состоянии ни понять, ни принять ее дикой, величавой жестокости, нам становится доступна музыка этого страшного и прекрасного писателя. Тогда мы больше не зрители, не сибариты и не критики, а бедные братья среди всех этих бедолаг, населяющих его книги, тогда мы страдаем вместе с ними, затаив дыхание, зачарованно смотрим их глазами в водоворот жизни, на вечно работающую мельницу смерти. И только тогда мы воспринимаем музыку Достоевского, его утешение, его любовь, только тогда нам открывается чудесный смысл его страшного, часто дьявольски сложного поэтического мира.
Две силы захватывают нас в его творениях, из столкновения двух противоречивых начал рождается магическая глубина и поразительная объемность его музыки.
Первая - это отчаяние, постижение зла, непротивление свирепой, кровавой жестокости, сомнение в существе человечности. Этой смертью нужно умереть, через этот ад нужно пройти, прежде чем мы услышим иной, божественный голос мастера. Предпосылкой тому является искреннее и откровенное признание, что наша жизнь, наша человечность - дело жалкое, сомнительное и, может быть, безнадежное. Нужно отдать себя во власть страдания, покориться смерти, научиться без содрогания смотреть на дьявольскую ухмылку голой действительности, прежде чем мы осознаем глубину и истинность иного, второго голоса.
Первый голос принимает смерть и отвергает надежду, отказывается от каких бы то ни было философских и поэтических украшательств и смягчений, с помощью которых приятные нам писатели привычно отвлекают нас от опасностей и ужасов человеческого существования. Но второй голос, поистине божественный второй голос указывает нам на иной, небесной стороне другое начало, противоположное смерти, другую действительность, другую сущность: совесть человека. Пусть человеческая жизнь наполнена войнами и страданиями, подлостью и мерзостью, но ведь имеется еще и что-то иное: совесть, способность человека держать ответ перед богом. Конечно, и совесть ведет через страдание и страх смерти к отчаянию и вине, но она выводит нас из невыносимой бессмысленности одиночества, приближает к пониманию смысла, сущности, вечности. Эта совесть не имеет ничего общего с моралью, с законом, она может быть с ними в самом страшном, смертельном разладе, и все же она бесконечно сильна, она сильнее косности, сильнее корыстолюбия, сильнее тщеславия. Она все время, даже в глубочайшем несчастье и крайнем смятении, держит открытой узенькую тропку, которая ведет не назад, к обреченному на гибель миру, а через него к богу. Труден путь, ведущий человека к его совести, почти все преступают ее законы, противятся ее власти, тяжко обременяют себя и гибнут от ее угрызений, но для каждого в любой миг открыт тайный путь, который наполняет жизнь смыслом и облегчает смерть. Одни до тех пор неистово грешат против совести, пока не пройдут через все круги ада и не осквернят себя до предела, чтобы в конце со вздохом облегчения осознать заблуждение и пережить минуту душевного преображения. Другие живут со своей совестью в полном согласии. Их мало, этих святых счастливцев, и, какая бы с ними ни приключилась беда, она затрагивает их только извне и никогда не поражает в сердце, они всегда сохраняют чистоту, и улыбка не сходит с их лица. Таков князь Мышкин.
Оба эти голоса, оба эти учения я услышал у Достоевского во времена, когда, подготовленный отчаянием и страданием, был прилежным читателем его книг. Есть художник, который заставил меня пережить нечто подобное, музыкант, которого я не всегда люблю и могу слушать, точно так же как не всегда я могу читать Достоевского. Это Бетховен. Ему свойственно такое знание о счастье, о мудрости и гармонии, которого не обрести на равнинных дорогах, которое озаряет нас только у края пропасти, которое не срываешь с улыбкой, как цветы, а обретаешь со слезами на глазах, обессилев от страданий. В его симфониях и квартетах есть места, где из глубины горя и отрешенности излучается что-то бесконечно трогательное, по-детски нежное предвосхищение смысла, предчувствие избавления. Такие места я нахожу и у Достоевского.
1925
Господину Т.Г.М., Глатц
9 августа 1929
[...] Как Вы знаете, мне всегда была свойственна тоска по жизни, по подлинной, интенсивной, ненормированной и немеханизированной индивидуальной жизни. Как и любой другой человек, я должен был оплачивать свое преимущество в личной свободе частью лишениями и отречениями, частью повышенной творческой продуктивностью. Мое художественное творчество сделалось со временем не только вспомогательным путем, приближающим меня к жизненному идеалу; оно превратилось почти в самоцель. Я стал художником, но человеком я не стал. Я достиг только одной, но не главной цели. Я потерпел неудачу. Быть может, с меньшими уступками и утратами, чем другие идеалисты, но я потерпел неудачу. Мое творчество личностно, интенсивно, нередко оно доставляет мне счастливые мгновения, но моя жизнь не такова, моя жизнь - всего лишь готовность работать; и жертвы, которые я приношу, живя в крайнем одиночестве и т. д., я давно уже приношу не жизни, а только искусству. Смысл и интенсивность моей жизни приходятся на часы творческой активности, то есть как раз на то время, когда я выражаю неполноценность и отчаяние своего существования.
Отнеситесь с уважением к моему признанию, даже если оно Вас разочарует. Быть может, нам все же удастся когда-нибудь встретиться.
Воспоминания о «Симплициссимусе»
Журнал «Симплициссимус»[1] я читаю с первого дня его появления. Тогда, во второй половине 90-х годов, он сыграл в моей жизни определенную роль; он настраивал на критический лад, революционизировал меня, человека в ту пору к политике в общем-то равнодушного. Этот новый сатирический журнал стал в Германии после 1896 года явлением волнующим и по-своему замечательным. Меня, помнится, больше всего потрясла и восхитила серия рисунков (Томаса Теодора) Хайне[2] под названием «По темным закоулкам Германии». Дух журнала был, собственно, не немецкий, он шел из Парижа и состоял из той типично парижской волшебной смеси искусства и политики, которая столь многих молодых художников и литераторов во французской столице побуждала к сознательному осмыслению политических событий. Поначалу меня одинаково привлекали рисунки Хайне, Бруно Вильке[3] и Бруно Пауля[4], но самое глубокое впечатление произвел все же Хайне. Помимо рисунков, «Симплициссимус» с первого дня нравился мне обличением ханжества, но более всего последовательными и отчаянно смелыми наладками на личность кайзера, зловещая фигура которого всегда вызывала во мне глубокую неприязнь.
Личные контакты со знаменитым журналом установились у меня только в 1905 году. Однажды в моем доме на берегу Боденского озера появился Альберт Ланген[5] и пригласил сотрудничать. Спустя некоторое время вместе с Людвигом Тома[6] я стал одним из основателей журнала «Мерц», издававшегося Лангеном; его политический курс, который в значительной степени определялся Конрадом Хаусманом, также был направлен против режима личной власти Вильгельма II.
С большинством основателей и постоянных сотрудников «Симплициссимуса» я многие годы состоял в близких дружеских отношениях, поэтому я хорошо знал расстановку сил в редакции и взаимоотношения между ее членами, особенно с 1905 года по начало войны, когда мне самому часто приходилось выступать на страницах журнала. Создавали журнал и обеспечивали ему популярность два человека. Одного отличали интернациональная широта духа, пафос просветительства и пацифизма, высокая культура и некоторое сибаритство. Этим человеком был ориентированный на Париж Альберт Ланген. Другую линию представлял Людвиг Тома. Его сила коренилась в национальном духе, в стихии народной жизни; в вопросах искусства Тома часто не имел собственного мнения, но был наделен здоровой, сильной, по-юношески жизнерадостной натурой, его неизменно тянуло к дерзким нападкам на все и всяческие авторитеты; не останавливался он и перед громкими скандалами.
Со смертью Альберта Лангена стал отмирать и дух интернационализма в «Симплициссимусе», а когда разразилась война, Тома одержал победу над первоначальными, лучшими тенденциями журнала. И хотя я очень любил Тома, но с самого начала глубоко сожалел о его победе. Летом 1914 года «Симплициссимусу» следовало бы прекратить существование или же любыми способами, не исключая переноса издания в Швейцарию, продолжать борьбу против кайзера, против унтер-офицерского духа, против правосудия на службе правящих классов. Он этого не сделал и перестал существовать как орган европейского масштаба. В нем, как и раньше, появлялись восхитительные карикатуры, в нем продолжали сотрудничать крупные художники, но он лишился прежней силы правды, подлинного обвинения, искреннего возмущения, которые заставляли сильнее биться мое сердце при чтении его самых первых номеров. И хотя Тома не был трусливым соглашателем, хотя в его патриотизме и воинственности не было никакого наигрыша, но следствием всего этого явилось роковое приспособление журнала к войне, а критикой в адрес собственного правительства пришлось поступиться во имя яростной сатирической кампании, направленной против внешнего врага.
Последователя у «Симплициссимуса» так и не нашлось, он по сей день остается лучшим сатирическим журналом Германии. И хотя в нем уже не чувствуется той мощи и той силы волшебного притяжения, которые захватили меня в пору его первых шагов, я все же желаю ему долгих лет процветания. Пусть ему достанет сил смешить и побуждать к размышлению новое поколение читателей.
1926
Библиотека всемирной литературы
Истинное образование не подчинено утилитарной цели; его высший смысл стремление к совершенству. Если человек стремится к физической силе, ловкости и красоте, то не ради того, чтобы стать богатым, знаменитым или могущественным, но ради самоутверждения, которое способствует росту его жизненной активности, укрепляет его веру в себя, вселяет в него бодрость и радость, делает более интенсивным ощущение уверенности и благополучия; совершенно так же стремление к образованию, то есть совершенствованию ума и души, - это не утомительный путь к тем или иным ограниченным целям, это расширение нашего кругозора, обогащение нашей способности жить и радоваться жизни. Поэтому настоящее образование, как и настоящая культура тела, - это одновременно гармония и стремление к ней, это ощущение достигнутой цели и вместе с тем желание двигаться дальше; это блуждание в бесконечности, ритмическое движение в единстве с мировым целым, сопричастность надвременному. Его цель - не тренировка отдельных способностей, не овладение высотами; образование помогает нам осмыслить нашу жизнь, разгадать прошлое и смело смотреть в будущее.
Среди путей, ведущих к такому образованию, один из важнейших - изучение всемирной литературы, постепенное овладение неисчерпаемой сокровищницей мыслей, переживаний, символов, вымыслов и фантазий, завещанных нам веками и сохраняемых в творениях поэтов и мыслителей разных стран. Путь этот бесконечен, никто не прошел его до конца, никто не смог полностью узнать всю литературу хотя бы одного народа, не говоря уже о литературе всего человечества. Но зато каждый раз, когда нам удается проникнуть в суть произведения замечательного поэта или мыслителя, это - наслаждение и радостный опыт, это не мертвое знание, но живое восприятие и понимание. Важно не то, что мы прочитаем и сколько будем знать, важно по собственному вкусу отобрать для себя великие творения, всей душой наслаждаться ими в часы досуга, чтобы почувствовать широту и полноту человеческих раздумий и порывов, чтобы духовно соприкоснуться с жизнью и биением сердца человечества. В этом, собственно, и состоит смысл всего нашего существования, по крайней мере нашей духовной жизни.
Чтение должно не развлекать, но, напротив, заставлять нас думать, не уводить нас от сознания несовершенства нашей жизни, не утешать нас сладкими речами, но помогать нам бороться за высокие и благородные идеалы.
Выбор произведений всемирной литературы будет у каждого разным; это зависит не только от того, как много времени и средств читатель может пожертвовать на эту благородную цель, но и от многих других обстоятельств. Для одного почитаемым мудрецом будет Платон, а горячо любимым поэтом Гомер, и они всегда останутся для него образцом литературы, сквозь призму которой он будет давать оценку всему прочему; у другого будут иные идеалы. Один окажется способным наслаждаться благозвучием поэзии, вживаться в сложный мир фантазии, в многозвучие языка, подход другого будет строго рассудочным; один всегда предпочтет то, что написано на его родном языке, более того, не захочет читать ничего иного, тогда как другой возымеет особое влечение к французским, греческим или русским авторам. К этому надо добавить, что даже самый образованный человек знает лишь ограниченное число языков и что далеко не все примечательные творения разных времен и народов переведены на другие языки; очень многие поэтические тексты вообще непереводимы. Например, настоящая лирика - это не просто образы, воплощенные в благозвучно построенных стихах. В ней обретают материальность сами слова и рифмы, а музыка творческого языка становится символом мироздания и нашей жизни. Такая лирика всегда связана с неповторимым языком поэта, не только с языком его народа, но и с его личным, лишь для него возможным поэтическим языком и потому непереводима. Некоторые из самых драгоценных и благородных стихотворений - достаточно вспомнить стихи провансальских трубадуров вообще доступны как предмет наслаждения лишь для весьма немногочисленных ценителей, ибо язык, на котором они написаны, знают немногие. Но нам еще повезло, и в нашем распоряжении необычайно богатый запас хороших переводов с чужих и мертвых языков.
Чтобы отношение читателя ко всемирной литературе было живым, прежде всего нужно, чтобы он познал себя и свои эстетические вкусы, а не следовал какой-нибудь жесткой схеме или программе. Он должен идти путем любви, а не путем долга. Заставлять себя читать тот или иной шедевр лишь потому, что он знаменит и его стыдно не знать, было бы сущим безумием. Пусть каждый начинает с того, что для него естественно читан,, познавать и любить. Один уже в школьные годы открывает в себе любовь к стихам, другой любит историю или легенды своего края, третий увлекается народными песнями, а еще кто-то испытывает радость и интерес, если находит точное исследование и умудренное истолкование чувств собственного сердца. Путям несть числа. Можно начать со школьной книги для чтения, с календаря и прийти к Шекспиру, Гете или Данте. Если нам расхваливали книгу, если мы пытались ее читать, а она нам не понравилась, закрылась перед нами, не пожелала впустить нас в свой мир, нам лучше не пытаться одолеть ее ни силой, ни терпением, а отложить в сторону. Поэтому детей и подростков не надо чересчур поощрять или понуждать к чтению определенных книг; так можно на всю жизнь внушить им отвращение к самым прекрасным книгам, более того, к чтению вообще. Пусть каждый берет за исходную точку те стихи, ту песню, тот рассказ, что ему полюбились, и затем начинает поиски других книг в том же роде.
Двери в царство всемирной литературы открыты каждому, и пусть никого не пугает обилие книг, потому что не в количестве дело. Есть читатели, которые всю жизнь обходятся дюжиной книг и все же являют собой истинных читателей. Есть другие, которые все проглотили и обо всем умеют поговорить, и все же труды их бесплодны. Подлинное образование означает осмысление прочитанного и зависит от характера и способностей личности. Где этого нет, где образование, лишенное субстанции, осуществляется как бы в пустоте, там может возникнуть знание, но не любовь и не жизнь. Чтение без любви, знание без благоговения, образование без души принадлежат к числу тягчайших грехов против разума.
Но ближе к делу! Не ставя перед собой ученых целей, не силясь исчерпать вопрос, следуя всего-навсего своему сугубо личному житейскому и читательскому опыту, я попытаюсь описать на этих страницах некую идеальную библиотеку всемирной литературы. Но сначала несколько практических советов, как обходиться с книгами.
Кто уже миновал начало пути и немного освоился в бессмертном мире книг, очень скоро начнет вступать в новые отношения не только с тем, что в книгах, но и с самой книгой. Что книги следует не только читать, но и приобретать, можно услышать везде и всюду, и я на правах старого любителя и обладателя немалой библиотеки могу по своему опыту заверить, что приобретение книг существует на свете не только для того, чтобы кормить книготорговцев и писателей: в собирании книг, занятии, отличном от чтения книг, есть своя радость и своя этика. Например, как увлекательно следить за каталогами и даже при весьма скудных средствах, покупая дешевые издания, умно, настойчиво и постепенно собирать свою собственную библиотеку. Напротив, для образованных богачей нет ничего более приятного, чем охотиться за самым красивым изданием книги, собирать редкие старые книги и заказывать оригинальные дорогие переплеты. Здесь можно встретить крайности: от заботливого откладывания сбереженных грошей до расточительной роскоши.
Кто начинает собирать собственную библиотеку, пусть прежде всего старается иметь дело только с хорошими изданиями. Под «хорошими изданиями» я понимаю отнюдь не дорогие, но такие, где работа над текстом велась с благоговением и тщательностью, которой заслуживают славные создания человеческого гения. Бывают роскошные издания, переплетенные в кожу, снабженные золотым обрезом, украшенные иллюстрациями, которые, однако же, сделаны без любви и умения, и есть дешевые книги для широкой публики, над которыми издатели потрудились с отменной добросовестностью. В последнее время почти повсеместно укоренилась вредная практика: выпускаются произведения автора под титулом «Собрание сочинений», между тем как часто подобные издания оказываются лишь скромной подборкой. И до чего же по-разному подходят различные издатели к отбору произведений! Совсем небезразлично, кто осуществляет этот отбор: человек, который не один год знаком с творчеством автора, который читал и перечитывал его книги, или первый попавшийся литератор, на которого по чистой случайности свалился такой заказ и который в спешке и без всякой души бросает в кучу положенное число произведений. Далее, необходимо, чтобы перед каждым переизданием текст выверялся бы самым тщательным образом. При переиздании литературных произведений часто перепечатывают текст из предыдущего издания без сверки с оригиналом, в результате чего в тексте появляется масса ошибок и всякого рода искажений. Я мог бы привести поразительные примеры. К сожалению, невозможно четко разграничить издательства на образцовые и посредственные, почти у каждого из них были свои удачи и промахи; например, у одного и того же издателя мы находим совершенно полного Гейне с отличными, выверенными текстами и в то же время плохо отработанные издания других авторов. Недавно одна известная фирма, в классической серии которой со стихами Новалиса десятилетиями обращались самым ужасным образом, выпустила новое издание того же Новалиса, отвечающее самым строгим требованиям. При выборе книг не нужно гнаться только за качеством бумаги и переплета и не нужно ради внешнего единообразия приобретать всех «классиков» в однотипном оформлении; следует искать и спрашивать, пока не разыщешь лучшее из наличных изданий автора, чьи творения ты намерен купить. Многие читатели достаточно самостоятельны, чтобы знать, каких авторов они желают иметь в возможно более полных изданиях, а в каких случаях удовлетворяться подборкой. Многих авторов пока вообще нет в полных изданиях, а иные полные собрания сочинений начали выходить уже годы и десятилетия назад, но, кажется, нет никаких шансов дождаться их завершения. Тогда приходится либо довольствоваться современным урезанным вариантом, либо прибегнуть к услугам букинистов и добывать себе старые выпуски. Некоторые немецкие авторы существуют в трех или четырех приличных изданиях, некоторые - в одном-единственном, других, к сожалению, нет вообще. До сих пор нет полного Жан Поля, нет удовлетворительного Брентано[1]. Несколько десятилетий назад в прекрасном оформлении вышли очень важные юношеские сочинения Фридриха Шлегеля, которые сам Шлегель не включал в собрание своих произведений, однако эта книга давно уже исчезла из продажи и переиздания не последовало. Есть авторы (Гейнзе[2], Гельдерлин, Дросте-Хюльсхофф[3]), которые очень долго оставались без внимания, но как раз в наше время были великолепно изданы. Что касается дешевых изданий для широкого читателя, где можно было бы найти творения всех времен и народов, то здесь первое место бесспорно остается за серией «Universal-Bibliothek» («Всеобщая библиотека») издательства «Реклам». Немногих авторов, которых я люблю настолько, что хотел бы иметь все их произведения, пусть даже самые маленькие и наименее известные, приходится иметь в двух или трех вариантах, каждый из которых содержит нечто недостающее в других.
Уж если так обстоит дело с нашим собственным достоянием, с текстами наших лучших немецких авторов, то с переводной литературой все намного сложнее. Число подлинно классических переводов невелико: сюда относится немецкая Библия Мартина Лютера, немецкий Шекспир Шлегеля и Тика[4], шедевры, долгое время помогавшие нашему народу узнавать эти великие произведения. Но и они не вечны! Та же Лютерова Библия, например, уже не была бы понятна большей части нашего народа, если бы ее непрерывно не перерабатывали, приноравливая ее язык к требованиям времени. Написанная языком начала XVI в., Лютерова Библия превратилась в архаизм, непонятный современным немцам. А недавно появилась совершенно новая Библия, выполненная под руководством Мартина Бубера[5], в которой трудно узнать привычную книгу нашего детства до того изменился ее облик. Единственное в своем роде исключение итальянский народ со своим Данте, из поэмы которого очень многие итальянцы до сих пор знают наизусть целые страницы. Ни один европейский поэт не смог достичь подобного возраста, не подвергаясь адаптациям или даже переводам на современный язык. Что касается нас, в каком немецком переводе читать Данте вообще неразрешимый вопрос, каждый из них дает только приближение, и, если то или иное место в тексте захватывает нас, мы жадно устремляемся к подлиннику и силимся понять сердцем староитальянский язык, на котором обращаются к нам досточтимые строки.
Мы переходим к нашей задаче - составлению библиотеки всемирной литературы, и сейчас же сталкиваемся с общим законом всей истории человеческого духа: самые старые книги меньше всего устаревают. То, что модно и привлекательно сегодня, может завтра оказаться на свалке; то, что ново и интересно сегодня, послезавтра будет забыто. Но то, что сумело пережить столетия, не затеряться в человеческой памяти, таковым останется и на нашем веку.
Начнем с самых древних и чтимых памятников человеческого духа - со священных писаний и сказаний. Помимо всем нам знакомой Библии, я ставлю на полку нашей библиотеки ту часть древнеиндийской мудрости, которую называют ведантой, в форме подборки из «Упанишад»[6]. Сюда же поместим избранные места из проповедей Будды, а равно и подаренный нам Вавилоном «Гильгамеш»[7], грандиозный эпос о герое, вступившем в борьбу со смертью. Из Древнего Китая возьмем беседы Конфуция, «Дао дэ цзин» Лао-цзы и чудесные притчи Чжуан-цзы[8]. Здесь отражены основные темы всей древней литературы: стремление к закону и порядку, воплотившееся в Ветхом завете и у Конфуция, вещие поиски избавления от пороков земного бытия, о которых говорят индусы и Новый завет, вера в вечную гармонию по ту сторону беспокойного и пестрого мира явлений, почитание природных и духовных сил и почти одновременное с этим ясное или смутное предчувствие, что боги - только символы, что величие и слабость, восторг и мука жизни в руках самого человека. Все умозрение отвлеченной мысли, вся многогранность словесного искусства, вся скорбь о бренности нашего бытия, все возможности утешения и юмора, противостоящие этой скорби, уже выразились в этих немногих книгах. Сюда же следует присовокупить подборку классической китайской лирики.
Из более поздних творений Востока нашей библиотеке не обойтись без собрания сказок «Тысяча и одна ночь», этого источника нескончаемых удовольствий и самой богато иллюстрированной на свете книги. Хотя все народы мира сочиняли восхитительные сказки, одной этой волшебной книги поначалу хватит для нашей коллекции, которую нам стоило бы дополнить немецкими народными сказками в собрании братьев Гримм. Весьма желательной была бы для нас антология персидской лирики, но, к сожалению, такой книги в немецком переводе нет, хотя, например, Хафиза и Омара Хайяма переводили часто.
Переходим к европейской литературе. Из чудесного богатства античной поэзии мы выберем прежде всего не только обе поэмы Гомера, в которых уже заключена вся атмосфера и жизнь Древней Греции, а равно и трех великих трагиков - Эсхила, Софокла, Еврипида; сюда же надо добавить «Палатинскую антологию»[9], классическую коллекцию лирических стихотворений. Когда же мы обращаемся к миру греческой мудрости, нас постигает разочарование: Сократа, самого влиятельного и, пожалуй, самого выдающегося из мудрецов Эллады, мы должны по кусочкам выискивать в сочинениях других мыслителей, прежде всего Платона и Ксенофонта. Книга, представляющая обозримый свод наиболее ценных свидетельств о том, как жил и чему учил Сократ, явилась бы сущим благодеянием. Филологи на такое предприятие не решаются, ибо это задача не из легких. Философов в собственном смысле слова я в нашу библиотеку включать не буду. Однако нам не обойтись без Аристофана, чьи комедии достойно открывают славный ряд европейских юмористов. Нужно иметь один-два томика Плутарха, мастера героической биографии, не помешает и сатирик Лукиан. Но в нашей коллекции не хватает одной важной книги: сборника мифов о героях и богах Греции. Таких сборников немного. За отсутствием лучшего возьмем «Сказания классической древности» Густава Шваба[10], где, пусть неглубоко, но с блеском, пересказывается множество прекраснейших мифов. Впрочем, в наше время у Шваба нашелся достойный преемник: это Альбрехт Шеффер[11], который работает над книгой греческих мифов: ее первые части вышли в свет и имели большой успех.
Среди римлян я всегда предпочитал поэтам историков; и все же возьмем Горация, Вергилия и Овидия, рядом с ними поставим Тацита и еще Светония, а также «Сатирикон» Петрония, этот комический роман нравов эпохи Нерона, и «Золотого осла» Апулея. Оба романа являют нам упадок античного мира во времена Римской империи. В противовес этим изощренным, скептическим книгам римского декаданса я поставлю нечто совсем иное, тоже шедевр латинского стиля, но принадлежащий другому миру, миру молодого христианства, «Исповедь» Блаженного Августина. Относительное спокойствие римской античности уступает место более напряженной атмосфере - начинается средневековье.
Духовный мир средневековья, которое до недавнего времени повсеместно принято было именовать «мрачным», не был избалован вниманием наших отцов и дедов, вследствие чего мы располагаем лишь незначительным количеством современных изданий и переводов латинских средневековых авторов. Похвальное исключение - замечательный труд Пауля фон Винтерфельда «Немецкие поэты латинского средневековья»[12], который мне очень хотелось бы включить в нашу библиотеку. Продолжает жить «Божественная комедия» Данте - воплощение величия средневекового духа, его вершина. Правда, серьезно читают и знают ее немногие, разве что сами итальянцы да ученые-филологи, но она продолжает глубоко воздействовать на самую суть нашей культуры. Это одна из тех великих книг, какие являются раз в тысячелетие.
Как ближайший по времени образец старинной итальянской литературы возьмем «Декамерон» Боккаччо. Это собрание новелл, прославленное, но и ославленное недотрогами за свои непристойности, являет собой первый великий образец европейской повествовательной традиции; написано оно на староитальянском языке, поразительно живом, и не раз переводилось на языки многих народов мира. Необходимо предостеречь против множества недоброкачественных изданий; из тех, которые выходили за последнее время на немецком языке, я рекомендовал бы подготовленное издательством «Инзель». Что касается многочисленных преемников Боккаччо, за три последующих столетия написавших немало известных новеллистических сборников, ни один из них не достиг его уровня, однако некоторые из новелл могли бы войти в нашу библиотеку (например, сборник, составленный Паулем Эрнстом[13]). Из итальянских повествовательных поэтов Ренессанса нам не обойтись без Ариосто, творца «Неистового Роланда»: это чудесный романтический лабиринт, полный восхитительных образов и хитроумных выдумок, образец для позднейших последователей, пожалуй, лучшим из которых был Виланд[14], замкнувший традицию. Рядом поставим сонеты Петрарки и не забудем стихотворений Микеланджело, чья маленькая, строгая книга так одиноко и гордо высится среди произведений своей эпохи. Как живой памятник атмосферы итальянского Ренессанса возьмем автобиографию Бенвенуто Челлини[15]. Более поздняя итальянская литература интересна нам в меньшей степени, можно отобрать разве что две-три комедии Гольдони[16], романтические пьесы-сказки Гоцци[17], а в девятнадцатом столетии - великолепную лирику Леопарди[18] и Кардуччи[19].
К самому прекрасному, что создало средневековье, относятся героические сказания французов, англичан и немцев, прежде всего легенды о рыцарях короля Артура. Кое-какие из этих сказаний, распространившихся в свое время по всей Европе, нашли приют в «Немецких народных книгах», которым по праву принадлежит в нашей коллекции почетное место. Они должны стоять рядом с «Песнью о Нибелунгах»[20] и с «Кудрун»[21], хотя в противоположность последним это не первозданные творения, но позднее переведенные с различных языков перелицовки широко известных сюжетов. О стихах провансальских трубадуров шла речь выше. За ними следуют стихотворения Вальтера фон дер Фогельвейде[22], «Тристан» Готфрида Страсбургского[23] и «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха[24], которые мы с благодарностью примем в нашу библиотеку, равно как и хорошую подборку песен рыцарей-миннезингеров[25]. Вот мы и подошли к концу средневековья. Одновременно с увяданием христианско-латинской литературы, с оскудением великих родников легенд в жизни и литературе Европы родилось нечто новое: обособившиеся национальные языки мало-помалу вытеснили латынь, и тип литературного творчества, начавшийся в Италии с Боккаччо, уже не монастырский и не анонимный, но бюргерский и авторский, праздновал свои первые шаги.
Во Франции в это время одиноко и гордо жил замечательный поэт Франсуа Вийон, чьи необычные, неистовые стихи не имеют себе равных. Продвигаясь дальше по французской литературе, мы обнаружим немало такого, без чего невозможно обойтись. По меньшей мере один том эссе Монтеня иметь необходимо, равным образом - «Гаргантюа и Пантагрюэля» Франсуа Рабле, учащего нас юмору и презрению к филистерам; нужны «Мысли», а пожалуй, и «Письма к провинциалу» Паскаля, этого одинокого праведника и аскетического мыслителя. Из трагедий Корнеля должно взять «Сида» и «Горация», из трагедий Расина - «Федру», «Аталию» и «Беренику», и к этим отцам и классикам французского театра следует добавить третью звезду - комедиографа Мольера, лучшие пьесы которого мы дадим в подборке: не раз будем мы возвращаться к нему, мастеру насмешки, создателю «Тартюфа». Басни Лафонтена и «Телемах» Фенелона также должны стоять на нашей полке. Без драм, а равно и стихотворений Вольтера мы обойдемся, но один-два томика его блистательной прозы иметь нужно, прежде всего «Кандида» и «Задига» - там есть то упоение насмешкой, которое долго служило для всего мира образцом французского остроумия. Но литература Франции, в том числе и революционной Франции, многогранна, так что, помимо Вольтера, возьмем также «Женитьбу Фигаро» Бомарше и «Исповедь» Руссо. Однако я пропустил «Жиля Блаза» Лесажа[26], чудесный плутовской роман, и «Манон Леско», трогательную любовную историю аббата Прево. Потом идет французская романтика и ее последователи, великие романисты, - здесь можно было бы назвать сотни книг, но ограничимся тем, что в самом деле своеобразно и неповторимо! Для начала возьмем романы Стендаля «Красное и черное» и «Пармская обитель», где из борьбы неистовой души с недоверчивым и независимым рассудком рождается совершенно новый вид литературного творчества. Такая же неповторимость присуща «Цветам зла» Бодлера - рядом с этими гигантами кажутся карликами Мюссе, с его прелестными персонажами, и очаровательные романтические рассказчики Готье[27] и Мюрже[28]. Далее идет Бальзак, из романов которого надо взять хотя бы «Отца Горио», «Евгению Гранде», «Шагреневую кожу» и «Тридцатилетнюю женщину». К этим яростным, переполненным жизнью, едва сдерживающим в себе натиск реальности книгам мы добавим мастерские, чистокровные новеллы Мериме и шедевры самого тонкого из французских прозаиков, Флобера, - «Мадам Бовари» и «Воспитание чувств». Золя стоит на несколько ступенек ниже, но его тоже нужно включить, скажем «Западню» или «Вину аббата Муре»; можно также отобрать некоторые из прекрасных, хотя и несколько болезненных, новелл Мопассана. Итак, мы подошли к границе новейшего времени, которую не хотелось бы переступать, не назвав еще ряд замечательных произведений. Но нельзя не вспомнить стихотворений Верлена, в которых едва ли не больше души, чем во всей остальной французской поэзии.
Знакомство с английской литературой начнем с «Кентерберийских рассказов» Чосера, отчасти заимствованных у Боккаччо, но отличающихся новизной тона. Это первый истинно английский поэт. Рядом с Чосером поставим Шекспира, не в подборке, а целиком. Наши учителя с благоговением рассказывали нам о «Потерянном рае» Мильтона, но, спрашивается, прочитал ли его кто-нибудь из нас? Нет! Ну так и не будем его давать, хотя, возможно, мы поступим против справедливости. «Письма к сыну» Честерфилда[29] - книга отнюдь не благонравная, но мы ее рекомендуем. Из сочинений Свифта, этого гениального ирландца, подарившего нам «Гулливера», мы включим все, что только возможно: его душевная щедрость, его горький юмор, его яркий гений перевешивают все издержки его чудачеств. Из многочисленных сочинений Даниэля Дефо для нас имеет значение «Робинзон Крузо» и «История Молль Фландерс». С них начинается длинный ряд английских классических романов. По возможности надо включить «Тома Джонса» Филдинга и «Перегрина Пикля» Смоллетта[30], но совершенно необходимо - «Тристрама Шенди» и «Сентиментальное путешествие» Стерна, две книги с истинно английским настроением, легко переходящим от чувствительности к самому причудливому юмору. Из Оссиана[31], этого романтического барда, хватит того, что мы находим у Гете в «Вертере». Нельзя не вспомнить Шелли и Китса, чьи стихи принадлежат к лучшим образцам лирики, созданным человечеством. Но вот что касается Байрона, какое бы восхищение ни внушал мне этот пылкий гений, вполне достаточно одной из его поэм, скорее всего «Чайльд Гарольда». Пиетета ради возьмем какой-нибудь один из исторических романов Вальтера Скотта, скажем «Айвенго». Примем в нашу коллекцию и книгу несчастного Де Куинси «Исповедь опиомана»[32], хотя это крайне патологическая вещь. Без тома эссеистики Маколея[33] не обойтись; у полного горечи Карлейля[34] возьмем, помимо «Героев», пожалуй, еще и «Sartor resartus» ради столь неподдельно английского остроумия этой вещи. Затем следуют два великих романиста: Теккерей, с его «Ярмаркой тщеславия» и «Книгой снобов», и Диккенс, который при всей время от времени нападающей на него слезливости остается королем английских повествователей. Из его произведений, наполненных сердечной добротой и блистательным юмором, надо взять по меньшей мере «Записки Пикквикского клуба» и «Дэвида Копперфильда». Среди его последователей особенную ценность представляет Мередит[35], прежде всего его роман «Эгоист»; по возможности возьмем еще и «Ричарда Февереля». Не следует забывать прекрасные стихи Суинберна[36] (впрочем, почти непереводимые!); возьмем также один-два томика Оскара Уайльда, прежде всего «Портрет Дориана Грея» и кое-что из эссеистики.
Американская литература будет представлена томом новелл Эдгара По, специалиста по части ужасов, и дерзновенными патетическими стихами Уолта Уитмена.
Из испанской литературы возьмем прежде всего «Дон Кихота», одну из самых грандиозных и восхитительных книг всех времен, историю двух бессмертных героев: странствующего рыцаря, сражающегося с воображаемыми злодеями, и его толстого оруженосца Санчо Пансы. Не откажемся и от новелл Сервантеса, поистине драгоценных образцов писательского совершенства. Следует также взять хотя бы один из знаменитых испанских плутовских романов, прообразов «Жиля Блаза». Выбор нелегок, но я решаю в пользу «Архиплута Пабло Сеговии»[37], сочной вещи, полной бурных приключений и фантастического остроумия. Среди испанских романтиков, образующих длинную и славную череду, нам необходим Кальдерон, великий поэт барокко, волшебник сцены, то светский и пышный, то набожный и назидательный.
Из голландской и фламандской литератур выберем «Тиля Уленшпигеля» Де Костера и «Макса Хавелаара» Мультатули[38] Роман Костера, в некотором роде поздний брат «Дон Кихота», - это эпос фламандского народа. «Макс Хавелаар» основное произведение страдальца Мультатули, несколько десятилетий назад посвятившего свою жизнь борьбе за права угнетенных малайцев.
Из мира скандинавских литератур возьмем в нашу библиотеку песни «Старшей Эдды»[39], переведенные братьями Гримм, а также какую-нибудь из исландских саг, например сагу о скальде Эгиле, или что-нибудь избранное вроде «Книги об исландцах» Бонуса[40]. Из новейшей поры дадим сказки Андерсена и рассказы Якобсена[41], наиболее известные пьесы Ибсена и несколько томов Стриндберга, хотя возможно, что два последних писателя не будут значить так много для наших потомков.
Особенно богата русская литература девятнадцатого столетия. Поскольку Пушкин, великий классик русского языка, принадлежит к авторам непереводимым, начнем с Гоголя, чьи «Мертвые души» и рассказы войдут в нашу библиотеку; возьмем также «Отцов и детей» Тургенева, ныне несколько забытый шедевр, и «Обломова» Гончарова. Из произведений Толстого, высокое художественное мастерство которого подчас забывают за его проповедничеством и реформаторством, во всяком случае, невозможно обойтись без «Войны и мира» (может быть, самого прекрасного из русских романов) и «Анны Карениной», но не хотелось бы отказываться и от его рассказов для народа. Из вещей Достоевского нельзя забывать ни «Братьев Карамазовых», ни «Преступления и наказания», ни «Идиота», самой одухотворенной из его книг.
Итак, мы совершили путешествие по литературам разных народов от Китая до России, от самой отдаленной древности до наших дней, мы нашли немало произведений, достойных любви и восхищения, а между тем немецкой литературе, нашему национальному богатству, пока еще не уделено внимания вовсе. Выше упоминались только «Песнь о Нибелунгах» и некоторые произведения позднего средневековья. Теперь нам осталось с особой любовью рассмотреть мир немецкого словесного искусства после 1500 г. и отобрать то, что покажется нам самым привлекательным и самым близким.
Главное творение Лютера уже упоминалось в самом начале, но хорошо было бы добавить томик его малых сочинений: или что-нибудь из его обращений к народу, или подборку его застольных бесед, или что-нибудь вроде книги под заглавием «Лютер как немецкий классик», вышедшей в 1871 г. Во времена контрреформации в Бреслау появился замечательный человек и поэт, который интересует нас как автор книжечки стихов, принадлежащих к лучшим образцам немецкой поэзии, - «Херувимский странник» Ангелуса Силезиуса[42]. В остальном же лирика времен, предшествовавших Гете, может быть представлена одной из существующих подборок. Впрочем, из эпохи Лютера следовало бы взять в нашу коллекцию народного нюрнбергского поэта Ганса Сакса[43]. Рядом с ним поставим роман Гриммельсгаузена[44] «Приключения Симплициуса Симплициссимуса», в котором так неистово и резко звучат отголоски Тридцатилетней войны, вещь удивительно свежую и отмеченную яркой оригинальностью. За ним следует «Шельмуффский» Христиана Рейтера[45], сочного юмориста; он много скромнее, но все же заслуживает нашей любви. В этот же раздел нашей библиотеки поставим «Приключения барона Мюнхаузена», появившиеся в XVIII в. И вот мы уже подошли к порогу новой немецкой литературы. Радость доставят нам несколько томов Лессинга; нет нужды, чтобы это было полное собрание сочинений, но что-нибудь из писем дать надо. Как быть с Клопштоком[46]? Лучшие из его од войдут в нашу антологию, и этого хватит. Труден вопрос насчет Гердера, которого в наше время забыли, но о котором не все еще сказано, - листать его временами чрезвычайно полезно, хотя ни одна из его больших вещей уже не удовлетворяет как целое. Издательство «Реклам» выпустило хорошую подборку его произведений.
В случае с Виландом без полного собрания сочинений тоже вполне можно обойтись, но «Оберона» нужно дать непременно, а по возможности и «Абдеритов». Благожелательный и насмешливый, искусный мастер формы, выученик древних и французов, приверженец Просвещения, не жертвовавший, однако, фантазией в пользу рассудка, Виланд - автор незаурядный, и забыли его несправедливо.
Гете надо будет взять в самом доброкачественном и полном издании, какое только позволят нам наши средства. Из его драм, статей, рецензий можно было бы еще кое от чего отказаться, но собрание его художественных произведений, включая лирические стихотворения, нужно иметь целиком. Здесь, в этих томах, нашло отклик все, что составляет историю нашей души, и многое выражено в слове раз и навсегда. И какой путь от «Страданий юного Вертера» к «Новелле», от ранних стихотворений ко второй части «Фауста»! Наряду с сочинениями необходимо иметь важнейшие биографические документы - «Разговоры с Гете» Эккермана и кое-что из писем, прежде всего переписку с Шиллером и с Шарлоттой фон Штейн[47]. Кое-что вышло из-под пера друзей юного Гете: пожалуй, лучшее - это «Молодость Генриха Штиллинга», принадлежащая Юнгу-Штиллингу[48]. Эту милую книгу мы поставим рядом с Гете, а равно и подборку сочинений Маттиаса Клаудиуса - «Вандсбекерского вестника»[49].
Что касается Шиллера, тут я склонен к компромиссам. Хотя большую часть им написанного мне едва ли придет на ум перечитывать, личность этого человека, его дух и его жизнь сохраняют для меня обаяние чего-то значительного. Мы остановим выбор на его прозаических сочинениях по искусству и лучших стихотворениях, которые были написаны около 1800 г., и к ним добавим книгу Петерсена[50] «Разговоры с Шиллером». Охотно взял бы я еще что-нибудь из книг той эпохи - вещи Музеуса[51], Гиппеля[52], Морица[53], Зейме[54], - но приходится быть беспощадным, ибо нельзя же в библиотеку, где Мюссе или Виктора Гюго вообще нет, натаскивать с черного хода милые, но не очень значительные вещи. Начало XIX в., в духовном отношении самое плодотворное для Германии время, и так предлагает нам ряд авторов самого крупного масштаба, отчасти таких, которые под действием веяний моды или вследствие несправедливости суждений наших литературоведов в последнее время были либо вовсе забыты, либо чудовищно недооценивались. Так, например, о Жан Поле, одном из великих умов Германии, популярные курсы истории литературы, служащие руководством для тысяч студентов, по сие время судят вкривь и вкось, перепевая давно устаревшую критику и не оставляя ничего от облика этого писателя. Но мы совершим акт мести, включив самое полное собрание сочинений Жан Поля, какое сумеем найти. Кто найдет это чрезмерным, пусть знает, что и ему не обойтись хотя бы без главных вещей - «Годов шалостей», «Зибенкеза» и «Титана». Не следует забывать и «Шкатулки с драгоценностями» Гебеля[55], классического рассказчика анекдотов, вместе с его же стихотворениями на алеманнском диалекте.
Теперь появилось несколько хороших и полных издании Гельдерлина; одно из них мы с благоговением поставим на нашу полку. Часто будем мы заклинать его славную тень, часто внимать его волшебному голосу. По одну сторону от него поставим сочинения Новалиса, по другую - Клеменса Брентано; к сожалению, последнего до сих пор не удосужились удовлетворительно издать. Его новеллы и сказки не забывались никогда, но глубокую словесную музыку его стихов открыли лишь немногие. Память о нем и о его сестре Беттине[56] «Весенний венок». Подготовленное Брентано вместе с Арнимом[57] собрание немецких народных песен - «Волшебный рог мальчика», - конечно, тоже должно войти в нашу библиотеку на правах одной из лучших и оригинальнейших книг Германии. Что касается Арнима, следует обзавестись хорошим сборником его новелл, где были бы такие чудные вещи, как «Изабелла Египетская» и «Старшинство в роду». Добавим несколько рассказов Тика (прежде всего «Белокурого Экберта», «Преизбыток жизни», «Мятеж в Севеннах» и его же «Кота в сапогах» - может быть, самый причудливый образчик немецкой романтики). Геррес, увы, так и не дождался приличного издания. Даже такая любопытная книга, как «История Мерлина» Фридриха Шлегеля, не переиздавалась уже несколько десятилетий! Из сочинений Фуке[58] стоит говорить только о прелестной «Ундине».
Произведения Генриха фон Клейста должны присутствовать все: и драмы, и новеллы, и статьи, и анекдоты. Он тоже не сразу был признан своими соотечественниками. Из Шамиссо[59] с нас хватит «Петера Шлемиля», но этой книжице отведем почетное место. Эйхендорфа надлежит иметь в самом полном издании; наряду со стихотворениями и всеми любимым «Бездельником» необходимы и остальные его новеллы, между тем как без пьес и теоретических работ можно обойтись. Э. Т. А. Гофман - самый виртуозный рассказчик романтизма, и его тоже следовало бы иметь в нескольких томах, не только популярнейшие из его новелл, но и его роман «Эликсир Сатаны».
Сказки Гауфа[60] и стихи Уланда[61] - только на выбор; важнее стихи Ленау и Анетты Дросте - они владели несравненной музыкой слова. Из драм Фридриха Геббеля[62] - один или два тома, в придачу дневники, хотя бы выборочно; обязательно Гейне в приличном издании, включающем стихи и прозу. Затем какое-нибудь солидное, как можно более полное издание Мерике, прежде всего стихотворения, затем «Моцарт по пути в Прагу» и «Старичок из сушеных плодов», по возможности еще «Живописец Нольтен». Рядом пусть станут вещи Адальберта Штифтера, последнего классика немецкой прозы: «Бабье лето», «Витико», «Этюды» и «Пестрые камешки».
Швейцария подарила немецкой литературе последнего столетия трех выдающихся писателей: Иеремию Готхельфа[63], уроженца Берна, величавого творца крестьянского эпоса, и двух авторов из Цюриха - Готфрида Келлера и Конрада Фердинанда Мейера[64]. Из прозы Готхельфа возьмем оба романа о батраке и арендаторе Ули, из прозы Келлера - «Зеленого Генриха», «Людей из Зельдвилы» и, пожалуй, «Изречение», из прозы Мейера - «Юрга Енача». Келлер и Мейер писали также достойные уважения стихи, но их мы найдем вместе со многими другими поэтами, перечислять которых нет возможности, в любой хорошей антологии новой поэзии, какие существуют в достаточном количестве. По желанию можно добавить «Эккехарда» Шеффеля[65], а я хотел бы замолвить словечко за Вильгельма Раабе[66]: отказаться от его «Абу Тельфана» и «Шюддервумпа» было бы жаль. Но тут нам надо остановиться - не затем, конечно, чтобы повернуться спиной к современной литературе; о нет, для нее должно быть место и в нашей голове, и в нашей библиотеке - просто у нас иная тема. Мы не можем знать, что от нашего собственного времени останется как долговечное достояние потомков.
Окидывая взглядом проделанную работу, убеждаешься, насколько наша подборка фрагментарна и неравноценна по качеству. Ну справедливо ли включать в библиотеку всемирной литературы «Приключения барона Мюнхаузена» и оставаться без «Бхагавадгиты»? Имели ли мы право отбросить чудные комедии старых испанцев, народные песни сербов, волшебные сказки ирландцев и многое другое? Неужели томик новелл Келлера перевешивает Фукидида[67], «Живописец Нольтен»[68] - «Панчатантру»[69] или китайскую книгу оракулов «И цзин»? Нет, конечно, нет! Понятно, что наш отбор текстов всемирной литературы чрезвычайно субъективен, ибо зависит от наших личных предпочтений. Что трудно - более того, невозможно, - так это заменить его другим, абсолютно справедливым, абсолютно объективным. Тогда пришлось бы включить всех авторов и все сочинения, имена и названия которых привычны нам с детства и встречаются в любой истории литературы. Да ведь и литературоведы переписывают сведения о писателях и книгах друг у друга, ибо жизнь человеческая слишком коротка, чтобы прочитать все самому. К тому же, говоря по чести, хорошая строка немецкого поэта, мелодику которого я могу прочувствовать до тонкостей, дает мне подчас гораздо больше, чем почтенный текст на санскрите в каком-нибудь тяжеловесном, малопонятном переводе. К тому же признание того или иного писателя непостоянно во времени. Мы чтим сегодня писателей, которые двадцать лет назад вообще не упоминались историками литературы. (Боже мой, мы же позабыли умершего в 1837 г. Георга Бюхнера, автора «Войцека», «Смерти Дантона», «Леонса и Лены». Конечно, без него нельзя!) То, что кажется нам сегодня существенным и живым в немецкой литературе классической эпохи, никоим образом не совпадает по объему с тем, что назвал бы непреходящим знаток этой литературы лет двадцать пять назад. Пока немецкий народ читал «Трубача из Зеккингена»[70], а ученые рекомендовали как классика Теодора Кернера, Бюхнер оставался неизвестным, Брентано был совершенно забыт, Жан Поль фигурировал в черном списке как сбившийся с пути гений! Так же точно наши сыновья и внуки найдут наши взгляды и оценки отсталыми. От этого ничто не страхует, даже эрудиция. Но это вечное колебание оценок, когда кого-то забывают на десятилетия, а потом открывают заново и осыпают похвалами, - не просто проявление человеческой слабости, человеческого непостоянства, оно подчиняется законам, которые невозможно строго сформулировать. Всякое духовное достояние, в течение известного срока отстаивавшее себя и оказывавшее свое воздействие, входит в сокровищницу человеческой культуры, откуда его в каждый момент можно извлечь и пробудить к новой жизни, заставить служить душевным потребностям нового поколения. Наши деды не только имели совсем иные представления о Гете, чем мы, они не только предали забвению Брентано и переоценивали Тидге[71], Редвица[72] или других модных писателей - они вовсе не знали «Дао де цзин» Лао-цзы, одну из величайших книг человечества, потому что открыть заново Древний Китай и его мудрость дано было нашему поколению, нашему времени, а не времени наших дедов. С другой стороны, мы, без сомнения, потеряли из виду не одно великое и славное творение человеческого духа, которое ценили наши деды и которое заново откроют наши внуки.
Конечно, в работе над нашей библиотекой мы действовали довольно-таки грубо, мы оставляли без внимания драгоценные творения, мы полностью обходили целые миры ушедших культур. Где у нас, например, Египет? Неужели несколько тысячелетий высокой и цельной культуры, блеск династий, религия, с ее величавыми теологическими системами и культом мертвых, не имеют для нас никакого значения и не оставят следа в нашей библиотеке? Именно так и обстоит дело. История Египта принадлежит для меня к тому типу книг, которые я совершенно исключил из нашего рассмотрения, - к разряду иллюстрированных альбомов, книжек с картинками. Имеются многочисленные труды о египетском искусстве с великолепными фотографиями, я часто держал их в руках, из них я многое узнал о Египте. Но книги, которая делала бы для нас близкой литературу Египта, я не знаю. Много лет назад я с большим вниманием читал работу о египетской религии, в которой приводились в отрывках египетские тексты - законы, надгробные надписи, гимны и молитвы, и, хотя эта тема меня чрезвычайно интересовала, в памяти от прочитанного почти ничего не осталось; все это было занимательно, но это не была классика. Поэтому Египта в нашей коллекции так и нет. Но здесь мне еще раз приходит на ум моя непостижимая забывчивость, мой грех упущения! Если припомнить как следует, образ Египта у меня восходит отнюдь не только к упомянутым иллюстрированным изданиям и к той работе по истории религии, он возник в моем воображении и благодаря чтению одного любимого мною греческого писателя, а именно Геродота, который обожал египтян и явно отдавал им предпочтение перед своими ионийскими земляками. Подумать только, что я так основательно забыл о Геродоте! Мою вину надо исправить, Геродоту принадлежит среди греков почетное место.
Когда я снова и снова просматриваю предложенный мною каталог «идеальной» библиотеки, то сколь бы неполным и несовершенным я ни находил его, не это кажется мне самым досадным его недостатком. Чем больше я силюсь представить себе как целое это собрание книг, составленное субъективно и весьма произвольно, но все же на базе какого-то знания и опыта, тем больше мне сдается, что портит его, по сути дела, не избыток субъективности, не случайный характер, а скорее нечто противоположное. Наша библиотека при всех своих недостатках для меня чересчур идеальна, чересчур упорядоченна, чересчур напоказ. Положим, что-то мы забыли в нее включить, но, в общем, самые ценные образцы литературы всех времен на месте, вряд ли ее можно намного превзойти. Но когда я представляю себе все эти воображаемые полки с книгами и пытаюсь увидеть, кто бы мог быть создателем и владельцем библиотеки, у меня ничего не получается: этот человек не может быть ни старым чудаковатым ученым с глубоко ввалившимися глазами и лицом аскета, истощенным ночными бдениями, ни светским господином в богатом особняке, это не сельский врач, не священник, не дама. Наша библиотека имеет вид весьма приятный и весьма идеальный, но чересчур безличный; каталог ее таков, что мог бы быть составлен любым старым книголюбом. Если бы мне довелось увидеть нашу библиотеку воплотившейся в реальность, я подумал бы: почтенное собрание, ни одна книга не вызывает сомнений, но неужели у ее владельца нет никаких пристрастий, капризов, страстей, неужели в его сердце одна только история литературы? Например, если у него два романа Диккенса и два романа Бальзака, значит, он поддался на уговоры посторонних советчиков. Если бы он выбирал самостоятельно, то он или любил бы обоих и уж тогда старался иметь того и другого в возможно большем количестве, или предпочитал бы одного другому; например, мягкий, симпатичный, обаятельный Диккенс нравился бы ему куда больше, чем несколько жестокий и грубый Бальзак, или же, напротив, он любил бы Бальзака и тогда покупал бы все его книги, а слишком сладкого, слишком добронравного, слишком назидательного Диккенса вышвырнул бы из своей библиотеки. В любом случае его библиотека приобрела бы личный, избирательный характер, что мне по душе.
Чтобы внести чуточку беспорядка в наш непомерно правильный, непомерно бесцветный каталог, чтобы показать, как идут дела при личном, живом, страстном отношении к книгам, я не вижу иного пути, как сознаться в кое-каких собственных моих читательских пристрастиях. Я очень рано сжился с книгами, стремление к разумному и справедливому выбору моего чтения среди сокровищ мировой литературы тоже не осталось мне неведомым, я ел со многих блюд и не раз обязывал себя узнать и понять как раз то, что было мне чуждо. Но все это - чтение как изучение, ознакомление с чужими литературами из воли к самообразованию и к справедливости - не соответствовало моей природе, снова и снова среди моих блужданий по миру книг меня охватывала влюбленность в какой-то особый предмет, меня восхищало то или иное открытие, меня согревало новое увлечение. Многие из моих пристрастий со временем исчезали, другие периодически вспыхивали вновь, некоторые глубокие переживания были неповторимы, и я терял их. Поэтому и собственная моя домашняя библиотека никоим образом не похожа на описанный выше образец, хотя почти все поименованные в нем книги у меня имеются. Но моя библиотека обнаруживает то там, то здесь диспропорции, какие-то ее части сильно расширены, и так будет происходить со всякой библиотекой, родившейся из подлинной потребности: одни ее разделы будут пополняться скупо, из чувства долга, а другие станут «любимчиками», предметами нежной заботы, и вид у них будет самый ухоженный.
Такие разделы, пестуемые с особой приязнью, имеет и моя библиотека, обо всех здесь и не расскажешь, придется ограничиться самыми важными. Я хочу в нескольких словах дать понятие о том, как всемирная литература отражается в каждом человеке, как она притягивает его то одной, то другой своей стороной, как она формирует его характер и сама же страдает от этого характера.
Любовь к книгам и вкус к чтению появились у меня рано, и в юности мне была известна и доступна лишь одна большая библиотека - библиотека моего деда. Большая часть этого многотысячного собрания книг меня не интересовала и так и не заинтересовала, я просто не мог понять, как можно в таком количестве копить книги такого рода - журналы по истории и этнографии, расставленные длинными рядами, теологические трактаты на английском, французском языках, английские золотообрезные назидательные книжки для молодежи, бесконечные ряды ученой периодики, аккуратно переплетенной или связанной в пачки по годам. Все это казалось мне нудным, пыльным и едва ли заслуживающим сохранения. Но в библиотеке этой, как я постепенно обнаруживал, имелись и другие разделы.
Поначалу меня привлекали к себе какие-то отдельные книги, и уже они побудили меня мало-помалу обшаривать целиком эту столь тоскливо выглядевшую библиотеку и выуживать то, что представляло для меня интерес.
Был там «Робинзон Крузо» с совершенно восхитительными рисунками Гранвиля[73], немецкое издание «Тысячи и одной ночи», два тяжелых тома ин-кварто тридцатых годов прошлого века, тоже с иллюстрациями. Обе книги показали мне, что в этом унылом море можно найти не одну жемчужину, и я уже не прекращал розысков по высоким полкам, мне случалось часами просиживать на верху приставной лестницы или лежать на полу, где повсюду лежали стопками неисчислимые книги.
И вот там-то, в этой комнате, полной тайн и пыли, я совершил первое ценное открытие в области художественной литературы: я открыл для себя немецких авторов XVIII столетия! Они были представлены в этой необыкновенной библиотеке с редкостной полнотой - не только «Страдания юного Вертера», «Мессиада» и несколько альманахов с гравюрами Ходовецкого[74], но и менее известные сокровища: полное собрание сочинений Гамана[75] в девяти томах, полный Юнг-Штиллинг, полный Лессинг, стихи Вейсе[76], Рабенера[77], Рамлера[78], Геллерта[79], шесть томов «Путешествия Софии из Мемеля в Саксонию»[80], несколько литературных журналов и отдельные тома Жан Поля. Заодно вспоминаю, что именно там я впервые прочел имя Бальзака, там было несколько томиков в синих переплетах - немецкое издание его произведений in sedicimo [В одну шестнадцатую листа (лат.)] , появившееся еще при его жизни. Помню, как я первый раз взял в руки этого писателя и как мало я понял. Я начал читать один из томиков, там подробно описывались финансовые обстоятельства героя: сколько он получает в месяц со своего имения, как велико материнское наследство, каковы перспективы получить еще несколько наследств, сколько он задолжал и пр. Я был глубоко разочарован. Я ожидал, что мне будут рассказывать о страстях и приключениях, о путешествиях в дикие страны и сладких запретных любовных переживаниях, а вместо этого мне предлагали интересоваться кошельком какого-то молодого человека, о котором я и знать-то еще ничего не знал! С отвращением поставил я синий томик на место и после этого многие годы не читал ни одной книги Бальзака, пока не открыл его для себя заново, много позднее, на сей раз всерьез и навсегда.
Но самое главное, что я узнал из библиотеки деда, - это немецкая литература XVIII столетия. Там я познакомился с удивительными, давно забытыми вещами: с «Потомками Ноя» Бодмера[81], с «Идиллиями» Геснера[82], с «Путешествием вокруг света» Георга Форстера[83], с полным Маттиасом Клаудиусом, с «Бенгальским тигром» гофрата фон Эккартсгаузена[84], с монастырской историей «Зигварт»[85], с «Крестовыми походами вдоль и поперек» Гиппеля и многими, многими другими. Конечно, в этом царстве старых книг имелось и такое, без чего можно было спокойно обойтись; там я нашел справедливо забытые и отвергнутые вещи, а также дивные оды Клопштока, страницы изящной и нежной прозы Геснера и Виланда, великолепные каскады остроумия Гамана. Не стоит жалеть и о том, что я прочитал менее ценное, ибо познакомиться основательно с определенным историческим периодом тоже небесполезно. Короче говоря, я изучил немецкую словесность целого столетия с такой полнотой, с какой ее изучает не всякий специалист, и от этих книг, со всеми их странностями и причудами, на меня все же веяло духом языка, моего любимого родного языка, который достиг своего расцвета как раз в это столетие. Читая альманахи, запыленные романы и героические сказания, я познавал немецкий язык, и, когда вскоре я познакомился с произведениями Гете и других гениев немецкой литературы, мой слух, мое языковое чутье уже были обострены; специфический склад духовной культуры, на котором были воспитаны Гете и немецкие классики, также был для меня знакомым и близким. У меня до сих пор сохранилось пристрастие к этому виду словесности, кое-какие забытые творения и сегодня стоят на моих полках.
Прошло несколько лет, я успел немало пережить и немало перечитать, и меня начала манить к себе другая область истории культуры - Древняя Индия. Я пришел к этому не сразу. От друзей мне попали в руки книги особого рода, которые тогда именовались теософскими и притязали на знание всей оккультной премудрости. Книги эти, частью объемистые тома, частью дешевенькие брошюрки, были весьма непривлекательного свойства; они настырно поучали и с важным видом говорили обо всем на свете; в них была, правда, некая идеальность, отрешенность от мира сего, которая притягивала меня, но вместе с ней такая анемичность, такая стародевическая напыщенность, что меня охватывал ужас. Все же я не мог отказаться от их чтения, и вскоре я разгадал секрет их привлекательности. Все эти тайные учения, якобы нашептанные сочинителям этих сектантских книжек незримыми духовными наставниками, обнаруживали общее происхождение - из Индии. Едва поняв это, я принялся искать дальше и вскоре был вознагражден первой находкой, прочитав с замиранием сердца перевод «Бхагавадгиты». Перевод был прескверный, я до сих пор не знаю ни одного по-настоящему хорошего перевода этой вещи, хотя читал их немало, - но здесь я в первый раз отыскал крупицу того золота, мечта о котором вдохновляла мои поиски: я открыл для себя восточную идею всеединства в ее индийском воплощении. С тех пор я бросил читать претенциозные брошюры о карме и перевоплощениях, бросил кипятиться по поводу их узости и всезнайства, а вместо этого стал прилагать усилия к тому, чтобы усвоить как можно больше из подлинных источников. Я прочитал труды Ольденберга[86] и Дойссена[87] вместе с их переводами санскритских текстов, книгу Леопольда Шредера[88] «Литература и культура Индии», а также несколько старых переводов из индийской поэзии. Вместе с системой Шопенгауэра, которая значила для меня в эти годы очень много, древнеиндийские мудрости и доктрины на протяжении нескольких лет существенно влияли на мой образ мыслей и на мою жизнь. И все же что-то не удовлетворяло меня до конца. Начать с того, что доступные мне переводы индийских памятников были почти все весьма несовершенны, разве что «Шестьдесят Упанишад» Дойссена и немецкие «Проповеди Будды» Нойманна[89] давали мне радость живого прикосновения к миру Индии. Однако беда была не только в переводах. Я искал в этом мире то, чего там не было, некий род мудрости, который, как я смутно ощущал, возможен и где-то существует, непременно должен существовать, но который так мне и не открылся.
Прошло много лет, и мою неистребимую потребность к познанию удовлетворило новое читательское переживание - насколько в таких делах вообще возможно удовлетворение. Еще раньше, следуя совету моего отца, я познакомился с Лао-цзы, в то время в переводе Грилля[90]. Впоследствии начала выходить в свет книжная серия - переводы Рихарда Вильгельма[91] из китайских классиков. Одна из самых утонченных и высокоразвитых культур человечества, известная дотоле немецкому читателю разве что на правах забавного курьеза, стала доступна нам не окольными путями, к каким мы успели привыкнуть, не через латинские или английские переводы, не из третьих и четвертых рук, но непосредственно, в переводах немца, который прожил в Китае полжизни, который сумел познать саму суть китайской духовной традиции, отлично владел не только китайским, но и немецким языком, испытал на себе самом, что может значить китайская культура для европейца. Серия начала выходить в йенском издательстве Дидерихса, ее открывали беседы Конфуция, и я никогда не забуду, с каким изумлением, с каким удовольствием я поглощал книгу, каким все в ней было неожиданным, но одновременно каким-то правильным, давно желанным, восхитительным. С тех пор серия разрослась, за Конфуцием последовали Лао-цзы, Мэн-цзы[92], Люй Бувэй[93], китайские народные сказки. Одновременно целый ряд переводчиков занялись китайской лирикой, а также - и с большим успехом - фольклором Китая. Много прекрасного сделали в этой области Мартин Бубер, Г. Рудельсбергер[94], Пауль Кюнель[95], Лео Грайнер[96] и пр. Они приятным образом дополнили труды Рихарда Вильгельма.
Уже несколько десятилетий моя приязнь к этим китайским книжкам непрерывно возрастает. То, чего недоставало индусам, - близость к жизни, гармония между благородной духовностью, готовой требовать от себя высших нравственных усилий, и чувственной прелестью повседневной жизни, разумное сочетание строгой дисциплины духа и простодушного жизнелюбия - все это было здесь в избытке. Если Индия дала много возвышенного и трогательного по части аскезы и монашеского отрешения от мира, то Древний Китай достиг не менее удивительных высот в воспитании строя мыслей, для которого дух и природа, религия и повседневность - противоположности, каждая из которых имеет свои неотъемлемые права. Если аскетическая индийская мудрость обнаружила в радикализме своих требований пуританский пыл юности, то мудрость Китая - это мудрость умственно зрелого, не чуждого юмору мужа, чей жизненный опыт не привел к разочарованию и цинизму.
Лучшие представители немецкой мысли на протяжении двух последних десятилетий были затронуты этим благотворным потоком. На фоне стольких шумных, но недолговечных начинаний работа Рихарда Вильгельма обретала широту и значимость.
Пристрастие к немецкому восемнадцатому столетию, поиски индийской мудрости, постепенное ознакомление с доктринами и поэзией Китая во многом преобразили и обогатили мою библиотеку. Такое же действие имели и другие мои переживания и умственные увлечения. Так, было время, когда я держал у себя в оригинале всех великих итальянских новеллистов - Банделло[97] и Мазуччо[98], Базиле[99] и Поджо[100]. Позднее мною овладела ненасытная потребность в сказках и легендах других народов. Одни интересы тихо угасли. Другие, напротив, остались и, как кажется, сделались к старости не слабее, а сильнее. Сюда относится тяга к мемуарам, письмам и биографиям людей, однажды произведших на меня впечатление. Еще в ранней молодости я несколько лет подряд собирал и читал все, что мог раздобыть, о личности и жизни Гете. Моя любовь к Моцарту побудила меня прочесть почти все его письма и записки о нем других людей. Такую же любовь я чувствую к Шопену, к французскому поэту Герену[101], автору «Кентавра», к венецианскому живописцу Джорджоне, к Леонардо да Винчи. То, что мне случалось прочесть о них, были не бог весть какие существенные книги, и все же я получил от них пользу, потому что в основе чтения лежала любовь.
Современный мир склонен недооценивать книги. Сегодня встречаешь множество молодых людей, которым кажется смешным и недостойным любить книги вместо живой жизни, они полагают, что для чтения книг наша жизнь слишком коротка и слишком драгоценна, хотя они находят время на развлечения. Как бы ни была «реальна» жизнь в высших учебных заведениях и мастерских, на биржах и в увеселительных местах, мы никогда не приблизимся к настоящей жизни, если не будем уделять один-два часа в день чтению древних мыслителей и поэтов. Конечно, от обильного чтения возможен вред, и книги могут заслонить картину жизни. Но это не основание пренебрегать чтением вообще.
Я мог бы рассказать еще о многом. К тем пристрастиям, о которых я уже поведал, прибавилось еще одно - попытки проникнуть в жизнь христианского средневековья. Подробности политической истории этого периода меня не интересовали, для меня было существенным противоборство двух основных сил государства и церкви. И особое мое любопытство вызывала монашеская жизнь не своей аскетической стороной, но потому, что в искусстве и литературе монастырских кругов мне открылись удивительные вещи, а также потому, что орден и монастырь представлялись мне приютом созерцательной жизни, прибежищем культуры и воспитания духа. Блуждая по миру монашеского средневековья, я не раз находил книги, которые не вошли в нашу «идеальную» библиотеку, но все же доставили мне много удовольствия, а порой я находил и такие, которые вполне могли бы войти в наш список, например проповеди Таулера[102], житие Генриха Сузо[103], проповеди Мейстера Экхарта[104].
Мое представление о всемирной литературе когда-нибудь покажется моим сыновьям неполным и однобоким, равно как оно показалось бы смешным моему отцу или деду. Нужно принять неизбежное, нечего воображать, будто мы умнее отцов наших. Стремление к объективности и справедливости - чудесная вещь, только бы мы не забывали, насколько недостижимы подобные идеалы. Цель наша при составлении нашей скромной библиотеки не в том, чтобы через чтение выйти в ученые или тем паче в судьи над миром, а единственно в том, чтобы отыскать доступные нам врата святилища духа. Так пусть каждый начинает с того, что ему понятно и дорого! Научиться чтению в высшем смысле слова возможно не на газетных статьях и не на случайных литературных однодневках, а только на шедеврах. Часто у шедевров не такой приятный и не такой пикантный вкус, как у модных вещиц. Они требуют, чтобы их принимали всерьез, они требуют усилий. Куда легче воспринимать разухабистые ритмы какого-нибудь американского танца, чем размеренные и упругие, как сталь, периоды трагедии Расина или тончайшие движения богатой игры юмора у Стерна или Жан Поля.
Прежде чем подвергнуть шедевры испытанию, нам самим придется пройти испытание их мерой.
1929
Размышления о Готфриде Келлере
Тридцать два года назад, в связи со столетней годовщиной рождения поэта, было высказано немало соображений, полных печального, закатного настроения. Идеалы, которые исповедовали читатели Готфрида Келлера вместе со своим поэтом, казалось, исчерпали себя. Не только мировая война указала на то, как мало места в жизни осталось для либеральных идей мировой буржуазии; неожиданно поднявшаяся волна победоносного социализма легко справилась с символами веры мещанского, индивидуалистического идеализма. Казалось, настал конец всем этим красивым словам и образам, мещански решительному довольству и простодушию, рационализму лишенной героики буржуазии, а утрату религиозного, мистического мировоззрения попытаются заменить слегка прикрытой гирляндами цветов верой в образование и разум да роскошными знаменами патриотических празднеств. Настал конец - и, казалось, навсегда милой идилличности келлеровского мира, трогательной способности радоваться малому, утонченности любования природой. Все, что вчера еще казалось возможным, прекрасным и, пожалуй, лишь слегка вышедшим из моды, сейчас вдруг отодвинуто назад, кажется далеким, как седая древность, принадлежащим сказочному веку кринолинов, кажется, все это вообще никак не связано с нынешним днем.
И впрямь, хотя после 1919 года обстоятельства снова сильно изменились и трещина еще не сомкнулась, во всем мире заметно наступление новых времен. У нынешних людей возникли некоторые чувства и движения души, которые были милы и дороги нам в годы юности, но которые поэзия ряда поколений называла устаревшими, незначительными, сентиментальными и вздорными. Некоторые элементы буржуазной идеологии претерпели отнюдь не безболезненное крушение, и потому все еще живое и сильное бюргерство ради собственного блага видит себя вынужденным энергично пересматривать и обновлять свой духовный мир и принятую терминологию.
Кроме того, ход мировой истории, по-видимому, неожиданным образом ускорился и все новые программы и идеологии несут теперь в себе какой-то скептицизм и близорукость; моды в области духа исчерпывают себя и сменяются другими едва ли не быстрее, чем когда-либо прежде. А поскольку вчерашние слова и ценности претерпели жестокую духовную инфляцию, снова появляются ценности позавчерашние, слегка перекроенные и покрытые уже красивой, внушающей доверие патиной времени; все это поднимается снова, подобно сверженному министру, который мудро предвидит крах нынешнего поколения и готов при первой же возможности поживиться. Именно для народов, побежденных в войне 1914-1918 годов (но отнюдь не только для них), все пришло в движение и брожение; в это тревожное время возникли такие точки зрения и были поставлены такие вопросы, что, похоже, не осталось, по существу, более никакой власти со старыми традициями и выучкой, за исключением римской церкви.
Те системы мировоззрения, какие еще лет тридцать назад позволяли глядеть на буржуазного идеалиста Келлера свысока, сегодня рухнули, забыты и истлели скорее, чем бумага послевоенного производства, на которой они были изложены, тогда как творения Готфрида Келлера после недолгих споров, как и прежде, стоят незыблемо, означая для великого множества людей то самое, что может значить для человека современное искусство: утешение, поддержку среди тягот жизни, дверь, распахнутую в вечность. И если мы попытаемся вспомнить современных ему авторов, которым прежде принадлежали слава, успех, журналы и читатель, то заметим, что большинство этих поэтов и прозаиков, куда более прославленных и известных, нежели Келлер, теперь почти совсем забыто. Только один из тогдашних немецких романистов, Вильгельм Раабе, проделал примерно тот же путь. А милые стихи Гейбеля[1], романы Гейзе[2], книги модных авторов 1870-1890 годов - всех этих Шпильгагенов[3], Хаклендеров[4] и как их там еще исчезли и забыты. Из швейцарских прозаиков прошлого столетия единственно Готхельф в еще большей мере, нежели Келлер, делается теперь все более молодым, все более современным.
Если бы нечто истинное содержалось в утверждении, будто история литературы равнозначна истории идей, тихая жизнь и прочность произведений, подобных келлеровским, казались бы необъяснимыми. Идеи Келлера, идеи швейцарского либо идеалистически настроенного мирового бюргерства и в самом деле устарели, утратили раз и навсегда свое место под действием правящих миром сил, а его слова и бесценная веселость изображаемого им мира все также тихонько продолжают излучать тепло.
Тайна подобных произведений лишь в мастерстве; можно пожелать, чтобы современное литературоведение, оплодотворенное, но и увлеченное в сторону поднявшейся волной психологии Фрейда, снова обратилось к такого рода тайнам. Не насыщенность или новизна содержания дает подлинную жизнь поэтическому произведению, не мощь необычной творческой личности, а уровень мастерства, верность и чувство ответственности в борьбе с тяготами творческого труда, а также с соблазнами дешевого успеха, приспособления к нынешней моде. Где такое мастерство достигнуто, хватит его одного, чтобы независимо от содержащихся мыслей поэтическое произведение обрело долгую жизнь и даже после времен, когда им пренебрегали, снова могло стать «актуальным» и радовать новые поколения.
Психоаналитический метод исследования позволил глубоко проникнуть в механизмы и закономерности проявления поэтической души, но он не позволил сказать решительно ничего о том истинно важном, что таится в любом произведении искусства: об уровне мастерства, достигнутого в нем. Именно здесь следовало бы призвать на помощь то фрейдовское понятие, которое в деятельности психологов играет столь незначительную роль: понятие сублимации. Правда, для этого понадобился бы некоторый идеал, обусловленный культурой, и прежде всего - вера в значение культуры, а также в то, что, когда среди бед и тягот своей судьбы поэт ощущает потребность оправдать несовершенство собственной жизни совершенством своих творений, это имеет и смысл, и ценность. Психоанализ не знает никакого идеала, обусловленного культурой; по его оценкам поэта, который трудным, кружным путем пришел к сублимации своих состояний в некоторое сочинение, и человека, вместо этого принявшего какой-либо курс лечения и ставшего «нормальным», следует считать в равной степени правыми.
У Готфрида Келлера мы видим, как из жалкой, полной лишений и тягот жизни, из жизни чудаковатого коротышки, бедного упрямого холостяка и любителя выпить рождается труд, в котором нет следов нужды и скрытой озлобленности. Мы видим, как этот неудачник, этот бедолага достигает гармонии в своем труде, создает атмосферу возвышенности и чистоты, жертвует красоте своим Я, что не только приводит в восхищение, но и, как пример служения искусству, может стать образцом для подражания, хотя «подлинная» жизнь поэта отнюдь не выглядит образцовой. Но она кажется столь бедной и не могущей служить примером, лишь когда биограф старается показать, что останется, если из жизни поэта изъять часы творческой работы. Ведь самое-то лучшее в этой жизни, как и в жизни любого мастера, совершается именно в такие, и даже исключительно в такие часы, когда все его состояния и затруднения мы можем оставить как бы в стороне, когда мы уже видим плоды его труда.
Достижение мастерства, вечно возобновляющаяся, многолетняя, одинокая и упорная борьба за такую сублимацию, жертвы, о которых можно лишь подозревать, и усилия художника, предпринимаемые ради своего труда, - вот мир, полный тайн, мир, в котором жизнь всякого художника, стремящегося к мастерству, будет трагичной. И обывательская, и одновременно идиллическая жизнь Готфрида Келлера, ворчливого любителя выпить и беспутного холостяка, трагична.
Нет, не ради «идей» существует поэзия. Попробуем спокойно реконструировать содержание бидермайеровской религии[5], скажем, Шуберта или Штифтера, оно по праву покажется таким мелким, дешевым, устаревшим. Но в чарующих рассказах Штифтера и волшебных песнях Шуберта нет ничего тривиального, равно как и устаревшего. Так же обстоит дело и с творчеством Келлера.
1930 (переработка 1951)
Читая «Зеленого Генриха»
«Зеленый Генрих» - это роман в форме автобиографии. Еще не старый человек описывает собственную жизнь, делая себя центром мира, а предметом воспоминаний - все подряд, начиная с обстановки материнского дома и кончая бог знает чем, подобно тому, кто пишет для самого себя и нимало не принужден соблюдать стесняющую объективность. Вопреки той бесцеремонности, с которой он обращается с самим собою, собственной жизнью, временем и страной, автор этих мемуаров оказывается весьма решительным человеком и разглядывает себя с отнюдь не трогательным интересом, какой обычно проявляют пишущие автобиографию к своей персоне. Наоборот, он показывает неприукрашенными свои глупости и заблуждения, начиная с детских лет, и предстает перед собственным судом, причем без напускной важности.
Почему же этот роман так значителен и незабываем? Что делает его классическим? Материал (в обычном смысле) тут ни при чем, виртуозное владение материалом - тоже, а какая-либо тенденция и вовсе отсутствует. Материал самый средний, ничего сенсационного в нем нет, композиция беспорядочная и довольно рыхлая, важные события занимают страницу, а простое изображение виденного расползается на целые главы. Каких-либо новых мыслей здесь, пожалуй, не найдешь, и тут никто не провозглашает новое мировоззрение, сбивающее с толку своей оригинальностью.
Итак, в чем же тайна этого сочинения? В чем его величие? Что принуждает нас поставить его рядом с произведениями, пережившими не одно поколение?
Видимо, тайна «Зеленого Генриха» совсем такая же, как и тайна Гомера, Данте, Бокаччо, Шекспира или Гете. Она скрыта в двух силах, относящихся не к средствам искусства, но к самой природе гения. Первая из них - то, что я назвал бы вечностью материала, вторая сила - язык.
Любой роман семидесятых, даже восьмидесятых годов сегодня устарел, и тем сильней, чем более современным был тогда. Содержание для нас уже не важно, новые идеи уже не новы, типы людей и нравы общества изменились, язык обветшал, так теперь никто не пишет. Почему мы не ощущаем этого, читая «Вильгельма Мейстера»[1], а равным образом и «Зеленого Генриха»?
Персонажи романов, которые по прошествии тридцати лет кажутся старомодными, эти яркие пустышки, они - не символы. Персонажи, наиболее существенное в которых временно, исчезают. Символы, у которых временное есть лишь одеяние вечного, остаются. Граф Монте Кристо мертв, а Одиссей - жив. Живы еще Дон Кихот, Вильгельм Мейстер, Гамлет, живы сегодня и Квинт Фикслейн, Зибенкез и Зеленый Генрих, маленький простодушный бездельник Эйхендорфа[2], равно как и великий Валленштейн Шиллера[3]. Ибо все они просто люди, находящиеся вовсе не в первом ряду представителей своего времени, но то, что определило их судьбу, существует в любое время и может повториться. Это и есть «вечность материала».
С этим вполне может быть связано то, что называется «колоритом времени», «окружением» и т. д. Хотя Одиссей - символ человечества, в «Одиссее» тем не менее находят воплощение важнейшие и тончайшие черты жизни Древней Греции. И Зеленый Генрих отнюдь не пребывает вне времени, его Мюнхен не тот, что сегодня, его Швейцария - это не Швейцария вообще, она также принадлежит лишь тому времени. В великих произведениях тоже есть элементы, не выдерживающие старения. В «Избирательном сродстве»[4] содержится множество разговоров о каких-то клумбах, которые едва ли могут интересовать нас, как и некоторые рассуждения о живописи у Келлера, кажущиеся старомодными и лишними. Но вечная правда, заключенная в целом, действует так, что эти черты мы находим не смехотворными, как у других, а трогательными. То, что пережил Зеленый Генрих, можно пережить сегодня, завтра и через сотню лет.
А теперь о языке. Здесь тоже каждый поэт связан со своим временем, и отдельные его выражения позже сделаются непонятными, чуждыми и, возможно, наивными. В этом отношении проза Келлера дает едва ли не единственный пример произведений, устоявших со времен Гете. Он творил, пользуясь глубокими источниками родного говора, сберегши себя тем самым от мнимой всеобщности языковых красот, не связанных с родной, народной речью; такому языку легко выучиться, но зато он и скоро устаревает. Не пользовался он также и каким-либо диалектом, а равным образом не желал настойчиво проявить оригинальность. Из народного языка, в среде которого он вырос, на котором говорил и который слышал ежедневно, он сохранил для художественной речи (передающей как общее, так и личное) лишь присущую просторечию своеобразно понятую яркость и меткость; причем сделал это так, как едва ли кто другой из немецких прозаиков, за исключением Лютера и Гете.
Отсюда сочность и свежесть отдельных выражений, часто даже встречаются фразы, которые напоминают пословицы. Это заимствовано из народного говора. Но строению своих фраз, тому, как они у него связываются и вырастают одна из другой, он не мог обучиться у народа. Это было бы невозможно без чрезвычайно тонкого чувства ритма и тектоники фразы, а также без благодарного и настойчивого изучения старых мастеров. Большую часть «Зеленого Генриха» я читал вслух, и на сотнях страниц нашел какие-нибудь две фразы, не слишком благозвучные, естественные и законченные. Это нечто такое, чего столь многие современные авторы, с их желанием быть оригинальными, не добиваются почти никогда. Даже внешне речь Келлера напоминает спокойную, безопасную реку; здесь нет ни одной фразы без глагола, какие предпочитают теперь, нет и сбивающей с толку краткости, соседствующей с бурной, чувствительной риторикой. Скорее найдешь умеренно длинные, требующие естественного дыхания и сердцебиения фразы и части фраз, которые удобно без подготовки прочесть любому человеку; фразы соединяются простыми, едва заметными союзами, тонкий выбор и прелесть которых кажутся чем-то само собою разумеющимся, хотя в прозе они бесконечно важны. И, наконец, возможно самое главное - отказ от расплывчатых описаний, обилие весомых глаголов и существительных. Наш поэтический язык страдает дурной склонностью вкладывать всю яркость и точность фразы в прилагательные и наречия, вместо того чтобы довольствоваться существительными в окружении значащих глаголов и вспомогательных - «иметь» и «быть». В келлеровском языке нет и следа подобной бедности.
Возможно, все это слегка отдает мелочностью и педантизмом. Но никому не повредит, если время от времени повторять такие вещи. Пренебрежение техникой Гете и Келлера никогда не сделает слабого поэта сильнее, и мы, слабые, тоже в состоянии учиться. Даже сам Келлер не извлекал все из рукава, менял и отбрасывал некоторые слова и фразы, прежде чем наиболее точные из них становились на свое место.
Ибо ведь тот «Зеленый Генрих», каков он сейчас, создавался в течение половины жизни автора, переработка и нынешняя редакция его осуществлялись с усилиями и затруднениями. Однако сочинение это кажется таким непринужденным и естественным, что человек, не знающий первого варианта, не поверит этому никогда
Время от времени люди вдруг осознают, как мало нового происходит на самом деле. Вот новая философия, новая мысль об устройстве общества, новый вид искусства, воспринимающиеся столь необычно и своеобразно, что все вчерашнее рядом с ними кажется просто дряхлым. Но очень скоро какой-нибудь историк покажет, что эта новейшая философия известна уже одному мыслителю средневековья, что подобные мысли об устройстве общества можно найти у финикиян, а новый вид искусства издавна существовал в Китае.
Не иначе и в поэзии. Новое происходит, либо когда рождается редкий колосс, либо когда тот или иной народ, доселе безмолствовавший, начинает говорить о себе, как лет сорок назад произошло с Россией. Но и такая новизна, как только минует удивление от первого знакомства с нею, скоро безвозвратно входит в состав живой старины. Ибо остается лишь символ, но не портрет. Мы не можем себе представить, что стал бы делать автор модных романов тридцатилетней давности, если бы кому-нибудь удалось свести его с Ибсеном и Достоевским. А вот молодой Гете и, скажем, Шекспир нашли бы, без сомнения, весьма многое, что следует сказать этому новичку.
Готфрид Келлер, возможно, еще не настолько далек от нас, чтобы мы могли так решительно поставить его рядом с теми, кто испытан веками. Но мне кажется все-таки, что по соседству с рыцарем Дон Кихотом, Вильгельмом Мейстером и другими любимыми образами, отвергнувшими все временное, Зеленый Генрих у себя дома.
1907 (переработка 1917)
Магия книги
Среди тех миров, что не подарены человеку природой, а сотворены из материалов его собственного духа, мир книги - величайший. Любой ребенок, выводя первые буквы на своей классной доске и пытаясь впервые читать, делает тем самым первый шаг в этот искусственный и чрезвычайно сложный мир, для полного постижения законов и правил которого недостаточно одной человеческой жизни. Без слова, без письменности и книги нет истории, нет самого понятия человечества. И если кто-либо вдруг сделает попытку заключить в ограниченное пространство - в одном доме или одной комнате - историю человеческого духа, чтобы овладеть ею, то он сумеет сделать это единственно посредством какого-то подбора книг. Мы видим, правда, что занятие историей и размышления на исторические темы имеют свои опасные стороны, и в последние десятилетия мы пережили полный переворот нашего отношения к истории, но как раз переворот этот мог бы выучить нас тому, что отречение от достижений и владения всею массой результатов нашего мышления и духовной жизни никоим образом не возвращает нас к состоянию первозданной безгрешности.
У всех народов слово и письменность представляют собою нечто священное и магическое; наименование, равно как и написание, первоначально было магическим действием, магическим овладением природой посредством духа, и повсеместно дар письма почитался божественным откровением. У большинства народов письмо и чтение считались священным, тайным искусством, составляющим привилегию жречества; было великим и необыкновенным событием, если какой-либо молодой человек решался изучить это сообщающее особую силу искусство. Такое давалось нелегко, такое давалось немногим, а искуплением тут могли служить лишь посвящение и жертва. С точки зрения нашей демократической цивилизации духовная жизнь была тогда чем-то более редкостным, но и более благородным и священным, нежели сегодня, она находилась под защитой божества и предназначалась не каждому, к ней вели трудные пути; она не давалась зря. Мы способны лишь отдаленно представить себе, что значит в культурах, устроенных строго иерархически, среди полностью неграмотного народа владение тайной письма! Это - величие и власть, это - черная и белая магия, талисман и волшебный жезл.
Теперь дело обстоит, видимо, совсем иначе. Похоже, сегодня мир письма и духовных ценностей открыт каждому, в него даже принуждают войти, если кто-нибудь захочет уклониться от этого. Похоже, сегодня умение читать и писать значит не более, чем умение дышать, ну, самое большее, чем умение ездить верхом. Сегодня, похоже, письменность и книга лишены какого-то особенного достоинства, какого-то налета колдовства, магии. Разве что в той или иной религии сохранилось еще понятие «священной», данной посредством откровения, книги; но единственная, действительно могущая что-то сделать религиозная организация Запада, римско-католическая церковь, не придает слишком большого значения тому, чтобы распространить слово Библии среди непосвященных, и, значит, на самом деле священных книг больше нет нигде, за исключением маленьких общин правоверных евреев и приверженцев нескольких протестантских сект. Лишь кое-где существуют еще предписания, чтобы во время принесения должностной присяги клянущийся возлагал руку на Библию; но такой жест - лишь холодное, безжизненное воспоминание о некогда кипевшей силе, и для современного среднего человека он не несет в себе, как и сама формула присяги, каких-либо магических ограничений. Книги перестали быть чем-то таинственным, они, как представляется, сделались доступны каждому. С точки зрения людей, настроенных демократически и либерально, это шаг вперед и нечто само собою разумеющееся, с иной точки зрения - это обесценивание и вульгаризация творений духа.
Мы не желаем лишиться приятного чувства достигнутого успеха и радуемся тому, что чтение и письмо не составляют более исключительного права какой-то гильдии или касты, что с изобретением печатного станка книга стала обычным, распространенным в самых широких кругах предметом первой необходимости, а не роскоши, что большие тиражи сделали возможным понижение цен на них, что поэтому лучшие книги каждого народа (так называемые классики) теперь доступны даже малообеспеченным людям. Мы не будем слишком опечалены и тем, что понятие «книга» почти лишилось прежнего оттенка благородства, а кино и радиовещание еще более снижают достоинство и привлекательность книги в глазах большинства. Тем не менее не следует опасаться исчезновения книги в будущем, наоборот, чем полнее новые изобретения удовлетворят со временем потребность людей в общении между собой и распространении образования, тем скорее возродятся достоинство и авторитет книги. И хотя детское упоение новыми успехами будет постоянно овладевать всем обществом, письменность и книга наделены такими функциями, которые не зависят от времени. Станет ясно, что формулировка мысли посредством слова и передача таких формулировок посредством письменности не просто важные вспомогательные средства, но и вообще единственное средство, благодаря которому человечество может узнать собственную историю и непрерывно сознавать себя.
Сегодня мы еще не достигли такого положения дел, когда новые изобретения, радио, кинематограф отберут у книги, с которой конкурируют, как раз ту часть ее функций, о которой не стоит сожалеть. Действительно, почему нельзя думать, что лишенный художественной ценности, но занимательный, богатый острыми положениями, яркими картинами, напряженный и возбуждающий чувства роман будет распространен в виде последовательности изображений, как в кино, либо с помощью передачи по радио, либо - в будущем - комбинацией обоих этих способов, вместо того чтобы тысячи людей тратили время и портили зрение из-за подобных книг? Ведь достижения промышленности, полностью еще не известные нам, отчасти уже применяются потихоньку в заводских цехах. И сегодня мы слышим нередко, что тот или иной «поэт» оставил литературу или театр и обратился к кино. Таким образом, необходимое и желательное разделение уже происходит. Ибо то, что «сочинение» и создание фильмов - одно и то же или по крайней мере имеют много общего, есть явное заблуждение. Я никоим образом не намерен петь здесь хвалебный гимн «поэту», в сравнении с ним считая создателя фильмов чем-то менее значительным, отнюдь нет. Но человек, стремящийся описать или рассказать нечто средствами слова и письма, поступает полностью иным, принципиально иным образом, нежели человек, передающий ту же историю, прибегая к услугам играющей, снимаемой на пленку группы людей. Использующий слово может оказаться жалким ремесленником, а создатель фильма - гением, но дело не в этом. Чего многие пока не чувствуют и что, возможно, откроется лишь долгое время спустя, решающим в кругу творчески работающих людей становится уже сейчас полное разделение средств, с помощью которых предполагается достигнуть той или иной художественной цели. Разумеется, и после такого разделения будут появляться и бестолковые романы, и низкопробные фильмы, создаваемые необработанными талантами, пиратствующими в тех областях, где им не хватает знания. Но в смысле прояснения понятий и освобождения литературы и ее конкурентов от излишнего груза это разделение даст много. Литературе не более повредит кино, чем, например, живописи повредила фотография.
Вернемся же к нашей теме! Прежде я говорил, что книга сегодня, «похоже», утратила свою магическую силу, что неграмотные сегодня, «похоже», сделались редкостью. Почему «похоже»? Разве древнее волшебство все-таки существует еще где-то? Разве, наконец, есть еще священные книги, дьявольские книги, магические книги? Разве само понятие «магия книги» не ушло раз и навсегда в прошлое, в сказку?
Ну да, так оно и есть. Законы духа меняются столь же мало, как и законы естества, и оставляют столь же мало возможностей «упразднить» себя. Можно упразднить жречество или коллегию астрологов либо отменить их привилегии. Науку или поэзию, бывшие до сих пор тайным владением, сокровищем немногих, можно сделать доступными для многих, можно даже заставить этих многих ознакомиться с названными сокровищами. Но только все это относится лишь к тончайшему верхнему слою, и на самом деле в мире духа ровным счетом ничего не изменилось с того времени, когда Лютер переводил Библию, а Гутенберг[1] изобретал свой станок. Магия прекрасным образом существует, и, как прежде, дух - тайна маленькой, иерархически организованной общины избранных, только община эта пребывает неназванной. В последние столетия письменность и книга сделались у нас общим достоянием всех слоев населения - пожалуй, так же, как мода на упразднение сословных различий в одежде; но менее заметное воздействие прежней моды остается, и платье красивой, хорошо сложенной женщины, обладающей развитым вкусом, кажется решительно не похожим на точно такое же платье, надетое какой-нибудь заурядной женщиной. В области же духа со времени его демократизации случилось, кроме того, еще одно смехотворное, сбивающее с толку происшествие: бразды правления выскользнули из рук священнослужителей и ученых, которые не могли более удержать их и употребить с должным чувством ответственности, но завладели ими те, кто также не смог узаконить свое приобретение, сославшись на какой-то авторитет. Ибо ни один из слоев духовного или литературного общества, который временами кажется ведущим, поскольку формирует общественное мнение либо по крайней мере создает самые ходкие словечки дня, - ни один такой слой не есть слой истинно творческих людей.
Мы не станем чересчур углубляться в отвлеченные рассуждения. Приведем первый попавшийся пример из области современной духовной и литературной жизни! Представим себе какого-нибудь образованного, много читающего немца времен между 1870 и 1880 годами - этакого судью, врача, преподавателя высшей школы или просто человека, любящего книги. Что он читал, что он знал о творческом духе своего времени и своего народа, что объединяло его с современниками и потомками? Где та литература, на которую тогда критика обращала внимание общества, как на добротную, желательную и достойную прочтения? От нее не осталось почти ничего. В то время как Достоевский писал свои книги, а Ницше, безвестный или осмеянный одиночка, влачил свои дни в сделавшейся богатой, падкой на удовольствия Германии, немецкие читатели, старые и молодые, высокого и низкого происхождения, довольствовались каким-нибудь Шпильгагеном и Марлитт[2] или в лучшем случае милыми стихами Эмануэля Гейбеля, которые издавались такими тиражами, каких с тех пор не знал более ни один лирический поэт, либо читали знаменитого «Трубача из Зеккингена», который был распространен и любим более всех стихов. Таких примеров можно громоздить сотни. Становится ясно, что, несмотря на демократизацию сферы духа и принадлежность духовных ценностей данного времени, кажется, всем современникам, выучившимся читать, на самом деле все значительное появляется тайно и незаметно, похоже, будто невесть где, под землею, тайно существует какой-то союз священнослужителей или заговорщиков, который скрытно и незаметно воздействует на течение духовной жизни, который ради целых поколений направляет в сей мир своих облеченных властью и невероятной силой, но не признанных законом посланников и который позаботился о том, чтобы общество, просвещенная часть его, легкомысленно не обратило внимания на магическое действо, разыгрываемое прямо перед их глазами.
Но и в еще более тесном и привычном круге явлений мы каждый день можем наблюдать, как поистине удивительно, сказочно складываются судьбы книг, как они бывают наделены то силой высочайшего очарования, то даром делаться невидимыми. Поэты живут и умирают, будучи известны немногим или вообще никому, и только после их смерти, часто лишь спустя десятилетия мы вдруг видим, как их творения возрождаются, окруженные сиянием, будто времени просто не существует. Мы с удивлением видели, как единодушно отвергнутый собственным народом Ницше, задолго до того открывший свою миссию какой-то дюжине душ, с опозданием в десяток лет становится одним из самых любимых авторов, которого издают без конца, или какое упоительное воздействие на учащееся юношество оказали вдруг стихотворения Гельдерлина, созданные более чем за сотню лет до того, или как изо всех древних сокровищ китайской мудрости, спустя тысячелетия, послевоенная Европа открыла вдруг одного-единственного Лао-цзы: плохо переведенный и плохо прочтенный, он делается, похоже, игрушкой моды как Тарзан или фокстрот, но на живой, творческий пласт нашей духовной жизни он оказывает громадное воздействие.
И вот каждый год мы видим тысячи и тысячи детей впервые идущих в школу, выводящих первые буквы, разгадывающих первые слоги, и снова замечаем, как для большей части детей умение читать очень скоро делается чем-то само собою разумеющимся и лишенным ценности, тогда как другие из года в год, из десятилетия в десятилетие находят в нем все большее очарование и удивление, используя тот волшебный ключ, каким снабдила их школа. Ибо хотя сегодня возможность научиться читать доступна каждому, лишь немногие обычно замечают, какой могучий талисман зажат в их руке. Ребенок, гордый только что обретенным знанием букв, осиливает строки какого-нибудь стиха или поговорки, затем первого маленького рассказа, первой сказки, и, если в дальнейшем обычные люди проверяют свое искусство чтения лишь с помощью газетных статей о новостях и торговле, некоторые все-таки остаются навсегда околдованными несравненным чудом буквы и слова (каждое из которых - поистине волшебство, магическая формула). Эти немногие и становятся настоящими читателями. В детстве они открывают для себя несколько стихотворений и историй, какую-то строфу Маттиаса Клаудиуса, хрестоматийные рассказы Гебеля или Гауфа; но, вместо того чтобы, прочтя такие вещи, повернуться к ним спиной, они все глубже проникают в мир книги, открывая, шаг за шагом, сколь обширен, разнообразен, а главное, способен осчастливить этот мир! Поначалу они принимают этот мир за прелестный садик для детей, с клумбами тюльпанов и маленьким прудом, полным золотых рыбок, потом сад обращается в парк, затем в страну, часть света, в целый мир, порой он кажется каким-то раем, Берегом Слоновой Кости, он манит все новым волшебством, расцвечивается все новыми красками. И то, что вчера казалось садом, парком или первобытным лесом, сегодня или завтра окажется храмом - храмом с тысячью залов, где пребывает единовременно дух всех народов, всех веков, ожидая нового пробуждения, вечно готовый обратить в единство многоголосое разнообразие форм своего проявления. И каждому настоящему читателю этот бесконечный мир книги предстает иным, каждый ищет и обретает в нем еще и себя. Одни пробираются ощупью от детских сказок и книжек про индейцев далее, к Шекспиру или Данте; другие от первых школьных учебников астрономии - к Кеплеру и Эйнштейну, третьи - от кротких детских молитв под непогрешимо холодную сень святого Фомы[3] или Бонавентуры[4], к одухотворенной экзальтации талмудической мысли, к веющим весной притчам упанишад, трогательной мудрости хасидизма[5] или кратким и вместе с тем таким добрым, благонравным и веселым поучениям Древнего Китая. Тысячи троп ведут сквозь этот первобытный лес к тысячам целей, и ни одна из них - не последняя, за каждой простираются новые дали.
От мудрости и удачи зависит то, будет ли посвященный в таинство этого мира блуждать, задыхаясь, как в первобытном лесу, или найдет свой путь к тому, чтобы сделать пережитое в связи с чтением истинно пережитым и полезным для собственной жизни. Те, что вообще отрицают волшебство мира книги, рассуждают о нем примерно так же, как лишенные музыкального слуха - о музыке, нередко они склонны порочить чтение, как опасную страсть, делающую человека непригодным к жизни. Разумеется, отчасти они правы, хотя следовало бы сначала определить, что понимают они под словом «жизнь» и может ли это понятие мыслиться лишь как противопоставление слову «дух». А потом, ведь существовало большое количество мудрецов и вероучителей - от Конфуция до Гете, - которые оказывались просто на удивление жизнеспособными людьми. Что больше: вот такие опасности или опасность жизни без определенного взгляда на мир, даваемого книгами, - поразмыслить об этом до сего дня у меня не нашлось времени. Я ведь и сам читатель, я из тех, кто околдован еще в детстве, и, если бы мне, подобно монаху из Гейстербаха[6], дали потратить сотню лет, обследуя храмы и лабиринты, океаны и подземелья мира книг, я и то не заметил бы ничего такого, что в состоянии умалить его ценность.
При этом я ведь еще ничего не говорю о постоянном увеличении количества книг, что имеет место во всем мире! Нет, каждый настоящий читатель, даже если бы не появилось больше ни единой книги, мог бы продолжать наслаждаться сокровищами, созданными в прошлые десятилетия и века, вникать в них, спорить с ними. Каждый новый язык, что мы изучаем, увеличивает количество возможностей пережить что-то, а ведь существует необычайно много языков, куда больше, нежели нам сказано в школе! Существует не просто один испанский, или один итальянский, или один немецкий язык, или даже три немецких: старый верхненемецкий, средний верхненемецкий и так далее, о нет, - есть сотня немецких языков, есть столько немецких, столько испанских, столько английских языков, сколько у каждого из этих народов найдется способов мышления и оттенков ощущения жизни, сколько у него оригинальных мыслителей и поэтов. В одно время с Гете писал и не известный ему, к сожалению, Жан Поль, писал на своем, полностью ином и очень немецком немецком языке. И все эти языки, в сущности, не поддаются переводу! Попытка высокоразвитых народов (немцы тут стоят первыми) в переводах овладеть всей мировой литературой представляет собою нечто удивительное, в отдельных случаях она приносила замечательные результаты, но вообще это не только не может удаться полностью, но и принципиально неосуществимо. Нет пока немецкого гекзаметра, звучащего, в точности как у Гомера. Великую поэму Данте за сто лет переводили на немецкий более десятка раз, с тем лишь результатом, что самый последний и наиболее поэтически одаренный из переводчиков, зная о неудаче попыток приспособить средневековый язык к нормам современного, изобрел только для своего Данте совсем особенный язык, используя поэтику средневековья; и мы можем лишь дивиться этому.
Но даже если читатель не овладеет более ни одним из языков, даже если вдруг он перестанет знакомиться с новой, до того не известной ему литературой, он сможет продолжать чтение до бесконечности, продолжая подразделять материал, уточняя понимание, делаясь более образованным. Каждая книга любого мыслителя, каждая строфа любого поэта через год-другой обращает к читателю новое, изменившееся лицо; она может быть иначе понята, может разбудить новые отзвуки. Когда я, совсем мальчиком, впервые читал, лишь отчасти понимая, «Избирательное сродство» Гете, это была совсем другая книга, нежели та, которую теперь я перечитываю в пятый раз! Опыт такого чтения открывает нечто таинственное и великое: чем вернее мы подразделяем материал, чем тоньше чувствуем и понимаем богатство соотношений в прочтенном, тем яснее видим мы неповторимость, индивидуальность и точную обусловленность каждой мысли, каждого стиха; мы видим, что красота и прелесть их как раз и созданы именно этой индивидуальностью, неповторимостью, мы получаем, кроме того, возможность видеть все яснее, что сотни тысяч голосов всех народов обращены к одному и тому же, под разными именами призывают одних и тех же богов, грезят теми же мечтаниями, терпят те же беды. Из бесконечного переплетения бесчисленных языков и книг всех веков в миг озарения на читателя глядит дивно возвышенное и превосходящее реальность видение: человеческое лицо, несовместимость черт которого чудесным образом превращена в единство.
1930
Заметки о литературе и критике
О хороших и плохих критиках
Люди, одаренные в своем деле, как бы рожденные для него, всегда были радостным и редкостным явлением: прирожденный садовник, прирожденный врач, прирожденный воспитатель. Еще реже - прирожденный поэт. Его дар может казаться ему ничего не стоящим, он может довольствоваться своим талантом, никогда не проявляя верности делу, решимости, терпения, усердия, которые только и дают таланту возможность творить, - все равно он околдован, он баловень природы, он наделен даром, который нельзя заменить ни усердием, ни постоянным трудом, ни добрым нравом.
Пожалуй, еще реже, чем прирожденного поэта, увидишь прирожденного критика: именно такого, кто не из-за усердия или учености, старательности или трудолюбия, а также не из-за групповых пристрастий, тщеславия или злобы впервые почувствовал склонность заняться критикой; но из-за снисходительности, врожденного остроумия, врожденной силы аналитического ума, из-за чувства ответственности перед культурой. Этот благословенный критик затем мог бы еще обладать какими-то личными особенностями, украшающими его дарование либо недостойными его, он мог бы, кроме того, быть еще добрым или озлобленным, тщеславным или скромным, ретивым или вялым, он мог бы пестовать свой талант либо расточать его, он всегда выделялся бы среди тех, кто наделен одним усердием или ученостью, своим даром творчества. Совершенно очевидно, что в истории литературы, особенно немецкой, прирожденные поэты встречались чаще прирожденных критиков. Лишь на отрезке времени между молодым Гете и, скажем, Мерике либо Келлером мы в состоянии указать дюжину имен истинных поэтов. Между Лессингом же и Гумбольдтом[1] провал, который трудно было бы заполнить именами стоящих людей.
Если, кроме того, поэт, при трезвом взгляде на вещи, кажется излишним для своего народа, каким-то исключением, редкостью, то развитие печати привело к тому, что критики присвоили себе право и составили своего рода постоянную организацию, представляющую собой необходимый фактор жизни общества. Спрос на поэтическую продукцию, потребность в поэзии могут либо существовать, либо нет, спрос на критику, похоже, в самом деле существует, и общество нуждается в организациях, которые специально возьмут на себя интеллектуальные усилия по рассмотрению современных событий. Мы рассмеемся при одной мысли о поэтических службах, поэтических бюро, но мы привыкли и находим правильным, что в органах печати существуют сотни постоянных оплачиваемых должностей критиков. Возражать тут нечего. Но истинные, прирожденные критики - редкость, и техника критики стала, пожалуй, сложнее: такому ремеслу следует учиться, а увеличения числа настоящих дарований ожидать трудно, - и вот мы видим сотни критиков по должности, всю свою жизнь занимающихся делом, технику которого они едва ли хоть сколько-нибудь изучили, а глубокий смысл которого остался им чужд, подобно тому, как мы видим сотни врачей или торговцев, получивших лишь самые скудные сведения о своей профессии.
Не знаю, наносит ли такое положение ущерб нации; для народа, проявляющего столь же умеренные требования к литературе, как немцы, из которых на десять тысяч вряд ли найдется один, действительно владеющий в речи и письме своим собственным языком, когда можно быть и министром, и профессором университета, не умея толком говорить по-немецки, - для такого народа, видимо, безразлично, что существуют профаны-критики, равно как профаны - врачи либо учителя.
Для поэта же необходимость зависеть от столь несовершенно устроенной критической службы - большая потеря. Ошибочно думать, будто поэт пугается критики, будто из тщеславия он предпочитает любые глупые восхваления верной, проницательной критике. Поэт, конечно, ищет любви, как и всякое живое существо; но столь же напряженно он ищет понимания и известности; обычные насмешки посредственных критиков над поэтом, не выносящим якобы никакой критики, основаны на недоразумении. Каждый истинный поэт радуется высказыванию каждого истинного критика не потому, что тот способен научить пониманию его собственного искусства, ибо сам его не знает, а поскольку это дает чрезвычайно важную возможность прояснить и уточнить, что на деле составляет он сам и его работа в тонком равновесии жизни нации и культуры, каково соотношение его дарования и достижений, вместо того чтобы пребывать в парализующей неопределенности, не понимая своего положения (безразлично, недо- или переоценивая его).
Бездарные критики (агрессивные в своей неуверенности, поскольку приходится постоянно судить о ценностях, в глубь которых им проникнуть не дано) рады бросать поэтам упрек в тщеславии и безмерной чувствительности к критике, даже во враждебном отношении к интеллекту вообще; и в конце концов простодушный читатель перестает уже отличать истинного поэта от этих длинноволосых идиотов, пишущих во всякие газетки. Сам я неоднократно предпринимал попытку (конечно, не в собственных интересах, а ради авторов, которыми, как мне думается, пренебрегают) не то чтобы оказать влияние на критиков второго ранга, а побудить их высказать свое мнение, предоставив им нужные для этого сведения; и я ни разу не встретил настоящей готовности пойти на такое, да и вообще не почувствовал чего-то напоминающего горячий интерес к событиям духовной жизни. Ответом этих ничем, кроме службы, не интересующихся людей вечно был единственный жест, значащий: «Оставь нас в покое! Не принимай все так дурацки серьезно! Сам посуди: мы более чем достаточно, изо дня в день заняты этим каторжным трудом; что будет с нами, если мы захотим каждую статью, которую пишем, внимательно разглядывать через лупу!» Короче, профессиональный критик второго и третьего ранга относится к своему делу столь же равнодушно и безответственно, как рядовой фабричный рабочий к своему труду. Усвоив методы критики, которые предпочитали во времена его юности, он придерживается следующих правил: либо все одаривает мягкой скептической улыбкой, либо неумеренно восхваляет, то есть так или иначе обходит истинное назначение своего дела. Или же (и это чаще всего) он вообще не вдается в критику достижений литературы, а вместо этого интересуется только происхождением, склонностями и намерениями автора. Если автор принадлежит к неприятельской группе, его отвергают, громя либо высмеивая. Если он принадлежит к своей группе, его восхваляют или по меньшей мере щадят. А если он не принадлежит ни к одной из групп, на него часто вообще не обращают внимания, ибо за ним нет какой-либо силы.
Следствием такого положения оказывается не только разочарование, постигающее поэтов, но и приведение в полную негодность того зеркала, в котором народ полагает увидеть состояние и процессы своей духовной и культурной жизни. Действительно, между изображением духовной жизни, которое дает печать, и этой самой жизнью мы обнаруживаем громадную разницу. Мы находим имена и произведения, которые часто в течение многих лет считались значительными и подробно обсуждались, но ни на какую часть народа не оказали даже малейшего влияния, и мы находим авторов и произведения, о которых хранили гробовое молчание, но которые имели значительное влияние на строй жизни и мнения своего времени. Ни в одной области техники или хозяйства народ не потерпел бы столь произвольных и не дающих истинного представления о предмете сообщений. Разделы, освещающие события спорта или торговли, даже в самых обычных газетах ведутся с куда большим знанием дела и осведомленностью, чем критические; достойные исключения можно увидеть лишь иногда.
Настоящий, призванный к этому делу критик может допустить любые ошибки и грубости, тем не менее всегда окажется вернее его критика, а не замечания более выдержанных и знающих коллег, лишенных творческого начала. Прежде всего истинный критик непременно будет чувствовать точность и качество языка, тогда как средние критики легко путают оригинальность и подражание, а временами даже поддаются обману. Истинного критика можно узнать по двум важным признакам: во-первых, он пишет хорошо и живо, он на «ты» с родным языком, он не калечит его. Во-вторых, он желает и стремится проявить свою индивидуальность, субъективную оценку, нимало не подчеркивая их, столь ясно, чтобы читатель мог воспользоваться ими, как своего рода мерной лентой: не принимая субъективный масштаб критика и не разделяя его пристрастий, читатель по его отзыву тем не менее легко определит истинную ценность произведения. Или, говоря проще: хороший критик - в такой мере личность и сам по себе производит такое сильное впечатление, что читатель знает точно или по крайней мере чувствует, с кем имеет дело и сквозь какого рода линзу прошли лучи, попавшие в его глаз. Поэтому может случиться, что гениальный критик всю жизнь отвергает произведения гениального поэта, высмеивает или нападает на них, и тем не менее по способу его действия, по тому, как он относится к поэту, можно получить верное представление о последнем.
Напротив, самый большой порок слабого критика либо в том, что он незначительная личность, либо в том, что он просто не в состоянии выразить себя. Ведь самые возвышенные похвалы и горькие упреки останутся бездейственными, если они высказаны тем, кого не замечают, кто не умеет обратить внимание на себя, кто для нас - ничто. Именно слабый критик часто склонен изображать объективность и действовать так, будто эстетика - точная наука; он не доверяет собственному инстинкту и маскирует это продуманностью и нейтральностью (Хотя - Но) высказываний. Нейтральность у критика почти всегда подозрительна и представляет собой недостаток: именно недостаток пристрастия в движениях души. Критику следует не скрывать, а ясно обнаруживать свои пристрастия, если они имеются. Ему не стоит поступать так, будто он какой-то измерительный прибор либо министерство по делам отправления культов; он должен придерживаться собственной точки зрения.
Отношения между заурядными авторами и заурядными критиками примерно таковы: обе стороны не слишком доверяют друг другу. Критик ни во что не ставит автора, но опасается, как бы в конце концов этот малый не оказался гением. Автор же полагает, что критик не понял его, не узнает себя ни в обнаруженных им достоинствах, ни в недостатках, но он рад, что по крайней мере не наткнулся на знатока, который его уничтожил бы, и надеется еще остаться в добрых отношениях с критиком, получая от него пользу. Столь жалкие, торгашеские отношения господствуют в среде посредственных немецких писателей и критиков.
Но для настоящего поэта нет ничего более ненавистного, чем оказаться в дружбе с таким вот средним критиком, этакой бесчувственной машиной, производящей статьи. Скорее он примется дразнить его: ему понравится гораздо больше, если тот станет оплевывать его и смешивать с грязью, чем если критик будет благосклонно похлопывать его по плечу. Настоящего же критика, даже если тот - несомненный противник, он всегда встречает, как своего рода соучастника творчества. Заслужить внимание способного критика, подвергнуться его исследованию - примерно то же, что подвергнуться обследованию хорошего врача. Тут можно услышать нечто совсем другое, нежели в болтовне шарлатана! Это, возможно, испугает, причинит боль, но ты отваживаешься все узнать о себе, даже если диагноз - смертный приговор. Ведь и смертному приговору в глубине души никогда не верят.
Разговор между поэтом и критиком
Поэт: Я утверждаю: критик в Германии некоторое время назад занимал более высокое положение, чем сегодня.
Критик: Приведите, пожалуйста, примеры!
Поэт: Ладно. Назову статью Зольгера[2] об «Избирательном сродстве» и рецензию Гримма о «Бертхольде» Арнима[3]. Прекрасные примеры творческой критики. Дух, породивший их, теперь редко обнаружишь.
Критик: Что же это за дух?
Поэт: Дух почтительности. Скажите честно: считаете ли Вы возможным существование сейчас критиков такого же уровня, как те оба?
Критик: Не знаю. Времена изменились. Ответный вопрос: считаете ли Вы возможными сегодня произведения ранга «Избирательного сродства» или сочинений Арнима?
Поэт: Ах, Вы же знаете: какова поэзия, такова и критика! Вы полагаете, что имей мы сегодня настоящую поэзию, так у нас, пожалуй, была б и настоящая критика. Такое нередко слышишь.
Критик: Да, я такого мнения.
Поэт: Позвольте спросить, знаете ли Вы эти статьи Зольгера, и Гримма?
Критик: Откровенно говоря, нет.
Поэт: Но «Избирательное сродство» и «Бертхольда» Вы знаете?
Критик: «Избирательное сродство» - да, конечно. «Бертхольда» - нет.
Поэт: Тем не менее Вы полагаете, что и «Бертхольд» выше, чем сегодняшние наши поэтические произведения?
Критик: Да, я так полагаю из почтения к Арниму, но еще более из почтения к той творческой силе, которой тогда обладал немецкий дух.
Поэт: Но почему же Вы не прочли Арнима и других настоящих поэтов того времени? Почему всю свою жизнь Вы занимаетесь литературой, которую сами считаете менее значительной? Почему не скажете своим читателям: «Погляди, вот настоящая поэзия; брось этот современный хлам и прочти Гете, Арнима, Новалиса!»
Критик: Это не входит в мою задачу. Вероятно, я упустил такую возможность по той же самой причине, что и Вы - не написав сочинения, похожего на «Избирательное сродство».
Поэт: Хорошо сказано. Но как Вы объясняете себе, что Германия тогда выдвинула подобных поэтов? Эти сочинения представляли собой предложение без спроса, их не желал знать ни один человек. Ни «Избирательное сродство», ни «Бертхольда» не прочел никто из современников, а сегодня их читают все.
Критик: Народ тогда не слишком жаловал поэзию, да и сегодня не жалует. Наш народ всегда так. Возможно, и другие народы тоже. Во времена Гете было множество развлекательных книг, их-то и читали. Сегодня - то же самое. Развлекательные книги читают, рецензируют, ни читатель, ни критик особенно серьезно относиться к ним не станут, но они отвечают потребностям. Читают и оплачивают труд пишущих развлекательные книги, а равным образом - их критиков, их читают и вскоре забывают навсегда.
Поэт: А как же настоящая поэзия?
Критик: Предполагается, что ее творят для вечности. Современник не чувствует себя обязанным обращать внимание на нее.
Поэт: Вам следовало бы стать политиком.
Критик: Верно, я и хотел этого, с большим удовольствием взял бы себе международный раздел. Но когда я пришел в редакцию, свободного места для пишущего на политические темы не оказалось, и мне смогли предложить только отдел критики.
Так называемый отбор материала
Для многих критиков «отбор материала» - привычное, а для иных - даже необходимое слово. Средней руки критик, поскольку он журналист, ежедневно видит перед собою навязанный извне материал, с которым должен как-то справиться. Он испытывает зависть, когда кому-то ни за что ни про что выпадает иное: завидует поэту за кажущуюся свободу творчества. Кроме того, поденщик критики имеет дело почти всегда с одной развлекательной литературой, с подделкой творчества, а одаренный романист способен, без сомнения, из чисто рациональных соображений отобрать тот или иной материал, хотя и здесь свобода весьма ограничена. Виртуоз развлечений может свободно выбирать себе поприще: например, следуя прихотям моды того или иного времени, он перенесет действие нового романа на Южный полюс или в Египет, заставит его развертываться в спортивных либо политических кругах, будет обсуждать в своей книге злободневные проблемы жизни общества, морали, права. Но и за этим фасадом злободневности даже ловкий имитатор поэзии оставит игру жизни, то, что соответствует его внутренним, вынужденно возникающим представлениям, то есть он будет проявлять пристрастие к определенным характерам, определенным ситуациям, сохраняя полное равнодушие ко всем другим. Даже в «халтурной» поэзии душа автора обнаруживает себя, даже самый слабый поэт, который не может нарисовать ни единого образа, не в состоянии ясно описать хоть какую-нибудь житейскую ситуацию, всегда будет прикасаться к тому Единому, о чем он даже не думает, всегда выдаст собственное Я в своей ремесленной поделке.
А в истинной поэзии не существует вообще никакого отбора материала. «Материал» - то есть основные образы и наиболее характерные проблемы поэзии - поэт никогда не выбирает, ибо это поистине первичная субстанция всей поэзии, способ видения поэта, движение его души. Поэт может запретить себе некоторый способ видения, он может избегать каких-то жизненно важных проблем, из-за неспособности или любви к покою может бросить «материал», с которым поистине сжился. Но отобрать «материал» он не может никогда. Никогда тому, что выбрано из чисто рациональных или художественных соображений, подходящему и желательному, не сможет он придать такой вид, будто оно снизошло на него, как дар судьбы; подлинное не может быть измышлено, оно должно быть взращено в душе. Разумеется, и настоящие поэты нередко делали попытку отобрать «материал», то есть командовать поэзией. Результат такого опыта в высшей степени интересен и поучителен для коллег, но как поэтическое произведение - это мертворожденное дитя.
Короче говоря, если кто-нибудь спросит автора истинно поэтического произведения: «Неужели ты не мог выбрать другой материал?» - это все равно, как если бы врач захотел сказать больному воспалением легких: «Ах, лучше бы вы ограничились насморком!»
Так называемый уход в искусство
Нередко слышишь: художнику не следует уходить от жизни в искусство.
Что все это значит? Почему же художнику не следует поступать так?
Разве с точки зрения художника искусство не есть попытка возместить несовершенство жизни: неисполнимые мечты исполнить в грезе, неисполнимые требования исполнить в поэзии, - короче, нелепости жизни обратить в победы духа?
И почему это глупое требование вечно предъявляют к одним только художникам? Почему не предложить государственному мужу, врачу, боксеру или чемпиону по плаванию, чтобы они разделались подобру-поздорову с затруднениями своей частной жизни, прежде чем уходить в дела и удовольствия службы или спорта?
То, что жизнь, безусловно, должна быть труднее, нежели искусство, представляется аксиомой этим ничтожным критикам.
А посмотрите, как много художников, которые постоянно и так ловко уходят из искусства в жизнь, пишут такие убогие картины, издают такие жалкие книги, оставаясь вместе с тем приятными людьми, милыми хозяевами, добрыми отцами семейств, благородными патриотами!
Нет уж, если человек считает себя художником, так мне милей, когда он ведет свою битву и проявляет свое мужество в решении проблем, относящихся к его собственному делу. Можно сказать много верного (по крайней мере наполовину) относительно утверждения, что за любое совершенное произведение поэт расплачивается, жертвуя чем-то в своей частной жизни. Иначе такие произведения не возникали бы. Безрассудно и шатко предположение, будто искусство родится от полноты чувств, от счастья, довольства и гармонии. Если каждое продвижение человека вперед происходит лишь из-за нужды, лишь под тяжким давлением, почему именно искусство должно составлять тут исключение?
Так называемый уход в прошлое
Другой «уход», за который также не жалует сегодня поденщик критики, это так называемый уход в прошлое. Едва поэт напишет о чем-то совсем далеком от области моды и спорта, едва от вопросов данной минуты обратится к проблемам человечества, едва он обнаружит временные пределы истории или найдет нечто возвышающееся над историей, не подвластную времени поэтичность, тотчас против него встают стеной, ибо он «уходит» от своего времени. Так, Гете «уходил» к своему Гецу либо к Ифигении[4], вместо того, чтобы исследовать проблемы жизни обывательской семьи Франкфурта или Веймара.
Психология недоучек
Как известно, грубейшее невежество всегда испытывает сильное желание вырядиться под современность, выдать себя за движение вперед. Вот и литературная критика: когда господствуют течения, враждебные духовной жизни или просто варварские, она рядится в доспехи психоанализа.
Разве нужно, чтобы я склонял голову лишь перед Фрейдом и его достижениями? Разве нужно, чтобы я признал за гениальным Фрейдом право рассматривать любого другого гения нашего мира посредством его метода? Разве нужно вспоминать, что в те времена, когда учение Фрейда еще оспаривали, я помог защитить его? И смею ли я просить читателя не полагать нападками на гениального Фрейда и его достижения в области психологии и психотерапии то, что нахожу смехотворным ложное применение основных понятий фрейдовской теории бездарными критиками и дезертирами филологами?
По мере распространения и совершенствования фрейдовской концепции, имеющей несравненные достижения в исследовании душевных состояний и лечении неврозов и уже давно снискавшей заслуженное признание почти всюду, по мере распространения этой теории среди множества людей и усиливающегося проникновения ее терминологии в прочие разделы умственной деятельности образовались вредные, даже опасные побочные продукты ее: псевдофрейдовская психология недоучек и особый род дилетантской литературной критики, изучающей произведения литературы методами, какие Фрейд применял в исследовании сновидений и других неосознаваемых состояний души.
В результате подобного «исследования» этим литераторам, ничего не смыслящим в медицине и психиатрии, удалось не только объявить Ленау душевнобольным, что, во всяком случае, не представляет собой открытия, но также и высшие достижения его и других поэтов снабдить нехитрыми ярлычками с наименованиями тех или иных видений и фантазий, какими обычно страдают душевнобольные. Исследуют почерк, которым написано произведение, определяют комплексы и излюбленные представления какого-либо поэта и устанавливают, что он относится к числу невротиков того или иного типа; какой-нибудь шедевр разъясняют, исходя из тех же причин, какие вызывают у господина Мюллера боязнь открытого пространства и невротическое желудочное недомогание у госпожи Майер. Постоянно и с некоторым оттенком мстительности (месть бездарности людям большого ума) отвлекают внимание от поэтических произведений, причем достижение поэзии вырождается у них в симптомы душевных состояний; значение произведения они сводят к грубо искаженной морализаторством, рационализированной биографии автора, громоздя горы обломков, среди которых в крови и грязи разбросаны клочья великих поэтических произведений, и все это предпринято, по-видимому, с единственным намерением, имеет единственную цель показать, что Гете и Гельдерлин тоже только люди, что Фауст или Генрих фон Офтердинген[5] - лишь красиво стилизованные маскарадные облачения самых обычных душ и самых обычных стремлений.
Они хранят молчание обо всем, что составляет достоинство этих произведений; все структуры, созданные человеком, они снова обращают в неорганизованную материю. Они хранят молчание и о феномене, представляющем некоторый интерес, а именно: что одна и та же причина у неврастенички Майер вызывает желудочные боли, а некоторым другим людям дает силы создать произведения высокого искусства. Нет более феноменов, нет ничего имеющего форму, единственного, бесценного, неповторимого, есть лишь бесформенность, изначальная материя. Но вряд ли стоит производить столь многочисленные, утомительные разыскания и наконец узнать, что физиологическая сторона жизни поэта примерно такая же, как у всех прочих людей. А вот о чем мы действительно рады были бы узнать, так это о том несравненном чуде, когда то здесь, то там отдельные творцы обращают заурядные явления в мировую драму, повседневность - в сияющие чудеса. Вот об этом никто слова не скажет, от этого стараются отвлечь внимание. Но ведь это, между прочим, грех перед Фрейдом, чей гений и дар создавать структуры - нож острый для многих его учеников, уже сегодня готовых все упрощать. Понятие сублимации[6], введенное самим Фрейдом, давным-давно забыто этими сбежавшими в литературу недоучками.
Что же до некоторой ценности исследования души поэта для прояснения его биографии и психологии (оно могло бы что-то дать для понимания не произведений искусства, а вот этих второстепенных вещей), то ценность эта весьма мала и весьма сомнительна. Кто хоть раз в жизни либо сам подвергся психоаналитическому обследованию[7], либо провел его в отношении кого-нибудь или хотя бы принял участие в нем, как сострадательный друг, тот знает, какой бездны времени, терпения и сил требует оно, знает, сколь коварно и упрямо пытались укрыться от исследователя обнаруженные первопричины вытеснения[8]. Он знает также, что к анализу этих причин ведет терпеливое подслушивание бессознательных проявлений души, осторожное проникновение в смысл слов, допущенных оплошностей и т. д. Если бы пациент сказал обследующему его: «Милостивый государь, у меня нет ни времени, ни охоты сидеть здесь, и я передаю вам эту пачку сделанных мною описаний моих снов, желаний и причуд, изложенных в более или менее связной форме, возьмите этот материал и попытайтесь извлечь оттуда по возможности все, что вам нужно», - как бы высмеял врач столь наивного пациента! Один из страдающих неврозом пишет, возможно, картины или сочиняет стихи, которые врач также станет рассматривать и попробует использовать; но если кто-то надеется прочесть неосознаваемые проявления души или самую раннюю историю ее в подобных документах, любой врач сочтет это в высшей степени наивной и дилетантской самоуверенностью.
Так вот, эти малообразованные толкователи поэзии просто вводят в заблуждение еще менее образованных читателей, утверждая, будто подобные документы можно подвергнуть такого рода анализу. Пациент умер, проверки можно не опасаться, а потому сочиняй сколько хочешь. Получится забавная вещь, если кто-нибудь из одаренных писателей подвергнет фрейдовскому анализу эти сомнительные толкования поэзии и покажет, сколь просты приемы, коими пользуются в своем рвении наши, с позволения сказать, психологи.
Не верю я, чтобы Фрейд сам принимал сколько-нибудь всерьез такую литературу сомнительных своих учеников. Не верю я, что какой-нибудь серьезный врач или исследователь, принадлежащий к школе психоанализа, читает их статьи и брошюры, по крайней мере вполне очевидно желание главы школы отгородиться от этой дилетантской деятельности. Худо ведь не то, что в брошюрах и книгах появляются кажущиеся глубоко обоснованными разоблачения гениев прошлого и якобы утонченные толкования произведений искусства, что возникло новое литературное направление, правда нашедшее лишь немногих читателей, которое может обкорнать лавровые венки тщеславных авторов. Досадно то, что дилетантский психоанализ поденщиков от литературы открывает новые возможности упростить задачу, стоявшую перед этими авторами, и под покровом известной научности облегчить жизнь себе. Стоит лишь обнаружить в произведениях не нравящегося мне поэта следы каких-то комплексов и проявления неврозов, и я ославлю его на весь свет как психопата. Разумеется, когда-нибудь такое может и не сойти с рук. Когда-нибудь получится так, что слово «патологический» утратит свое сегодняшнее значение. Мы дойдем до открытия относительности понятий болезни и здоровья, осознаем, что не всегда пребывание во здравии есть бесспорный признак действительного здоровья. Мы поймем, что какому-нибудь человеку, наделенному возвышенным умом и нежными, утонченными чувствами, этому безмерно одаренному человеку, которому цены нет, что ему, похоже, трудно, даже отвратительно жить среди сегодняшних представлений о добре и зле, красоте и безобразии; и эта простая истина будет когда-нибудь открыта. Тогда Гельдерлин и Ницше из психопатов вдруг обратятся в гениев, тогда будет открыто, что некоторые и теперь, ничего не построив и не достигнув, пребывают там же, где находились до возникновения психоанализа, и что в гуманитарных науках надо решиться применять собственные средства и системы, если мы желаем двигаться вперед.
1930
Томасу Манну
Шантарелла в Энгадине, 20 февраля 1931
Дорогой, многоуважаемый господин Томас Манн,
большое Вам спасибо за привет и за статью Вашего брата. Нинон[1] тоже очень рада привету от Вашей жены, всю Вашу троицу[2] мы много раз на дню дружески вспоминаем.
В настоящий момент нас совсем завалило снегом. Снег сыплет непрерывно третий день, и со вчерашнего дня мы передвигаемся с трудом, по немногим, слегка расчищенным дорожкам. Метровый слой свежего снега опасен, на лыжах пока не походишь, снег легко приходит в движение и сразу же образует лавины. Сегодня утром вблизи дома пришлось откапывать крестьянина с двумя лошадьми, которые угодили в такую лавину и вопили о помощи.
Вопрос об Академии[3] приобрел для меня неприятный оттенок, поскольку теперь я поневоле буду поставлен на одну доску с другими вышедшими из Академии. Даже в статье Вашего брата говорится только о «вышедших господах».
Это быстро забудется, и господа националистского толка, которые сегодня всячески клянутся моим именем, еще найдут случай признать меня врагом и обойтись со мной, как с таковым.
Моя собственная позиция в этом вопросе, говоря между нами, приблизительно такова:
Я полон недоверия к теперешнему государству не за то, что оно новое и республиканское, а за то, что и того, и другого в нем маловато. Я никогда не смогу позабыть о том, что прусское государство и его министерство культуры, покровители той самой Академии, - это одновременно инстанции, ответственные за университеты и их порочную антидуховность, и попытка собрать в Академии «свободные умы» представляется мне отчасти желанием легче удерживать в узде подчас весьма неудобных критиков официальной идеологии.
К этому добавляется еще и то, что активно выступать и действовать я как швейцарский гражданин все равно не могу. Но если я состою членом Академии, то тем самым признаю прусское государство и его методы управления духом, даже не будучи подданным ни рейха, ни Пруссии. Такое несоответствие ужасно мучило меня, и его устранение было самым важным при моем выходе из Академии.
Вот так. Надеюсь, мы скоро увидимся, и, возможно, со временем все опять будет выглядеть несколько по-иному.
Мы оба сердечно Вас приветствуем, я показал письмо Нинон, она просит добавить особый привет Вашей жене.
Господину Р. Б.
4 мая 1931
[...] Оставить Ваше письмо без ответа было бы для меня невозможно.
Смотрю я на это дело примерно так: представление о том, что нельзя существовать на основе жизненных принципов, которых я придерживаюсь, глубоко неверно. Я не сторонник твердого, четко сформулированного учения, но человек становления и поисков, и наряду с «Каждый одинок»[1] в моих книгах есть и многое другое, например «Сиддхарта» - вероисповедание любви, и такое же вероисповедание имеется и в других моих книгах.
Вы, конечно, не станете от меня требовать, чтобы я высказывал больше жизненной веры, чем у меня есть; я не раз утверждал со всей страстью, что подлинная, достойная человека жизнь в наше время, среди духа, порожденного нашим временем, абсолютно невозможна. В это я верю безусловно. Тем же, что я все-таки живу и что это время, эта атмосфера лжи, алчности, фанатизма и жестокости меня не убили, я обязан двум счастливым обстоятельствам: большой доле унаследованной мной естественности, близости к природе и тому, что я имею возможность быть продуктивным в качестве обвинителя и противника своей эпохи. Без этого я не смог бы жить, да и с этим моя жизнь часто подобна аду.
Моя позиция по отношению к сегодняшнему дню едва ли существенно изменится. Я не верю ни в нашу науку, ни в нашу политику, ни в нашу манеру мыслить, веровать, развлекаться, я не разделяю ни единого из идеалов нашего времени. Но это вовсе не означает, что я вообще ни во что не верю. Я верю в законы человеческого рода, которые существуют тысячелетия, и верю, что они переживут всю суету и неразбериху наших дней.
Я не в состоянии указать путь, на котором можно было бы одновременно служить человеческим идеалам, почитаемым мною вечными, и верить в идеалы, цели и утешения нашего времени. Да и охоты у меня к этому нет. Напротив, всю свою жизнь я стремился отыскивать и испытывать такие пути, на которых человек мог бы преодолеть свое время и жить в безвременье (эти пути я нередко изображал отчасти в шутливой, отчасти в серьезной форме).
Если взять молодых читателей моих книг, к примеру «Степного волка», то часто я вижу, что все сказанное там об абсурдности нашего времени они принимают очень всерьез, но того, что мне важнее в тысячу раз, они вовсе не замечают, во всяком случае, не верят в это. Но ведь, если попросту объявить малоценными войну, технику, жадность к деньгам, национализм и т. д., ничего не достигнешь. Необходимо заменить этих современных идолов некоей верой. Что я постоянно и делал: в «Степном волке» - это Моцарт, бессмертные и магический театр, в «Сиддхарте» - то же самое, но названное другими именами.
С верой в то, что Сиддхарта называет любовью, и с верой Гарри[2] в бессмертных уже можно жить, я в этом глубоко убежден. С этим можно не только переносить жизнь, но и преодолевать время.
Вижу, что мне не вполне удается выразить свои мысли. Я всегда бываю немножко обескуражен, когда убеждаюсь, что, казалось бы, вполне ясно высказанное в моих книгах читатели не замечают.
Когда Вы прочтете это письмо, обратитесь лучше всего вновь к одной из моих книг и еще раз посмотрите, не обнаружите ли Вы там и здесь слова веры, которая дает силы жить. Если Вы ничего такого не найдете, выбросьте мои книги. Если найдете, идите дальше в том же направлении.
Недавно одна молодая женщина спросила меня, что я, собственно, хотел выразить своим магическим театром в «Степном волке», ее-де глубоко разочаровало, что я, словно в опиумном тумане, потешаюсь там над самим собой и надо всем вокруг. Я посоветовал ей снова перечитать эти страницы, на сей раз зная о том, что ничто написанное мной раньше не было для меня столь важным и столь святым, как этот магический театр, что это символ и маскировка того, что имеет для меня глубочайшую важность и ценность.
Мне вполне понятен Ваш вопрос, господин Б., и, вполне возможно, дело обстоит так, что сейчас мои книги не будут для Вас хороши и Вам вновь придется от них отказаться и преодолеть все то, что Вас с ними связывало. В этом я Вам, естественно, не советчик. Я могу только хранить верность тому, ради чего я жил и писал, даже всем своим противоречиям, даже зигзагам и неразберихе. Моя задача состоит не в том, чтобы дать людям объективно лучшее, но в том, чтобы донести до них мое собственное (будь это только печаль, только жалоба) со всей возможной искренностью и чистотой.
Из рецензии в журнале «Бюхервурм»
Октябрь 1931
[...]Как бы ни изощрялась во лжи западная пресса, но события в России без сомнения, самое важное, быть может, единственно важное, что происходит сегодня на белом свете. Помимо мира, в котором мы обретаемся, существуют иные миры, и сегодняшняя Россия не в ладах с этими иными мирами, все потустороннее, религиозное, относящееся к духовному она воспринимает по-детски строптиво, но у нее есть перед Западом одно преимущество искренность. Россия - единственная в мире страна, у которой мы многое могли бы перенять в сфере реальной политики и материальных преобразований. [...]
Томасу Манну, Мюнхен
Баден, начало декабря 1931
Многоуважаемый господин Томас Манн,
Ваше любезное письмо застало меня в Бадене истомленного лечебными процедурами и с таким плохим состоянием глаз, что мне никогда не справиться со своей почтой. Извините меня поэтому, если я буду краток. Сам ответ на Ваш вопрос не требует обстоятельности, он звучит «нет», но я хотел бы как можно подробнее обосновать, почему я все же не могу принять приглашения Академии, переданного мне через столь уважаемого и любимого мной человека. Но чем больше я об этом думаю, тем сложнее и метафизичнее представляется мне эта задача, и, поскольку я все же вынужден обосновать Вам свое «нет», я прибегну к несколько нарочитому и грубому заострению, которое, коль скоро приходится облекать в слова эти сложные мотивы, лучше всего их объяснит.
Итак: конечная причина невозможности для меня войти в какую бы то ни было официальную немецкую корпорацию заключается в моем глубоком недоверии к германской республике. Это беспочвенное и бездуховное государство возникло из вакуума, из всеобщей усталости после войны. Несколько добрых духов «революции»[1], которая, по сути, таковой не являлась, были убиты с одобрения девяноста девяти процентов народа. Суды несправедливы, чиновники равнодушны, народ полностью инфантилен. Я с глубокой симпатией приветствовал революцию 1918 года, но с тех пор мои надежды на немецкую республику, которую можно было бы принимать всерьез, давно рассеялись. Германия упустила время для совершения своей революции и нахождения своей формы правления. [...] Так я смотрю на положение дел уже давно, и, как бы я ни симпатизировал крохотному меньшинству республиканцев, с их благими намерениями, я считаю их совершенно бессильными и лишенными будущего, как была когда-то лишена будущего симпатичная позиция Уланда и его друзей во франкфуртской церкви святого Павла[2]. Из 1000 немцев и сегодня 999 знать ничего не знают об ответственности за войну, не они ее начинали, не они ее проиграли, не они подписывали Версальский договор, воспринятый ими, как предательский гром среди ясного неба.
Короче, от образа мыслей, который господствует в Германии, я так же далек, как и в 1914-1918 годах. Я наблюдаю здесь процессы, которые кажутся мне бессмысленными, и вместо маленького шажка влево, который сделал в своих взглядах немецкий народ, мне поневоле пришлось уйти влево на целые мили. Я не в состоянии больше читать ни одной немецкой газеты.
Дорогой Томас Манн, я не жду, что Вы разделите мои взгляды, но хотя бы признайте их с той любезностью, какую Вы всегда ко мне проявляли. О наших зимних планах моя жена напишет Вашей. Передайте мои искренние приветы госпоже Манн и Меди[3], мы их обеих очень полюбили. И, пожалуйста, не сердитесь, даже если мой ответ Вас разочарует. В глубине души я знаю, что он Вас не так уж и удивит.
С неизменным почтением и любовью Вас приветствует Ваш
Господину Ф. Абелю, в настоящий момент Цюрих
Баден, декабрь 1931
Милый господин Абель,
благодарю Вас за Ваше письмо, оно застало меня в Бадене, где я как раз укладывал чемоданы после курса лечения; теперь до середины января я в Цюрихе.
С годами я приобрел привычку по возможности не интересоваться зримым воздействием моих книг, оказанным им приемом и реакцией на них читателей и критики. В целом к моим читателям я испытываю примерно такое чувство: хоть я и замечаю, что мои переживания и проблемы в чем-то совпадают с аналогичными проблемами широкого слоя современной молодежи, я чувствую себя глубоко непонятым. Большинство читателей хотят иметь «вождя», но ни в малой степени не готовы к подчинению и к жертвам ради духовных принципов и требований.
Я хотел и в Вашем случае держаться по возможности пассивно, тем более что в данное время обо мне пишутся и другие диссертации. Так, недавно одна дама из Мюнстера в Вестфалии написала мне, что готовит диссертацию на тему «Герман Гессе и швабский пиетизм»[1], - я даже не смог ей ответить, так мало все это меня интересует. [...]
Но Вы облегчили мне задачу, так как ставите в Вашем письме конкретные вопросы. Попытаюсь коротко на них ответить.
Вы правы, когда ощущаете в моих сочинениях, начиная с «Демиана», новую ноту, она появилась уже и прежде в некоторых сказках. Для меня самого тогдашний перелом был огромнейшим событием в жизни. Он связан с мировой войной. До войны я был отшельником, но еще не вступал в конфликты с отечеством, правительством, общественным мнением, официальной наукой и т. п., хотя ощущал себя демократом и охотно принимал участие в оппозиции кайзеру и вильгельмовской Германии (сотрудничал в «Симплициссимусе», был одним из основателей демократического и антикайзеровского журнала «Мерц» и т. д.). Теперь, во время войны, я увидел, что не только кайзер, рейхстаг, канцлер, газеты и партии гроша ломаного не стоят, не только весь народ восхищенным ревом приветствует жестокость, нарушения прав и т. д., но и профессора и прочие интеллектуалы на официальных постах оказались при этом громогласнее всех, - я увидел также, что даже наша ничтожно малая оппозиция, ничтожно малая критика и демократия были пустой газетной болтовней, что даже из нас мало кто принимал свои слова всерьез и готов был в случае необходимости за них умереть. За свержением отечественных идолов настал черед идолов, созданных собственным воображением, я вынужден был пристально присмотреться к нашей немецкой духовности, к нашему сегодняшнему языку, к нашим газетам, школе, литературе и по большей части признать их пустыми и лживыми, включая меня самого и мое предыдущее писательство, хоть я и занимался им с самыми благими намерениями.
Этот перелом, вызванный войной, который пробудил меня и заставил прозреть, ощущается во всем, что я написал с 1915 года. Однако впоследствии для меня самого картина снова несколько изменилась: после того, как в течение ряда лет я терпеть не мог свои ранние книги, я постепенно в них вгляделся и обнаружил, что задатки позднейшего все же налицо, и временами старые вещи стали нравиться мне почти больше последующих: частью потому, что они напоминали мне о более сносных временах, частью потому, что их приглушенность и уход от больших проблем казались мне впоследствии предчувствием, страхом перед неизбежным пробуждением.
Так я сам отношусь к своим старым книгам, даже к их многочисленным слабостям и ошибкам.
Но я не имею ничего против, чтобы Вы в Вашей работе рассматривали их как нечто второстепенное и опирались преимущественно на те произведения, в которых интересующая Вас проблема затронута больше всего, то есть главным образом на «Демиана».
Действуйте свободно и по своему усмотрению, насколько Вам дозволяет Ваш метод, и положитесь только на чувство там, где Вы не сможете обосновать своих суждений методически.
И поскольку теперь Вы независимы от Тиса[2], представляющего прямо противоположную точку зрения, пожалуйста, рассматривайте мои книги не как произведения литературы, не как выражение неких суждений, но как поэтические творения: пусть для Вас что-то значит и говорит лишь то, что действительно ощущается Вами как поэзия. Литератора трудно критиковать, он может иметь различные суждения и все их прекрасно обосновывать, ведь он всегда остается в сфере рационального, а с точки зрения чистого «рацио» мир выглядит двухмерным. Поэзия же может тщиться, сколько ей угодно, чтобы обосновать некие суждения, но сделать этого она не в состоянии, ибо живет и действует только там, где она - подлинно поэзия, то есть там, где она создает символы. Демиан и его мать представляются мне такими символами, то есть они значат и содержат в себе много больше того, что доступно рациональному рассмотрению, они суть магические заклинания. Вы можете выразить это по-иному, но Вы должны исходить из того, что говорят Вам эти символы, а вовсе не из программ и литературных оценок, которые Вы извлекли из моих книг рациональным путем.
Не знаю, понятно ли я выразил свои мысли. В устной беседе это, наверное, было бы легче. Возьмите же из моего письма лишь то, что кажется Вам приемлемым и говорит нечто Вашей душе, а все остальное отбросьте.
Сыну Бруно
Конец декабря 1931
Милый Буцелий,
[...] То, что происходит в мире, - это последние этапы краха капиталистического способа хозяйствования, который пережил свой расцвет, пережил себя самого и теперь освобождает место новому. Очень может быть, что этим новым явится коммунизм, который сам по себе мне симпатичен. Если бы в ближайшем будущем упразднить во всех странах частную собственность и право наследования, если бы 90 процентов человечества, которые сегодня голодают, сбросили с себя власть 10 процентов сытых, то это было бы прекрасно. Само собой разумеется, однако, что сперва надо будет пройти через тысячи переходных состояний, часто кровавых, через красный и белый террор и т. д. и т. п. Но и тогда будет очень нелегко обустроиться в изменившемся мире [...]
Генриху Виганду[1]
Между рождеством и Новым годом (30 декабря) 1931
Дорогой господин Виганд,
радиожурналы имеют, по-видимому, хороших читателей, Вы уже второй человек, который спрашивает меня, приеду ли я в Лейпциг на радио «с целью прочтения следующей очередной лекции» и если приеду, то когда именно. Но с этим дело обстоит так же, как со всем, что творится на радио, попросту говоря, это ложь. Я не только не приеду, но меня об этом даже и не просили, просто некий сотрудник, покуривая сигарету, перепутал мой портрет с чьим-то другим или даже без всякой путаницы вырезал откуда-то мое фото и вставил в свой журнальчик забавы ради, чтобы заполнить место; ведь что там печатается и соответствует ли это действительности хоть в малой мере, ему безразлично.
Спасибо за письмо и за газету; больше же всего мне нравится Ваше отношение к Конраду[2]. О'Флаэрти[3] вызвал у меня реакцию, сходную с Вашей: книга мне решительно не понравилась, как и вся среда этих безответственных, спившихся салонных ирландских революционеров, это не более чем театр; подлинной и в жизни, и в романе ощущается только великолепная вселенская пьяная меланхолия, но уж это действительно передано сильно и точно.
Когда дойдет до выхода в свет моего «Паломничества в страну Востока» и Вы будете о нем писать, мне было бы приятно, если бы Вы использовали этот случай для некоторой ретроспекции моих книг (конечно, не называя их всех поименно), чтобы показать общую линию, основной тон и немного развеять легенду о чахлом романтике и идиллике, ибо в «Рундшау» обо мне еще ни разу не было написано ничего разумного, а мне хотелось бы быть понятым именно здесь. Ну да время еще терпит.
О В. фон Шольце[4] я знаю не слишком много. Он, как мне представляется, эпигон и в жанре безответственных репортажей создал даже нечто очень симпатичное, ибо он старается принимать все всерьез. Но благодать ему чужда, и, вероятно, она отсутствует и в «Несправедливости любви»[5], которую я не читал. Отвлекаясь от его несколько классицистического таланта, Шольца можно причислить к тем художникам, которые всякий раз заново близки к раскрытию тайн и ставят высокие проблемы, но затем, все это игнорируя, вновь выстраивают красивый мирок театральных кулис. Они подобны людям, которые «пылко и страстно» интересуются вопросами религии и т. п., сами не будучи хоть в малой степени религиозными, значительная часть их пыла и страсти перешла в разум. Не знаю, понятно ли я выражаюсь, но все это не так важно.
Вчера вечером мы навестили Шеков[6], было приятно, но довольно грустно, так как обстановка там, давно уже нелегкая, достигла пугающей остроты: он и его жена в сильном разладе и всерьез подумывают о разводе, к этому добавилась еще беременность, которая ни одного из них не радует, и оба страдают. Но не говорите об этом никому ни звука, это только для Вас.
Лейтхольды[7], у которых я уже который год встречаю рождество, на сей раз уехали. Так что мы были одни, без праздника и без елки, сидели в моей комнате, пили вино и ели холодную курицу; Нинон получила много книг, а я, в качестве основного подарка, три граммофонных пластинки с незаконченной симфонией Шуберта.
Шек написал сонату для скрипки, но я ее еще не слышал.
От господина Бодмера[8] я получил, к моему ужасу, весьма объемистый и дорогой подарок: рисунки Гете в аннотированном крупноформатном издании «Инзель».
Мы оба, бедные овечки, едем 6 января в Линдау, куда вновь прибудет мой глазной врач, но на сей раз я еду безо всякой надежды. Где-нибудь между 16-м и 20-м мы поедем в Санкт-Мориц, а затем опять в Шантареллу.
Addio, прощайте оба, передайте привет также супругам Геро[9]. Ковер госпожи Марейли великолепен, но, боюсь, его не купят: здесь тоже царит (умеренное) кризисное настроение.
Шек рассказал мне вчера анекдот: разговор между берлинцем и венцем. Берлинец говорит: «Дела у нас серьезные, но не безнадежные». Венец говорит: «Дела у нас безнадежные, но не серьезные».
Тысяча приветствий от Вашего
Г. Гессе
Благодарность Гете
Среди всех немецких поэтов я больше всего благодарен Гете, он занимал меня больше всего, угнетал, ободрял, понуждал следовать за ним или с ним спорить. Он не был поэтом, которого я больше всех любил, стихами которого наслаждался, против которого поднимал маленькие бунты; нет, тут на первом месте стоят другие: Эйхендорф, Жан Поль, Гельдерлин, Новалис, Мерике и пр. Но ни один из этих любимых мною поэтов не стал для меня серьезной проблемой и важным нравственным стимулом, ни с одним мне не приходилось вступать в борьбу и выяснять отношения, тогда как с Гете я вынужден был постоянно вести мысленные разговоры и мысленные бои (один из них - один из сотен - изображен в «Степном волке»). Поэтому я попытаюсь показать, что значит для меня Гете и каковы аспекты, в которых он мне преимущественно являлся.
Я был почти мальчиком, когда впервые узнал его юношеские стихи и «Вертера», совершенно околдовавшие меня. Я легко и всецело предался поэту Гете, ибо от него веяло духом юности, ароматом лесов, полей и лугов, а в его языке, унаследованном от госпожи советницы[1], сохранялись глубина и шутливость народной мудрости, отзвуки природы и ремесла и к тому же высокая степень музыкальности. Этот Гете, чистейший поэт, вечно юный и наивный певец, никогда не становился для меня проблемой, омрачавшей меня.
Но в свои юношеские годы я столкнулся с другим Гете: с великим писателем и гуманистом, с идеологом и воспитателем, с рецензентом и автором программных заявлений, с веймарским литератором Гете, другом Шиллера, собирателем произведений искусства и основателем журналов, с сочинителем бесчисленных статей и писем, с диктатором Эккермана, и этот Гете также сделался для меня бесконечно важен. Сначала я восхищался им и почитал его без всяких оговорок и порой защищал перед своими друзьями даже самые канцелярские его писания. Хотя облик поэта временами казался мне несколько бюргерским, обывательским, чиновничьим, хотя он слишком уж удалился от тех мест, где блуждал Вертер, все равно масштаб был огромен, всегда имелась в виду высокая цель, благороднейшая из всех целей: обоснование и осуществление жизни, управляемой духом, и не только для него самого, но и для всей нации, всей эпохи. Всегда, даже в его ошибочных действиях, была попытка всесторонне освоить знания и весь жизненный опыт своей эпохи и поставить их на службу высокому духу, благородной личности, более того, безличной духовности и нравственности. Писатель Гете создал для лучших людей своего времени образ, вернее образец человека, приблизиться к которому, походить на который было идеалом всех людей доброй воли.
У поэта Гете можно было многим наслаждаться, но нечему было учиться. То, чем он владел, было уникально и неповторимо. Поэтому он и не стал для меня образцом или проблемой. Напротив, литератор, гуманист и идеолог Гете очень скоро сделался для меня величайшей из всех проблем: ни один другой писатель, кроме Ницше, так не тревожил, не привлекал и не мучил меня, так не побуждал к спору. Некоторое время литератор Гете и поэт Гете шли, казалось, параллельными путями и почти сливались воедино, затем они вдруг расходились, противоборствовали один с другим и наносили друг другу взаимный урон. Хотя поэт был симпатичнее и доставлял больше радости, зато литератора Гете всегда приходилось принимать всерьез и нельзя было обойти вниманием; я ощутил это уже в свои двадцать лет, потому что он воплощал собой самую великую и на первый взгляд удавшуюся попытку построить немецкую жизнь на основе духа. Далее, то была единственная в своем роде попытка синтеза немецкой гениальности с разумом, примирения царедворца с богоборцем, Антонио с Тассо[2], музыкально-дионисийского энтузиазма с верой в ответственность и нравственный долг.
Удалась эта попытка, видимо, все-таки не вполне. Да и как она могла удаться! Тем не менее она неизбежно должна была повторяться снова и снова, ибо постоянное стремление к высочайшему и невозможному как раз и является, по моему мнению, отличительной приметой духа. Гете не вполне посчастливилось объединить в собственной жизни и в собственном творчестве наивного поэта и умного царедворца, душу с разумом, поклонника природы с проповедником духа, там и сям зияли трещины, разрывы, возникали мучительные и трудно переносимые конфликты. Порой разум и добродетель свисали с головы поэта, как непомерно большой парик, а наивная гениальность задыхалась в тисках чопорности, возникшей из стремления к осознанности и самообузданию.
Более того, Гете, видимо, не удалось утвердить в жизни свой образец человека и оставить после себя настоящую школу или учение. Даже те поэты и писатели, которые изо всех сил старались следовать этому образцу, не смогли достичь желанного единства, они остались далеко позади своего предшественника. Один из многих тому примеров - Штифтер, весьма любимый мною писатель первого ряда, который в своем замечательном романе «Бабье лето» порой, совсем как маленький Гете, произносит деревянным языком избитые филистерские фразы об искусстве и жизни - натыкаешься на них и пугаешься: как они могут стоять так близко к волшебным красотам? Образец просматривается вполне явственно, и поневоле вспоминаешь: в «Вильгельме Мейстере» тоже дивные поэтические страницы соседствовали с подобной безнадежной сушью.
Нет, Гете не так уж удалась его попытка, и поэтому он становился мне порой неприятен и вызывал досаду. В конце концов не был ли он и вправду, как полагали некоторые, его не читавшие, всего лишь героем восходящего бюргерства, одним из творцов второстепенной, недолговечной, давно уж отжившей сегодня идеологии?
Я мог бы отложить его в сторону и остаться при своем разочаровании. Но в том-то и дело, что я этого не мог! В том-то и заключалось самое удивительное, прекрасное и мучительное: от него нельзя было освободиться, приходилось постоянно восходить вместе с ним на его вершины, мучиться его поражениями и открывать его двойственность в себе самом!
Уже одно было притягательно и казалось грандиозным: то, что он не удовлетворялся мелкими целями, но искал великую, что он выдвигал идеалы, которые были неосуществимы. Но прежде всего с годами неотступно росло мое понимание, что проблема Гете - это не только его личная проблема, не только проблема бюргерства, но и проблема каждого немца, приемлющего всерьез дух и слово. Нельзя быть немецким писателем и уходить в сторону от гетевского образца и его попыток, все равно, пусть они даже не удались или удались не вполне. Возможно, другим литераторам лучше удалось представить дух своего времени в слове, возможно, Вольтер, например, отобразил свою эпоху и среду точнее и полнее. Но не потому ли Вольтер кажется нам сегодня отжившим, не потому ли он для нас не более чем воспоминание, имя великого виртуоза? Разве его стремления и мысли пробуждали наше сердечное участие и чувство ответственности? Нет. Гете, напротив, не умер со своим веком, он имел к нам самое прямое отношение, он был для нас невероятно актуален.
Много лет я таким образом мучился и единоборствовал с Гете, он стал возмутителем спокойствия моей духовной жизни, он и Ницше. Если бы не началась мировая война, я все еще додумывал бы в тысячный раз те же мысли и колебался бы теми же колебаниями. Но пришла война, и вместе с войной старая немецкая проблема писателя - трагическая судьба духа и слова в немецкой жизни - предстала передо мной в еще более прискорбном виде. Обнаружилось полное отсутствие трибуны, на существование которой уповал некогда Гете. На поверхность вылезла безответственная писанина, наполовину опьяненная восторгом, наполовину подкупленная, очень патриотическая, но глупая, лживая и грубая, недостойная Гете, недостойная духа, недостойная немецкого народа; даже знаменитые ученые и литераторы вдруг начали писать, как унтер-офицеры; казалось, что не только разрушены все мосты между духом и народом, но что духа вообще больше не существует. (Я не собираюсь здесь исследовать вопрос, было ли это явление чисто немецким, настолько оно оказалось присуще многим или даже всем воюющим странам: для меня оно представляло важность именно в немецкой форме, и в немецкой форме оно призвало меня на борьбу с ним. Мой долг заключался не в том, чтобы исследовать, покинул ли дух также Францию и Англию, не предостерегать их от ежедневно возрастающей опасности измены духу, но делать все это на моей собственной земле.)
Только на первый взгляд проблема Гете на долгое время ушла из моей жизни; вернее, она стала называться теперь не «Гете», но «война», а когда война кончилась, она стала называться «Европа»: ведь и сегодня еще дело обстоит так, что во всех странах Европы лишь ничтожное меньшинство мыслящих людей точно уяснило себе проблемы и требования момента, а что касается официального курса и политики, то они все еще сражаются на краю бездны за пестрые знамена умерших идеалов.
Была война, и на время показалось, что нет больше никакого Гете, тогда как его великая проблема - человеческая жизнь, руководимая духом, - вдруг стала единственной жгучей мировой проблемой. Мы, литераторы, в той мере, в какой мы не были подкуплены или опьянены войной, почувствовали необходимость ощутить основы собственной духовной жизни и шаг за шагом уяснить себе собственную ответственность. Для моих духовных забот настала горячая пора. Но даже в разгар войны время от времени случались встречи с Гете, и бывало, что актуальный конфликт внезапно вызывал к жизни его образ, который вновь оказывался для меня символом. Та духовная и нравственная проблема, превратившая в первый период войны мою жизнь в непрестанную борьбу и муку, состояла во внешне неразрешимом противоречии между духом и любовью к отечеству. Если поверить тогдашним официальным голосам, от великих ученых до газетных писак, то дух (а точнее: истина и служение ей) является смертельным врагом патриотизма. Если человек желает быть патриотом, то, по общему суждению, ему не должно быть дела до истины, он ей ничем не обязан, она игрушка и химера; внутри же патриотизма дух разрешен лишь в тех пределах, в каких его можно использовать для поддержки пушек. Истина была роскошью, а ложь - разрешена и похвальна во имя отечества и ради служения отечеству. Как ни любил я Германию, я не мог принять эту мораль патриотов, потому что дух не был для меня безразличным орудием или боевым оружием и сам я не был ни генералом, ни канцлером, но состоял на службе духа. Вот тогда-то в связи со всем этим жизнь снова свела меня с Гете. Патриоты, стремившиеся в тот момент использовать всякое достояние нации как боевое оружие, очень скоро убедились, что Гете для этого абсолютно непригоден: он не был националистом и даже не раз осмеливался высказывать своему народу неприятные истины. Поэтому с лета 1914 года акции Гете сильно упали, а вместе с ним и акции многих других добрых духов нации, и, чтобы заполнить брешь (ибо «великие люди» нужны были для отвратительной «культурной пропаганды»), пришлось оживить и разрекламировать другие имена, которые лучше подходили для оправдания национализма и войны; самой успешной из таких раскопок был Гегель.
Когда Ромен Роллан в одной из своих тогдашних статей открыл во мне своего единомышленника и назвал мою позицию «гетевской»[3], это слово оказалось для меня самым проникновенным призывом: оно напомнило мне о Гете, путеводной звезде моей юности, и укрепило меня во всем, что было для меня свято, хотя одновременно я не мог не заметить, что название «гетевский» с официальной немецкой точки зрения звучало, почти как бранное слово.
И этот период миновал. Даже вызванный им сильнейший перелом в нашей жизни не смог разлучить меня с Гете, сделать его для меня безразличным.
В чем же причина такого явления? Значит, в конечном итоге Гете есть нечто большее, чем просто писатель, потерпевший частичное поражение, нечто большее, чем просто идеолог и даже чем просто гениальный виртуозный поэт? Почему необходимо было постоянно к нему возвращаться, несмотря на непрекращающийся спор с ним, несмотря на то, что в важных вещах ты совсем от него отошел?
Когда я пытаюсь до этого докопаться, перед моим мысленным взором возникает новый Гете, незнакомый, менее четко обрисованный, почти совсем незримый и весьма таинственный: Гете-мудрец. Как ни ясно зрим для меня любимый образ Гете-поэта, как ни ясно представляю я себе Гете - литератора и учителя, за этими двумя фигурами, как бы просвечивая сквозь них, маячит и другая фигура. В этой, высшей для меня, гетевской ипостаси объединяются противоречия, она не тождественна ни одностороннему аполлоновскому классицизму, ни темному духу Фауста, отправившемуся на поиски матерей; она как раз и существует в двухполюсности, обитая везде и нигде. Отдельные высказывания и поэтические творения этого таинственного мудреца мы обнаруживаем в его позднем творчестве: в стихах, на последних страницах «Фауста», в письмах, в «Новелле»[4]. Но тот же умудренный, уже вполне безличный Гете - теперь, когда мы его знаем, - порою явственно глядит на нас из многих произведений и свидетельств его зрелой и юношеской поры. Он был всегда, он только часто и подолгу скрывался. Он не имеет примет времени, ибо всякая мудрость безвременна. Он безличен, ибо всякая мудрость преодолевает личность.
Эта мудрость Гете, которую сам он часто утаивал, которая часто казалась ему самому утерянной, ускользнувшей, - уже не мудрость бюргерства, не «буря и натиск», не классицизм или бидермайер, она даже уже не совсем «гетевская», она дышит одним воздухом с мудростью Древней Индии, Китая, Греции, она больше не воля и не интеллект, но благочестие, благоговение, готовность к служению: дао. Каждый истинный поэт несет в себе искру этой мудрости, без нее невозможны ни искусство, ни религия, и, конечно, она живет и в самом коротеньком стихотворении Эйхендорфа, но в творчестве Гете она иной раз отчеканилась в таких магических словах, какие для нее находятся не у каждого народа и не в каждом столетии. Она выше всякой литературы. Она есть не что иное, как обоготворение жизни, как благоговение перед жизнью, она желает лишь служить ей, и у нее нет никаких притязаний, требований или прав. Это та самая мудрость, о которой предания всех благородных народов знают, что она была во времена великих властителей; но позже властители и их слуги ей изменили, и возвращение к ней есть единственный способ вновь примирить землю с небом.
Мне, который питает особую любовь к сочинениям древних китайцев, сдается порой, что эта мудрость и у Гете носит китайские черты. Поэтому мне радостно знать, что Гете в самом деле не раз обращался к китайским мотивам и удивительный маленький стихотворный цикл, создание совсем старого Гете (он относится к 1827 году), озаглавлен «Китайско-немецкие времена года и дня». В наших новых литературах мы находим очень мало свидетельств этой древней мудрости. В Германии она вообще редко выражалась в слове, Германия благочестивее, зрелее и мудрее в музыке.
То, что Гете благодаря своему поэтическому и писательскому дару порой взмывал к этим высочайшим вершинам, к этому покою над вихрями, как раз и привлекало меня в нем и заставляло перечитывать вновь и вновь даже иные сомнительные, неудачные его творения. Ибо нет более возвышенного зрелища, чем человек, который сумел стать мудрецом и освободился от оков временного и личного. И если мы знаем такого человека и верим, что он этого достиг, он обретает для нас ни с чем не сравнимый интерес. И когда мы начинаем отчаиваться во всякой вере, во всякой мудрости, каким утешением может стать для нас возможность следовать за мудрецом его путями и видеть, что и он порою был только человеком, слабым и несовершенным.
По многим признакам я могу заключить, что немецкая молодежь сегодня едва ли знает Гете. Видимо, ее учителям все же удалось внушить к нему отвращение. Если бы я руководил средней или высшей школой, я бы вообще запретил чтение Гете и разрешал знакомство с ним лишь в качестве высшей награды самым лучшим, самым зрелым, самым достойным. И тогда бы они с удивлением открыли, с какой непосредственностью он ставит перед сегодняшним читателем главный сегодняшний вопрос: вопрос о судьбе Европы. И в своих поисках духа, который мог бы нас спасти, и в готовности, не боясь никаких жертв, служить этому духу они не смогли бы найти себе лучшего вождя и лучшего товарища, чем Гете.
1932
Генриху Виганду
12 февраля 1932
Дорогой господин Виганд,
в течение получаса за мной зайдет Курт Хойзер[1] («Путешествие внутрь»), и мы отправимся на короткую лыжную прогулку; до этого хочу еще успеть написать Вам свой привет.
Все три недели, что мы здесь, постоянно светило теплое, ослепительное солнце, я давно уже не чувствовал себя так хорошо, но вот четыре дня назад опять головная боль, резь в глазах, усталость, разыгрался ишиас; думаю, мы здесь пробудем до конца месяца.
Статью о «Паломничестве» Вы можете смело готовить, книга должна появиться где-то между весной и летом. Я еще раз запрошу «Рундшау».
У глазного врача мы были в начале января. Он надеется спасти мои глаза и даже немного улучшить зрение; однако он сказал, что без теперешнего лечения и корректировки болезнь (глаукома) стала бы в ближайшие годы неизлечимой. Мне выписали новые очки.
В премьере Геро мы участвовали издали, видели программку и несколько газет, среди них и «Бунд». Передайте наши приветы ему и супруге!
Здесь Томас Манн и Курт Хойзер - славный, деликатный человек двадцати девяти лет, с которым я подружился; К сожалению, последний уезжает сегодня вечером, после нашей прогулки.
Прочие литературные новости менее приятны, со сбытом и доходами дело обстоит скверно. Жаль, что нет в Германии сильного, творческого коммунизма! Коммунистический переворот, пусть не точная копия московского, - вот что, как мне представляется, было бы единственным настоящим решением, но в нашей стране, кажется, всегда сильны только те партии, которые не имеют ничего общего с современностью.
Теперь я еще должен (к сожалению, преодолевая головную боль) приготовить тюленьи шкуры[2] и т. д., скоро мы выходим: по канатной дороге до Корвильи, оттуда еще часа полтора вверх до Фуоркла Шлядайн (такое удивительное ретское имя, столь же древнее и истинно романское, как и германское!)
Addio, много, много приветов Вам обоим от Вашего
Г. Гессе
Генриху Виганду
29 февраля 1932
Дорогой господин Виганд,
Ваше л[юбезное] письмо пришло вчера, сегодня мы пакуемся, а завтра уезжаем в Цюрих. Позавчера собрались на прощание в доме мага Юпа[1], у которого мы здесь гостим, вчера вечером у нас был Луи Муайе (художник Луи Жестокий)[2] с женой, а сегодня, до будущего года, вновь наступает конец этой удивительной жизни в горах, где, с одной стороны - природа и детское упоение спортом, с другой - атмосфера дорогих отелей со всякими проходимцами и бессмысленной роскошью. Свой единственный выход на лыжах я совершил в прошлую среду вместе с Луи. Мы вышли из Корвильи, на высоте приблизительно 3100 метров, наслаждаясь ошеломляющим видом на Бернину, и продвигались далее; вся середина дня простояла солнечной, безветренной и теплой, спуск был местами рискованный, потому что ниже, к долине, снега везде маловато, и нам пришлось пробираться с нашими лыжами среди рододендронов. Было очень красиво, но напряжение оказалось для меня чрезмерным, с той поры я наполовину болен, не могу спать. Виноваты в том, конечно, и нервные срывы Нинон, но в целом мы покидаем горы в неплохом состоянии и с благодарностью.
Вы правы, как мне представляется, в своих суждениях о теперешних немецких партиях и т. д. Для меня, который совсем не политик, не может быть и речи о том, чтобы приспосабливаться к теперешним обстоятельствам и находить в них хорошую сторону, мне необходимо сохранить духовные связи с будущим. При этом я не могу отделять будущее Германии от будущего всего мира, как желали бы сторонники автаркии, но вижу перед собой все ту же Германию, которая не совершила собственной революции, не выработала и не приняла собственной государственной формы и которую легко вовлечь в любую авантюру, ибо пуще дьявола она страшится разума. С точки зрения будущего перед Германией стоит сейчас задача отыскать новые формы декапитализации, промежуточные между Советами и Западом, и таким образом вернуть себе престиж и влияние.
Возможно, я сегодня еще разок ненадолго выйду с Луи на лыжах, хотя, пожалуй, уже поздновато. Нинон непременно должна сегодня начать укладывать вещи. В Цюрихе мы пробудем до начала апреля, послушаем один или два гайдновских концерта. Расставание с цюрихской квартирой будет для меня нелегким, шесть лет она была верным зимним прибежищем и многое повидала, но теперь я женат, у меня дом, то да се, и я должен попытаться сохранить этот дом, хотя в ближайшем будущем это представляется мне почти невозможным. Я целиком зависим от немецких денег, к которым весь мир испытывает недоверие, и от новых бесцеремонных постановлений[3], я опять сильно приперт к стенке и не сделал бы ничего из того, что сделал, если бы мог что-либо предчувствовать заранее. Тем не менее я совсем не сожалею о содеянном, да и в целом жизнь в наше время напоминает авантюру и куда забавнее, чем была когда-то до войны. Однако меня тяготит зависимость от рейха, от его денег, от его обстоятельств, несмотря на то, что живу я в другой стране и являюсь ее гражданином.
Только что позвонил Луи, через четверть часа он придет с лыжами, мы перекусим и поедем до Корвильи, откуда будем взбираться еще добрый час и затем съедем вниз.
Addio, мой привет Вашей жене Лоре и супругам Геро. Мы здесь славно общаемся с Томасом Манном, его женой и дочкой, они очень милые люди. Об Эмми Балль[4] мы тревожимся: она совсем замерзла в Кассино, теперь хочет ехать в Ассизи, хотя зимой это самое глупое, что только можно придумать. Но она непременно так и сделает.
Тысяча приветов и благодарность за многое в Вашем письме, на что ответить сейчас не имею возможности. Сердечно Ваш
Г. Гессе
Хелене Вельти
Начало марта 1932
Дорогая госпожа д-р Вельти,
Вы правильно предположили: мы снова в Цюрихе, куда недавно вернулись загоревшие и хорошо отдохнувшие. Вот только у меня после возвращения во влажный, сумрачный климат неважно со сном, побаливает голова и дают себя знать глаза.
К прогнозу врача относительно моих глаз я отношусь не серьезнее, чем он того заслуживает: я и без врача уже много лет чувствую и знаю, что мои глаза в опасности. Я не позволяю себя запугать, но и не тешу надеждами на выздоровление и оптимистическими иллюзиями на годы без болей. Так что не беспокойтесь, угрозы врача не выведут меня из равновесия! [...]
Книжечка стихотворений Гете[1] доставила мне много радости. Я занимался ею все три недели в Бадене. Три недели подряд на моем столе лежало раскрытое собрание стихотворений Гете, я выбирал лучшие и выписывал на маленькие листочки бумаги, затем каждое перечитывал по три, четыре, пять раз, отбрасывал, ставил знак вопроса - и так до тех пор, пока подборка не была готова.
В Цюрихе мне снова приходится расставаться с целой эпохой жизни и с ее привычками. Проведя в Монтаньоле много холодных и голодных зим, я с 1923 года стал зимовать вне дома, сначала в Базеле, а потом в Цюрихе. У меня были друзья, была музыка, были комнатки, где я много работал над «Степным волком» и «Гольдмундом». Теперь пришла пора отказаться от маленького прибежища на Шанценграбене и оставить квартиру: в начале апреля мы отправляемся в Тессин и будем жить там круглый год.
Происходящее в Германии тревожит и мучает. Оно затрагивает меня непосредственно: я снова потерял свои небольшие сбережения и снова вынужден жить впроголодь, и хотя все это пока не так уж и страшно, но все же довольно неприятно, так как у меня теперь жена и дом и при самой экономной жизни расходы выше, чем прежде. Если же дело и впрямь дойдет до фашистского переворота или хотя бы до фашистского эксперимента, то я снова окажусь в духовной изоляции, безо всякого влияния на умы и души немцев, как когда-то в годы войны. Очень жаль, что очутившиеся у власти наследники горстки идеалистов, с горем пополам совершивших в 1918-1919 годах немецкую революцию, сегодня открещиваются от нее, как от нечистого духа, отказываются иметь с ней хоть что-нибудь общее, даже слышать не хотят о ней. Но если революция не дала никаких результатов, если война никого ничему не научила, то все может повториться и будет куда более страшным и кровавым.
С Маннами мы славно провели время, еще чудеснее были несколько маленьких лыжных прогулок с Муайе.
Генриху Виганду
[18 марта 1932]
Дорогой господин Виганд,
на этот раз отвечаю на Ваше милое письмо сразу же после его прочтения.
Итак: 30 гетевских стихотворений уже в продаже, в здешней лавочке они стоят один франк.
Меня радует, что Вы одобряете мое предисловие и что оно Вам понравилось. Сегодня с такими вещами обычно терпишь неудачу. Я написал предисловие в начале декабря, и, поскольку мне показалось, что как анализ гетевской лирики оно вполне пригодно для какой-либо газеты или журнала в период «гетевского бума», я сделал с него копию с небольшими изменениями (чтобы придать статье самостоятельный, независимый от книги вид) и отослал в Вену даме, которая уже два года занимается всеми моими газетными публикациями (перепечатками). Эта дама обладает хорошими связями, добросовестна и питает известное пристрастие ко мне; хотя обычно для моей самой пустяковой заметки она находит от 3 до 5 мест публикации, ей, несмотря на все старания, не удалось пристроить мою гетевскую статью ни в одну австрийскую или немецкую газету ни как новинку, ни как перепечатку. Ну да ладно, хорошо, что работа по крайней мере появилась в красивой синенькой книжечке и некоторые друзья смогли ее прочесть.
Сейчас утро понедельника, у вас, возможно, уже известны результаты выборов[1], подожду, пока новости просочатся к нам. Я рад, что в политических вопросах мы с Вами почти едины. Чего мне не хватает и о чем хотелось бы с Вами как-нибудь поговорить, так это возможности по-настоящему переварить Маркса и занять собственную позицию по отношению к коммунизму, революции. Я разделяю Ваше отношение к правым, но также в некоторой мере разделяю и возмущение коммунистов против немецких меньшевиков, которые были патриотами в 1914 году и остаются патриотами сегодня, которые уклонились от участия в революции, предали Эйснера[2] и Либкнехта, а теперь сидят на их стульях в качестве их наследников. Я не революционер по натуре, видит бог, но уж коли дело дошло до революции и до захвата власти, то надобно принимать все всерьез и действовать. А то, что немецкий коммунизм сегодня лишен главы, это не аргумент против его целей. Русская революция, прежде чем появился Ленин, тоже не имела главы, и, не будь Ленина, она полностью бы омещанилась, остановившись в лучшем случае на Керенском.
Сегодня Нинон хочет посмотреть французский фильм «А nous la liberte» [«Наше дело - свобода» (фр.)] . Я не иду из-за состояния глаз. Со времени возвращения дела мои вновь неважные, уже десять дней не могу переносить никакой пищи, самое большее, что одолеваю с трудом, - это протертый супчик. У глаз моих тоже каникулы кончились, им нужно трудиться и напрягаться на дню куда больше, чем в Энгадине, и они сразу же это почувствовали.
Да, caro amico [Дорогой друг (итал.)] , зачем мы, собственно, живем и что еще осталось в нашей жизни, что может принести нам радость и оказать воздействие на потомков? Если я думаю об этом всерьез, то вопреки всему всегда прихожу к одному и тому же выводу: что жизнь наша, в сущности, трагична и что Моцарт в 1780 году был так же одинок, ненужен и неприкаян, как и сегодня.
Привет супругам Геро. Он написал мне очень хорошее письмо. Примите благодарность за прекрасного Марло[3], и желаю Вам вместе с Марло tante belle cose [Всего самого лучшего (итал.)] . Сердечно Ваш
Г. Гессе
Людвигу Финку
23 марта 1932
Милый Угель,
пришло твое письмецо, и, хотя в нем много печального, я все же очень ему обрадовался. Я долго медлил и колебался, пока не решился наконец объяснить, как, на мой взгляд, личное в тебе и во мне соотносится с политикой и как часто в военные и первые послевоенные годы я пытался понять твою упрямую приверженность идеалам наивных и легковерных людей 1914 года. Из твоего письма я вижу, что все куда сложнее, чем я предполагал, о чем я мог только догадываться; придет время, и мы об этом с тобой потолкуем. [...]
Что касается положения в Германии, то я абсолютно убежден, что нашему народу все еще предстоит совершить революцию, которую он наспех, кое-как совершил в 1918 году и которая тут же была предана социалистами. Стрелка указывает на революцию независимо от того, отважимся мы на нее завтра или только через тридцать лет. И тогда встанут такие, например, вопросы: почему писатель Людвиг Финк, опубликовавший десяток неплохих книг, должен голодать, тогда как директора и члены наблюдательного совета его издательства разъезжают в собственных автомобилях. И именно тогда - не совсем справедливо, но вполне логично - самых назойливых из этих директоров повесят, а у членов наблюдательного совета отнимут деньги и лишат их права надзора, то есть с ними поступят точно так же, как Ленин учил поступать в России.
Меня никогда не удивляло, что Гете понимал Бетховена лишь наполовину (однако кое-что ему нравилось, у него есть даже прекрасное высказывание о Б[етховене]). С Бетховена в музыке начинается то, что в литературе началось с Шиллера, а в политике - с Французской революции и что прямо противоположно гетевской сути. У меня самого почти такое же восприятие, так как в музыке, за редкими исключениями, я очень консервативен. Я воспринимаю Бетховена не как последователя Баха и Моцарта, а как начало упадка, начало грандиозное, героическое, великолепное, но уже наполовину со знаком отрицания. Вот и в этом году я был изрядно огорчен тем, что в Цюрихе на пасху исполняют не «Страсти» Баха, a «Missa solemnis» Бетховена. Завтра пойдут ее слушать, но я бы много дал, чтобы вместо нее услышать «Страсти по Матфею» или «Страсти по Иоанну». Охотно верю, что Альберт Швейцер[1] хорошо отозвался о Гете, он человек для этого вполне подходящий.
Из- за плутней вашего правительства в финансовых делах я снова, как в годы инфляции, оказываюсь в тяжелых, крайне стесненных обстоятельствах. Снова почти наполовину потеряны вложенные в Германии сбережения от продажи «Гольдмунда», которых должно было бы хватить на несколько лет. Но это всего лишь неудобства, о нужде речи пока нет, ее я испытал в 1921-1924 годах, когда мне пришлось содержать жену в доме для умалишенных[2] и трех сыновей и я не мог позволить себе пару новой обуви. Милый, на пасху я буду думать о тебе.
Фрицу Гундерту[1]
28 марта 1932
Дорогой Фриц,
Мартин доставит тебе мою почту, за последние дни кое-что накопилось. Хотя поток писем из-за кризиса несколько уменьшился, но еще больше уменьшились мои доходы, так что расходы на оплату марок для писем, рукописей и т. п. несоразмерно велики.
Из моих сыновей Хайнер и Мартин настроены, в общем, довольно благожелательно по отношению к коммунизму, и я буду рад, если они примкнут к движению и станут не только очищать и совершенствовать жизнь, но и познают счастье осмысленной жизни, направленной на достижение единой цели. Для нас, идеалистов старого закала, главное заключается именно в этом. Наша ошибка и наша вина не в том, что мы якобы встали не на ту сторону, то есть на сторону буржуазии, а в том, что мы не встали ни на чью сторону, ибо мы не годимся для партийных дел. И все же я внушаю себе, что осознать это - уже шаг вперед; и если сегодня иные писатели и художники пытаются изобразить, то есть живо и впечатляюще воплотить в слове свою безнадежную изоляцию и свое отвращение к современному миру, то я считаю это вопреки Брентано[2] (которого ценю) не бесполезным, а добрым делом. Но мне хотелось бы, чтобы мои сыновья подошли чуть ближе к сути...
Томасу Манну
Цюрих, март 1932
Дорогой господин Томас Манн,
на этих днях моя жена читала мне вслух Вашу книгу о Гете и Толстом[1], и я наслаждался, как бывало уже не раз, не только четкими и ясными формулировками Вашей великолепной работы, но еще больше - отвагой, с коей Вы вопреки всем немецким обычаям стремитесь не к упрощению, не к затушевыванию или приукрашиванию, но к подчеркиванию и углублению творческой проблематики. Вы легко можете себе представить, что для меня особенно важна была антитеза «Гете - Шиллер», и порой я невольно вспоминал позднюю работу Канта[2], в которой этот старый ученый поет трогательную хвалебную песнь природе и ее любимым детям и намечает противоположность между «головой» и «любимцем природы» (возможно, там сказано: «баловень природы»). Единственное у Канта, что было мне когда-либо мило.
Ваш образ Толстого, любителя природы, охотника, «зоркого глаза», чуть ли не злобно ополчающегося на дух, порой вызывал в памяти Гамсуна[3]. Знакомая проблема: ведь я и сам нахожусь на той же стороне, мое происхождение - «материнское», мой источник и опора - природа.
Короче, мне хотелось бы поблагодарить Вас за истинное наслаждение, которое мне доставила Ваша книга.
Приписка
Случайно на днях я вновь отыскал статью, которую написал очень давно с целью растолковать моей жене некоторые идеи и термины, присущие моему мышлению. В этой статье Вас, возможно, заинтересовала бы та часть, что написана в две колонки, - противопоставление понятий «разумный» и «благочестивый» (как аналогия к «Гете - Шиллер»).
Молодому человеку из Германии
Написанное мне необычное письмо исходит, судя по всему, от человека незаурядного. Он совсем еще молод, думаю, ему от силы лет девятнадцать, но уже давно одержим стремлением служить своему отечеству и способствовать его возрождению на поприще солдата или офицера. Кажется, он сын помещика, в школьном классе был признанным лидером, со страстью читал Клаузевица[1]. Теперь он признается мне, что в этих своих устремлениях пренебрегал внутренним миром и культурой, что он ожесточился и что окружающие его люди хотя и боялись его, но никогда не любили. В моих книгах, которые он поначалу совершенно отвергал, он открыл для себя некий мир или, как он полагает, столкнулся с неким сформулированным «учением», которое заставило его заколебаться в прежних взглядах. Он просит у меня более обстоятельных разъяснений и совета.
8 апреля 1932
В моих книгах Вы обнаружили образ мыслей, предвосхитивший Ваши раздумья, и потому считаете меня учителем. Однако этот образ мыслей присущ всем людям, которые служат духу, и, само собой разумеется, прямо противоположен образу мыслей политиков, генералов и «вождей». Он удивительно точно (насколько это вообще возможно) сформулирован в евангелиях, в изречениях древнекитайских философов, прежде всего Конфуция, Лао-цзы и в притчах Чжуан-цзы, а также в некоторых индийских дидактических поэмах, как, например, в «Бхагавадгите». Скрытно этот образ мыслей проходит через всю литературу всех народов.
Однако Вы напрасно бы стали искать вождя подобного учения, ибо ни один из нас не обладает достаточным честолюбием или хотя бы просто возможностью быть «вождем». Мы не очень-то ценим вождей, но превыше всего ценим служение. Более прочих добродетелей мы почитаем благоговение, но испытываем его не к отдельным людям.
Я вполне осознаю противоположность между миром, намек на который Вы обнаружите в моих книгах, и тем куда более простым, ясным и, по-видимому, мужественным миром, из которого пришли Вы сами, где существуют четкие предписания относительно того, что есть добро и зло, где все однозначно и сохраняет еще отблеск героического. Клаузевиц и Шарнхорст не приводят Вас к конфликтам, но указывают Вам четко обозначенный долг и в качестве награды за его исполнение сулят вполне реальные вещи: выигранные битвы, поверженных врагов, генеральские эполеты, грядущие памятники.
Хотя наше анонимное братство тоже знает немало примеров героизма и ставит его очень высоко, но оно ценит лишь тех, кто сам умирает за свою веру, а не заставляет умирать за нее других. То, что Иисус именует «царствием божиим», а китайцы называют «дао», - это вовсе не отечество, которому нужно служить за счет других отечеств; это предчувствие целостности мира, со всеми его противоречиями, предчувствие скрытого единства жизни как таковой. Это предчувствие, или идея, выражено во многих книгах, где ему воздается должное, и у него много имен, одно из которых - «бог».
Идеалы, которым Вы служили до сих пор и к которым, возможно, еще вернетесь, благородны и высоки и имеют еще то важное преимущество, что они осуществимы. Солдат, который по приказу покидает укрытие и бросается в огонь, или генерал, который жертвует последним солдатом и выигрывает битву, - оба они в действительности осуществили свои идеалы.
В мире Демианов и Степных волков осуществимых идеалов дет. Каждый идеал там - не приказ, а всего лишь попытка бескорыстно служить святости жизни в формах, которые мы с самого начала признаем несовершенными и нуждающимися в вечном обновлении.
Путь Демиана не так светел и ясен, как тот, которым Вы шли до сих пор. Он требует не только самоотверженности, но и упорства, недоверчивости, самоанализа, он не защищает от сомнений, он даже сам их ищет. Это путь не для тех, кому еще можно помочь ясными, определенными и стабильными идеалами и приказами. Это путь для отчаявшихся, то есть для тех, кто потерял надежду сформулировать понятие святости, кто уже не верит в однозначность идеалов и долга, кому скудость жизни и совести сжигает сердце.
Быть может, Ваше состояние и есть первая ступень к такому отчаянию. Тогда Вам предстоит еще много страданий, много вынужденных отречений от того, что прежде было предметом Вашей гордости, но также и много жизни, много перемен и открытий.
Если это так, возьмите с собой в путь из «Демиана» и других моих сочинений те идеи, которые сделались для Вас важными. Скоро я уже не буду Вам нужен, Вы откроете для себя новые источники. Хорошие учителя на этом пути и Гете, и Новалис, и еще француз Андре Жид[2] - им несть числа.
Но, быть может, Вам удастся, несмотря на теперешнее искушение, остаться верным Вашему прежнему пути - простоте строгой и героической, но лишенной проблем жизни. Перед теми, кто готов приносить жертвы ради такого идеала, я испытываю величайшее почтение, хотя самого их идеала не разделяю. Каждый, кто идет в жизни собственным путем, - герой. Каждый, кто действительно так поступает и осуществляет то, на что способен, - герой, даже если он делает при этом нечто глупое и реакционное; он выше, чем тысячи других, которые способны только болтать о прекрасных идеалах и ничем не способны ради них пожертвовать.
Вот что смущает, когда наблюдаешь мир: прекрасные мысли, суждения и идеалы не всегда бывают у хороших и благородных людей. Иногда человек способен самым самоотверженным образом сражаться и умирать за отживших и устарелых богов, при этом он производит, вероятно, впечатление Дон Кихота, но ведь Дон Кихот - величайший герой, Дон Кихот - в высшей степени благороден. Напротив, человек может быть весьма умен, начитан и красноречив, может сочинять прекрасные книги или произносить замечательные речи, полные подкупающих мыслей и идей, и оставаться при этом всего лишь болтуном, который пасует при первом же намеке на необходимость жертвы или претворения идеалов в жизнь.
Поэтому на свете много ролей, и вполне возможно, даже единственно прекрасно и правильно, чтобы высокие противники уважали и любили друг друга больше, чем собственных сторонников. В самом деле, не один храбрый немецкий генерал питал в душе любовь и почтение к спокойному, миролюбивому мыслителю Канту, не предавая этим ни своих обязанностей, ни своего долга. Иной занимает пост, не зная даже, служит ли он еще какой-либо осмысленной и достойной цели, поскольку все эти понятия колеблются, особенно сегодня, но он не покидает своего поста и продолжает сражаться, хотя бы ради того, чтобы подавать пример служения и верности.
Во время войны, ярым противником которой я являлся, мне приходилось сталкиваться с этим десятки раз. Я встречал людей, журналистов, которые полностью разделяли мои взгляды и убеждения в политике, то есть были моими единомышленниками, но я едва ли мог бы подать им руку - так несимпатичны они мне были, такими представлялись ограниченными и своекорыстными. Напротив, я встречал других людей, верных и восторженных патриотов, офицеров, людей самых безумных представлений о невиновности Германии, о ее праве на неограниченные аннексии, и все же это были люди, которым я смело мог бы пожать руку, которых мог принимать всерьез и уважать, ибо по натуре они были благородны, они верили в свои идеалы, они не были болтунами.
Вот что, как я полагаю, Вы можете навсегда усвоить среди одолевающих Вас сегодня сомнений: программа и человек - это не одно и то же, и от противников, от непримиримых врагов можно испытать больше радости и добра, чем от единомышленников, которые являются таковыми только рассудком, только на словах.
Больше я Вам сказать ничего не могу. Я не знаю, к чему Вы предназначены. Вы предъявляете к себе высокие требования, Вы притязаете на многое, и это многое обещает. Но пока все, что Вы ни делаете, Вы делаете не во имя бога, не во имя отечества, а как верный рекрут Клаузевица, Фихте[3], Мольтке[4]. Быть может, однажды Вы придете к тому, чтобы делать нечто трудное ради него самого, не потому, что это благородно или патриотично, а потому, что иначе Вы просто не сможете. Тогда Вы будете близки к цели, к которой идут все истинно ищущие.
Д-ру М.-А. Йордану[1]
Ответ на открытое письмо «Миссия поэта» 1932
Высокочтимый господин д-р Йордан,
Ваше открытое письмо под заглавием «Миссия поэта» дошло до меня и глубоко тронуло, поскольку оно написано от сердца и с добрыми намерениями, и, хотя я предполагаю, что всеми своими помыслами Вы связаны с католической церковью, Ваше письмо отнюдь не кажется мне пристрастным. Кое в чем, я думаю, мы с Вами друг друга не поймем, ибо наши исходные данные слишком различны, но по многим важным пунктам я вполне могу дать Вам ответ, и, если он даже Вас не удовлетворит, Вы признаете мою искренность.
Сначала я должен, хоть мне это и неловко, напомнить Вам о том, сколь неполно Ваше знание о моей литературной работе. Ваше открытое письмо основывается всего лишь на одной, даже не самой центральной части моей деятельности - на написанных мною по разным поводам газетных статьях. В некоторых из этих статей Вы обнаруживаете пессимизм, который считаете в конечном итоге безответственным, и мне это вполне понятно. С моей точки зрения, эти статьи, сознательно написанные в той легкой доверительной манере, что носит название фельетона, во-первых, всего лишь незначительная часть моей работы, а во-вторых, эти шутливые, нередко иронические высказывания по актуальным вопросам имеют для меня общий и весьма определенный смысл: это моя борьба против того, что я открыто называю ложным оптимизмом.
Если я время от времени напоминаю, что человек - существо, подвергаемое опасности и одновременно угрожающее, если порой на столбцах ежедневной газеты я подчеркиваю ущербность и трагичность человеческого бытия там, где мы привыкли к легкости и самодовольству, - то это хотя и малая по объему и значению, но все же вполне сознательная и ответственная часть моей деятельности в целом: борьба против модного европейско-американского культа всемогущего современного человека, дошедшего якобы до высших ступеней прогресса. И если я с особой настойчивостью напоминаю о сомнительных сторонах человеческого бытия, то это боевой клич, направленный против ребячливого, но все же глубоко опасного самодовольства «массового человека», лишенного веры и мыслей, с его легковесностью, с его заносчивостью, с его недостатком смирения, сомнений, ответственности. Слова, которые я здесь высказал, относятся не к человечеству в целом, но к определенной эпохе, к читателям газет, к массе, опасность для которой, по моему убеждению, заключается отнюдь не в недостатке веры в себя и в собственное величие. Порой напоминание о необоснованности человеческой заносчивости я связывал с напоминанием о событиях нашей новейшей истории, о наивности и хвастливом легкомыслии, с которыми мы вступили в войну, о нежелании как народов, так и отдельных людей возлагать на себя за это вину. Я понимаю, что такие высказывания очень многим неприятны, поскольку чувство собственного бессилия, вероятно, придавало им особую, безнадежную остроту. Я вовсе не притязаю на абсолютную правоту, я так же зависим от своей эпохи и от собственного «я». Однако я несу ответственность за эту (как уже было сказано, второстепенную) часть моей деятельности и в данный исторический момент не только не считаю вредным, но, напротив, полезным и необходимым поколебать мистическую веру сегодняшнего обывателя в величие достигнутого прогресса, во все эти машины, в эту столь сладкую и безответственную новизну.
Далее, наряду с такими высказываниями, тесно приуроченными к определенному моменту, существуют и другие мои работы, прежде всего поэтические сочинения, в которых проблематичность и трагичность человеческого существования занимают также много места, хотя в них же высказана и вера, причем не в какой-то единственный, поддающийся догматическому формулированию смысл нашей жизни и наших страданий, но в возможность попытки отыскать такой смысл в каждой душе и возвыситься и освободиться в служении этому смыслу. В статье, которая носит почти такое же название, как и Ваше открытое письмо, я так писал о миссии поэта в наше время:
«Мы задыхаемся в непригодной для дыхания атмосфере машинного мира и варварских потребностей, которая нас окружает, но мы не отделяем себя от всего этого, мы принимаем это как свою миссию, как свое испытание. Мы не верим ни в один из идеалов этого времени. Но мы верим, что человек бессмертен и что его образ однажды восстанет освобожденным от всяческих искажений, очищенным от всяческой скверны. Мы не скрываем, что душа человека в опасности и близка к краю бездны. Но мы не должны также скрывать, что верим в ее бессмертие»[2].
Вы, вероятно, сочтете, что эти мои слова противоречат другим, тем пессимистическим высказываниям, о которых Вы сожалеете. Что же, вполне возможно. Ибо то, чего Вы требуете от поэта в Вашем открытом письме, для чего Вы призываете в свидетели тень «олимпийца» Гете, а именно: олимпийское парение над схваткой, - не входит в мою задачу. Возможно, это задача классического поэта, но не моя, и я не чувствую себя призванным утаивать бездны всеобщего и собственного существования или представлять их безобидными, но, напротив, стремлюсь открыто признавать муки и стесненность человеческого жребия в тех его формах, какие существуют ныне, открыто высказывать их и сострадать им. При этом не обходится без противоречий, и, несомненно, иной тезис в моих книгах противоречит другим тезисам тех же книг - с этим я не спорю. Совокупность моей жизни и творчества не предстала бы возможному наблюдателю как гармония - скорее как непрерывная борьба и непрерывное, хотя и не лишенное веры, страдание.
Здесь я подхожу к последнему пункту, по которому хотел бы высказаться и по возможности найти с Вами взаимопонимание.
Вы принимаете в качестве постулата, что поэт, завоевавший доверие многих читателей, непременно должен ощутить призвание быть «вождем». Признаюсь, я чуть ли не ненавижу само слово «вождь», столь скомпрометированное немецкой молодежью. Вождя хотят и требуют те, кто сам не желает ни думать, ни отвечать за что-либо. Поэт, поскольку он вообще мыслим в наше время и в нашей культуре, не может к этому стремиться. Конечно, он должен сознавать свою ответственность, конечно, он должен являть собой некий образец для подражания, но не тем, что он будет демонстрировать превосходство, здоровье, неуязвимость (на что едва ли кто-то способен без смущения), а тем, что мужественно и честно откажется быть вождем и носителем «мудрости», не станет выставлять себя перед доверчивым читателем Знающим и Пастырем, будучи всего лишь Страждущим, смутно предчувствующим истину.
Тот факт, что многие, преимущественно молодые люди, находят в моих сочинениях нечто внушающее им доверие, я объясняю так: на свете есть много людей, которые сходным образом страдают, борются за веру и за смысл собственного существования, сходным образом отчаиваются в своем времени и, однако, почтительно прозревают за ним, как и за любым временем, нечто божественное. Они находят во мне человека, высказывающего их мысли; молодым людям приятно, что кто-то более зрелый и умудренный опытом признается, что мучается так же, как и они, кому трудно говорить и мыслить, приятно, что значительная часть ими пережитого высказана человеком, лучше них владеющим словом.
Конечно, большинство молодых читателей этим не удовлетворяются. Они хотели бы найти не просто товарища по страданиям, но гораздо больше им хотелось бы найти вождя, они жаждут близких целей и успехов, непогрешимых рецептов и утешения. Но вот же они, эти рецепты: ведь нам доступна мудрость веков, и многим, многим сотням молодых и горячих авторов писем, которые так жаждали услышать от меня последнюю мудрость, я указывал на мудрость истинную и непреходящую, на несравненные слова, дошедшие до нас из Древнего Китая и Индии, из античности, Библии и христианства.
Не каждое время, не каждый народ и не каждый язык предназначены для того, чтобы высказывать слова мудрости, не в каждом столетии живет Знающий, который одновременно был бы и мастером слова, однако все времена и народы привносят свою долю в общую сокровищницу, и тот, кто желает получить вековую мудрость в совершенно новой упаковке, применительно к своему случаю, как утешение в своих, исключительно личных бедах, выбирает себе вождя по вкусу и наделяет его такими авторитетом и властью, какие только настоящая церковь может дать своим пастырям. Моя роль не может быть сходной с ролью пастыря, ибо за мной не стоит никакая церковь, и если я тем не менее письменно и устно пытался помогать советом тысячам людей, то я никогда не делал это как вождь, но всегда как человек, как старший брат, испытавший те же страдания.
Я очень боюсь, что говорю это напрасно, но все же мне очень хотелось бы Вас убедить - не в важности и ценности моих мыслей и моей позиции, но в необходимости, в неизбежности такого моего положения. Ведь те, кто обращается ко мне, кто ищет у меня «мудрости», - это почти все без исключения люди, которым не смогла помочь традиционная вера. Многих из них я отослал к учениям древних учителей, но настойчиво рекомендовал также и некоторые сочинения современных католических авторов. Большая часть моих читателей, однако, сходны со мной в том, что они предпочитают поклоняться скрытому богу. Возможно, те, кто тянется ко мне и к моим сочинениям, - это прежде всего люди слабого здоровья, с расстроенной психикой, настроенные против общества, возможно, единственное утешение, которое многие из них у меня черпают, состоит всего лишь в том, что у меня, человека знаменитого, они обнаруживают собственную слабость и собственную боль. Я не стремлюсь к тому, чтобы «решиться» и взять на себя какую-либо «миссию», как Вы того требуете, я хочу лишь на том месте, куда меня поставила судьба, делать все, что в моих силах. Среди прочего это означает: не давать (или не обещать) больше того, что я имею. Я человек, страдающий от бед нашего времени, я не вождь, находящийся вне его, я хочу пройти сквозь него, как сквозь ад, чтобы обрести по ту сторону новую невинность и жизнь более достойную, но выдавать это «по ту сторону» за «сегодня» и «сейчас» я не способен. Не думаю, что моя жизнь лишена всякого смысла оттого, что у меня нет никакой миссии. Выстоять посреди хаоса, уметь ждать и смиряться перед жизнью даже там, где она запугивает кажущейся бессмысленностью, - все это тоже добродетели, особенно в то время, когда повсюду предлагаются новые толкования мировой истории, новые осмысления жизни, новые программы.
Я думаю, более того, знаю наверняка, что очень многие, для которых мои сочинения на время были интересны и плодотворны, впоследствии поняли, что ошиблись в них и во мне, и отказались от них. Но вместо этих пришли другие, которым я был на какое-то время полезен. Пусть эти другие тоже становятся старше и опытнее, пусть ищут и находят более сильных попутчиков, пусть идут более смелыми путями! Я же должен оставаться верен своему пути, сколь бы спорным мне и другим он порой ни казался.
Генриху Виганду
[до 14 апреля 1932]
Дорогой господин Виганд,
Ваше содержательное послание, адресованное в Тессин, застало меня, однако, еще в Цюрихе. Мы намеревались уехать 10-го или 11-го, но не справились с делами. У Нинон здесь еще много забот, а мое самочувствие и продолжительные головные боли на протяжении многих дней лишают меня мужества, необходимого для путешествия и устройства на новом месте, я хочу еще съездить на считанные дни в Баден, принять несколько ванн, поваляться в постели и посидеть на диете, в Цюрихе все это не получается.
Тем временем я прочитал Ваше письмо и приложения к нему, и более всего меня обрадовала Ваша прекрасная статья о «Паломничестве в страну Востока». Вы замечательно все разобрали и верно увидели за литературной формой самое важное; никогда прежде в «Рундшау», да и в других местах чрезвычайно редко обо мне говорили подобным образом. Не согласен я с Вами только в одной второстепенной мелочи: Вы говорите о Лео[1], что он прежде был низшим и слугой, а теперь-де является первоверховным старейшиной. Я смотрю на это несколько иначе: уже прежде, до Морбио и в Морбио, Лео был безобидным слугой только для наивных простаков, и, хотя они считали его всего лишь симпатичным слугой, даже они полагали вероятным, что он несет в своем мешке святую хартию Братства. Нет, Лео всегда был один и тот же, поскольку он - образ и символ, он - тот, кто служит, но его служение свято, и оно означает господство. Конечно, по отношению к рассказчику этот образ имеет и другой аспект: тут Лео меняется в той мере, в какой все значение постепенно переходит от рассказчика к нему, что и знаменует обнаружение в архиве магической двойной фигурки.
Тем не менее это мелочь, и я решился о ней упомянуть, чтобы уж все было сказано. Далее: все, что связывается в Вашем эссе с политическим и актуальным аспектами, сформулировано, как мне кажется, превосходно и к тому же тактично, чему я рад и за что я Вам искренне благодарен.
Теперь по поводу нескольких вопросов в Вашем письме. Сейчас я не могу его полностью перечитать, состояние моего зрения этого не позволяет, однако надеюсь, что не упустил ничего важного, и, кроме того, я еще раз перечту письмо и статью на покое в Бадене.
Статья о Гете в «Рундшау» - та же самая, что я написал для Роллана, она должна была появиться одновременно и в Париже, но еще не знаю, действительно ли это произошло.
О Вашем японском подарке, amico, говорить пока не буду, он меня еще ожидает.
Теперь относительно просьбы Вашего друга Швиммера[2] дать стихи для маленького частного издания. Естественно, в принципе я ничего против не имею, я рад этому и согласен с предложенными условиями. Правда, сейчас сделать состав очень сложно, я не могу даже судить, достаточно ли у меня материала для такого издания. Все свои рукописи я давно упаковал, только акварели еще со мной и поедут в Баден. Думаю, что найдется 10 или 12 стихотворений, которые подойдут, среди них «Смерть Авеля» и еще несколько в том же роде. Но «неопубликованными» их можно считать лишь постольку, поскольку они не печатались в книге, в журнале они все уже были. Вот и все, что я могу на сегодня сказать.
Должен еще поблагодарить Вас за сказанное в Мангейме о «Стихотворениях Гете», Вы доставили этим мне и Нинон истинную радость.
Я был несколько разочарован этой гетевской книжечкой, ибо раздарил необычайно много экземпляров и получил в ответ необычайно мало откликов, да и те весьма вялые. Кажется, с «Паломничеством» все обстоит наоборот. Его я послал совсем немногим и не ожидал быстрого прочтения, вместо этого почти ежедневно получаю письма от незнакомых читателей.
Кстати: цена новой книги скорее слишком высока, но ведь мы с того не разбогатеем, да и у меня сейчас полоса нелегкая. И еще, насколько «Паломничество» дорого, настолько дешев «Путь внутрь»[3], просто дается даром. Быть может, какая-нибудь инфляция или другая грабительская акция правительства меньшевиков[4] избавит нас вскоре от всех этих забот. Не будем принимать их всерьез.
Addio, дорогой господин Виганд, думаю о Вас с сердечной благодарностью. Ваш
Г. Гессе
Господину А. Шт., Югендбург Фройсбург, Зауэрланд
1932 (?)
[...] Вашему прекрасному плану я желаю всяческого успеха, но сам оказать ему какую-либо поддержку не смогу. Я не принадлежу к «вождям», далек от желания воспитывать и оказывать влияние. То, что, несмотря на все это, многое связывает меня с немецкой молодежью и я улавливаю там и сям доходящее от нее эхо, - есть тем более неожиданный и прекрасный для меня подарок.
С Роменом Ролланом, которого Вы упоминаете, я состою в дружбе с 1914 года, когда он случайно открыл во мне единомышленника, мы обменивались с ним письмами и неоднократно встречались, в последний раз в моем доме в Монтаньоле, близ Лугано.
Объединяет меня с Роменом Ролланом и разделяет нас обоих с большинством немецкой молодежи наше полное неприятие всякого рода национализма, который мы распознали еще в военные годы как архаическую сентиментальность и величайшую опасность для современного мира. Страна, в которой три четверти молодежи присягают на верность Гитлеру и его дурацким фразам, практически закрыта для нас и нашего прямого влияния, хотя, конечно, время может и здесь многое изменить. Подобно тому как Ромен Роллан обращает свой антинационализм преимущественно против своих французских земляков, за которых он чувствует себя в некотором роде ответственным, так и я питаю особую вражду и отвращение к национализму в его нынешней немецкой форме. Отказ от всякой ответственности за войну, перекладывание вины за положение в стране на «врагов» и на Версаль - все это создает, по-моему, в Германии атмосферу политической глупости, лживости и незрелости и будет немало способствовать возникновению новой войны.
Однако я не вижу возможности для прямого вмешательства. Чем больше мне приходилось экономить время и силы, тем упорнее я должен сосредоточиться на той работе, которую я воспринимаю как свою, то есть на чисто художественном творчестве. Среди всеобщей порчи нашего языка и литературы оставаться строгим и писать на хорошем немецком, среди лозунгов и программ в искусстве и политике продолжать отстаивать принципы простой человечности и исполнять свою работу как можно лучше и добросовестнее - вот моя единственная программа.
Покажите своим молодым друзьям из моего письма то, что сочтете нужным. И примите мою благодарность за Ваш привет и призыв, он меня порадовал. Мне не дано быть вождем и говорить для многих, я всегда обращаюсь лишь к отдельному человеку и к его совести. Молодежи я хотел бы сказать: обретите сначала зрелость и чувство ответственности, прежде чем начнете заботиться о мире и его переустройстве. Чем больше будет одиночек, способных спокойно и критично созерцать мировой театр, тем меньше опасность возникновения величайших массовых глупостей, прежде всего войн. [...]
Господину Ф. Абелю, Тюбинген
Середина декабря 1932
Высокочтимый господин Абель,
сейчас у нас, собственно, слишком хорошая погода, чтобы садиться за письма, стоит один из великолепных дней нашего предзимья, когда горы после полудня - как хрустальные и все светятся. Но Вы, конечно, не раз уже подумали, как невежливо с моей стороны заставлять Вас так долго ждать, потому я пишу Вам сегодня. Моя жена познакомила меня вкратце с Вашей работой, а некоторые места зачитала вслух, так что я представляю теперь всю ее композицию, все основные пункты, тональность и мораль, и настало время сказать Вам, как высоко я ее ценю и как одобряю. С моей точки зрения, в ней нигде нет ошибочных толкований, и меня очень порадовала та мягкая, но настойчивая манера, в которой Вы доказываете, что мой случай не сводится к уходу в патологию. Структуру всей работы я нахожу превосходной. Меня позабавило, что некий профессор предполагает во мне наличие «славянской крови». Как быстро теперешние профессора в век расовых теорий разбрасывают такие ошибочные утверждения! Нет, хотя я и получил от бабушки с материнской стороны толику крови французской Швейцарии, полагаю, что довольно мало; со всех же остальных сторон мои предки настолько чистокровные германцы, насколько это возможно. Ведь прибалты - особенно чистая раса, и из моих предков со стороны отца (которые жили в прибалтийских землях примерно с 1750 года) ни один не имел славянской крови, ни один не женился на славянке и ни один не умел даже говорить по-русски или по-латышски.
Очень мне понравилось также Ваше утверждение, что нигде у меня нет проповеди антисоциального. С социальностью, с культом общности и коллективности дело нынче обстоит так, что как раз эгоисты и люди с моральными изъянами более всего хватаются за социальные теории и связи и с подозрением относятся к нам, прочим, для которых социальное, то есть обязанность вхождения в иерархию и идеал любви (подобно «моральному» в романе Фишера «Тоже человек»[1]), есть нечто само собой разумеющееся.
Долгая задержка с ответом была вызвана тем, что мне пришлось пройти курс лечения в Бадене, и это, вместе с коротким посещением Цюриха, заняло четыре с половиной недели. Теперь мы снова дома, моя жена передает Вам привет. Она так хорошо изучила Вашу работу и так добросовестно мне ее частью зачитывала, частью объясняла, что это могло бы доставить Вам истинную радость.
Необыкновенная рукопись пришла на этих днях из Неаполя. Там один итальянец, который, видимо, хорошо владеет немецким и досконально знает все мои сочинения, составил для себя и своих друзей комментированную антологию моих сочинений - небольшую книжечку «Voci della poesia di H. H.» [«Поэтический голос Г. Г.» (итал.)] , и для меня удивительно и поучительно видеть себя, таким образом, в зеркале чужого языка и культуры; работа вполне солидная, и перевод местами великолепен, предполагается ли публикация, мне неизвестно. [...]
Читая роман
Недавно я прочел роман, сочинение одаренного, уже довольно известного автора, - приятное, веющее молодостью произведение, которое заинтересовало меня, а местами и порадовало, хотя оно повествует о шумных людях и тех вещах, какие в жизни мне мало интересны. Речь идет о людях, живущих в больших городах и с увлечением занимающихся тем, чтобы по возможности заполнить свою жизнь «переживаниями», удовольствиями и сенсациями, поскольку иначе она не имела бы ценности - ни пережитая, ни рассказанная. Есть много таких романов, и я иногда читаю один из них, поскольку живу вдали, уединенно, и временами с удовольствием принимаюсь изучать тех моих современников, от коих чувствую себя удаленным на большое расстояние, которые совершенно чужды мне, чьи страсти и мнения кажутся какими-то чудесами, чем-то удивительным, экзотическим и непостижимым; короче говоря, речь идет о жителях больших городов и об их болезненной приверженности к развлечениям. К жизни людей такого типа я питаю не только тот забавный интерес, какой проявляет европеец к слонам и крокодилам, но также интерес вполне основательный и закономерный: мне, например, стало известно, что даже если кто-то еще сидит тихонько на своем клочке земли, то и его жизнь и дела в большей или меньшей степени подвержены влиянию больших городов. Ибо там, в этой сумятице, в атмосфере затравленной, клокочущей, а потому и непредсказуемой жизни, все решается войной и миром, рынком и валютой, но не человеком: модой, биржей, настроением, «улицей». То, что житель большого города называет «жизнью», почти полностью исчерпывается этим; он разумеет под жизнью, кроме политики и дел, только общество, а под обществом в свою очередь почти исключительно ту часть своей жизни, которая отдана поискам сенсаций и удовольствий. Город, в чью жизнь я не вмешиваюсь, который чужд мне, определяет некоторые вещи, имеющие известное значение и в моей жизни...
Тем самым я не высказываю какой-то оценки большого города или романа, в котором идет речь о нем. Правда, мне было бы приятнее прочесть более близкое по духу сочинение о значительных и достойных подражания людях. Но я сам литератор, и мне давно известно, что художник, выбирающий «материал», - не художник и читать его не стоит, что материал сочинения никогда не может вступить в противоречие с его ценностью. Сочинение, основанное на материале мировой истории, может ничего не стоить, а то, где речь идет о какой-нибудь малости - потерянной булавке либо подгоревшем супе, - может быть истинно поэтическим.
Итак, я читал роман нашего автора без особенного почтения к его «материалу»; почтение к «материалу» должен чувствовать автор, а не читатель. Внимание читателя должно привлекать сочинение и то, как автор владеет своим ремеслом, а судить о том он должен, не оглядываясь на «материал» сочинения, лишь по добротности самой работы. К этому я готов всегда, и я все более склоняюсь к тому, чтобы качество работы в таком ремесле ставить выше идейного содержания и изображения чувств. Ибо за десятки лет жизни и писательства я имел случай удостовериться, что идеи и чувства легко заимствовать либо подделать, а вот основательность владения ремеслом - нет. Я, таким образом, читал роман с сочувствием и вниманием к коллеге, не все понимая, иногда потешаясь, многое искренне одобряя. Герой книги - молодой писатель, постоянно отвлекаемый от работы тем, что вместе с друзьями предается всякого рода удовольствиям, а кроме того, вынужден посвящать влюбленным в него дамам некоторое время, что служит ему источником дохода. Автор питает сильную неприязнь к большому городу, обществу, страсти к газетным сенсациям, он чувствует, что бессердечие и жестокость, грабеж и война - все пустило здесь свои корни. Но герой его не настолько тверд, чтобы каким-либо способом отвернуться от этого мира, он бросается от него в круговорот путешествий, вечную смену развлечений и любовных связей.
Таков «материал». Использование его позволяет, между прочим, описать ресторан, железнодорожный вагон, отель, назвать сумму счета за ужин, и такие вещи, пожалуй, представляют своеобразный интерес. Но тут я дошел до места, которое удивило меня. Герой приезжает в Берлин и останавливается в каком-то отеле, причем именно в комнате номер одиннадцать. Прочтя это (как коллега автора, то есть с интересом к каждой строке и желанием поучиться), я подумал: «Зачем ему это точное обозначение номера комнаты?» Я ждал, я был убежден, что это число - одиннадцать - имеет какой-то смысл, тут, возможно, есть что-то неожиданное, очаровательное и милое. Но я был разочарован. Герой, спустя одну-две страницы, возвращается в свою комнату, номер которой теперь уже - двенадцать! Читаю снова - нет, я не ошибся: сперва стоит одиннадцать, затем - двенадцать. Тут не шутка, не игра, в этом нет ни очарования, ни тайны, тут просто недосмотр, неточность, слегка небрежное отношение к ремеслу. Автор один раз написал - двенадцать, другой одиннадцать, после этого он не прочел собственную работу, не читал, очевидно, и корректуры либо читал так же равнодушно, невнимательно, как написал эти самые числа: ибо мелочи не в счет, ибо литература - не какая-то там, черт побери, школа, где требуют объяснить ошибки рассуждения и правописания; ибо, наконец, большой город утомителен и оставляет молодому автору мало времени для работы. Все верно, и я по-прежнему полон внимания к тому, что автор не приемлет безответственности газет, пестреющих сенсациями, отвергает поверхностность и безразличие, пронизывающие жизнь большого города! Но из-за этого самого числа - двенадцать - я вдруг перестал вполне доверять автору, он вдруг сделался подозрителен мне; я стал читать с повышенным вниманием и заметил ту неряшливость, с которой он написал это «двенадцать», еще в других местах, вспомнил даже такие, которые позавчера прочел с полной доверчивостью. И таким образом книга очень многое потеряла в смысле весомости, чувства ответственности, истинности, в самом существенном, и все из-за этого глупейшего числа двенадцать. Я вдруг почувствовал: эта милая книга написана горожанином для горожанина, для данного дня, мгновения; автор тут не слишком серьезен, короче, его тоска, вызванная бессердечностью и легкомыслием жителя большого города, не серьезнее, чем удачная затея любого фельетониста.
Пока я размышлял над этим, мне вспомнился забавный случай, происшедший несколько лет назад. Другой молодой, но уже довольно известный автор прислал мне свой роман, попросив дать отзыв о нем. То был роман из времен Французской революции. Между прочим, там описывалось жаркое, засушливое лето: вся округа изнывает, крестьяне в отчаянии, урожай погиб, вокруг ни одной зеленой травинки. Но через несколько страниц герой или героиня тем же самым летом прогуливается по той же самой местности и наслаждается видом цветочков среди обильно колосящихся полей! Я написал автору, что такая неряшливость вредит всей книге. Он не дал втянуть себя в дискуссию, для коей жизнь слишком коротка, поскольку был уже занят новой работой, столь же неотложной. Он ответил только, что я, видимо, мелочный педант и что в его произведении речь идет еще кое о чем, кроме подобных пустяков. К счастью, не все молодые авторы думают так. Я пожалел о своем послании и с тех пор ничего похожего не писал. И подумать только, чтобы в произведении искусства ничто не зависело от точности, верности, милых подробностей, чистоты исполнения! Как хорошо, что и сегодня есть еще молодые поэты, умеющие показать, как обстоят дела с милыми пустяками, с точностью ювелирной работы и той изящной легкостью, подобной искусству акробатов, достигаемой тяжким трудом добросовестного ремесленника.
И все-таки я, видимо, брюзга и старый франконский[1] Дон Кихот, поклонник морали в искусстве. Разве мы не знаем, что девять десятых всего количества книг написаны, а равным образом и прочтены безо всякого чувства ответственности, что послезавтра вся бумага, вышедшая из наших типографий, мое брюзжание в том числе -превратится в макулатуру? И почему автор, пишущий такие милые вещи для нынешнего дня, должен терпеть несправедливость, когда его читают так, будто он собирался писать для вечности?
Тем не менее я не в состоянии изменить свое мнение об этом. Так всегда наступает закат чего бы то ни было: серьезно принимать большие вещи и как само собой разумеющееся, несерьезно - мелочи. Когда чтят человечество, но мучают прислугу, когда почитают священными отечество, церковь или партию, но плохо и неряшливо исполняют ежедневную работу - тогда начинается коррупция. Против этого есть лишь одно воспитательное средство: чтобы сами мы и все прочие оставили пока так называемые серьезные и священные предметы вроде разума, взгляда на мир, патриотизма и обратились, наоборот, с полной серьезностью к вещам малым и мельчайшим, которые важны в данный миг. Если вы отдадите механику чинить свой велосипед или газовую плиту, то потребуете от него не любви к человечеству или веры в величие Германии, а толковой работы, по ней вы будете судить о нем и обо всех прочих - и правильно сделаете. Почему для людей умственного труда должно быть иначе? Как может работа, именующаяся произведением искусства, не быть выполнена точно и добросовестно? И почему мы должны не замечать «маленьких» погрешностей в своем ремесле ради прекрасного образа мыслей? Нет, лучше обратим против врага его собственное оружие. Ведь все эти широкие жесты, прекрасные мысли, программы - просто оружие, но, если взглянуть на него с иной стороны, оно удивит нас - правда, лишь тем, что никуда не годится.
1933
Фройляйн Анни Ребенвурцель[1], Кельн
4 февраля 1933
Дорогая Анни Ребенвурцель,
благодарю Вас за Ваше письмо. Я смог расшифровать не все, но почти все, и все прочел и обдумал с большим участием. Что кельнский семестр, от которого Вы так много ждали, возможно, Вас разочарует, я думал уже тогда, но тогда я ничего Вам не сказал по этому поводу, кроме одного намека, что почитаемый Вами учитель принадлежит к крайним националистам. Теперь, кажется, к этому добавилось еще и другое. Но через такие вещи Вам надо пройти, как и любому, ведь в каждом случае для молодого ума, готового к служению и деятельности, найти свое место, где он смог бы укорениться, служить и действовать, непросто. Всюду помехой рутина, «машина», запущенная в ход, организация и прочие понятия и принудительные меры, которые применяются обществом, государством, капиталом...
[...] Мне не хочется читать Вам проповедь в ответ на Ваше милое письмо. Я тоже был когда-то молод, и для меня слово «бороться» тоже имело ликующее и благородное звучание - в 1914 году мир принудил меня основательно обо всем этом задуматься, и эти раздумья растянулись на годы. «Борьба» - это как раз то самое, что, несмотря на различие формулировок, объединяет Вас с нацистами.
Европеец, и в особенности наиболее глупая, дикая и воинственная его разновидность - человек «фаустовского» типа (то есть немец, который с помощью хвастовства превращает свои низости в добродетели), чрезвычайно любит и превозносит всяческую борьбу, драчливость для него - добродетель, и в этом есть даже нечто по-детски милое и трогательное. Когда крестьянские сыновья от полноты сил и крови колотят друг друга, а порой даже забивают друг друга насмерть - все это милый ребяческий спорт. Но когда то же самое делают организованные орды (читай: нацисты), это выглядит менее привлекательно. Но худшая форма «борьбы» - это когда она организована государством, как это обрушилось на нас в 1914-м, а также имеющая к тому прямое отношение философия государства, капитала, промышленности и «фаустовского» человека, который изобрел все эти вещи.
С тех пор как «борьба» потеряла для меня свое притягательное волшебство, мне стало мило все невоинственное, благородно страдающее, наделенное спокойным превосходством, и так я обрел путь от борьбы к страданию, обрел понятие «терпение», смысл которого вовсе не только негативный, обрел понятие «добродетель», которое всегда однозначно - от Конфуция до Сократа и христианства. «Мудрец», или «Совершенный», в древних китайских сочинениях - это то же, что «благой» человек у древних индийцев и у Сократа. Его сила не в том, что он готов нанести смертельный удар, но в том, что он готов умереть от смертельного удара. Отсюда произрастает всякое благородство, всякая человеческая ценность, всякая совершенная чистота и неповторимость деяния и жизни, от Будды до Моцарта.
У нас уже три недели лежит снег, снежный покров достиг толщины более метра, сейчас он немного потоньше - день ото дня на него светит солнце. Наш климат особенно оправдывает себя в эти зимние месяцы. Он отличается от севера не большим количеством тепла, а большим количеством света. [...]
Рудольфу Якобу Хумму[1], Цюрих
Середина марта 1933
[...] Изменение Вашей точки зрения и Ваших мыслей я могу понять. Мне знаком призыв, что зовет нас к массе и к общей борьбе, и я не раз был близок к тому, чтобы за ним последовать. Во время немецкой революции я был безоговорочно на стороне революции... Кроме того, у меня много друзей среди левых, и самые близкие друзья как раз среди немецких левых. Кровати приготовлены и в моем доме, и я ожидаю завтра первого ускользнувшего из Германии гостя.
Но мое отношение к несправедливому порядку и мои взгляды на изменение оного несколько иные. Война 1914-1918 годов была для меня столь сильным переживанием, что это привело меня почти на край гибели, и с тех пор я обрел полную и незыблемую ясность. Что касается меня, то я отрицаю и не поддерживаю всякое изменение мира путем насилия, даже если оно социалистическое, даже если оно, по видимости, желанное и справедливое. Всегда убивают не тех, а даже если и тех, в улучшающую и искупительную силу убийства я давно уже не верю, и хотя в обострении партийных стычек до состояния гражданской войны вижу твердость намерений, моральную нетерпимость: «или-или», - но насилие я все же отвергаю. Мир страдает от несправедливости, это так. Но еще больше он страдает от недостатка любви, человечности, братского чувства. Братское чувство, которое основывается на том, что тысячи маршируют рядом и несут оружие - все равно, идет ли речь о военных или о революционных рядах, - для меня неприемлемо.
Таково мое убеждение. Всякому другому я предоставляю свободу выбора, только ожидаю от него, если он со мной знаком, что он признает мою позицию неизбежной для меня или хотя бы мною обоснованной и ответственной...
[...] Я тоже прошел немалый путь и претерпел немало всяких изменений. Возможно, это путь Дон Кихота, во всяком случае, это путь страданий и осознания своей ответственности, он дал мне очень чуткую совесть, она стала проявляться в 1914 году (раньше она была благодушней), и если я теперь сознательнее, чем когда-либо, одиночка и «мечтатель», то я это полностью осознал и вижу в этом не только проклятие, но и службу. У меня есть своя форма общения и социальных связей. Я получаю ежегодно тысячи писем, все они от молодых людей, преимущественно до двадцати пяти лет, и очень многие из них ищут со мною личной встречи. Все это, почти без исключения, одаренные, но трудные молодые люди, предназначенные для большего, чем обычный, уровня индивидуализации, сбитые с толку ярлыками нормированного мира. Иные из них типы патологические, но другие настолько, замечательны, что именно на них основывается вся моя вера в дальнейшее существование немецкого духа.
Для этого меньшинства, для этих частично находящихся в опасности, но живых юных умов я не пастырь и не врач, у меня нет для того ни достаточного авторитета, ни амбиций, но каждого из них, насколько мне хватает чуткости, я укрепляю в том, что отделяет его от нормы, стараюсь показать ему смысл такой позиции. Я никого не отговариваю вступать в какую-либо партию, но каждому говорю, что, если он сделает это в слишком юные годы, он рискует не только продать свое собственное суждение за приятность быть окруженным товарищами, но... (фраза прервалась из-за прихода гостя, начинаю сначала): но я указываю каждому, будь это даже мои собственные сыновья, что принадлежность к партии и верность программе не могут быть игрой, поскольку должны обрести силу обязательности. А это значит, что, если уж человек принимает революцию, он не только должен служить ей душой и телом, но должен быть готов и стрелять, и убивать ради своего дела, пускать в ход пулеметы и газы. Я часто даю молодым людям для чтения сочинения левых революционеров, но, когда об этом заходит речь и начинается безответственная ругань буржуазии, государства, фашизма (которых я, естественно, сам охотно послал бы к черту), я напоминаю о вопросе совести: о том, что придется быть готовым к убийству, и не только к убийству тех, кого знаешь как преступников и ненавидишь, но к убийству вслепую, к стрельбе в безымянную людскую массу. Я со своей стороны к этому не готов ни при каких обстоятельствах, и я христианин в том, что в крайнем случае предпочту быть убитым, но не убийцей, хотя в решении этого последнего вопроса совести я никогда не пытался ни на кого влиять, даже на моих сыновей.
Через час я ожидаю известного антифашистского писателя, а завтра первого беженца из Германии. Волны докатываются до нас, и я не могу от них уклониться, как и в 1914-м. Только теперь я увереннее сужу о своей личной совести...
Последний раз мне пришлось это проверить во время немецкой революции, когда мне предложили заняться некоей деятельностью. При всей симпатии к Ландауэру[2] я остался в стороне. И сейчас я все еще продолжаю стоять в стороне, что, с Вашей точки зрения, вероятно, застой, болото. Но для меня это было и есть каждодневная жизнь, движение, проверка.
Томасу Манну
21 апреля 1933
Дорогой господин Манн,
с радостью увидел я в цюрихской газете статью Шу[1] (которого давно ценю) и полагаю, что и Вам она доставила удовольствие.
Ваша теперешняя ситуация[2] очень глубоко меня затрагивает по ряду причин. Частью потому, что во время войны я сам пережил нечто похожее, результатом чего для меня явился не только полный отказ от официальной Германии, но и пересмотр моих представлений о функции духа и вообще о поэзии. У Вас многое, конечно, иначе, чем тогда у меня, но общим мне кажется душевное переживание: необходимость расстаться с понятиями, которые очень любил и долго питал собственной кровью.
Я не собираюсь и не хочу говорить Вам по этому поводу иных слов, кроме выражения искренней симпатии. Я понимаю также, что Ваше теперешнее положение отличается от моего тогдашнего. Оно тяжелее - даже потому, что Вы сейчас значительно старше, чем был я в годы той войны.
Но из всего этого я вижу для Вас и для нас единственный путь: из немецкого в европейское и из актуального во вневременное. С этой точки зрения я не могу считать непереносимым крах немецкой республики и тех надежд, что Вы на нее возлагали. Рухнуло нечто, в чем не было истинной жизни. И это будет плодотворной школой для немецкого духа, когда он снова встанет в открытую оппозицию официальной Германии.
Я надеюсь, что мы скоро увидимся, и дети тоже.
Томасу Манну
После Троицы, 1933
Дорогой господин Манн,
мы искренне были рады получить от Вас известие, спасибо Вам за Ваше милое письмо! Очень сожалею о неудаче с Базелем[1]; сам не знаю почему, но я воспринимал это как некоторое соседство.
Что касается специфически немецкой формы любви к отечеству, то она представляет нам сегодня удивительные и трогательные примеры. Есть немало выброшенных из Германии евреев и коммунистов, среди которых и те, кто одержал славные победы в приобщении к коллективной позиции несентиментального героизма. И вот теперь, едва пожив на чужбине, они пребывают в состоянии неуверенности, прямо-таки изнывают от трогательной тоски по родине. Я могу их понять, когда вспоминаю о том, как тяжело было мне в годы войны и сколько времени понадобилось, чтобы вытравить из себя сентиментальную часть своей любви к Германии.
Обо всех вас мы здесь часто и сердечно вспоминаем. Со времени Вашего отъезда было много гостей, даже слишком много, но, не говоря уж о безусловной симпатии, мало с кем я ощущал такое родство, как с Вами, особенно в Вашем отношении к Германии. Даже манера, в которой Вам наносятся оскорбления, знакома мне со времен войны, и сейчас еще, читая литературные и книгоиздательские журналы, я время от времени встречаю подобные голоса.
Должен признаться, что на сей раз я не принимаю немецкие события так близко к сердцу, как во время войны, я не страшусь за Германию и не стыжусь за Германию, меня это попросту мало трогает. Чем больше становится лозунгом единство с господствующей идеологией, тем крепче моя вера в органическое начало, в правомочие и необходимость также и таких функций, которые ненавистны коллективному сознанию. О том, являются ли мои мысли и поступки немецкими, судить не берусь. Из своего германства вылезти не могу и верю, что мой индивидуализм и мое сопротивление, моя ненависть к известным немецким аллюрам и фразам - все это тоже функции, отправляя которые я служу не только себе, но и своему народу.
Всем Вашим сердечнейшие приветы! Здесь стоит засуха, мы просто изнемогаем от таскания садовых леек, но сейчас наконец прошел хороший дождь, и можно ходить мимо грядок без угрызений совести. У нас прибавление семейства, две молодые кошки принесли котят, Нинон их обихаживает и кормит.
Добрые пожелания от Вашего...
Томасу Манну
Середина июля 1933
Дорогой господин Томас Манн,
Ваш сын Михаэль написал мне милое письмо, свой ответ я прилагаю. Наши жены тоже обменялись письмами, теперь очередь за мной, хотя в последнее время дел очень много; но я часто думаю о Вас, и в последнее время мне постоянно о Вас напоминают. Это в связи с историей Фидлера в Альтенбурге[1], о процессе которого Вы, верно, знаете. Затем у нас был Бруно Франк[2], который говорил о Вас так прекрасно, почтительно и с таким знанием дела, что радостно было слушать; я живо вспоминал мою первую встречу с Франком, где-то в 1908-м, уже тогда Вы были для него путеводной звездой и примером. Итак, то одно, то другое возвращает меня к Вам, и многие наши разговоры звучат во мне и поныне.
Мне немного жаль, что во время Вашего пребывания у нас я не преодолел своей робости и не ознакомил Вас с предисловием к своей книге[3], над которой я начал работу два года назад. Уже год, как оно написано, и так точно предугадывает сегодняшнее состояние немецкого духа, что, перечитывая его на днях, я был почти испуган.
Сразу же после Вашего отъезда я решил обратиться на некоторое время к Вашим книгам, из которых «Будденброков» и «Королевскую свадьбу» не перечитывал уже много лет. При состоянии моих глаз это, конечно, дело непростое, но вот мы приступили, и уже несколько дней «Будденброки» - наше ежевечернее чтение, моя жена читает с увлечением, и часто Вы весь вечер проводите с нами.
Моя роль в Германии и в тамошней литературе на сей раз, по крайней мере пока, более приятна, чем Ваша. Официально я остался незапятнанным. В обращениях к гитлеровской молодежи, где ее призывают читать своих немецких писателей, я не нахожу своего имени ни среди рекомендованных Кольбенхайеров[4], ни среди «бульварных писателей», от которых предостерегают. На сей раз меня забыли, и я это очень ценю, понимая, однако, что все это лишь по недосмотру и со дня на день положение может измениться.
Удивительны для меня письма из рейха, которые я получаю от сторонников режима, все они явно написаны людьми, у которых жар, температура не ниже 42 градусов, все они в громких выражениях восхваляют единство, даже «свободу», которая царит ныне в рейхе, и в следующих же строках с яростью пишут о жалкой кучке подонков, католиков или социалистов, которым-де теперь «покажут». Это военная и погромная истерия, состояние ликующего и тяжелого опьянения, это тона 1914 года, но без возможной тогда наивности. Все это будет стоить большой крови и многого другого и уже пахнет всяческой скверной. [...] Желаю Вам перенести все это, а нам желаю как можно скорее увидеться.
Прошу Вас передать мой самый большой привет Вашей жене и Меди! Искренне Ваш...
Госпоже Берте Марквальдер[1], Баден
Осень 1933 или 1934
Дорогая госпожа Марквальдер,
сердечно благодарю Вас за Ваше милое письмо, которое очень меня обрадовало. Конечно, я приеду, и с большой охотой, но речь может идти только о ноябре. В октябре отпуск у моей жены, в этом году она его особенно заслужила, поскольку у нас было необычно много гостей и посетителей. Кроме того, в октябре я должен многое еще сделать в саду и в доме, а также ожидаю в гости одного из своих сыновей. Но в ноябре я с удовольствием извещу Вас о своем приезде.
Постараюсь, как Вы того желаете, прибыть в самом миролюбивом настроении. Однако в Вашем письме, милая госпожа Марквальдер, Вы утверждаете нечто совершенно неправильное: Вы говорите, что я всегда был «среди врагов Германии»! Но почему? Потому лишь, что я нередко выступал против политики Германии? Но у народа есть не только его политика, у народа есть его душа, культура, ландшафт, язык, история и воспоминания, его наследие в области духа и искусства. Со всем этим я, с тех пор как живу на свете, связан самым непосредственным образом всем трудом своей жизни и как поэт, и как критик. Уже много лет едва ли не половина моей работы состоит в чтении и в ответе на письма, которые я получаю из Германии, главным образом от молодых людей, которые обращаются ко мне со своими бедами и надеждами, идеалами и сомнениями. Стоило ли мне делать всю эту, часто такую ответственную и изнурительную работу, чтобы в конечном итоге на меня теперь смотрели как на «врага Германии»? Но ведь это и в самом деле не так. И если я порицаю порой, как, впрочем, и Вы сами, иные неслыханно жестокие и дурацкие акции нынешнего режима (я делал это уже перед войной, при кайзере), то это проистекает вовсе не из вражды, но из любви. Народ имеет своих мыслителей, поэтов и писателей, не для того, чтобы они ему льстили и оправдывали все его дурные выходки и капризы, это совершенно неверное понимание наших задач. Короче, Вы совсем не найдете во мне германофоба.
Вильгельму Гундерту[1], Токио
11 февраля 1934
[...] Моя реакция на политические события года была спокойной и нейтральной, я двадцать два года живу в Швейцарии, и я швейцарец, и в качестве такового далек от национализма. Что в такие времена необходимо, как ты выражаешься, «быть со своим народом», вероятно, правильно, но делать это можно по-разному. Если поддерживать каждый большой крик собственным криком и отвечать ненавистью на всевозможные погромы, затеваемые против евреев и духа, против христианства и человечности, то вряд ли поможешь этим своему народу, для «народа» «великие времена» - это всегда времена ненависти и готовности к войне. Мы, люди духа, не должны принимать в этом участия, мы должны молчать, покуда возможно, далее если впадем за это в немилость, и должны хотя и стоять за свой народ, но не быть рабами его страстей, его жестокостей, его низости, не для того мы существуем на свете.
Быть может, до тебя уже дошло мое стихотворение «Раздумье», это довольно резко сформулированный символ веры весьма далекий от «немецкого» христианства наших дней, которое отрицает примат духа, ибо опьянено религией «расы» [...]
Правлению ПЕН-клуба[1] в Лондоне
23 июня 1934
Милостивые господа,
позвольте мне обратить ваше внимание на немецкого коллегу, писателя весьма замечательного и тяжело бедствующего в настоящий момент, чьи произведения обладают высокими человеческими и литературными достоинствами и кого ваши попечения о жертвах немецкого кризиса, как мне сказали, до сих пор еще не коснулись. Это поэт и публицист Артур Холичер[2]. Его романы, начиная с «Отравленного источника», который вышел впервые вскоре после 1900 года, обеспечили автору место в немецкой литературе, и, по мере того как Холичер все более обращался к социальным проблемам и выступал за их решение в коммунистическом духе, он сделался адвокатом и защитником бедняков и бесправных. Я не являюсь ни его соратником по партии, ни его земляком (Холичер - венгр по рождению, а я - швейцарец), но я его коллега и его читатель на протяжении трех десятилетий, и теперь, когда Холичер сам оказался в числе бедняков и бесправных, когда его книги под запретом, а его имущество и орудия труда в Берлине конфискованы, когда само его существование под угрозой и он лишился даже собственных книг, теперь, как мне кажется, он непременно должен быть среди тех коллег, которые нуждаются в вашем дружеском участии и его достойны. Его книги непременно должны пополнить вашу библиотеку эмигрантской литературы, а сам он должен быть представлен среди тех жертв политического режима, знать которых и по возможности помогать им стало бы вашим долгом.
Простите мне, человеку стороннему, который не принадлежит ни к какой организации и даже не является членом вашего клуба, что я позволил себе таким образом привлечь ваше внимание.
С почтением преданный вам...
Д-ру К.-Г. Юнгу, Кюснахт
Сентябрь 1934
Высокочтимый господин д-р Юнг,
Вы доставили мне радость своим письмом, и я благодарю Вас за это. Что касается моего «острого взгляда», о котором Вы говорите, то вряд ли это оправданно. В целом я меньше склонен к выделению частностей и к анализу, чем к созерцанию целого, к гармонии.
То, что Вы пишете о сублимации, затрагивает самую суть нашей проблемы и объясняет мне также и различие между Вашим и моим пониманием. Все начинается с обычной для наших дней языковой путаницы, когда каждый употребляет каждое обозначение совершенно по-разному. Для Вас слово sublimatio [Возгонка (хим.), от лат. sublimare - возносить] относится к области химии, тогда как Фрейд понимает его несколько иначе. Также и я подразумеваю под ним нечто иное. Возможно, sublimatio - это действительно из химии, я этого не знаю, но sublimis [Высокий, возвышенный (лат.)] (и особенно sublimare) принадлежит уже не к какому-либо эзотерическому языку, но к классической латыни.
Обо всем этом можно было бы легко договориться. На сей раз, однако, за различием в терминологии стоит и нечто реальное. Я разделяю и одобряю Вашу трактовку фрейдовской сублимации, я вовсе не защищаю фрейдовскую сублимацию вопреки Вам, но я отстаиваю лишь само понятие, ибо для меня оно весьма важно, поскольку связано с развитием всей культуры. И здесь наши с Вами взгляды, безусловно, различны. Для Вас, как для врача, желательна всякая сублимация, то есть переключение влечений в область неконкретного их применения. Для меня сублимация - это тоже в конечном итоге «вытеснение», но я употребляю это возвышенное слово только там, где мне кажется позволительным говорить о «плодотворном» вытеснении, то есть о воздействии влечения хотя и в области непрямой, но в культурном отношении важнейшей, например в области искусства. Так, историю классической музыки, например, я считаю историей выразительности и техники, на протяжении которой целые когорты и поколения мастеров, чаще всего об этом не подозревая, переключали свои влечения в область, которая вследствие этого, на основе этих подлинных «жертв» достигала совершенства, становилась классикой. Такая классика, по мне, стоит любой жертвы, и если, к примеру, классическая европейская музыка на своем стремительном пути к совершенству от 1500 года до XVIII века проглатывала своих мастеров, более похожих на служителей, чем на жертвы, зато она всегда излучала свет, утешение, мужество, радость, зато она является для тысяч людей, которые даже этого порой и не сознают, школой мудрости, отваги, искусства жить и еще долго пребудет таковой.
И когда одаренный человек, частично используя энергию своих влечений, создает подобные вещи, я считаю его существование и его деятельность в высшей степени ценными, даже если он как индивид обладает патологическими чертами. Но вот что кажется мне непозволительным во время психоанализа: уход в кажущуюся сублимацию, ибо сублимация представляется мне позволительной и даже чрезвычайно желанной, лишь когда она результативна, когда жертва приносит плод.
Именно по этой причине психоанализ так труден и опасен для художников, ведь тому, кто относится к нему серьезно, он с легкостью может запретить творчество на всю жизнь. Если это произойдет с дилетантом, тогда все хорошо, но если бы это случилось с Генделем или Бахом, то, по мне, лучше бы не было никакого психоанализа, но мы сохранили бы Баха.
Внутри нашей категории, внутри искусства мы, художники, и совершаем истинную сублимацию, и не из честолюбия, не по волевому приказу, но из благодати - при этом, конечно, имеется в виду совсем не тот «художник», каким его воображают народ и дилетант, но тот, кто истинно служит, и Дон Кихот, который сидит в Безумном Рыцаре, является жертвой.
Вот на этом я хочу кончить. Я не психоаналитик и не критик; если Вы, к примеру, просмотрите обзор книг, который я Вам посылаю, Вы убедитесь, что я лишь чрезвычайно редко и мимоходом прибегаю к критике и никогда не выношу приговора, то есть книгу, которую я не могу принять всерьез и оценить положительно, я попросту пропускаю и обхожу молчанием.
Относительно Вас у меня всегда было инстинктивное чувство, что Ваша вера является подлинной, является тайной. Ваше письмо мне это подтверждает, и это меня радует. Для Вашей веры. Вы выбрали метафору химии, как я выбрал для своей метафору музыки, и не какой-либо вообще музыки, но классической. У Люй Бувэя во второй главе все, что об этом можно сказать, сформулировано достаточно определенно. Уже много лет, несмотря на внешние и внутренние помехи, я пряду свою поэтическую пряжу из волшебной нити, все точнее приближаясь к своему музыкальному образцу, и надеюсь еще дожить до того, что сумею что-нибудь из этого Вам показать.
Издательству «Филипп Реклам юниор», Лейпциг, предложившему мне внести некоторые, «обусловленные временем», изменения в мою «Библиотеку всемирной литературы»
13 декабря 1934
Высокоуважаемые господа,
я получил и обдумал ваше письмо относительно нового издания моей книжки в вашей «универсальной библиотеке» и с сожалением должен сообщить вам, что удовлетворить ваши пожелания не соглашусь.
На то имеются две причины, внешняя и внутренняя.
Внешняя причина, из-за которой я не могу сейчас заняться серьезной переработкой моей книжицы, - это состояние моего зрения и огромная загруженность: ежедневно с большим трудом я справляюсь лишь с самыми неотложными делами.
Так что для меня, к примеру, было бы сейчас просто невозможно вдруг заняться «Эддой», что-то о ней написать, немного сравнить переводы и т. д.
Не менее важны для меня и внутренние причины. Вы ведь знаете, что моя книжечка не есть и вовсе не претендует быть объективным, составленным с целью образования путеводителем по литературам, но это лишь мой личный опыт и мое отношение к тому, что я читал и извлекал для себя из чтения на протяжении пятидесяти семи лет. В этом опыте и в этом своем отношении я решительно ничего не хотел бы менять. Я не могу признать книги или авторов дурными лишь потому, что сегодня так принято, и я не вычеркну из моего сочинения вещи, которые мне важны и дороги, лишь потому, что это диктует конъюнктура.
Из такого затруднения я вижу только два выхода. Самый простой, на который я охотно соглашусь, состоит в следующем: после продажи нынешнего тиража вы возвращаете мне права на мое сочинение, и оно более не выходит.
Второй выход таков: вы перепечатываете мой прежний текст без малейших изменений, не считая исправления некоторых опечаток. Я мог бы тогда согласиться на то, чтобы из списка литературы к моей книжке вы изъяли те названия, которых сейчас уже нет в продаже, и их можно заменить столь же хорошими публикациями вашего издательства.
Но в этом случае я поставил бы категорическое условие, чтобы сверх того никаких изменений, например изъятия имен еврейских писателей и т. п., в списке литературы не производилось бы. Вы указали мне целый ряд таких желательных для вас изъятий, и я понимаю вашу точку зрения, но я ее не разделяю. В этом пункте уступки для меня невозможны.
Быть может, вы еще раз хорошо все обдумаете. Если вы примете мое предложение отказаться от нового издания и вернуть мне права, вы ведь сможете с помощью какого-нибудь историка литературы, более объективного, чем я, и более соответствующего духу времени, создать новый путеводитель по литературам, который заменит мою субъективную попытку.
Франц Кафка[1]
Кто впервые попадает в этот поэтический мир, в это необычное, своеобразное смешение еврейских теологических изысканий и немецкой поэзии, тот вдруг обнаруживает, что заблудился в царстве видений, то совершенно нереальных, то наделенных фантастической сверхреальностью; к тому же этот еврей из немецкой Богемии писал мастерскую, умную, живую немецкую прозу.
Эти сочинения напоминают страшные сны (так же как и многие книги французского писателя Жюльена Грина[2] - единственного из нынешних, с кем хоть отчасти можно сравнить Кафку). Они с необыкновенной точностью, даже педантизмом живописуют мир, где человек и прочие твари подвластны священным, но смутным, не доступным полному пониманию законам; они ведут опасную для жизни игру, выйти из которой не в силах. Правила этой игры удивительны, сложны и, видимо, отличаются глубиной и полны смысла, но полное овладение ими в течение одной человеческой жизни невозможно, а значение их, как бы по прихоти неведомой силы, царящей тут, постоянно меняется. Чувствуешь себя совсем рядом с великими, божественнейшими тайнами, но лишь догадываешься о них, ведь их нельзя увидеть, нельзя потрогать, нельзя понять. И люди говорят здесь по какому-то трагическому недоразумению мимо друг друга, непонимание, похоже, есть основной закон их мира. В них живет смутная потребность защищенности, они безнадежно запутались в себе и рады бы повиноваться, да не знают кому. Они рады бы творить добро, но путь к нему прегражден, они слышат зов таинственного бога - и не могут найти его. Непонимание и страх образуют этот мир, богатый населяющими его существами, богатый событиями, богатый восхитительными поэтическими находками и глубоко трогающими притчами о невыразимом, ибо этот еврейский Кьеркегор[3], этот талмудически мыслящий богоискатель всегда к тому же еще и поэт высокого таланта; его изыскания облечены в плоть и кровь, а его ужасные видения - прекрасная, часто поистине волшебная поэзия. Мы уже теперь чувствуем, что Кафка был одиноким предтечей, что адскую бездну кризиса духа и всей жизни, в которую мы ввергнуты, он пережил до нас, выносил в себе самом и воплотил в произведениях, которые мы в состоянии понять лишь сейчас.
Если задуматься о причине, по которой поэт незадолго до смерти так беспощадно осудил свой труд[4], исполненный с необыкновенной тщательностью и любовью, то найти ее нетрудно. Кафка принадлежит к одиноким, погруженным в проблемы своей эпохи людям, к тем, кому собственное их существо, их дух, их вера временами казались глубоко сомнительными. И с границы мира, который эти люди уже не считают своим, они глядят в пустоту, предчувствуя там, правда, божественную тайну, но временами их охватывают глубокие сомнения, они чувствуют невыносимость своего существования и, более того, неверие в человека вообще. Отсюда только шаг до решительного осуждения самого себя, и больной поэт сделал такой шаг, когда вынес смертный приговор своему труду.
Мы ничуть не сомневаемся в том, что найдется достаточно людей, согласных с таким приговором и придерживающихся мнения, что следовало бы избавить человечество от творений столь проблематичного, всеми отвергнутого художника. Но здесь мы отдадим должное его другу и душеприказчику, который спас этот удивительный при всей его хрупкости и сомнительности труд. Возможно, лучше, чтобы вообще не было людей, подобных Кафке, а также и эпох и обстоятельств жизни, которые порождают таких людей и такие произведения. Но простым устранением симптомов ни эпохе, ни обстоятельствам жизни не поможешь. Если бы труд Кафки и впрямь был уничтожен, то те читатели, которые обращались к нему из простой потребности образования, были бы избавлены от необходимости заглянуть в бездну. Будущее наступает не благодаря тем, кто перед лицом его думает закрыть глаза всем отчаявшимся. Показывать и осмыслять скрытые бездны - одна из задач литературы.
А Кафка отнюдь не был только отчаявшимся человеком. Разумеется, он часто впадал в отчаяние, так же как в свое время это случалось с Паскалем или Кьеркегором. Но он терял веру не в бога, не в высшую реальность, а в себя самого, в способность человека вступить с богом или, как он иногда говорил, с «законом» в истинное, полное смысла соприкосновение. В этом главная проблема всех его произведений, а романа «Замок» - в наибольшей степени. Там выведен человек, желающий служить и повиноваться кому-то, но он напрасно пытается привлечь к себе внимание господина, чьим слугой считает себя, хотя никогда его не видел. Содержание этих устрашающих сказок трагично, как и все творчество Кафки. Слуга не находит господина, жизнь его лишена смысла. Но мы чувствуем везде и всюду, что есть возможность их встречи, что слугу ждет милость и спасение - только герой сказки так и не обретает их, он еще не созрел для них, он слишком усердствовал, он сам все время преграждал себе путь.
«Религиозные» писатели (в смысле расхожей назидательной литературы) позволили бы бедняге найти свой путь, пострадав и помучившись немного вместе с ним и облегченно вздохнув при виде того, как он входит в нужную дверь. Кафка не ведет нас так далеко, зато он ведет в такие глубины замешательства и отчаяния, каких у современных художников и не найдешь - разве что у Жюльена Грина.
Этот ищущий, сомневающийся человек, пожелавший отречься от собственного труда, был поэтом высокого таланта, он обрел свой собственный язык, создал мир символов и притч, которыми сумел сказать доселе невысказанное. Если бы даже не существовало всего остального, что мы любим, и ценим в нем, его любили бы и ценили за одну только артистичность. Во многих его крохотных рассказах и притчах чувствуется такая проницательность, такое поистине колдовское сплетение линий, такое изящество, что на мгновение забываешь о заключенной в них печали. Счастье, что эти произведения дошли до нас.
Эти произведения, часто такие тревожные и так безмерно радующие, останутся не только документом нашего времени, запечатлевшим редкую высоту духа, отражением глубоких вопросов и сомнений, внушаемых нашей эпохой. Это еще и художественные создания, плод фантазии, творящей символы, порождения не только рафинированной, но и первозданной, истинной творческой энергии. Кроме того, содержанию всех этих сочинений, которые кто-то может счесть проявлением чрезмерной увлеченности, экзальтированности или просто патологии, всем этим весьма и весьма проблематичным и глубоко сомнительным ходам неповторимой фантазии чувство языка и поэтическая мощь Кафки сообщили волшебную красоту, придали благословенную форму.
Еврей по национальности, поэт, без сомнения, вольно или невольно принес с собою нечто из наследия, традиций, образа мыслей и оборотов речи евреев Праги и вообще Восточной Европы; его религиозность имеет бесспорно еврейские черты. Но образование, сознательно полученное им, выявляет большее, по-видимому, значение христианского и западного, чем еврейского влияния на него; и можно думать, что особенную свою любовь и пристрастие он отдал не талмуду и торе, а Паскалю и Кьеркегору. Пожалуй, в кругу кьеркегоровских вопросов бытия ни одна проблема не занимала его так долго и глубоко, заставляя страдать и творить, как проблема понимания. Вся трагедия его - а он весьма и весьма трагический поэт - есть трагедия непонимания, вернее, ложного понимания человека человеком, личности - обществом, бога человеком. В данном, первом томе сочинений короткая прозаическая вещь «Перед лицом закона» раскрывает эту проблематику едва ли не наиболее полно - об этой легенде можно потом размышлять днями напролет. Оба посмертно опубликованных романа, «Процесс» и «Замок», связаны с ней многочисленными нитями.
Среди произведений, созданных в наш истерзанный страданиями век, среди этих младших братьев книг Кьеркегора и Ницше будет жить удивительный труд пражского поэта. Он обратился к тягостным раздумьям и страданию, он ясно говорил о проблемах своего времени, зачастую - пророчески ясно, а в своем искусстве он вопреки всему оставался божьим избранником, владея волшебным ключом, которым он открыл для нас не одно только замешательство и трагические видения, но и красоту, и утешение.
1935
«Процесс»
Вот еще одна редкостная, захватывающая, дарящая радость книга! Она, как и все произведения поэта, представляет собой сплетение тонких нитей грезы, умело сконструированный вымышленный мир, выполненный с таким изысканным умением, с такой напряженной силой воображения, что возникает жуткая, напоминающая отражение в вогнутом зеркале мнимая реальность. Поначалу она действует, как ужасный сон, подавляя и устрашая, пока читатель не постигнет тайного смысла этого сочинения. Тогда прихотливые, фантастические произведения Кафки начинают излучать утешение, ибо смысл его поэзии совсем не тот, о каком можно подумать, видя необыкновенную тщательность этой ювелирной работы; смысл ее - не в искусстве исполнения, а в религиозном чувстве. Произведения эти дышат кротостью, пробуждают покорность и благоговение. Так же и «Процесс». Ни о чем не подозревавшего, безвинного человека однажды утром задерживают в его собственной квартире и принуждают исполнить множество нелепых канцелярских формальностей; его допрашивают, запугивают, то освобождают, то вызывают вновь. Похоже, какое-то незримое, устрашающее секретное ведомство замешано в этом мучительном процессе, который начинается со вздора и с забавы, но постепенно становится все серьезнее, заполняя и иссушая целую жизнь. Ибо речь здесь не о том или ином отдельном прегрешении, из-за которого обвиняемый оказался перед судом, а об извечной греховности всякой жизни, что искупить невозможно. Большинство обвиняемых осуждены в этом бесконечном процессе, немногих счастливчиков полностью оправдывают, остальных же осуждают «условно», то есть в любой момент против них может быть возбуждено новое дело, может последовать новый арест. Короче, этот «процесс» - не что иное, как греховность самой жизни, а «осужденные» - в отличие от невиновных - те подавленные, полные предчувствий люди, у которых от одного взгляда на эту греховную жизнь щемит сердце. Но они могут обрести спасение, идя стезей покорности, кротко принося себя в жертву неизбежному.
Такое учение о жизни возвещает «Процесс», причем не с помощью разъяснений и грубых аллегорий, а единственно средствами истинной поэзии. Читателя увлекает атмосфера призрачного, нереального мира, он оказывается втянутым в сложное переплетение сновидений и чувствует - но как бы издали, не пробуждаясь окончательно, - что в картинах этого фантастического мира грез он увидел и познал землю, ад и небо.
1925
«Процесс», эта зловещая книга включает в себя и небольшой рассказ, который известен под названием «Перед лицом закона». Читая «Процесс», легко, видимо, испытать на себе то состояние души, в котором Кафка решил избавить мир от всех своих трудов и уничтожить их. Здесь преобладает атмосфера страха и одиночества, невыносимая не только для филистера, в ней нелегко дышать и посвященному; здесь видна склонность к фатализму, который всякому человеку преграждает любой доступ к божеству, кроме мужественного приятия неизбежного. Не удивительно, что такой умный, хрупкий и так ясно сознававший свою ответственность человек, каким был Кафка, мог вдруг счесть свои произведения и некоторые мысли разрушительными, вредоносными. Но мы чрезвычайно благодарны за то, что дело до уничтожения не дошло, что этот неповторимый, зловещий, предостерегающий и достойный преклонения труд смертельно больного поэта был сохранен для нас. Сожжением рукописей и оперативным удалением симптомов болезни века не излечить, это станет лишь уловкой, приведет к вытеснению и помешает зрелому и мужественному пониманию проблемы. Франц Кафка был не только поэтом с редкостно острым взглядом, но также и кротким, верующим человеком, правда, одним из тех сложных людей, к типу которых принадлежал Кьеркегор. Его фантастика - страстное постижение реальности, настойчивая постановка глубинных вопросов бытия.
1933
Основная проблема Кафки - отчаянное одиночество человека, конфликт между глубоким, страстным желанием понять смысл жизни и сомнительностью любой попытки наделить ее таковым - исследована в этом великолепном, увлекательном романе с проницательностью, от которой приходишь в отчаяние, это устрашающее и почти жестокое произведение.
Но в гнетущем, по сути дела, лишающем надежд романе каждая деталь несет в себе столько красоты, столько нежности и тонких наблюдений, дышит такой любовью и выполнена с таким искусством, что злые чары обращаются в благие, неизбывная трагедия бессмысленности существования оказывается проникнутой предчувствием благости и внушает мысли не кощунственные, а смиренные.
1935
«Америка»
Издание полного собрания сочинений Кафки решительно движется вперед, и похоже, что влияние поэта, умершего одиннадцать лет назад, которое до сих пор ограничивалось тесным кругом людей, распространяется все шире и шире. Из трех незаконченных романов Кафки на одну и ту же тему - об одиночестве современного человека, об удаленности божества и поисках спасения «Америка» наиболее светлый, добрый, умиротворяющий. Герой его даже не мужчина, а почти мальчик; и все в этом произведении, которое Кафка особенно любил, стремится к разрешению диссонансов, распутыванию сложностей и умиротворению. Но и здесь есть главы и страницы, где мы находим душную, устрашающую атмосферу грез, и здесь герой попадает в полный опасностей, глубоко враждебный, непонятный и в основе своей бессмысленный мир. В первой главе (напечатанной еще при жизни Кафки) рассказывается о том, как шестнадцатилетний мальчик, готовясь сойти с корабля в Нью-Йорке, стоит на палубе со своим чемоданом и вдруг обнаруживает, что оставил на твиндеке зонт. Он вверяет чемодан незнакомому человеку и отправляется на поиски зонта. Но сам теряется на огромном корабле, врывается в чужие каюты и чужие судьбы. При этом он все более и более убеждается в том, что окончательно потерял чемодан, - это напоминает жуткий сон и сцены из «Голема» Мейринка[5]. Но молодость и наивность, доброта и привлекательность мальчика, попавшего в беду и вынужденного самому пробиваться в Америке, делает все в этом романе светлее, радостнее, живее, чем в любом другом сочинении Кафки.
1935
«Замок»
Из трех незавершенных романов Кафки (два из них, в том числе и «Замок», почти окончены) читателю более всего полюбится «Замок». В противоположность устрашающему «Процессу» в этом своеобразном романе, или скорее длинной сказке, где, несмотря на все пугающее и проблематичное, царит тепло и мягкий колорит, есть нечто от игры и милосердия; все произведение вибрирует от напряжения и неизвестности, в которых отчаяние и надежда находят разрешение и уравновешивают друг друга. Все сочинения Кафки в высшей степени напоминают притчи, в них много поучения; но лучшие его творения подобны кристаллической тверди, пронизанной живописно играющим светом, что достигается иногда очень чистым, часто холодным и точно выдержанным строем языка. «Замок» произведение как раз такого рода. И здесь речь идет о проблеме, важнейшей для Кафки: о сомнительности нашего существа, о неясности его происхождения, о боге, что скрыт от нас, о шаткости наших представлений о нем, о попытках найти его либо дать ему найти нас. Но то, что в «Процессе» было твердым и неумолимым, в «Замке» оказывается более податливым и радостным. Когда в последующие десятилетия придет пора отбора и оценки произведений 20-х годов, этих сложных, смятенных, то экстатических, то фривольных творений глубоко потрясенного, многострадального поколения писателей, книги Кафки останутся среди тех немногих, что пережили свое время.
1935
В Германии должно все-таки быть еще несколько человек, которые способны порадоваться, отдавая должное какому-либо поэтическому произведению; даже если они лишь легенда, я обращаюсь к этой легендарной общине и ручаюсь, что в «Замке» Кафки она обретет истинную драгоценность. Должно же, в самом деле, существовать еще несколько настоящих читателей. А если они и в самом деле найдутся, то обнаружат в этом романе не одно колдовство и богатство фантазии, но и немецкую прозу, неповторимую в своей чистоте и строгости.
1935
«Голодарь»
«Голодарь» - одно из самых прекрасных и трогательных сочинений Кафки, эфирное, как мечта, точное, как логарифм. После «Сельского врача» и «Исправительной колонии», этих шедевров, которые несколько лет назад обратили на себя внимание, «Голодарь» - самая, пожалуй, истинная, проникновенная, благоуханная вещь этого мечтательного и добродетельного человека, который к тому же стал непостижимым мастером и повелителем царства немецкого языка.
1925
Этот пражский еврей Кафка, умерший в 1924 году, приводит в замешательство и восхищение каждого, кто впервые обращается к его книгам. Правда, иных в нем многое пугает и отталкивает. Меня он не перестает волновать с тех пор, как восемнадцать лет назад я впервые прочитал один из его волшебных рассказов. Кафка был читателем и младшим братом Паскаля и Кьеркегора, он был пророком и жертвой. Об этом одержимом художнике, писавшем безупречную немецкую прозу, об этом до педантизма точном фантасте, который был нечто большее, чем просто фантаст и поэт, будут размышлять и спорить и тогда, когда забудется большая часть того, что сегодня мы считаем немецкой литературой нашего времени.
1935
«Дневники и письма»
Даже если бы этот том не состоял сплошь из одних прежде не публиковавшихся вещей, он все равно стал бы литературным событием. Когда в 1924 году, после ранней смерти Кафки, его друг Макс Брод взялся за издание части наследия покойного, случилась большая сенсация: до этого момента Кафка, даже для тех немногих, кто вообще знал о нем, был мастером малых форм, чрезвычайно одаренным и немного странным виртуозом короткого рассказа, напоминающего сказку или притчу, крайне тщательным, утонченным стилистом и созерцательным умом. А тут стали появляться большие посмертные произведения - законченный роман и два фрагмента, исполненные мощи и одинокого величия, настоящие битвы с тайнами искусства и жизни. От них исходит плодотворное для многих воздействие потрясающей силы, от них струится свет, который никогда не погаснет. Эти великие, таинственные произведения о страданиях человечества их создатель обрек на уничтожение. Он запретил их публикацию, и, если бы Макс Брод не имел никаких иных заслуг перед Кафкой, кроме той, что нашел мужество опубликовать его наследие вопреки такому запрету, за одно это он заслужил бы признательность своего поколения. Вскоре после публикации трех романов он приступил к изданию полного собрания сочинений; и вот теперь, несмотря на крайне неблагоприятные времена, на запрет в Германии, оно завершилось выходом в свет шестого тома.
Дневники надолго займут будущих биографов и исследователей. Вместе с кратким послесловием Брода и скудным перечнем биографических дат этот том дает внимательному читателю ясное представление об основных вехах биографии писателя, как внешней, так и внутренней. Порой наталкиваешься на подлинную исповедь поэта. В наброске письма к отцу возлюбленной находишь, например, следующее: «Моя должность невыносима для меня[6], поскольку она не совместима с единственной моей потребностью и единственным призванием - литературой. Так как я только литератор и никем другим быть не могу и не хочу, моя должность никогда не сможет увлечь меня, она лишь может вконец выбить меня из колеи. И я недалек от этого». Для понимания психологии поэта и творчества вообще важны некоторые места из дневников, вроде строк, касающихся объективизации боли, или удивительных «Набросков автобиографии», или жалоб в одном из писем к Поллаку[7]. Там, среди прочего, говорится: «Вот уже некоторое время я ничего не пишу, а это значит, что бог не хочет, чтобы я писал. Но я - я должен. Верх берет то одна, то другая сторона, но бог в конце концов оказывается сильнее, и в этом для меня куда большее несчастье, чем ты можешь предположить». Да, эта удивительная, мучительная до саморазрушения манера письма приносила много несчастья, но и много счастья, изведавшего бездны адских мук.
Имеет смысл привести еще одну фразу из письма к Максу Броду лапидарное выражение литературной добросовестности Кафки, его стремления к совершенству, этих бесконечных исправлений, вычеркиваний и переделок. Фраза, которую ни один писатель не сможет прочесть без содрогания, такова: «Слабые вещи так и оставить слабыми можно лишь на смертном одре».
1937
О толкованиях Кафки
Среди писем, с которыми мои читатели обращаются ко мне, есть определенная категория, постоянно увеличивающаяся численно, которую я воспринимаю как симптомы растущего интереса читателя к поэзии. Письма такого рода, написанные в большинстве своем молодыми читателями, обнаруживают увлеченность толкованиями и разъяснениями, авторы их ставят бесконечные вопросы. Они хотят знать, почему писатель избрал тут такой образ, а там иное выражение, что он «хотел» или «предполагал» сказать своей книгой; как он напал на мысль избрать именно данную тему. Они хотят узнать, какая моя книга кажется мне лучшей, какую больше всего люблю, какая яснее всего выражает мои взгляды и намерения; почему я относительно известных явлений и процессов в 30 лет высказывался иначе, нежели в 70, каково соотношение между Демианом и психологией Юнга либо Фрейда, и т. д., и т. д. Некоторые такие вопросы задают учащиеся высших учебных заведений, видимо находящиеся под влиянием своих преподавателей, но большая часть, кажется, порождена истинной, собственной потребностью, а все вместе они указывают на некоторое изменение в отношениях между книгой и читателем, что видно повсюду и в публичной критике. Радует активизация читателей; они больше не желают пассивно получать удовольствие, они хотят не просто проглотить книгу или вообще какое-то произведение искусства, а именно овладеть им, чтобы путем анализа усвоить его.
Но дело имеет и свою оборотную сторону: умствования и возвышенные разговоры об искусстве и поэзии обратились в спорт и самоцель, а от страстного желания овладеть ими путем критического анализа очень страдает элементарная способность увлечься, смотреть, слушать. Если кто-то довольствуется тем, что вызнал содержащиеся в стихотворении или рассказе мысли, тенденции, цели и назидания, то довольствуется он весьма немногим, а тайны искусства, его истины и подлинности просто не заметил.
Недавно один молодой человек - школьник или студент - прислал мне письмо с просьбой ответить на ряд вопросов о Франце Кафке. Он хотел узнать, считаю ли я «Замок», «Процесс», «Закон» Кафки религиозными символами; разделяю ли я мнение Бубера об отношении Кафки к своему еврейскому происхождению; усматриваю ли я некое родство между Кафкой и Паулем Клее[8], и еще кое-что. Мой ответ был таков:
Дорогой господин Б. [...] К сожалению, должен весьма и весьма разочаровать Вас. Ваши вопросы и весь строй Вашего отношения к поэзии, право, не удивляют меня. У Вас тысячи сходно мыслящих коллег. Но Ваши вопросы, все без исключения неразрешимые, имеют источником одну и ту же ошибку.
Рассказы Кафки - не статьи о религиозных, метафизических или моральных проблемах, а поэтические произведения. Кто в состоянии просто читать поэта, то есть не задавая вопросов, не ожидая интеллектуального либо морального результата, кто готов воспринять то, что дает этот поэт, тому его произведение даст ответ на любые вопросы, какие только можно вообразить. Кафка сказал нам нечто не как теолог либо философ, но единственно как поэт. А если его величественные произведения вошли теперь в моду, если их читают люди, не способные и не желающие воспринимать поэзию, то он в этом невиновен.
Для меня, принадлежащего к читателям Кафки со времен ранних его произведений, Ваши вопросы не содержат в себе ничего. Кафка не дает никакого ответа на них. Он принес нам мечты и видения своей одинокой, тяжелой жизни, притчи о пережитом, о бедах и счастье; и именно эти мечты и видения есть то, что мы можем воспринять от него, а не те «толкования», какие дают его сочинениям остроумные интерпретаторы. Эти «толкования» - своего рода игра интеллекта, часто очень милая игра, принятая умными, но чуждыми искусству людьми, которые могут читать и писать книги о негритянской скульптуре или атональной музыке, но никогда не найдут доступа к глубинам произведения искусства. Они словно стоят перед дверью, перепробовали сотню ключей, но не видят, что дверь-то не заперта.
Такова примерно моя реакция на Ваши вопросы. Я отвечаю Вам, потому что вижу в Вас серьезного читателя Кафки.
1956
В немецкую инстанцию, потребовавшую от Германа Гессе свидетельство об арийском происхождении
15 марта 1935
Многоуважаемые господа,
вы послали мне «заявление арийца» с требованием подписать эту бумагу. Возможно, это просто ошибка, так как я швейцарец и состою также в союзе швейцарских писателей, и мы получали от ваших властей заверение в беспрепятственном сотрудничестве, подобно тому как наши газеты и сцены открыты для наших немецких коллег из рейха.
Однако у меня уже есть некоторый опыт в том, что ваши официальные учреждения подчас не держат своих обещаний и обязательств. Например, ваше правительство подписало со Швейцарией договор о двойном налогообложении; согласно этому договору, наши гонорары, поскольку мы облагаем их налогом в Швейцарии, не подлежат налогообложению в Германии. Тем не менее вопреки всякому праву из наших платежей на радио автоматически вычитают десять процентов налога, как с иностранцев.
Мы миримся с этим по необходимости, но мы этого не одобряем. Мы всякий день рады принять у себя в Швейцарии немецкое искусство и литературу, и Берлин в своем заявлении союзу швейцарских писателей решительно гарантировал нам, швейцарцам, те же права. Мы не требуем от немецких коллег, которых мы ценим, свидетельства об их арийском происхождении или о чем-либо ином и ожидаем от них того же. Поэтому я не подпишу «заявления» не потому, что я не ариец, а потому лишь, что это требование несовместно с нашим чувством и сознанием швейцарцев.
С почтением...
Господину X. M., Кобленц
Баден, 19 ноября 1935
[...] С Вами происходит то же, что со всеми: из моих книг и из любых книг Вы вычитываете то, что соответствует Вашему настроению и переживаемой Вами жизненной ступени, как растение высасывает из земли то, что необходимо ему для роста. И поскольку Вы молоды и находитесь в процессе становления, часто полны сомнений, тонко организованы и способны страдать, Вы прежде всего вычитываете из книг подтверждение Вашим бедам и сомнениям.
Для этого мои книги дают достаточно поводов. Я шел трудным путем самопознания; до «Паломничества в страну Востока» во многих моих книгах я говорил преимущественно о своих слабостях и трудностях, а не о своей вере, которая вопреки этим слабостям все же давала мне возможность и силу жить.
Если бы Вы на один час смогли освободиться от себя самого, то Вы вдруг заметили бы, что, например, в «Степном волке» выведен не только Галлер[1], но также и Моцарт, и Бессмертные. И Вы обнаружили бы в моих ранних повестях, в «Кнульпе», «Сиддхарте» и т. д. хотя и не догматически сформулированную, но все же веру. Сформулировать свою веру поэтически я попытался только в «Паломничестве в страну Востока», а напрямую я выразил ее в стихотворении, которым закончил свою поэтическую книжицу в издательстве «Инзель». Скоро уже четыре года, как я обдумываю план сочинения, в котором все это будет продолжено и выражено яснее.
По сути, я, конечно, не считаю необходимым всякий раз по-новому и по-своему формулировать основы истинной веры. Что есть и чем может стать человек, как ему освятить себя и свою жизнь и наполнить ее смыслом - об этом возвещают все мировые религии, об этом написано у Конфуция и у его кажущегося антипода Лао-цзы, в Библии и в «Упанишадах». Там сказано обо всем, во что человек может верить и чего он должен держаться.
Но тог факт, что, несмотря на это, мы испытываем нужду в подобного рода литературе, а также в подлинном свидетельстве, где подчеркивается слабое, сомнительное, грустное в человеческой жизни, оправдывает существование таких книг, как «Степной волк» и т. д. Вероятно, начиная с «Паломничества», моя позиция постепенно становится позитивнее. Но даже если она окончательно такой не станет, пусть лучше я буду воспринимать себя и свою жизнь как нечто болезненное, далеко не образцовое, но все же определенно положительное и исполненное веры.
Р. Я. Хумму, Цюрих
Баден, 10 декабря 1935
Дорогой господин Хумм,
в мой последний баденский день приходит Ваше письмо и доставляет мне истинную радость, так как я совсем не привык, чтобы работа, которой я посвящаю все свои дни, вызывала хоть какой-нибудь отклик. Но, значит, моя попытка высказаться о Вашей книжке в издательстве «Инзель» достигла Вас и порадовала и принесла мне отклик, который мне дорог, он несет мне немного света, и я его с охотой глотаю.
Не сомневаюсь, что при чтении отдельных мест Вы покачивали головой. Но, вероятно, Вы почувствовали и признали главное: что я не стремился быть более умным, судить или ставить отметки, а хотел лишь выразить, какую любовь пробудила во мне Ваша книга. Этого довольно.
Есть в Вашей книге и в Вашем письме нечто, на что у меня пока еще нет ответа. Я следил за «приватными» поисками истины в Ваших «Островах»[1] не только с участием и нередко с озабоченностью, но и с известной долей зависти. Дело в том, что сам я за последние годы так далеко ушел от возможности самоанализа, что вообще плохо переношу подобные вещи. Как в моей частной жизни, так и в моем отношении к мировым событиям я вошел в состояние кризиса, который сейчас еще более обострился, так что, я полагаю, дело скоро дойдет до вынесения окончательного приговора и до выбора между жизнью и смертью. Несмотря на то что за эти годы я становился все неувереннее в себе, я смог защитить себя как бы некоей стеклянной преградой, которая состоит, собственно, в убеждении, что кризисы и страдания суть функции позитивные и что место, на которое я оказался поставлен, можно рассматривать как службу и как судьбу.
Но у меня чувство, что я выражаюсь образами приватной мифологии. Короче, в течение долгого времени я подрывал собственные корни и воля к жизни у меня чрезвычайно ослабла, держусь я только тем, что с особым тщанием, торжественно, как служение, исполняю свою функцию, то есть делаю свою небольшую литературную работу. Возможно, я всего лишь марионетка, но даже это мне, собственно говоря, безразлично.
Мой младший брат[2], человек очень милый, ребячливый, чистый и благочестивый, мелкий служащий в Бадене, обремененный семейными заботами, несмотря на внешнее несходство со мной, очевидно, так же и в то же самое время почувствовал необходимость обрести новое равновесие и с этим не справился. Он опасался, что может потерять место, но, видимо, это был только повод, причина лежала глубже; короче, недавно он пропал, мы два дня его разыскивали и ничего о нем не знали, а затем похоронили: он решил свои проблемы с помощью перочинного ножа.
Так что я пишу Вам, находясь в положении, которым вряд ли можно гордиться. Вероятно, я жил жизнью Дон Кихота, но порой я думаю, что Дон Кихот так же необходим, как какой-нибудь «вождь» или «удачник».
Хватит, ведь я, собственно, хотел Вам сказать только то, что Ваше письмо меня обрадовало. Скоро придет моя жена и поможет мне упаковать вещи.
С сердечным участием Ваш...
Привет Цоллингеру[3]...
Томасу Манну, Кюснахт - Цюрих
5 февраля 1936
Дорогой господин Томас Манн,
история со Шварцшильдом и Корроди[1] не была, конечно, достойным поводом, но, как я понимаю, Вы вынуждены были сжечь за собой мосты. Теперь это сделано, и в такой достойной форме, что я, собственно, должен был бы Вас поздравить. Однако я не в силах этого сделать. Не позволяя себе, даже и в мыслях, ни малейшего осуждения Вашего шага, я все же в глубине души сожалею, что он совершен. Это было открытое признание - но ведь каждый и так знал, на какой Вы стороне. Господам из Парижа и Праги, которые столь бессовестным образом на Вас нажимали, приятно видеть, что их давление возымело действие.
Если бы существовал лагерь, к которому нам можно было бы обратиться и примкнуть, то все было бы хорошо. Но ведь такого нет. В отравленной атмосфере между фронтами у нас нет другого прибежища, кроме нашей работы. И теперь возможности - и так, по сути, нелегальные - оказывать воздействие на читателей в рейхе, нести им утешение и ободрение для Вас окончательно потеряны. А это потеря для обеих сторон. Я тоже затронут: я теряю товарища по перу и, как эгоист, это оплакиваю. Подобно тому как во время первой мировой войны моим верным коллегой был Р. Роллан, так начиная с 1933 года им были Вы. Я, конечно, ни в коей мере не думаю, что я Вас потеряю, я привык хранить верность своим друзьям, но там, в Германии, выступая в качестве автора, я буду очень одинок. Но я не намерен оставлять этот пост, поскольку это будет зависеть от меня.
Вам же, лично Вам, я от души желаю, чтобы Вы благотворно ощутили снятие напряжения, которое должен был принести Ваш шаг. Если Вы почувствуете себя освобожденным и с облегчением вернетесь к Вашей работе, тогда все хорошо.
Вас и Вашу жену сердечно приветствует...
Издательству «С. Фишер», Берлин
9 февраля 1936
Высокочтимые господа,
мне помнится, уже в ноябре я как-то сообщал вам о нападках на меня Вилля Веспера[1]. Возможно, мы были не правы, оставив их без внимания, при том что Веспер - личность темная и литератор сомнительный, которого вряд ли следует принимать всерьез.
Из посланного мною приложения вы узнаете, как далеко зашла кампания, начатая его газетой «Новая литература».
Поскольку Веспер с самого начала борется против меня нечестно, пуская в ход запрещенные приемы, я сообщаю вам здесь ряд фактов, необходимых для разоблачения его деятельности, за точность которых я ручаюсь. Если вам это кажется целесообразным, используйте их по своему усмотрению, чтобы просветить прессу.
1. Поводом для нападок Веспера послужили мои статьи о новых немецких книгах в «Бонньерс мэгэзин»[2]. Он ставит мне в упрек, что я разбираю там «за еврейские деньги» только книги эмигрантов. Как затем выяснилось, сам В. Веспер был моим предшественником в получении «еврейских денег», чуть более года тому назад он работал для Бонньера и был уволен за слишком одностороннюю национал-социалистскую пропаганду. То обстоятельство, что в моих сообщениях с величайшим одобрением говорится о Стефане Георге[3], Рильке[4], Гофманстале[5], Кароссе[6], Эмиле Штраусе[7] и т. д., Веспер замалчивает. Он выпячивает лишь то, что я обсуждаю наряду с другими также и книги евреев.
2. На первую атаку (ноябрь 1935 года) я ответил господину Весперу письмом, в котором сообщил, что я швейцарец, а Швейцария, как и Швеция, вправе иметь свое собственное нейтральное мнение о немецкой литературе. С тех пор Веспер, естественно не ставя меня в известность, лихорадочно раздувает в прессе «дело Гессе». Он публикует обо мне лживые сведения вопреки всякой очевидности.
3. Веспер утверждает, что я-де родом из рейха и отец мой был подданным рейха. На самом деле я сын прибалта, который в момент моего рождения еще был русским подданным, но пятьдесят лет назад (вскоре после 1880 года) приобрел для себя и для своей семьи швейцарское и базельское гражданство. Мать моей матери была уроженкой Швейцарии, и мои родители жили тогда в Базеле.
4. Подданным рейха я сделался позже, в возрасте неполных четырнадцати лет. Мои родители внесли меня (одного меня, а не себя и не всю семью) в гражданские списки Вюртемберга, так как мне предстояло там учиться и сдавать государственные экзамены. В протестантской миссии, в которой работали мои родители, было много таких интернациональных семей; например, из двух моих старших сводных братьев один был гражданином Вюртемберга, а другой англичанином (потому что родился в Индии).
5. Веспер утверждает, что я трусливо покинул свое отечество в 1914 году, когда страна вела тяжелейший бой с врагами. И здесь этот простофиля лжет - и делает это вполне намеренно, ибо точные даты ему известны. Он знает, что я возвратился в Швейцарию не «в боевом 1914 году», как он утверждает, но раньше, в 1912-м, среди «всеобщего мира и благоденствия».
6. Свое немецкое гражданство я в полной мере отработал, явившись летом 1914 года на призывной пункт, в качестве вольноопределяющегося, а затем, с 1915-го до весны 1919 года, я руководил швейцарским отделением попечительской помощи немецким военнопленным, созданным мной и профессором Вольтереком[8]. В качестве официального лица я был тогда прикомандирован к германской миссии в Берне.
7. Как бывший швейцарский гражданин я имел право после возвращения в Швейцарию в течение десяти лет безвозмездно восстановить подданство. Но чтобы, так сказать, не дезертировать во время войны и в первые послевоенные годы, я пренебрег этим правом и снова стал швейцарцем лишь в 1923 году. Тем временем мой брак был расторгнут, моя жена потребовала для себя и для трех наших сыновей восстановления своего исконного гражданства (она происходила из старинной базельской семьи). Таким образом, три моих сына были швейцарцами, я же был немцем только по бумагам: проживал я в Швейцарии; сыновья мои, подобно мне и их матери, говорили на швейцарском диалекте и должны были служить в швейцарской армии - понятно, что теперь и я приобрел для себя швейцарское подданство.
Таковы факты, которые намеренно исказил Веспер.
Пожалуйста, пошлите опровержение в «Вестдойчер беобахтер», который я прилагаю. Но, возможно, эти клеветнические сплетни обо мне напечатаны и во многих других немецких газетах.
Я стыжусь того, что принадлежу к немецкой литературе и имею таких коллег. В истории с Веспером я случайно знаю также его личные, эгоистические мотивы... Свои обзоры книг у вас и в Швеции я прекращаю, не хочу иметь с этим более ничего общего.
Вас приветствует ваш...
Д-ру Эдуарду Корроди, Цюрих
12 февраля 1936
Дорогой господин доктор Корроди,
спасибо Вам за Ваше письмо, которое явно написано в крайне угнетенном состоянии; поскольку Вы так давно вращаетесь в газетном мире, я был даже удивлен, что Вы так взволнованы, оказавшись в настоящий момент объектом нападок. Мне подобная реакция симпатична, я сам болезненно страдаю от грубых выходок, то есть сердцем, нервами я ощущаю все гораздо болезненнее, чем разумом. Как реакцию на теперешнюю ситуацию, я понимаю Ваше письмо очень хорошо; думаю, главной причиной послужил здесь Ваш недавний разрыв с Томасом Манном. Знаю по себе, сколь тяжелы такие прощания. Нечто сходное было у меня с Эмилем Штраусом; хоть я и хранил ему верность, личные связи он в обстановке послевоенного ожесточения порвал. И таковы многие мои былые друзья в Германии, которых я при необходимости поддерживаю, но никогда не могу рассчитывать на такую же ответную услугу, ибо люди пропитаны политикой...
Таким образом, в настоящее время я подвергаюсь не только нападкам со стороны эмигрантов, с их хорошо знакомыми Вам грязными уловками, но одновременно - с ноября - меня систематически поносят в третьем рейхе как предателя и эмигранта, что находит все более широкий отклик в прессе; руководитель этой кампании - Вилль Веспер, и, вполне возможно, он достигнет своей цели - запрета моего творчества в Германии.
Итак, положение человека, подвергающегося грубым нападкам, мне хорошо знакомо. Моя основная работа и так уже парализована ядовитой атмосферой, поэтому я так много занимаюсь сейчас обзором книг и т. д., что для меня является лишь побочной профессией.
Что мне из Вашего письма ясно, так это Ваше теперешнее настроение. Что мне ясно не вполне, так это следующее: чего Вы, собственно, ждете от меня и в каком отношении Вы мной недовольны. Если я правильно понял, Вы порицаете меня за то, что я храню и намерен впредь хранить верность своему старому издательству, которому я был верен тридцать лет. Далее, Вы, очевидно, предполагаете, что я оказал какие-то совершенно особенные услуги д-ру Берману[2] при его попытке обосноваться в Цюрихе. Это не так: я дал ему всего лишь рекомендации к двум моим тамошним друзьям и даже не знаю подробностей его цюрихских дел. Если бы он смог открыть издательство в Швейцарии, мне это вовсе не представлялось бы несчастьем, как это представляется Вам. Даже если швейцарские издательства действительно достигли необыкновенной высоты и Берман, привнеся незаурядные традиции и способности, не смог бы им дать ничего нового, все равно Швейцарии пошло бы на пользу, если бы издательство Томаса Манна, Шикеле и других хороших авторов обосновалось бы здесь, а не в Вене или в Голландии. В Швейцарии прибавилось бы работы. Если бы новое издательство потерпело неудачу, лишь оно было бы в проигрыше, а не Швейцария. Но если бы оно достигло успеха, это во всех отношениях принесло бы выгоду и Швейцарии.
Что касается меня как автора издательства «Фишер», то Вы, как мне кажется, ошибочным образом полагаете, что я волен по собственному выбору оставаться в старом издательстве или подыскать себе какое-нибудь другое. Дело обстоит не так, и Берман тоже не волен самостоятельно решать, каких фишеровских авторов он вправе взять в свое новое издательство. Он только может продать старое издательство в Берлине, и, согласно германскому праву, покупатель приобретет также и все договоры с авторами. Если Берман, как еврей, должен покинуть издательство «Фишер», то права на мои книги автоматически переходят к его берлинскому преемнику. До истечения срока договора, а договор рассчитан еще на годы, я автоматически буду привязан к берлинскому издательству, кто бы ни был его владельцем.
Вот все, что касается вопроса, связанного с Берманом. Когда я задаю себе далее вопрос, чего еще Вы от меня ожидаете, я предполагаю следующее: Вы ждете, чтобы я как поэт проявил наконец некий минимум героизма и объявил себя приверженцем какой-либо стороны. Но, дорогой коллега, именно это я непрерывно делал начиная с 1914 года, когда моя первая статья о войне снискала мне дружбу Роллана. С 1914 года против меня постоянно выступали силы, для которых моя религиозная и этическая (но не политическая) позиции являлись недопустимыми, и со времени моего пробуждения в годы войны мне пришлось проглотить сотни газетных нападок и тысячи исполненных ненависти писем, и я все глотал, хотя это и отравляло мое существование, усложняло работу и окончательно разрушало мою личную жизнь; и никогда не было так, что на меня нападали только с одной линии фронта, а с противоположной я получал защиту, нет, обе стороны охотно избирали меня, не принадлежащего ни к какой партии, объектом своих атак. Так и сегодня меня вновь одновременно поносят в эмигрантской прессе и в третьем рейхе. Я же убежден, что мое пребывание на посту беспартийного и аутсайдера и есть мое истинное место, где я имею возможность явить присущую мне малую толику человечности и христианства.
Мне кажется, Вы чуть ли не ожидаете от меня, что я примкну к швейцарской разновидности антисемитизма и антимарксизма. Так вот: хотя марксистом я не был никогда, а скорее, подобно Вам, служил мишенью для нападок из этого лагеря, я не был также и приверженцем капитализма и выразителем взглядов правящих классов - это тоже была бы политика и партийная принадлежность, а моя позиция аполитична до фанатизма. Что же касается евреев, то я никогда не был антисемитом. Не пристало духу отдавать первенство крови и расе, и если евреи вроде С. отвратительны, то ничуть не менее отвратительны такие арийцы, как Штрайхер[2] или В. Веспер или сотни других. Если евреям хорошо, я могу спокойно снести направленный против них анекдот. Если же им плохо - а немецким евреям сейчас чудовищно плохо, - то вопрос, с кем я, с жертвами или с их преследователями, решается без промедления. Поэтому в своих стокгольмских литературных обзорах я уделял внимание также и эмигрантской литературе, за что сейчас так дорого расплачиваюсь.
Нет, меня не соблазнить ни антисемитизмом, ни какой-либо партией. Это не помеха тому, что я швейцарец и убежденный республиканец. Ведь наша демократия считает, что партии не должны уничтожать друг друга, но что они должны совещаться и искать взаимопонимания. Однако ни социалисты, ни представители правящих классов так не поступают. Пусть они воюют. Ни на одной стороне я ничего не потерял.
Если на протяжении двадцати четырех лет, что я живу в Швейцарии, я никогда не говорил о себе как о швейцарце, то тут удивляться нечему. Из моих предков швейцарской является только одна линия, а мое собственное гражданство приобретено за деньги. Вы же знаете, как любят в нашей стране таких новоявленных граждан, которые начинают каждую фразу словами «Мы, швейцарцы...».
Хотел бы высказаться еще по одному вопросу. Вы намекаете, что могли бы создать истинно европейское или даже всемирное литературное приложение. Это верно. Только такое приложение не было бы швейцарским. И в нем таился бы еще куда более серьезный порок. Журнал, состоящий на девять десятых из переводов, сильно оскудел бы в языковом отношении, Вы ведь знаете, как бывает, когда прочтешь в переводе русский или испанский роман, а затем возьмешь в руки немецкое оригинальное произведение: это как глоток свежего воздуха. Нет, даже с хорошими переводчиками (а сколько их, действительно хороших?) возникнет нечто вроде мира эсперанто, и невольно затоскуешь по тому, что было прежде.
Я еще раз благодарю Вас за Ваше письмо, которое ценю как знак доверия. Вы меня им обрадовали. О том, как серьезно я к нему отношусь, Вы можете судить уже по обстоятельности моего ответа...
Томасу Манну, Кюснахт
12 марта 1936
Дорогой господин Томас Манн,
спасибо за Ваше письмо, которое меня обрадовало и помогло мне. Вы правильно почувствовали, в чем я сейчас нуждаюсь; вероятно, И. Маасс[1], с которым мы подружились, рассказал Вам, что дела мои идут не очень хорошо.
Большое разочарование, которое принесла мне моя трехлетняя деятельность рецензента, когда в ответ на благосклонную и чудовищно трудоемкую работу на меня посыпались пощечины с обеих сторон - из рейха и со стороны эмигрантов, - это разочарование показало, насколько деятельность благосклонного обозревателя немецкой литературы была для меня также и бегством, бегством от свойственной мне роли пассивного наблюдателя в злободневность, бегством от моей поэзии, с которой нас разделяет все ширящийся двухлетний вакуум.
Впредь я прекращу критическую деятельность, ограничившись самым необходимым, постараюсь избавиться от переутомления и перенасыщения, вызванных чрезмерным чтением, и надеюсь, что уже одно это поможет мне вновь стать на ноги. Труднее будет найти обратный путь к задуманному мной поэтическому творению, которое я давно уже совершенно забросил. Идея этого творения, однако, еще жива, и я часто возвращаюсь к ней в мыслях, но нет охоты сочинять, разрабатывать детали, превращать духовное в чувственно зримое.
То, что в рейхе Вас оставили в покое, меня радует. Если бы Вас запретили, мне было бы очень неприятно сознавать, что я один продолжаю пользоваться там хоть и небольшим, но все-таки рынком сбыта. Все это неизбежно будет развиваться и дальше, и, вероятно, в один прекрасный день нас запретят обоих, чему я буду рад, хотя провоцировать это я не должен. Наша работа сегодня подобна нелегальной, она служит тенденциям, которые в тягость всем фронтам и партиям.
Я частенько думаю о Вас и радуюсь мысли, что Вы сейчас всякий день на отдыхе и в Египте[2]. Я тоже надеюсь еще на новое паломничество в страну Востока[3]. Иначе в этом бездуховном мире было бы в самом деле трудно выдержать.
Сердечно приветствует Вас и Ваших Ваш...
Господину Ф. Л., Цюрих
16 февраля 1938
Высокочтимый господин Л.,
[...] Ваше письмо, написанное, как я вижу, с лучшими намерениями, привело меня в смущение. Если не считать некоторых грехов юных лет, у меня нет ощущения, что я уклоняюсь от своих обязанностей, и я несколько ошеломлен тем, что Вы сочли необходимым напомнить мне, старому человеку, о моем «долге». И как раз по отношению к Германии, то есть к Германии политической и злободневной, я вел себя начиная с 1914 года, по моему мнению, и разумнее, и честнее, чем большинство эмигрантов, которые лишь несколько лет назад вдруг заметили, что не все с ней в порядке, и с высоты своего всезнайства стали похлопывать нас, всех прочих, по плечу. Конечно, моя позиция была частично облегчена: вместо того чтобы менять страну, я мог вернуться в швейцарское гражданство, в котором состоял в детстве. Однако и с этим было связано достаточно трудностей.
Что касается «тайной» Германии, страны языка, поэзии, культуры, то я всегда причислял себя к ней и продолжаю причислять, даже если Вы и ставите мою принадлежность к ней в зависимость от того, насколько я в качестве сотрудника смогу пригодиться Вашему начинанию. Я принадлежу тайной Германии также и в том, что весьма дорожу своей независимостью и своей совестью и не люблю, когда меня похлопывают по плечу и поучают насчет моих обязанностей. Все, что я делал на протяжении десятилетий, было сотрудничеством с такой Германией, и с годами это сотрудничество становилось все более осознанным. Вы, например, предлагаете, чтобы я подробно расхвалил книгу Хаксли[1], а я полагаю, что, отказываясь от этого, я действую в духе нашей доброй «тайной» Германии.
Мне хотелось бы сегодня попросить Вас о следующем: предоставьте определять степень, способ и содержание моего возможного сотрудничества мне самому... То, что уже сейчас, еще прежде, чем моя статья напечатана, мне в такой энергичной форме напоминают о моем долге и поучают, что я должен делать и что писать, не слишком-то располагает к сотрудничеству, а скорее от него отвращает.
[...] Вы предлагаете мне, а 1а Синклер, обрести новую молодость и поставить ее на службу Вашему предприятию. Но я старый человек и не могу призвать к себе по желанию третью молодость, я лишь стараюсь изо всех сил продолжать неспешную работу над тем, что занимает меня уже более пяти лет, и таким образом оставаться верным своему долгу. Если я изредка отвлекаюсь от этого и сочиняю нечто подходящее для журнала, то это всего лишь редкое исключение.
Не сердитесь на меня за мои слова, я не хотел Вас обидеть.
Р. Я. Хумму, Цюрих
8 июля 1938
Дорогой господин Хумм,
Ваше письмо меня очень обрадовало, и я сразу же откликнулся бы и выразил Вам свою благодарность, если бы в последнее время, а именно с 11 марта, меня так не поглощали заботы об эмигрантах и беженцах, на что уходит большая часть моей работоспособности.
Вы, caro amico, называете меня столпом, а самому себе я кажусь скорее разлохмаченным, перегруженным канатом, к которому подвешены многие грузы, и при каждом новом возникает чувство: сейчас лопнет! Но я понимаю, что Вы, вероятно, имеете в виду под столпом. Вы чувствуете во мне некую веру, нечто, что помогает мне держаться, наследие отчасти христианства, отчасти гуманности, привитое не одним только воспитанием и основанное не на одном только разуме. Все это так, однако веру свою я не смог бы выразить в некоей формуле - чем дальше, тем меньше. Я верю в человека, в его удивительную жизнестойкость, которая не угасает даже на дне глубокой канавы и способна помочь ему преодолеть самое большое вырождение, и я верю: эта жизнестойкость так сильна и так заманчива, что всегда будет ощущаться как надежда и как вызов, и та сила, что позволяет человеку мечтать о своих высоких возможностях и снова и снова выводит его из звериного состояния, всегда одна и та же, как бы она ни называлась: сегодня - религией, завтра - разумом, послезавтра - как-нибудь иначе. Колебание, метание туда и сюда между человеком реальным и возможным, человеком мечты, - это то же самое, что религии изображают нам как отношение между человеком и богом.
Эта вера в людей - то есть в то, что человеку присуще чувство истины, склонность к порядку и что это нельзя в нем истребить, - поддерживает во мне силы. В общем, я смотрю на сегодняшний мир, как на сумасшедший дом, как на скверную сенсационную пьесу, нередко вызывающую гадливость, но смотрю с таким чувством, как смотришь порой на сумасшедших и пьяных; как же им будет стыдно, когда в один прекрасный день они опомнятся и придут в себя!
Я рад, что Ваша книга закончена. Между Вашим языком и моим, между Вашими и моими проблемами пролегает граница, разделяющая поколения, иногда мне кажется, что я старше Вас на пятьдесят лет, иногда - что Вы намного старше меня. Но через эту границу я ощущаю родство и чувство товарищества, общую работу на различных пунктах одной и той же стройки. Впрочем, я становлюсь все глупее и лишь удивляюсь, а вовсе не пытаюсь понять, как это самые ребяческие, даже самые скотские политические инстинкты выдают себя ныне за «мировоззрения» и даже принимают обличье религий. [...]
Довольно болтовни, пора мне приниматься за работу - к сожалению, не за литературную, а за разборку утренней почты...
Письмо в утешение во время войны
7 февраля 1940
Глубокоуважаемый адресат,
когда в лесу молодое деревце сломлено или вырвано с корнем, оно, бывает, валится на старое дерево, и тут оказывается, что и от старого нет толку, что оно, такое еще на вид стройное, на самом деле дуплисто и шатко и рушится под тяжестью молодого. Примерно то же могло бы случиться с Вами и со мной. Но все выходит иначе. В Ваше положение я способен войти, я пережил 1914-1918 годы и был в эти четыре года на грани гибели, а на сей раз у меня три сына в солдатах (старший с недавних пор в пикете, два других служат с 1 сентября).
Как я смотрю на всю эту историю, Вам лучше всего покажет, пожалуй, один пример из мифологии. В индийской мифологии, например, есть сказание о четырех эпохах; когда кончается последняя, когда война, упадок, бедствия доходят до предела, тогда вмешивается Шива, борец и уборщик среди богов, тогда он растаптывает мир в пляске. Как только он это совершит, прелестный бог-творец Вишну, лежащий где-нибудь на лугу, видит прекрасный сон, и то ли из этого сна, то ли из воздуха, то ли из волоска Вишну встает новый, прекрасный, молодой, восхитительный мир, и все начинается заново, но не механически, а вдохновенно и очаровательно.
Так вот, я думаю, что наш Запад находится в четвертой эпохе и что Шива уже пляшет по нашему миру; я думаю, что почти все погибнет. Но я думаю также, что все начнется сначала, что люди вскоре снова зажгут жертвенный огонь и построят святилища.
И поэтому я, усталый старый хрыч, рад, что я достаточно стар и истрепан, чтобы умереть без сожаления. Но молодежь, в том числе и своих сыновей, я оставляю не в безнадежности, а только среди тягостного и страшного, в огне испытаний, нисколько не сомневаясь в том, что все, что было свято и прекрасно для нас, будет и для них, и для будущих людей прекрасно и свято. Человек, думается мне, способен на великие взлеты и на великое свинство, он может возвыситься до полубога и опуститься до полудьявола; но, совершив что-то довольно-таки великое или довольно-таки мерзкое, он всегда снова становится на ноги и возвращается к своей мере, и за взмахом маятника к дикости и бесовству неизменно следует взмах в противоположную сторону, следует неукоснительно присущая человеку тоска по мере и ладу.
И поэтому я думаю, что хотя сегодня старому человеку ничего хорошего ждать извне уже не приходится и самое лучшее для него - отправиться к праотцам, но прекрасные стихи, музыка, искреннее воспарение к божественному сегодня по меньшей мере так же реальны, так же полны жизни и ценны, как прежде. Более того, оказывается, что так называемая реальность техников, генералов и директоров банков становится все нереальнее, все иллюзорнее, все неправдоподобнее, даже война, возлюбив тотальность, утратила почти всю свою притягательность и величавость: в этих материальных битвах сражаются друг с другом гигантские призраки и химеры - а всякая духовная реальность, все истинное, все прекрасное, всякая тоска по нему сегодня, кажется, реальнее и существеннее, чем когда-либо.
Томасу Манну
Монтаньола, 26 апреля 1942
Дорогой господин Манн,
три дня назад получил Ваше милое письмо от 15 марта, значит, относительно быстро. Вы обрадовали меня им, а это в наши дни кое-чего стоит. Рад я также, что мой последний оттиск дошел до Вас; страшно много экземпляров пропало, особенно в Германии. Большое удовлетворение доставила нам обоим также превосходная фотография - Вы с Фридолином[1], чье лицо так похоже чертами на лицо Вашей жены. У меня сейчас как раз есть фотография моего сына Хайнера с дочерью, живущих в Цюрихе. Эту фотографию прилагаю. [...]
Вы так участливо справляетесь о моем здоровье, что я не могу в ответ промолчать, но хвастаться тут нечем. Суставный ревматизм, хорошо знакомый мне уже много лет, не отпускал меня почти два года, полтора года я не могу сжать кулак и не могу ничего крепко держать в руке, порой я не мог держать даже перо, но это прошло. С тем я и смирился и лишь время от времени пытаюсь немного поправить дело то лекарствами и массажем, то лечением в Бадене. При этом работа моя не очень движется, однако история об Йозефе Кнехте[2] почти закончена - примерно через одиннадцать лет после ее начала.
Мои книги в Германии не запрещены, но не раз дело было близко к тому и может снова быть близко в любой день, и платить мне гонорар не раз запрещали. О моей швейцарской и европейской позиции там, конечно, осведомлены, но, в общем, довольствуются тем, что зачисляют меня в список «нежелательных». Сейчас большая часть моих книг распродана, и большинство из них, конечно, не удается переиздать. Но в конце концов войны длятся не вечно, и, хоть я не могу представить себе мир в конце этой войны, я все же наивно полагаю, что тогда наши вещи все-таки переиздадут. Сейчас одно цюрихское издательство, «Фретц», вздумало издать сборник моих стихов; при подготовке выяснилось, что я написал около одиннадцати тысяч стихотворных строк. Меня ужаснуло это число.
Мир всячески старается облегчить нам, старикам, прощание с ним. Сумма разума, методичности, организованности, с какой творится нечто бессмысленное, снова изумляет - не меньше, чем сумма неразумия и простодушия, с какой народы делают из нужды добродетель, а из резни - свои идеологии. Столько зверства и столько простодушия в человеке!
Здесь война давно чувствуется во всем. Мои три сына уже три года в армии, с перерывами и отпусками, но везде штатская, человеческая, естественная жизнь зажата государственностью. Порой вся военная свистопляска после 1914 года кажется мне гигантской попыткой человечества сломать сверхорганизованную броню своих государственных машин, что, однако, никак не удается.
Привет всем Вашим, прежде всего Вашей милой жене, от нас обоих! С самыми лучшими пожеланиями
Ваш Г. Гессе
Томасу Манну
Монтаньола, троицын день 1945
Дорогой господин Томас Манн,
несколько дней назад пришло Ваше письмо, рассказавшее мне о Вас и о Вашем чтении «Игры в бисер». Это очень обрадовало меня, особенно Ваши заметки о забавной стороне моей книги[1]. И с особой радостью и интересом прочел я, конечно, заглавие «книжечки», которой Вы заняты. У Вас продуктивность сохраняется, видимо, дольше, чем у меня; за последние четыре года я ничего не написал, кроме нескольких стихотворений, но я доволен, что успел кончить биографию Йозефа Кнехта, до того как сдали силы. Она, кстати, пролежала тогда полгода в Берлине, поскольку я был твердо намерен выполнить свои обязательства перед верным Зуркампом[2] (а он долго сидел в гестаповских тюрьмах, наконец, совершенно изможденный, попал в какую-то потсдамскую больницу, которую вскоре бомбили, и я не знаю, жив ли еще этот верный друг). Однако берлинские министерства нашли выход моей книги «нежелательным», и она поныне неизвестна публике, если не считать нескольких десятков читателей в Швейцарии.
О «политизации духа» мы думаем, надо полагать, не очень различно. Когда дух чувствует себя обязанным участвовать в политике, когда мировая история призывает его к этому, он, по кнехтовскому и моему мнению, непременно должен следовать этому зову. Сопротивляться он должен в том случае, когда его призывают или на него нажимают извне - государство, генералы, власти предержащие, - подобно тому как в 1914 году элиту немецкой интеллигенции, в общем-то, вынуждали подписывать глупые и лживые воззвания.
С начала марта у нас, за исключением считанных дней, необыкновенно тепло, в конце апреля началось уже лето, а сейчас так жарко, как вообще-то бывало здесь лишь в разгар лета. Из Франции и Англии приходят иногда письма, а больше ни звука ни из одной соседней страны.
Думая о Вас, я буду теперь думать и о докторе Фаустусе[3]. Я не раз вспоминал Вас при чтении последнего тома «Иосифа»[4], и часто вспоминали мы Меди, когда читали «Марш фашизма»[5], до которого я добрался лишь этой зимой.
От души желаю Вам того же, что Вы мне. Вам шлет привет по-прежнему верный Вам
Г. Гессе
Томасу Манну
Баден близ Цюриха, 15 декабря 1945
Дорогой господин Томас Манн,
под конец своего лечения в Бадене, за несколько дней до возвращения домой, я получил Ваше письмо, в котором Вы высказываетесь по поводу истории с капитаном Хабе-Бекеши[1] и которое просто своим хорошим настроением и милой прихотливостью интонации подействовало на меня благотворно, доставило мне удовольствие и радость. В мире все сейчас так нетонко, так грубо, примитивно и голо, что настоящее письмо от настоящего человека, написанное настоящим языком, - это редкость и драгоценность. И еще приятно было узнать, что моя книга, «По следам снов», благополучно дошла до Вас; это тоже удача.
Моя позиция по отношению к нахальному письму этого пресс-офицера состояла в молчании, но, к сожалению, из-за одной бестактности дело это попало в швейцарскую печать, и мне пришлось дать отбой честным усилиям прессы просветить американцев и обелить меня, ибо я, естественно, не испытывал ни малейшего желания оправдываться перед ложными авторитетами и просить о реабилитации. Ну, это уже в прошлом.
Немецкие отклики на Ваше письмо к Моло[2] немного коснулись и меня; некоторые редакции и частные лица сообщили мне, что теперь они знают, чего можно ждать от этого Т. Манна и от меня; и если какое-то время казалось, что слишком уж быстро и жадно призывают нас как братьев и товарищей, то теперь все стало на места, что мне очень приятно. Исключение составил город Констанц. Там почти 20 лет назад, к моему пятидесятилетию, назвали моим именем какую-то улочку, но через несколько лет табличку поспешно сняли и заменили название другим, а сейчас, в ходе дешевой очистительной кампании, муниципалитет вспомнил давние времена и повесил прежнюю табличку. Впору бы посмеяться над тем, какие у людей заботы сегодня, но, к сожалению, сейчас не до смеха, ибо за всеми этими глупостями и неловкостями стоит чудовищная, животная, элементарная нужда, такая нищета, что каждый, у кого еще есть в Германии родные и близкие, просыпается иногда по ночам от кошмаров.
В политическом отношении никто там ничему не научился, но есть маленький, сведенный к минимуму Гитлером и Гиммлером слой, который знает, что к чему, и с которым я как-то связан. Но этого слоя гумуса далеко не достаточно, чтобы стать почвой новой республики. Пока приходится довольствоваться тем, что хотя бы нет больше средств принуждения, которыми можно было бы злоупотреблять.
Здесь- то, в Гельвеции, у нас замечательная, образцовая конституция. Если бы были использованы ее возможности, жизнь была бы здесь не такой унылой и робкой, как сейчас. Но по крайней мере время от времени у какого-нибудь Винкельрида[3] хватает духа назвать какого-нибудь проворовавшегося высокопоставленного военного вором, и порой это имеет даже неприятные последствия для данного офицера. Народ этому радуется, а в остальном глядит с робкой надеждой на могущественную Америку, которая, он чувствует, хоть и не понимает его, но находится, слава богу, далеко и потому вызывает меньше страха, чем совсем приблизившаяся Россия.
Будьте благополучны и не торопитесь посетить Европу. Сердечный привет Вам и Вашей жене от нас обоих (моя жена в Цюрихе, она часто навещает меня и была в восторге от Вашего письма). Ваш
Слово в первый час 1946 года
Дорогие друзья! Новый год встречает нас неведомыми обещаниями и угрозами, и, хотя сегодняшний полуночный час значит не больше, чем любой другой час нашей жизни, мы отмечаем его все же как праздник, и праздник серьезный, и это хорошо, ибо любая возможность, любой повод уйти на час от обыденности и как бы задуматься, взглянуть назад и вперед, проверить других и себя, свести счеты, собраться с мыслями - это в нашей беспокойной и обедненной жизни благодеяние. Одно уже раздумье о ходе времени, о бренности нашей жизни и наших дел, грустное или отважно радостное, означает некое очищение и испытание, звучит в сумятице наших дней ясно и неумолимо, как камертон, и показывает нам, насколько отступили мы внутренне от чистой настройки, от нашего места в мировой гармонии. Хорошо время от времени прислушиваться к этому камертону. Хорошо даже тогда, когда это посрамляет нас и бьет по нашему самолюбию.
А на сей раз, думается, новый, желанный, еще такой незапятнанный год есть нечто совершенно особенное и важное. После долгих лет кровопролития и уничтожения пришла к нам первая новогодняя ночь, когда нет войны, когда мир вокруг нас перестал быть полным адских мук и смертей, а над нами не гремят в темноте, стремясь к своим злосчастным целям, гигантские машины уничтожения. Пусть мы еще не осмеливаемся произносить слово «мир», пусть мы полны недоверия к этой еще непривычной тишине в воздухе, но и это недоверие, и эта тревога за хрупкость и зыбкость данного и всякого мира могут помочь и помогут нам принести жертву прекрасному и страшному часу, задумчиво взглянуть на мир и на самих себя.
Снова привыкли мы за несколько лет жить не обычными, частными годами, не просто человеческим временем и человеческой жизнью, а «мировой историей», и снова, как после всех так называемых великих эпох, вызывает у нас эта мировая история великое омерзение. Как чудесно, как многообещающе звучали для нас слова «мировая история», когда мы были еще школьниками или юнцами, как часто мечтали мы, дети, стать и впрямь свидетелями, а то и участниками этой замечательной мировой истории, которую мы знали только по книгам и картинам! Ах, никто из нас больше не мечтает об этом! Мы с горечью узнали, что настоящая мировая история - не такая, как в учебниках и роскошных иллюстрированных изданиях, что это не жемчужная нить великих подвигов, а поток, океан великих страданий. Как осточертело нам все великое, что годами обрушивали на нас ежедневно мировые известия, великое время, величайшие морские, наземные и воздушные сражения всех веков, вся эта причудливая и страшная свистопляска рекордов ужаса!
Но с мировой историей дело обстоит не иначе, чем с жизнью и родом человеческим вообще. Подобно тому как мы научились считать лучшими эпохами мировой истории те, когда меньше всего замечаешь мировую историю, каждый из нас и в своей частной жизни постепенно научился предпочитать тихие и гармоничные полосы бурным, причем мера, которой мы мерим и по которой судим, идет не от какой-то там философии, а просто от нашего хорошего самочувствия. Это негероично и банально, но в этом кое-что есть, это хотя бы искренне.
Выходит, наша жизнь светлее всего, когда в ней случается как можно меньше событий, а мир счастливей всего, когда у него нет никакой истории, а есть только бытие? От этой мысли мы уже снова отшатываемся, она кажется очень уж убогой и пошлой, она для нас все-таки неприемлема. И тут из давно заброшенных кладовых памяти нам приходят на ум всякие мудрые слова и стихи, например слова Гете, что нет ничего несноснее, чем череда хороших дней. Ах, а мы ведь так жаждем хороших дней! Но мудрость тем не менее остается права: человек полон стремления к счастью - и все-таки не выносит счастья долго. Так бывает в жизни отдельного человека: счастье утомляет его, делает вялым, вообще перестает быть счастьем через какое-то время! Это прекрасный, милый, но очень недолговечный цветок - счастье. Может быть, и в мировой истории дело обстоит так же, и малое число, и краткие сроки эпох, которые кажутся нам хорошо темперированными и завидными, надо покупать бедствиями, потоками крови и слез мировой истории.
Но чего же тогда, собственно, и желать нам, если есть только выбор между адом героической и мелкостью лишенной истории жизни?
Мы долго размышляли бы об этом и в итоге не нашли бы никакого ответа, если бы нас не осенило, что вопрос, чего нам надо желать, поставлен неверно, что это совершенно бесполезный, просто детский вопрос. Долгий грохот войны сделал нас, по-видимому, немного ребячливыми, немного ребячливыми и примитивными, мы довольно давно забыли почти все, что нашли и чему учили великие учителя человечества. Ведь они учат одному и тому же веками, и любой теолог, да и любой гуманитарно образованный человек может сказать нам это самыми ясными словами, независимо от того, склоняется ли он больше к Сократу или к Лао-цзы, больше к невозмутимо улыбающемуся Будде или к Спасителю в терновом венце. Все они, да и вообще всякий знающий, всякий пробудившийся и просветленный, всякий истинный знаток и учитель рода человеческого, учили одному и тому же, а именно: что человек не должен желать себе ни величия, ни счастья, ни героизма, ни сладких плодов, что он вообще ничего не должен желать себе, ничего, кроме чистого, чуткого ума, храброго сердца, а также верности и мудрости терпения, чтобы благодаря им выносить и счастье, и страдания, и шум, и тишину.
Этих благ мы и пожелаем себе. У всех у них одно и то же происхождение. Они - от бога, они - не что иное, как искра божья в нас. Мы чувствуем эту искру не каждый день, мы часто подолгу не чувствуем ее вовсе и забываем о ней, но одно-единственное мгновение может вдруг снова подарить нам ее, порой мгновение ужаса и отчаяния, порой мгновение блаженнейшей тишины: когда мы заглядываем в тайну чашечки цветка, слышим какие-то такты музыки, когда к нам устремлен доверчивый взгляд ребенка. В эти мгновения, мгновения большой беды и мгновения глубочайшей отзывчивости, каждый из нас знает, даже если и не может выразить это словами, тайну всякого знания и всякого счастья, тайну единства. Что один бог живет в каждом из нас, что каждое место на земле отечество нам, каждый человек - родственник нам и брат, что знание этого божественного единства разоблачает всякое деление на расы, народы, на богатых и бедных, на вероисповедания и партии как призрак и обман - вот точка, к которой мы возвращаемся, когда страшная беда или великая нежность открывает наш слух и делает наше сердце способным к любви.
Пожелаем этого внутреннего мира себе и всем: тем, кто в этот час ложится в постель в своем надежном доме, и тем, кто без дома и без постели мыкает горе. Мы желаем его победителям, чтобы победа не сделала их гордыми и слепыми, и побежденным, чтобы они не кляли и не накликали на чужие головы постигшего их горя, а были готовы вынести его и услышать в нем голос бога.
Долго жить в таком мире и в таком добром, простом знании мы, за исключением разве что редких святых, неспособны, мы все это знаем и сотни раз стыдились этого. Но если уж мы знаем, что путь к более высокому и более благородному человечеству проходит единственно через эту школу, через все повторяющееся ощущение единства, через все обновляющееся понимание простой истины, что мы, люди, братья и происхождение наше божественно, если уж мы были однажды воистину пробуждены и ранены этой молнией, то мы не можем совсем уснуть снова и целиком погрузиться в горячечный сон того состояния духа, из которого выходят войны, расовые преследования и братоубийственные сражения между людьми.
Год за годом мы были свидетелями ужасного, часто невыносимого, а другие, менее привилегированные, чем мы, претерпели это со всеми Физическими и душевными муками, претерпевают повсюду еще и поныне - и тут, среди крови и слез, многие отрешились от тех мнений и категорий, с помощью которых средний человек приводит в порядок мир в спокойные времена, многие пробудились, у многих заговорила совесть, многие дали обет: если я это переживу, я стану другим и лучше. Это сегодня, как всегда, homines bonae voluntatis, люди доброй воли, им явил себя бог, им приоткрылась тайна мира, только им, а не каким-то нациям, сословиям, союзам или организациям доверено будущее, только они обладают тайной силой веры.
Однажды бессонной ночью, не в силах уснуть под впечатлением сотворенных при Гитлере злодеяний, я написал стихотворение, в котором наперекор ужасу попытался выразить свою веру. Последние строки этого стихотворения таковы:
Путь любви даже в распре горькой Нам, заблудшим братьям, не заказан. И не тяжба, не злость, А любовь и терпенье, Терпенье в любви Нас к святой приближает цели.Предисловие к изданию «Война и мир» 1946 года
Составление этой книги не было для автора отрадной работой, такой, которая будит приятные воспоминания и оживляет любимые картины. Напротив, каждая отдельная статья жгуче напоминала мне времена страданий, борьбы, обособленности, вражды и непонимания, горького отрешения от приятных идеалов и приятных привычек. Поэтому, чтобы противопоставить этим призракам, которые сегодня более, чем когда-либо, уродливы и актуальны, что-то светлое, я оживил в посвящении этой книги благородный образ одного любимого друга и с ним то единственно прекрасное и долговечное, что принесли мне когда-то борения и муки. Я забыл многое из тех удручающих дней 1914 года, когда возникла самая ранняя из этих статей, но не тот день, когда ко мне, как единственный сочувственный отклик на эту статью, пришло письмо от Ромена Роллана одновременно с сообщением об его новой книге. У меня оказался попутчик, единомышленник, который, как и я, отшатнулся от кровавого безумия войны и военного психоза и восстал против них, и это был не кто-нибудь, а человек, которого я высоко ценил как автора первых томов «Жана Кристофа» (других его произведений я тогда еще не знал) и который сильно превосходил меня политической выучкой и сознательностью. Мы остались друзьями до его смерти. Мы жили территориально слишком далеко друг от друга и выросли в слишком разных традициях культуры и мысли, чтобы я смог стать его последователем и многому научиться у него в политическом отношении. Но это и не было важно. Я уже начал свой политический путь - очень поздно, почти в сорок лет, пробужденный и растормошенный ужасной реальностью войны, глубоко пораженный легкостью, с какой мои прежние товарищи и друзья отдавались во власть Молоха, я уже изведал несколько первых потерь в кругу друзей и несколько первых нападок, угроз и поношений, с которыми в так называемые великие времена конформисты неизменно набрасываются на индивидуалистов. Было неясно, выдержу ли я, не погибну ли от конфликта, превратившего в ад мою дотоле довольно счастливую и не по заслугам успешную жизнь. Было благом, было спасением и счастьем знать, что есть кто-то, кто во «вражеском», французском, лагере выступил с тем же протестом совести против требования покориться и участвовать в оргиях ненависти и больного национализма. Ни в годы войны, ни потом я никогда, собственно, не вел политических разговоров с Ролланом, но все же я не знаю, сумел ли бы я выстоять в те годы без его товарищеской близости. Об этом необходимо было упомянуть здесь.
Об истории этой книги надо сказать следующее. Большинство заметок о войне 1914 года было опубликовано тогда в «Нойе цюрхер цайтунг». Я был тогда (и оставался до 1923 года) германским подданным. С тех пор мне, по сути, так и не простили в Германии, что я когда-то критиковал патриотизм и воинственность, и, хотя тогда, как и сегодня снова, непосредственно после проигранной войны, определенный слой в Германии был настроен очень мирно и очень интернационально и всячески откликался на мои мысли, недоверие ко мне не исчезло, и задолго до первых успехов национал-социализма я для официальной Германии принадлежал к безусловно подозрительным, с грехом пополам терпимым, нежелательным, в сущности, элементам. Затем, во времена своего владычества, гитлеровская партия с удовольствием отомстила моим книгам, моему имени, моему бедному берлинскому издателю.
Кто прочтет оглавление моей книги, увидит, что «политические», или злободневные, заметки я писал лишь в определенные годы. Однако из этого не надо делать вывод, будто в промежутках я опять засыпал и предоставлял мировой истории идти своим чередом. Это мне, к великому моему сожалению, после первого страшного пробуждения во время первой мировой войны никогда больше не удавалось. И кто займется всей совокупностью сделанного мною за жизнь, тот быстро заметит, что и в те годы, которые не дали статей на злобу дня, мысль о тлеющей у нас под ногами преисподней, чувство грозной близости катастроф и войн никогда не покидали меня. От «Степного волка», который среди прочего был тревожным предостережением от завтрашней войны и который соответственно бранили или высмеивали, до такого с виду далекого от времени и от реальности мира образов «Игры в бисер» читатель то и дело натыкается на это, да и в стихах эта нота слышится снова и снова.
Когда я называю свои статьи «политическими», я всегда беру это слово в кавычки, ибо политического в них нет ничего, кроме атмосферы, в какой они возникали. В остальном они - прямая противоположность политическому, ибо все эти заметки пытаются подвести читателя не к мировой арене и ее политическим проблемам, а к его собственному внутреннему миру, к его личной совести. В этом я отнюдь не един с политиками любых направлений и всегда останусь неисправим в том отношении, что признаю в отдельном человеке, в его душе области, для политических побуждений и форм недостижимые. Я индивидуалист и считаю христианское благоговение перед каждой человеческой душой самым лучшим и самым святым в христианстве. Возможно, что поэтому я принадлежу к полувымершему уже миру, что возникает, а кое-где уже и возник коллективный человек без одиночной души, который кладет конец всей религиозной, а также индивидуалистической традиции человечества. Желать этого или бояться этого не мое дело. Мне пришлось служить богам, которых я признавал живыми и способными помочь, и я пытался служить им и тогда, когда в ответ это вызывало вражду или насмешки. Путь, которым мне приходилось идти между требованиями мира и требованиями собственной души, не был ни красив, ни удобен, мне не хотелось бы идти им еще раз, и кончается он печально и большими разочарованиями. Но я доволен, что после первого пробуждения я в отличие от большинства моих коллег и критиков не был способен через каждые несколько лет переучиваться и переходить от одного знамени к другому.
Мое поведение, моя нравственная реакция на всякое большое политическое событие определялись после того первого пробуждения тридцать лет назад всегда инстинктивно и совершенно непроизвольно, мои суждения никогда не колебались. Поскольку я человек весьма аполитичный, меня самого удивляла эта надежность реакций, и я часто размышлял об источниках, из которых вытекал этот нравственный инстинкт, о воспитателях и учителях, которые, хотя я никогда систематически не интересовался политикой, сформировали меня таким образом, что я всегда бывал уверен в своем суждении и обладал повышенной сопротивляемостью массовым психозам и духовной заразе всякого рода. Надо признавать себя частицей того, что тебя воспитало, сформировало, определило, и поэтому, поразмыслив, я должен сказать: было три сильных, действовавших всю жизнь влияния, которые так воспитали меня. Это был христианский и почти совсем не националистический дух моего отчего дома, это было чтение великих китайцев, и это было не в последнюю очередь влияние единственного историка, к которому я когда-либо был привязан доверием, почтением и благодарным ученичеством, - Якоба Буркхардта[1].
Письмо к Адели[1]
Дорогая Адис! Вот я опять сажусь писать тебе - и ради тебя, и ради себя, ведь ты больна, а у меня, при моем одиночестве здесь, на нашем холме, одиночестве, какого ты не можешь и представить себе, тоже все время возникает потребность поговорить с человеком, довериться человеку, относительно которого я уверен, что он не поймет меня превратно и не злоупотребит моей откровенностью. Конечно, я живу не один, у меня есть Нинон, верный товарищ, но день иногда тянется долго, а она, как все домашние хозяйки, перегружена, а по вечерам я и так докучаю ей игрой в шахматы и чтением вслух.
Поэтому я сегодня утром решил написать тебе, послать привет и напомнить старые времена. Но это не так-то легко. У меня ведь опять нет никаких сведений о тебе; знаю только, что живется тебе плохо, что ты нуждаешься в таком уходе, который у вас невозможен, я не знаю даже, жива ли ты еще, сестричка, а если бы и знал, то все равно я могу представить себе тебя, но не могу представить себе твою жизнь, твою квартиру, твою комнату, твой день. У тебя еще есть квартира, это у вас считается уже великим счастьем, но квартира эта битком набита людьми и подвергается напору гостей, и как вы там вместе живете, о чем говорите, что думаете, всего этого мы здесь не представляем себе - ни ваших забот, ни ваших радостей, которые тоже ведь, наверно, случаются, все это происходит в бесконечно далекой, чужой, темной стране, чуть ли не на другой планете, где забота и радость, день и ночь, жизнь и смерть подчинены иным, чем у нас, правилам, имеют иные, чем у нас, формы и смысл. Это происходит там, в мифической Германии, которой мы до недавних пор боялись из-за ее агрессивной жестокости и боимся сегодня, как боятся умирающего или умершего перед нашей дверью соседа: он внушает нам ужас, приносит с собой неведомые страшные болезни и в своей смерти не менее жуток нам, чем был при жизни. Я ничего не знаю о делах, в которых и с которыми ты живешь, об одежде, которую ты носишь, о скатерти на твоем столе, о твоих чашках и тарелках; не знаю, сколь близко от твоих окон начинается этот ужас - разрушенные дома, развороченные улицы и сады, не знаю, насколько этот ужас и эта печаль входят в вашу каждодневную жизнь, насколько они зарубцевались и заглохли под порослью нового.
И, я уверен, подобно тому, как мы не представляем себе вашей жизни, вы вряд ли способны вообразить нашу. Может быть, вы представляете себе ее такой, какой она была до войны или даже до Гитлера, ведь нас беда миновала, мы, говорят, ничего не испытали, ничего не потеряли, не принесли никаких жертв, нам, жителям маленькой нейтральной страны, на ваш взгляд и на взгляд победителей, выпало незаслуженное счастье: мы нисколько не пострадали, у нас были и есть крыша над головой и каждый день миска супа. Думая о моей деревне и о моем доме, ты видишь, наверно, островок мира, маленький рай, а мы кажемся себе обедневшими, опустившимися, обманутыми в своих лучших надеждах. Один из наших германских друзей не может, полемизируя со статьей в швейцарской печати, удержаться от таких слов, как «обожравшиеся пряниками», а один знаменитый перевоспитатель вашего народа[2] сообщил мне, что такой человек, как я, который во время гитлеровщины и войны спокойно жил себе в солнечном Тессине, не имеет права голоса в сегодняшней Германии. Мне-то это может быть безразлично, поскольку я никогда не притязал и не буду притязать на право голоса в сегодняшней Германии; но это показывает, как видит нас мир. Мы сидели себе в солнечном Тессине и «обжирались пряниками», вот как просто можно увидеть и сформулировать то сложное, что пережили мы за эти годы. Что наши сыновья год за годом несли солдатскую службу, несли ее и тогда уже, когда Америка отнюдь не торопилась сделать военные выводы из своего возмущения Гитлером; что из-за Гитлера и авиабомб погиб весь труд моей жизни, а родные и близкие моей жены задушены газом в гиммлеровских лагерях - это для людей, ожесточенных войной и всякого рода горем, не стоит и упоминания. Короче, откуда ни взглянешь, везде между нами и тем, что находится за нашей границей, зияет пропасть отчужденности, непонимания и, конечно, обоюдного нежелания понимать.
Чтобы навести мост через эту отвратительную пропасть и обратиться к тебе без скованности и без маски, я должен повернуться спиной ко всему нынешнему и обратиться к нашим общим ценностям и воспоминаниям. Тогда все сразу становится на свои места. Тогда ты Адис, а я Герман, я не швейцарец, ты не немка и между нами нет никакого Гитлера, и если ты не можешь представить себе моей сегодняшней жизни, а я не могу представить себе твоей, то стоит лишь нам в царстве наших бесчисленных воспоминаний назвать имя какого-нибудь родственника, какого-нибудь соседа, какой-нибудь портнихи, какой-нибудь служанки, произнести название какой-нибудь улочки, какого-нибудь ручья, какой-нибудь рощицы - и образы эти сразу же встанут перед нами как живые, излучая такой покой, такую красоту и первозданную силу, до которых уже далеко расплывчатым и сумбурным образам нашей позднейшей жизни.
Дойдет ли до тебя мое письмо или нет, я теперь перешагнул пропасть, отбросил отчужденность и хочу поговорить часок с тобой, напомнить тебе и себе тот мир образов, который кажется таким невозвратимо далеким и все же может быть воскрешен, ожить и засиять в полную силу. Если мне и нелегко найти тебя в твоей теперешней Германии, в твоей нынешней квартире и теперешней домашней обстановке, то я сразу и полностью нахожу тебя, вспомнив дом на Мюллервег в Базеле и каштан в саду, или наш старый дом в Кальве, где можно было подняться по лестницам на несколько этажей и затем на самом верху, под крышей, выйти прямо в поднимавшийся на гору сад, или дорогу в Метлинген, с которым наш дом и наша жизнь были со времен доктора Барта[3] и знаменитого Блюмгардта[4] связаны близкими и дружескими отношениями, и летние воскресные утра, когда мы вдвоем брели туда через полные васильков и маков поля, и сухие пустоши с чертополохом, близ которого часто цвела горечавка с ее высокими стеблями. Будь ты здесь, мы могли бы беседовать. Ты бы вызвала к жизни еще сотни других картин и часть их пробудила бы и обновила во мне. Но и так они бесчисленны, как цветы на лугу, и когда мы принимаем их и открываемся им, воскресает не только золотая сказка нашего детства, а встает и образ мира, который нас окружал, растил и воспитывал, мир родителей и предков, столь же немецкий, сколь и христианский, столь же швабский, сколь и интернациональный мир, где каждая душа, и уж подавно каждая христианская душа, значила одинаково много и где ни еврей, ни негр, ни индус, ни китаец не были чужими и не вызывали нетерпимости. Благодаря миссионерской службе наших родителей и дедов даже эти цветные братья были особой составной частью нашего внешнего и внутреннего мира, мы не только знали о них и об их странах, мы знали и отдельных их представителей, которые, приезжая, гостили у нас; и когда у деда бывал гость из Индии, будь то индиец или вернувшийся оттуда европеец, в разговоре можно было услышать не только санскритское скандирование, но и слова и фразы на многих языках сегодняшней Индии. Да и в собственном нашем доме, в самой нашей семье - какая ненациональная - не то что националистическая - царила там атмосфера! Рядом с дедом-швабом была бабка-француженка, отец наш был русским подданным, а из нас, детей, старший, родившийся в Индии, был англичанином, второй, поскольку ему пришлось учиться в Швабии, натурализовался в Вюртемберге, а мы, остальные, были базельскими гражданами, потому что наш отец в свои базельские годы приобрел там «права гражданства». Конечно, не только эти обстоятельства сделали нас на всю жизнь неспособными ни к какому настоящему национализму, но они сыграли немалую роль. Хорошо для нас обоих, что среди разгула на земле национального чванства нам достаточно лишь вспомнить наше детство и происхождение, чтобы быть застрахованными от этого безумия. Поэтому ты никогда не была для меня «немкой», а я никогда не был для тебя «обожравшимся пряниками».
Прошлым летом я с помощью Нинон снова подготовил сборник своих стихов, третий за двадцать пять лет. Получилась красивая, портативная и дешевая книжечка, и на обороте титульной страницы написано «Посвящается моей сестре Адели». Тебе не довелось увидеть ее, но, может быть, это письмо все-таки дойдет до тебя, тогда ты хотя бы узнаешь, что во время этой работы, которая была ведь и ретроспективным обзором моей жизни, я думал о тебе и чувствовал тебя рядом с собой. А кроме того, я снова напечатал в дешевом народном издании знакомый тебе рассказ «Прекрасна юность»; это из моих ранних рассказов того времени, когда еще не было ни войн, ни кризисов, мой, да и твой, наверно, самый любимый, потому что он довольно верно передал и изобразил нашу юность, наш отчий дом и нашу тогдашнюю родину. Но что это был за мир, в котором мы выросли и который сформировал нас, это я в ту пору, когда писал свой рассказ, не совсем еще знал. Это был мир определенно немецкого и протестантского склада, но сообщающийся и связанный со всей землей, и это был целостный, единый, цельный, здоровый мир, мир без дыр и таинственных покровов, гуманный и христианский мир, в который лес и река, лисица и лань, сосед и тетки вписывались так же точно и органично, как рождество и пасха, латынь и греческий, Гете, Маттиас Клаудиус и Эйхендорф. Мир этот был богат и разнообразен, но он был упорядочен, он был точно отцентрован, и он принадлежал нам, как принадлежали нам воздух и солнечный свет, дождь и ветер. Что этот мир заболеет, заболеет смертельно, что он покроется смертельной коростой, проказой полуреальности и нереальности, уйдет от нас в туман полного отчуждения, чтобы оставить нам вместо себя призрачную сумятицу и пустоту нынешней картины мира - кто бы мог это подумать когда-то, до того как война и вся прочая дьявольщина столкнули нас с этим?
В том, что мы способны вернуться туда, способны нести в душе образ цельного, целостного, здорового, упорядоченного мира и беседовать с этим образом - в этом заключены наше сокровище и остаток счастья, а не в том, что у нас есть руки и ноги, крыша над головой и кусок хлеба. Тут у нас сохранился не только некий божественный, прекрасный, благородный мир, где мы находим убежище, где мы, при всей нашей разобщенности в настоящем, можем друг с другом встретиться и все друг о друге знать; тут у нас сохранилось и нечто такое, чего уже нет у наших детей и внуков или от чего у них остался лишь бледный отсвет. Тут я отыскиваю тебя в тени дедов и в шелесте деревьев прежних времен вновь молодой и веселой, и ты тоже находишь в этом краю молодой и цельный мой образ той поры. Мы думаем о жимолости и флоксах в садике нашей матери, об индийских статуэтках и тканях в шкафах наших деда и бабки, о запахе ларца из сандалового дерева, о клубах табачного дыма в кабинете деда и киваем друг другу, видим, как высится башня кальвской церкви, как на галерее, возле колоколов, на самом верху, городские музыканты трубят воскресным утром хорал, тот самый хорал, который мы тоже знаем благодаря Герхардту[5], Терштеегену[6] или Иоганну Себастьяну Баху, и входим в «парадную» комнату, где на рождество стоят елка и «Вифлеем»[7] и где у рояля на этажерке лежат тома хоралов и песен, зильхеровских и шубертовских, и клавиры наших ораторий. А еще в доме был другой Шуберт, бюст, он стоял высоко на шкафу, в передней, и изображал доктора Готхильфа Генриха Шуберта[81], автора «Символики сна» и «Истории души», который тоже когда-то был с этим домом в добрых отношениях. В этой просторной передней, выложенной большими из красного песчаника плитами, или дальше, в зале с тысячами книг, а не в саду, прятали на пасху при ненастной погоде яйца, и на самых красивых ярко выделялись на медово-коричневом фоне букетики цветов, травинки и папоротники. Во всех этих комнатах сохранял свое могущество, когда сам он уже умер, дух деда, о нем нельзя было не вспомнить при каждом возвращении домой на каникулы. Иногда мы боялись, но куда больше почитали и любили его, индийского мудреца и кудесника, и как замечательно, как трогательно когда-то в один критический день прогнал он улыбкой и превратил в шутку страх, который я перед ним испытывал! Мне было четырнадцать лет, и я совершил великий проступок, я убежал из своей школы, из маульбронского монастыря. На следующий день после моего возвращения на родину мне непременно надо было сходить к деду, я должен был предстать перед ним, явиться к нему на суд и расправу. С колотящимся сердцем поднялся я по лестнице к его кабинету, постучал, вошел, подошел к бородатому старику, широко сидевшему на кушетке, протянул ему руку. И что же сказал он, внушавший боязнь, всезнающий? Он приветливо посмотрел на меня, увидел мое бледное, испуганное лицо, улыбнулся чуть ли не плутовато и произнес: «Я слышал, Герман, что ты совершил путешествие гения?» «Путешествие гения» - так называли в его студенческие годы подобные эскапады. Больше он не сказал ни слова по этому поводу.
Оттуда, от деда и от родителей, светит все, что сделало нашу юность прекрасной, а нашу дальнейшую жизнь плодотворной, теплой и полной любви. Добрая мудрость деда, неистощимая фантазия и любовь нашей матери, утонченная способность к страданию и чуткая совесть нашего отца - они нас воспитали, и, хотя мы никогда не казались себе людьми одного с ними ранга, мы все-таки из того же теста, сотворены по их образу и подобию и какой-то их свет пронесли оттуда в этот все более мрачный и незнакомый мир. К тому же ведь мы оба не отрекались от культа предков и посвятили их памяти не одну работу и не один исписанный лист. Это тоже не пропадет, даже если наши книги сейчас раскуплены, сожжены и уничтожены. Если так быстро идет прахом пустое и искусственное, если так скоро ничего не остается, ни от тысячелетних царств, ни от других хвастливых химер, то все, что принадлежит действительно значительному, органичному, цельному миру, рассчитана на долгий срок. Мы ведь увидели это, сравнив наши воспоминания юности с воспоминаниями темной поры войн и диктаторов: последние - не больше чем тени и паутина, а первые выпуклы, конкретны и красочны, как сама жизнь.
И поэтому стоит лишь нам на какой-то час отвлечься, мы снова богаты, мы снова - царские дети, как во времена, когда я приносил тебе на каникулах моих поэтов или картины моих художников и бывал вместе с тобою у них в гостях. Конечно, такая возможность есть у нас не в любую минуту, только в хорошую и редкую, наши дни - это дни старых и разочарованных людей, и нам не так уж важно, чтобы они длились дальше. Думаю, что у вас там не очень боятся смерти и не недооценивают ее, в этом, как и во многом другом, вы, наверно, опередили нас.
Иногда мне хочется поговорить с тобой о том или другом, что я вижу иначе, чем видит это сегодняшний мир. Я думаю о людях, которые горели среди вас, как светочи, и которых никто не видел! В то время как десяток диких болванов играли в «великих людей», они жили у вас на глазах и как бы не жили, их не замечали, от них ничего не зависело. Одним из них был мой дорогой Гуго Балль[9]; теперь, через много лет после его смерти, то тут, то там вновь открывают его тревожные книги. Одним из них был Кристоф Шремпф[10]; он был известен в кругу друзей, его семнадцатитомный труд никому не ведом и никем не открыт, люди занимались и занимаются другими, предоставляя будущему отдать ему должное, предпочитая кормиться бумагой из рук тайных советников, чем благородным хлебом из его добрых рук. Так еще, видно, богат мир, если он способен на подобное расточительство! По моему убеждению, Шремпф и его труд, как всякий благородный подвиг и всякая чисто мученическая смерть среди ужасов этого темного времени, не пропали напрасно. Если благодаря чему-либо мир выздоровеет, а человечество оправится и очистится, то только благодаря подвигам и страданиям тех, кого нельзя было ни согнуть, ни купить, кто предпочел расстаться с жизнью, чем со своей человечностью, и к числу их принадлежат такие наставники, как Шремпф, чье значение во всем его объеме смогут увидеть только потомки. Часто кажется, что на свете нет больше ничего настоящего, подлинного - ни человечества, ни доброты, ни правды; но они все-таки есть, и мы не хотим принадлежать к тем, кто забыл их.
Прекрасно было сентябрьское солнце в те высокие праздники нашего детства, когда мы ели под старыми каштанами пирог со сливами, а мальчики стреляли в деревянного орла, как то делал уже ходатай по делам бедных Зибенкез. Прекрасны были скрытые тропки в высоком пихтарнике с папоротниками и красными цветами наперстянки, и порой наш отец останавливался у какой-нибудь пихты, делал надрез перочинным ножом и набирал в пузырек несколько капель смолы, которую хранил, чтобы при случае смазать ранку или просто понюхать. Ведь в воздухе и запахах, в кислороде и озоне он знал толк и умел ими наслаждаться, этот чистый человек, вообще-то не позволявший себе предаваться ни наслаждениям, ни порокам. Хотел бы я еще раз увидеть его могилу на прекрасном корнтальском кладбище, но в нашем положении лучше не иметь подобных желаний.
Умей я писать такие письма, какие писала когда-то наша мать, ты многое узнала бы о нашей теперешней жизни. Но я не умею писать так, да и наша любимая мать, великая рассказчица, сегодня, наверно, онемела бы тоже. Нет, нет, она умудрилась бы, даже в хаос этой жизни она внесла бы порядок и сумела бы сделать ее поддающейся рассказу.
За письмом к тебе прошел день, в окна виден голубоватый снег, я уже зажег свет и так уехал, как устают только старики.
Надо отвыкать от желаний. Но я все-таки желаю, чтобы это письмо когда-нибудь дошло до тебя и было не последним, которое я пишу тебе.
1946
Письмо в Германию
Странно обстоит дело с письмами из Вашей страны! В течение многих месяцев письмо из Германии было для меня событием редким и почти всегда радостным. Письмо приносило весть, что еще жив тот или иной друг, о котором я долго ничего не знал и за которого, быть может, боялся. Оно означало также маленькую, правда случайную и ненадежную, связь со страной, которая говорила на моем языке и на попечение которой я оставил бы все, что сделал за жизнь, со страной, еще несколько лет назад дававшей мне хлеб и моральное оправдание моей работы. Такое письмо приходило всегда неожиданно, всегда удивительными обходными путями, в нем не было болтовни, было только самое важное, и написано оно часто бывало наспех, за те несколько минут, что его ждали машина с красным крестом или возвращающийся домой швейцарец, или оно, написанное в Гамбурге, Галле или Нюрнберге, приходило через несколько месяцев кружным путем через Францию или Америку, куда захватил его, отправляясь в отпуск на родину, какой-нибудь доброжелательный солдат.
Затем эти письма зачастили и стали длиннее, и к ним прибавилось множество писем из лагерей военнопленных из самых разных стран, печальных клочков бумаги из-за колючей проволоки лагерей в Египте и Сирии, из Франции, Италии, Англии, Америки, и среди этих писем было уже много таких, которые не доставляли мне радости и отвечать на которые у меня скоро пропала охота. В большинстве этих писем военнопленных содержались горькие жалобы и жестокая брань; авторы их требовали невозможного в смысле помощи, подвергали саркастической критике бога и мир, а порой и просто угрожали новой войной. Случались тут и благородные исключения, но редко. Вообще же люди говорили только о том, что им довелось претерпеть, и горько жаловались на несправедливость долгого плена. О другом, о том, что они, как немецкие солдаты, годами творили с миром, не говорилось ни слова. Мне при этом всегда приходила на память фраза из одной немецкой военной книги времен вторжения в Россию. Автор, человек вообще-то невредный и более или менее свободный от нацистского мышления, признался в ней, что, хотя каждого солдата весьма занимала мысль о возможности быть убитым, другая сторона дела - убивать самому - была всего лишь вопросом «тактическим». Все эти авторы писем кивали на Гитлера, никто не считал себя совиновным.
Один пленный во Франции, не малое дитя, а промышленник и отец семейства, с докторской степенью и хорошим образованием, задал мне вопрос: что, по-моему, мог сделать благонамеренный, доброжелательный немец в годы гитлеровщины? Он, мол, не в силах был ничему помешать, не в силах ничего предпринять против Гитлера, это стоило бы ему хлеба и свободы, а в итоге и жизни. Я мог только ответить: опустошение Польши и России, осада, а затем безумное удерживание Сталинграда до горького конца тоже были, надо полагать, не совсем безопасны, и все же немецкие солдаты старались тут вовсю. И почему это они открыли Гитлера лишь в 1933 году? Разве не должны были они знать его по меньшей мере со времени мюнхенского путча[1]? Почему они, вместо того чтобы поддерживать и беречь единственный отрадный плод первой мировой войны, немецкую республику, почти единодушно саботировали ее, почему единодушно голосовали за Гинденбурга[2], а позднее за Гитлера, при котором, правда, стало потом опасно для жизни быть порядочным человеком? Авторам таких писем я при случае напоминал также о том, что немецкая беда началась ведь еще до Гитлера, что уже летом 1914 года многих могло, в сущности, насторожить хмельное ликование народа по поводу подлого австрийского ультиматума Сербии[3]. Я рассказывал, что пришлось выдержать и вынести в те годы Ромену Роллану, Стефану Цвейгу, Францу Мазереелю[4], Аннетте Кольб[5] и мне. Но этого никто не слушал, никому вообще не нужно было никакого ответа, никто не хотел действительно дискутировать, действительно чему-то поучиться, о чем-то задуматься.
Или вот что написал мне из Германии один достопочтенный старик священник, человек набожный, храбро державшийся и сильно пострадавший при Гитлере: он лишь теперь прочел мои заметки о первой мировой войне, написанные двадцать пять лет назад, и как немец и христианин целиком соглашается с каждым их словом. Но он должен и честно добавить: попадись ему на глаза эти статьи тогда, когда они были новы и злободневны, он возмущенно отшвырнул бы их прочь, ибо тогда, как всякий порядочный немец, был непоколебимым патриотом и националистом.
Все чаще и чаще стали приходить письмами теперь, с тех пор как они снова доставляются обычной почтой, мой дом каждый день наводняется ими в количестве гораздо большем, чем следовало бы и чем я способен прочесть. Но, хотя отправителей сотни, все письма, в сущности, только пяти или шести видов. За исключением немногих настоящих, совершенно личных и неповторимых документов нашей бедственной эпохи - и к этим немногим, к лучшим из них принадлежит и Ваше дорогое мне письмо, - все эти письма суть выражение определенных, повторяющихся, часто слишком очевидных позиций и потребностей. Очень многие из их авторов сознательно или неосознанно хотят уверить отчасти адресата, отчасти цензуру, отчасти самих себя в своей невиновности в немецкой беде, и у многих, несомненно, есть все основания для подобных усилий.
Таковы, например, все те старые мои знакомые, которые прежде годами писали мне, но перестали писать, как только заметили, что перепиской со мной, человеком, состоящим под наблюдением, можно навлечь на себя неприятности. Теперь они сообщают мне, что еще живы, что всегда тепло вспоминают меня и завидуют мне, счастливцу, живущему в швейцарском раю, что они, как я, конечно, понимаю, никогда не сочувствовали этим проклятым нацистам. Многие из непричастных, однако, состояли долгие годы в партии. Теперь они подробно рассказывают, как все эти годы они были одной ногой в концентрационном лагере, а мне приходится отвечать им, что всерьез принимать я могу только тех противников Гитлера, которые были в этих лагерях обеими ногами, а не одной ногой в лагере, а другой в партии. Еще я напоминаю им о том, что в годы войны мы здесь, в швейцарском «раю», каждый день могли ждать «добрососедского» визита коричневых бесов и что в нашем раю нас, людей из черного списка, уже ждала тюрьма или виселица. Впрочем, я признаю, что время от времени творцы нового порядка в Европе бросали нам, черным овцам, и соблазнительные приманки. Так, уже довольно поздно я был, к своему удивлению, приглашен одним швейцарским согражданином[6] и именитым коллегой приехать за «его» счет в Цюрих, чтобы обсудить с ним мое вступление в основанный министерством Розенберга союз европейских коллаборационистов.
Есть и старые простодушные «перелетные птицы»[7] - эти пишут мне, что тогда, году в 1934-м, они после тяжелой внутренней борьбы вступили в партию с единственной целью - стать там благотворным противовесом слишком диким и грубым элементам и т. д.
У других - комплексы скорее частного свойства, и, живя в жестокой нужде, среди забот, право, более важных, они находят в избытке бумагу, чернила и темперамент, чтобы выразить мне в длинных письмах свое глубокое презрение к Томасу Манну или свое возмущение тем, что я дружу с таким человеком.
И еще целую группу составляют те, кто открыто и решительно помогал тянуть триумфальную колесницу Гитлера, некоторые коллеги и друзья прежних времен. Они пишут мне трогательно-дружеские письма, подробно рассказывая о своем быте, о последствиях бомбежек и домашних заботах, о своих детях и внуках, словно ничего не случилось, словно ничего не стояло между нами, словно они не помогли убить родных и друзей моей жены - она еврейка, - а труд моей жизни дискредитировать и в конце концов уничтожить. Ни один из них не пишет, что он раскаивается, что смотрит теперь на вещи иначе, что он был ослеплен. И ни один не пишет, что он был нацистом и останется им, что ни в чем не раскаивается и хранит верность своему делу. Какой нацист станет хранить верность своему делу, когда дело это кончилось плохо?! Ах, от всего этого просто тошнит.
Небольшое число корреспондентов ждут от меня, что я стану сегодня на сторону Германии, поеду туда, буду участвовать в ее перевоспитании. Гораздо многочисленнее те, кто призывает меня возвысить свой голос и в качестве нейтрального представителя человечества выступить перед всем миром с протестом против злоупотреблений или нерадивости оккупационных армий. Вот сколько тут оторванности от мира, сколько непонимания мира и современности, сколько трогательной и позорной наивности!
Возможно, весь этот частью наивный, частью злобный вздор Вас ничуть не удивит, возможно, Вы знаете все это лучше, чем я. Вы ведь намекаете, что написали мне длинное письмо по поводу духовной ситуации в Вашей бедной стране, но по цензурным причинам не послали его. Так вот, я хотел только дать Вам представление о том, чем заполнена большая половина моих дней и часов, а тем самым и объяснить, почему отдаю в печать это письмо к Вам. Не могу же я ответить на кипы писем, большинство которых к тому же требует и ждет невозможного, а между тем среди этих писем есть и такие, просто отмахиваться от которых, по-моему, непозволительно. Их авторам я и пошлю это печатное письмо - хотя бы уже потому, что все они доброжелательно и озабоченно спрашивают, как мне живется.
А Ваше дорогое письмо нельзя отнести ни к одной категории, в нем нет ни одного шаблонного слова и нет - поразительная вещь в нынешней Германии! - ни одного слова жалобы или обвинения. Оно подействовало на меня необычайно благотворно, Ваше доброе, умное и храброе письмо, и то, что в нем сказано о собственной Вашей судьбе, глубоко взволновало меня. Так, значит, за Вами тоже, как и за нашим дорогим другом[8], следили и шпионили, Вас тоже, значит, бросили в гестаповскую тюрьму и даже приговорили к смерти! Читая, я ужасался, тем более что и мои письма, при всей осторожности, служили обвинением против Вас, но, по сути, Ваши сообщения не были для меня неожиданностью. Ведь я никогда не представлял себе, чтобы Вы могли быть одной ногой в тюрьме или в лагере, а другой ногой в партии, никогда не сомневался в том, что Вы храбро и деятельно, как то подобает Вашему ясному взгляду на вещи и Вашему уму, стоите на той стороне, где следует. И тут уж Вы, конечно, находились в величайшей опасности.
Видите, с большинством моих немецких корреспондентов у меня не находится общего языка. Многое напоминает конец первой мировой войны, правда, сегодня я старше и недоверчивее, чем тогда. Так же как сегодня, все мои немецкие друзья едины в осуждении Гитлера; тогда, при образовании немецкой республики, они были едины в осуждении милитаризма, войны и насилия. С нами, противниками войны, повсюду братались, поздновато, но от души, Ганди и Роллана чтили почти как святых. «Никогда больше не воевать!» таков был девиз. Но уже через несколько лет Гитлер мог отважиться на свой мюнхенский путч. Вот почему я не слишком всерьез принимаю сегодняшнее единодушие в проклятиях Гитлеру и не вижу в этом единодушии никакой гарантии политической переориентировки или хотя бы политического просвещения и опыта. Но всерьез, очень даже всерьез принимаю я переориентацию, очищение и зрелость тех одиночек, которым в чудовищных бедствиях, в адских муках этих лет открылся путь внутрь, путь к сердцу мира, у которых открылись глаза на вневременною реальность жизни. Эти пробудившиеся ощутили, пережили выстрадали эту великую тайну совершенно так же, как пережил ее некогда, в горькие годы после 1914-го, я, только происходило это теперь под куда большим нажимом, при более жестоких страданиях, и, несомненно, несметное множество людей пало и погибло на пути к этому ощущению и пробуждению, так и не успев достичь зрелости.
Из- за колючей проволоки одного африканского лагеря для военнопленных один немецкий капитан пишет мне о «Записках из Мертвого дома» Достоевского и о Сиддхарте, пишет о том, как в жалких условиях, не позволяющих уединиться ни на минуту, он стремится пойти тропой погружения и добраться до самого нутра, «хотя воля к отрешению от всего поверхностного не стала окончательной и бесповоротной». А один бывший узник гестапо пишет: «Благодаря тюрьме я многому научился, и обывательские заботы меня больше не угнетают». Это положительный опыт, это свидетельства подлинной жизни, и я мог бы привести еще много таких слов, будь у меня время и хорошее зрение, чтобы перечесть все эти письма.
На Ваш вопрос, как мне живется, ответить просто. Я состарился и устал, и уничтожение моей работы, начатое гитлеровскими министерствами и доведенное до конца американскими бомбами, сделало основным тоном моих последних лет разочарование и печаль. Утешаюсь тем, что при этом основном тоне еще возможны какие-то маленькие мелодии, и в иные часы мне и теперь еще удается жить вне времени. Чтобы от моей работы что-то осталось, я время от времени устраиваю швейцарское переиздание какой-нибудь своей много лет назад исчезнувшей книги, это не более чем жест, ибо эти издания существуют, конечно, лишь для Швейцарии.
Старость и склероз прогрессируют, иногда кровь отказывается поступать как следует в мозг. Но эти беды имеют в конце концов и свою хорошую сторону: не все уже воспринимаешь так ясно и так горячо, многое пропускаешь мимо ушей, иных ударов и булавочных уколов вообще не чувствуешь, и часть существа, которое некогда называлось «я», находится уже там, где скоро будет все целиком.
К хорошим вещам, для восприятия которых у меня еще есть возможность, к вещам, способным еще доставить мне радость и затмить все мрачное, принадлежат редкие, но все же имеющиеся признаки дальнейшего существования подлинной духовной Германии, а ищу я их и нахожу не в усердии теперешних деятелей культуры и конъюнктурных демократов Вашей страны, а в таких отрадных выражениях решимости, бодрости и храбрости, лишенной иллюзий уверенности и готовности, как, например, Ваше письмо. Благодарю Вас за него. Берегите этот росток, храните верность свету и духу, вас очень мало, но вы, может быть, соль земли.
1946
Слово к участникам банкета по случаю Нобелевского торжества
Сердечно и почтительно приветствуя ваше праздничное собрание, я прежде всего выражаю свое сожаление по поводу того, что сам не могу быть вашим гостем, не могу сам приветствовать вас и поблагодарить. Здоровье мое всегда было очень слабым, а передряги всех лет после 1933 года, уничтожившие в Германии весь труд моей жизни и непрестанно возлагавшие на меня тяжкие обязанности, сделали меня надолго совсем инвалидом. Но духовно я не сломлен и чувствую себя связанным со всеми вами прежде всего той мыслью, которая лежит в основе Нобелевского фонда, мыслью о сверхнациональности и интернациональности духа и его обязанности служить не войне и разрушению, а миру и примирению. В том, что присужденная мне премия одновременно означает признание немецкого языка и немецкого вклада в культуру, я вижу жест миролюбия и доброй воли возобновить духовное сотрудничество всех народов.
Но мой идеал отнюдь не состоит в сглаживании национальных характеров ради духовно унифицированного человечества в целом. О нет, да здравствуют многообразие, разнообразие и градации на нашей милой земле! Это великолепно, что есть много рас и народов, много языков, много разновидностей склада ума и мировоззрений. Если я ненавистник и непримиримый противник войн, завоеваний и аннексий, то в числе прочего и потому, что жертвой этих темных сил оказываются многие исторически сложившиеся, глубоко индивидуальные, многообразнейшие особенности человеческой культуры. Я враг «grands simplificateurs» [«Великих упростителей» (фр.)] и сторонник качества, сторонник сформировавшегося, неподражаемого. И поэтому я как ваш благодарный гость и коллега приветствую вашу страну Швецию, ее язык и культуру, ее богатую и гордую историю, ее стойкость в сохранении и развитии своей естественной самобытности.
Я никогда не был в Швеции, но уже десятки лет ко мне приходили из вашей страны добрые и дружеские дары, с тех пор как я получил из Швеции первый подарок: это было лет сорок назад, и это была шведская книга, первое издание «Легенд о Христе» с собственноручной надписью Сельмы Лагерлеф[1]. В ходе лет у меня было много драгоценного общения с вашей страной - и вот последний великий подарок, которым она меня только что неожиданно одарила. Благодарю ее от всей души.
1946
Благодарность и нравоучительное замечание
Этими строчками мне хочется поблагодарить за присланные мне поздравления с Гетевской премией. Мои чувства и мысли при получении этих поздравлений были столь двойственны, что мне оказалось трудно выразить их хотя бы частично. Прошу моих друзей быть снисходительными к тому, что получилось.
Многие из вас будут удивлены, а то и смущены тем, что я принял эту честь, и правда, моя первая, чисто инстинктивная реакция на нее была не «да», а «нет». Для такой безотчетной реакции нашлись резоны вроде следующих: для старого, и без того переутомленного человека это будет чувствительным добавочным бременем. Кроме того, это создаст видимость некоего примирения с официальной Германией. Да и само по себе было бы неверно и странно принимать в форме этой премии некую компенсацию или мзду от страны, банкротство которой я вторично целиком разделяю и которая лишила меня доверенного ей труда моей жизни. Нет, говорил я себе в этом первом порыве, от Германии я смею ждать и требовать удовлетворения моего простого права, моей реабилитации после шельмования, которому меня подвергали при Геббельсе и Розенберге, восстановления моей работы или хотя бы части ее и естественного, простейшего вознаграждения в виде денег и куска хлеба. Но ведь такой Германии, во власти которой было бы исполнить это мое желание, больше не существует. И какими колючими и сложными, какими острыми и тяжелыми были со времени первой мировой войны отношения между этим загадочным, великим, капризным народом и мной! Как раз в те дни, когда мне надо было решить, принимать ли премию, из Германии снова приходили кипы ругательных писем, и в них я, в общем-то, видел довольно адекватное выражение отношений между мною и этим народом, чей язык был моим орудием и моей духовной родиной и чье политическое поведение в мире я с 1914 года наблюдал, да и не раз комментировал со все большей неприязнью.
Но не успел я осознать эти первые порывы, как нашлись столь же убедительные контрдоводы. Ведь эта честь была предложена мне не той Германией, которой больше не существовало, а иным, старым, демократичным, связанным с еврейской культурой городом Франкфуртом, вызывавшим торжествами в церкви святого Павла[1] ненависть Гогенцоллернов, предложена комитетом, который в дни тяжких испытаний при Гитлере вел себя не просто пристойно, а действительно храбро и прекрасно знал, что, выбрав меня, снова вызовет вражду к себе со стороны того слоя народа, откуда как раз и приходили эти злобные письма, побежденного в данный момент, но отнюдь не исчезнувшего с лица земли слоя националистов-фанатиков.
Если бы с получением премии была связана для меня какая-либо материальная выгода, я, конечно, не смог бы ее принять. Но это не так, денежная сумма останется в Германии и будет раздарена.
Премии и почести - это не совсем то, чем они кажутся нам в молодости. На взгляд награжденного, это не удовольствие, не праздник и не что-то заслуженное им. Они - маленькая составная часть того сложного, построенного в основном на недоразумениях феномена, который называется известностью, и видеть в них нужно то, чем они являются: попытки официального мира отделаться от смущения при виде неофициальных успехов. Это с обеих сторон символический жест, акт воспитанности и вежливости.
Тот факт, что премия носит имя Гете, наперед запрещает награжденному считать себя достойным ее. Большинство награжденных ранее, наверно, и не считали себя достойными. Ни с художником, ни с человеком Гете мы, дети страшного времени, не смеем и сравнивать себя. Тем не менее я с усмешкой вспоминаю некоторые его слова о характере немцев и в иные минуты думаю, что, будь Гете нашим современником, он в какой-то мере согласился бы с моим диагнозом обеих великих болезней нашего времени. Ведь нынешним состоянием человечества мы обязаны, по-моему, двум душевным болезням: мании величия, которой страдает техника, и мании величия, которой страдает национализм. Они определяют облик нынешнего мира и его самосознание, они принесли нам две мировые войны с их последствиями и повлекут за собой, прежде чем отбушуют, еще много аналогичных последствий.
Сопротивление обеим этим болезням мира - вот в чем состоит сегодня важнейшая задача духа на земле и его оправдание. Этому сопротивлению служила и моя жизнь, маленькая волна в потоке.
Довольно нравоучений. Для нас, людей старых, особенно когда нам плохо, мир - это прежде всего нравственный феномен, нравственная проблема, и лицо мира то ужасно, то мрачно. А для ребенка, для преданного богу праведника, для поэта, для мудреца мир - это нечто совсем другое, и у него тысячи лиц, в том числе несказанно прелестных. И если я сегодня немного пользуюсь правом стариков и морализирую, то не будем за этим забывать: завтра или послезавтра, по эту ли или по ту сторону смерти я, возможно, опять буду поэтом, праведником, ребенком, и мир, и мировая история предстанут мне уже не нравственной проблемой, а вечным, божественным зрелищем, книжкой с картинками.
И наша смертельно больная Европа, полностью отказавшись от своей ведущей и активной роли, может быть, снова станет понятием, несущим в себе заряд высшей ценности, тихим вместилищем, сокровищницей благороднейших воспоминаний, прибежищем душ - примерно в том смысле, в каком до сих пор мои друзья употребляли вместе со мной магическое название «Страна Востока».
1946
Вильгельму Шуссену[1], Тюбинген
1 марта 1946
Дорогой господин Шуссен,
спасибо Вам за Ваше милое письмо от 14 февраля и за милого Шейфеле[2]! Я давно уже жду возможности послать книги в Вашу страну; как только будет оказия, Вы что-нибудь получите.
Ваше письмо тронуло меня, но и очень испугало. Вы, значит, решительно ни о чем не знали! Не знали, что мюнхенский путч Гитлера показал, как он опасен, не знали, что ваши «республиканские» власти баловали его, вместо того чтобы наказать, и т. п., и т. п. вплоть до мерзкого бокенгеймского документа[3], который задолго до прихода Гитлера к власти был напечатан во всех германских газетах и должен был окончательно открыть глаза каждому, кто хоть мало-мальски не хотел быть слепым. А потом начиная с 1935 года не было курорта в Вашей стране, возле которого не бросалось бы в глаза большое объявление «Евреи нежелательны», не говоря уж о встречавшейся на каждом шагу надписи «Жиды, сдохните», по которой любой, кто не был слеп, мог ясно понять, что не за горами погромы. Нет, уже за много лет до своего прихода к власти Гитлер перестал быть для меня загадкой, перестал быть загадкой, к сожалению, и немецкий народ, который потом выбрал этого сатану, перед ним преклонялся и разрешал ему творить любые мерзости. Я рад, что уже во время первой войны порвал с Германией и ее проклятой политикой пушек. Жизнь без родины - тоже не сахар, но она была мне бесконечно милее, чем соответственность за немецкую слепоту и равнодушную тупость в делах политических. Что и такой человек, как Вы, мог остаться слепым и наивным, это, если глядеть отсюда, со стороны, просто непостижимо. Что люди типа Корфица Хольма ни о чем не знали и не хотели знать, это меня нисколько не удивляет. Большинство моих друзей в Германии знали, что происходит, и одни в 1933 году сразу же эмигрировали, а другие исчезли в застенках гестапо, как исчезли в гиммлеровских печах в Освенциме почти все до одного родные и близкие моей жены. И вы обо всем этом ничего не знали! Никто вам, конечно, не поверит, ибо представить себе, как можно ничего не знать и быть невиновным, когда ты уже по колено в крови, ни один другой народ не в состоянии.
Но хватит об этом, что толку... В моих симпатиях к германским друзьям происшедшие события мало что изменили, ведь жизнь состоит не только из политики. Для нас за границей хуже всего была, собственно, полоса между 1933 и 1939 годами, когда эта мерзость все росла и росла и не видно было никаких признаков того, что мир возмутится и объявит ей войну. Начало войны было для нас, несмотря ни на что, облегчением. Наконец что-то произошло! И мы желали гибели Гитлера, и мы молились о гибели его полчищ, хотя в них не счесть было моих родных и близких.
Сегодня нас навестит епископ Вурм[4], который находится сейчас в Швейцарии. Мой верный берлинский издатель жив, он долго был узником гестапо, но мои письма до него не доходят; я давно отказался от надежды дожить до восстановления моей родины. Обойдутся и без меня, я устал от мира и уже не привязан к нему. Сердечный привет Вам от Вашего...
Д-ру Пауле Филиппсон, Базель
май - июнь 1946
Дорогая, глубокоуважаемая госпожа Филиппсон,
спасибо за Ваше доброе письмо! Я, правда, не могу разделить Ваших радужных взглядов на будущее и на влияние, которое окажет на немецкое мышление «Игра в бисер», я человек усталый, разочарованный и скептический и пока даже не верю, что какая-либо моя книга там, в Германии, действительно выйдет; и все же Ваше милое письмо доставило мне радость. Практически дело обстоит так, что Зуркамп уже больше года назад получил лицензию и анонсирует «Игру в бисер»; но, даже если сегодня или завтра действительно удастся приступить к печатанию, бумаги, на которую может надеяться Зуркамп, хватит самое большее на тысячу экземпляров.
Своим «Письмом в Германию» я уже совсем недоволен; тем не менее я заказал несколько сотен оттисков, которые еще не готовы, специально чтобы разослать их по Германии. Но что факт, то факт: у немецкого народа в целом нет ни малейшего чувства ответственности за то, что он причинил миру и себе самому. Доносятся отдельные голоса вроде трогательного голоса госпожи М., чьи строки мне довелось прочесть. Но они крайне редки, и как раз этим немногим, вовсе не нуждающимся в напоминаниях о действительности, причиняешь своими неуклюжими попытками только боль, я уже не раз в этом убеждался к предпочел бы вообще замолчать. Но когда каждый день приходит кипа писем, нельзя оставаться совершенно бездеятельным. Ах, все неверно, что бы ты ни сделал в таком положении! Если бы можно было практически помочь! Пока я отправлял посылки в Германию, у меня не было чувства, что я делаю что-то бесполезное, но, за тремя исключениями, - а посылок было послано много подтверждений насчет их доставки не поступало!
И все-таки не перестаешь полагать, что должны же со временем и в Германии заговорить о том, что народу не надо быть только объектом, только управляемой и насилуемой массой, а можно быть правомочным и способным отвечать за свои поступки субъектом.
Несколько дней подряд почти не прекращались грозы, а с тех пор чуть ли не без перерыва льет дождь, и везде целые озера воды, и стало холодно. Но из валисского замка Мюзо[1] мы позавчера получили букет роз из сада Рильке, присланный Региной Ульман[2], которая сейчас там. А из моего родного городка Кальва французская администрация пригласила меня приехать на затеваемый гессевский праздник. Я посмеялся и вспомнил: когда-то, еще в начале первой войны, в кальвском местном совете прозвучало предложение назвать моим именем улицу, но нашлись умные люди, которые тогда уже предчувствовали, что я скоро стану, чего доброго, не украшением, а позорным пятном, как то и случилось, и от проекта этого отказались. [...]
Господину Л. Э., Витце
25 июня 1946
[...] По Вашему письму я вижу только, что Вы ничего не усвоили из мыслей, которые содержатся в моих книгах. Вместо того чтобы задуматься о собственной вине и о собственных внутренних возможностях самоанализа и поворота к лучшему, Вы судите другие народы. Таким путем вперед не продвинешься. Вы говорите также, что проиграли войну, потому что были хуже подготовлены к ней. Это одна из разновидностей немецкой лжи, распространенных еще и сегодня. Войну эту, с сатанинским безумием развязанную вашим нападением на соседние страны, вы проиграли не из-за этого; когда она началась, ни Англия, ни Франция, ни Россия не были серьезно подготовлены к ней. Вы проиграли ее потому, что немецкая страсть захватывать и убивать снова стала невыносима для всего мира. А против кого весь мир, тот терпит поражение. А потерпев поражение, пытается, вместо того чтобы извлечь из него какой-то урок, придираться к другим. Обращайтесь с этим к победителям, не ко мне. [...]
Это мое первое и последнее письмо к Вам. Вы не извлечете из него никакого урока, потому что не хотите, но я, к сожалению, был все-таки обязан его написать.
Томасу Манну
Монтаньола, 25 октября 1946
Дорогой господин Томас Манн,
великий недуг, угнетающий духовную часть Европы и меня, родил и нечто приятное, подарив мне письмо от Вас, которым Вы очень обрадовали меня. Спасибо от души за этот знак памяти в минуту серьезного кризиса моей жизни.
Через несколько дней я покину Монтаньолу (почтовым адресом она будет служить и впредь), чтобы попробовать пожить в санатории одного моего приятеля-врача. Дом в Монтаньоле будет - по крайней мере на эту зиму заперт. Содержать его в порядке стало в последние годы для его хозяйки так трудно и тягостно, что эта тяжесть сожрала или, во всяком случае, сильно омрачила все другое. Таков важнейший внешний повод для моего скверного состояния. К этому прибавляется физическая слабость: трудно жить, когда годами не бывает буквально и дня без боли, причем боли не в коленях, в пальцах ног или спине (с подагрой, ревматизмом и т. п. я всегда без особого ропота справлялся), а в глазах и в голове.
Но, конечно, внутренние неурядицы важнее и меньше поддаются контролю.
Итак, я попробую уединиться в санатории, где, кстати, не собираюсь проходить какого-либо курса лечения, а хочу только отдохнуть, избавившись от некоторых каждодневных забот. Может быть, это удастся, и, может быть, вместе со временем высвободится и часть сил для какой-нибудь славной работы. Благодаря сосредоточенности на «Игре в бисер» я пережил все годы гитлеровщины без крушений, но, когда работа кончилась и уйти в нее уже было нельзя, моя позиция в войне нервов, которую весь мир ведет против человечности, стала очень незащищенной, и, хотя я несколько лет держался, сейчас выясняется, что при этом я сильно страдал и многое потерял.
Еще одно. То, что я сказал в «Словах благодарности» о Европе, значит для меня гораздо больше, то есть имеет гораздо более положительный смысл, чем для Вас. Европа, которую я имею в виду, будет не «сувенирной шкатулкой», а идеей, символом, источником духовной силы, так же как идеи «Китай», «Индия», «Будда», «Конфуций» - это для меня не просто приятные воспоминания, а самое реальное, самое содержательное, самое существенное, что есть на свете.
То обстоятельство, что в Германии насильники и спекулянты, садисты и гангстеры уже не нацисты, говорящие по-немецки, а американцы, практически хоть и часто злит меня, но в принципе сильно облегчает совесть. В немецком свинстве мы все чувствовали себя как-то виновными, а в этом я невиновен и впервые после перерыва в десятки лет обнаруживаю в своей груди порыв национализма, не немецкого, правда, а европейского.
Я от души рад Вашему собственноручному подтверждению, что Вы блестяще справились с гнусным легочным приступом и снова работоспособны. Этим и своим дружеским приветом Вы доставили мне истинную радость.
Моя жена, которая сперва, по-видимому, съездит в Цюрих, а потом приедет ко мне в санаторий, была рада Вашему письму не меньше, чем я, и шлет Вам самый горячий привет. Всегда Ваш
Г. Гессе
Тайны
То и дело писатель - да и всякий, наверно, другой человек - испытывает потребность отвернуться на время от упрощений, систем, абстракций и прочей лжи или полулжи и увидеть мир как он есть, то есть не хоть и сложной, но, в общем-то, обозримой и ясной системой понятий, а дремучим лесом прекрасных и ужасных, все новых, совершенно непонятных тайн, каковым он и в самом деле является. Мы каждый день, например, видим так называемые мировые события в газетном изображении - плоскими, обозримыми, сведенными к двум измерениям, будь то напряженность между Востоком и Западом или исследование японского военного потенциала, кривая каких-то показателей или заверения какого-нибудь министра, что чудовищная динамичность и опасность новейшего оружия как раз и заставят отказаться от этого оружия или перековать его на орала, и, хотя мы знаем, что все это никакая не реальность, а частью ложь, частью умелое жонглирование занятным, выдуманным, безответственным сюрреалистическим языком, все же эта ежедневно повторяемая картина мира, даже если она со дня на день вступает в самое грубое противоречие с самой собой, доставляет нам какое-то удовольствие или приносит какое-то успокоение, ибо минуту-другую мир кажется и впрямь плоским, обозримым, лишенным тайн, легко поддающимся любому объяснению, которое отвечает желаниям подписчика. А ведь газета только один пример из тысячи, не она придумала сделать мир нереальным и упразднить тайны, и не только она практикует это и этим пользуется. Нет, подобно тому как подписчик, пробежав газету, мгновение-другое наслаждается иллюзией, что на ближайшие сутки он в курсе мировых событий и что, в сущности, ничего не случилось, кроме того, что отчасти предсказывали уже в номере за прошлый четверг умные редакторы, - подобно этому каждый из нас ежедневно и ежечасно лжет, перекрашивая дремучий лес тайн в красивый сад или в плоскую, обозримую географическую карту, - моралист с помощью своих максим, верующий с помощью своей веры, инженер с помощью своей счетной линейки, художник с помощью своей палитры, а писатель с помощью своих прототипов и идеалов, и каждый из нас более или менее спокойно продолжает жить в своем иллюзорном мире и на своей географической карте, пока из-за какой-нибудь катастрофы, из-за какого-нибудь страшного озарения на него не обрушится вдруг и не схватит его безвыходной, мертвой хваткой чудовищная, страшная своей красотой, страшная своим ужасом реальность. Это состояние, это озарение или пробуждение, эта жизнь в голой опасности никогда не длится долго, оно несет в себе смерть; охватывая человека и бросая его в страшный водоворот, оно длится каждый раз ровно столько времени, сколько способен вынести его человек, а потом кончается либо смертью, либо бегством без оглядки, бегством назад, к нереальному, сносному, упорядоченному, обозримому. В этой сносной, умеренной, упорядоченной зоне понятий, систем, догм, аллегорий мы проводим девять десятых нашей жизни. Так, довольно спокойно и размеренно, хотя, может быть, и ругаясь вовсю, живет в своем домике или на своем этаже маленький человек, и есть над ним крыша, а под ним пол, да еще есть под ним знание о прошлом, о его происхождении, о его предках, которые почти все были такими же и жили так же, как он сам, а кроме того, над ним есть еще некий порядок, государство, закон, право, армия пока вдруг все это в один миг не исчезнет, не рухнет, пока крыша и пол не превратятся в гром и пламя, порядок и право - в гибель и хаос, покой и уют в удушающую угрозу смерти, пока весь такой исконный, такой почтенный, такой надежный иллюзорный мир не взорвется пламенем и осколками и ничего не останется, кроме чудовищного, кроме реальности. Это чудовищное и непостижимое, это страшное и неотразимо убедительное в своей реальности можно назвать богом, но от названия оно не становится ни более понятным, ни более объяснимым, ни более сносным. Познание реальности, всегда временное, может быть вызвано бомбежкой в войну, то есть тем оружием, которое, по словам иных министров, именно своей ужасностью заставит нас когда-нибудь перековать его на орала; для отдельного человека часто достаточно бывает болезни, несчастья, случившегося в его узком кругу, а порой и просто какого-то временного расположения духа, пробуждения после тяжелого кошмара, бессонной ночи, чтобы поставить его перед неумолимым и заставить его на какое-то время усомниться во всяком порядке, во всяком уюте, во всякой безопасности, во всякой вере, во всяком знании.
Довольно об этом, любому это знакомо, любой знает, каково это, если он хоть раз-другой подобное испытал и сумел, как он полагает, благополучно забыть свой опыт. Но этот опыт никогда не забывается, и, если сознание прикрывает, если философия и вера лживо отрицают его, a мозг от него избавляется, он затаивается в крови, в печени, в большом пальце на ноге и однажды непременно скажется во всей своей свежести и незабываемости. Я не хочу в дальнейшем философствовать о реальности, о дремучем лесе тайн, о божественном и прочих наименованиях этого опыта, это профессия других людей, ибо тонкому, заслуживающему всяческого восхищения человеческому уму удалось и это: сделать из просто-напросто непостижимого, уникального, демонического, невыносимого философию с системами, профессорами и авторами. Тут я не компетентен, я даже не заставил себя хорошенько почитать специалистов по загадке жизни. Я хочу лишь, поскольку так уж складывается, поскольку время к этому побуждает, без всякой тенденции и без всякого порядка, на свой профессиональный лад набросать кое-что об отношении писателя к экзистенциальной лжи, а также о пробивающихся сквозь стены этой лжи зарницах тайны. Прибавлю: писатель как таковой нисколько не ближе к тайне мира, чем всякий другой человек, он, как и прочие, не может жить и работать, не имея почвы под ногами и крыши над головой и не натянув над своей постелью густой сетки систем, условностей, абстракций, упрощений и отношений. Он тоже, в точности как газета, создает себе из гремящего мрака мира некий порядок, некую географическую карту, предпочитая жить на плоскости, а не в многомерном пространстве, слушать музыку, а не взрывы бомб, и преподносит свои писания читателям обычно с тщательно сохраняемой иллюзией, будто существуют норма, язык, система, позволяющие ему сообщать свои мысли и впечатления так, чтобы люди могли в какой-то мере сопережить их и действительно усвоить. Обычно он поступает, как все, делает свое дело как можно лучше и остерегается задумываться о том, далеко ли уйдешь по почве, на которой он стоит, о том, в какой степени читатели действительно могут воспринять, пережить, разделить его мысли и впечатления, о том, насколько вера, мировосприятие, нравственность, мышление читателя похожи на его веру, мировосприятие, нравственность и мышление.
Недавно один молодой человек обратился ко мне в письме как к «человеку старому и мудрому». «Я доверяю Вам, - пишет он, - зная, что Вы человек старый и мудрый». У меня была как раз более или менее светлая минута, и я не просто схватил общий смысл письма, очень похожего, кстати сказать, на сотни других писем от других людей, а стал выхватывать в разных местах отдельные фразы и слова, внимательно вглядываться в них и вникать в их суть. «Старый и мудрый» написано было там, и это могло, конечно, рассмешить усталого и ставшего ворчливым старого человека, который не раз за свою долгую и богатую жизнь считал себя куда более близким к мудрости, чем считает теперь, в своем потрепанном и малоприятном состоянии. Старый - да, я был человеком старым, это верно, старым и изнуренным, разочарованным и усталым. А все-таки ведь слово «старый» могло выражать и совсем другое! Если речь шла о старых преданиях, старых домах и городах, старых деревьях, старых содружествах, старых культуpax, то в слове этом не было решительно ничего обесценивающего, насмешливого или презрительного. Таким образом, и на качества старости я мог притязать только отчасти; из многих значений этого слова я был склонен выбрать и применить к себе лишь отрицательные. А для моего молодого корреспондента слово «старый» могло иметь, пожалуй, и живописный смысл, подразумевать нечто седобородое, кротко улыбающееся, отчасти трогательное, отчасти почтенное; для меня по крайней мере оно всегда имело этот оттенок во времена, когда я сам еще не был стар. Что ж, это слово можно было принять, понять и признать уместным для обращения.
Но слово «мудрый»! Право, что это, собственно, значило? Если оно не значило ничего, имело какой-то общий, туманный смысл, было расхожим эпитетом, фразой, тогда его можно было вообще пропустить. А если оно действительно что-то значило, как проникнуть мне в этот смысл? Я вспомнил один старый метод, который часто применял, метод вольных ассоциаций. Я немного отдохнул, прошелся по комнате, еще раз произнес про себя слово «мудрый» и стал ждать, что первым делом придет мне на ум. И вот на ум пришло мне другое слово, слово «Сократ». Это было уже кое-что, это было не просто слово, а имя, а за именем стояла не абстракция, за ним стоял образ, стоял человек. Какое же отношение имело жидкое понятие «мудрость» к сочному, очень реальному имени Сократ? Это было легко установить. Мудрость была тем свойством, которое преподаватели школ и высших учебных заведений, видные деятели, выступавшие перед битком набитыми залами, авторы передовиц и фельетонов прежде всего приписывали Сократу, как только упоминали о нем. Мудрый Сократ. Мудрость Сократа, или, как сказал бы в своем выступлении видный деятель, сократовская мудрость. Об этой мудрости больше нечего было сказать. Но стоило услышать эту фразу, как заявляла о себе некая реальность, некая истина - подлинный Сократ, фигура, несмотря на всю драпировку из легенд, довольно мощная, довольно убедительная. И эта фигура, этот атлетически сложенный старик с добрым некрасивым лицом дал совершенно недвусмысленную справку о собственной мудрости, энергично и решительно заявив, что ничего ровным счетом не знает и ни на какую мудрость не притязает.
Тут я снова сбился с прямого пути и очутился вблизи реальностей и тайн. Так уж получалось: стоило тебе поддаться соблазну принимать мысли и слова действительно всерьез, как ты сразу оказывался в пустоте, в неопределенности, во мраке. Если мир ученых, краснобаев, декламаторов, кафедр и эссе был прав, то Сократ был полным невеждой, человеком, который, во-первых, ничего не знал и не верил ни в какое знание и возможность знания, а во-вторых, именно это незнание и это неверие в знание превратил в свою силу, в свое орудие постижения действительности.
И вот я, старый мудрый человек, оказался перед старым немудрым Сократом и должен был защищаться или стыдиться. Причин стыдиться было более чем достаточно; ведь, несмотря ни на какие уловки и увертки, я же прекрасно знал, что юнец, который обратился ко мне, как к мудрецу, сделал это вовсе не по собственной дурости и не по юношеской простоте, что я дал ему для этого повод, совратил его к этому, почти уполномочил на это множеством своих поэтических слов, где проглядывает что-то похожее на опыт и работу ума, на учение и стариковскую мудрость, и хотя большую часть своих поэтически сформулированных «мудрых мыслей» я потом, кажется мне, брал в кавычки, подвергал сомнению, даже опрокидывал и отменял, но в целом я всю свою жизнь больше утверждал, чем отрицал, больше соглашался или помалкивал, чем боролся, и достаточно часто оказывал почтение традициям духа, веры, языка и обычая. Правда, в моих писаниях кое-где ясно чувствовались зарницы, чувствовались разрывы в облаках и в драпировках привычных икон, разрывы, за которыми мелькало что-то угрожающе апокалипсическое, кое-где давалось понять, что надежнейшее имущество человека - это его бедность, а истинный хлеб человека - это его голод; но, в общем-то, я, точно так же как все прочие люди, обращался охотнее к прекрасным мирам форм и к традициям, предпочитая сады сонат, фуг, симфоний всем апокалипсическим заревам, а волшебные игры и утехи языка всем событиям, при которых язык пасует и умолкает, потому что в какой-то страшно прекрасный, то ли блаженный, то ли смертельный миг на нас глядит несказанное, немыслимое нутро мира, ощутить которое нам дано только как тайну и рану. Если юный автор письма увидел во мне не ничего не знающего Сократа, а мудреца в профессорско-фельетонном понимании, то, вероятно, я дал ему право на это.
И все же осталось невыясненным, что в представлении этого юноши о мудрости - штамп и что идет от жизни. Может быть, его старый мудрец - это просто театральный персонаж, скорее даже - бутафория, а может быть, и ему хорошо знаком тот ряд ассоциаций со словом «мудрый», который я перебрал. Может быть, и он при слове «мудрый» первым делом невольно подумал о Сократе, чтобы лишь потом с удивлением и смущением констатировать, что ведь Сократ-то как раз и не притязал ни на какую мудрость, что он-то ни о какой мудрости и знать не хотел.
Исследование слов «старый» и «мудрый» принесло мне, таким образом, мало пользы. Чтобы как-то справиться с письмом, я пошел противоположным путем, пытаясь найти разъяснение не в каких-то отдельных словах, а в содержании, в главной причине, побудившей этого молодого человека вообще написать мне. Причиной этой был вопрос, вопрос как бы очень простой, а значит, как бы и требующий простого ответа. Вопрос гласил: «Имеет ли жизнь смысл и не лучше ли пустить себе пулю в лоб?» На первый взгляд кажется, что этот вопрос допускает не очень много ответов. Я мог ответить: нет, дорогой, жизнь не имеет смысла, и лучше в самом деле, и т. д. Или я мог сказать: жизнь, дорогой мой, конечно, имеет смысл, и о пуле в лоб не может быть и речи. Или же: хотя жизнь и не имеет смысла, стреляться из-за этого все же не надо. Или: хотя у жизни и есть смысл, но отдать ему должное и даже только узнать его так трудно, что лучше, пожалуй, и правда пустить себе пулю в лоб и т. д.
Такие примерно на первый взгляд возможны ответы на вопрос этого мальчика. Но стоит лишь мне поискать еще какие-то возможности, как ответов оказывается не четыре, не восемь, а сто и тысяча. И все же, готов поклясться, для автора этого письма есть, в сущности, только один ответ, только один выход на свободу, только одно спасение от ада его беды.
Найти этот единственный ответ не помогут мне никакая мудрость и никакая старость. Вопрос, поставленный в письме, повергает меня в полнейший мрак, ибо та мудрость, какой я располагаю, да и та мудрость, какой располагают куда старшие и более опытные пастыри, вполне годится для книг и проповедей, для лекций и статей, но не для этого отдельного, реального случая, не для этого искреннего пациента, который, хоть он и очень переоценивает старость и мудрость, озабочен всерьез и выбивает у меня из рук любое оружие, побивает любые мои уловки простыми словами: «Я доверяю Вам».
Как же ответить на это письмо с таким детским и в то же время таким серьезным вопросом?
От этого письма на меня пахнуло чем-то таким, в нем блеснуло что-то такое, что я ощущаю и воспринимаю больше нервами, чем разумом, больше желудком или нутром, чем опытом и мудростью: дыхание реальности, молния в разрыве туч, оклик из мира по ту сторону условностей и успокоений; тот зов, когда остается либо сжаться и промолчать, либо внять и повиноваться ему. Может быть, у меня еще есть выбор, может быть, я могу еще сказать себе: ведь этому бедному мальчику я все равно не помогу, я ведь знаю не больше, чем он, положу-ка я это письмо в самый низ под стопу других писем и полусознательно постараюсь, чтобы оно оставалось внизу, забылось и постепенно исчезло. Но, думая так, я уже знаю: забыть его я смогу только тогда, когда действительно отвечу на него, и отвечу правильно. Это знание, эта убежденность идут не от опыта и мудрости, они идут от силы зова, от встречи с действительностью. Значит, сила, из которой я почерпну ответ, идет уже не от меня, не от опыта, не от ума, не от упражнения, не от гуманности, а от самой действительности, от крошечного осколка действительности, который принесло мне это письмо. Сила, стало быть, которая ответит на это письмо, заключена в самом письме, оно само ответит на себя, юноша сам даст ответ себе. Если он из меня, из камня, из старика и мудреца, высечет искру, то родят эту искру исключительно его молот, исключительно его удар, его нужда, его сила.
Не стану утаивать, что подобные письма, с этими же самыми вопросами, я уже очень много раз получал и читал, иногда отвечал на них, иногда не отвечал. Только сила нужды не всегда одинакова, такие вопросы в какой-то миг ставят не только сильные и чистые души, обращаются ко мне и богатые юноши со своими полубедами и со своей полуискренностью. Многие уже писали мне, что, мол, решение их судьбы зависит от меня: если я скажу «да», он выздоровеет, а скажу «нет» - умрет. И как ни сильно это звучало, я чувствовал тут апелляцию к моему тщеславию, к собственной моей слабости и приходил к выводу: этот корреспондент не выздоровеет от моего «да» и не умрет от моего «нет», а будет и впредь культивировать свою проблематику, будет, наверно, обращаться со своим вопросом и ко многим другим так называемым старым и мудрым и, немножко утешаясь, немножко забавляясь полученными ответами, заведет папку, чтобы коллекционировать их.
Если от своего сегодняшнего корреспондента я не жду этого, если принимаю его всерьез, если отвечаю на его доверие и хочу помочь ему, то происходит все это не благодаря мне, а благодаря ему, его сила водит моим пером, его действительность прорывается сквозь мою расхожую стариковскую мудрость, его чистота заставляет и меня быть честным - не ради какой-то там добродетели, любви к ближнему, гуманности, а ради жизни и действительности, подобно тому, как, выдохнув воздух, надо вскоре, несмотря ни на какие умыслы и мировоззрения, снова вдохнуть его. Мы не делаем этого, это происходит с нами непроизвольно.
И если сейчас, лицом к лицу с бедой, озаренный заревом подлинной жизни, с трудом перенося ее разреженный воздух, я вынужден действовать без промедления, если я сейчас еще раз слышу слова, слышу крик этого письма, я не должен больше противопоставлять ему какие-то мысли и сомнения, подвергать его исследованию и оценке, а должен последовать его зову, должен откликнуться на него не советом, не своим знанием, а тем единственным, что может помочь, а именно - ответом, который хочет получить этот юноша, ответом, который ему достаточно лишь услышать от другого, чтобы почувствовать, что это звучит его собственный ответ, его собственная необходимость.
Многое требуется, чтобы письмо, чтобы вопрос незнакомого человека действительно достигли адресата, ведь автор письма, при всей подлинности и остроте своей нужды, может выражаться расхожими формулами. Он спрашивает: «Имеет ли жизнь какой-то смысл?» - и это звучит неясно и глуповато, отдает мальчишеской мировой скорбью. Но он-то имеет в виду не жизнь вообще, его ведь заботят не философия, не догмы, не права человека, он имеет в виду исключительно свою жизнь и отнюдь не ждет от моей мнимой мудрости какого-то поучения, какого-то указания, касающегося искусства придавать смысл жизни: нет, он хочет, чтобы его настоящую беду увидел настоящий человек, чтобы он на миг разделил ее и чтобы она тем самым была на сей раз преодолена. И если я окажу ему эту помощь, то помог не я, помогла подлинность его беды, на час отнявшая у меня, старого и мудрого, старость и мудрость и обдавшая меня обжигающе ледяной волной действительности.
Довольно об этом письме. При чтении читательских писем писателя часто занимают вопросы такого рода: о чем, собственно, кроме чистого удовольствия от самого процесса писания, думал я, когда писал свои книги, чего хотел, что имел в виду, чего добивался? И еще такого рода: какая доля того, что ты имел в виду и к чему стремился своей работой, будет одобрена или отвергнута читателем, больше того, какую долю этого читатель вообще заметит и примет к сведению? И такой вопрос: имеет ли то, что хочет сказать писатель своими сочинениями, его стремления, его этика, его самокритика, его мораль вообще какое-либо отношение к воздействию, оказываемому его книгами? По моему опыту - весьма малое. Даже вопрос, для художника обычно важнейший, вопрос об эстетической ценности его работы, об объективно прекрасном, содержащемся в ней, не играет на самом деле большой роли. Книга может не обладать никакой эстетической и поэтической ценностью и тем не менее оказать огромное воздействие. Такое воздействие часто кажется естественным и поддающимся вычислению, известным заранее и вероятным. Но на самом деле все происходящее иррационально и беззаконно и в этом случае.
Возвращаюсь еще раз к столь притягательной для молодежи теме самоубийства. Я не раз получал от читателей письма с рассказом, что вот, мол, они как раз собирались покончить с собой, но тут им в руки попалась эта книга, она освободила и просветила их, и теперь дело идет на лад. Но об этой же, столь целительной книге отец одного самоубийцы, тяжко обвиняя меня, писал мне, что моя трижды проклятая книга была среди тех, которые лежали на ночном столике его бедного сына в последние его дни, и что только она виновата в случившемся. Я мог, правда, возразить этому возмущенному отцу, что он слишком легко сваливает с себя ответственность за своего сына на какую-то книгу, но забыть то отцовское письмо мне удалось не скоро, да и видно, как я его «забыл».
Во времена, когда Германия достигла чуть ли не пика своей национальной лихорадки, одна женщина написала мне из Берлина по поводу другой моей книги, что такую позорную книжонку надо сжечь, и она об этом позаботится, и каждая немецкая мать сумеет уберечь своих сыновей от этой книги. Если у этой женщины действительно были сыновья, она, несомненно, уберегла их от знакомства с моей позорной книжонкой, но от роли опустошителей половины мира, замаранных кровью безоружных жертв, и от всего прочего она не уберегла их. Знаменательно то, что почти тогда же другая немецкая женщина написала мне об этой же книге, что, будь у нее сыновья, она дала бы им ее прочитать, чтобы они научились смотреть на жизнь и на любовь глазами этой книги. Но когда я писал свою книгу, я думать не думал ни о том, чтобы портить молодых людей, ни о том, чтобы учить молодых людей жить.
Заботой и мукой писателя может стать нечто совсем другое, о чем ни один читатель вообще, наверно, не думает, а именно вопрос: зачем мне, как бы наперекор собственным же первоначальным чувствам, выставлять напоказ свои создания, своих любимых, доставляющих мне радости и тревоги детей, сотворенных из лучшего вещества моей жизни, и смотреть, как они выходят на рынок, как их переоценивают и недооценивают, хвалят и хулят, чтят или оплевывают? Почему я не могу оставить их при себе, показать разве что кому-нибудь из друзей, не допустить, чтобы их публиковали - во всяком случае, до моей смерти? Желание ли славы, тщеславие ли, агрессивность или бессознательное удовольствие быть предметом нападок - что заставляло меня снова и снова посылать своих любимых детей в мир, обрекая их на всякие недоразумения, на всякие случайности, на произвол всякой дикости?
Это вопрос, от которого никакому художнику никогда полностью не уйти. Ведь мир хоть и платит нам за наши творения, иногда даже сверх меры, но он же не платит нам жизнью, душой, счастьем, сутью, а платит тем, что он может дать, - деньгами, почестями, включением в список выдающихся деятелей. Да, возможны самые невероятные ответы мира на работу художника. Например, такой: художник работает для народа, являющегося его естественным полем деятельности и его естественным рынком, а народ этот обрекает доверенный ему труд на гибель, отказывает художнику в признании и куске хлеба. Вдруг об этом вспоминает совсем другой, чужой народ и дает разочарованному то, что он более или менее заслужил: признание и хлеб. В тот же миг народ, которому этот труд предназначался и предлагался, начинает всячески приветствовать этого художника, радуясь, что так отмечен человек, вышедший из его среды. И это отнюдь еще не самое поразительное из того, что может произойти между художником и народом.
Мало толку грустить о том, чего изменить нельзя, и горевать о потерянной невинности, но все же это случается, по крайней мере с писателем это порой бывает. И мне очень сладостна мысль, будто с помощью волшебства я могу превратить свои сочинения опять в свою частную собственность и радоваться им, как какой-то неведомый старичок-с-ноготок. В отношениях между художником и миром что-то не в порядке, даже мир это иногда чувствует. Как же художнику не чувствовать этого, да еще гораздо сильнее? Даже если он пользуется успехом, какое-то разочарование неизбежно. Художник сожалеет о том, что он отдал свое произведение миру, возникает какая-то горечь от того, что он предал нечто тайное, любимое и невинное, что уже в юности слышалось ему во многих любимых произведениях, и сильнее всего в одной маленькой гриммовской сказке, в одной из «жабьих» сказок.
Девочка-сирота сидела у городской стены и пряла; вдруг она увидела, что из отверстия в низу стены вышла жаба. Девочка быстро расстелила рядом с собой свой синий шелковый платок, а жабы очень любят такие платки, это единственная приманка для них. Увидев это, жаба тотчас же повернула назад, возвратилась и принесла маленькую золотую корону, положила ее на платок и снова ушла. Девочка взяла эту корону, она была из тончайшего золота и вся сверкала. Вскоре жаба вернулась во второй раз. Но, не увидев короны, она подползла к стене, стала биться об нее головой и билась сколько было сил, пока наконец не упала мертвой. Если бы девочка не взяла короны, жаба, наверно, принесла бы из пещеры еще какие-нибудь свои сокровища.
1947
Томасу Манну
Монтаньола, 3 июля 1947
Дорогой сударь и друг,
когда, обращаясь к знаменитому человеку, его называет «другом» человек незнаменитый или менее знаменитый, в этом я всегда нахожу что-то смешное. Но если уж один раз назвать Вас так, то именно сейчас, когда для этого есть повод, и я пользуюсь формулой «сударь и друг», которую Якоб Буркхардт любил применять к особенно уважаемым и чтимым друзьям.
Ваше приветствие в «Цюрхер цайтунг»[1] было для меня полной неожиданностью. Поскольку в этом номере шла моя статья, я заказал несколько экземпляров, и, когда вскрыл бандероль, мне чуть ли не пугающе улыбнулся заголовок Вашего приветствия, я сел и стал читать и читал Ваши тонкие и милые слова с приятнейшим чередованием растроганности и усмешек.
Уже сутки лежит передо мной письмо от одного очень ценимого мной человека из Швабии, письмо, где он просит меня сказать Вам, как это ободрило и утешило бы тех Ваших германских поклонников, которые были противниками и жертвами Гитлера, если бы Вы все-таки ненадолго показались в Германии. Выполнять его поручение, сделанное из самых лучших и самых сердечных побуждений, я не буду, но что мне так понравилось в его письме, так это совершенно равномерное распределение старой и верной почтительной читательской любви между Вами и мною. А ведь куда как часто недалекие «перелетные птицы» говорили и писали мне, как они ценят во мне то, что я не такой холодный интеллектуал и светский франт, как этот знаменитый сын Любека[2]. Уверен, что и Вы столь же часто выслушивали дифирамбы, старавшиеся придать себе особую пряность лестными сравнениями с голубоглазым идилликом-швабом. Мне в таких случаях не раз приходилось давать отповедь и в совершенно частном порядке ломать копья из-за этого сына Любека.
В Вашем приветствии коллеги и друга нет ни одного слова, ни одного намека, которые не были бы мне по душе, ни одного чувства, на которое я не мог бы точно и живо ответить. И как хорошо, как забавно, что судьба подбросила Вам письмо этого музыканта (я склонен думать, Пфитцнера[3])! Ваш ответ этой канарейке сам по себе позабавил меня и доставил мне удовольствие.
Чувствую себя неважно, да и жары, которую всю жизнь любил, уже не переношу, а то бы я написал Вам еще не один листок.
«Агафон приветствует Иксиона»[4], - сказал будто бы Виланд Шуберту, придя к нему в Гейслингене. «Йозеф Кнехт отвешивает большой восьмикратный коутоу Томасу фон дер Траве»[5], - говорю я на сей раз и со старой любовью и благодарностью остаюсь Вашим
Г. Гессе
Господину д-ру П. Э., Дрезден
16 сентября 1947
[...] Это один пункт, он не так важен. Весомее другой, который выдвигает Ваше письмо. Я огорчен тем, что и Вы, как сотни моих читателей и корреспондентов, не можете ценить Гессе, не принижая взамен Томаса Манна. Мне это совершенно непонятно. Если бог дал Вам дар понимать Гессе, а Манна нет, если у Вас нет такого органа, чтобы постичь и оценить это замечательное и в высшей степени уникальное явление в сфере немецкого языка, то меня это не касается. Но что я, будучи не только личным другом, но и старым и верным поклонником Томаса Манна, должен вечно расплачиваться за это противопоставлением меня Манну, это мне в высшей степени противно. Я не хочу ни поучать, ни тем более причинять Вам боль, о нет, но это надо было сказать, и теперь это сказано.
Томасу Манну
13 октября 1947
Дорогой, глубокоуважаемый Фома Генрихович[1],
уже некоторое время я все хотел написать Вам какой-нибудь привет, подать какой-нибудь признак жизни, послать знак памяти и симпатии, ибо мы много о Вас думаем и недавно перечли почти все статьи из «Ответа и отчета»[2], а потом, вдохновленные Вами, опять после долгих лет взялись за «Штехлина»[3] и читаем его по вечерам. А сегодня было и более сильное напоминание о Вас. Мы слушали по радио магнитофонную запись Вашего чтения «Вундеркинда»[4], радовались Вашему голосу и Вашему языку и опять были сильно взволнованы тем, что уже в ранних и даже самых маленьких Ваших произведениях с такой законченностью и точностью предстают не только Ваша интонация и манера, но и необыкновенно верно отмечен центр Вашей тематики и проблематики.
Впрочем, не требовалось ни этой встречи по радио, ни еще какого-либо напоминания, чтобы я с любовью и благодарностью думал о Вас. Мир не очень богат людьми, а тем более коллегами, чье существование и воздействие излучает свет и доставляют чистую радость, а на старости лет все труднее принимать новые явления и типы; тем благодарнее мы за немногих спутников, существование и дарование которых приносит лишь радость...
Томасу Манну
Баден, 12 декабря 1947
Дорогой господин Томас Манн,
ничего лучшего в эти скучноватые, сонные недели лечения в Бадене я не мог и пожелать себе, чем письмо от Вас, и притом такое приятное и многообещающее, ибо оно сулит мне две чудесные вещи или, во всяком случае, показывает, что они возможны и что Вы сами стремитесь к ним. Обе мне хотелось бы прочесть - одну, полного, завершенного «Круля»[1], уже десятки лет, другую, комментарий к «Фаусту»[2], ad usum Germanorum [Предназначенный для немцев (лат.)] , тоже не раз в последние годы. О «Круле» нечего и говорить. Вы давно знаете, как люблю я эту фигуру, и понимаете, как я желаю не только себе этого читательского наслаждения, но и Вам дальнейшей занятости этой работой, прелестная интонация и атмосфера которой ведь уже существуют, работой, которую я, помимо всего прочего, представляю себе и прогулкой в высокогорном воздухе артистизма, в игре с материей, свободной от злободневных и мрачных проблем. Да пребудут над этим счастливые звезды!
За время, что Вы не получали вестей от меня, я прочел и «Леверкюна»[3]. Это великая удача и смелость, не только по постановке проблем и по волшебно светлой, невещественной манере, в какой эта проблематика переводится в область музыки и анализируется там с объективностью и спокойствием, возможными только в абстрактном. Нет, поражает и волнует меня то, что этот чистый препарат, эту идеальную абстракцию Вы не уносите в идеальное пространство, а вставляете в реалистическую картину мира и времени, мира, вызывающего любовь и смех, ненависть и омерзение. Тут много, конечно, такого, за что на Вас обидятся, да ведь это дело привычное, Вы не станете очень уж убиваться. Мне самому после первого чтения внутренний мир Леверкюна гораздо яснее, прозрачнее, кажется куда более упорядоченным, чем окружающий его мир, и мне как раз и нравится, что этот окружающий мир представлен множеством фигур, очень многообразно и разнообразно, что в нем есть место и для карикатурных теологов из Галле, и для прекрасного ребенка Непомука[4], что автор так щедро нас одарил и никогда не теряет хорошего настроения, радости от спектакля.
Видите, книга у меня уже есть, правда потрепанная и зачитанная. Если у Вас когда-нибудь найдется для меня экземпляр покрасивее, в переплете, буду, конечно, очень благодарен Вам за него.
Вот что еще: над некоторыми страницами Вашей книги, где анализируется леверкюновская музыка, я вспоминал один второстепенный персонаж «Игры в бисер» - Тегуляриуса[5], чьи партии имеют порой тенденцию при самом законном с виду развитии кончаться иронией и меланхолией.
Мой курс лечения завершен, через несколько дней я вернусь домой. Сердечнейший привет Вам обоим от Нинон и от Вашего
Г. Г.
Господину Ф.
12 января 1949
[...] Та немецкая сущность, которую мы любим, к которой мы причастны, перед которой мы в долгу и которую Вы чтите в Бахе, Лютере, Гете, - почему она нуждается в защите оружием? Вы, по-моему, переводите тут, как это часто делается, нравственную проблему в другую плоскость, вернее - Вы мучитесь сомнениями и угрызениями совести из-за чего-то пустого, уходя тем самым от Вашей настоящей, подлинной проблемы.
Во время победного немецкого разбойничьего похода через половину России немецкие мальчики-солдаты писали мне иногда так: «Мы стоим у Кавказа, чтобы защищать высочайшие ценности немецкого духа, к которым мы относим и Ваше творчество» - и тому подобный мальчишеский вздор. В действительности все эти глупые герои помогали правившим «отечеством» извергам вконец погубить все по-хорошему и по-настоящему немецкое. А теперь и Вы еще бьетесь над вопросом, не должны ли Вы в конце концов помочь мечом Германии Гете встать на ноги!
Нет, Вы не предадите ни Гете, ни Баха, если не поднимете меч ради них. Но Вы предадите свою немецкую сущность, если уйдете от своей духовно-нравственной задачи - все крепче и все плодотворнее соединяться именно с этой бессмертной духовной немецкой сущностью, - если Вы уйдете от этой задачи в сентиментальности меланхолии, греха или самоубийства. Ведь стремление к самоубийству перестает быть сентиментальным только после того, как дело сделано.
Господину А. Ш., Гейслинген
27 октября 1949
Дорогой господин Ш.,
сколько типично немецкого в том, что Вы рассказали мне о Вашем «пожилом друге». Он пережил все мерзкое, что было после 1933 года, он живет сейчас среди немецких бед и разрухи; но что его беспокоит и заставляет призывать к «огню и мечу» - так это забота о нравственности Норвегии, неправильно, на его взгляд, поступающей с одним изменником, который, к сожалению, является еще и большим писателем. Во Франции Гамсун оказался бы в первом ряду расстрелянных «коллаборационистов». В Германии он выпутался бы. «Правильно» ли поступает с ним Норвегия, я не знаю, при подобной дилемме никакого «правильно» не существует вообще. Мне лично было бы, конечно, больше по душе, если бы его отпустили на все четыре стороны и предоставили народу самому решать, как к нему относиться.
Если отвлечься от Гамсуна, который был ведь не только другом нацистов, но и в большинстве своих книг злобным врагом духовности, то меня огорчает, что, поучая другие народы, вместо того чтобы создать в своей собственной стране ячейку мира и стройки, Ваш друг делает это настолько противным способом, что требует от нас, писателей, и так-то достаточно горько сожалеющих о судьбе Гамсуна, как она ни заслуженна, - требует теперь от нас, чтобы мы прибегли к «огню и мечу». Именно к этим орудиям насилия, глупости и жестокости. Мы отворачиваемся, и нам стыдно.
Хорошо, что Вы сами не заразились глупостью этого «друга» и думаете так разумно и верно! Ибо с тем, что Вы говорите о любви и «процессе преображения», я целиком согласен. С дружеским приветом.
Студенту из Бонна
1949-1950
Дорогой господин Б.,
Ваше письмо и то, что Вы пишете в нем о своем открытии «двузначности» некоторых писателей и книг, не только не вызывает у меня возражений, как Вы, кажется, боитесь, но вызывает полное мое одобрение. Большинство настоящих произведений обладало этой двузначностью, то есть волновало интересовало, трогало, с одной стороны, народ и простых читателей, с другой - маленький верхний слой интеллигенции. Это происходило не всегда одновременно, произведению технически сложному и новаторскому требовался порой некоторый срок, чтобы прийтись по вкусу народу, а иногда людям образованным и тонким казалось слишком простым и их недостойным произведение, качества которого открывались им лишь впоследствии. Ведь человек образованный только образованнее, но отнюдь не умней, чем народ.
В своей собственной авторской жизни я с обоими слоями читателей имел дело тысячи раз. Ученые и студенты писали мне более умные письма, но признание необразованного читателя, что какая-то моя книга обрадовала и утешила его или поддержала и укрепила его нравственную позицию, бывало мне по меньшей мере так же дорого, как самое блистательное письмо какого-нибудь начинающего умельца игры в бисер по касталийским вопросам[1]. А что касается главной и первичной ценности всякого поэтического произведения, силы его языка, то об этом «народ» судит, пожалуй, даже точнее и увереннее, чем люди с филологическими или эстетическими анализами и доводами. И особенно при отрицательных, осуждающих отзывах мнения, идущие от «народа», задевают меня глубже и больше, чем оценки интеллигентов.
В журнал «Лас Эспаньяс», Юкатан
31 января 1950
Глубокоуважаемые господа,
ваши усилия, направленные на дальнейшее сопротивление фашистскому франкистскому правительству в Испании, вызывают у меня, как вы и предполагали, полное сочувствие. Сколь ни огорчительно то, что США склонны, по-видимому, отстаивать демократическую идеологию только в оккупированных странах, я все же надеюсь, что совесть мира не уснет снова и испанский народ обретет более достойную его политическую форму существования.
Представителю немецкого общества деятелей культуры
Февраль 1950
Глубокоуважаемый господин доктор,
большое спасибо Вам за Ваше милое письмо, многое в нем было приятно и по душе мне.
Однако Ваше предложение вступить в учреждаемое немецкое общество деятелей культуры как член совета я принять не могу - даже на время и без обязательств, как Вы предлагаете, ибо вопрос этот решен наперед. Уже многим академиям и обществам подобного рода я отвечал на такие предложения отказом и отступить от этого правила не могу.
Мы здесь, в маленькой Швейцарии, еще и до Гитлера относились к вступлению во всякие такие дружеские связи с соседними народами болезненно и недоверчиво, и особенно болезненно относилась Швейцария к требованиям объединиться на основе общности языка. Это началось со ссылок на времена, когда нынешних государственных структур еще не существовало, началось с подчеркивания общих заслуг по части культуры, с упорных напоминаний о любви Гете к Швейцарии - а кончилось печатанием пропагандистских географических карт, где Швейцария изображалась южным округом Великой Германии.
Я швейцарец не по рождению, неполновесный - из четырех моих бабок и дедов лишь одна бабка была швейцаркой (она говорила, однако, не по-немецки, а по-французски), но именно как добровольный переселенец, получивший права гражданства, я вдвойне соблюдал лояльность. Было достаточно областей, где сказывалось и проявлялось на деле полное отсутствие у меня национализма или, если Вам угодно, патриотизма и по отношению к моей второй, швейцарской родине; во внешней политике я всегда одобрял и поддерживал швейцарскую позицию безусловной защиты собственной территории и политической независимости, а также безусловного отказа от каких-либо аннексий. Один-единственный раз я сделал исключение и после первоначального отказа и долгих уговоров согласился принять избрание в одну германскую корпорацию - в Берлинскую академию. При этом я ясно заявил о своей политической принадлежности к Швейцарии и о том, что отвергаю всякие великогерманские и пангерманские притязания. Но уже вскоре мне пришлось снова писать в Берлин, чтобы заявить о своем уходе, на чем дело и кончилось.
С тех пор отклонять подобные приглашения мне тем легче, что возраст и усталость настраивают меня все скептичнее в отношении того, чего можно достичь всякими обществами, академиями, организациями. Я решил умереть строптивым, вызывающим усмешку индивидуалистом.
Феликсу Лютцкендорфу[1], Мюнхен
Май 1950
Дорогой господин доктор Л.,
больше месяца лежит у меня и ждет ответа Ваше письмо. Такое опоздание можно было бы легко оправдать, но в отношении Вас мне не хочется довольствоваться чистой вежливостью. Двадцать или двадцать пять лет назад Вы написали обо мне лучшую тогда диссертацию, где особо исследовали мои религиозные и мои азиатские корни и связи. Вы достигли недюжинной меры понимания, а потом, после всех бурь, бушевавших с 1933 года, не раз дружески сближались со мной, мы обменивались письмами, и я, старый младенец, приятно жил в прекрасном заблуждении, что Вы все еще понимаете и принимаете меня всерьез.
Это заблуждение Ваше письмо отчасти рассеяло, и отсюда, как я лишь теперь ясно вижу, возникла та внутренняя помеха, из-за которой мне было так трудно ответить Вам.
Вы хотели, чтобы я разрешил Вам экранизировать одну из моих книг. И когда я Вам, как уже многим другим, отказал в этом, Вы сделали выводы, которые разочаровали меня.
Вы пишете, что я «не хочу иметь ни малейшего дела с дьявольщиной кинематографа», словно я какой-то старый пастор или аскет, который видит в кинематографе опасность для «нравственности народа».
Возможно, Вы успели уже одуматься, но я все же хочу, насколько это позволяет мне заполненный до предела рабочий день, поправить Ваше слишком наивное представление о моем отношении к кино.
Я вовсе не вижу в кинематографе «дьявольщины» и не имею решительно ничего против того, чтобы он конкурировал с литературой и книгой. Есть фильмы, которые я ценю и которыми восхищаюсь, как свидетельствами высокого художественного вкуса и достойного образа мыслей. И я отнюдь не против того, чтобы литературно образованные и плодовитые таланты, к которым принадлежите и Вы, обращались к кинематографу. Напротив, я думаю, что кинематограф как раз и предоставляет иным дарованиям соответствующее им поприще, как раз и делает их действительно творческими и уберегает от дилетантства в других искусствах. Есть немало дарований, чья радость и сила состоят в ощущении и создании напряженности, в возбуждении участливого интереса ко всяческим вершинам и безднам жизни, в придумывании интересных и характерных ситуаций и сцен, дарований с мощным воображением, благородным любопытством к тысячеликости жизни, а порой и с высокой нравственностью, то есть сильным чувством ответственности за души десятков тысяч зрителей, на которые они воздействуют. К тому же не только теоретически допустимо, но уже и доказано конкретными примерами, что автор хорошего сценария может быть настоящим писателем.
Но есть большая разница между фильмом, который сочинен писателем, и фильмом, который присваивает и использует для своих целей уже существующее литературное произведение. Первый - это настоящий и законный труд, второй воровство или, выражаясь изящнее, заимствование. Литературное произведение, работающее чисто литературными средствами, то есть исключительно словом, нельзя, по-моему, эксплуатировать другому искусству своими средствами. Это, во всяком случае, деградация и варварство.
Вы, кстати сказать, совершенно правы в своих замечаниях о действенности кинематографа и о бесконечном множестве голодных, жаждущих искусства душ, до которых фильм может дойти, которые он может удовлетворить, на которые он может повлиять, тогда как письменное и печатное слово до них не доходит. Но экранизируя «Раскольникова», «Мадам Бовари», «Зеленого Генриха» или какое-либо другое литературное произведение, экранизируя его с величайшим вкусом, мастерством и даже с высочайшей нравственной ответственностью, Вы уничтожите главный, глубочайший смысл этого произведения и в самом лучшем случае достигнете примерно того же, чего может достичь перевод этого произведения на язык эсперанто. Останется воспоминание о чем-то сентиментальном или нравственном, душа и смысл, неподражаемое и неповторимое пропадет.
Но пропадет тем самым и та часть старой и еще живой культуры, которая заключена во всяком произведении словесного искусства.
Экранизатора литературного произведения можно, конечно, сравнить и с его иллюстратором и сослаться на то, что иной иллюстратор бывал талантливее, чем произведение, которое он иллюстрировал. Что ж, согласен, но тем вреднее все иллюстрации, художественная ценность которых ниже, чем ценность иллюстрированного произведения.
Возможно и даже вероятно, что в ближайшем будущем человеческая жизнь пойдет так, что на кинематограф лягут все те задачи, которые до сих пор были задачами литературы, и долгое время никто не будет в силах читать книги. Но что касается меня, то я бы и тогда выступал против экранизации моих книг, и мне не стоило бы никакого усилия удержаться от соблазна мировой славы и денег. Ибо как раз чем больше опасность, грозящая литературе и слову как средству искусства, тем дороже они для меня и священнее.
Ах, какие длинные письма! Я в самом деле устал. Не обессудьте и примите дружеский привет от Вашего
Госпоже Р. Р., Гиссен
1950
Дорогая госпожа Р.,
жизнь, собственно, слишком коротка для такой переписки. Но к своей проблеме Вы относитесь слишком серьезно, и мое уважение к Вам слишком велико, чтобы я позволил себе просто отложить в сторону Ваше ответное письмо. Да и вопрос ведь поднят, смешное дело, очень актуальный, который каждый день задают себе тысячи людей. Это вопрос, действительно ли ум противник души, «думание» - всего лишь интеллигентский спорт, а чутье - наш первый и, может быть, единственный ориентир в нравственных решениях. Об этом написано несколько тысяч томов, но ведь мы с Вами сходимся в том, что интересует нас не философия, а прежде всего практическая проблема повседневной жизни, проблема «интеллектуалов».
Когда я пишу малоприятное слово «интеллектуалы», мне неизменно приходит на ум другое, гораздо более противное выражение, изобретенное некогда «интеллектуалами» третьей империи. А именно - «интеллектуальный изверг», которое, слава богу, снова исчезло из многострадального немецкого языка.
В ту пору, когда «вождями» Германии были изверги, гнусное это выражение придумали как раз гитлеровские интеллектуалы. Они в этом смыслили, ведь они же сами и продали ум власти и взяли на себя задачу сделать ум, коль скоро он не продавался Гитлеру, подозрительным, обесценить его и выдать на растерзание «народному гневу», инстанции, придуманной этими же извергами. С тех пор люди, не любящие думать, поборники крови и почвы, народной души и народного гнева, продолжали культивировать свою враждебность к тому, что они называют «духом», «умом», свой страх перед мыслями и суждениями, свою боязнь критики и точных формулировок, стараясь оградить нежную и чистую народную душу от вторжений мира грубой действительности. И всегда с каким-то подобием права, ибо не самые худшие люди боялись и боятся разоблачающего, обнажающего, циничного слова - порядочных и добросовестных оно тоже отпугивает. Они боятся ниспровергательства, цинизма, поэтому они боятся «ума», «духа» и предпочитают ему «душу», как царство невинных чувств.
Ни «дух», ни «душу» не следовало бы, однако, брать в кавычки. По христианскому учению, человек состоит из плоти, души и духа, да и психология до недавнего времени видела в способностях и деятельности разума часть жизни души. Они неразрывны и неразделимы, дух и душа, разум и сердце, и кто переоценивает и превозносит одно за счет другого, а тем более в пику другому, тот ищет и лелеет половину вместо целого, он болен, он уже не человек, а специалист. Кто, стало быть, превозносит критическое слово, анализирующий, жаждущий познания разум, тот делает это за счет целого, за счет человечности. Вот что Вы часто чувствовали, и вот что сделало Вас недоверчивой к разуму. Но если мы не принимаем всерьез и не считаем полноценными людей, признающих лишь разум и критику, то мы должны знать также, что только сердца и воображения тоже недостаточно, чтобы сделать человека полноценным, а его действия полезными.
Забавное наблюдение: человек чисто умственный, каких бы золотых слов и тонких суждений мы от него ни слышали, нам очень скоро надоедает. И благородные энтузиасты души, поэтические и восторженные специалисты по части сердца нам точно так же вскоре надоедают. И у самодовлеющего благородного ума, и у полагающейся только на себя благородной души одинаково не хватает одного измерения. Это дает себя знать в быту и в политической жизни; еще отчетливее это дает себя знать в искусстве. Ум и задушевность, дерзость и благородство - без своей кровной противоположности они неполны, неубедительны, необаятельны. Человек становится нам скучен, когда у него только два измерения.
Мы были свидетелями того, как специализированный и покорный власти ум Геббельсов старался культивировать в народе, натравляя ее на разум, именно душу. Поскольку критиковать власть уже не разрешалось, поскольку легче всего было управиться с инфантильно некритичным народом, то этим извергам требовалось как можно больше голубоглазой, мечтательной инфантильности.
По моим впечатлениям, в Германии это все-таки не вполне уяснили себе. Мы знаем: величие народа в способности терпеть, а не учиться. И все-таки очень хочется, чтобы при всех бесконечных страданиях он и что-то узнавал, чему-то учился. Но где там!...
Специализированная, отборная интеллигенция противостоит народу, который не может ничему у нее научиться, потому что он не в силах ее полюбить. Видеть это, страдать от этого, бороться с этим - вот задача не специализированных, не ставших противниками души людей духа, а значит, и Ваша.
Довольно, ужасно длинное получилось письмо! И ничего в нем нет, кроме само собой разумеющегося!
Томасу Манну к его семидесятипятилетию
Июнь 1950
Дорогой господин Томас Манн,
прошло немало времени, с тех пор как я познакомился с Вами. Это случилось в одной мюнхенской гостинице, куда мы оба были приглашены нашим издателем С. Фишером. У вас вышли тогда первые новеллы и «Будденброки», у меня «Петер Каменцинд», мы оба были еще холосты, и от каждого из нас ждали чего-то прекрасного. В остальном, правда, мы не очень походили друг на друга, это было видно даже по одежде и обуви, и первая эта встреча, при которой я, между прочим, спросил Вас, не в родстве ли Вы с автором трех романов герцогини д'Асси[1], проходила больше под знаком случая и чисто литературного любопытства, чем под знаком начинающегося товарищества и дружбы.
Чтобы дело все же дошло до товарищества и дружбы, одной из самых радостных и самых безоблачных дружб моей поздней жизни, для этого должно было произойти многое, о чем мы в тот веселый мюнхенский час и думать не думали, для этого каждый из нас должен был проделать тяжелый и часто мрачный путь от мнимой защищенности нашей национальной принадлежностью через одиночество и отверженность к чистому и холодноватому воздуху мирового гражданства, которое опять-таки имеет у Вас совсем другой облик, чем у меня, и все же связывает нас гораздо крепче и надежнее, чем все, что могло быть у нас общего тогда, во времена нашей нравственной и политической невинности.
Мы стали между тем старыми людьми, из наших тогдашних спутников мало кто еще жив. А сейчас Вы празднуете свое семидесятипятилетие, и я праздную его тоже, благодарный за все, что Вы сочинили, обдумали, выстрадали, благодарный за Вашу столь же умную, сколь и очаровательную, столь же неумолимую, сколь и игривую прозу, благодарный за тот великий, тот в позорно малой мере знакомый Вашим бывшим соотечественникам источник любви, сердечности и увлеченности, из которого вышел труд Вашей жизни, за верность своему языку, которую Вы хранили, искренность и теплоту убеждений, которые, как я надеюсь, будут после нас одним из элементов новой всемирно-политической морали, мировой совести, на чьи еще младенческие первые шаги мы сегодня с тревогой и надеждой глядим.
Будьте еще долго среди нас, дорогой Томас Манн! Приветствую и благодарю Вас не по поручению какой-либо нации, а как одиночка, чье настоящее отечество, точно так же как Ваше, еще в становлении.
Искренне Ваш...
Сэйдзи Такахаси, главному редактору журнала «Гундзо», Токио
14 сентября 1950
Глубокоуважаемый господин Такахаси,
Вы просите меня высказаться по поводу морально-политического положения в Вашей стране. Ваш народ, с одной стороны, ясно заявил в своей новой конституции об осуждении войны и всякой политики силы и отказался от армии и воинской повинности, а с другой - испуган и встревожен политическими и военными событиями в Азии. Он находится почти в таком же положении, как Германия: еще под оккупацией победителей, обезоруженный, он не желает ничего, кроме мира, но испытывает глубокий страх перед грозящей ему катастрофой. Только, может быть, Ваш народ основательнее осознал учиненное им зло и морально разоружился.
Мое мнение относительно Вашей дилеммы недвусмысленно. Я считаю, что мировых войн можно избежать, но не вооружением и новым накоплением средств уничтожения, а разумом и уживчивостью, и не верю, что какой-либо народ в мире может на поверку выиграть от вооружения и войны и спасти с их помощью свою честь и свободу. Я противник фанатизма, который хочет разделить все человечество на два фронта и натравить эти фронты, со всеми их дьявольскими средствами убийства, один на другой. И поэтому я не верю в то, что ремилитаризация пойдет на благо Вашей стране. Лучше терпеть зло, чем причинять зло. Ошибочно добиваться желаемого запрещенными средствами. Для генералов это вздор, и политики смеются над этим, но это старые и проверенные истины. Новая, и более светлая эпоха мировой истории и отношений между народами будет создана, конечно, не победителями в следующих мировых войнах, а, вероятно, пострадавшими и отказавшимися от насилия.
Ответ на письмо из Германии
Октябрь 1950
Спасибо за Ваше письмо, где столько интересного и приятного для меня, хотя оно все-таки больше испугало и удивило меня, чем обрадовало, ибо оно так полно симптомов великой сегодняшней болезни мира, так наполнено и насыщено отчаянным страхом перед войной и паникой перед большевиками, что на него только и можно ответить: «Да, если уж вы в Западной Германии впадаете в такое уныние и такое отчаяние даже от первых приступов массового психоза и войны нервов, то очень скоро у нас и впрямь будет та самая, накликанная вами война, которую вы так покорно и так наивно ждали».
Приди написанное Вами письмо не от Вас, человека, я знаю, умного и начитанного, не раз до сих пор убеждавшего меня в совпадении наших мыслей и взглядов, или будь оно только единичным заявлением отдельного лица, сделанным в минуту малодушия, я не стал бы и отвечать на него. Но тот же взвинченный, истерический страх перед войной, та же податливость слухам, та же слепая вера сатанинским внушениям и то же глупое, без проверки распространяемое мнение, будто ареной надвигающегося ужаса опять станет, разумеется, «бедная Германия», налицо и во многих других письмах, статьях и прочих сообщениях, поступающих оттуда ко мне. С мазохистской любовью к сенсациям предаются страху, дрожат от трусости, дышат отравленной атмосферой взвинченности, слухов и лжи, безответственно и некритично повторяя то, что твердят сеятели страха и поджигатели войны. Точно так же как совсем недавно вы, веря болтовне гитлеровской пропаганды, проникались таким страхом перед большевиками, что весь народ был готов снова ввязаться в войну, точно так же сегодня вы доставляете радость людям, заинтересованным в развязывании новой войны, тем, что, как завороженные, верите их рекламной пропаганде и соглашаетесь с ней.
Дорогой друг, война не сваливается с неба, она, как всякая другая человеческая затея, требует подготовки, нуждается в стараниях и содействии людей, чтобы стать возможной и претвориться в действительность. А хотят войны, готовят и внушают ее те люди и силы, которым она приносит прибыль. Она приносит им либо прямую прибыль чистоганом, как, например, военной промышленности (а как только начинается война, бесчисленное множество безобидных дотоле предприятий становятся военными и капитал автоматически течет к ним!), или приносит им авторитет, уважение и власть, как, например, безработным генералам и полковникам. Таким образом, в ремилитаризации Германии, Японии и других невоенизированных сейчас стран заинтересованы тысячи и десятки тысяч людей, людей с жестоко расчетливой или честолюбиво милитаристской душой, и к средствам, которыми эти люди стараются подготовить желанную для них войну, принадлежит распространение неуверенности и страха а вы, друзья, поддаваясь этой заразе, помогаете тем самым сделать возможной войну и ее развязать. И если после всего, что вы пережили с 1914 года по нынешний день, вас на этот счет еще приходится просвещать, то это печально и позорно и подтверждает одну неприятную, будто бы гегелевскую сентенцию: единственное, чему учит мировая история, это то, что она еще никого ничему не научила.
Я вовсе не жду от вас, чтобы вы закрыли глаза на действительность и предались прекрасным мечтам. Мир полон опасностей и возможностей войны, и «большевики» отнюдь не единственная угроза, они находятся под таким же давлением и в большинстве своем так же, наверно, не горят желанием стрелять и падать под пулями, как и мы. Угрожают нашей земле и всякому миру те, кто хочет войны, кто готовит ее и туманными обещаниями грядущего мира или страхом перед нападением извне пытается заставить нас содействовать их планам.
Этим людям и группам, для которых война - дельце, и притом более выгодное, чем мир, этим отравителям и поджигателям Вы, дорогой друг, оказываете услугу, покорно поддаваясь их внушениям. Тем самым Вы тоже берете на себя ответственность за возможную войну. Вместо того чтобы собрать и укрепить в душе все светлое, всю бдительность, всю храбрость и бодрость, как то подобало бы Вам, Вы вешаете голову, распространяете яд слепоты и страха и отдаете себя и свое окружение во власть бессмысленного ужаса. Не знаю, представляете ли Вы себе, до чего мне больно и насколько я разочарован тем, что именно такой старый, верный читатель, ученик и последователь, как Вы, бросил меня и убедил в бесплодности всех моих усилий. Задуматься на миг и об этом тоже было бы, пожалуй, полезно, это, пожалуй, помогло бы немного рассеять окутавший Вас мрак.
Если Вам придется голосовать по поводу ремилитаризации Вашей страны, я не даю Вам совета отвечать «да» или «нет», я надеюсь, что Вы проголосуете после ясного и добросовестного размышления, а не под давлением этой истерии. Считая разум и отказ от насилия единственным путем к лучшему будущему, я тем не менее признаю, что в конкретных странах и конкретных случаях нельзя не приспосабливаться к существующей обстановке. Так, например, я никогда не выступал из пацифистского чистоплюйства против содержания здесь, у нас, в Швейцарии, армии только для защиты нашей страны от нападения, армии, которая выдержала испытание в двух войнах. В каждом могущественном ныне государстве мира есть, конечно, партия войны, но и в побежденных, обезоруженных странах нет недостатка в людях, предпочитающих получить военные заказы сегодня, а не завтра, и в людях, которым хотелось бы, чтобы их снова величали «господин полковник» или «господин лейтенант», а не «господин Мюллер». И так обстоит дело везде.
Мы, друзья мира и правды, Вы и я, не должны слушаться этих дельцов и карьеристов, не должны помогать им, а должны всегда отстаивать свою веру в то, что есть другие пути к миру и другие средства привести в порядок и дезинфицировать землю, чем бомбы и войны.
О старости
Старость - это ступень нашей жизни, имеющая, как все другие ее ступени, собственное лицо, собственную атмосферу и температуру, собственные радости и горести. У нас, седовласых стариков, есть, как и у всех наших младших собратьев, своя задача, придающая смысл нашему существованию, и у смертельно больного, у умирающего, до которого на его одре вряд ли уже способен дойти голос из посюстороннего мира, есть тоже своя задача, он тоже должен исполнить важное и необходимое дело. Быть старым - такая же прекрасная и святая задача, как быть молодым, учиться умирать и умирать - такая же почтенная функция, как любая другая, - при условии, что она выполняется с благоговением перед смыслом и священностью всяческой жизни. Старик, которому старость, седины и близость смерти только ненавистны и страшны, такой же недостойный представитель своей ступени жизни, как молодой и сильный, который ненавидит свое занятие и свой каждодневный труд и старается от них увильнуть.
Короче говоря: чтобы в старости исполнить свое назначение и справиться со своей задачей, надо быть согласным со старостью и со всем, что она приносит с собой, надо сказать ей «да». Без этого «да», без готовности отдаться тому, чего требует от нас природа, мы теряем - стары мы или молоды - ценность и смысл своих дней и обманываем жизнь.
Каждый знает, что старческий возраст приносит всякие тяготы и что он кончается смертью. Год за годом надо приносить жертвы и отказываться от многого. Надо научиться не доверять своим чувствам и силам. Путь, который еще недавно был маленькой прогулочкой, становится длинным и трудным, и в один прекрасный день мы уже не сможем пройти его. От кушанья, которое мы любили всю жизнь, приходится отказываться. Физические радости и удовольствия выпадают все реже, и за них приходится все дороже платить. И потом, всяческие недуги и болезни, притупление чувств, ослабление органов, различные боли, особенно ночами, часто такими длинными и страшными, - от всего этого никуда не денешься, это горькая действительность. Но убого и печально было бы отдаваться единственно этому процессу упадка и не видеть, что и у старости есть свои хорошие стороны, свои преимущества, свои утешения и радости. Когда встречаются два старых человека, им следует говорить не только о проклятой подагре, о негнущихся частях тела и об одышке при подъеме по лестнице, но и о веселых и отрадных ощущениях и впечатлениях. А таковых множество.
Когда я напоминаю об этой положительной и прекрасной стороне в жизни стариков и о том, что нам, седовласым, ведомы и такие источники силы, терпения, радости, которые в жизни молодых не играют никакой роли, мне не подобает говорить об утешениях религии и церкви. Это дело священника. Но кое-какие дары, которые приносит нам старость, я могу перечислить. Самый дорогой для меня из них - сокровищница картин, которые носишь в памяти после долгой жизни и к которым, когда твоя активность идет на убыль, обращаешься с совершенно другим участием, чем когда-либо прежде. Образы и лица людей, отсутствующих на земле уже шестьдесят-семьдесят лет, составляют нам компанию, глядят на нас живыми глазами. Дома, сады, города, уже исчезнувшие и полностью изменившиеся, мы видим целыми и невредимыми, как когда-то, и далекие горы, взморья, которые мы видели в поездках десятки лет назад, мы снова находим во всей их свежей красочности в этой своей книге с картинками.
Рассматривание, наблюдение, созерцание все больше становятся привычкой и упражнением, и незаметно настроение и позиция наблюдающего определяют все наше поведение. Гонимые желаниями, мечтами, влечениями, страстями, мы, как большинство людей, мчались через годы и десятилетия нашей жизни, мчались нетерпеливо, с любопытством и надеждами, бурно переживая удачи и разочарования, - а сегодня, осторожно листая большую иллюстрированную книгу нашей собственной жизни, мы удивляемся тому, как прекрасно и славно уйти от этой гонки и спешки и отдаться vita contemplativa [Созерцательной жизни (лат.)] . Здесь, в этом саду стариков, цветет множество цветов, об уходе за которыми мы прежде и думать не думали. Тут цветет цветок терпения, злак благородный, мы делаемся спокойнее, снисходительнее, и чем меньше становится наша потребность вмешиваться и действовать, тем больше становится наша способность присматриваться и прислушиваться к жизни природы и к жизни наших собратьев, наблюдая за ее ходом без критики и не переставая удивляться ее разнообразию, иногда с участием и тихой грустью, иногда со смехом, светлой радостью, с юмором.
Недавно я стоял у себя в саду у костра, подбрасывая в него листья и сухие ветки. Мимо колючей изгороди проходила какая-то старая женщина, лет, наверно, восьмидесяти, она остановилась и стала наблюдать за мной. Я поздоровался, тогда она засмеялась и сказала: «Правильно сделали, что развели костер. В нашем возрасте надо постепенно приноравливаться к аду». Так был задан тон разговору, в котором мы жаловались друг другу на всяческие боли и беды, но каждый раз шутливо. А в конце беседы мы признались, что при всем при том мы еще не так уж страшно и стары и вряд ли можем считать себя настоящими стариками, пока в нашей деревне жив еще самый старший, которому сто лет.
Когда совсем молодые люди, с превосходством их силы и наивности, смеются у нас за спиной, находя смешными нашу тяжелую походку и наши жилистые шеи, мы вспоминаем, как, обладая такой же силой и такой же наивностью, смеялись когда-то и мы, и мы вовсе не кажемся себе побежденными и побитыми, а радуемся тому, что переросли эту ступень жизни и стали немного умней и терпимей.
1952
Энгадинские впечатления
Дорогие друзья,
чем дольше занимаешься, тем труднее и сложнее становится работать с языком. Скоро я уже по одной этой причине не буду в состоянии что-либо записать. Поэтому нам надо бы, собственно, прежде чем я стану рассказывать вам о своих энгадинских впечатлениях, договориться о том, что мы подразумеваем под «впечатлением». Слово это, как и многие другие, за относительно короткий срок моей сознательной жизни упало в цене и весе, и от того веса золота, который оно имело, например, в трудах Дильтея, до девальвации по милости фельетониста, рассказывающего нам, какими «впечатляющими событиями» было для него знакомство с Египтом, Сицилией, Кнутом Гамсуном, танцовщицей Икс, хотя всего этого он, может быть, даже не видел как следует и не записал, падение произошло изрядное. Но чтобы удовлетворить свою потребность и попытаться достичь вас окольным путем, с помощью писания и типографской краски, мне придется притвориться подслеповатым и держаться за фикцию, будто мой устаревший язык и стиль все еще значат для вас то же, что для меня, и будто «впечатление» - это для вас, как и для меня, нечто большее, чем мимолетное ощущение или любой из сотни случаев повседневной жизни.
Нечто другое, не имеющее никакого отношения к языку и к моему ремеслу это восприимчивость стариков к впечатлениям, и тут я не могу и не хочу пробавляться фикциями и иллюзиями, а держусь известного мне факта, что люди молодого, а тем более юного возраста вообще не представляют себе, как воспринимают что-либо старики. Ведь для стариков новых впечатлений, по сути, не может быть, отпущенную и назначенную им сумму первичных впечатлений они давно получили, и их «новый» опыт, все более редкий, - это повторение не раз испытанного раньше, это новые мазки на давно как бы готовой картине, он накладывает на совокупность старых впечатлений новый тонкий слой краски или лака, покрывая этим слоем десяток, сотню прежних слоев. И все же он означает что-то новое и представляет собой хоть и не первичное, но настоящее впечатление, ибо становится, помимо всего прочего, каждый раз встречей человека с самим собой и самопроверкой. Кто видит море впервые или впервые слушает «Фигаро», получает другое, и обычно более сильное впечатление, чем тот, с кем такое случается в десятый или пятидесятый раз. Этот последний смотрит на море и слушает музыку другими, менее активными, но более опытными и наметанными глазами и ушами, он не только иначе и расчлененнее, чем первый, воспринимает уже не новые для него впечатления, но и встречается при этом с прежними случаями по-новому, узнает не только море и Фигаро, вещи уже знакомые, но заодно снова встречается и с самим собой, со своим более молодым «я», со многими прежними ступенями своей жизни, что бы ни вызывала у него подобная встреча - улыбку, насмешку, чувство превосходства, умиления, стыд, радость или раскаяние. В общем, людям пожилого возраста свойственно глядеть на свои прежние переживания и ощущения скорее с умилением и со стыдом, чем с чувством превосходства, а уж у человека творческого, у художника, встреча в конце жизненного пути с мощью, интенсивностью и полнотой зенита его жизни почти наверняка не вызовет чувства: «О, как слаб и глуп был я тогда!» - а вызовет, наоборот, желание: «О, будь у меня хоть что-то от прежней силы!»
К впечатлениям, назначенным мне судьбой, свойственным мне и для меня важным, принадлежат наряду с человеческими и духовными впечатления от местности. Кроме местностей, которые были моей родиной и относятся к формирующим элементам моей жизни - Шварцвальд, Базель, Боденское озеро, Берн, Тессин, - я благодаря поездкам, походам, попыткам писать картины и другим занятиям сроднился, почувствовав, как они существенны и путеводны для меня, с некоторыми, не очень многими характерными местностями, такими, как Северная Италия, особенно Тоскана, Средиземное море, кое-какие части Германии и другие. Видел я много местностей, и нравились они мне почти все, но вошли в мою судьбу, оставили во мне глубокий и прочный след, постепенно стали для меня маленькой второй родиной лишь очень немногие, и самая, пожалуй, прекрасная их них, сильнее всего волнующая меня - это Верхний Энгадин.
Я бывал в этой высокогорной долине раз десять, оставаясь там несколько раз лишь на день-другой, но чаще на неделю-другую. Впервые я увидел Энгадин лет пятьдесят назад, в молодости, проводя каникулы в Преде, над Бергюном, с женой и другом моей юности Финком, и, когда пришла пора возвращаться домой, мы решили совершить основательный поход. Внизу, в Бергюне, сапожник вбил мне новые гвозди в подошвы, и мы втроем с рюкзаками прошли через Альбулу по длинной красивой горной дороге, а потом по еще гораздо более длинной дороге в долине от Понте в Санкт-Мориц, шагая по проселку без автомобилей, но с бесконечным множеством одно- и пароконных повозок, в нерассеивающемся облаке пыли. В Санкт-Морице моя жена рассталась с нами и поехала поездом домой. В то время как мой товарищ, плохо переносивший высоту, не спал по ночам и становился все молчаливей и недовольнее, мне, несмотря на пыль и жару, верхняя долина Инна показалась воплощением мечты о рае. Я чувствовал, что эти горы и озера, этот мир цветов и деревьев хочет сказать мне больше, чем можно вобрать и впитать в себя с первого взгляда, что меня когда-нибудь еще потянет сюда, что эта строгая и в то же время богатая формами, суровая и в то же время гармоничная высокогорная долина имеет ко мне какое-то отношение, хочет не то дать мне что-то драгоценное, не то чего-то потребовать от меня. После ночлега в Сильс-Мария[1] (где я сегодня нахожусь снова и пишу эти заметки) мы стояли у последнего из энгадинских озер, я призывал друга открыть глаза и, взглянув через озеро на Малою и в сторону Бергеля, увидеть, как неслыханно благодатна и прекрасна эта картина, но все мои уговоры были напрасны, и, указывая вытянутой рукой на бездну пространства, он раздраженно сказал: «Ах, что уж там, это же обыкновенный эффект кулис!» После чего я предложил ему пройти проселком в Малою, а сам двинулся тропой по другую сторону озера. Вечером каждый из нас, далекий от другого, сидел одиноко за столиком на террасе остерии «Веккья» и ел свой ужин, лишь на следующее утро мы помирились и, сокращая бергельскую дорогу, весело сбежали вниз.
Второй раз я ездил в Сильс несколько лет спустя для встречи со своим берлинским издателем С. Фишером всего на два-три дня и жил его гостем в той же гостинице, где останавливаюсь в последние годы каждое лето. Это второе пребывание там оставило во мне мало следов, но вспоминается один прекрасный вечер с Артуром Холичером и его женой, тогда нам надо было многое сказать друг другу.
А потом было еще одно впечатление, вид, который с тех пор при каждом приезде вновь становился для меня дорогим и важным и волновал мою душу, тесно прижавшийся к склону скалы мрачноватый дом, энгадинское жилище Ницше. Среди шумного, пестрого мира туризма и спорта, среди больших отелей он упрямо стоит сегодня и глядит на все это немного досадливо, как бы с отвращением, будя почтение и сочувствие и настойчиво напоминая о том высоком образе человека, который создавал этот отшельник даже в своих ложных учениях.
Затем пошли годы без встреч с Энгадином. Это были мои бернские печальные военные годы. И вот, когда в начале 1917 года я был срочно отчислен из части врачом, больной от своей военной работы и еще больше от бедствий войны вообще, один мой швабский друг находился как раз в санатории над Санкт-Морицом и пригласил меня туда. Стояла зима, горькая третья военная зима, и я узнал эту долину, ее красоты, ее резкости, ее целебность и утешительность с новой стороны, я снова научился спать, научился есть с аппетитом, проводил целые дни на лыжах или на коньках, смог вскоре выносить разговоры и музыку, даже немного работать; иногда я один поднимался на лыжах к корвильской хижине, куда еще не было канатной дороги, и обычно оказывался наверху единственным человеком. Тогда, в феврале 1917 года, я пережил одно незабываемое утро в Санкт-Морице. Мне нужно было туда зачем-то, и, когда я ступил на площадь перед почтой, из здания почты вышел человек в меховой шапке и стал читать вслух только что полученный экстренный выпуск газеты. Люди столпились вокруг него, я тоже подбежал к нему, и первая фраза, которую я разобрал, была: «Le czar demissiona» [«Царь отрекся» (фр.)] . Это было сообщение о Февральской революции в России. С тех пор я сотни раз проезжал или проходил через Санкт-Мориц, но редко не вспоминал на этом месте то февральское утро 1917 года, своих тогдашних друзей и хозяев, никого из которых давно нет в живых, и то душевное потрясение, которое я испытал, когда после короткого житья на правах пациента и выздоравливающего голос того чтеца грозно и настойчиво призвал меня назад к современности и к мировой истории. И так бывает везде, где бы я ни оказался в этой местности, везде на меня смотрит прошлое, смотрит собственное мое естество и лицо, взиравшее когда-то на эти же картины; я встречаюсь с еще не тридцатилетним, который весело тащил свой рюкзак множество километров по августовской жаре, встречаюсь с человеком на двенадцать лет старше, который в тяжком кризисе, поумнев, измучившись и постарев от выстраданного из-за войны, нашел здесь, наверху короткую передышку, чтобы отдохнуть, окрепнуть, собраться с мыслями, снова встречаюсь с теми позднейшими ступенями моей жизни, когда я вновь посещал это милое высокогорье, товарищ младшей дочки Томаса Манна по лыжным походам, постоянный пассажир построенной тем временем корвильской канатной дороги, часто в сопровождении своего друга Луи Жестокого и его умной таксы, тихий ночной работник, склонившийся над рукописью «Гольдмунда». О, какой таинственный ритм вспоминаемого и забываемого бьется в наших душах, таинственный и столь же отрадный, сколь тревожный, даже для того, кто более или менее знаком с методами и теориями современной психологии! Как хорошо и утешительно, что мы можем забывать! И как хорошо и утешительно, что у нас есть дар памяти! Каждый из нас знает, что сохранила его память, и распоряжается этим. Но никто из нас не в силах разобраться в чудовищном хаосе того, что он забыл. Иногда, через годы и десятилетия, словно откопанный клад или вырытый плугом снаряд, на свет выходит обломок чего-то забытого, отброшенного, как нечто ненужное или неудобоваримое, и в такие мгновения (в «Гольдмунде» описано такое великое мгновение) все то многообразно драгоценное, прекрасное, что составляет наши воспоминания, кажется горсткой пыли. Мы, поэты и интеллектуалы, высоко ценим память, это наш капитал, мы живем на него - но когда подобное вторжение из преисподней забытого и отброшенного застает нас врасплох, это всегда открытие, приятно ли оно или нет, открытие такой мощи и силы, каких нет в наших тщательно хранимых воспоминаниях. У меня иногда возникала мысль или догадка, что тяга к странствиям и завоеванию мира, жажда нового, еще не виданного, путешествий, экзотики, знакомая большинству не лишенных фантазии людей, особенно в молодости, может быть и жаждой забыть, вытеснить прошлое, поскольку оно угнетает нас, закрыть уже увиденные картины как можно большим числом новых. Склонность старости, наоборот, к прочным привычкам и повторениям, ко все новым встречам с одними и теми же местами, людьми и ситуациями есть в таком случае, видимо, стремление к сокровищнице воспоминаний, неустанная потребность удостовериться в целости сохраненного памятью, а может быть, и желание, тихая надежда увидеть эту сокровищницу пополненной, вновь, чего доброго, обнаружить и прибавить к запасу воспоминаний то или иное впечатление, ту или иную встречу или картину, то или иное забытое и потерянное лицо. Все старые люди, даже не подозревая того, пребывают в поисках прошлого, кажущегося невозвратным, хотя оно не невозвратно и не обязательно прошло, ибо при определенных обстоятельствах, например с помощью поэзии, оно может быть возвращено и навсегда вырвано из небытия.
По- другому обретаешь прошлое в новом обличье, когда через десятки лет встречаешься с людьми, которых ты некогда знал и любил более молодыми, другими. Когда-то в одном на редкость красивом и уютном энгадинском доме с облицованными кедром комнатами и стеатитовыми печами жил один мой приятель, друживший с Клингзором маг Юп. Он часто по-царски угощал меня и баловал в те времена, когда я еще был лыжником и завсегдатаем корвильской хижины. Тогда в его доме играли три милых ребенка, два мальчика и девочка, младшая из детей, у которой -я заметил это с первого взгляда - каждый глаз был больше, чем ее ротик. Самого мага я, правда, уже десятки лет не видел, он больше не ездит в горы, но несколько лет назад я случайно встретился с его женой и снова увидел этих взрослых теперь детей, музыканта, студента и девушку - та, все еще обращавшая на себя внимание большими глазами и маленьким ротиком, превратилась в изысканную красавицу и с восторгом говорила о своем парижском профессоре, у которого занималась сравнительным литературоведением. Она присутствовала и в тот раз, когда наш друг Эдвин Фишер[2] играл нам в доме ее матери однажды днем Баха, Моцарта и Бетховена. С ним, музыкантом, я тоже неоднократно встречался, с тех пор как он, совсем еще молодой человек, показывал мне свою музыку на мои стихи к Элизабет, встречался каждый раз на новой ступени жизни, и наша товарищеская дружба с каждым разом утверждалась и крепла.
Так при каждом возвращении встречало и встречает меня здесь милое прошлое, невозвратимое и все же поддающееся воскрешению. Мерить им сегодняшний день и себя сегодняшнего радостно и трудно, от этого испытываешь счастье и стыд, это навевает грусть и утешает. Видеть склоны, на которые я много раз без труда поднимался когда-то пешком или на лыжах и на самый маленький из которых мне теперь никак не взобраться, вспоминать друзей, с которыми мне довелось разделить множество энгадинских впечатлений, друзей, ныне давно уже спящих в могилах, немного больно. Но воскрешать эти времена и этих друзей в беседе или в одиноком поминовении, листать богато иллюстрированную книгу воспоминаний (всегда с тишайшей надеждой, что вдруг да возникнет какая-нибудь потерянная, забытая картинка и затмит все другие) радостно, и если силы идут на убыль, а прогулки становятся год от года короче и затруднительнее, то, с другой стороны, с каждым возвращением и с каждым годом растет эта радость воскрешения и поминовения и все многообразнее становится радость от того, что включаешь свое сегодняшнее бытие в многосложный узор, сплетенный памятью. В большинстве этих воспоминаний участвует мой товарищ по жизни, Нинон; со времен тех лыжных зим почти тридцатилетней давности я не бывал здесь без нее, и так же, как на вечерах в доме мага, на вечерах с С. Фишером, Вассерманом[3] и Томасом Манном, она два года назад присутствовала на чудесной встрече с моим маульбронским однокашником Отто Гартманом[4], самым светлым и благородным представителем типа хорошего немца и шваба среди моих друзей. Это был большой праздник, мой друг подарил нам целый день своих коротких каникул, мы возили его на машине в Малою и на Юлиер, под высоким августовским небом горы казались хрустальными, с тяжелым сердцем я сказал ему вечером «прощай». Но наше довольно робко высказанное желание встретиться хотя бы еще один раз сбылось: за несколько дней до смерти он был в Монтаньоле моим гостем, dona ferens [Приносящим дары (лат.)] , я рассказал вам об этом в некрологе.
А этим летом я снова поднялся сюда, на сей раз новым путем, ибо в день нашей поездки в Бергеле засыпало дорогу, рухнул мост и нам пришлось ехать незнакомым доселе окольным путем через Сондро, Тирано, Пушлав и Бернинский перевал, долгим, но очень красивым путем, тысячи картин которого вскоре, однако, смешались у меня в памяти и стерлись; лучше всего сохранилось впечатление от огромного, с сотнями складок и террас холма северноитальянского виноградника, картина, которая в более молодые годы была бы мне не так интересна. Тогда я был охотник до безлюдных, диких и, пожалуй, романтических мест, лишь гораздо позднее, с течением лет меня все более стала привлекать и интересовать совокупность человека и местности, ее формирование, хитрое покорение и мирное завоевание хлебопашеством и виноградарством - террасы, стены и дороги, льнущие к склонам и подчеркивающие их формы, крестьянская сметка и крестьянская старательность в тихой упорной борьбе с разрушительными дикостями и прихотями стихий.
Первая ценная встреча этого лета в горах была и человеческой, и музыкальной. Уже много лет в нашей гостинице останавливался летом одновременно с нами виолончелист Пьер Фурнье[5], по мнению многих - первый в своей области, по моему впечатлению - лучший из всех виолончелистов, по виртуозности равный своему предшественнику Казальсу[6], а в художественном отношении, пожалуй, превосходящий его строгостью и суровостью игры, а также чистотой и бескомпромиссностью программ. Не то чтобы я всегда и во всем был согласен с Фурнье по поводу этих программ, он играет с любовью и таких композиторов, без которых я легко обошелся бы, например Брамса, но ведь и эта музыка серьезна и заслуживает серьезного отношения, а тот знаменитый старик играл наряду с серьезной и настоящей музыкой всякие бравурные и легковесные штучки. Таким образом, Фурнье с женой и сыном был нам знаком не только как слушателям, но много лет и зрительно, хотя мы годами оставляли друг друга в покое, лишь издали кивая друг другу, и каждый молча жалел другого, когда видел, что к нему пристают любопытные. Но на этот раз, после концерта в самаденской ратуше, нам довелось познакомиться ближе и он любезно предложил мне поиграть как-нибудь специально для меня. Поскольку он вскоре собирался уехать, концерт в номере должен был состояться на следующий же день, и день этот выдался несчастный, это оказался один из тех дней недомогания, недовольства, усталости и дурного настроения, какие и на ступени мнимой старческой мудрости все еще доставляют нам порой наша среда и порывы собственной души. Я чуть ли не силой заставил себя отправиться к назначенному послеполуденному часу в номер артиста, из-за моего дурного настроения и уныния у меня было такое чувство, будто я сажусь немытым за праздничный стол. Я вошел туда, опустился на стул, маэстро сел, настроил свой инструмент, и вместо атмосферы усталости, разочарования, недовольства собой и миром меня вскоре охватила чистая и строгая атмосфера Себастьяна Баха, казалось, будто из нашей высокогорной долины, волшебство которой сегодня на меня не действовало, меня вдруг подняли в какой-то еще гораздо более высокий, более ясный, более хрустальный горный мир, открывавший, будораживший и обострявший все органы чувств. То, что не удавалось весь этот день мне самому - шагнуть из обыденности в Касталию, - это мгновенно совершила со мной музыка. Час или полтора провел я здесь, слушая - с короткими паузами и недолгими разговорами в промежутках - две сольные сюиты Баха, и эта музыка, исполненная сильно, точно и строго, была для меня, как хлеб и вино для голодного и жаждущего, она была пищей и омовением и помогла душе вновь обрести мужество и дыхание. Та провинция духа, которую я когда-то, задыхаясь в грязи немецкого позора и войны, воздвиг как спасительное убежище, снова отворила мне свои двери и приняла меня на серьезно-веселое, великое празднество, которое ни в каком концертном зале никогда не удается вполне. Я ушел исцеленный и благодарный и еще долго жил этим.
В прежние времена я часто встречался с таким идеальным музицированием, я всегда бывал с музыкантами в близких и сердечных отношениях и находил среди них друзей. С тех пор как я живу уединенно и не могу ездить, эти дни счастья стали, конечно, редкими. Впрочем, в слушании музыки и суждениях о ней я человек во многих отношениях требовательный и отсталый. Я вырос не с виртуозами и не в концертных залах, а на домашней музыке, и самой прекрасной всегда была та, в которой можно было деятельно участвовать самому; я играл на скрипке и немного пел, это были в детстве мои первые шаги в царство музыки; сестры и особенно брат Карл играли на пианино, Карл и Тео пели, и если бетховенские сонаты и шубертовские песни я слушал в ранней юности в любительском, далеком от виртуозного исполнении, то и это приносило пользу когда я, например, слышал, как в соседней комнате Карл долго единоборствует с какой-нибудь сонатой и когда я, после того как он наконец ею овладевал, мог радоваться триумфальному исходу этой борьбы. Позднее, на первых для меня концертах знаменитых музыкантов я, правда, порой поддавался очарованию виртуозности, как хмелю, увлеченно слушая великих умельцев, преодолевавших технические трудности как бы с улыбкой и без труда, наподобие канатоходцев и акробатов, и мне бывало до боли сладостно, когда они в благодарных местах немножко нажимали, старались блеснуть каким-нибудь томным vibrato или жалобно замирающим diminuendo, но все же это очарование длилось не слишком долго, я был достаточно здоров, чтобы ощущать границы и искать за чувственным очарованием все-таки произведение и дух, не дух блистательного дирижера или солиста, а дух мастеров. А с годами я стал скорее невосприимчив к очарованию умельцев и к тому, может быть, крошечному избытку силы, страсти или сладости, который они придавали произведению, я перестал любить и остроумных, и сомнамбулических дирижеров и виртуозов и стал почитателем объективности, во всяком случае, уже десятки лет я легче переношу преувеличенную аскетичность, чем ее противоположность. И этой установке, этому пристрастию Фурнье соответствовал полностью.
Другое музыкальное событие с неким радостным, даже веселым эпизодом ждало меня вскоре на концерте Клары Гаскиль[7] в Санкт-Морице. Это была, за исключением трех сонат Скарлатти, не совсем та программа, которой я пожелал бы, то есть это была безусловно прекрасная и благородная программа, только, кроме Скарлатти, в ней не было ни одной моей любимой пьесы. Будь мне дана «власть желаний», я выбрал бы две другие сонаты Бетховена. Кроме того, программа обещала «Пестрые листки» Шумана, и перед началом концерта я еще шепнул Нинон, как мне жаль, что нас не ждут вместо «Пестрых листков» «Лесные сцены», которые лучше или, во всяком случае, куда милее мне, и как мне хотелось бы послушать еще раз или еще много раз любимейшую мою маленькую пьесу Шумана «Птица-вещунья». Концерт был очень хорош, и я забыл свои слишком уж личные пристрастия и желания. Но вечер удался еще более. Артистка, которую всячески чествовали, подарила в конце дополнительный номер, и, подумать только, это оказалось не что иное, как моя любимая «Птица-вещунья»! И, как всегда, когда я слушаю эту прекрасную, таинственную пьесу, передо мной вновь ожил тот час, когда я слышал ее впервые, ожила комната моей жены в гайенгофенском доме с пианино, ожили лицо и руки игравшего, дорогого гостя, большое, бородатое и бледное лицо с темными печальными глазами, низко склонившееся над клавишами. Он, этот дорогой друг и тонкий музыкант, вскоре покончил с собой, дочь его еще пишет мне иногда и теперь и была рада, когда я смог рассказать ей нечто приятное и хорошее об ее отце, которого она почти не знала. И таким образом этот вечер, в зале, полном довольно светской публики, оказался для меня маленьким праздником памяти и был полон интимных и дорогих отголосков. Много такого носишь в себе всю долгую жизнь, что погаснет и умолкнет только вместе с тобой. Музыканта с печальными глазами уже почти полвека нет в живых, а для меня он жив и бывает иногда близок мне, и пьеса о птице из «Лесных сцен» всегда, когда я через много лет слышу ее снова, - это, помимо ее собственного, шумановского очарования, источник воспоминаний, среди которых и комната с пианино в Гайенгофене, и тот музыкант, и его судьба - всего лишь осколки. Тут оживают и многие другие звуки вплоть до времен детства, когда я благодаря фортепианной игре старших братьев и сестры знал некоторые маленькие пьесы Шумана наизусть. И первый портрет Шумана, попавшийся мне на глаза еще в детстве, тоже не забылся. Он был цветной, немыслимой, наверно, сегодня цветной печати восьмидесятых годов, и представлял собой карточку в детской игре, терцете с портретами знаменитых художников и перечислением их главных произведений; Шекспир, Рафаэль, Диккенс, Вальтер Скотт, Лонгфелло и прочие точно так же всю мою жизнь сохраняли для меня эти раскрашенные карточные физиономии. И эта игра, этот терцет с рассчитанным на молодежь и простых людей пантеоном художников и произведений искусства, были, может быть, самым ранним толчком к той идее, охватывающей все эпохи и культуры universitas litterarum et artium [Совокупности наук и искусств (лат.)] , которая позднее получила названия «Касталия» и «игра в бисер».
За десятки лет моих связей с нашим высокогорьем, прекраснейшим местом рождения великой реки, какое я знаю, мне, конечно, довелось наблюдать и рост механизации, наплыв иностранцев и спекулянтов, почти такой же, как вокруг моего тессинского обиталища. Санкт-Мориц уже и пятьдесят лет назад был не чем иным, как бойким городком для иностранцев, и уже тогда покосившаяся старая башня церкви по-старчески мрачно нависала над нагромождением скучных бытовых построек и ждала, казалось, более доходного использования своего участка, готовая в любую минуту окончательно лишиться устойчивости и рухнуть. Между тем она и сегодня стоит, как стояла, спокойно сохраняя равновесие, а многих огромных, пошлых, спекулянтских построек начала девяностых годов нет и в помине. Но повсюду на небольшом пространстве между Санкт-Морицом и Сильсом и дальше, к Фексу, с каждым годом приобретают все больший размах раздел и эксплуатация земли, застройка ее большими и маленькими домами, засилье иностранцев. Есть множество домов, где люди живут лишь по нескольку месяцев, а то даже и недель в году, и эти новые, все более многочисленные члены долинных общин, как правило, остаются для старожилов, чью родину они раскупили, чужими людьми, даже самые благонамеренные отсутствуют большую часть года, они не разделяют с местными жителями суровое время борьбы с морозами, лавин, таяния снега и почти не знают тяжких общинных забот и нужд.
Приятно иногда съездить на машине в места, где последние десятилетия почти ничего не изменили. Мои прогулки далекими теперь не бывают, но благодаря автомобилю многие желания осуществимы. Например, мне уже несколько лет хотелось побывать там, где начался мой юношеский первый поход по этим горам, на Альбульском перевале и в Преде. Ехал я на сей раз в противоположном, если иметь в виду тогдашний мой путь пешком, направлении, и той пыльной дороги между Санкт-Морицом и Понте, по которой когда-то катилось столько веселых повозок, нельзя было узнать. Но через Понте, которое сегодня именуется Ла Пункт, мы вскоре въехали в тихий и строгий мир камня, где передо мною одна за другой вновь возникали тогдашние картины и ситуации: на высоте перевала я долго сидел в стороне от дороги на травянистом холме и, глядя на длинные, голые, но многокрасочные гряды гор и на маленькую Альбулу (красивое название которой мне всегда напоминало «animula vagula blandula» [«Душа скиталица нежная» (лат.)]) , вновь находил воспоминания о том летнем походе 1905 года, которые считал полностью утраченными. Не изменившись, взирали на нас сверху голые крутые спины скал и россыпи гальки, и какие-то мгновения мы испытывали то столь же благотворное, сколь и тревожное, чувство, которое может дать пребывание у моря или в безлюдном и диком мире гор, чувство, будто ты то ли оказался вне времени, то ли дышишь в некоем времени, знающем счет не на минуты, не на дни, не на годы, а только на сверхчеловеческие, разделенные тысячелетиями вехи. Он был прекрасен, этот полет чувств между вневременным первобытным миром и маленькими отрезками собственной жизни, но он и утомлял, наводил грусть и делал все человеческое, все изведанное и все, что вообще можно изведать, очень уж бренным и невесомым. После нашего привала наверху я предпочел бы повернуть обратно, я уже впустил в себя достаточно впечатлений, более чем достаточно ожившего прошлого. Но в памяти у меня была еще крошечная Преда, несколько домов у входа в туннель, где я, молодой, бездетный еще супруг, провел тогда свои каникулы. И затем, еще призывнее, была оставшаяся в памяти картина густо-зеленого горного озера с темно-коричневым водосбором. Мне хотелось вновь увидеть его, да и мы собирались вернуться через Тифенкастель и Юлиер. Вскоре мы были у первых сосен и лиственниц, и время от времени я стал замечать по эту сторону перевала признаки эпохи и цивилизации; во время еще одного привала полную до тех пор тишину долины нарушал упорный треск мотора, который я принял за экскаватор или трактор, но это была всего лишь маленькая косилка на лугу, казавшаяся сверху крошечной. И вот мы увидели озеро, озеро Пальпуонья, в прохладно-зеленом зеркале которого отражались лес и склон горы, а над озером высились три угрюмо-диких утеса. В нем было почти столько же красоты и очарования, как когда-то, хотя сток укрепили всяческими дамбами, а у края дороги стояло, отдыхая, множество автомобилей. Но с приближением к Преде моя восприимчивость к впечатлениям и моя радость от встречи и от пробуждения старых воспоминаний совершенно пропали. Я собирался остановиться там ненадолго, поискать домик, где мы когда-то жили, и расспросить, кто там живет сегодня. Но теперь мне расхотелось делать это, незачем, показалось мне, узнавать, что старик Николаи и его родственники давно умерли. К тому же стоял один из первых жарких дней этого прохладно-дождливого лета, а воздух здесь был уже не горный. Возможно также, что здесь во мне всколыхнулось забытое со времен юности и моего первого брака, что сковывали меня и угнетали не только усталость от дороги и зной, но в такой же мере недовольство и сожаление по поводу некоторых отрезков моей жизни и грусть о непоправимости всего сделанного и случившегося. Я проехал, не останавливаясь, через маленькую Преду и спешил только вернуться. Когда я про себя разбирался в этом недовольстве и сожалении, я, не наталкиваясь на какие-то определенные поступки или упущения прежней своей жизни, которые были бы забыты, еще раз вернулся к тому странному, смутному и полностью так и не преодоленному чувству вины, что охватывает порой людей моего поколения и моего склада, когда они вспоминают время до 1914 года. Кого пробудил и встряхнул тем первым крушением мирного мира поворот истории, тому никогда целиком не избавиться от вопроса о совиновности, хотя вообще-то он больше приличествует юношескому возрасту, ибо старость и опыт могли бы научить нас, что вопрос этот тождествен вопросу о первородном грехе и не должен был бы нас беспокоить, его можно препоручить теологам и философам. Но поскольку за срок моей жизни мир превратился из прекрасного, шутливого и немного сибаритского мирного мира в место ужаса, я, видимо, буду еще при случае претерпевать такие рецидивы нечистой совести. Возможно ведь, что это чувство собственной ответственности за ход мировых событий, чувство, в котором одержимые им любят иногда усматривать признак особенно чуткой совести и высшей человечности, есть просто болезнь, просто отсутствие невинности и веры. Человеку вполне добропорядочному и в голову не придет высокомерная мысль, будто и он в ответе за пороки и болезни мира, за его косность в мирное время и за его жестокость во время войны, будто он, человек, достаточно велик и важен, чтобы умножать или уменьшать в миро страдания и вину.
В это энгадинское лето мне была суждена и другая встреча с прошлым, о которой я вот уж не думал. Чтения я взял с собой не много, а из почты мне из дому во время каникул пересылают лишь письма. Поэтому я удивился, когда однажды, без крюка через Монтаньолу, пришла бандероль от моего издателя. В ней было новое издание «Гольдмунда», и, когда я, глядя на книгу, рассматривая ее бумагу, переплет и суперобложку, стал уже размышлять, кому бы ее подарить, чтобы не отяжелять ею свой багаж, мне вдруг подумалось, что я ведь не читал ее со времени написания, вернее, после корректур первого издания, вышедшего лет двадцать пять назад. Когда-то я дважды тащил рукопись этого сочинения из Монтаньолы в Цюрих, а оттуда в Шантареллу, я все еще помнил две-три главы, стоившие мне большого труда и бессонных ночей, но в целом книга, как это с годами происходит у авторов с большинством их книг, стала для меня несколько чужой и незнакомой, и потребности возобновить это знакомство я никогда до сих пор не испытывал. Теперь, когда я листал ее, она как бы призывала меня к этому и вызывала у меня согласие. Так «Гольдмунд» стал моим чтением примерно на две недели. Одно время он был, пользуясь неприятным выражением, «на устах у публики», и «уста публики» не всегда отвечали на него благодарностью и хвалой, нет, добрый «Гольдмунд» наряду со «Степным волком» был той моей книгой, которая принесла мне больше всего упреков и взрывов негодования. Появившись незадолго до наступления последней воинственно-героической эпохи Германии, она была в высокой степени негероична, невоинственна, мягкотела, она совращала, как мне говорили, к разнузданной радости жизни, была эротична и бесстыдна, немецкие и швейцарские студенты высказывались за то, чтобы ее запретить и сжечь, а героические матери, ссылаясь на фюрера и на великое время, выражали мне свое возмущение часто в более чем невежественной форме. Но не эти обстоятельства мешали мне в течение двух десятков лет перечитать «Гольдмунда», так получилось само собой из-за определенных перемен в моем образе жизни и способе работать. Прежде мне приходилось перечитывать большинство моих книг, держа корректуру переизданий, многое я при этом правил, главным образом сокращал. Но позднее, с ухудшением зрения я старался по возможности избегать этой работы, и уже давно ее взяла на себя моя жена. Я, конечно, никогда не переставал как-то любить «Гольдмунда», он возник в эпоху, я бы сказал, прекрасного подъема, и брань и пощечины, на него обрушившиеся, были в моей душе доводами скорее в его пользу, чем против него. Но его образ, который я носил в себе, с течением времени, как все воспоминания, немного изменился и стерся, я уже плохо помнил его, и теперь, когда с писанием книг давно было покончено, я мог употребить неделю-другую на то, чтобы освежить и уточнить этот образ.
Встреча была дружеской и благотворной, и ничто в моей повести не вызвало у меня ни порицания, ни сожаления. Не то чтобы я был целиком согласен со всем, в книге имелись, конечно, ошибки, и она показалась мне, как почти все мои работы, когда я перечитываю их после очень долгого перерыва, несколько длинноватой, чуточку болтливой, в ней слишком часто, вероятно, одно и то же повторялось всего лишь другими словами. Не обошлось и без уже не раз пережитого, немного стыдного осознания недостатков моего дарования и границ моего умения, это была ведь самопроверка, и, таким образом, перечитывание еще раз отчетливо показало мне мои границы. Прежде всего мне снова бросилось в глаза то, что в отличие от произведений настоящих мастеров большинство моих повестей не ставило новых проблем и не создавало новых человеческих образов, как мне думалось, когда они писались, а лишь варьировало и повторяло несколько свойственных мне проблем и типов, хотя и на новых ступенях жизни и опыта. Мой «Гольдмунд», например, был предвосхищен не только в Клингзоре, но уже и в Кнульпе, как Касталия и Йозеф Кнехт в Мариабронне и в Нарциссе. Но это понимание не причиняло боли, оно означало не только снижение и сужение моей самооценки, которая некогда была куда выше, а означало также нечто хорошее и положительное, показав мне, что вопреки многим моим честолюбивым желаниям и устремлениям я в целом оставался верен своей сущности и не сходил с пути самоосуществления, несмотря ни на какие теснины и кризисы. И вся интонация этой повести, ее мелодия, игра повышений и понижений не казались мне чужими, не отдавали прошлым, ушедшей эпохой жизни, хотя я сейчас уже не сумел бы добиться такой легкости слога. Этот вид прозы соответствовал мне и сегодня, и из ее главных и побочных структур, из ее фразировки, из ее маленьких игр я ничего не забыл; я бережно и неискаженно сохранил в памяти в гораздо большей мере язык книги, чем ее содержание.
А впрочем, как невероятно много я позабыл! Не было, правда, ни одной страницы, ни одной фразы, которой бы я сразу не узнавал, но почти не встречалось страницы или главы, при чтении которой я мог бы предсказать, что будет на следующей странице. Память точно сохранила маленькие подробности, вроде каштана перед монастырскими воротами, крестьянского дома с покойником, лошади Гольдмунда Блеса, да и более важное, как, например, некоторые разговоры друзей, ночной поход «в деревню», скачки с Лидией. Но я забыл, непостижимым образом забыл большую часть того, что происходит у Гольдмунда с мастером Никласом, забыл дурака паломника Роберта, забыл эпизод с Леной и как из-за нее Гольдмунд вторично совершает убийство. Кое-что помнившееся мне удачным и прекрасным немного разочаровало меня. Кое-какие места, огорчавшие меня раньше, когда я их писал, места, которыми я тогда не был вполне доволен, оказалось трудно найти, и я счел, что там все в порядке.
Во время этого чтения - а я читал медленно и основательно - мне вспомнились также связанные с книгой события того времени, когда она возникала. Одно из них я вам расскажу, поскольку некоторые из вас, наверно, при нем присутствовали. Дело было в конце двадцатых годов, я обещал выступить с чтением в Штутгарте, потому что хотел вновь повидать родные места юности, и был гостем одного из тамошних моих друзей, которого уже нет в живых. «Гольдмунд» тогда еще не вышел, но большая часть книги была в рукописи готова, и я, что было не очень умно, взял с собой для чтения как нарочно главу с описанием чумы. Ее слушали внимательно, мне это описание было тогда особенно важно и дорого, и мои истории о Черной Смерти произвели, казалось, большое впечатление, в зале воцарилась какая-то серьезность, может быть, это было всего-навсего молчание от неловкости. Но когда чтение кончилось и «узкий круг» собрался в одном из излюбленных ресторанов за ужином, мне казалось, что странствие Гольдмунда через великий мор задело слушателей за живое. Сам я был еще полон своей главой о чуме, я ведь тогда впервые, не без внутреннего сопротивления, публично выступал с частью своей новой работы, я был еще весь в ней и с неохотой принял приглашение на это дружеское сборище. И теперь, по праву или нет, у меня было такое впечатление, что собравшиеся, облегченно вздохнув после слушания моей истории, ринулись в жизнь с удвоенной жадностью. Шумно и нарасхват разбирали места, официантов, карточки блюд и вин, кругом сияли смеющиеся лица и раздавались громкие приветствия, оба сидевших рядом со мной друга тоже, я слышал, старались перекричать этот гомон, чтобы заказать себе омлет, печенку или ветчину, мне казалось, будто я очутился на одном из пиров, где Гольдмунд в кругу жаждущих жизни, заглушая страх смерти, осушал кубок за кубком и взвинчивал подхлестнутую веселость. Но я не был Гольдмундом, я чувствовал себя потерянным и отверженным среди этой веселости, она была мне противна, я не в силах был вынести ее. И я прокрался к двери и вышел, прежде чем кто-либо успел хватиться и вернуть меня. Ни умным, ни геройским поступок мой не был, я знал это и тогда уже, это была инстинктивная реакция, с которой никак нельзя совладать.
После этого я публично читал вслух еще один или два раза, потому что уже был связан словом, но больше никогда этого не делал.
За этими записями прошло и вот это энгадинское лето, пора складывать вещи и уезжать. Исписать эти листки стоило мне больше труда, чем они заслуживают, ничего у меня уже не получается как следует. Несколько разочарованный отправляюсь я восвояси, разочарованный физической несостоятельностью и еще больше тем, что при всех усилиях и большой затрате времени я не сотворил ничего лучшего, чем это письмо, которое я ведь давно уже должен многим из вас послать. По крайней мере мне еще предстоит что-то хорошее, что-то очень хорошее: путь домой через Малою и Кьявенну, каждый раз снова обворожительный путь от прохладно-ясных горных высот к теплому, по-летнему влажному югу, навстречу Мепре, навстречу бухтам и городкам, каменным оградам садов, оливам и олеандрам озера Комо. Я еще раз буду благодарно впивать это. Будьте снисходительны и прощайте!
1953
Томасу Манну
Март 1953
Дорогой господин Томас Манн,
это была славная и полная неожиданность! «Ага, Круль!» - подумал я, вскрывая бандероль, а книга оказалась совершенно нежданная. Я порадовался, разглядывая ее и ощупывая, порадовался прежде всего милой дарственной надписи, затем многообещающему объему прекрасно сделанного тома, в котором мне не нравится только обложка. Потом, когда я стал перелистывать и пробегать глазами оглавление, мне стало вдруг ясно, какая это автобиографическая и историческая сокровищница, и я уже начал выковыривать изюминки, принявшись первым делом за еще не знакомые вещи, из которых меня особенно восхитило «Любимое стихотворение». Qualis artifex! [Какой искусник! (лат.)] Благодарю Вас, Вы доставили мне большую радость.
Вот кстати: недавно один человек - кажется, его фамилия Грюнвальд прислал мне из Америки рукопись своей работы, из которой я прочел только отмеченное им самим место. Это восхваление Гессе за счет Томаса Манна, которого он непристойно ругает. Я написал ему открытку, где с грустью сказал, какого я о нем мнения, он обиделся, и скоро, полагаю, его восхищение мною сменится противоположным чувством, как то было у него с Вами. Ибо он уверяет, что раньше был в восторге от Вас. Что за люди!
Моя жена радуется вместе со мной предстоящему чтению, и мы оба шлем вам троим самый горячий привет. Ваш
Г. Гессе
Рудольфу Панвицу[1]
Январь 1955
Глубокоуважаемый господин Панвиц,
по прочтении «Игры в бисер» Вы одарили меня письмом, какие получаешь весьма редко; я прочел его с радостью и волнением и радуюсь ему, как позднему, неожиданному дару. Ведь, хотя в старости я, к собственному удивлению, несколько даже избалован признанием и успехом, большая часть выпавших на мою долю похвал и сочувствия шла от людей, которых я не мог считать вполне компетентными, которые способны были усвоить лишь половину сложной сути литературного произведения или того меньше, от людей, чье одобрение обесценивалось еще и тем, что обычно оно сводилось к использованию моей книги в слишком прямолинейных практических целях.
И вот Ваше письмо приносит мне сочувственный отзыв умнейшего человека, превосходящего меня критическими способностями и образованностью, человека, которого я к тому же чту как художника.
Это для меня, состарившегося, ничего, в сущности, уже не желающего, прекрасный подарок, за который я всегда буду Вам благодарен. Мне стыдно, что я не могу ответить на него лучше, но я перестал быть хорошим читателем, а тем более хорошим корреспондентом. Я должен быть доволен, когда рукам и глазам удается еще выполнить скромный урок, давно уже не имеющий ничего общего с собственным творчеством.
Позвольте мне скромно отдарить Вас, записав кое-какие воспоминания из времен, когда возникала моя книга, поскольку Ваше письмо вновь оживило для меня те времена.
Идеей, высекшей во мне первую искру, было перевоплощение, как выражение устойчивого в текучем, непрерывности традиции и духовной жизни вообще. Однажды, за много лет до того как я попытался писать, мне привиделся индивидуальный, но надвременный жизненный путь: я вообразил человека, который, рождаясь снова и снова, оказывается современником великих эпох истории человечества. Остался от этого первоначального намерения, как Вы видите, ряд кнехтовских жизней[2], три исторические и одна касталийская. В план мой входило, кстати сказать, еще одно жизнеописание, отнесенное к XVIII веку, как эпохе великого расцвета музыки, над этой картиной я проработал почти год, затратив на нее больше подготовительного труда, чем на все другие биографии Кнехта, но она мне не удалась, эта штука так и осталась фрагментом. Слишком точно известный и слишком богато документированный мир этого века никак не встраивался в более легендарные пространства остальных кнехтовских жизней.
В годы, прошедшие от первого замысла до настоящего начала работы над книгой, в годы, когда мне надо было выполнить еще две другие задачи, произведение, названное впоследствии «Игрой в бисер», маячило передо мной в меняющихся обликах, то в торжественных, то в более игривых. Это были для меня годы относительного благополучия после серьезного кризиса жизни, и это были годы передышки и возврата к радости жизни для измученных первой мировой войной Германии и Европы. Правда, в политическом отношении я стал чуток и недоверчив и не верил в немецкую республику и немецкое миролюбие, но общая атмосфера уверенности, даже уютности действовала на меня все-таки благотворно. Я жил в Швейцарии, бывал в Германии очень редко и гитлеровское движение долго не принимал всерьез. Но когда оно, после того как стал известен так называемый бокенгеймский документ, предстало моим глазам во всей своей опасности и динамике, а тем более когда оно открыто пришло к власти, мое приятное самочувствие, конечно, кончилось. С речами Гитлера и его министров, с их газетами и брошюрами поднялось что-то вроде ядовитого газа, поднялась волна подлости, лжи, безудержного карьеризма, образовалась атмосфера, дышать которой было нельзя. Не требовалось никаких зверств, ставших известными лишь через несколько лет, достаточно было этого ядовитого газа, этого осквернения языка и попрания правды, чтобы снова, как в военные годы, поставить меня перед пропастью. Воздух снова был ядовит, жизнь снова была поставлена под вопрос. Пришел момент, когда мне нужно было мобилизовать в себе все спасительные силы, проверить и утвердить всю веру, какой я обладал. Возникло нечто гораздо худшее, чем некогда тщеславный кайзер с его генералами-полубогами, нечто такое, что должно было привести к худшему, чем знакомый нам вид войны. Среди этих опасностей, угрожавших физическому и духовному существованию немецкоязычного писателя, я прибег к спасительному средству всех художников - к творчеству, и вернулся к своему старому уже замыслу, который, однако, сразу же под натиском современности весьма изменился. У меня было две задачи: создать духовное пространство, где я мог бы дышать и жить даже в отравленном мире, некое прибежище, некую косность, и, во-вторых, выразить сопротивление духа варварству и по возможности придать силы своим друзьям в Германии, помочь им сопротивляться и выстоять.
Чтобы создать пространство, где я мог бы найти убежище, поддержку и бодрость, недостаточно было оживить и любовно изобразить некое прошлое, как то отвечало бы, вероятно, моему прежнему замыслу. Я должен был наперекор издевающейся современности показать царство духа и души существующим и неодолимым, поэтому мое произведение стало утопией, картина была спроецирована в будущее, скверное настоящее было изгнано в преодоленное прошлое. И к собственному моему удивлению, касталийский мир возник как бы сам собой. Его не надо было выдумывать и конструировать. Он без моего ведома давно сложился во мне. И тем самым искомое пространство, где я мог бы дышать, было найдено.
Свою потребность в протесте против варварства я тогда удовлетворил тоже. В моей первой рукописи были разделы, особенно в прологе, страстно выступавшие против диктаторов и надругательства над жизнью и духом: эти боевые призывы, в окончательной редакции большей частью снятые, тайно переписывались и распространялись в кругу моих германских друзей. В Швейцарии «Игра в бисер» вышла в свет еще во время войны. Чтобы получить разрешение на печатание, мой германский издатель представил ее в списке, где наиболее бросающиеся в глаза антигитлеровские выпады были опущены, но германские цензоры, конечно, отклонили мою книгу. Позднее ее протестующе боевая направленность для меня уже не имела значения.
Довольно об этом! Я пустился в разбуженные Вашим письмом воспоминания о времени, когда рождалась моя книга. Примите их дружески, а с ними и пожелание всего доброго.
Господину Гольке, Берлин
Февраль 1955
Дорогой господин Гольке,
спасибо за Ваше милое письмо с красивым рисунком тушью. Мне всегда нравились Ваши сумеречные этюды, каждый из них радовал меня и был мне близок.
Ваши размышления о мировой истории, о войне, о смысле и бессмыслице всего на свете близки моим собственным раздумьям, мы почти не расходимся. Но для нашего поведения в жизни важны не столько наши мысли, сколько наша вера. Я не верю ни в какие религиозные догмы, а значит, и в такого бога, который сотворил людей и дал им возможность совершить прогресс от смертоубийства с помощью каменных топоров до убийства с помощью атомного оружия и тем гордиться. Я не верю, стало быть, что эта кровавая мировая история имеет свой «смысл» в плане некоего возвышающегося над нами божественного правителя, который задумал нечто непостижимое для нас, но божественное и великолепное. Тем не менее у меня есть вера, есть ставшее инстинктом знание или ощущение какого-то смысла жизни. Я не могу заключить из мировой истории, что человек добр, благороден, миролюбив и самоотвержен, но что среди отпущенных ему возможностей есть и эта благородная и прекрасная возможность, стремление к добру, миру и красоте, что при счастливых обстоятельствах она может расцвести - в это я верю и твердо знаю, и если бы такая вера нуждалась в подтверждении, то в мировой истории она нашла бы наряду с завоевателями, диктаторами, героями войн и производителями бомб таких людей, как Будда, Сократ, Иисус, священные книги индийцев, евреев, китайцев и множество замечательных творений мирного человеческого духа в сфере искусства. Головы пророка в толпе фигур на портале храма, нескольких тактов музыки Монтеверди[1], Баха, Бетховена, кусочка холста с живописью Рожье[2], Гварди[3] или Ренуара достаточно, чтобы вознаградить за все зрелища войн и насилия, какие являет нам жестокая мировая история, и показать другой, одухотворенный счастливый внутри себя мир. А кроме того, творения искусства гораздо надежней и долговечней, чем творения силы, и переживают их на целые тысячелетия.
Если мы, не верящие в насилие и старающиеся уйти подальше от его притязаний, все же должны признать, что никакого прогресса нет, что миром по-прежнему правят карьеристы, властолюбцы и деспоты, то это, при любви к красивым словам, можно назвать трагедией. Мы живем, окруженные аппаратами власти и насилия, то скрежеща зубами от возмущения, то доходя до смертельного отчаяния (Вы испытали это в Сталинграде), мы жаждем мира, красоты, свободы для полетов нашей души, и нам часто хочется пожелать производителям атомных бомб, чтобы их дьявольские орудия взорвались преждевременно, и все же мы подавляем в себе это возмущение и эти желания, мы чувствуем, что нам запрещено отвечать на насилие насилием. Наше возмущение и эти скверные желания показывают нам, что в человеческом мире добро и зло разграничены отнюдь не строго, что зло живет не только в карьеристах и деспотах, но и в нас, считающих себя людьми миролюбивыми и доброжелательными. Нет сомнений в том, что наше возмущение «справедливо». Оно справедливо. Но оно заставляет нас, презирающих власть, минутами все-таки желать власти, чтобы покончить с этим безобразием, навести порядок. Мы стыдимся этих порывов и все-таки не можем избавиться от них навсегда. Мы причастны к злу и войнам в мире. И всякий раз, когда мы осознаем эту причастность, всякий раз, когда нам приходится стыдиться ее, нам становится ясно, что правят миром не бесы, а люди, что они творят зло или попустительствуют ему не от злобы, что они действуют в какой-то слепоте и невинности.
Логически этих противоречий не решить. Зло существует в мире, оно существует в нас, оно кажется неразделимо связанным с жизнью. И все же нам слышна - ее нельзя заглушить - веселая и прекрасная сторона природы, она дает нам счастье и утешает нас, она призывает нас и трогает, она вдыхает надежду в наше существование, которое часто кажется совсем безнадежным. И, зная, что мы, люди миролюбивые, не свободны от зла, мы надеемся, что и в других жива возможность пробуждения для согласия и любви.
Томасу Манну к 6 июня 1955
Февраль 1955
Дорогой Томас Манн,
разве не только что Вы здесь же поздравляли меня с семидесятилетием? Мы, старики, знаем неизмеримость времени и уже не удивляемся переменчивости его ликов, и поэтому я поздравляю Вас с восьмидесятилетием так, словно с тех пор ничего не случилось. Буду краток, поскольку поздравил уже в другом месте и кое-что написал о причинах, по которым я Вас чту и люблю.
Последним новым Вашим произведением, прочитанным мною, была великолепная статья о Чехове[1]. Соблазненный ею, я снова перелистал Ваш драгоценный том очерков «Старое и новое»[2], чем подарил себе час размышлений и наслаждения. И, прежде чем расстаться с этой книгой, я снова раскрыл ее на заключительных фразах Вашей заметки «Любимое стихотворение», хотя и помню их наизусть с тех пор, как впервые прочел. Среди пишущих на нашем языке нет сейчас никого, кто смог бы сделать что-либо подобное так, как Вы. Я имею в виду не синтаксис, а интонацию фраз, но прежде всего тщательно дозированную смесь любви и лукавства. Она современнее и острее, чем у Вашего учителя Фонтане, но, безусловно, в его духе.
Гельмуту Кирштейну, Нинбург-на-Везере
Помечено на оборотной стороне листка с текстом: «Об антисемитизме и т. д.» (1958г.)
12 марта 1960
То, что на обороте, написано за два года до этих каракулей.
Нынешнюю немецкую молодежь я не считаю более испорченной или более опасной, чем молодежь других стран. Ведь и во многих других странах случались такие непристойные демонстрации.
Недоверие к Германии за границей, хотя и не такое сильное, как некогда, существует по-прежнему. Виною этому не столько прегрешения немецкого народа при Гитлере, сколько то очень тревожное обстоятельство, что и сегодня еще старые нацисты сидят на высоких постах, даже в министерствах, или, уйдя на покой, получают большие пенсии. В этом вопросе недоверие к Германии, по-моему, совершенно справедливо.
Редакции журнала «Вопросы германской и международной политики», Кельн
Март 1960
Глубокоуважаемые господа,
Вы давно уже любезно присылаете мне ваш прекрасный ежемесячник. Политическую литературу я читаю лишь в виде исключения, но постепенно я все-таки получил ясное представление о ваших усилиях. Живя за границей и будучи далек как от внутригерманских, так и от церковных проблем, я все же нет-нет да читал ваши статьи и многое благодаря им узнал. Особенно радует меня, что вы храбро и неустанно показываете своим читателям позорное пятно ФРГ - пребывание на высоких и высших постах национал-социалистов, на которых порой лежит тяжелая вина.
Преданный вам
Приветствие «Комунита Эуропеа ди Скриттори»[1], Милан
Июль 1961
Дорогие коллеги,
итальянское Рисорджименто[2] вызвало в свое время у немецкой интеллигенции большое участие и сочувствие. Правительства были, правда, реакционны, но Наполеон еще не был забыт и молодежь, особенно студенчество, жила либеральными и национальными идеалами. Кстати, уже в наше время выдающаяся немецкая писательница Рикарда Хух[3] воспела Рисорджименто в прекрасных и темпераментных книгах, прежде всего в двух книгах о графе Гонфалоньери и о Гарибальди.
Сегодня актуальны другие проблемы, и во многих странах благородный национальный дух превратился в опасный национализм. Сегодня мы можем представить себе более или менее достойное жизни будущее лишь в атмосфере какого-то мирно-федералистского объединения человечества, но мы пока даже не созрели для такого уклада в Европе.
На трудном пути к этому перед литературой и журналистикой тоже стоят большие задачи.
Комментарии
Из огромного количества публицистических, эссеистических и литературно-критических работ Германа Гессе, а также из нескольких сборников писем для настоящего издания отобраны тексты, дающие представление о своеобразии общественно-политических и художественно-эстетических взглядов писателя и о динамике их развития. Активность Гессе-публициста возрастала, когда духовным ценностям, накопленным человечеством на протяжении тысячелетий, угрожала опасность уничтожения. Так было в годы первой мировой войны и непосредственно после нее, так случилось сразу после фашистского переворота в Германии и в период «холодной войны». Вокруг этих дат и событий и концентрируется основная часть художественной публицистики Гессе.
Вошедшие в сборник материалы делятся по жанровому признаку на три группы. К первой относятся публицистические выступления и статьи, написанные с 1914 по 1946 г. и включенные писателем в книгу «Война и мир» («Krieg und Frieden», 1946). Вторую группу составляют автобиографические очерки, воспоминания и литературно-критические работы, публиковавшиеся в периодической печати и вошедшие позднее в сборники «Размышления» («Betrachtungen», 1928), «По следам снов» («Traumfohrte», 1945), «Заклинания» («Beschworungen», 1955) и др. И, наконец, в третью группу текстов вошла небольшая подборка писем. За свою жизнь Гессе написал огромное - более 35 тысяч - количество писем. Большинство из них собраны и опубликованы в томах переписки с Р. Ролланом, Э. Балль-Хенниннгс, К. Кереньи, П. Зуркампом, Т. Манном, Г. Вигандом, Р. Я. Хуммом, О. Шеком и др., а также вошли в четырехтомное собрание писем («Gesammelte Briefe», Frankfurt am Main, 1973-1986). В настоящий сборник включены в основном письма из однотомника избранных писем, впервые изданного еще при жизни Гессе, в 1951 г., и затем существенно дополненного при переиздании 1964 г. женой писателя, Нинон Гессе.
Все материалы сборника расположены в хронологическом порядке. Этот принцип нарушен только в двух случаях: при вынесении в начало книги двух автобиографических очерков, что вызвано необходимостью ознакомить читателя с основными вехами жизни писателя, и применительно к Г. Келлеру и Ф. Кафке, о которых Гессе писал неоднократно, - эти статьи и рецензии собраны с целью соблюдения тематического единства в одну группу и «привязаны» к году создания наиболее значительных из них.
За исключением немногих особо оговоренных случаев, все материалы сборника взяты из следующих изданий:
1. Hermann Hesse. Gesammelte Schriften in 7 Banden. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1958;
2. Hermann Hesse. Gesammelte Werke in 12 Bдnden. Suhrkamp Verlag, 1970;
3. Hermann Hesse. Briefe. Erweiterte Ausgabe. Suhrkamp Verlag, 1964;
4. Hermann Hesse - Thomas Mann. Briefwechsel. Suhrkamp Verlag, 1968;
5. Hermann Hesse. Briefwechsel mit Heinrich Wiegand. Aufbau Verlag, Berlin und Weimar, 1978.
Датировка текстов воспроизводит издания на немецком языке. Даты, взятые в скобки, принадлежат публикаторам Гессе.
На русском языке материалы сборника публикуются впервые. Исключение составляют три текста: «Краткое жизнеописание» (опубл. в книге: Г. Гессе. Избранное. М., «Художественная литература», 1977); «Библиотека всемирной литературы» (журнал «Культуры», М., 1983, № 3); «Письмо в Германию» (опубл. в переводе Е. Маркович в книге: Г. Гессе. Паломничество в страну Востока. Игра в бисер. Рассказы. М., «Радуга», 1984).
При комментировании использовались работы справочно-библиографического характера, например: Н. Weibler. Hermann Hesse. Eine Bibliographie. Bern, Munchen, 1962, а также комментарии Р. Каралашвили к изданию произведений Гессе на немецком языке (Hermann Hesse. Die Morgenlandfahrt. Gedichte. Marchen. Kleine Prosa. Moskau, Verlag Progress, 1981).
ДЕТСТВО ВОЛШЕБНИКА
Автобиографический очерк написан в 1923 г. Впервые опубликован в журнале «Корона» в 1937 г., позже вошел в сборник «По следам снов. Новые рассказы и сказки» (1945). В поэтически преображенной, сказочной форме Гессе рассказывает о детских годах в швабском городке Кальве, о «таинственных силах», питавших детскую фантазию и наложивших отпечаток на мироощущение будущего писателя.
1....я... рожденный под деятельным знаком Стрельца... - Гессе родился 2 июля 1877 г., т. е., в соответствии с принятой «астрологической» таблицей расположения светил, под знаком Рака. Однако согласно гороскопу, составленному в 1919 г. с учетом корректирующих «доминант» другом писателя Йозефом Энглертом, Гессе появился на свет под созвездием Стрельца.
(обратно)2. Корень мандрагоры - по виду напоминающий человечка корень, которому в средние века приписывались волшебные свойства. Часто упоминается в произведениях немецких романтиков.
(обратно)3. Руна - древнейший знак германской письменности. В народном сознании рунические письмена связывались с тайной.
(обратно)4. Шива, Вишну - верховные боги индуистской религии.
(обратно)5. Брахман (санскр.) - безличное духовное начало, божественный абсолют, из которого, согласно древнеиндийским религиозно-философским представлениям, возникает мир во всех его проявлениях.
(обратно)6. Атман (санскр. «дыхание», «душа») - всепроникающее субъективное начало, «я», индивидуальное воплощение брахмана.
(обратно)7. Дао (кит. «путь») - одно из важнейших понятий древнекитайской философии, вездесущий естественный закон, абсолют, выражающий органическое единство материального и духовного мира.
(обратно)8....эти вещи принадлежали дедушке. - Дед писателя по материнской линии, Герман Гундерт (1814-1893), протестантский миссионер, крупный ученый-индолог, провел около четверти века в Индии; после возвращения в Европу руководил пиетистским издательством в Базеле и Кальве. Автор грамматики языка малаялам и большого малаяламо-английского словаря. Благодаря деду Г. Гессе рано проникся интересом и уважением к философии, религии и культуре Индии.
(обратно)9. Глоссолалия - таинственно-невнятное бормотание в состоянии религиозного экстаза.
(обратно)10. Другим был мой отец. - Отец писателя, Иоганнес Гессе (1847- 1916), происходил из прибалтийских немцев, имел русское подданство, учился в Ревеле (Таллин) и Базеле; более трех лет провел в Индии в роли миссионера, но из-за болезни вынужден был вернуться в Германию, где стал сотрудником издательства в Кальве, которым руководил Герман Гундерт, и впоследствии женился на его овдовевшей дочери, также вернувшейся из Индии.
(обратно)11. Вокруг нас лежал маленький городок... - Речь идет о старинном швабском городе Кальве на реке Нагольд, расположенном на восточной окраине Шварцвальда. Его приметы узнаваемы во многих произведениях Гессе - от повести «Под колесом» до романа «Игра в бисер».
(обратно)12. Будда (санскр. «просветленный высшим знанием») - имя, данное основателю индийского религиозного учения Сиддхартхе Гаутаме (623-544 до н. э.), происходившему, по преданию, из царского рода. О жизни индийского принца и открытии им «благородных истин» буддизма Гессе рассказал в романе «Сиддхартха» (1922) (русский перевод - «Тропа мудрости», 1924).
(обратно)13. Лао-цзы (VI-V вв. до н. э.) -полулегендарный древнекитайский философ, которому приписывается книга «Дао дэ цзин» - основополагающий трактат философии даосизма. Гессе высоко ценил заключенную в нем «восточную мудрость».
(обратно)14. Гомункулус - человечек, уменьшительное от лат. homo - человек, В трагедии «Фауст» Гете обозначает этим словом искусственно созданного человека.
(обратно)15. Кобольд - в германской мифологии добрый гном, домовой.
(обратно)16. Волхвы - мудрецы, древние кудесники-звездочеты, служители дохристианского культа. Согласно библейской легенде, Три Волхва предсказали рождение Христа и принесли ему дары.
(обратно) (обратно)КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
Первые наброски «конъектуральной», т. е. предположительной, предвосхищающей будущее, автобиографии приходятся на начало 20-х гг. Опубликована в берлинском журнале «Нойе рундшау» (1925, № 8). Позже, как и «Детство волшебника», вошла в сборник «По следам снов» (1945). Одно время Гессе собирался объединить оба очерка в одну целостную автобиографию, но из-за стилевой несовместимости двух вещей отказался от своего намерения.
1. ...ознакомить с четвертой заповедью - т. е. с ветхозаветной заповедью о необходимости почитать своих родителей.
(обратно)2. ...отправили в изгнание в иногороднюю школу. - Чтобы подготовить сына к поступлению в одну из монастырских семинарий, где обучение проводилось за государственный счет, родители отправили его в «латинскую школу» города Геппингена, специально предназначенную для подготовки к отборочному экзамену. Гессе проучился в ней с февраля 1890 по май 1891 г. Это было единственное в его жизни учебное заведение, о котором он вспоминал с благодарностью.
(обратно)3. ...я стал питомцем одной теологической семинарии... - После успешной сдачи швабского «земельного экзамена» Гессе был зачислен стипендиатом в Маульброннскую семинарию, недолгое пребывание в которой закончилось для него конфликтом с учителями и бегством. О порядках в семинарии и обстоятельствах побега рассказано в повести «Под колесом» (1906) (русский перевод - «Под колесами», 1961).
(обратно)4. ...в одной гимназии... - После безуспешных попыток «образумить» строптивого подростка (лечение в «доме отдыха» у пастора К. Блумхардта, помещение в исправительное заведение для эпилептиков и слабоумных) родители предоставили ему возможность продолжить учение в гимназии города Канштатта, но уже через год Гессе упросил их забрать его домой.
(обратно)5. ...в механической мастерской и на фабрике башенных часов. - В 1894-1895 гг. Гессе был практикантом в механической мастерской владельца фабрики башенных часов Генриха Перро в Кальве. Имя своего мастера Гессе увековечил позже в образе Бастиана Перро, одного из изобретателей «игры в бисер».
(обратно)6. Затем я сделался книготорговцем... - Убедившись, что специальность слесаря ему не подходит, Гессе дал объявление в штутгартской газете «Меркур» о том, что он ищет место ученика книготорговца. Откликнулась фирма Хеккенхауэра из Тюбингена, и в течение четырех лет Гессе жил и работал в городе, который был одним из центров швабского романтизма.
(обратно)7. ...я помогал основывать некий журнал... - Совместно с издателем Альбертом Лангеном и писателем Людвигом Тома Гессе издавал в 1907-1912 гг. оппозиционный журнал «Мерц» (нем. Marz - март), названный так в честь мартовских событий буржуазно-демократической революции 1848 года.
(обратно)8. Вильгельм II Гогенцоллерн (1859-1941) - германский император и прусский король в 1888-1918 гг. Свергнут Ноябрьской революцией в 1918 г.
(обратно)9. ...Славные поездки... по Индии. - В 1911 г. Гессе совершил морское путешествие в Индию. Оно было задумано не только как бегство от опостылевшей «крестьянской» жизни в деревне Гайенгофен на берегу Боденского озера, но и как «паломничество в страну Востока», в края, где проповедовали его родители и провели молодость дед Герман Гундерт и бабушка Жюли. Десять лет спустя он признавался, что путешествие не принесло ему избавления от сугубо европейских проблем и не стало встречей с духом подлинной Индии. О своих впечатлениях он рассказал в книге «Из Индии» (1913).
(обратно)10. Статья с вышеупомянутым обвинением... - В ответ на опубликованную в «Нойе цюрхер цайтунг» 10 октября 1915 г. статью Гессе «Опять в Германии», где он с удовлетворением писал о затухании в немецком народе воинственных настроений и шовинистического угара, газета «Кельнер тагеблатт» в номере от 24 октября 1915 г. разразилась анонимным пасквилем, в котором Гессе назывался «дезертиром», «предателем» и «отщепенцем». Статью перепечатали многие немецкие издания. 2 ноября 1915 г. Гессе выступил в «Нойе цюрхер цайтунг» со статьей «В защиту себя», где показывал вздорность и необоснованность выдвинутых против него обвинений. Лишь двое друзей вступились за Гессе: редактор журнала «Мерц» Теодор Хойс, будущий политический деятель ФРГ, и сотрудник журнала, либеральный юрист Конрад Хаусман. Под давлением бесспорных фактов газета «Кельнер тагеблатт» была вынуждена напечатать опровержение.
(обратно)11. ...я уединился в отдаленном уголке Швейцарии... - Весной 1919 г. Гессе сложил с себя обязанности служащего Бернского бюро помощи военнопленным и перебрался в италоязычный кантон Тессин. В окрестностях Лугано он облюбовал горную деревушку Монтаньола и остался в ней до конца жизни.
(обратно)12. Конфуций (Кун-цзы) (ок. 551-479 до н. э.) - китайский философ. Его религиозно-этическое учение носило консервативный характер и со временем превратилось в реакционно-мистическую доктрину феодализма, просуществовавшую до начала XX в.
(обратно)13. Брахманизм - один из ранних этапов развития индуизма (1-е тыс. до н. э.), названный по имени верховного бога Брахмы; требовал аскетизма и строгой обрядовой регламентации жизни.
(обратно)14. ... «Золотой горшок» Гофмана... - В повести-сказке немецкого писателя, художника и композитора Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822) «Золотой горшок» фантазия, духовное начало противопоставляются пошлой действительности.
(обратно)15. «Генрих фон Офтердинген» - неоконченный роман немецкого писателя-романтика Новалиса (наст. имя и фам. Фридрих фон Гарденберг) (1772-1801), задуманный как полемическое возражение на роман Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» и проповедующий воспитание личности в отрыве от действительности, в царстве мечты и поэзии.
(обратно)16. «И цзин» - «Книга перемен», древнейший памятник китайской литературы (1-е тыс. до н. э.). В основе философии «И цзин» - мысль о постоянно меняющейся Вселенной, в которой взаимодействие инь и янь, неба и земли, мужского и женского начала, порождает все вещи и явления. Используется как пособие для предсказания судьбы.
(обратно) (обратно)НОВАЛИС
Статья представляет собой отклик на издание собрания сочинений Новалиса. Впервые опубликована в «Альгемайне швайцер цайтунг» (1900, № 36).
1. Шлегель Август Вильгельм (1767-1845) - немецкий историк литературы, критик, переводчик и поэт; один из ведущих теоретиков романтизма.
(обратно)2. Шлегель Фридрих (1772-1829) - немецкий критик, философ культуры, теоретик немецкого романтизма, писатель, автор романа «Люцинда» (1799); брат А. В. Шлегеля.
(обратно)3. Шлейермахер Фридрих Даниэль Эрнст (1768-1834) - немецкий протестантский теолог и философ, автор рапсодически-восторженных «Речей о религии» (1799, рус. пер. 1911). Входил в кружок йенских романтиков.
(обратно)4. Тик Людвиг (1773-1853) - немецкий писатель-романтик.
(обратно)5. Ваккенродер Вильгельм Генрих (1773 -1798) - представитель раннего романтического движения в Германии.
(обратно)6....вместе с умной Каролиной... - имеется в виду Каролина Шлегель (1763-1809), жена Августа Вильгельма Шлегеля, писательница и переводчица.
(обратно)7. Фихте Иоганн Готлиб (1762-1814) - немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма.
(обратно)8. Шеллинг Фридрих Вильгельм (1755-1854) - немецкий философ-идеалист, последователь Фихте; был близок йенским романтикам.
(обратно)9. Дильтей Вильгельм (1833-1911) - немецкий историк культуры и философ-идеалист; автор книги «Жизнь Шлейермахера» (1870).
(обратно)10. Гайм Рудольф (1721-1801) - немецкий литературовед, автор «Романтической школы» (1870) - первого капитального труда о романтическом движении в Германии.
(обратно)11. С основанием «Атенея», с возникновением берлинских салонов... - В издававшемся братьями Шлегелями журнале «Атеней» (1798-1800) излагались программные идеи йенских романтиков. Вокруг проблем и идей романтической школы вращались также интересы участников возникших в это время в Берлине либеральных литературных салонов.
(обратно)12. Эйхендорф Йозеф (1788-1857) - немецкий поэт, представитель позднего романтизма.
(обратно) (обратно)ДРУЗЬЯ, НЕ НАДО ЭТИХ ЗВУКОВ!
Первая из серии антивоенных статей Гессе, опубликована 3 ноября 1914 г. в газете «Нойе цюрхер цайтунг». Статья, озаглавленная строкой речитатива из финала Девятой симфонии Бетховена, вызвала одобрительный отклик Ромена Роллана, положивший начало дружбе между двумя писателями. «Гессе, - записал Роллан в «Дневнике военных лет» (ноябрь 1914 г.), - один из лучших представителей своей нации, он говорит многое, под чем мог бы подписаться я сам, например, когда он ополчается против писателей, разжигающих ненависть и раздор, или возмущается «друзьями человечества», которые, как только вспыхивает война, тотчас же предают свои идеалы». В своей книге «Над схваткой», изданной в начале 1915 г., Роллан писал: "...из всех немецких поэтов самые возвышенные, самые светлые слова написал в дни этой чудовищной войны и сохранил поистине гетевское величие духа Герман Гессе, почетный гость и почти приемный сын Швейцарии. Продолжая жить в Берне, за чертой нравственной заразы, он все время упорно держится в стороне от всякого, хотя бы косвенного участия в этой войне».
1. Циндао - город и морской порт в Восточном Китае. В 1897 г. был захвачен Германией и превращен в военную крепость. В ноябре 1914 г. после длительной осады был «отвоеван» у Германии японо-английскими войсками.
(обратно)2. Кернер Карл Теодор (1791-1818) - немецкий поэт-романтик, участник освободительной войны против Наполеона; убит в битве при Гадебуше. В его патриотической лирике временами звучали шовинистические мотивы.
(обратно) (обратно)КОНРАДУ ХАУСМАНУ
Хаусман Конрад (1857-1922) - немецкий политический деятель, публицист, сотрудник журнала «Мерц». Был дружен с Гессе.
1. ...залихватский наскок на Годлера... - Когда швейцарский художник Фердинанд Годлер (1853-1918) выступил в прессе французской Швейцарии с протестом против варварского обстрела немецкой артиллерией Реймского собора, немецкий журнал «Симплициссимус» высмеял его в. серии карикатур как французского пособника.
(обратно) (обратно)АЛЬФРЕДУ ШЛЕНКЕРУ
Шленкер Альфред (1876-1950) - немецкий композитор, по профессии зубной врач, друг Гессе, жил в Констанце. Гессе написал либретто для его оперы «Беглецы».
1. «Книга песен» - вышедший в 1914 г. в Мюнхене сборник «Песни немецких поэтов», составленный Гессе.
(обратно)2. ...как обошлись с Бельгией. - В августе 1914 г. немецкие войска прошли через Бельгию, нарушив ее нейтралитет.
(обратно) (обратно)ПОДРОСТОК
1. Хольм Корфиц (1872-1942) - немецкий писатель и переводчик, родился в Риге; после 1933 г. - сторонник нацизма.
(обратно) (обратно)ТОЛСТОЙ И РОССИЯ
Впервые опубликовано 19 сентября 1915 г. в венском журнале «Цайт». Гессе много читал Толстого, увлекался его идеями и не без их влияния после успеха первого романа «Петер Каменцинд» (1904) и женитьбы на уроженке Базеля Марии Бернулли поселился в деревне Гайенгофен на берегу Боденского озера, чтобы вести «естественную» жизнь и быть ближе к природе.
1. ...стали говорить о «Европе»... - Речь, по всей вероятности, идет об идее «Соединенных Штатов Европы», которая широко дискутировалась в 1915 г. Как известно, В. И. Ленин скептически отнесся к возможности создания объединенной Европы на капиталистической основе (см. статью «О лозунге Соединенных Штатов Европы», 1915).
(обратно)2. Шелер Макс (1874-1928) - немецкий философ-идеалист и публицист. В годы первой мировой войны выступил в поддержку агрессивной политики германского империализма; в брошюре «Гений войны» прославлял войну как очистительное горнило для погрязшей в «утилитаризме» и «капитализме английского типа» германской нации. Гессе не сразу разглядел милитаристскую суть брошюры и на первых порах отзывался о ней с одобрением.
(обратно)3. Гердер Иоганн Готфрид (1744-1803) - немецкий философ и писатель-просветитель, литературный критик, оказавший заметное влияние на Гете.
(обратно)4. Бхагавадгита (санскр. «песнь Бхагавата», т. е. бога Кришны) философская поэма, часть древнеиндийского эпоса «Махабхарата» (середина 1-го тыс. до н. э.). В «Бхагавадгите» подчеркивается важность обретения внутренней свободы от действительности и развивается учение о йоге как средстве достижения психического равновесия.
(обратно)5. Августин Блаженный Аврелий (354-430) - христианский теолог и мыслитель, мастер психологического анализа, автор лирической автобиографии «Исповедь», в которой воссоздано развитие Августина от младенчества до зрелости, когда он убедился в необходимости божественной благодати и окончательного утверждения в ортодоксальном христианстве. Привлекал Гессе глубоким интересом к проблемам становления личности.
(обратно) (обратно)«БЕЛЫЕ ЛИСТКИ»
Статья впервые опубликована под названием «Немецкий журнал» в «Нойе цюрхер цайтунг» 18 ноября 1915 г. Журнал «Ди вайсен блеттер» («Белые листки») издавался с 1913 по 1921 г. Вокруг него объединились прогрессивные, антимилитаристски настроенные немецкие писатели, близкие к движению экспрессионизма.
1. Штернхайм Карл (1878-1942) - немецкий писатель и публицист, близкий к экспрессионизму. В гротескно-сатирических пьесах цикла «Из героической жизни буржуа», куда относится и драма «1913» (1915), изображал симптомы распада капиталистического общества.
(обратно)2. Штадлер Эрнст (1883-1914) - немецкий поэт и эссеист, представитель раннего экспрессионизма.
(обратно)3. Верфель Франц (1890-1945) - австрийский писатель, близкий к экспрессионистам.
(обратно)4. Шикеле Рене (1883-1940) - немецкий писатель и журналист, издатель журнала «Ди вайсен блеттер». Уроженец Эльзаса, он в 1916 г. эмигрировал в Швейцарию, а в 1932 г. - во Францию.
(обратно)5. Эренштайн Альберт (1886-1950) - немецкий поэт-экспрессионист, печатал антивоенные стихотворения в журнале «Ди вайсен блеттер». Умер в эмиграции в США.
(обратно) (обратно)ПИСЬМО ОБЫВАТЕЛЮ
Написано в 1915 г., впервые опубликовано в журнале «Швайц» (1916, № 20).
АЛЬФРЕДУ ШЛЕНКЕРУ
1. Эккерман Иоганн Петер (1792-1854) - немецкий филолог, секретарь Гете, автор книги «Разговоры с Гете в последние годы его жизни с 1823 по 1832» (1836-1848), в которой и зафиксировано приведенное в письме высказывание.
(обратно)2. «Гражданский мир» - политика ограничения и подавления классовой борьбы оппортунистическими вождями международной социал-демократии, закончившаяся их переходом на сторону империалистической реакции.
(обратно)3. «Форум» - журнал левого направления, выходивший в берлинском издательстве «Кипенхойер» с 1914 по 1929 г.
(обратно) (обратно)РОМЕНУ РОЛЛАНУ
Ответ на письмо Роллана от 26 февраля 1915 г., в котором французский писатель выразил солидарность с призывом Гессе к людям искусства бороться за сохранение европейской культуры.
1. ...в Швейцарии создается интернациональный журнал... - Попытка создать такой печатный орган не увенчалась успехом.
(обратно)2. ...один немецкий швейцарец... - Пауль Хэберлин (1878-1960), философ, психолог и педагог.
(обратно)3. Рейнольд Гонзаг де (1880-1970) - швейцарский историк и писатель.
(обратно) (обратно)СТЕФАНУ ЦВЕЙГУ
1. «Кнульп» - повесть Гессе «Три истории из жизни Кнульпа» (1915), написана в 1913-1914 гг.
(обратно)2. «Росхальде» - роман Гессе, написан в 1912-1913 гг. в Берне.
(обратно) (обратно)ПРИБЕЖИЩЕ
Впервые опубликовано в берлинском журнале «Марзиас» (1917, № 3).
1. ...стих швабского пастора... - Гессе цитирует ниже строку из стихотворения «Защищенность» немецкого поэта и прозаика, представителя позднеромантической «швабской школы» Эдуарда Мерике (1804-1875).
(обратно)2. ...Иов представлялся мне братом. - Иов - библейский праведник, безропотно сносивший тяжелые жизненные испытания.
(обратно)3. «Царство божие внутри нас» - цитата из Евангелия (Лука, 17, 21).
(обратно) (обратно)ГОСУДАРСТВЕННОМУ МИНИСТРУ
Впервые опубликовано в «Нойе цюрхер цайтунг» 12 августа 1917 г.
НАСТУПИТ ЛИ МИР?
Впервые опубликовано в «Нойе цюрхер цайтунг» 30 декабря 1917 г.
1. Ллойд Джордж Дэвид (1863-1945) - английский политический деятель, в 1916-1922 гг. премьер-министр Великобритании.
(обратно)2. Вильсон Томас Вудро (1856-1924) - американский политический деятель, в 1913-1921 гг. президент США.
(обратно)3. И телеграмма Вольфа... - т. е. сообщение официозного немецкого телеграфного агентства Вольфа.
(обратно)4. ...как господин Кюльман... - На мирных переговорах в Брест-Литовске статс-секретарь ведомства иностранных дел Германии Рихард Кюльман (1873-?) вначале согласился с предложенным советской стороной принципом демократического мира без аннексий и контрибуций, но вскоре объявил об отказе Германии принять советскую формулу мира якобы по причине неприсоединения к ней стран Антанты. Мир был заключен на чрезвычайно тяжелых для Советской России условиях.
(обратно)5. Соннино Сидней (1847-1922) - премьер-министр Италии в 1906 и 1909-1910 гг., в 1914-1919 гг. министр иностранных дел. Принимал участие в подготовке Лондонского договора 1915 г., втянувшего Италию в войну на стороне Антанты.
(обратно) (обратно)ЕСЛИ ВОЙНА ПРОДЛИТСЯ ЕЩЕ ДВА ГОДА
Впервые опубликовано в «Нойе цюрхер цайтунг» 15 и 16 ноября 1917 г.
1. Синклер Эмиль - псевдоним Германа Гессе, которым впервые была подписана данная статья. В дальнейшем этим псевдонимом подписан целый ряд публицистических и художественных произведений Гессе, созданных в 1917-1920 гг., среди них «Возвращение Заратустры» (1919), «Взгляд в хаос» (1921), а также роман «Демиан. История одной юности» (1919). Авторство Гессе раскрыл в 1920 г. швейцарский критик Эдуард Корроди (1885-1955).
(обратно) (обратно)ВОЙНА И МИР
Впервые опубликовано в «Нойе цюрхер цайтунг» 6 октября 1918 г. под заглавием «Размышления».
1. Вот почему я не пацифист... - Свое отношение к пацифизму Гессе изложил в открытом письме «Пацифистам», опубликованном в венской газете «Цайт» 7 ноября 1915 г. Упрекая пацифистов в высокопарном пустословии и бездеятельности, Гессе призвал оказывать активную помощь всем, кто пострадал от войны.
(обратно)2. Готама (Гаутама) - родовое имя принца Сиддхартхи, ставшего Буддой, т. е. «просветленным» (см. коммент. к с. 27).
(обратно) (обратно)СВОЕНРАВИЕ
Статья написана в ноябре 1917 г. и впервые опубликована под псевдонимом Эмиль Синклер в журнале «Ди швайц» (1918, № 22).
ПИСЬМО МОЛОДОМУ НЕМЦУ
Впервые опубликовано в «Нойе цюрхер цайтунг» 21 сентября 1919 г.
1. Клемансо Жорж (1841-1929) - французский политический деятель, ярый шовинист и милитарист, стремившийся установить военно-политическое господство Франции в Европе. В 1906-1909 и 1917-1920 гг. премьер-министр.
(обратно) (обратно)БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ, ИЛИ ЗАКАТ ЕВРОПЫ
Статья написана в конце 1919 г. Впервые опубликована в мартовском номере журнала «Нойе рундшау» в 1920 г. Вошла в книгу «Взгляд в хаос» (1921). Эпиграфом к статье послужили строки немецкого философа Якоба Бема (1575-1624) из философско-мистического трактата «Аврора».
1. «Закат Европы» - название книги немецкого философа Освальда Шпенглера (1880-1936), два тома которой вышли соответственно в 1918 и 1922 гг. (рус. пер. I т. - 1923). В рецензии 1924 г. на сочинение Шпенглера Гессе отмежевался от выраженной в нем пессимистической концепции развития человечества.
(обратно)2. ...к фаустовским «матерям»... - «Матери» в «Фаусте» Гете - таинственные и всемогущие богини, олицетворение предвечных, животворящих основ бытия.
(обратно)3. Principium individuationis (лат.) - принцип индивидуации. Впервые этот термин встречается еще у Фомы Аквинского. В аналитической психологии К. Г. Юнга означает процесс становления личности в результате усвоения ее сознанием личного и коллективного бессознательного.
(обратно)4. Исайя - ветхозаветный пророк, автор одной из книг Библии.
(обратно) (обратно)РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ «ИДИОТЕ» ДОСТОЕВСКОГО
Впервые опубликовано в журнале «Вивос воко» (1920, № 4).
1. Ренан Жозеф Эрнест (1823-1892) - французский писатель, филолог-востоковед, автор 8-томного труда «История происхождения христианства», в котором предпринял попытку «очистить» евангельскую легенду от всего сверхъестественного. Придерживался реакционных общественно-политических взглядов.
(обратно) (обратно)ЛЮДВИГУ ФИНКУ
1. Финк Людвиг (1876-1964) - немецкий писатель-регионалист, друг юности Гессе; после первой мировой войны их пути разошлись из-за националистических пристрастий Финка.
(обратно) (обратно)САМУЭЛЮ ФИШЕРУ
1. Фишер Самуэль (1859-1934) - немецкий издатель, был с Гессе в дружеских отношениях.
(обратно)2. Демель Рихард (1863-1920) - немецкий поэт; в 1914 г., подпав под влияние шовинистической пропаганды, писал воинственные, пронизанные духом национализма стихи. Гессе имеет в виду его книгу «Между народом и человечеством» (1919).
(обратно)3. Гауптман Герхардт (1862-1946) - немецкий драматург, прозаик и поэт. В начале первой мировой войны выступал с националистических позиций.
(обратно)4. «Возвращение Заратустры» - философско-публицистическая брошюра Гессе «Возвращение Заратустры. Обращение к немецкой молодежи, написанное немцем» вышла без указания имени автора в 1919 г. в Берне.
(обратно)5. «Нойе рундшау» - литературный журнал, основанный в 1890 г. и выходивший в издательстве С. Фишера. В нем впервые были напечатаны многие произведения Гессе.
(обратно)6. ...в венском издательстве Таля... - В этом издательстве в серии «12 книг» вышла книга Гессе «Маленький сад».
(обратно)7. «Демиан» - роман Гессе, опубликован в 1919 г.
(обратно) (обратно)О ЧТЕНИИ КНИГ
Под названием «Чтение книг» статья впервые опубликована в венской газете «Дас винер тагеблатт» 16 июля 1920 г.
1. Теофраст (Феофраст) (наст. имя Тиртам) (372 - ок. 287 до н. э.) древнегреческий философ и естествоиспытатель, друг и преемник Аристотеля. Автор этического трактата «Нравственные характеры», в котором описаны характерологические типы, отклоняющиеся от норм поведения.
(обратно)2. Май Карл (1842-1912) - немецкий писатель, автор многочисленных развлекательных романов об индейцах.
(обратно)3. Гельдерлин Иоганн Христиан Фридрих (1770-1843) - немецкий поэт-романтик; его стихотворениям свойственны внутренняя раскованность и музыкальность.
(обратно)4. Ленау Николаус (наст. имя и фам. Франц Нимбш фон Штреленау) (1802-1850) - австрийский поэт-романтик, выразитель настроений революционно-демократической интеллигенции.
(обратно)5. Бергсон Анри (1859-1941) - французский философ-идеалист, представитель интуитивизма. Лауреат Нобелевской премии в области литературы (1927).
(обратно) (обратно)О РОМАНЕ А. БАРБЮСА «ЯСНОСТЬ»
Рецензия Гессе на немецкое издание романа (1920) впервые опубликована в журнале «Вивос воко» в мае 1921 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ ПИСАТЕЛЯ К ИЗДАНИЮ СВОИХ ИЗБРАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Впервые опубликовано в «Нойе цюрхер цайтунг» 20 ноября 1921 г.
1. Стерн Лоренс (1713-1768) - английский писатель-сентименталист, оказавший влияние на становление европейского психологического романа.
(обратно)2. Келлер Готфрид (1819-1890) - крупнейший швейцарский писатель-демократ, автор романа «Зеленый Генрих» (1855), сборников новелл «Люди из Зельдвиллы» (1856-1874), «Семь легенд» (1872).
(обратно)3. Гиперион, или Отшельник в Греции - герой одноименного романа Фридриха Гельдерлина (см. коммент. к с. 126), написанного в 1797 - 1799 гг.
(обратно) (обратно)ПИСЬМА НЕНАВИСТИ
Открытое письмо националистически настроенным студентам, приславшим Гессе письма с изъявлением ненависти, впервые опубликовано в журнале «Вивос воко» (1921, № 2).
1. Вагнер Рихард (1813-1883) - один из крупнейших немецких оперных композиторов XIX в. В его творчестве отразились не только прогрессивные идеи, но и националистические устремления немецкой буржуазии.
(обратно)2. Чемберлен Хустон Стюарт (1855-1927) - англо-немецкий писатель, сын британского генерала, натурализовавшийся в Германии, зять (во втором браке) Рихарда Вагнера. Один из предшественников идеологии национал-социализма.
(обратно)3. Рорбах Пауль (1869-1956) - немецкий реакционный теолог и публицист.
(обратно)4. Науманн Фридрих (1860-1919) - немецкий теолог, политик и публицист националистического толка.
(обратно)5. «Лоэнгрин» (1848), «Риенци» (1840) - оперы Рихарда Вагнера.
(обратно)6. Шарнхорст Герхард Иоганн Давид (1755-1813) - прусский генерал.
(обратно)7. Блюхер Гебхард Лебрехт (1742-1819) - прусский генерал-фельдмаршал; в 1813-1815 гг. командовал прусской армией в войне с Францией, отличился в битве при Ватерлоо.
(обратно)8. Бисмарк Отто фон Шенхаузен (1815-1898) - князь, первый рейхсканцлер (1871-1890) германской империи, созданной на прусско-милитаристской основе.
(обратно)9. Роон Альбрехт (1803-1879) - прусский генерал.
(обратно)10. ...у Канта менее внимательно прочел критику чистого, нежели практического разума... - «Критика чистого разума» (1781) и «Критика практического разума» (1788) - главные сочинения немецкого философа Иммануила Канта (1724-1804), пытавшегося примирить материализм и идеализм. В «Критике практического разума» утверждается необходимость воспитания нравственного чувства и следования законам морали.
(обратно)11. ...протест на манер группы девяноста трех. - Имеется в виду протест против обвинений в нарушении Германией нейтралитета Бельгии, подписанный осенью 1914 г. группой известных немецких ученых и деятелей культуры.
(обратно)12. ...поддержанный начиная с 1870 года государством... - Возникшая в ходе франко-прусской войны 1870-1871 гг. кайзеровская империя стала политической основой для бурного развития германского империализма.
(обратно)13. Франциск Ассизский (1182-1226) - итальянский философ и религиозный деятель, основатель ордена францисканцев; проповедовал бескорыстие и любовь к ближнему. Гессе посвятил ему две работы - «Франциск Ассизский» (1904) и «Из детства Франциска Ассизского» (1919).
(обратно) (обратно)О ЖАН ПОЛЕ
Впервые напечатано в «Нойе цюрхер цайтунг» 22 и 23 июня 1921 г. В следующем году статья вышла в качестве предисловия к книге «Жан Поль. «Вечная весна». Псевдоним Жан Поль принадлежал немецкому писателю Иоганну Паулю Рихтеру (1763-1825). Его своеобразную сентиментально-сатирическую прозу высоко ценил Гессе.
1. ...истинную сердечность. - Приведенный отрывок взят из книги Жан Поля «Рассказ о пережитом» (1826).
(обратно)2. «...время и место... мне доподлинно известны». - Цитата из упомянутой выше книги Жан Поля.
(обратно)3. Шоппе и Джаноццо - персонажи романа Жан Поля «Титан» (1800- 1803); Ляйбгебер - персонаж романа «Зибенкез» (1796-1797).
(обратно)4. ...обручился и затем повенчался с дочерью некоего сановника... - Жан Поль был женат на дочери тайного советника Каролине Майер.
(обратно)5. Геррес Йозеф Иоганн (наст. имя и фам. Петер Натмер) (1776- 1848) немецкий публицист и ученый, друг Жан Поля. Выступал за национальное единство Германии.
(обратно)6. Ямвлих (ок. 280 - ок. 330) - античный философ-идеалист, в учении которого было много элементов восточной магии.
(обратно)7. Говинда - одно из имен Кришны, который считался земным воплощением бога Вишну, одного из главных богов индуистского пантеона.
(обратно)8. Мадхава - одно из многочисленных имен бога Вишну.
(обратно)9. ...у Юнга или Зильберера. - Идеи швейцарского психолога, основателя аналитического направления в «глубинной психологии» Карла Густава Юнга (1875-1961) оказали определенное воздействие на Гессе. В частности, его привлекал интерес исследователя к мифологии и сфере бессознательного. Герберт Зильберер - психоаналитик, последователь Юнга.
(обратно) (обратно)О ДОСТОЕВСКОМ
Впервые опубликовано в «Фоссише цайтунг» 22 марта 1925 г.
ВОСПОМИНАНИЯ О «СИМПЛИЦИССИМУСЕ»
Впервые напечатано в «Нойе цюрхер цайтунг» 28 марта 1926 г.
1. «Симплициссимус» (1896-1942) - немецкий сатирический иллюстрированный еженедельник, в котором наряду с Гессе сотрудничали Г. и Т. Манны, А. Цвейг, А. Шницлер и другие видные литераторы. Закрыт гитлеровцами.
(обратно)2. Хайне Томас Теодор (1867-1934) - немецкий художник-карикатурист, сотрудник «Симплициссимуса».
(обратно)3. Вильке Рудольф (1873-1908) - немецкий художник-карикатурист, сотрудник «Симплициссимуса». Гессе ошибочно называет его Бруно Вильке.
(обратно)4. Пауль Бруно (1874-1968) - немецкий архитектор и художник-иллюстратор, сотрудничал в журнале «Симплициссимус».
(обратно)5. Ланген Альберт (1869-1909) - издатель и книготорговец. В 1896 г. основал сатирический еженедельник «Симплициссимус», а в 1907 г. - журнал «Мерц», в которых активно сотрудничал Гессе.
(обратно)6. Тома Людвиг (1867-1921) - немецкий писатель, редактор «Симплициссимуса», вместе с Гессе издавал журнал «Мерц». В годы первой мировой войны стал исповедовать правые, шовинистические взгляды, что повлекло за собой разрыв с Гессе.
(обратно) (обратно)БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Впервые напечатано в 1929 г. в Лейпцигском издательстве «Реклам»; переиздания в 1930 и 1931 гг. В 1934 г., после захвата власти фашистами, издательство намеревалось еще раз переиздать книгу «с соответствующими духу времени изменениями», но Гессе категорически воспротивился менять что-либо в своей работе, и переиздание не состоялось. В 1945 г. работа Гессе была опубликована на немецком языке в нью-йоркском издательстве «Унгар». В послесловии к послевоенному изданию в Штутгарте (1948) автор писал: «Мне не удалось переработать эту статью, хотя определенная необходимость в этом есть... Мне бы хотелось, чтобы она помогла начинающим читателям разобраться в мире книг».
1. Брентано Клеменс (1778-1842) - немецкий поэт и писатель, представитель второго поколения романтиков, собиратель и пропагандист немецкого фольклора.
(обратно)2. Гейнзе Иоганн Якоб Вильгельм (1746-1803) - немецкий писатель и переводчик эпохи «Бури и натиска».
(обратно)3. Дросте-Хюльсхофф Аннетта (1797-1848) - немецкая писательница.
(обратно)4. ...немецкая Библия Мартина Лютера, немецкий Шекспир Шлегеля и Тика... - Библия, переведенная в 1523-1534 гг. на немецкий язык выдающимся деятелем Реформации Мартином Лютером (1483- 1546), сыграла значительную роль в становлении немецкого национального языка. Немецкие романтики А. В. Шлегель и Л. Тик переводили и пропагандировали Шекспира в Германии; с 1825 по 1833 г. ими издано девять томов шекспировских драм.
(обратно)5. Бубер Мартин (1878-1965) - еврейский религиозный философ и писатель, совместно с Ф. Розенцвейгом предпринял новый перевод Ветхого завета.
(обратно)6. 153 «Упанишады» - древнеиндийские религиозно-философские тексты, примыкающие к ведам и объясняющие их.
(обратно)7. «Гильгамеш» - дошедший в отрывках вавилонский эпос, содержащий сказания о жизни и подвигах царя Гильгамеша из Урука.
(обратно)8. Чжуан- цзы (ок. 369-286 до н. э.) -древнекитайский философ, один из основоположников даосизма.
(обратно)9. «Палатинская антология» - знаменитое собрание эллинистических эпиграмм, начатое в I в. до н. э. и доведенное до позднейших времен; включает в себя более 4000 поэтических произведений, образы и мотивы которых перекочевали в новоевропейскую поэзию.
(обратно)10. Шваб Густав (1792-1850) - немецкий поэт, переводчик и собиратель фольклора; в «Лучших сказаниях классической древности» (1838-1840) в доступной и увлекательной форме изложил мифы античного мира.
(обратно)11. Шеффер Альбрехт (1885-1950) - немецкий писатель и переводчик, в 1929 г. издал книгу пересказов греческих мифов.
(обратно)12. «Немецкие поэты латинского Средневековья» - книга в переводе Пауля фон Винтерфельда, вышла в 1911 г. в Мюнхене.
(обратно)13. Эрнст Пауль (1866-1933) - немецкий писатель и переводчик, в 1902 г. издал в своем переводе сборник староитальянских новелл.
(обратно)14. Виланд Кристоф Мартин (1733-1813) - немецкий писатель эпохи Просвещения.
(обратно)15. Челлини Бенвенуто (1500-1571) - итальянский скульптор, ювелир и писатель эпохи позднего Возрождения; его «Автобиографию» перевел на немецкий язык Гете.
(обратно)16. Гольдони Карло (1707-1793) - итальянский драматург, создатель комедии характеров («Слуга двух господ», 1745, «Трактирщица», 1753).
(обратно)17. Гоцци Карло (1720-1806) - итальянский драматург, автор сатирических сказочных драм в стиле комедии дель арте, т. е. комедии масок («Турандот», 1762, «Король-олень», 1762).
(обратно)18. Леопарди Джакомо (1798-1837) - итальянский поэт-романтик.
(обратно)19. Кардуччи Джозуэ (1835-1907) - итальянский поэт и историк литературы, общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии (1906).
(обратно)20. «Песнь о Нибелунгах» - немецкий героический эпос, возникший в XIII в. на материале времен великого переселения народов.
(обратно)21. Кудрун - средневековый германский героический эпос.
(обратно)22. Фогельвейде Вальтер фон дер (1170-1230) - немецкий поэт, крупнейший представитель миннезанга - рыцарской любовной лирики.
(обратно)23. «Тристан» Готфрида Страсбургского - куртуазный роман «Тристан и Изольда» (1207-1210) средневекового поэта Готфрида из Страсбурга (умер ок. 1210).
(обратно)24. Эшенбах Вольфрам фон (ок. 1170-1220) - немецкий поэт, автор рыцарского эпоса «Парцифаль» (1200-1210).
(обратно)25. Рыцари-миннезингеры - рыцарские поэты-певцы в германских странах средневековой Европы (XII-XIII вв.); воспевали любовь, служение даме сердца, верность сюзерену, крестовые походы.
(обратно)26. Лесаж Ален Рене (1668-1747) - французский писатель раннего Просвещения. В четырехтомном романе «История Жиль Блаза из Сантильяны» (1715-1735) выступил как предшественник позднейших мастеров социального романа.
(обратно)27. Готье Теофиль (1811-1872) - французский писатель и критик.
(обратно)28. Мюрже Анри (1822-1861) - французский писатель, автор популярного в XIX в. романа «Сцены из жизни богемы» (1851).
(обратно)29. Честерфилд Филипп Дормер Стенхоп (1694-1773) - английский писатель и государственный деятель; его «Письма к сыну» (изд. 1774) содержат наставления и рекомендации в духе просветительских идей.
(обратно)30. Смоллетт Тобайас Джордж: (1721-1771) - английский писатель, автор сатирических романов «Приключения Родрика Рэндома» (1748) и «Приключения Перигрина Пикля» (1751).
(обратно)31. Оссиан (Ойсин) - легендарный кельтский воин и бард, живший, по преданию, в III в. н. э. и воспевавший подвиги своего отца Фингала. Приписываемые ему сочинения оказались талантливой подделкой шотландского поэта Джеймса Макферсона (1736-1796).
(обратно)32. Де Куинси Томас (1785-1859) - английский писатель-романтик, известен автобиографической книгой «Исповедь англичанина-опиомана» (1822).
(обратно)33. Маколей Томас Бабингтон (1800-1859) - английский историк литературы, критик и политический деятель.
(обратно)34. Карлейль Томас (1795-1881) - английский публицист, философ и историк литературы, автор философско-публицистического романа «Sartor resartus. Жизнь и мнения профессора Тейфельсдрека» (1836) и книги «Герои, культ героев и героическое в истории» (1841).
(обратно)35. Мередит Джордж (1828-1909) - английский писатель.
(обратно)36. Суинберн Алджернон Чарлз (1837-1909) - английский поэт и драматург.
(обратно)37. «Архиплут Пабло Сеговия» (опубл. в 1626 г., в русском переводе «История жизни пройдохи по имени дон Паблос», 1950) - плутовской роман испанского писателя-сатирика Франсиско Кеведо-и-Вильегаса (1580-1645).
(обратно)38. Мультатули (наст. имя Эдуард Дауэс Деккер) (1820-1887) - нидерландский писатель-реалист, автор антиколониального романа «Макс Хавелаар, или Кофейные аукционы Нидерландского торгового общества» (1860), несколько лет провел в качестве колониального чиновника в Индии.
(обратно)39. «Старшая Эдда» - литературный памятник германских народов, сборник древнеисландских песен, сохранившихся в рукописи XIII в.
(обратно)40. Бонус Артур (1864-1941) - немецкий писатель и педагог, пропагандировал «религиозную культуру» древних германцев. Его «Книгу об исландцах» издал в 1918 г. Гессе.
(обратно)41. Якобсен Енс Петер (1847-1885) - датский писатель.
(обратно)42. Силезиус Ангелус (наст. имя Иоганнес Шефлер) (1624-1677) - немецкий поэт, автор сборника религиозных речений и песен «Херувимский странник».
(обратно)43. Сакс Ганс (1494-1576) - немецкий поэт-мейстерзингер.
(обратно)44. Гриммельсгаузен Ганс Якоб Кристоффель (ок. 1621-1676) - крупнейший немецкий писатель XVII в. В романе «Приключения Симплициссимуса» (в 6 книгах, 1669) дал реалистический образ Германии времен Тридцатилетней войны.
(обратно)45. Рейтер Христиан (1665-1712) - немецкий писатель-сатирик, автор плутовского романа «Шельмуффский».
(обратно)46. Клопшток Фридрих Готлиб (1724-1803) - немецкий поэт-просветитель, создатель религиозной эпической поэмы «Мессиада» (1751-1773).
(обратно)47. Штейн Шарлотта фон (1742-1827) - подруга Гете в 1775- 1778 гг.
(обратно)48. Юнг-Штиллинг (наст. фамилия Штиллинг) Иоганн Генрих (1740-1817) немецкий писатель-мистик, в молодости был дружен с Гете. Первая и самая известная часть его многотомной автобиографии - «Юность Генриха Штиллинга. Правдивая история» (1777) - была издана Гете.
(обратно)49. Клаудиус Маттиас (1740-1815) - популярный немецкий поэт, близкий движению «Бури и натиска». «Вандсбекерский вестник» - один из его псевдонимов и название газеты, которую он издавал в 1771-1775 гг.
(обратно)50. Петерсен Юлиус (1878-1941) - немецкий литератор. Его книга «Разговоры с Шиллером» вышла в 1911 г.
(обратно)51. Музеус Иоганн Карл Август (1735-1787) - немецкий писатель эпохи Просвещения.
(обратно)52. Гиппель Теодор Готлиб (1741-1796) - немецкий писатель периода «Бури и натиска».
(обратно)53. Мориц Карл Филипп (1756-1796) - немецкий писатель, выразитель настроений плебейски-демократических кругов.
(обратно)54. Зейме Иоганн Готфрид (1763-1810) - немецкий писатель-демократ, противник феодально-деспотического образа правления.
(обратно)55. Гебель Иоганн Петер (1760-1826) - немецкий писатель и поэт, известен сборником веселых историй «Шкатулка с драгоценностями рейнского друга дома» (1811).
(обратно)56. Арним Беттина (1785-1859) - немецкая писательница, сестра К. Брентано и жена Л. Й. Арнима. «Весенний венок» - изданная Беттиной в 1844 г. юношеская переписка с К. Брентано, включающая в себя много стихотворений.
(обратно)57. Арним Людвиг Йоахим (1781-1831) - немецкий писатель-романтик, совместно со своим другом К. Брентано издал в 1806-1808 гг. сборник «Волшебный рог мальчика», куда вошли обработанные в духе романтизма народные стихи, песни и баллады.
(обратно)58. Фуке Фридрих де ла Мотт (1777-1843) - немецкий писатель, отпрыск старинного французского рода, эмигрировавшего в Германию. По мотивам его романтической повести «Ундина» (1811) создана одноименная опера-сказка Э. Т. А. Гофмана. Русскому читателю повесть стала известна в переложении В. А. Жуковского (изд. 1837).
(обратно)59. Шамиссо Адельберт фон (1781-1838) - немецкий писатель и ученый-естествоиспытатель, по происхождению француз, потомок старинной аристократической семьи, бежавшей из Франции во время революции 1789-1793 гг. Автор романа «Удивительная история Петера Шлемиля» (1814), в котором фантастический сюжет сочетается с реалистическими зарисовками быта Германии начала XIX в.
(обратно)60. Гауф Вильгельм (1802-1827) - немецкий писатель-сказочник, представитель позднего романтизма.
(обратно)61. Уланд Людвиг (1787-1862) - немецкий поэт-романтик, исследователь литературы и политический деятель, один из лидеров либерально-демократической оппозиции феодальной реакции.
(обратно)62. Геббель Кристиан Фридрих (1813-1863) - немецкий драматург и теоретик драмы.
(обратно)63. Готхельф Иеремия (наст. имя и фам. Альберт Бициус) (1797- 1854) швейцарский писатель, автор романов о жизни крестьян «Ули-батрак» (1841) и «Ули-арендатор» (1849).
(обратно)64. Мейер Конрад Фердинанд (1825-1898) - швейцарский писатель, один из крупнейших мастеров исторической новеллы.
(обратно)65. Шеффель Йозеф Виктор (1828-1886) - немецкий писатель, автор исторического романа «Эккехард» (1855).
(обратно)66. Раабе Вильгельм (1831-1910) - немецкий писатель-реалист; оказал влияние на раннего Гессе.
(обратно)67. «Живописец Нольтен» (1832) - роман Э. Мерике.
(обратно)68. Фукидид (ок. 460-400 до н. э.) - древнегреческий прозаик и историк. Его «История» считалась образцом точности и стилистического совершенства.
(обратно)69. «Панчатантра» (санскр. «сочинения в пяти книгах») - собрание историй и притч в назидание высокопоставленным особам, памятник индийской литературы III в.
(обратно)70. «Трубач из Зеккингена» (1854) - сентиментально-возвышенная эпическая поэма Й. В. Шеффеля.
(обратно)71. Тидге Кристоф Август (1752-1841) - немецкий писатель, популярный в 1-й половине XIX в.
(обратно)72. Редвиц Оскар (1823-1891) - забытый немецкий писатель.
(обратно)73. Гранвиль (наст. имя Жан-Иньяс-Изидор Жерар) (1803-1847) - французский художник-карикатурист, иллюстратор.
(обратно)74. Ходовецкий Даниэль Николаус (1726-1801) - немецкий художник и график, создал иллюстрации к произведениям Лессинга, Гете и др.
(обратно)75. Гаманн Иоганн Георг (1730-1788) - немецкий писатель и философ-иррационалист, оказавший влияние на движение «Бури и натиска» и немецкий романтизм.
(обратно)76. Вейсе Христиан Феликс (1726-1804) - немецкий писатель эпохи Просвещения.
(обратно)77. Рабенер Готлиб Вильгельм (1714-1771) - немецкий сатирик-просветитель.
(обратно)78. Рамлер Карл Вильгельм (1725-1798) - немецкий поэт, ревностный поборник прусского патриотизма.
(обратно)79. Геллерт Кристиан Фюрхтеготт (1715-1769) - немецкий поэт эпохи Просвещения.
(обратно)80. «Путешествие Софии из Мемеля в Саксонию» - роман в письмах Иоганна Тимотеуса Гермеса (1738-1821).
(обратно)81. Бодмер Иоганн Якоб (1698-1789) - швейцарский писатель и критик эпохи Просвещения, выступал против сухого рационализма, в защиту творческой фантазии.
(обратно)82. Геснер Соломон (1730-1788) - швейцарский живописец и поэт-идиллик, был широко известен в России в пору господства сентиментализма.
(обратно)83. Форстер Георг (1754-1794) - немецкий просветитель, политический деятель, публицист и естествоиспытатель; утверждал в Германии идеи Французской революции. Его путевые заметки «Путешествие вокруг света» (1777) явились результатом участия в кругосветной экспедиции Джеймса Кука, в которой юный Форстер сопровождал своего отца, известного ученого.
(обратно)84. Эккартсгаузен Франц Карл (1752-1803) - немецкий юрист и писатель-мистик. Оказал влияние на Новалиса, Шеллинга и Гельдерлина. Его книга «Бенгальский тигр» вышла в 1789 г.
(обратно)85. «Зигварт. Монастырская история» (1776) - сентиментальный роман Иоганна Мартина Миллера (1750-1814), написанный в подражание «Страданиям юного Вертера» Гете.
(обратно)86. Ольденберг (Ольденбург) Герман (1854-1920) - немецкий индолог.
(обратно)87. Дойссен Пауль (1845-1919) - немецкий историк, философ и переводчик; занимался философией Индии, переводил памятники индийской литературы.
(обратно)88. Шредер Леопольд - немецкий индолог и историк культуры; его книга «Литература и культура Индии в историческом развитии» вышла в 1920 г.
(обратно)89. Нойманн Карл - немецкий индолог и переводчик; в 1928 г. издал в своем переводе «Проповеди Будды».
(обратно)90. Грилль Юлиус - немецкий китаист; в 1910 г. в его переводе вышла «Дао дэ цзин» Лао-цзы.
(обратно)91. Вильгельм Рихард - немецкий китаист и переводчик.
(обратно)92. Мэн-цзы (ок. 372-289 до н. э.) -древнекитайский мыслитель, последователь Конфуция.
(обратно)93. Люй Бувэй - имеется в виду книга китайского писателя Линь Ютана «Весна и осень Люй Бувэя», вышедшая в 1929 г. в переводе Рихарда Вильгельма. Гессе писал о ней: «Это была самая любимая и самая важная для меня книга 1929 года. Я читал и перечитывал ее в течение нескольких месяцев».
(обратно)94. Рудельсбергер Ганс - немецкий китаист, в 1914 г. издал в своем переводе сборник «Китайские новеллы».
(обратно)95. Кюнель Пауль - немецкий китаист, в 1914 г. издал в своем переводе книгу «Китайские рассказы».
(обратно)96. Грайнер Лео - немецкий китаист, в 1913 г. издал в своем переводе антологию «Китайские вечера. Новеллы и рассказы».
(обратно)97. Банделло Маттео (ок. 1485-1561) - итальянский писатель, создатель многочисленных новелл, принесших ему мировую известность.
(обратно)98. Мазуччо Салернитанец (наст. имя Томмазо Гуардати) (ок. 1420- 1475) - итальянский писатель, прославился сборником новелл «Новеллино» (1476) в духе «Декамерона» Боккаччо.
(обратно)99. Базиле Джамбаттиста (1575-1632) - итальянский писатель, составитель первого в Европе сборника народных сказок.
(обратно)100. Поджо (Браччоллини Джан Франческо Поджо) (1380-1459) - итальянский писатель-гуманист, неутомимый собиратель латинских рукописей. Выведен в новелле К.-Ф. Мейера «Плавт в женском монастыре».
(обратно)101. Герен Жорж Морис (1810-1839) - французский поэт-романтик, в поэме в прозе «Кентавр» (опубл. 1861) выразил ощущение бессилия перед лицом растущего влияния буржуазных общественных отношений.
(обратно)102. Таулер Иоганн (ок. 1300-1361) - немецкий писатель-мистик и религиозный деятель.
(обратно)103. Сузо (Зейзе) Генрих (1295-1366) - немецкий писатель-мистик.
(обратно)104. Экхарт Иоганн (Мейстер Экхарт) (ок. 1260-1327) - монах-доминиканец, виднейший представитель немецкой средневековой мистики.
(обратно) (обратно)РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГОТФРИДЕ КЕЛЛЕРЕ
Впервые опубликовано 15 июля 1931 г. в цюрихском журнале «Лезециркель» (№ 10), с небольшими изменениями перепечатано 10 июня 1951 г. в газете «Националь-цайтунг» (Базель).
1. Гейбель Эммануэль (1815-1884) - немецкий поэт и переводчик.
(обратно)2. Гейзе Пауль (1830-1914) - немецкий писатель, один из лидеров мюнхенского кружка «Искусство для искусства». Лауреат Нобелевской премии (1910).
(обратно)3. Шпильгаген Фридрих (1829-1911) - немецкий писатель-реалист; его насыщенные политической проблематикой романы, например «Один в поле не воин» (1868), были популярны в России среди народников.
(обратно)4. Хаклендер Фридрих Вильгельм (1816-1877) - немецкий писатель, автор развлекательных книг.
(обратно)5. Бидермайеровская религия - от «Бидермайер» - направление в искусстве 1-й половины XIX в., характеризующееся особым интересом к повседневной жизни бюргерства.
(обратно) (обратно)ЧИТАЯ «ЗЕЛЕНОГО ГЕНРИХА».
Впервые опубликовано в журнале «Мерц» (1907, № 5) под заглавием «Мысли, возникшие во время чтения «Зеленого Генриха». С изменениями перепечатано в журнале «Швайцерланд», г. Кур (1917/18, 51-53).
1. «Вильгельм Мейстер» - под этим названием объединяются романы воспитания И. В. Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795-1796) и «Годы странствий Вильгельма Мейстера» (1821- 1829).
(обратно)2. Бездельник Эйхендорфа - имеется в виду герой повести И. Эйхендорфа «Из жизни одного бездельника» (1826, русский перевод 1935).
(обратно)3. Валленштейн Альбрехт (1583-1634) - полководец Тридцатилетней войны 1618-1648 гг., герой трагедии Ф. Шиллера «Валленштейн» (1800).
(обратно)4. «Избирательное сродство» - роман Гете (1809).
(обратно) (обратно)МАГИЯ КНИГИ
Статья представляет собой часть предисловия к каталогу «Книга 1930 года»; впервые опубликована 14 ноября 1930 г. в газете «Берлинер тагеблатт».
1. Гутенберг Иоганн (ок. 1399-1468) - немецкий изобретатель печатного станка.
(обратно)2. Марлитт (наст. имя Евгения Йон) (1825-1887) - немецкая писательница, автор многочисленных развлекательных романов.
(обратно)3. Фома Аквинский (1225 или 1226-1274) - теолог и философ, один из пяти «отцов церкви»; основатель томизма, учения в католической философии, соединившего христианские догмы с методом Аристотеля.
(обратно)4. Бонавентура (наст. имя Джованни Фиданца) (1221-1274) - теолог и философ-схоласт, причислен к лику святых.
(обратно)5. Хасидизм (от древнееврейского «хасид» - благочестивый) религиозно-мистическое течение в иудаизме, возникшее в 1-й половине XVIII в. среди еврейского населения Волыни, Подолии и Галиции как оппозиция официальному иудаизму. На почве ненависти к революционному движению хасидизм, отличавшийся религиозным фанатизмом и верой в чудеса, сблизился с раввинатом и был признан синагогой.
(обратно)6. Монах из Гейстербаха - средневековый писатель Цезарий фон Гейстербах (ок. 1180-1240), выведен в качестве главного действующего лица в книге Вольфганга Мюллера фон Кенигсвинтера (1816- 1873) «Монах из Гейстербаха».
(обратно) (обратно)ЗАМЕТКИ О ЛИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ
Под названием «О хороших и плохих критиках. Заметки о литературе и критике» эссе впервые было опубликовано в «Нойе рундшау» (1930, № 12).
1. Гумбольдт Вильгельм (1767-1835) - немецкий филолог, философ и государственный деятель, один из виднейших представителей классического гуманизма, друг Гете и Шиллера, брат естествоиспытателя Александра Гумбольдта.
(обратно)2. Назову статью Зольгера... - Статья немецкого литератора Карла Вильгельма Фердинанда Зольгера о романе Гете «Избирательное сродство», написанная в 1809 г., увидела свет только в 1826 г.
(обратно)3. ...рецензию Гримма о «Бертхольде» Арнима. - Рецензия Вильгельма Гримма (1786-1859) на первую часть исторического романа Арнима «Хранители короны» (1817), озаглавленную «Первая и вторая жизнь Бертхольда», была опубликована в «Гейдельбергском литературном ежегоднике» (т. I, 1818, № 29).
(обратно)4. ...Гете «уходил» к своему Гецу либо к Ифигении... - «Гец фон Берлихинген» (1773), «Ифигения в Тавриде» (1779-1786) - драмы Гете, первая на исторический, вторая на мифологический сюжет.
(обратно)5. Генрих фон Офтердинген - главный герой романа Новалиса.
(обратно)6. Сублимация - одно из центральных понятий психоанализа, означает переключение энергии физиологических влечений на художественное творчество и социальную деятельность.
(обратно)7. ...сам подвергся психоаналитическому обследованию... - Известно, что Гессе в 1916 г. проходил курс психотерапии у ученика К. Г. Юнга, врача-психоаналитика Йозефа Бернхарда Ланга (1883-1945).
(обратно)8. Вытеснение - центральное понятие фрейдизма, способ защиты психики, состоящий из удаления (вытеснения) из сферы сознания неприемлемых для личности влечений и импульсов.
(обратно) (обратно)ТОМАСУ МАННУ
1. Гессе (урожденная Ауслендер) Нинон (1895-1968) - третья жена Гессе, историк искусства. В 1966 г. издала книгу «Герман Гессе в письмах и документах. 1877-1895».
(обратно)2. ...всю Вашу троицу... - Томас Манн с женой и дочерью Элизабет покинул Шантареллу за неделю до этого письма.
(обратно)3. Вопрос об Академии... - Живя в Швейцарии, Гессе тяготился своим членством в Прусской Академии искусств. Воспользовавшись тем, что немецкий писатель В. Шефер упрекнул некоторых членов в недостаточной активности, Гессе объявил 10 ноября о выходе из Академии, объяснив свой шаг недоверием к буржуазному государству. Вслед за ним, но по совершенно иным причинам, из Академии вышли В. Шефер и его националистически настроенные коллеги - немец Э. Штраус и австриец Э. Г. Кольбенхайер. Гессе, таким образом, невольно оказался в одной компании со своими идейными противниками и поэтому был вынужден объясняться.
(обратно) (обратно)ГОСПОДИНУ Р. Б
1. «Каждый одинок» - лейтмотивная строка из стихотворения Гессе «В тумане» (1906).
(обратно)2. Гарри - имеется в виду Гарри Галлер, главный герой романа Гессе «Степной волк» (1927).
(обратно) (обратно)ТОМАСУ МАННУ
1. Несколько добрых духов «революции»... - Речь идет о Карле Либкнехте (1871-1919) и Розе Люксембург (1871-1919), злодейски убитых контрреволюционерами.
(обратно)2. ...позиция Уланда и его друзей во франкфуртской церкви святого Павла. - В этой церкви во время революции 1848 г. с мая по сентябрь заседал созванный левыми либералами парламент, прозванный «Франкфуртской говорильней». Среди депутатов был немецкий поэт и общественный деятель Людвиг Уланд (1787-1862).
(обратно)3. Меди - так звали дочь Томаса Манна Элизабет.
(обратно) (обратно)ГОСПОДИНУ Ф. АБЕЛЮ
1. ...готовит диссертацию на тему «Герман Гессе и швабский пиетизм»... - Скорее всего, речь идет о работе Г. Баатен «Пиетистская традиция семьи Гундерт и Гессе», опубликованной в 1934 г.
(обратно)2. Тис Франк (1890-1977) - немецкий писатель; свое отношение к нацистам, не лишенное заигрывания с ними, называл «внутренней эмиграцией» и ставил выше реальной эмиграции большинства жертв и противников фашизма.
(обратно) (обратно)ГЕНРИХУ ВИГАНДУ
1. Виганд Генрих (1895-1934) - немецкий журналист, театральный и литературный критик; дружил и переписывался с Гессе.
(обратно)2. Конрад Джозеф (наст. имя и фам. Юзеф Теодор Конрад Коженевский) (1857-1924) - английский писатель. В газете «Лейпцигер фольксцайтунг» 21 декабря 1931 г. была напечатана рецензия Виганда на роман Конрада «Спасение».
(обратно)3. О'Флаэрти Лайем (р. 1897) - ирландский писатель. Речь идет о его романе «Проклятое золото» (1929, нем. изд. 1931).
(обратно)4. Шольц Вильгельм фон (1874-1969) - немецкий писатель; в 1926- 1928 гг. президент секции литературы Прусской Академии искусств.
(обратно)5. «Несправедливости любви» - роман Шольца, изданный в 1931 г.
(обратно)6. Шек Отмар (1886-1957) - швейцарский композитор, положил на музыку 23 стихотворения Гессе. Писателя связывали с ним дружеские отношения.
(обратно)7. Лейтхольд Фриц - богатый цюрихский коммерсант. Гессе познакомился и подружился с ним и его женой Алисой во время своего путешествия в Индию в 1911 г.
(обратно)8. Бодмер Ганс (1891-1956) - богатый цюрихский врач и музыкант, друг и покровитель Гессе. Он построил для писателя дом в Монтаньоле и предоставил ему право проживать там до конца жизни.
(обратно)9. Геро Марсель (1899-1975) - немецкий писатель; его жена Марейли занималась изготовлением ковров.
(обратно) (обратно)БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕТЕ
Статья написана по просьбе Ромена Роллана для журнала «Эроп» в связи со столетием со дня смерти Гете. На немецком языке впервые опубликована в «Нойе швайцер рундшау» (1932, № 43).
1. ...унаследованном от госпожи советницы... - Имеется в виду мать Гете - Катарина Элизабет Гете, урожденная Текстор. Гете писал, что он унаследовал от нее «жизнерадостную натуру и страсть к сочинительству».
(обратно)2. ...примирения царедворца с богоборцем, Антонио с Тассо... - Имеется в виду сцена из драмы Гете «Торкватто Тассо» (1790), в которой практичный и многоопытный царедворец Антонио призывает влюбленного в сестру герцога поэта образумиться и смирить свои чувства.
(обратно)3. ...назвал мою позицию «гетевской»... - см. коммент. к с. 54.
(обратно)4. «Новелла» - позднее произведение Гете (опубл. 1829), образец жанра новеллы, которая «не что иное, как случившееся неслыханное происшествие». Фантастическое в ней служит осмыслению реальных противоречий жизни.
(обратно) (обратно)ГЕНРИХУ ВИГАНДУ
1. Хойзер Курт (1903-1975) - немецкий писатель, автор романа «Путешествие внутрь» (1931).
(обратно)2. ...приготовить тюленьи шкуры... - Тюленьи шкуры в Альпах прикрепляют к полозьям лыж для облегчения подъема.
(обратно) (обратно)ГЕНРИХУ ВИГАНДУ
1. Маг Юп - т. е. Йозеф Энглерт, друг Гессе, выведенный им в повести «Последнее лето Клингзора» (1920) под именем «мага Юпа». Упоминается также в повести «Паломничество в страну Востока» (1932).
(обратно)2. Муайе Луи (1880-1962) - швейцарский художник, друг Гессе; выведен в его произведениях под именем Луи Жестокий.
(обратно)3. ...от новых бесцеремонных постановлений... - Речь идет о финансовой политике германского государства, ущемлявшей интересы зарубежных капиталодержателей.
(обратно)4. Балль Эмми (Балль-Хеннингс Эмми) (1885-1948) - немецкая писательница и актриса, жена Гуго Балля (см. коммент. к с. 283). С семейством Балль Гессе связывала тесная дружба. В 1956 г. издана переписка Э. Балль с Г. Гессе.
(обратно) (обратно)ХЕЛЕНЕ ВЕЛЬТИ
Вельти Хелена (1872-1942) - жена юриста Фридриха Вельти (1857-1940), друга Гессе. Писатель часто гостил в деревенском доме Вельти.
1. Книжечка стихотворений Гете... - К столетию со дня смерти Гете Гессе подготовил и издал подборку его стихотворений.
(обратно) (обратно)ГЕНРИХУ ВИГАНДУ
1. ...результаты выборов... - 13 марта 1932 г. в Германии состоялся первый раунд выборов рейхспрезидента, не принесший требуемого абсолютного большинства ни одному из кандидатов.
(обратно)2. Эйснер Курт (1867-1919) - немецкий политик и писатель, социал-демократ; убит монархистом.
(обратно)3. Марло Кристофер (1564-1593) - английский драматург, автор драмы «Трагическая история доктора Фауста» (изд. 1604). Имеется в виду немецкое издание его произведений.
(обратно) (обратно)ЛЮДВИГУ ФИНКУ
1. Швейцер Альберт (1875-1965) - немецко-французский мыслитель, теолог, врач, музыковед и органист; лауреат Нобелевской премии мира (1952).
(обратно)2. ...содержать жену в доме для умалишенных... - Первая жена Гессе, Мария Бернулли (1868-1963), по профессии фотограф, страдала тяжелым душевным заболеванием.
(обратно) (обратно)ФРИЦУ ГУНДЕРТУ
1. Гундерт Фридрих (1897-1946) - двоюродный брат Гессе, издатель.
(обратно)2. Брентано Бернард фон (1901-1964) - немецкий писатель и публицист, автор книг «Капитализм и художественная литература» (1930) и «Начало варварства в Германии» (1932), в которых были предсказаны преступления фашизма. Рецензию на вторую из этих книг Гессе опубликовал в том же году в журнале «Бюхервурм».
(обратно) (обратно)ТОМАСУ МАННУ
1. ...Вашу книгу о Гете и Толстом... - Имеется в виду книга Т. Манна «Гете и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма» (1922).
(обратно)2. ...вспоминал позднюю работу Канта... - Противопоставление «умной головы» и «баловня природы» дается в «Критике способности суждения» (1790).
(обратно)3. Гамсун Кнут (1859-1952) - норвежский писатель; в романе «Соки земли» (1917) воспел труд земледельца. Лауреат Нобелевской премии (1920). Был осужден за сотрудничество с гитлеровцами в годы оккупации Норвегии.
(обратно) (обратно)МОЛОДОМУ ЧЕЛОВЕКУ ИЗ ГЕРМАНИИ
1. Клаузевиц Карл фон (1780-1831) - прусский генерал, военный теоретик и историк, автор книги «О войне». В 1812 г. состоял на русской службе.
(обратно)2. Жид Андре (1869-1951) - французский писатель, переписывался с Гессе.
(обратно)3. ...верный рекрут... Фихте... - Патриотизму Фихте была свойственна националистическая окраска.
(обратно)4. Мольтке Гельмут Карл (1800-1891) - граф, прусский фельдмаршал, начальник генерального штаба во время франко-прусской войны.
(обратно) (обратно)Д-РУ М.-А. ЙОРДАНУ
1. Д-р Макс Йордан опубликовал в «Бенедиктинском вестнике» (1931, № 9/10) открытое письмо Герману Гессе, озаглавленное «Миссия поэта». В нем он призвал писателя стать духовным вождем молодежи и сослался на пример Гете. Ответ Гессе был напечатан в том же журнале (1932, № 1/2).
(обратно)2. «Мы задыхаемся в непригодной для дыхания атмосфере...» и до конца абзаца - цитата из статьи Гессе «Признания поэта», опубликованной в 1929 г.
(обратно) (обратно)ГЕНРИХУ ВИГАНДУ
1. Вы говорите о Лео... - Речь идет об образах и деталях содержания повести «Паломничество в страну Востока». Морбио - реально существующее ущелье в Альпах, в повести Гессе - место, куда попадают паломники.
(обратно)2. Швиммер Макс (1895-1960) - немецкий (ГДР) художник и график, автор иллюстраций к произведениям Гете, Гейне, Бальзака и др.
(обратно)3. «Путь внутрь» - под таким названием в 1931 г. вышел сборник произведений Гессе, включавший в себя роман «Сиддхартха» (1922) и повести «Душа ребенка» (1919), «Последнее лето Клингзора», «Клейн и Вагнер» (1919).
(обратно)4. ...грабительская акция правительства меньшевиков... - «Меньшевиками» Гессе называет социал-демократическое правительство Веймарской республики.
(обратно) (обратно)ГОСПОДИНУ Ф. АБЕЛЮ
1. Фишер Фридрих Теодор (1807-1887) - немецкий писатель и литературный критик, автор популярного на рубеже веков романа «Тоже человек. Дорожное знакомство» (1879).
(обратно) (обратно)ЧИТАЯ РОМАН
Статья впервые напечатана в «Нойе рундшау» (1933, № 5).
1. Франконский - т. е. немецкий. Франконией в старину называлась историческая область Германии (ныне - территория ФРГ).
(обратно) (обратно)ФРОЙЛЯЙН АННИ РЕБЕНВУРЦЕЛЬ
1. Анни Карлсон, урожд. Ребенвурцель - немецкий литературовед и переводчик, автор многих работ о Гессе. Издала переписку Гессе и Т. Манна (1968).
(обратно) (обратно)РУДОЛЬФУ ЯКОБУ ХУММУ
1. Хумм Рудольф Якоб (1895-1977) - швейцарский писатель, был в дружеских отношениях с Гессе; их переписка издана в 1981 г.
(обратно)2. Ландауэр Густав (1870-1919) - немецкий писатель; участвовал в создании Баварской Советской республики, после ее разгрома пал жертвой белого террора.
(обратно) (обратно)ТОМАСУ МАННУ
1. ...увидел я... статью Шу... - 21 апреля 1933 г. немецкий музыкальный критик Вилли Шу опубликовал в «Нойе цюрхер цайтунг» статью «Томас Манн, Рихард Вагнер и мюнхенские хранители Грааля», в которой рассказал о болезненной реакции мюнхенских и баварских властей на доклад Т. Манна «Страдания и величие Рихарда Вагнера», прочитанный 10 февраля 1933 г. в Мюнхенском университете. Среди подписавших протест были, наряду с официальными лицами, также музыканты Ганс Пфитцнер и Рихард Штраус.
(обратно)2. Ваша теперешняя ситуация... - Т. Манн, отправившись с докладом о Рихарде Вагнере по европейским столицам (Амстердам, Брюссель, Париж), так и не вернулся в охваченную националистическим угаром Германию.
(обратно) (обратно)ТОМАСУ МАННУ
1. ...о неудаче с Базелем... - Покинув Германию, Т. Манн предполагал вначале осесть в Базеле или Цюрихе, но политическая атмосфера в немецкой Швейцарии, где было много явных и тайных сторонников нацизма, вынудила его отказаться от этого плана.
(обратно) (обратно)ТОМАСУ МАННУ
1. ...в связи с историей Фидлера в Альтенбурге... - Священник Куно Фидлер, общий знакомый Т. Манна и Г. Гессе, приговоренный в нацистской Германии за свои взгляды к тюремному заключению, спасся бегством в Швейцарию.
(обратно)2. Франк Бруно (1887-1945) - немецкий писатель-антифашист, с 1933 г. в эмиграции, был в дружеских отношениях с Т. Манном.
(обратно)3. ...с предисловием к своей книге... - Имеется в виду «Игра в бисер. Опыт общедоступного введения в ее историю».
(обратно)4. ...ни среди рекомендованных Кольбенхайеров и т. д. - Речь идет о писателях, активно поддерживавших нацистский режим; Кольбенхайер Эдвин Гвидо (1878-1962) - австрийский писатель, сторонник нацизма.
(обратно) (обратно)ГОСПОЖЕ БЕРТЕ МАРКВАЛЬДЕР
1. Марквальдер Берта - жена Франца Ксавера Марквальдера (1884- 1952), хозяина гостиницы «Веренахоф» в курортном городке Бадене близ Цюриха, где Гессе неоднократно отдыхал и лечился. С семьей Марквальдер у Гессе сложились приятельские отношения. Хозяину гостиницы и его брату, врачу Йозефу Марквальдеру, посвящена автобиографическая повесть Гессе «Курортник» (1925).
(обратно) (обратно)ВИЛЬГЕЛЬМУ ГУНДЕРТУ
1. Гундерт Вильгельм (1880-?) - двоюродный брат Гессе, протестантский миссионер, специалист по культуре и религии Японии.
(обратно) (обратно)ПРАВЛЕНИЮ ПЕН-КЛУБА В ЛОНДОНЕ
1. ПЕН-клуб в Лондоне (ПЕН -англ. сокращение слов: поэты, эссеисты, романисты) - основанное в 1921 г. при содействии английского писателя Джона Голсуорси международное объединение писателей.
(обратно)2. Холичер Артур (1869-1941) - немецкий писатель и журналист, участник революционного движения.
(обратно) (обратно)ФРАНЦ КАФКА
1. Кафка Франц (1883-1924) - австрийский писатель. Гессе одним из первых увидел в Кафке крупного художника и внимательно следил за его творчеством, откликаясь на появление каждого нового произведения. Настоящая подборка состоит из рецензий, откликов и аннотаций, опубликованных в разное время в связи с выходом в свет книг Кафки. Время написания указано в конце каждого текста. Статья «Толкования Кафки» впервые напечатана в «Нойе цюрхер цайтунг» 3 февраля 1956 г.
(обратно)2. Грин Жюльен (род. 1900) - французский писатель, американец по происхождению. Основная тема его книг - скука провинциальной жизни, доводящая до сумасшествия одиноких мечтателей.
(обратно)3. Кьеркегор (Киркегор) Серен (1813-1855) - датский писатель и философ, один из предшественников экзистенциализма. Сходство Кафки с Кьеркегором Гессе видел в склонности к изображению трагического бессилия человека перед лицом суровой действительности.
(обратно)4. ...беспощадно осудил свой труд... - Как известно, Кафка завещал своему другу Максу Броду (1884-1968) уничтожить после своей смерти все свои произведения.
(обратно)5. ...это напоминает жуткий сон и сцены из «Голема» Мейринка. - Речь идет о романе австрийского писателя-экспрессиониста Густава Мейринка (1868-1932) «Голем» (1915), в котором обличение социальных язв буржуазного общества сочетается с увлечением гротескной символикой и мистицизмом.
(обратно)6. Моя должность невыносима для меня... - С 1908 по 1922 г. Кафка был мелким чиновником страхового общества в Праге.
(обратно)7. Поллак Оскар - один из пражских друзей Кафки.
(обратно)8. Клее Пауль (1879-1940) - швейцарский художник, график. Тяготел к абстрактному искусству. Нацисты отвергали творчество Клее, усматривая в нем признаки «вырождения».
(обратно) (обратно)ГОСПОДИНУ X. М.
1. Галлер Альбрехт фон (1708-1777) - швейцарский естествоиспытатель, врач и поэт.
(обратно) (обратно)Р. Я. ХУММУ
1. Я следил за... поисками истины в ваших «Островах»... - Гессе имеет в виду роман Р. Я. Хумма «Острова», вышедший в 1936 г. в цюрихском издательстве Опрехта.
(обратно)2. Мой младший брат... - Младший брат писателя, Ганс Гессе (1882- 1935), покончил с собой.
(обратно)3. Цоллингер Альбин (1889-1941) - швейцарский писатель, друг Р. Я. Хумма.
(обратно) (обратно)ТОМАСУ МАННУ
1. История со Шварцшильдом и Корроди... - Леопольд Шварцшильд (1891-1956), издававший в Германии журнал «Тагебух» («Дневник»), а после 1933 г. в Париже «Дас нойе тагебух» («Новый дневник»), обвинил берлинское издательство С. Фишера и верных ему авторов, в том числе Т. Манна и Г. Гессе, в пособничестве нацистам. Со своей стороны редактор литературного отдела «Нойе цюрхер цайтунг» Эдуард Корроди (1885-1955) опубликовал 26 января 1936 г. статью «Немецкая литература в зеркале эмиграции», где позволил себе выпады в адрес антифашистской литературы в эмиграции и с одобрением отозвался о писателях, оставшихся в фашистской Германии. Т. Манн и Г. Гессе выступили с протестами против клеветы и несправедливых обвинений как со стороны парижской эмиграции, так и со стороны швейцарских консерваторов.
(обратно) (обратно)ИЗДАТЕЛЬСТВУ С. ФИШЕР
1. ...о нападках на меня Вилля Веспера. - Веспер Вилль (1882-1962) немецкий журналист, пособник нацистов, издавал журнал «Ди нойе литератур», где в 1935 г. развязал кампанию травли Гессе.
(обратно)2. ...мои статьи о новых немецких книгах в «Бонньерс мэгэзин». - С мая 1935 г. Гессе писал рецензии и обзоры новинок немецкой литературы для шведского журнала «Бонньерс литтерера мэгэзин». Он не ограничивал себя только книгами авторов из «третьего рейха», а писал о немецкоязычной литературе в целом, в том числе и об эмигрантах, что и вызвало ярость В. Веспера.
(обратно)3. Георге Стефан (1868-1931) - немецкий поэт, сторонник антидемократического, элитарного искусства.
(обратно)4. Рильке Райнер Мария (1875-1926) - выдающийся австрийский поэт, одним из первых отметил дарование Гессе.
(обратно)5. Гофмансталь Гуго фон (1874-1929) - австрийский писатель-неоромантик.
(обратно)6. Каросса Ганс (1878-1956) - немецкий писатель-неоромантик (ФРГ).
(обратно)7. Штраус Эмиль (1866-1960) - немецкий писатель областнического склада, до 1918 г. был в дружеских отношениях с Гессе. Националистические симпатии Штрауса послужили причиной разрыва.
(обратно)8. Вольтерек Рихард (1877-1944) - немецкий зоолог, профессор; в годы первой мировой войны совместно с Гессе создал в Берне центр помощи немецким военнопленным, а также издавал вместе с ним журнал «Вивос воко» (букв. «Зову живых», лат. Из эпиграфа к стихотворению Ф. Шиллера «Песня о колоколе»).
(обратно) (обратно)Д-РУ ЭДУАРДУ КОРРОДИ
1. Берман-Фишер Готфрид (род. 1897) - зять С. Фишера, возглавивший после его смерти издательство.
(обратно)2. Штрайхер Юлиус (1885-1946) - нацист, «прославившийся» погромной антисемитской пропагандой. Казнен по приговору Нюрнбергского трибунала как военный преступник.
(обратно) (обратно)ТОМАСУ МАННУ
1. Маас Иоахим (1901-1972) - немецкий писатель-эмигрант.
(обратно)2. ...Вы сейчас всякий день... в Египте... - Т. Манн в это время работал над исторической тетралогией на библейскую тему «Иосиф и его братья» (1933-1943), действие которой происходит большей частью в Египте.
(обратно)3. Я тоже надеюсь еще на новое паломничество в страну Востока. - Гессе имеет в виду работу над романом «Игра в бисер» (1943).
(обратно) (обратно)ГОСПОДИНУ Ф. Л.
1. Хаксли Олдос (1894-1963) - английский писатель-модернист. Речь, вероятно, идет о романе «Слепой в Газе» (1936), в котором единственным способом достижения личной свободы объявляется непричастность к сознательной борьбе.
(обратно) (обратно)ТОМАСУ МАННУ
1. Вы с Фридолином... - Фридолин - любимый внук Томаса Манна, сын Михаэля и Греты Манн; выведен в романе «Доктор Фаустус» (1947) под именем Непомука.
(обратно)2. История об Йозефе Кнехте... - Имеется в виду роман «Игра в бисер».
(обратно) (обратно)ТОМАСУ МАННУ
1. ...Ваши заметки о забавной стороне моей книги. - Томас Манн обратил внимание на совпадение в форме и некоторых деталях содержания «Игры в бисер» Гессе и своего «Доктора Фаустуса», над которым он тогда работал: «Трудно вообразить себе что-либо отличное, а сходство все-таки разительное - как это бывает у братьев».
(обратно)2. Зуркамп Петер (1891-1959) - немецкий издатель, друг Г. Гессе.
(обратно)3. ...я буду теперь думать о докторе Фаустусе... - т. е. о романе Т. Манна «Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом"(1947).
(обратно)4. ...при чтении последнего тома «Иосифа»... - т. е. тетралогии «Иосиф и его братья».
(обратно)5. «Марш фашизма» - роман Г. А. Борджезе, зятя Т. Манна.
(обратно) (обратно)ТОМАСУ МАННУ
1. ...Вы высказываетесь по поводу истории с капитаном Хабе-Бекеши... - Австрийский писатель-эмигрант Ганс Хабе (род. 1911) (выступал также под именем Янош Бекеши), доброволец американской армии и главный редактор издававшейся военной администрацией США в Мюнхене «Новой газеты», публично упрекнул Гессе в том, что в годы фашизма он якобы спокойно отсиделся в нейтральной Швейцарии, а теперь-де пытается говорить от имени Германии. Т. Манн осудил бестактный и несправедливый выпад американского пресс-офицера.
(обратно)2. Немецкие отклики на Ваше письмо к Моло немного коснулись и меня... - 4 августа 1945 г. немецкий писатель Вальтер фон Моло (1880-1958) в открытом письме в «Мюнхенской газете» призвал Т. Манна быстрее вернуться на родину. В ответном «Письме в Германию» Т. Манн отклонил предложение и сослался на пример Гессе, давно порвавшего с политической Германией и сохранившего критическую дистанцию по отношению к ней.
(обратно)3. Винкельрид Арнольд - швейцарский народный герой, пал в битве при Земпахе в 1386 г.
(обратно) (обратно)ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ «ВОЙНА И МИР» 1946 ГОДА
1. Буркхардт Якоб (1818-1897) - швейцарский историк культуры, оказавший большое влияние на Гессе; под именем отца Иакова выведен в романе Гессе «Игра в бисер».
(обратно) (обратно)ПИСЬМО К АДЕЛИ
Впервые напечатано 10 февраля 1946 г. в «Нойе цюрхер цайтунг».
1. Гессе Адель (1875-1949) - старшая сестра Гессе. Была замужем за двоюродным братом писателя, священником Германом Гундертом (1876-1956). В 1934 г. издала книгу «Мария Гессе. Биография в письмах и дневниках». Герман Гессе не виделся с сестрой с 1939 г.
(обратно)2. ...знаменитый перевоспитатель вашего народа... - Имеется в виду Ганс Хабе (см. коммент. к с. 271).
(обратно)3. Барт Кристиан Готлоб (1799-1862) - немецкий теолог, основатель пиетистского издательства в Кальве, руководителями которого были позже дед и отец Гессе.
(обратно)4. Блюмгардт Кристоф (1842-1919) - вюртембергский теолог, руководитель исправительного заведения для трудновоспитуемых подростков, в котором проходил «лечение» и Гессе. Попытки Блюмгардта наставить строптивого подростка на «путь истинный» не увенчались успехом, и он отправил будущего писателя к родителям.
(обратно)5. Герхардт Пауль (1607-1676) - немецкий теолог, сочинитель религиозных песнопений.
(обратно)6. Терштееген Герхард (1697-1769) - немецкий религиозный писатель-пиетист.
(обратно)7. «Вифлеем» - распространенное у христиан изображение (в рисунке или в материале) рождения Иисуса Христа: младенец в яслях, над ним Мария и Иосиф, на заднем плане волхвы с дарами. По преданию, Христос родился в палестинском городе Вифлееме.
(обратно)8. Шуберт Готхильф Генрих (1780-1860) - немецкий философ и естествоиспытатель.
(обратно)9. Балль Гуго (1886-1927) - немецкий писатель и публицист, один из основателей дадаизма. Друг Гессе, автор монографии «Герман Гессе. Его жизнь и творчество» (1927).
(обратно)10. Шремпф Кристоф (1860-1944) - немецкий философ и теолог-протестант, издатель и переводчик произведений Кьеркегора. Его критика в адрес официальной религии и последующее отлучение от церкви произвели на юного Гессе сильное впечатление.
(обратно) (обратно)ПИСЬМО В ГЕРМАНИЮ
Эссе Гессе явилось ответом на письмо немецкой писательницы Луизы Ринзер (род. 1911); опубликовано 26 апреля 1946 г. в базельской газете «Националь-цайтунг» и перепечатано многими немецкими газетами.
1. ...со времен мюнхенского путча. - Речь идет о неудавшемся путче гитлеровцев 8-9 ноября 1923 г. в Мюнхене. Колонна вооруженных нацистов во главе с Гитлером и генералом Людендорфом была обстреляна и рассеяна полицией.
(обратно)2. Гинденбург Пауль фон (1847-1934) - немецкий генерал-фельдмаршал и реакционный политик. В 1925-1934 гг. президент Германии; способствовал приходу к власти национал-социалистов.
(обратно)3. ...ликование народа по поводу подлого австрийского ультиматума Сербии. - Как известно, поводом для развязывания первой мировой войны послужило убийство сербскими националистами в Сараево наследника австро-венгерского престола. Под давлением империалистических кругов Германии Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум и, несмотря на согласие сербского правительства выполнить почти все его условия, разорвала с ней дипломатические отношения и объявила войну.
(обратно)4. Мазереель Франц (1889-1972) - бельгийский график и живописец, член Коммунистической партии Бельгии.
(обратно)5. Кольб Аннетта (1875-1967) - немецкая писательница, близкая к экспрессионистам.
(обратно)6. ...я был... приглашен одним швейцарским согражданином... - Имеется в виду швейцарский писатель Йон Книттель (1891-1970), член национал-социалистической «Ассоциации европейских писателей».
(обратно)7. «Перелетные птицы» - основанный в начале века молодежный союз, имевший целью интеграцию юношества в капиталистический правопорядок и его воспитание в духе шовинизма; распущен нацистами в 1933 г.
(обратно)8. ...за нашим дорогим другом... - Гессе имеет в виду своего издателя Петера Зуркампа (см. коммент. к с. 270).
(обратно) (обратно)СЛОВО К УЧАСТНИКАМ БАНКЕТА ПО СЛУЧАЮ НОБЕЛЕВСКОГО ТОРЖЕСТВА
Впервые напечатано 10 декабря 1946 г. в «Нойе цюрхер цайтунг».
1. Лагерлеф Сельма (1858-1940) - шведская писательница.
(обратно) (обратно)БЛАГОДАРНОСТЬ И НРАВОУЧИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Ответ Гессе на поздравления в связи с присуждением ему в 1946 г. премии Гете впервые был опубликован в базельской газете «Националь-цайтунг» 6 октября 1946 г.
1. ...городом Франкфуртом, вызывавшим торжествами в церкви святого Павла... - Во Франкфурте-на-Майне во время революции 1848- 1849 гг. эта церковь служила местом заседаний первого немецкого Национального собрания (см. коммент. к с. 200).
(обратно) (обратно)ВИЛЬГЕЛЬМУ ШУССЕНУ
1. Шуссен Вильгельм (наст. фамилия Фрик) (1874-1956) - немецкий писатель и школьный учитель, уроженец Южной Германии. Гессе переписывался с ним в начале века.
(обратно)2. Шейфеле - лицо неустановленное.
(обратно)3. ...вплоть до мерзкого бокенгеймского документа... - Здесь Гессе не совсем точен. Имеются в виду так называемые «боксхаймские документы», опубликованные в ноябре 1931 г. На совещании в поместье Боксхайм близ Вормса главари национал-социализма наметили ряд драконовских мер, которые они намеревались осуществить в случае прихода к власти. Среди них - отмена всех демократических прав, террор против населения, введение военно-полевых судов, всеобщая воинская повинность с 16-летнего возраста и т. д.
(обратно)4. Вурм Теофиль (1868-1953) - немецкий теолог-протестант, был в оппозиции к фашизму, после войны возглавлял Совет немецкой евангелической церкви.
(обратно) (обратно)Д-РУ ПАУЛЕ ФИЛИППСОН
1. ...из валисского замка Мюзо... - В этом замке, расположенном в швейцарском кантоне Валлис (Валле), с 1921 по 1926 г, жил австрийский писатель Р. М. Рильке.
(обратно)2. Ульман Регина (1884-1961) - швейцарская писательница. Была дружна с Рильке, написала книгу воспоминаний о нем.
(обратно) (обратно)ТАЙНЫ
Впервые опубликовано в «Нойе швайцер рундшау» (1947, № 3).
ТОМАСУ МАННУ
1. Ваше приветствие в «Цюрхер цайтунг»... - В этой газете от 2 июля 1947 г. и в «Нойе рундшау» (1947, № 7) Т. Манн опубликовал «Приветствие Герману Гессе в связи с 70-летием».
(обратно)2. ...знаменитый сын Любека. - Томас Манн родился в Любеке.
(обратно)3. Пфитцнер Ганс (1869-1949) - немецкий композитор; после 1933 г. нацист.
(обратно)4. «Агатон приветствует Иксиона...» - Агатон, Иксион - персонажи автобиографического романа воспитания Виланда «Агатон» (1766).
(обратно)5. Йозеф Кнехт отвешивает большой восьмикратный коутоу Томасу фон дер Траве. - Стилизованное приветствие, означающее «Герман Гессе приветствует Томаса Манна». Йозеф Кнехт - герой романа Гессе «Игра в бисер». Томас фон дер Траве - персонаж того же романа. В этом образе Гессе создал стилизованный портрет Томаса Манна, родившегося в Любеке на реке Траве. Коутоу - китайское ритуальное приветствие.
(обратно) (обратно)ТОМАСУ МАННУ
1. Фома Генрихович - так, зная о любви Томаса Манна к русской литературе, Гессе шутливо переиначивает его имя на русский лад.
(обратно)2. «Ответ и отчет» - вышедший в 1922 г. сборник статей и выступлений Т. Манна.
(обратно)3. «Штехлин» (1898) - роман немецкого писателя Теодора Фонтане (1819-1898). О нем идет речь в статье Т. Манна «Старик Фонтане», вошедшей в сборник «Ответ и отчет».
(обратно)4. «Вундеркинд» (1903) - новелла Т. Манна.
(обратно) (обратно)ТОМАСУ МАННУ
1. ...полного, завершенного Круля... - Роман Т. Манна «Признания авантюриста Феликса Круля» остался незавершенным. Впервые фрагмент романа был опубликован в 1911 г., первая часть - в 1954 г.
(обратно)2. Комментарий к «Фаусту» - Гессе имеет в виду книгу Т. Манна «История «Доктора Фаустуса». Роман одного романа», завершенную в 1949 г.
(обратно)3. ...я прочел и «Леверкюна»... - т. е. «Доктора Фаустуса».
(обратно)4. ...для прекрасного ребенка Непомука... - Непомук - персонаж романа «Доктор Фаустус», которому Т. Манн придал черты своего внука Фридолина (см. коммент. к с. 269).
(обратно)5. Тегуляриус - персонаж, некоторыми чертами своего облика напоминающий Фридриха Ницше.
(обратно) (обратно)СТУДЕНТУ ИЗ БОННА
1. ...по касталийским вопросам. - Касталия - место, где происходит действие романа «Игра в бисер», отгороженная от мира «духовная провинция», обитатели которой культивируют высокоинтеллектуальную игру «всеми формами и содержаниями искусства и науки».
(обратно) (обратно)ФЕЛИКСУ ЛЮТЦКЕНДОРФУ
1. Лютцкендорф Феликс - немецкий литературовед (ФРГ). Автор диссертации «Герман Гессе как религиозный человек. Его связи с романтизмом и «восточной мудростью» " (1932).
(обратно) (обратно)ТОМАСУ МАННУ К ЕГО СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЮ
1. ...не в родстве ли Вы с автором трех романов герцогини д'Асси... - т. е. с Генрихом Манном, автором романа «Богини, или Три романа герцогини д'Асси» (1903).
(обратно) (обратно)ОТВЕТ НА ПИСЬМА ИЗ ГЕРМАНИИ
Впервые опубликовано в газете «Националь-цайтунг», Базель, 22 октября 1950 г. под заглавием «Страх перед войной».
О СТАРОСТИ
Впервые опубликовано в цюрихском журнале «Ду» (1953, № 2).
ЭНГАДИНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Впервые опубликовано в журнале «Нойе швайцер рундшау» в октябре 1953 г. Энгадин - национальный парк в Швейцарии, в Ретийских Альпах, место отдыха состоятельных людей.
1. Сильс Мария - курортное место в горах Энгадина (кантон Граубюнден). Известно тем, что здесь в 1881-1888 гг. проводил лето Фридрих Ницше.
(обратно)2. Фишер Эдвин (1886-1960) - швейцарский композитор и пианист-виртуоз. Положил на музыку цикл стихотворений Гессе к Элизабет, созданный в пору жизни поэта в Базеле (1899-1904) и посвященный Элизабет Лярош.
(обратно)3. Вассерман Якоб (1873-1934) - немецкий писатель, мастер социально-психологического романа. Был дружен с Гессе.
(обратно)4. Гартман Отто (1877-1952) - юрист, обер-бургомистр Геппингена, друг детства Гессе.
(обратно)5. Фурнье Пьер (род. 1906) - выдающийся французский виолончелист, с 1949 г. живет в Швейцарии.
(обратно)6. Казальс Пабло (1876-1974) - знаменитый виолончелист и композитор, противник фашистского режима Франко.
(обратно)7. Гаскиль Клара (1895-1960) - известная пианистка, родилась в Бухаресте, умерла в Брюсселе. Прославилась виртуозным исполнением произведений Моцарта.
(обратно) (обратно)РУДОЛЬФУ ПАНВИЦУ
1. Панвиц Рудольф (1881-1969) - немецкий философ, поэт и эссеист, автор исследования «Западно-восточная поэзия Гессе».
(обратно)2. ...ряд кнехтовских жизней... - Роман «Игра в бисер» завершают «три жизнеописания», в которых жизнь одного и того же человека дается в разных исторических вариантах - первобытном, раннехристианском и индийском.
(обратно) (обратно)ГОСПОДИНУ ГОЛЬКЕ
1. Монтеверди Клаудио (1567-1643) - выдающийся итальянский композитор, первый классик оперной музыки.
(обратно)2. Рожье де ла Патюр (наст. имя Рогир ван дер Вейден) (ок. 1400-1464) - нидерландский живописец, один из крупнейших мастеров раннего Возрождения.
(обратно)3. Гварди Джованни Антонио (1699-1760) - итальянский живописец, известен картинами на исторические и мифологические темы.
(обратно) (обратно)ТОМАСУ МАННУ
1. ...великолепная статья о Чехове. - Очерк Т. Манна «Слово о Чехове» написан и опубликован в 1954 г.
(обратно)2. «Старое и новое» (1953) - сборник эссе Т. Манна.
(обратно) (обратно)ПРИВЕТСТВИЕ «КОММУНИТА ЭУРОПЕА ДИ СКРИТТОРИ»
1. «Коммунита Эуропеа ди Скриттори» («Европейское сообщество писателей») - международная литературная организация, единственная общеевропейская организация, в которую в отличие от ПЕН-клуба входят и писатели социалистических стран. Основана в 1958 г. на конгрессе в Неаполе с целью содействия «развитию духа дружбы и сотрудничества между народами».
(обратно)2. Итальянское Рисорджименто (т. е. возрождение) - так обозначается эпоха борьбы за воссоединение Италии (1815-1870).
(обратно)3. Хух Рикарда (1864-1947) - немецкая писательница, автор романа «Жизнь графа Федерико Гонфалоньери» (1910), сборника «Рассказов о Гарибальди» (1907) и множества других произведений на исторические темы.
(обратно) (обратно)В. Седельник



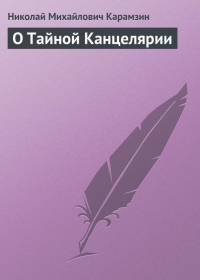
Комментарии к книге «Письма по кругу (Художественная публицистика)», Герман Гессе
Всего 0 комментариев