Юрий Афанасьев Мы — не рабы?
«…Что касается до обстановки, то, не имея ничего сказать против гадов, преследующих сзади, ни даже против просвета, который всегда как-то по штату полагается, я бы, на месте художника, и по ту сторону просвета устроил встречу гадов. Ибо и это тоже по штату полагается. Вообще это было бы полное изображение отечественного прогресса с непрерывно идущими гадами и с прогрессом в форме генерала от инфантерии или действительного тайного советника».
М.Е. Салтыков-ЩедринИсторический бег на месте, или «Особый путь» России
В последние месяцы мы стали свидетелями действий российской власти, которые на первый взгляд кажутся парадоксальными. Отмечу некоторые важнейшие из них:
— Впервые после вывода советской армии из Афганистана российские вооруженные силы начали и закончили «настоящую», не «холодную» войну за пределами государственных границ (в Грузии).
— Впервые после краха СССР в Латинскую Америку полетели стратегические бомбардировщики наших ВВС и ушли корабли нашего ВМФ.
— Возврат к риторике «холодной войны» дошел до той точки, когда министр иностранных дел России в беседе с иностранным (британским) коллегой использовал нецензурную лексику.
— Российские корабли воевали в Черном море против Грузии, базируясь на Севастополь, вопреки запрету президента Украины на их перемещение без уведомления украинской стороны.
— Премьер-министр Путин использовал против Чехии и Польши атомный шантаж — хотя бы и в свойственной ему «специальной», чекистской, многозначительной и как-бы-загадочной манере: «Я не могу себе представить, если против этих радаров…».
— На фоне вопиющей и углубляющейся имущественной поляризации населения страны почти на 30 % увеличен военный бюджет.
— Президент России приветствовал избрание нового президента США обещанием разместить в Калининградской области ракеты, угрожающие европейским союзникам США.
Все это выглядит именно как парадоксы. Век-то на дворе нынче — ядерный.
Однако все подобные, никак не вписывающиеся в современность события можно объяснить и совсем не парадоксально. Только объяснение в таком случае, на мой взгляд, будет еще более мрачным и тревожным, чем «вроде бы парадоксы» — чем реальность, как бы окутанная туманом.
Если посмотреть на происходящее у нас на глазах: а) реалистически, б) рационально, в) ретроспективно — и не просто с оглядкой назад, но с обозрением очень большой временной продолжительности, то открывается такое…
Такое, что невольно начнешь задумываться прежде всего о себе самом: то ли ты уже сошел с ума, то ли все еще на пути к безумию.
Если же эти мысли покажутся слишком страшными или странными и удастся благодаря уверенности в своей психике их как-то отбросить, тогда ощутишь нечто не менее ужасное — почувствуешь вокруг себя пустоту.
Многоликая и беспощадная пустота
Не абсолютную пустоту, конечно же. Хотя и очень редко, но все-таки встречаются отдельные люди, которые видят происходящее примерно так же, как ты. Они для меня как светлячки. По ним я пытаюсь ориентироваться в нашем мраке.
Но и тогда ощущение пустоты не покидает, потому что исходит оно, это ощущение, не откуда-то из одного источника — например, со стороны власти. Будь так, казалось бы, можно как-то развеять мрак, хотя бы поняв и объяснив для себя — что вполне возможно — самые мрачные действия властей. Однако и проясненные в подобном смысле они не избавляют от ощущения пустоты, потому что не знаешь, что делать с этим пониманием. Если додумать до конца и воспринимать их адекватно, такие действия становятся в полной мере понятными и объяснимыми только как действия власти чужой по отношению к народу: власти оккупационной, «ордынской», да к тому же еще нелегитимной и криминальной (то есть, говоря по-русски, беззаконной и преступной). Даже когда есть полная уверенность и вполне устоявшиеся убеждения на сей счет, подкрепленные фактами, всем ходом развития событий, куда дальше обратиться с таким пониманием? Казалось бы, вполне понятно куда: не к власти же — к народу.
Но ощущение пустоты исходит и от самых широких «народных масс», против которых направлены мрачные действия властей. Они, «массы», не просто молчаливо переносят действия властей, а начинают в последнее время с энтузиазмом поддерживать их, как было уже, например, в 30-х годах прошлого века.
Ко всему прочему, мы знаем, что тот же самый феномен энтузиазма народных масс — когда ими вовсю манипулируют и над ними же издеваются — неоднократно случался у нас и еще раньше: например, накануне Первой мировой войны и сразу после нее. Тогда народ и большевики тоже оказались вместе настолько, что до сих пор не вполне ясно, кто из них кого тогда больше поддерживал и кто кого куда-то двигал. Зато хорошо известен итог (пока еще промежуточный) этого продолжительного и смертоносного для обеих сторон единения — 91-й год.
При всем том мы знаем также, что русский народ никогда не воспринимал государство как нечто «свое» и нормальным ответом на государственное принуждение с его (народа) стороны всегда были хитрость, уловка, обход закона. Внешне смиряясь, демонстрируя власти покорность, народ всегда держал дулю в кармане. Подобные внешние признаки смирения и покорности воспринимались (и воспринимаются) как привычка к терпению, а такую привычку можно, при желании, истолковать и как поддержку власти с его (народа) стороны.
Сейчас тоже налицо вроде бы всенародная поддержка Путина и его президента. Упорно и прискорбно повторяющийся на русской почве феномен «Народ и власть — едины» означает, что никакие они не власть и не народ в современном рациональном понимании данных категорий. Нашу сомнительную власть в этом смысле я уже упомянул, а народ наш по-прежнему не стал народом — субъектом истории, но остается народом — ее массой, толпой истории. Лишь в последние 18–20 лет аморфная, атомизированная русско-советская масса начала структурироваться, но, увы, не на гражданской, а на кланово-преступной основе. Кому-то такое понимание обидно, кто-то спекулирует на откровениях подобного рода о своем народе: дескать, «ты никогда не достучишься к нему с такими своими мыслями о нем». Я и это понимаю, и потому говорю об исходящей отсюда тоже пустоте.
Народ наш за многие века перенес такие муки, какие, еще по Карамзину, «терпеть без подлости неможно». Отсюда — хитрость, уловки и двойная мораль. Но тогда, в конце XVIII века, Карамзин не мог знать, что главные муки и их развращающие нравственные последствия у русского народа еще впереди. Периодически мы возбуждались против невыносимых мук и против власти и раз в столетие справляли праздник «дикой воли» с Разиным, Пугачевым или с Лениным, а потом снова надолго погружались со своим кукишем в кармане в ставшее привычным скотское существование. Кто-то с радостью, а кто-то с цинизмом принимал наши периодические возбуждения за пробуждение. А наш народ и в муках своих, и в своих бесшабашных протестах, и в диком гневе своем оставался и остается народом-массой, толпой, достойной сочувствия и тихой горести, а иногда — страшной и омерзительной. Потому и достучаться до него в его постоянной бессознательности и перманентной готовности к бунту смогли только такие люди, как Ленин—Сталин, теперь — Ельцин—Путин, а в обозримом будущем, не исключено, смогут достучаться и такие, как Жириновский—Лимонов.
Наконец, это ощущение пустоты уже не просто замыкается в кольцо, но производит впечатление сплошного замкнутого шарообразного пространства, когда пытаешься вникнуть в совокупный современный дискурс нашей творческой и иной интеллигенции и уловить ее голос, гражданскую позицию. Здесь, конечно, много очень разного и тоже, конечно, встречаются, хотя и очень редкие, светлячки. Для меня, например, сегодня один из них — Алексей Герман. Но и такие светлячки — скорее свет во тьме, как его трактуют в Священном писании: то ли он пробьется сквозь тьму, то ли тьма поглотит его. Второе, увы, бывало в нашей истории. Уже в наше время — после убийства Дмитрия Холодова, Татьяны Юдиной, Галины Старовойтовой, Сергея Юшенкова, Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Магомеда Евлоева, после привлечения к суду «за экстремизм» Андрея Пионтковского, после зверского избиения Михаила Бекетова — с этой стороны повеяло еще большей пустотой.
В целом же, если воспринимать позиции наших современников-интеллектуалов не разрозненно, но попытаться услышать их как сводный голос некоего «этоса», отличный от других, то ощущение пустоты, исходящее от власти и от населения, только еще усиливаются. Говоря предельно кратко и определенно, наши интеллектуалы сегодня (не считая отдельных исключительных личностей, которых можно пересчитать по пальцам) — на стороне российской власти, а не населения России. Думаю, что и население наше до сих пор остается населением, а не стало народом главным образом именно по этой причине.
Может быть, ощущение пустоты, исходящее от нынешней нашей интеллигенции, еще больше сгущается, накладываясь на более чем вековую традицию. Хотя эта традиция существует в реальности и во многом, если не в основном, объясняет общий рисунок нашей истории, о ней не принято говорить во весь голос и писать как о реальности, додуманной до конца. Сама данная проблема — «традиция русской интеллигентности» — в этом смысле тоже как бы уходит в пустоту, покрывается мглой.
И это тоже неслучайно, и у ощущения пустоты, в том числе и у пустоты, основанной на традиции, есть свои причины и их объяснения.
Между свободой и империей
Я говорю о традиции отношения к власти русской интеллигенции в том ее виде, как эта традиция сформировалась еще до 1917 г. Она происходит из сосуществования и противоборства двух культур в одной России. Эти две культуры были настолько разными в социальном и духовном отношениях, что уже в XVIII веке они даже заговорили на разных языках и между ними выросла стена полного взаимного непонимания. В таких условиях русские интеллектуалы (и русская интеллигенция) за всю их историю как некой социальной общности — включая и тех из них, кто составляет «наше все», к кому вполне применим эпитет «либеральный», — не просто были строителями русской власти, но и, как правило, были на ее стороне, а не с российскими народами. Притом что власть, в строительстве которой они участвовали, оставалась по сути своей самодержавной, а то и самодержавно-деспотической, можно представить себе, почему данная проблема — «Просвещенная Россия и русская Власть» — незаметна во всей нашей историографии при рассмотрении отечественных традиций.
Но если сюда добавить еще и как, и чем объясняется общий рисунок истории России, тогда традиция русской интеллигенции, о которой идет речь, проясняется и актуализируется в еще большей степени. С той поры, когда в XV веке Москва избрала для себя дорогу построения православной империи, приоритетом страны на пять столетий вперед стала внешняя территориальная экспансия, но не обустройство внутреннего пространства. А поскольку создание империи проходило всегда на скудном экономическом основании, вектор общего движения определился в направлении от свободы к рабству: из населения надо было выжимать насилием все соки. Этот вектор не поменялся до сих пор, и такая его продолжительная неизменность, превратившаяся в своего рода гнетущее национальное задание, определила все главные особенности русского своеобразия, в том числе и приоритет государства и подавленность личности.
Определяя другими словами ту же традицию — «Интеллигенция на стороне власти», — можно сказать и так: это традиция расщепленности русского духа между свободой и империей, между русской волей и русской властью.
Еще более определенно высказался наш замечательный историк, философ и публицист Георгий Федотов. Он отметил, что после Пушкина «разрыв империи и свободы в русском сознании совершился бесповоротно. <…> Люди, которые строили или поддерживали империю, гнали свободу, а люди, боровшиеся за свободу, разрушали империю. Этого самоубийственного разлада — духа и силы — не могла выдержать монархическая государственность. Тяжкий обвал императорской России есть прежде всего следствие этого внутреннего рака, ее разъедавшего».
Для него Пушкин был «певцом империи и свободы» — так называлась статья, помещенная в сборнике «Империя и свобода», которую я здесь цитирую. По мнению Федотова, «Пушкин, строитель русской империи, никогда не мог сбросить со счетов русской, хотя бы и дикой воли». Но «…чаемый им синтез империи и свободы не осуществился — даже в его творчестве, еще менее в русской жизни…».
«Конечно, Пушкин, — пишет Федотов, — не политик и не всегда сводит концы с концами. Есть у него грехи и прегрешения против свободы — и даже довольно тяжкие». Но «никогда сознательно Пушкин не переходил в стан врагов свободы и не становился певцом реакции. В конце концов, кн. Вяземский был совершенно прав, назвав политическое направление зрелого Пушкина «свободным консерватизмом». С именем свободы на устах Пушкин и умер: политической свободы в своем «Памятнике», духовной в стихах к жене о «покое и воле».
Говоря о грехах и прегрешениях Пушкина против свободы, Федотов ссылается, в частности, на выраженное им удовлетворение по поводу закрытия журнала Полевого, на защиту цензуры в антирадищевских «Мыслях по дороге». Эволюция взглядов Пушкина в направлении консерватизма сопровождалась неравномерным его отношением к свободе и к империи. Федотов особо подчеркивает, что если свобода у Пушкина менялась в своем содержании, тема империи оставалась неизменной — это константа его творчества. В такой константе и сила, лад, строй государства, и две антипольские оды, и мрачный восторг перед завоевателями Кавказа, и все то, что вызывало гневный протест П.А. Вяземского и И.А. Тургенева, протест, выраженный в словах: «Пушкин окровавил стихи своей повести <…> Поэзия — не союзница палачей; политике они могут быть нужны, — и тогда суду истории решить, можно ли ее оправдывать или нет; но гимны поэта никогда не должны быть славословием резни».
Однако главный смысл империи для Пушкина все в том же общем рисунке русской участи, о котором я уже упоминал: в противостоянии «государство — личность — народ». Евгений в «Медном всаднике» — не личность, а несчастная жертва, человек из толпы, гибнущий между двух начал русской жизни: или под копытами коня империи, или в волнах разбушевавшейся народной стихии.
В этой дилемме Пушкин сделал свой выбор. Он — сеятель свободы, но он — за империю, потому что осознал бесполезность своих и общих усилий:
Но потерял я только время. Благие мысли и труды… Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь.Чтобы понять до конца выбор, сделанный Пушкиным, надо иметь в виду, что он относится к первой половине XIX века, а многие мысли поэта и его переживания по поводу империи и свободы продолжаются еще из века восемнадцатого. Тогда свободолюбивая, демократическая мысль только нарождалась вместе с Чаадаевым, Белинским, Герценом — а Пушкина окружала консервативная, свободоненавистническая Россия. Она создавала ту политическую и духовную атмосферу, в которой Пушкин и дышал, и задыхался в последние годы своей жизни. Дышал, потому что оказался в гармонии с основным и мощным потоком русской мысли от Карамзина к Погодину, с глубоким и органически выросшим национально-консервативным течением. Это течение, овеянное общим духом романтизма и основанное на изысканиях и создании словаря Даля, на песнях Киреевского, на народных сказках самого Пушкина. А задыхался, потому что оставался служащим и певцом империи, преследуемым ею же до конца за свой неистребимый дух свободы.
Я взял в союзники Георгия Федотова, чтобы с его участием — участием человека, уже пережившего революции и мировые войны ХХ века, — на примере Пушкина как одной из вершин русской мысли и русского духа вернуться в наше сегодня с той же проблемой: «империя — свобода — личность». И с вопросом о том, как она разрешается сейчас в головах и практике тех людей, которые, казалось бы, в силу их ремесла призваны олицетворять мысли и дух России и определять ее будущее уже в XXI веке.
Повторю: вместе с этим вопросом поневоле проваливаешься в пустоту — в том смысле, что созвучие своим мыслям здесь встречаешь лишь в исключительных случаях от людей, многих из которых эта же власть уже уничтожила. Сегодня просвещенная, интеллектуальная Россия, если попытаться определить ее доминирующий и повсюду звучащий голос, ее общественную позицию, она, позиция нашего «мыслящего класса», полностью совпадает с позицией нынешней власти. Писатели, люди науки, театральные и кинорежиссеры, журналисты печатных и электронных СМИ, университетская профессура, иерархи РПЦ не просто молчаливо и страдательно переносят нашу власть — они ее оправдывают, поддерживают, пытаются обосновать ее действия теоретическими изысканиями, историческими традициями, своим пониманием нравственных ценностей.
У холопов собственная гордость
В подтверждение можно было бы привести длинные списки книжных и газетных публикаций, почти целиком всю сетку телевещания, назвать утверждаемые в последнее время самой же властью школьные и вузовские учебники. Я сошлюсь лишь на один (специальный) номер: «Пять веков империи» журнала «Эксперт» от 31 декабря 2007 г. Этот журнал в последнее время становится своего рода барометром движения мысли правящих верхов и обслуживающей власть интеллектуальной элиты.
Редакционная статья «Непростая судьба империи» кардинально подвергает сомнению демократическую перспективу России: «Эта форма правления вообще весьма уязвима, нестабильна, и если в обществе не существует консенсуса по поводу того, что стране нужна именно демократия, то в принципе невозможна. Нереально поддерживать демократический режим, если многочисленные и влиятельные слои общества ставят своей целью его разрушение».
Оно бы все ничего — можно, конечно, усомниться и в пригодности демократии для России… Если бы то, что предлагают в качестве альтернативы, не вызывало не просто сомнения, но, по меньшей мере, настораживающее изумление.
Из статьи того же номера «Россия — пессимистам»: «Территориальная экспансия доминировала в русском взгляде на освоение мира. Но это не повод посыпать голову пеплом. То великое государство, которое построили наши предки, ничуть не меньший повод для гордости, чем швейцарские часы, французская кухня или итальянское искусство эпохи Ренессанса. И точно так же как подобные достижения других народов сегодня составляют не только предмет их гордости, но и источник дохода, российские пространства с их несметными богатствами и стратегическим положением сегодня окупаются для нас сторицей.
То же можно сказать и о нашем умении ладить с соседями, а если надо — воевать.
Умение исподволь навязывать свою политическую культуру и искусство изучать чужую культуру и принимать ее как свою — из того же ряда.
Она принимала всякого, кто готов был стать ее частью, всякого, кто готов был ей служить.
В этом для подданных России выражалась свобода. Если для польского шляхтича свобода выражалась в праве не подчиняться, а для английского лорда — в праве контролировать, на какие цели идут уплаченные им налоги, то для русского дворянина свобода выражалась в возможности принимать участие в великом строительстве империи. И рассудите, у кого было больше свободы — у поляка, чье неподчинение, чей гонор ни на что, в общем-то, не влияли, или у русского, чья готовность служить делала его сотворцом мировой истории?
И разве «несвободные» Курчатов и Королев были несвободны — по большому, по историческому счету?»
Вот такие ценностные ориентиры, таково мировидение у нынешних наших интеллектуалов, объединяющихся на идейной основе журнала «Эксперт». Те же мотивы отчетливо прочитываются и во всей внутренней и международной политике российской власти. Для всех для них получается, что условие свободы «по большому историческому счету» — ГУЛАГ, а величайшим вкладом России в мировую цивилизацию, по сравнению со всеми другими странами, стали ее имперская сущность и результаты ее пятивековой экспансии.
Снова невольно приходит на память Пушкин — с «Дубровским» (1832–1833): «Один из псарей обиделся. «Мы на свое житье, — сказал он, — благодаря Бога и барина, не жалуемся, а что правда, то правда, иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было б и сытнее и теплее».
Разумеется, былая территориальная экспансия — не повод посыпать сегодня голову пеплом. Прошедшее как таковое вообще не предназначено ни для гордости, ни для стыда. Оно — для осмысления и понимания. В постоянных усилиях извлечь смыслы из фактов и событий прошлого каждый отдельный человек и общество в целом обретают себя, свою идентичность.
Если строго следовать логике и фактам и на этой основе постигать сущее, а следовательно, и обретать смысл в истории, то надо констатировать: в готовности служить и принимать участие в строительстве империи выразилась не свобода русского дворянина, а его холопская принужденность. То есть совершенная его несвобода.
Не требует ни осуждения, ни оправдания тот факт, что когда Ивану III в конце XV века для охраны границ становящегося очень большим государства и для завоевания новых территорий потребовалась большая регулярная армия, а денег на ее содержание не было, нашли решение: на основе условного землевладения создали конное войско. Эти конники стали тем сословием дворян, которое и закрепостили первым. За ними закрепили землю, а за право владеть землей их лишили права выбора. Они не могли поменять хозяина, которому обязаны были служить, и не могли по своему усмотрению заниматься каким-то другим делом, кроме того, которому обязаны были служить. Несколько позднее за помещиками закрепили, кроме земли, крестьян и закрепостили этих крестьян, так же как прежде закрепостили помещиков. Русский дворянин, таким образом, становился несвободным дважды: сверху — обязанностью служить государству — и снизу — необходимостью существовать и нести службу за счет крепостных крестьян, за счет своей «крещеной собственности», как их тогда называли.
Утверждение о том, что «для русского дворянина свобода выражалась в готовности служить, в возможности принимать участие в великом строительстве империи», можно было бы рассматривать как своего рода ключ, раскрывающий отношение к прошлому вообще и к русским историческим традициям в частности тех интеллектуалов, которые группируются вокруг журнала «Эксперт». Будучи «национально-мыслящими» и «патриотически-озабоченными», как они себя именуют, они еще, кроме того, претендуют на новаторство и строгую научность. «Для выработки единого взгляда на историю, — гласит редакционная статья, — необходим новый, неидеологизированный подход. Конечно, совсем избавиться от влияния идеологии при изучении истории страны нельзя — создание «канонической версии», даже со всеми допустимыми вариациями, без определенной идейной позиции невозможно. Но конъюнктурная политизация совершенно недопустима».
Последние события, некоторые из которых я перечислил в самом начале как парадоксы, на самом деле, если их продумать до конца, оборачиваются не просто страшной, но ужасающей реальностью. И ощущение пустоты, в которую вроде бы проваливаешься, не встречая понимания и не видя адекватной реакции с той стороны, куда смотришь, сменяется видением отчетливых контуров того сооружения из свершений путинской внутренней и международной политики, про которое можно лишь сказать — не хотелось бы верить своим глазам.
Гитлеровский и сталинский нацизмы, надо заметить, разглядели тоже не сразу, а их опасность ощутили, когда было уже слишком поздно, — к тому же до сих пор ощутили еще далеко не все и не до конца.
Цитируемый здесь специальный номер журнала «Эксперт — лишь один из многочисленных индикаторов, по которым можно составить представление о замахе путинской стратегии на разворот к политике царской России и Советского Союза. Таким же индикатором, воплощением «канонической версии» нашей истории стал изданный уже массовым тиражом школьный учебник. В этом же ряду — специальный номер журнала «Профиль» № 34 за 2008 г. «Собрать державу».
Авторы «Эксперта», претендующие на строгую научность и недопустимость конъюнктурной политизации, пишут: «История Российской империи не так уж отличается от истории других европейских империй. Во многом она была даже гуманнее. Но в любом случае у России не было выбора — быть империей или быть «нормальным европейским демократическим государством». Был выбор — быть империей или быть колонией».
Про то, что «она была даже гуманнее», надо оставить на совести авторов, особенно если учесть, что история Российской империи и в 1917 году не заканчивается.
Про то, что «не было выбора», следует отнести туда же. Вся наша жизнь — и каждого человека, и любой страны — постоянный, непрестанный выбор. Постижение смысла истории — в отыскании ответа, почему сделан именно такой выбор, а не другой, реально возможный как иной путь.
Но допустим даже, что при анализе всех обстоятельств «за» и «против» того или другого выбора, при анализе по всем правилам «строгой научности» и совершенно без «конъюнктурной политизации» мы пришли к выводу: да, «не было выбора». Значит ли это, что нужно — с откатом назад и с опорой на все наши традиции — продолжать тот путь, по которому мы пришли в наше сегодня? Не забывая при этом, что промежуточными точками на этом пути стали 1917, 1991 и 2008 годы?
Судя по всему происходящему в стране, судя по направлению полета господствующей мысли — надо продолжать.
Россия снова перед выбором: то ли все то, что уже довольно отчетливо просматривается в окружающей нас реальности — ордынско-византийский политический курс властвования, традиционная русская геополитика, советское мессианство, всепоглощающая коррупция и путинская зачистка политического пространства России. То ли…
Я совсем не уверен, что у нас есть время для размышлений о каких-то альтернативах. Тем более для их реализации.
Блуждание по кругу истории. «На круги своя» по-русски
Если на войну России против Грузии посмотреть:
— сначала в связи с другими важнейшими событиями российской внутренней и внешней политики последних 8–10 лет: ликвидацией выборов, судебной системы, независимых СМИ, политических партий, оскоплением законодательной власти, превращением правоохранительных органов в репрессивные и преступные и т. д., галопирующей во главе с высшей властью коррупцией, громкими нераскрытыми убийствами, обострением отношений с сопредельными (и не только) странами;
— а потом в перспективе очень большой временной продолжительности — как на очередной эпизод нескончаемой в столетиях вереницы наших аннексионистских войн (и усугубляющейся в результате подобных войн несвободой внутри страны);
то момент пересечения этих двух линий зафиксирует очень важное явление: возврат современной России на круги своя, ее возвращение в русскую и советскую колею.
Что это значит — «возврат современной России на круги своя, ее возвращение в русскую и советскую колею»?
Во-первых, о самом понятии «русская колея». В том же смысле говорят и пишут про «Русскую систему» (например, А.И. Фурсов и Ю.С. Пивоваров), про «русскую (православную) цивилизацию» (Арнольд Тойнби, славянофилы, евразийцы 1920-х годов, современные «почвенники» и «патриоты»), про «матрицу русской неизменяемости» и т. п. Подобные слова требуют пояснения на предмет их значения в текстах, претендующих на «научность». Они скорее допустимы здесь лишь как некий оборот речи, как стремление что-то специально «сгустить» с целью сделать более понятным то, о чем идет речь. И допустимы лишь при условии, что читателю или слушателю понятна условность таких слов, наличие в них не свойственных людскому сообществу механистичности, фатальной неизбежности, запрограммированности — то есть всего того, что прочитывается в этих словах, если их воспринимать буквально. По существу, употребляя эти или схожие термины, имеют в виду что-то между «архетипом», «структурой» и «системой» — чтобы сказать одним словом сразу и о какой-то организации, о соотнесенности множества самых разных составляющих, и в то же время о долговременности такой их организации, о ее продолжительной неподвластности времени. (В научных категориях то же самое выражают как La langue duree.)
Во-вторых, надо хотя бы вкратце сказать о конкретном содержании, заключенном в данных понятиях. О том, что именно и как создает эту самую «колею», эти повторяемость, неизменность, многовековую структурную стабильность — эту постоянно изменяющуюся неизменность. Но поскольку «вкратце», то есть буквально в нескольких словах об этом сказать нельзя, укажу лишь на некоторые, может быть, наиболее важные из составляющих, образующих это понятие:
само расположение России в мире (сегодня его называют «геополитическим») и размеры ее территории; характеристика ее земель и почв; плотность, состав и динамика населения и, наконец, тип русской Власти. Но пока что я перечислил, так сказать, объективные, материальные, «вещественные» и институциональные составляющие, из которых потом складывается понятие «колеи». Не будучи одухотворенными, они просто-напросто некая данность и как таковая мертвы, никакой повторяемости, никакого круговращения из них не получится. Столь же важными, если не важнейшими, стали для «колеи» составляющие из сферы духовной: русское православие, мессианство и экспансионизм, привычки людей, их мировидение. Все вместе эти составляющие, постоянно переплетаясь, взаимодействуя, изменяясь (иногда до неузнаваемости), составляющие материальные и духовные, объективные и субъективные торили ту самую «русскую колею», на которую мы вроде бы вернулись сегодня.
В-третьих, про «возвращение» на круги своя, в ту же самую русскую и советскую колею.
Говоря о «возвращении», мы предполагаем, что уже несколько раз — или, по крайней мере, хотя бы однажды — когда-то выходили из того места, куда снова возвращаемся. С обычным возвращением оно все так и бывает. Но здесь речь идет не о возвращении «как обычно», а именно о возвращении «по-русски». У нас, оказывается, можно лишь «вроде бы» вернуться. На самом деле «вернуться» по-нашему означает всего-навсего оказаться снова там, откуда, если присмотреться, никогда и не уходили.
Возвратных (попятных) движений в нашей истории, как и в любой другой, было несчетное множество: от реформ к контрреформам, от эпохи перемен к «застою», от «заморозков» к «оттепели».
Но у нас все продвижения при этом шли по тому же следу, в том же направлении. Собственно, это и есть то пятисотлетнее движение, которое, например, Чаадаев и Бердяев называли не продвижением вперед, а блужданием по кругу истории. Было несколько случаев, когда Россия в ходе такого своего исторического движения оказывалась как бы на пересечении двух дорог, идущих в разных направлениях, по одной из которых, казалось бы, можно было сойти с проторенного раньше пути.
С такого перекрестка, собственно, и начиналась история России как единого государства. Александр Зимин дал прекрасный образ «Витязя на распутье», который, казалось бы, мог еще пойти из удельной Руси в более свободную Россию. Но у «витязя» не хватило сил выбраться из тех скреп (насилие власти и подданство народа), что уже тогда сковали социум. И «витязь» пошел все той же дорогой — дорогой русского самодержавия, к которому вскоре добавилось крепостничество. Из переплетения этих двух базовых составляющих и получилась, в конце концов, «русская колея», она же — несвобода.
Истребленное общество. «Избиение младенцев» по-русски
Но самым красноречивым, самым, можно сказать, блистательным примером «вроде бы» поворота в нашей истории — даже не просто примером «вроде бы» выхода, но якобы грандиозным «исходом из колеи» — стал, конечно, 1917 г. Точнее — период с 1917-го до начала 1930-х годов. Тогда «вроде бы» не только вышли из нее, но и радикально порвали со всем тем прошлым, в котором она образовалась и по которому проходила. Вроде бы не только «до основанья» разрушили, но и выкорчевали все, на чем эта самая колея прокладывалась. Замах и замысел были действительно грандиозными: не только изменить общественное устройство страны, для чего предполагалось неизбежным и вполне естественным уничтожить миллионы одних и возвеличить миллионы других. Планировали еще отобрать у одних и передать другим все, что сложилось на тот момент как национальное достояние России. Замахнулись даже — для начала в пределах одной страны, а потом как получится — переделать вместе с общественным устройством, отношениями собственности и самого человека, составить его из заранее предусмотренных, «правильных и необходимых» для реализации Замысла качеств.
К сожалению, до сих пор не в полной мере и, к еще большему сожалению, очень немногие в России осознают, что же такое в действительности произошло в Советском Союзе. Что на самом деле случилось в том процессе, который потом обобщенно назвали «построением социализма».
На самом деле, если отбросить идеологическое и политическое словесное сопровождение, случилась попытка — чудовищная по своему реальному содержанию и по размаху — воплотить все тот же мессианский замысел о Москве как о Третьем Риме и о России, предназначенной стать «Царствием Небесным» на земле. Конечно, называлось все снова совсем по-другому.
Можно было бы о реальном содержании замысла и о размахе его реализации в данном случае специально не говорить. Но тогда останутся не до конца проясненными и главные сюжеты нашего разговора: «возвращение», «колея», «Русская система». Следовательно, останется нераскрытой и полная мера исторической ответственности за поворот в «русскую колею», лежащей на нынешних руководителях России и на всем поколении ныне живущих, кто слепо поддерживает выбор данных руководителей, — выбор, в какой-то мере продуманный, но не осмысленный.
Обычно, когда хотят сказать о самом страшном из всего, что произошло с Советским Союзом в ХХ веке, говорят о войне и о сталинских «репрессиях». Так уж отпечаталось в коллективной памяти представление о жертвах, которые нашему народу пришлось положить на алтарь отечества. Жертвами сталинских «репрессий» в этой памяти оказались те многие миллионы, которые попали в ГУЛАГ или были уничтожены, еще не дойдя до него, в ходе «мирного» «социалистического строительства». И эти жертвы — правда. Но только далеко не вся и, может быть даже, не основная правда.
Для Гитлера окончательным решением «еврейского вопроса» стало полное — поголовное — истребление евреев.
Для Сталина окончательным решением вопроса о «построении социализма» стало полное, повсеместное истребление социальности как таковой. Истребление социальности как выраставшей веками и накопившейся к ХХ столетию социальной дифференциации в российском людском сообществе, представленном на тот момент крестьянами, ремесленниками, торговцами, рабочими, людьми свободных профессий. А также — купеческими гильдиями, трудовыми артелями, ремесленными товариществами, церковными приходами, сельскими общинами, писательскими объединениями. Сталин, продолжая дело Ленина, добился окончательного решения «социального вопроса»: социальность как некий живой, очеловеченный слой земли на всей территории СССР, как некий человеческий гумус была полностью уничтожена. Вместо нее «партия и правительство» искусственно, рукотворно создали совершенно другой, выхолощенный советский социум исключительно из служащих государства, оплачиваемых по единому на всю страну государственному тарифу. Крестьянин и артист, земля и театр в статусном смысле уравнивались: они в одинаковой мере перешли в полную собственность государства как «совокупные ресурсы». Различие между людьми и вещами осталось лишь в том, что они попадали в разные категории ресурсов. Если одни зачислялись в трудовые, людские, административные, то другие — в материальные, финансовые, энергетические… Но те и другие оставались всегда всего лишь ресурсами, они одинаково: в цифрах, в тоннах, гектарах и человеко-днях — приписывались, планировались, закладывались, распределялись, перевозились, переселялись, а когда надо, и резервировались. Люди не имели ни прав, ни возможностей добровольно менять место работы — у каждого была трудовая книжка, а опоздания на работу или прогулы карались уголовным преследованием. Человек не имел права и возможности добровольно менять место жительства — каждого «прикрепили» постоянной пропиской. Крестьяне — они составляли больше половины всего населения — не имели вообще никаких прав и никаких возможностей, они не могли даже на несколько дней стронуться с места: у них вообще не было паспортов.
Построение социализма, если все назвать своими словами, а не «коллективизацией, индустриализацией и культурной революцией», — это реализованный замысел уничтожения всего человеческого во всем общественном устройстве. Это создание искусственного советского социума. Это глубокое травмирование всего российского (советского) людского сообщества.[1]
И вот теперь вернемся к тому же вопросу. Что перетянет по своему значению и по удручающим последствиям: миллионы сгинувших жертв сталинского террора или еще большие миллионы, оставшиеся навсегда нравственно изуродованными?
Главным последствием, основным результатом ликвидации российского социума, который и до 1917 г. был до крайности хрупким, слабо структурированным, не обретшим своих институтов, стала еще большая его атомизация и хаотизация: каждый сделался сам по себе, на коротком поводке полной зависимости от государства. Поводок-зарплата, лучше сказать, жалованье, на которые в городе не проживешь, а в деревне вместо зарплаты — «палочка»-трудодень, ничем вообще не обеспеченный.
При отсутствии права в качестве основы для общественной организации и при неистребимом у человека стремлении к выживанию таким основанием, или, иначе говоря, конституирующим типом связей между людьми, становится самоорганизация. После истребления нормальных, эволюционным путем наработанных форм социальной организации и институтов самоорганизация вполне естественно развивается в обход устанавливаемых запретов и в конце концов утверждается в виде всеобщей («системной», как теперь любят неосмысленно повторять) преступности и коррупции.
С ликвидацией социальности в том ее виде, в каком она сформировалась в России к ХХ веку, строители социализма пробудили и вызвали к жизни все самое худшее, что есть в человеке и что составляет его природную основу, — его животные инстинкты и эгоизм
И теперь снова тот же вопрос, но теперь уже именно в такой формулировке, с которой неизбежно оказываешься в пустоте, зияющей оттуда, откуда я уже указал: от власти, народа и «мыслящего класса», — то есть, по существу, в полной пустоте. Если все, что проделали под названием «построение социализма», совсем не предназначалось разбудить в человеке зверя (примем разбуженное зверство как побочный, непредусмотренный и нежеланный продукт), тогда что же было в качестве путеводной звезды, заветной цели? Светлое будущее? Счастье для всех, «кисельные берега»? Для многих, даже для большинства привыкших жить нерассуждающим разумом, так оно и было. Традиционалистское, мифологическое мышление остается не только основой, но и всем содержанием их сознания.
Ну, а Сталин — как он, каковы его устремления при этом? Традиционализм и мифологический способ мышления были не чужды и ему. Более того, все писавшие о присущей большевизму мировоззренческой религиозности, бесспорно, имели для этого серьезные основания. Речь даже не о религиозности — как, например, для Ленина с его телеологическим мировидением вообще и своеобразными представлениями о мессианской предназначенности России в частности. У Сталина общие, свойственные христианству в целом религиозные представления конкретизировались как православные. Он уже мыслил Советский Союз как продолжение линии, идущей от Москвы еще той поры, когда она, во времена Великого княжества Московского, только что встала на путь строительства русской православной империи и, продолжаясь дальше через Московское царство, петербургскую Империю, пришла к его, сталинскому, Советскому Союзу. Сталин, безусловно, хорошо знал идеи русских самодержцев, представлял, как каждый из них видел будущее России, как каждый из них, начиная с Ивана III, видел ее «миссию», «божественное предназначение». Ему, конечно, были хорошо знакомы и конкретные планы на сей счет: например, проекты Сперанского, «греческий проект» Екатерины II, проекты Уварова, выраженные в формуле «православие — самодержавие — народность», проекты Александра II, Витте, Столыпина. Во всех перечисленных конструкциях не просто так или иначе присутствует идея «Москва — Третий Рим» — они все основаны на ней. Иногда, правда (как например, в «греческом проекте» Екатерины), она приходит в Москву напрямую из античности. Но главным в этой идее всегда были не ее истоки, а целеполагание: Москва как спасительница христианской веры и как место воплощения Царствия Небесного — а также указание главных путей, ведущих к достижению заявленной цели: Балканы, Проливы, Константинополь, Индия.
Вовсе не случайно с этой пронизывающей всю нашу историю идеей — даже более определенно: с идеей, делающей осмысленной всю нашу историю, — я связываю и такую грандиозную (в том числе по своим последствиям) проблему, как ликвидация российской социальности и создание на ее месте искусственного советского социума.
Дело в том, повторюсь, что вся наша история — история внешнеполитических аннексий вместо внутреннего обустройства. А поскольку ресурсов на такую непрекращающуюся аннексию всегда не хватало, власть выбивала их из страны силой. Когда требуется выбить буквально все, что есть, нужна не только огромная сила, но еще и абсолютное подавление любого недовольства и сопротивления. Вот откуда принципиальное: государство, а не личность. Отсюда же — самодержавие, крепостничество, ордынство, империя…
Но все-таки, когда есть социальные сообщества — крестьяне, рабочие, — всегда останется основа для сопротивления. Сталин впервые в мировой практике находит кардинальное решение и данной проблемы: не налаживать отношения с различными социальными сообществами, не вступать даже с ними в какие бы то ни было отношения, а просто-напросто ликвидировать сами эти социальные сообщества и превратить всю страну в страну одиночек, напрямую и абсолютно зависимых от государства. Тогда исчезают самая потребность и принципиальная возможность каких бы то ни было объединений, политических партий, профсоюзов. А когда отношения между государством и человеком насильственно и произвольно устанавливаются напрямую как отношения господства и подчинения, отпадает и самая потребность в правовом регулировании таких отношений. Суды становятся принципиально ненужными, ненужной — так же принципиально — становится и политика.
В ходе НЭПа Сталин убедился: сделать такой рывок (у его эпигона Мао — «Великий скачок»), на который у других ушли многие десятилетия или несколько столетий, за несколько лет с таким народом, как в России, нельзя. Не менее ясно ему было, что схватка с другими субъектами мировой политики неизбежна: государство, замешенное на мессианской идее, без конфронтации и решающей сшибки с другими немыслимо. Следовательно, для Сталина рывок все-таки был необходим — любой ценой, иначе смерть такому государству. И он решил, чтобы рывок все-таки сделать, — заменить народ.
Рывок получился, а замену народа потом нарекли «построением социализма».
Исходная точка. Magna Charta и Яса Чингисхана
Характер и тип русской власти — столь же важный системообразующий элемент «русской колеи», как вечная война, сопровождаемая постоянной и повседневной милитаризацией, и как православие. Говоря современным языком, на одной стороне своей визитной карточки наша власть могла бы написать «насилие», а на оборотной — «оккупация», поскольку относится к населению собственной страны как к чужому, оккупированному. На становлении и утверждении такого типа власти на Руси, а потом и в России сказалось многосотлетнее, если не многотысячелетнее соседство на огромных просторах нашей прародины двух разных культур — «Леса» и «Степи», кочевого скотоводства и оседлости, воинов и хлебопашцев, а также феномен, вошедший в историю под названием Золотой Орды. В итоге контактов этих двух очень разных типов культур, после многочисленных войн и обоюдных заимствований, после противоборств, заговоров, измен, покорений и завоеваний сначала в Московии, а затем в России оказался более конкурентоспособным и восторжествовал тот тип власти, который принесли с собой кочевые народы — скотоводы и воины. Подобный тип власти следовало бы определить как ордынский: он столь круто замешен именно на нашей отечественной истории, что стал нашим. Ему, кроме упомянутых записей на визитке, неотъемлемо присущи моносубъектность (то есть самовластие), монолог вместо диалога, низменный диктат вместо переговоров, незнание компромисса, неприемлемость соглашения, договора как средства общения и, наконец, манихейство — отсутствие того, что Н. Бердяев называл «серединной культурой».
Расхождение Европы и России по двум цивилизационным направлениям, о котором как об историческом явлении заговорили на языке науки в XIX веке, началось много раньше. С некоторой долей условности можно сказать, что начала подобного процесса надо искать еще на протороссийском пространстве, а последствия его в виде двух разных направлений социальной динамики просматриваются уже с тех времен, когда на этом пространстве соседствовали Русь Литовская и Русь Московская. Их сосуществование и соперничество завершились — под влиянием Орды и ордынства — победой Московии и формированием на ее основе России.
Если предельно кратко определить главное, что различает эти два направления, то в одном случае им будет зарождение, а потом продолжительное становление свободы личности, а в другом — становление такого социума, в котором пространство для зарождения и становления личности неуклонно сужалось.
В одном случае — английские Magna Charta Libertatum («Великая хартия вольностей») и Habeas Corpus Act, в другом — «Великая Яса» Чингисхана. В одном случае — первичность личности и общества, в другом — государства и других институций. Вытекающие отсюда цивилизационные оппозиции можно перечислять дальше до бесконечности: демократия против авторитаризма, соглашение против насилия, диалог против моноцентризма, договор против произвола, горизонтальные связи в обществе против вертикали власти и т. п.
Мagna Charta датируется 1214 г. (то есть она была подписана за два десятилетия до вторжения Батыя на Русь). Целая группа свобод защищает в английском праве личность от государства. Свобода от произвольного ареста и наказания, от оскорбления, грабежа и насилия со стороны органов власти определяет содержание конституционных гарантий, за которые велась многовековая борьба с монархией. Такие гарантии нашли свое выражение в акте-символе, известном как Habeas Corpus.
Свою «Великую Ясу» Чингисхан обнародовал в 1206 г. Свод законов, определивший жизнь Орды, содержал преимущественно перечень наказаний за тяжкие преступления, а буквально «яса» означает по-монгольски «запрет».
Если ко всему этому добавить: утвердившийся и господствующий в России тип мыслительных привычек и стереотипов; тип социальной динамики, который нацеливает человека и конкретно-исторические человеческие сообщества преимущественно на воспроизводство ранее сформировавшихся ценностей, устремляет эти сообщества к идеалам прошлого, к господству прошлого над настоящим и будущим (и в культуре, и в социальных отношениях), — если учесть все это, а также и другие архетипические свойства русской культуры, то, может быть, сегодняшний разворот страны в ее русское и советское прошлое обретет хотя бы некоторое культурологическое, а не только сугубо конъюнктурное, обусловленное интересами путинской власти прагматическое объяснение?
Или другой, казалось бы, более отдаленный от культурологи вопрос: почему никак не получается диалог России и Европы о нашем с ней общем или совместном будущем?
Потому что мы озабочены совершенно разными реалиями и к тому же озабочены ими совершенно по-разному.
Разумеется, и в Европе не все озабочены и думают одинаково и исключительно об одном и том же — иначе у нее не было бы проблем со своей идентичностью. Евросоюз в последние годы расширился в два раза, его члены по-разному смотрят на европейскую перспективу, в частности, Турции и вообще на критерии «европейскости». «Старая Европа» непросто принимает «новую», едва-едва идет процесс выработки европейской Конституции и т. д. Тогда что же значит «о разном и по-разному» для нас и для Европы?
Европа переживает в первую очередь опыт, кризис и уроки ХХ века: европейские революции и распад колониальных империй, экономические кризисы, две мировые войны и локальные войны, «холодная война» и Карибский кризис. Словом, предмет европейской озабоченности — конфронтации, конфликты и, главное, способы их преодоления. Отсюда для Европы главный вопрос и основное направление поиска: из сегодня в будущее и — как жить вместе. Россия, однако, никак не может пережить окончание ХХ века, собственную «геополитическую катастрофу», распад СССР, и главные вопросы для нас: как не допустить дальнейшего расползания постсоветского пространства (включая собственно российское) и как обрести свое былое — то же «лидерство» России, но уже в современном мире. То есть Россия, как и Европа, озабочена реалиями прошлого, но если Европа озабочена тем, как преодолеть реалии европейского прошлого, как от них уйти, то Россия — тем, как к реалиям «войны миров» вернуться, как их обрести в новых условиях.
Слепые поводыри слепых
Как ни парадоксально для начала XXI века, Россия до сих пор не обрела себя как людское сообщество. Даже выйдя из непостижимо ужасного для нас ХХ столетия, потеряв в нем насильственно вычеркнутыми из жизни десятки миллионов (по некоторым подсчетам — около ста миллионов!), мы покинули и его, не распрощавшись с ним.
Не поняли, не осознали, не ужаснулись.
И это немудрено. Поскольку уцелевшим и вновь нарождающимся миллионам на всем российском пространстве для самостоятельной жизнедеятельности к XXI веку вообще уже не осталось места. Все просторы России за пять столетий войны самодержавия с собственным населением превратились в сплошное пространство власти. В таких условиях обретать себя, осознавать себя оказалось уже некому. Людское сообщество, как некая живая субстанция, лишено какой бы то ни было самостоятельности и субъектности, в нем уничтожена сама способность к рефлексии. Моносубъектом стала власть. Но и она, будучи инородной субстанцией по отношению к населению, оказалась способной лишь действовать, но не осознавать себя и свои действия. То есть в качестве моносубъекта в социуме власть может действовать и продолжает действовать, до сих пор руководствуясь лишь нерассуждающим разумом.
В самом конце ХХ века волею судеб, а не по причине чьей-либо субъективной воли, советская власть рухнула из-за своей трухлявости, и Советский Союз развалился из-за своей неестественной, ставшей совсем неуправляемой громоздкости. У России снова появился исторический шанс.
Именно исторический, потому что в России никогда раньше не было гражданского общества и никогда не было политической жизни. Они случались иногда в качестве зачатков, на переломах истории, и то лишь как кратковременные эпизоды, как возможные антиподы самодержавия. Но поскольку в качестве нормы для «Русской системы» они были не нужны, эта система и воспринимала их всегда чем-то чужеродным, и следовательно, предвестием грядущей беды. Неслучайно первый такой перелом в начале XVII века, когда едва только обозначились первые образования гражданского общества и начиналось нечто, издалека похожее на политику, вошел в русскую историю под названием «Смута». С тех пор так и повелось: любые внесистемные явления и уж тем более, не приведи господь, противосистемные воспринимаются еще на подсознательном уровне всеми внутри Системы как кара небесная, как разбушевавшаяся стихия. В «Медном всаднике» у Пушкина — это Нева, вышедшая из своих берегов и ворвавшаяся в не принадлежащее ей и не предназначенное для нее пространство. У Гершензона в «Вехах», как и у всей русской интеллигенции начала ХХ века — это гнетущее, внушающее смертельный ужас ощущение пропасти, отделяющей ее от народа: «Между нами и нашим народом — иная рознь. Мы для него — не грабители, как свой брат деревенский кулак; мы для него даже не просто чужие, как турок или француз: он видит наше человеческое и именно русское обличие, но не чувствует в нас человеческой души, и потому он ненавидит нас страстно, вероятно, с бессознательным мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, что мы свои. Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». Для Солженицына — тоже для человека Системы — начинавшиеся в конце 80-х — начале 90-х годов политическая жизнь и образования гражданского общества ассоциировались с «балаганными одеждами» Февраля семнадцатого, к которому он, в свою очередь, как к явлению русской истории относился с негодованием и брезгливостью. Для сегодняшних наших системных «либералов» самая ужасная перспектива — по-настоящему свободные выборы: ведь в результате таких выборов, если их допустить, к власти, по мнению «либералов», непременно придут левые.
Все эти примеры из разных времен объединяются единым временем существования «Русской системы», для которой гражданское общество и политика — бедственная стихия, внушающая страх и тревогу. Эти примеры свидетельствуют об одном и том же: будучи включенным в Систему, человек — хоть президент, хоть научный консультант или рядовой обыватель — не может быть свободным. А расщепленность духа у включенного в систему человека предстает как оторванность его сознания от его жизни. Условия существования человека, внешние обстоятельства жизни сковывают его настолько, что он становится всецело поглощенным этими внешними по отношению к нему обстоятельствами, и ему уже не до самосознания, не до постижения и разумного определения своего места в жизни и своего отношения к окружающему миру.
Неслучайно исторический шанс, выпавший на долю России в конце 80-х — начале 90-х годов, оказался всецело упущенным. А шанс вырваться из проторенной столетиями колеи и освободиться, наконец, от сдавливающей страну самодержавной матрицы властвования был.
Участникам событий того времени не только не удались необходимые для продвижения в этом направлении целенаправленные действия — они не смогли даже осмыслить и понять, что же на самом деле тогда происходило. Тем не менее те события были объявлены пришедшими к власти с Ельциным «демократической революцией». Себя новые руководители определили, разумеется, «демократами», «либералами», а для страны объявили начало новой эры в ее истории. Все подобные определения, самоидентификации и декларации нашли в той или иной мере отражение в различных законодательных актах, в том числе в Конституции: они приобрели как бы официальный статус, юридическое оформление. Были осуществлены и некоторые конкретные шаги — главным образом, в сферах экономики, финансов, технологий. Иначе говоря, реальные перемены произошли лишь в малом числе областей непосредственного обеспечения жизни, но вовсе не затронули сами основания общественного устройства. Они совсем не коснулись сущности главного системообразующего элемента российского устройства — власти, ее роли, конструкции, функций и основных ее опор насилия и репрессий: армии, судебной власти, правоохранительных органов, политической полиции, системы образования и т. д. Власть по-прежнему, как в советские и досоветские времена, по своей сути оставалась ордынской, никак не зависящей от населения, не уравновешенной и не контролируемой никакими общественными силами или институтами, руководствующейся лишь собственными материальными интересами и стремлением к самосохранению.
Вместе с тем все происходившее тогда, несмотря на реальное содержание, мыслилось и преподносилось общественному мнению в парадигме перехода от советского тоталитаризма (авторитаризма, диктатуры) к демократическому государству. До населения России с гордостью доводили западную ориентацию новой власти, необходимость вестернизации страны и утверждали, что таким образом Россия якобы вписывается в общий, присущий всем странам Центральной и Восточной Европы переход к представительной демократии, гражданскому обществу и к рыночной экономике.
Неосознанность действий властной элиты и неосмысленность происходящих событий, включая передачу власти Ельциным его наследнику Путину, выразились, в частности, в том, что, непрестанно декларируя свой демократизм и провозглашая либеральные ценности, наша властная «элита» фактически — хотя бы и преимущественно инстинктивно и совершенно не артикулировано — действовала всецело и исключительно в интересах бывшей советской бюрократии, занявшей и после крушения советской власти ключевые позиции в общественном устройстве. Внешне, на поверхностный взгляд, и даже формально, «новая» «элита» пришла к власти на основе всеобщей поддержки в результате всенародных выборов. Она оказалась на гребне мощной волны, всколыхнувшей общество во время «перестройки», когда российские люди, в очередной раз погрузившись в глубокий кризис материальных невзгод и нравственных переживаний, испытали страстное желание порвать с прошлым, выйти из состояния постоянного безденежья, пустых прилавков и унылой повседневности. С этими своими ощущениями мы оказались на улицах и площадях в состоянии поголовной эйфории, воодушевленные предстоящими изменениями, полные энтузиазма и надежд. И проголосовали за Ельцина.
Но уже и тогда не мы правили бал. И всенародный флер, и всеобщее «волеизъявление» стали не результатом осознанных действий общественно организованных людей, не воплощенной волей свободного человека, а скорее ритуальными движениями человека-массы, которому надо быть непременно со всеми вместе, думать, как все, выкрикивать одни и те же лозунги и непременно на виду у всех. В таком своем качестве — как толпа (и я там был…) — мы оказались в конце 80-х — начале 90-х годов ширмой, за которой крот истории глубоко и давно уже копал свои ходы.
Во второй половине 80-х и в 1990 г. были приняты одно за другим настолько важные правительственные решения, что в ходе их реализации существенно поменялся социально-экономический и, как выяснилось позднее, весь нравственно-правовой — опять же лучше сказать, бесправный — пейзаж СССР. Но сказать столь же определенно о направленности данных перемен, об общем векторе продвижения всего, что было заключено в границах всей их громадины, тем более попытаться подвести их общий экономический, политический, нравственный итог, хотя бы и в самом общем виде: это все-таки был плюс или сплошной минус? — довольно сложно. Не потому сложно, что непонятно, а, наоборот, потому что очень даже понятно, но настолько мрачно и даже непристойно, что назвать все своими именами и адресовать всему людскому сообществу, хотя бы и на одной шестой, отдельно взятой части земли, — язык не поворачивается.
В самом общем определении речь идет о продвижении от очень плохого к худшему и о создании основ того самого общественного устройства, которому посвящена вся эта статья. Окончательно сформировавшись в первом десятилетии XXI века, оно уже заняло свое место в мире. И таким местом стало пространство не только за гранью закона и преступления, но за гранью Добра и Зла. Получился принципиально новый общественный феномен не только с точки зрения государственности, но также с точки зрения экономики, права и морали.
А творился подобный оригинальный феномен с участием миллионов, даже десятков миллионов наших сограждан. Собственно, здесь-то и проблема. Казалось, что порочность советского социума — уже была запредельна. Но то, что выросло с середины 80-х по сей день, стало очередным свидетельством: нет предела совершенству, и дальнейшее продвижение к худшему тоже возможно. Однако даже и такой парадокс не есть свидетельство природной испорченности человека — он лишь еще одно из проявлений рукотворно изуродованной — сталинизмом — социальности. Чтобы это стало понятным, приходится вникать в детали. Дьявол, как обычно, — в них.
Основными решениями, заложившими фундамент нового общественного устройства, стали следующие: закон об индивидуальной трудовой деятельности (ноябрь 1986 г.), постановления Совета министров о кооперативной деятельности (февраль 1987 г.), Закон о государственном предприятии (июнь 1987 г.), Закон о кооперации (май 1988 г.), основы законодательства об аренде (ноябрь 1989 г.). Несколько позже, в 1990-м — но все еще тоже при коммунистах — появились законы о собственности (в марте в СССР и в декабре — в РСФСР) и положения об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью (постановление Совмина СССР от 19 июня 1990 г.), а также о предприятиях и предпринимательской деятельности (российский закон, принятый 25 декабря 1990 г.). В апреле 1990 г. учреждается Московская товарно-сырьевая биржа (с 16 октября 1990 г. — Российская товарно-сырьевая); в мае 1990 г. была зарегистрирована Московская товарная биржа.
Все эти законы и постановления никаких даже деклараций о каких бы то ни было изменениях общественного устройства, разумеется, не содержали. Они вроде бы ограничивались тем, что позволяли руководителям предприятий и инициативным людям осваивать новые способы хозяйствования в рамках вполне еще социалистической экономической системы.
По сути дела, предлагалось не менять отношения собственности, то есть отношения хозяйственной, экономической власти. Самым смелым из всех нововведений была аренда. Но и она оставалась лишь «расширением самостоятельности», «полным хозрасчетом», а говоря нормальным языком — продолжением старого пути, когда реальный и полновластный хозяин собственности (отраслевое ведомство) разрешает определенные вольности своему наемному работнику — трудовому коллективу.
И кооперация конца 80-х — вроде бы совсем еще никакая не приватизация. Кооперативы стали создавать из числа работающих по найму на государственных предприятиях, но на основе арендуемой государственной собственности тех же предприятий. А самые кардинальные вопросы: что означает «на основе»? на кого возлагаются проблемы инвестирования? как и между кем распределяются доходы и прибыль? — никто юридически не прояснил. Так закладывалась база для поголовного и практически узаконенного воровства.
Именно подобная непроясненность оказалась сутью всех перечисленных решений. Очень быстро, уже к 1990 г., огромная сеть «вроде бы» кооперативов стала на самом деле средством фактической приватизации и растаскивания государственной собственности при квазилегальном оформлении данных процессов. Между кооперативами, директорами предприятий, руководителями министерств и ведомств очень быстро наладились устойчивые неформальные связи и взаимоотношения, и кооперативы вместе с арендой превратились в узаконенный способ обналичивания бюджетных денег. Возникала среда для формирования всевозможных автономных «схем», закрытых клановых образований, мафиозных группировок. Фактически решения власти санкционировали структурирование населения на криминальной основе.
Самым тяжелым по своим последствиям оказался Закон о предприятии, он фактически ликвидировал государственные способы капитализации прибыли до создания каких-либо альтернативных. Его результатом стала серия необратимых и взаимосвязанных явлений и событий: непомерный рост личных доходов, инвестиционный голод и истоки инфляционного взрыва. Пиком реализации Закона о предприятии стали выборы директоров. Инфляционный эффект данной меры, вылившейся в перекачку средств из фондов накопления в фонды потребления, с инвестиционного рынка на потребительский, трудно переоценить. Введение Закона о предприятии еще долго сказывалось и в кризисе неплатежей, и в раскручивании инфляционной спирали.
Теперь, когда спустя двадцать лет не только становятся очевидными ошибочность и принципиальная недостаточность принятых тогда решений, но высвечиваются и все ужасающие последствия допущенных ошибок, приходится все больше задумываться об их причинах, о мотивах и образе мыслей людей, принимавших столь пагубные решения. И первое, что приходит в голову, — избитый штамп: некомпетентность партийно-государственной элиты того времени, ее неграмотность, нежелание прислушиваться к «высоколобым» ученым мужам. Сыграли свою роль и уникальность ситуации, никогда и нигде невиданные масштабы кризиса, многослойность, комплексность, взаимопереплетение экономического, социального, национального. Все это так, и все это, безусловно, усугубило ошибочность принятых решений. Однако это не исчерпывающие и, скорее всего, даже не главные причины: с Ельциным пришли к власти и принимали решения самые что ни на есть «высоколобые» и вроде бы очень неплохо образованные люди, а ошибочность их решений по размаху и удручающим последствиям, по крайней мере, вполне сопоставима с тем, что делала полуграмотная и некомпетентная в финансовых вопросах номенклатура КПСС в 80-е. Нет, дело все-таки не в недостаточном профессионализме — особенно если учесть, что специалистов по всеобщему благу не бывает и быть не может.
Причины пагубных решений надо искать в неумении тогдашних руководителей нестандартно думать в нестандартных условиях, то есть просто-напросто в неумении думать вообще. А это, в свою очередь, тоже одно из важных следствий (если не важнейшее) сталинской десоциализации общества посредством истребления творчески мыслящих интеллектуалов. К тому же истреблением интеллектуального гумуса дело не ограничилось. За годы сталинских и прочих пятилеток на месте истребленной почвы была создана особая среда, в которой выросла умелая, весьма даже способная плеяда «правильно мыслящих» интеллектуалов-специалистов. Вот они-то и принимали отягощенные такими последствиями решения.
Государственных руководителей 80-х и 90-х годов, как, впрочем, и сегодняшних, несмотря на вроде бы радикальные перемены политических декораций в данном временном промежутке, в подобном смысле роднят и делают совершенно однотипными в одинаковой мере присущие им всем два основных качества — правовой нигилизм и аморальность. Salus revolutiae suprema lex.[2] А вот уж «благо революции» они понимают всяк на свой вкус…
Любые решения, любые деяния властей во все рассматриваемое время можно разбирать, перебирая по косточкам все их экономические, геополитические, патриотические и прочие соображения и обоснования, но всегда если не на поверхности, то на донышке откроются эти два родовых их качества, объясняющие все до конца. Именно они, такие качества, стали преступной основой самих властей и создали необходимую среду для криминализации всего социума.
Российская власть и российский «мыслящий класс» (вместе с обслуживающей «творческой интеллигенцией»), как становится все более очевидным, сделали сегодня исторический выбор. Этот выбор — разворот (не по форме, разумеется, а по существу, как некий вектор) в русское и советское прошлое: туда, где не было личности, где всё и вся подавлялось государством, где не было места политике, гражданскому обществу, праву, частной собственности, свободе. Такой разворот неизбежно приведет Россию к очередной и теперь, скорее всего, последней катастрофе. Движение в прошлое — хотя бы и «светлое», как устремленность к какому-то идеалу, — без движения в будущее долговременным и благополучным не бывает.
Конец «сырьевой сверхдержавы». Или просто — конец?.
Все вышеизложенное — размышления об исторической ответственности, которую, хотели они того или нет, возложили на себя Ельцин и Путин в согласии с большинством ныне живущих, когда:
— сначала оттягивали не терпящие отлагательств преобразования российской и советской традиционности и тем самым не использовали возможность для России выйти из ее исторической колеи;
— потом обеспечили нерасчлененность и приватизацию власти и собственности — включая недра земли — советской номенклатурой, ее родственниками, знакомыми и знакомыми знакомых и тем самым заложили основания корпоративного (олигархического, патримониального) государства.
Наконец, уже в путинские времена, правящие круги снова уверовали (или прикидываются, что уверовали) — нефтедоллары ударили в голову — в нереализованную «особость» нашей державы и решили (не декларируя, правда, этого открыто и членораздельно), что Россия по-прежнему наделена некоей «миссией», что она по праву претендует на вселенскую роль, а потому должна не только восстановить свое влияние на постсоветском пространстве, но и приступить к формированию единого фронта всех альтернативных антиамериканских сил во всем мире, включая исламские страны, включая какие-то страны континентальной Европы, Китай, Латинскую Америку, а также страны Азии и Африки. Только с учетом подобной — еще не объявленной, но уже ставшей реальностью — стратегии становятся объяснимы важнейшие внешнеполитические демарши России последнего времени в ближнем и дальнем зарубежье.
Здесь надо сделать важную оговорку: существенное различие между прошлыми и нынешними русскими империалистами, по-моему, состоит в том, что прошлые — включая, вероятно, Сталина — отождествляли с империей себя лично: как помазанников Божьих либо как персонифицированную глобальную коммунистическую идею, — и, соответственно, искренне претендовали на глобальную роль России. Нынешних же «Государство Российское» интересует только как инструмент воровства: во всероссийском, а лучше глобальном объеме, — и они совершенно точно знают, что все их претензии на глобальную роль только имитация или даже просто блеф. А цель настоящего блефа — всего-навсего обмануть партнера по игре в покер, как этот покер ни называй, хоть мировым рынком.
Тем не менее — независимо от того, искренняя она и или циничная, — такая стратегия потребовала разворота и внутри страны. Он был осуществлен, но его последствия до сих пор не осмыслены и не просчитаны, а потому и расплата за него всей стране предстоит очень жестокая.
Здесь снова приходится ловить себя на слове. Убежден, не у меня одного по-прежнему осталась путаница в голове — мы смешиваем то, что в нашей жизни всего лишь декларируется, объявляется как уже сделанное, преподносится как уже воплощенное, и то, что «на самом деле». (Культурологи, говоря про полный уход зрителя и читателя от окружающей жизни в вымышленный мир фильма или книги, употребляют термин «вторая реальность».) Снова убеждаешься: до сих пор есть Россия видимостей и есть Россия сущностей. Я только что сам написал слова «стратегия», «разворот» — как если бы то, что стоит за каждым из них, было или есть в действительности. А это вовсе не так, и не просто в каких-то мелочах. Подобное «не так» проходит по всему живому телу России — по тому, что от него еще осталось, — и затрагивает буквально каждого из нас.
Не было никакой демократической революции в 91-м. Грандиозное крушение социально-политического монстра и свой персональный приход к власти в ходе или в результате такого крушения можно, конечно, объявить какой угодно революцией.
Не было никогда никаких ни демократов, ни либералов у власти в 90-х. Ельцин — никакой не демократ, и Чубайс с Гайдаром — никакие не либералы. Они все и иже с ними духовно, интеллектуально, нравственно — продолжение и воплощение советской номенклатуры.
И никакого транзита из русско-советского авторитаризма к европейским демократиям тоже не было. Вместо продвижения по восходящей, которое как бы подразумевается здесь под словом «переход», в России продолжается — как убедительно показывают наиболее вдумчивые исследователи (в частности, социологи из Левада-центра) — разложение русской и советской системы властвования и деградация искусственно созданного сталинского социума. Однако переход, с одной стороны, к более высокой и сложной социальной организации, а с другой — разложение ранее существовавшей архаичной системы — две принципиально разные траектории социально-политической динамики и нравственно-психологического состояния общественного целого. Это такая же по сути своей разница, как если бы на погребальной службе вместо полагающегося в таком случае «за упокой» священник вдруг грянул бы, не видя происходящего, не ведая, куда он попал, «во здравие».
Вместе с тем хотя Переход — с заглавной буквы — к демократиям западного типа и не вписывается в основную парадигму постсоветской динамики России, оснований, для того чтобы осмыслить и концептуально переформулировать весь комплекс проблем, относящихся именно к российскому типу динамики постсоветского времени, более чем достаточно.
Прежде всего подобный тип социальной динамики принципиально нельзя увидеть и понять, глядя на него в упор, в отрыве от советского и от досоветского российского прошлого. Континуум, непрерывность здесь столь же важны, как и умение на основе прерывности рассмотреть привходящее, единичное, неповторимое. Иначе говоря, важно зафиксировать момент встречи: а) реалий из многовековой русской истории, б) реалий из ее «укороченного» советского столетия — со всеми теми реалиями, что пришли в нашу жизнь с «лихими девяностыми». Кроме того, данный тип социальной динамики можно рассмотреть и понять только как совокупность социального, экономического, политического, психологического и исторического. Социологу, например, или экономисту одному (если он в то же время не социальный психолог) здесь делать нечего.
Содержание и направленность постсоветской социальной динамики определяется тем, что на момент крушения Советского Союза в России не было институтов гражданского общества и не было их политической организации. И что особенно важно подчеркнуть, не было и осмысления самого факта отсутствия подобного типа институтов и их соответствующей организации. При допущении, а потом (после 91-го года) и легализации институтов рыночной экономики, частной собственности, при ликвидации железного занавеса произошло наложение таких современных социально-экономических институтов на традиционалистскую политико-административную «Русскую систему», а дальше события стали развиваться самотеком, стихийно. Развивались они именно туда, куда они и могли развиваться стихийно и самотеком: в сторону примитивизации и архаизации всех общественных отношений и государственного устройства. В итоге на сегодня уже довольно отчетливо вырисовываются основные (хотя и весьма расплывчатые) очертания этого почти двадцатилетнего соединения несоединимого — не то мутант, не то химера. «Два в одном» — корпорация-государство и патримониальное государство. Причем слово «государство» фигурирует в данном случае сразу во всех его российских смыслах: и правительство, и власть во всех ее видах, включая судебную, и страна, режим, общественное устройство, и даже собственно Россия.
Корпорация-государство проявляется в том, что национальные, социальные и экономические интересы всей страны сложившееся образование ставит в зависимость от ведомственных, корпоративных интересов. Приоритетом номер один становится — не национальная безопасность, не социальная обустроенность, не здоровье людей, а — частная прибыль корпоративного капитала. Превращая власть и собственность в нерасчлененную субстанцию и приватизируя их в такой их нерасчлененности, корпорация-государство со всей его административно-аппаратной мощью, со всеми его министерствами и ведомствами превращается в насильственную инстанцию, становится по существу еще и корпоративно-репрессивным государством.
Патримониальность нашего государства выражается в том, что именно на российской почве наиболее наглядно сбылось предвидение Макса Вебера: Россия стала страной воплощенного «капитализма родственников и друзей» (crony capitalism), при котором власть передается по наследству. Государственная машина в еще большей мере, чем советская, насквозь пронизана связями между этими самыми родственниками и друзьями, для которых государственная служба означает в первую голову реализацию своей частной собственности. Основными источниками доходов нашего патримониального чиновничества становится не жалованье, не оклад, а доход от капитализации их формально-бюрократических функций. На всем постсоветском пространстве наиболее наглядно, можно сказать, плакатно-выразительно, «патримониальные султанистские» (термин М. Вебера) правления представлены в Закавказье и в Средней Азии — в частности, в Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Туркмении, где некоторые персоналистские режимы и диктатуры уже объявили себя властвующими навечно. Но и в России вектор социально-политической динамики устанавливается в том же направлении. Он просматривался уже в переходе Ельцин—Путин и совершенно раскрывается как в телодвижениях Путин—Медведев—Путин, так и в только что принятых решениях о продлении законных сроков работы президента и парламента. Никакой загадочности и таинственности во всех этих вроде бы хитросплетениях и срочностях нет. Они — лишь проявления озабоченности нынешних наших держателей власти и капитала своей собственной незаменимостью и вечностью. То же самое происходит и на региональном уровне. Если Лужков и Шаймиев заговорили вдруг о необходимости вернуться к выборности губернаторов, только безнадежно испорченный наивностью может усмотреть здесь их неожиданно проснувшийся якобы глубоко укорененный демократизм. Они прекрасно знают, во что они превратили выборы, и еще больше, чем «федералы», пекутся о своей несменяемости. Никак нельзя им расстаться с властью-собственностью. Только по наследству и желательно только после смерти.
Но, пожалуй, главное, что заслуживает особого совокупного внимания в данном типе социальной динамики, — уникальное, как мне кажется, соотношение власти и населения, сформировавшееся за всю историю русской цивилизации и доведенное до предельного состояния в его специфике именно в постсоветское время. Тот факт, что «спецслужбы» и «органы» оказались на самой вершине властной пирамиды, раскрывает предельные параметры властвования в социуме, основанном на насилии. Враждебная, взаимоубийственная нераздельность — так, мне кажется, можно в самом общем плане определить специфику русских взаимоотношений власти и населения.
Самый главный итог подобной смертельной связки — опять же по результатам многолетних исследований Левада-центра — выработанная у населения способность адаптации к насилию в любых условиях. Аморальность населения. Это не означает, разумеется, что буквально каждый и каждодневно делает подлости. Но это значит, что практически каждый при определенных условиях готов их сделать. А власть, будучи совершенно независимой от населения и абсолютно никак не подконтрольной ему, «отвязалась» настолько, что стала уже (или осталась) вполне патримониальной. При Путине она окончательно обрела сегодняшнюю форму, основанную на частном владении и управлении государством как приватной собственностью — по примеру того, как землевладелец распоряжается своей вотчиной. Иначе говоря, власть превратилась в этакую Салтычиху во всероссийском масштабе, с триллионами в кубышке и к тому же размахивающую атомной бомбой. Дескать, знай наших. Патримониализм как форма организации социума пропитывает всю российскую политико-административную систему, которая формально строится на рационально-легальных отношениях
В первые годы после краха СССР реформы в России мыслились пришедшими тогда к власти людьми как замена советского устройства образцами организации (государственной, правовой, экономической, политической и т. д.), заимствованными у западных государств. И предполагалось как само собой разумеющееся, что в результате одной лишь такой замены мы обеспечим переход к обществу с представительной демократией, со свободной рыночной экономикой, к учреждению «социального государства». Но при этом отношение к западным образцам осталось примерно таким же, каким было отношение Петра I к устройствам голландских верфей или министерств: как к красивым побрякушкам, которые можно где угодно взять и куда угодно положить; конкретная форма не воспринималась как конечный результат длительной эволюции социального. Или как, например, у Солженицына. Он страстно ненавидел большевизм, неистово с ним боролся и тем самым заслужил безграничное уважение современников и вечную память потомков. Но он не увидел в ГУЛАГе итог длительной эволюции русского имперского насилия — и за подобную незрячесть получил награду от гэбэшника Путина и был удостоен пышных похорон «по первому разряду» от наследников русской империи
Из-за инертности российского населения, сохранявшего в массе своей сильнейшую зависимость от государства, и из-за слабости массовых общественных и политических движений Ельцин, стремясь удержать власть, в поисках опоры довольно быстро переориентировался и перевел свой взор с «масс» на «силовые» ведомства.
Структурные преобразования откладывались из-за их очевидной непопулярности, из-за этого же они так и не начались. По мере нарастания недовольства нагнеталось и насилие. 1993 г. — расстрел парламента, и 1996-й — фальсифицированные выборы президента на второй срок — символические события и даты обнажения ельцинского большевизма.
Путинское восьмилетие — с точки зрения особенностей постсоветской социальной динамики — годы окончательного утверждения авторитаризма на основе жажды «порядка» и потребности человека-массы в компенсаторном традиционализме.
Все это время последовательно и настойчиво велась дискредитация реформистских прозападных устремлений сторонников Ельцина, хотя они, подобные устремления, помимо многочисленных деклараций и некоторых официальных целеполаганий, так ни в чем и не воплотились. Но цель дискредитации была достигнута. Представив пришедших к власти с Ельциным «демократов» виновниками развала СССР и целого ряда кризисов 90-х годов (особенно — тяжелейшего кризиса 1998 г.), падения жизненного уровня населения, путинской власти удалось осуществить метаморфозу в сознании россиян, по существу своему вполне еще традиционалистском. Демократические модели политического устройства лишили привлекательности, понятия свободы, прав человека снова оказались на задворках этого сознания. В противовес им режим выдвинул и внедрил идеи социального порядка, традиций великодержавного превосходства, православия и милитаризма. (Насколько далеки они от гитлеровского нацистского Ordnung’а или «корпоративного» фашистского государства Муссолини — отдельный вопрос для исследователя.)
Началась тотальная «зачистка» пространства, предназначавшегося для гражданского общества и для политики. Политические партии, негосударственные и общественные организации, независимые каналы на телевидении, система выборов, суды и правоохранительные органы как социальные сущности ликвидированы, а то, что на их месте осталось, превратилось в элементы властной Системы. Все, что сохранилось от партий, судов, прокуратуры, СМИ и общественных организаций, превратили в инструменты принуждения, в репрессивные органы, а также в средства решения экономических, административных и финансовых задач различных органов и организаций, банков, страховых компаний, маркетинга, политической и коммерческой рекламы.
Зачатки институтов гражданского общества власть ликвидировала в расчете на непрекращающийся поток нефтедолларов. Население страны при сырьевой, а не производительной ориентации государству не очень-то и нужно: население при наличии «трубы» и «золотого дождя» — всего лишь социальная обуза и потенциальная опасность. Предполагалось, что от населения в таком его качестве всегда можно будет откупиться, необязательно налаживать с ним отношения с помощью обычных институтов, присущих развитому гражданскому обществу.
Но начавшийся сейчас финансовый и экономический кризис радикально меняет и без того гнетущую ситуацию и обнажает уязвимость как всей стратегии путинского режима, так и созданного им способа властвования. Вместо ставшего уже привычным нефтегазового «золотого дождя» ускоряется отток капиталов из России. Сокращаются производства, начинается рост безработицы. Резко обостряются все так и не решенные проблемы здравоохранения, образования, жилья. При цене на нефть ниже 70 долларов, заложенной в бюджете, придется изымать ресурсы из населения — резервного фонда и золотого запаса надолго не хватит.
Как быть при всем при этом со стратегией создания единого фронта противостояния с Западом и с Америкой? Как управляться с населением, когда бедность охватывает 40 %, а 15–20 из этих сорока — фактические нищие? Больше 60 % наших сограждан живут в малых городах и селах. Именно здесь, на социальной периферии, по-прежнему доминируют государственно-патерналистские ориентации. У такого населения практически нет ни материальных, ни духовных ресурсов или социальных средств изменить свое положение, подняться из хронической депрессии.
Надо иметь в виду, что на всю эту хаотичную массу населения — постоянно беднеющего и пополняющего число безработных (Ленин в начале ХХ века говорил о «пауперизации пауперов»…), никак не структурированную политическими организациями и гражданскими формированиями — накладывается растущая едва ли не по экспоненте коррупция, которая господствует практически во всех сферах общества и на всех уровнях власти, включая — согласно многочисленным публикациям — самую высшую, во главе с президентом и премьер-министром. Коррупция — как одно из самых разрушительных следствий отсутствия структурно-функциональной дифференциации, специализации, современного социального устройства и современной общественной жизни.
«А может быть, ты скажешь мне, что при таких условиях жить невозможно. «Невозможно» — это не совсем так, а что «противно» жить — это верно».
Полтора столетия, минувшие с тех пор, как эти строки написал М.Е. Салтыков-Щедрин, Россия по-прежнему топчется на месте.
Движение, как известно, — жизнь. Отсутствие жизни — смерть. Сегодняшние «Бог, Царь и Отечество», олицетворенные Путиным, предлагают нам согласиться с тем, что общероссийская утренняя гимнастика («вставание с колен» под барабаны и фанфары) означает движение — то есть жизнь. И все им верят. С фигой в кармане. И с готовностью добить их, когда упадут.
Но упадем — все вместе.
На самом деле продолжать такую имитацию развития означает гарантировать очень скорый конец для того культурно-исторического феномена, который пока еще известен как Россия.
Холокост на русской почве: метаморфозы исторической памяти
В прошлом году я был на международной конференции по проблемам исторической памяти о прошедшем ХХ веке. Конференция проходила в Киеве, и в ней принимали участие исследователи из Франции, Польши, Германии и Америки. Собственно конференция, а также общение с самыми разными людьми, знакомство с публикациями в украинских СМИ дали основание еще раз посмотреть и сравнить, как формируется и что собой представляет эта историческая память в разных частях Европы и Америки. Настоящий текст — результат моих тревог и озабоченности на сей счет.
1. «Шорт-лист» истории?
Согласен: бессмысленно и даже вовсе глупо доказывать самим украинцам, особенно тем, кто все это пережил, что Голодомор — не геноцид. Язык не поворачивается, глядя в глаза этим людям, глубокомысленно подбирать аргументы и повторять: «…и все-таки нет, не геноцид». А чем же это еще может быть в их глазах и в их памяти? Как еще они должны называть всё это, — когда уничтожали миллионами именно украинцев, когда отбирали все подчистую, включая зелень, овощи и семенное зерно, а вооруженные заградотряды не давали голодающим покинуть разоренные деревни?.. Когда действительно имело место сопротивление режиму, в том числе и на национальной основе… Когда люди умирали голодной смертью, а на освобожденное погибшими место организованно завозили на постоянное проживание русских, татар, евреев, но уже ни в коем случае не украинцев… Все так. В глазах и в памяти украинцев — это именно геноцид и ничто другое.
Что же касается изуродованной памяти, то проблема здесь, на мой взгляд, гораздо сложнее, и заключается она совершенно в другом.
Начало третьего тысячелетия от Рождества Христова застало не только Россию, но всю Европу маниакально сосредоточенными, — правда, каждого по-своему, — на проблемах собственной исторической памяти. При том, что в каждом случае сосредоточенность эта предстает, на мой взгляд, довольно странно избирательной. На конференции в Стокгольме, например, при участии глав правительств почти всех европейских стран было заложено — на основе такой вот странной избирательности — нечто вроде новой гражданской религии, которой предстоит, учитывая память о Холокосте, выработать твердые нормы жизни на будущее для всех. Данный акт, положивший, по мнению многих европейских интеллектуалов, начало транснациональной культуре памяти, в большинстве европейских стран совпал с новым приступом одержимости историей. Основное внимание призма такой «новой» памяти фокусирует на: а) Холокосте, б) Второй мировой войне, в) массовых вынужденных переселениях и г) феномене коллаборационизма.
Все это проблемы действительно очень важные, вполне достойные внимания и памяти не только в России и Европе, но и во всем мировом сообществе. Не преодолев их и не перестрадав ими, на самом деле нельзя выработать твердые нормы на будущее.
Но вся штука в том, что это не все проблемы, которыми человечеству должно и придется перестрадать. А среди поименованных, — здесь я и вижу ущербную избирательность, — не фигурирует еще одна, которая, однако, определяет все названные.
У отсутствующей в этом перечне проблемы, как ни поразительно, нет к тому же до сих пор и одного, только ей присущего названия. Имен разных много, а одного убедительного определения или названия нет. Однако и со столь грандиозным размахом явления, представленного этой проблемой, человечество еще никогда раньше не сталкивалось.
Что же касается различных наименований как знаков (у которых, не надо забывать, есть еще и означаемое), то все они хорошо известны: тоталитаризм, нацизм, большевизм, сталинизм, маоизм; в том же ряду — латиноамериканские диктатуры, персоналистские султанатские режимы исламского интегризма. Но всё это имеет одно общее основание. Вот у этого-то основания, у этого всеми подобного рода наименованиями означаемого и нет до сих пор убедительного, авторитетного (общепризнанного, адекватного) знакового названия.
Ближе всех остальных определений по смыслу того, о чем идет речь, подходит, по-моему, что-то вроде «омассовлениепланеты» или «деэлитаризациячеловеческого сообщества». Иначе говоря, в более точном и адекватном определении, соответствующем нашему сегодня, нуждается вся та совокупность явлений, процессов, событий, которая нашла в свое время решения, интерпретации, описания, исследования и предвидения в работах Г. Ле Бона, Г. Тарда, Х. Ортеги-и-Гассета, М. Вебера, Э. Кенетти, Ж. Бодрийяра, Э. Хоффера. Перечисленные авторы в разное время, с разных сторон, с разной мерой полноты и конкретности анализировали природу массового сознания и массового поведения, а также наступление эры масс и такие, например, более частные проблемы, как «массы и власть», «массы и личность» и т. п.
Параллельно с исследованием природы массового сознания и массового поведения в том же ХХ веке были сделаны великие открытия и осуществлялись разнообразные изыскания, положившие начало новой науки — психоанализа. Работы З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера, Э. Фромма, Ф. Ницше посвящены исследованию глубинной сущности человека и ее роли в общественной эволюции. Благодаря этим работам стало очевидным, что нельзя постичь человека только из рациональных построений, что, кроме сознательной, направляемой разумом деятельности, человеку присущи глубинные неосознаваемые мотивы.
Два этих мощных направления, по которым развивалось постижение человека и общества, убедительно показали, что ХХ век стал не только веком выхода масс на авансцену мировой истории, не только веком наступления, а в ряде случаев и господства человека-массы; ХХ век оказался кроме того еще и веком расплаты за нарушенное в течение ХVIII—ХIХ столетий равновесие между природой и культурой во внутренней структуре и человека, и общества. Французские просветители и их последователи во всем мире стремились расширить сферу разума за счет низвержения религии, всевозможных стереотипов морали и других структур: традиций, привычек, предрассудков. Но, разрушая все это, просветители не распознали и не учли социальную функцию подобных структур — противостояние бессознательному, обеспечение на их основе стабильности общества. В итоге и без того слабо сдерживаемые всем достоянием культуры бессознательные стремления, инстинкты, — такие как воля к власти и ненависть к «Другому», агрессия, звериная кровожадность и жестокость, страх, — все это вырвалось наружу и стало фактом и важнейшим фактором общественной жизни. Только в очень немногих странах Западной Европы и Америки, — где «Я», опираясь на созданные там институты культуры, уже давно отвоевало у бессознательного большую территорию, где, начиная уже со Средневековья, многие века личность расширяла свою свободу, — лишь в немногих странах общество сумело сохранить стабильность и воспользоваться разрушением иллюзий и расширением сферы разума для быстрого прогресса6.
Может возникнуть вопрос, какое отношение все это имеет к Холокосту?
Имеет. И самое что ни на есть непосредственное. Только просматривается такое отношение, к сожалению, далеко не всеми и совсем не тогда, когда следовало бы. А следовало бы уже давно. Ведь в результате того, что вопрос о центральной проблеме ХХ века не был поставлен своевременно, не до конца понятыми остаются и результаты того явления, которое я обозначил как омассовлениепланеты, — то есть конкретные плоды этого омассовления, воплощенного в форме всевозможных «измов». И именно по этой причине в мейнстримовской парадигме современного европейского сознания искореженной продолжает оставаться память и о Холокосте, и о Голодоморе, и о многом другом. Так что мне представляется актуальным показать связи между поименованным омассовлениемпланеты и — через нацизм и сталинизм — Холокостом или Голодомором.
У гитлеровского нацизма, у ленинского большевизма, у сталинизма, как и у всех других упомянутых мною «измов», есть одно присущее им всем общее основание, делающее их все типологически сопоставимыми. Собственно, именно это и стало понятно благодаря всей совокупности анализов, обоснований, интерпретаций и выводов, сделанных и осуществленных всеми выше перечисленными авторами на основе постижения ими природы массового сознания и массового поведения и выявления ими того всемирно значимого феномена, который, повторю еще раз, терминологически можно определить (может быть, несколько условно и, конечно, не бесспорно) как омассовление, или деэлитаризацию планеты.
Такое омассовление совпало по времени с теми сдвигами во внутренней структуре человека и общества, которые возникли вследствие нарушения равновесия между природой и культурой. Совпадение двух столь разных, но тесно связанных между собой процессов и определило драматизм и трагичность всего ХХ века. Это совпадение делает объяснимыми массовые действия людей, в головах и душах которых освободившееся место Бога и морали заняли культы Гитлера, Сталина, Муссолини, Франко, Салазара, Мао, Фиделя, Тито, а нарушение указанного равновесия раскрепостило все животные инстинкты, таящиеся в человеческой природе. В итоге омассовление сопровождалось разгулом страстей; планету сотрясали гражданские и мировые войны, массовые убийства, коллективные наказания народов, депортации.
Казалось бы, вполне логичным было бы, если б мейнстримовским в осознании ХХ века стало углубленное постижение именно сущностного, общего и особенного всех тех «измов», о которых речь. Тогда все революции и три мировых войны (включая «холодную»), прошедшие в нашем трагическом ХХ веке, и организованные многомиллионные убийства заняли бы свои, присущие им места в таком мейнстриме — как следствия и конкретные воплощения омассовления планеты, торжества животных инстинктов и порожденных подобной ситуацией глобальных противоречий. Что касается Холокоста и Голодомора, то в данной цепи причин и следствий, знаков и означаемых ими, видимого и глубинно скрытого, эти катастрофы предстали бы как самые зверские проявления бесчеловечной сущности, как крайний предел человеческого падения тех политических режимов, что готовы на любые преступления, включая геноцид.
Однако произошло нечто совсем не предвиденное и противоположное логике и здравому смыслу. Один из самых ярких мыслителей современной Франции Паскаль Брюкнер справедливо отмечает: «Освенцим, задавленный собственной популярностью, стал настоящей “гражданской религией” Запада, первопричиной нашей истории; как резюмировал произошедшее венгерский писатель ИмреКертес: китч окружил Шоа со всех сторон и подмял его под себя. Событие было отделено от контекста, вознесено над своим временем подобно какому-то поражающему воображение светилу; очень известный французский философ и публицист Андре Глюксман говорит о “смешении факта и веры”, реального исторического события и его регламентированной ритуальной оболочки».
Благородное стремление, многочисленные и разнообразные усилия европейцев по восстановлению памяти о Холокосте обернулись, — поскольку событие изъято из контекста, — своей противоположностью: память о нем, а вместе с ней и собственная историческая память Европы оказались травмированными еще с одной, совсем неожиданной и непредвиденной стороны.
Такая аберрация в исторической памяти и в массовом сознании довольно заметно и весьма разнообразно проявилась также и на всем постсоветском пространстве.
В России постижение ХХ века на основе официальной исторической политики выразилось в вытеснении социального из всей советской истории. Октябрьская революция оказалась на задворках исторической памяти как досадный эпизод, как верхушечный переворот, не только не связанный с нашей национальной историей, но и прямо ей противоречащий. Затем и вся содержательная советскость оказалась как бы «обнуленной», из нее выхолостили все собственно социальное содержание, а высвободившиеся таким образом места заполнили «свершениями» социализма и главной державной Победой. Общую картину брежневского «золотого века» при этом поддерживает героический образ войны и Победы, а он, в свою очередь, подпирает и возвышает отчасти мифологизированный, отчасти реабилитированный образ Сталина, а вместе с ним и всю сталинскую эпоху. Дальше, за непродолжительной черной полосой революционных, «лихих девяностых» и по контрасту с ними наступает путинское время как — наряду с брежневским благополучием — еще одна полоса воплощения порядка и стабильности. Тем самым ХХ век в его основных событиях, как их показывает осуществляемая в отношении прошлого официальная историческая политика, воссоединяется в некое «целое». Главная цель подобной исторической политики, которая очень уж смахивает на «спецоперацию», — примирить россиян с советским как со «своим», а это «свое» советское — с досоветским русским как со «своим» национальным.
Таким образом, весь российский ХХ век предстает не как продолжение Октября и не как реализованное на основе его победы воплощение русской традиционности в виде господства человека-массы, а как полное отрицание всего этого. И тогда понятно, почему Путин, говоря о крупнейшей социально-политической катастрофе столетия, называет не массовые убийства и ликвидацию социальности как таковой в ходе так называемого построения социализма, не большевистский террор и не Холокост, а распад СССР.
В странах Балтии, на Украине и в Грузии тема Холокоста — также не без воздействия на массовое сознание официальной исторической политики правительств этих стран — повлияла на формирование памяти прямо противоположным образом. В России, как я только что отметил, память о Холокосте как напоминание не только о репрессиях, но, — что хотелось бы особо подчеркнуть, — как напоминание о самой сущности сталинского режима всячески вытеснялась из массового сознания. Даже когда Грызлов говорит о необходимости установить в Москве мемориал жертвам политических репрессий, а Путин посещает Бутовский полигон, а затем вместе с Медведевым и место расстрела рабочих в Новочеркасске, то и таким, вроде бы совсем уж странным образом продолжается все та же политика вытеснения: проблема низводится до частного случая — до злоупотреблений власти, допускавшей «перегибы на местах», а не возвышается до сути самой этой власти, не допускающей никакой иной субъектности, кроме единственной — своей собственной. Можно даже отречься от массовых репрессий и осудить их — на ритуальном уровне — как способ действий той власти, которую мы якобы уже преодолели. Можно, поскольку есть же масса других способов добиваться того же самого, а именно — подавления любой другой субъектности.
В странах Балтии и на Украине, наоборот, тема Холокоста всеми способами внедрялась и продолжает внедряться в массовое сознание вплоть до превращения памяти о нем в маниакальное состояние. Катастрофа евреев стала здесь (сошлюсь еще раз на П. Брюкнера) «мерилом всечеловеческого несчастья, и элементы ее описания — “погром”, “рассеяние”, “геноцид” — присвоены всеми и каждым. Но это привело к досадному искажению смысла: Шоа завораживает не как апогей зла, а как сокровище, которое мы надеемся выгодно использовать. Мы не столько привлекаем внимание общества к этому пределу человеческого падения, сколько подпитываем порочную метафизику жертвы».
Однако искажение смысла, на мой взгляд, не только в «виктимизации»7 проблемы Холокоста, не только в травме сознания в направлении «мы — жертва», о которой говорит Брюкнер. Оно, такое искажение смысла, — в том, что с опорой на Холокост, как ни парадоксально, уходят или уводят, — хотя бы и неумышленно, — от главного для всего ХХ века вопроса: почему и как, собственно, возникла и есть данная проблема.
В Прибалтике созданы правительственные комиссии, которые подсчитывают стоимость ущерба, нанесенного в ходе и в результате советской оккупации. На Украине приняты государственные решения о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Происходит бесчисленное множество самых разнообразных мероприятий: ставят памятники и мемориальные знаки, зажигают свечи, организуют «живые цепочки» и научные конференции, снимают фильмы, проводят массовые мемориальные шествия и церемонии. Налицо целенаправленная историческая политика, направленная на то, чтобы в коллективной памяти населения этих стран навсегда отпечатались такие кодовые понятия, как «геноцид», «оккупация», «ответственность Москвы». Во всех подобных понятиях — сплошная непроясненность с рациональной точки зрения, особенно в отношении «ответственности Москвы»: то ли имеется в виду сталинский режим, то ли москали как таковые.
Но во всех перечисленных случаях, как и в обоих этих направлениях исторической политики: и при вытеснении Холокоста из исторической памяти (в России), и при его закреплении (на Украине и в Прибалтике), — конечный результат получается весьма плачевным. Социальное вытесняется этническим, внутреннее состояние души и разума человека загружается мыслями и переживаниями о внешних обстоятельствах, а Холокостом, Голодомором, оккупациями и депортациями затуманивается самый феномен гитлеризма и сталинизма.
2. Гитлеризм и сталинизм
Вспомним еще кое-что из времен возникновения германского нацизма. Наша историко-философская мысль пока что не уделяла должного внимания тому факту, на который я намереваюсь сослаться. Наиболее характерной особенностью нацизма принято считать — прежде всего и главным образом — расизм. Разумеется, это так. Однако при этом в характеристике нацизма как бы пропускается одно обстоятельство, а оно-то и есть, может быть, наиболее существенное для постижения нацистской сути гитлеризма.
Почти всегда как-то стыдливо умалчивалось или, по крайней мере, широко не сообщалось, что Гитлер, будучи у власти, понял, что очень многие самые острые повседневные потребности немцев наиболее быстрым и впечатляющим для них же способом можно удовлетворить за счет недвижимости, имущества евреев, и решал именно такую, или прежде всего такую, свою задачу, уничтожая евреев (причем не только в Германии). Только в последнее время в Германии появились первые публикации, раскрывающие, сколько же немцы в целом заполучили из этого источника.
Однако в связи с этим возникает и более сложный вопрос: почему немцы так сильно устыдились происшедшего в нацистской Германии в 30-е — 40-е годы? Неужели лишь потому, что осознали, что практически каждый из немцев хоть чем-то да поживился за счет ограбления и ликвидации евреев? То есть устыдились того, что от неблаговидных деяний давнего, казалось бы, прошлого кое-что перепало и почти любому из живущих ныне?
Вряд ли только поэтому. Однако это мощное, искреннее и так широко распростертое раскаяние вынуждает задуматься и над более глубокими причинами и самого этого раскаяния, и последовавшего за ним столь бурного возрождения немецкой нации.
Размышления над данным фактом ведут, на мой взгляд, напрямую к постижению социальной сущности нацизма в целом, а дальше, в свою очередь, дают возможность (а то даже и вынуждают) сравнить эту сущность с той социальностью, что получилась у нас в итоге так называемого социалистического строительства, а затем сопоставить ее с тем, что происходит в России сегодня.
Гитлер действительно был убежден, что немцы лучше, совершеннее, физически и духовно выше и красивее всех, и хотел, чтобы они стали в то же время богаче, счастливее и здоровее всех остальных. На основе подобных убеждений и желаний он и строил свои национальные социальные проекты. Евреи с их движимым и недвижимым имуществом оказались лишь первой и предварительной возможностью на пути намеченных социальных свершений. Сами же по себе такие социальные задачи были намного шире и разнообразнее. В частности, в ходе построения социализма в Германии намечалось реализовать наиболее известную нацистскую программу «Всё для всех», то есть всё для всех наиболее значительных и многочисленных социальных групп немецкого общества: для рабочих — работа, для крупного бизнеса — государственные заказы и заработки, для малого бизнеса — снижение налогового бремени и государственного регулирования. Основанием и в то же время камнем преткновения для решения этой и других социальных программ становилась проблема собственности: чтобы стать столь же богатыми, сколь и прекрасными, требовалось неизмеримо больше материальных и людских ресурсов. Одних только внутренних возможностей, даже с учетом конфискованного имущества евреев, для мобилизации в нужных размерах было явно недостаточно. Общим знаменателем в решении проблемы всеобщего национального благоденствия стала направленность вовне: счастье для немцев за счет всех других. Если потребуется, то и за счет уничтожения всех этих других. Евреи оказались ближайшим подспорьем и наиболее легкой мишенью на таком пути. Отсюда — «окончательное решение еврейского вопроса», отсюда же — и устремленность нацизма к мировому господству.
Таким образом, еще раз: социальная суть нацизма — обеспечить счастье для немцев любой ценой, в том числе и за счет уничтожения других, за счет их собственности и ресурсов. Вся политика Третьего рейха, внутренняя и внешняя, стала средством достижения данной цели. В погоне за таким счастьем гитлеровскому режиму пришлось зайти слишком далеко. Потребовалось построить у себя дома социальную мегамашину по производству всеобщего счастья, пройти через завоевания в ходе Второй мировой войны и через позор поражения в ней, испытать национальное унижение — насильственный оккупационный режим — и, наконец, понести показательное — на весь мир — наказание разделом на оккупационные зоны. И все это потребовалось, чтобы затем сами немцы все-таки что-то увидели, поняли и ужаснулись. Так началось и на том состоялось возрождение немецкой нации в ХХ веке.
Мы тоже прошли, казалось бы, почти через все то же самое. Было и почти всеобщее убеждение, что мы — лучше и справедливее всех, и на этой основе произошло возрождение мечты о полагающемся нам счастье в размерах, соответствующих нашему превосходству и исключительности. Была и попытка решить проблему собственности у себя дома, в своей стране. Правда, такая попытка оказалась весьма своеобразной, бессмысленной и растянувшейся на многие десятилетия. Суть ее настолько же проста, как и глупа: не «всё для всех» обеспечить, а всё у всех отобрать — в собственность государства. Был даже и замах на то, чтобы осчастливить не только самих себя, но и все остальное обездоленное человечество. Осчастливить, — хотя бы и на свой манер и по своему усмотрению. Была Победа в той же Второй мировой похлеще поражения в ней Германии. Был, наконец, и раздел «по живому» державы, — то есть пережили мы и развал Советского Союза, который большинство народа считали своей родиной. Испытали мы сполна и не единожды горечь унижения.
Однако на то, видимо, мы и русские, чтобы пройти через все, вроде бы, то же самое, что и немцы, но непременно и здесь по-своему, своим путем: что русскому здорово, то немцу смерть… В частности, в отличие от них, мы, во-первых, решили в поисках всеобщего счастья поэкспериментировать поначалу исключительно на самих себе, а не на других (правда, сделав предварительно «самими собой» половину жителей страны Советов, не спросив у них согласия). А, во-вторых, испив в таких поисках счастья до дна свою чашу сладости побед и горечи поражений, погубив несколько десятков миллионов, опозорившись (и опять-таки не единожды — только в прошедшем столетии), мы, в отличие от немцев, до сих пор не задумались, не устыдились и не ужаснулись.
Мне кажется, именно здесь, в сопоставлении гитлеровского и сталинского нацизмов, в точном воспроизведении истоков становления каждого из них, в выявлении общего и различного между ними, в совокупном жизненном итоге каждого из них пролегает наиболее короткий и верный путь к постижению своеобразия, глубинных оснований и сути советского типа социальности.
Подобные сравнения и сопоставления, надо сказать, проводились уже давно и многократно, — правда, в основном, за рубежом, — а их результаты так и не стали у нас, на родине сталинизма, всеобщим достоянием. Кроме того, всегда — как раньше, так и до сих пор — при попытке такие сравнения провести, как только они приближаются к нашей отечественной почве, всплывает так много политизированного и идеологизированного, обнажается столь мощный пласт нравственных переживаний (а, следовательно, и взрывы эмоций), что давление вполне естественных и объяснимых переживаний на каждого, кто подступается к этим проблемам, не просто осложняет, но часто полностью вообще исключает хладнокровный, беспристрастный аналитический подход к этой теме.
Например, очень многим людям, особенно тем, кто сами пострадали или чьи родственники погибли от злодеяний нацизма, казалась и до сей поры кажется кощунственной, а потому и просто непристойной уже самая допустимость квалифицировать оба эти режима как одинаково жестокие и бесчеловечные, да еще к тому же как социально родственные — как нацистские. Если к этому добавить еще и перечень общих, присущих обоим режимам сущностных характеристик (а только важнейшие из них исчисляются десятками), почти наверняка обеспечен такой взрыв страстей и эмоций, что будет уже не до сущего.
А это сущее и в то же время общее для обоих режимов — решение, пусть разными (даже подчас, казалось бы, диаметрально противоположными) способами, социальных проблем с целью обеспечить экономическое и военное могущество для достижения мирового господства. Иначе говоря, получается, что сущее, которое в то же время и общее, — их конечная цель, притом цель внешнеполитическая.
Если учесть хорошо известные факты из истории Германии и Советского Союза в ХХ веке и вместе с тем иметь в виду результаты всех проведенных уже в разных странах сравнений гитлеровского и сталинского режимов, то на первый взгляд получается нечто такое, что по советской (или русской) «патриотической допустимости» не то что произнести вслух — подумать страшно. Сопоставление двух этих режимов поначалу склоняет чашу весов в пользу гитлеровского.
В самом деле. Мы-то усвоили для себя, что называется, с молоком матери: социализм и фашизм вообще несопоставимы, как огонь и лед, как свет и тьма. На самый худой случай, если уж совсем некуда деваться и довелось бы эти режимы сравнивать как в чем-то родственные, то, как мы всегда точно знали, лучшим бы оказался, конечно же, наш, сталинский: он за равенство и справедливость, на нас нацисты напали, нас хотели завоевать и уничтожить, мы пострадали. А тут, в ходе углубленных сопоставлений, все получается чуть ли не совсем наоборот. В целом сравнение (хоть, пускай, и с небольшим перевесом) все-таки оказывается в пользу гитлеровского режима: там тоже шло успешное построение социализма, но не было массовых репрессий против самих же немцев, и их не уничтожали миллионами. Там пытались сделать поголовно всех своих богатыми и счастливыми, а если кого-то и преследовали, то только чужих. И напали они на других, чтобы предотвратить свое собственное уничтожение.
Если же два режима все-таки в итоге их сравнений в чем-то и различались между собой, то всего-то, вроде бы, деталями. А по заветной для каждого из них цели, по направленности их высшей устремленности к счастью отличались и всего-то лишь какой-то «мелочью»: тот хотел мирового господства для немцев за счет всех других, а этот — того же самого мирового господства, но для всех других — и для начала за счет русских, или, точнее, за счет советских.
Таков еще один из возможных и широко практикуемых способов сопоставить два рассматриваемых типа социальности, два режима — гитлеровский и сталинский. Я бы отнес данный способ к разряду возможных, но недостаточных, — предварительных, частично допустимых, но в целом ошибочных. При таком способе сущность рассматриваемых режимов характеризуется и демонстрируется конкретными фактами и цифрами: количеством человеческих жертв, организованным голодом, деятельностью карательных органов и репрессивных учреждений, разрушенными и уничтоженными селами и городами, вымершими деревнями, дутыми цифрами достижений в социальной политике, сокрытием информации об экологических катастрофах и эпидемиях, лживой статистикой переписей населения, подтасованными данными о состоянии здоровья населения и т. д.
Все подобные факты, цифры и данные имеют, конечно, прямое отношение к сущности обоих режимов, но все-таки скорее фиксируют последствия и результаты бесчеловечности этих режимов, нежели раскрывают имманентно присущие им общие свойства. Кроме того, поскольку подобное сопоставление осуществляется способом перечисления отдельных, хотя, безусловно, и важных, фактов и данных об отдельных свойствах и сторонах этих режимов, то при каких-то условиях, или на какой-то момент, может сложиться ложное представление (как я это только что и пытался показать), что принципиально возможно и сопоставление этих режимов в пользу какого-то одного из них.
Но есть и другие способы сравнения, с очевидностью показывающие, что при всех возможных сходствах и различиях данных режимов было нечто настолько общее для них обоих, что именно это нечто и объясняет, почему они, образно говоря, были оба хуже. А на фоне раскрытия такой коренной их общности и в ходе их сопоставления с такой точки зрения интересующая нас проблема, а именно: причины, характер и степень изуродованности социума современной России, — предстает гораздо более ясно.
Подобные способы сравнения раскрывают собственно бесчеловечность, антигуманную сущность рассматриваемых режимов как их самую главную отличительную особенность и в то же время как их сущность в последней, так сказать, инстанции.
На сей счет во многих странах, в том числе и у нас, сегодня имеется огромная, почти необъятная литература. Историки, философы, экономисты, психологи, социологи, историки культуры подходили к названным вопросам с самых разных сторон и использовали все имеющиеся в распоряжении современной науки методы и подходы. Совокупные поиски оказались весьма успешными, исследователи добились убедительных результатов, раскрывая и объясняя общие характеристики, присущие сталинизму и нацизму. Знание этих результатов, безусловно, помогло бы россиянам лучше увидеть и глубже понять происходящее в России сегодня.
Гарантией успешности подобных исследований стало размещение интересующей нас проблемы в максимально широкий контекст мировой культуры и исследование ее в перспективе длительной истории человека и общества.
Беда, однако, в том, что все достижения современной науки о самом главном для нас — о том, какие мы есть и как мы стали именно такими, — остаются невостребованными массовой российской публикой. Об отношении к научному знанию в данном смысле властей предержащих говорить здесь полагаю бессмысленным. Собственно, именно выяснению этого нашего не столько странного, сколько жестокого безразличия к своему недавнему, совсем еще не остывшему прошлому и посвящена вся настоящая публикация.
Речь идет о безразличии, которое непременно оборачивается жестокостью, потому что оно, в сущности, и есть презрение к самим себе. За безразличием следуют столь же массовые заблуждения и невежество, которые как раз и удерживают людей в состоянии толпы. А подобное состояние, надо сказать (может быть, к удивлению некоторых полагающих, что все беды в мире происходят непосредственно и исключительно от кровожадных режимов), — такое стадное состояние весьма комфортно для всех: и для властей, и для народа. Никому не надо ни о чем думать, не надо вообще беспокоиться. И, главное, не надо ни за что отвечать: капали бы сами собой потихоньку нефтедоллары, да немножко бы соломки каждому под бок…
Здесь, полагаю нужным сказать о том общем для сталинского и гитлеровского режимов, что выявлено мировым социальным знанием. И показать, что незнание этого общего делает людей в культурном плане по существу слепыми — и вообще, и, в частности, относительно того, куда идет Россия сегодня. Если предварительно не определить собственно направление движения, нам так и не выпутаться из нашего «как всегда»: хотели к лучшему, а движемся под руководством Путина прямо в обратную сторону.
Но сначала — о том, где общее для обоих режимов искать не надо.
Его не следует искать, во-первых, только и исключительно в национальных особенностях и в исторических традициях России и Германии. Во-вторых, общее для нацизма и сталинизма не нужно искать в прежних и существующих политических и социальных доктринах. В-третьих, это общее бессмысленно искать в личностях Сталина и Гитлера.
Поначалу каждое из таких ограничений кому-то наверняка покажется если не абсурдным, то, по крайней мере, странным. Ведь именно одной из перечисленных причин (или, что более привычно, их совокупностью), как правило, и принято объяснять нацизм и сталинизм как явления в целом, а в особенности — конкретные воплощения обоих режимов.
Поэтому придется хотя бы самом кратким образом остановиться на каждом из трех перечисленных условий.
3. Национальные особенности и исторические традиции
Здесь, пожалуй, самая горячая точка, в которой сходятся и сталкиваются взгляды людей, особо остро ощущающих свою приверженность к немецкой или к русской культуре. И даже гораздо шире: любых людей, причастных и обостренно относящихся к любой национальной культуре. Такой эффект вполне нормален и объясним. Поскольку в Италии, например, был свой Муссолини, положивший начало «своему», итальянскому фашизму, многие итальянцы болезненно относятся к любым попыткам хоть как-то «усреднить» этот их фашизм, поставить его в один ряд с нацизмом или со сталинизмом. Тем более болезненным всегда было их отношение к любым попыткам отыскать нечто общее для всех трех режимов в национальных особенностях, присущих и Италии, и Германии, и России. Многие из них убеждены, что у каждого режима — свои национальные корни, и предпочли бы думать так всегда.
Отсюда, видимо, в первую очередь и столь резко отрицательное отношение многих европейских интеллектуалов, в том числе и вполне левых, к концепции тоталитаризма Ханны Аренд. Достоинства ее основательной — трехтомной — работы о тоталитаризме, в том числе и сталинском, впервые изданной еще в 1951 году, бесспорны. Однако у тех, кто отстаивает национальные истоки данного феномена, ее исследование до сих пор повсюду с трудом находит понимание, — если вообще находит. Потому что как раз Х. Аренд, пожалуй, впервые предприняла столь убедительную попытку объединить все разнообразные нац-«измы» в одно явление и назвать его одним словом — тоталитаризм.
Что касается российской действительности, то вопросом о национальных истоках большевизма и сталинизма в разное время и по-разному занимались лучшие умы и бесспорные патриоты. Здесь немыслимо перечислить всех или хотя бы «самых-самых», но никого не назвать было бы совсем странно. Я назову лишь тех, чьи усилия по обоснованию и раскрытию обусловленности большевизма и сталинизма русскими национальными особенностями, думаю, ни у кого не вызовут сомнения: Николай Бердяев, Александр Солженицын и Георгий Федотов.
Называю этих мыслителей вовсе не затем, чтобы сказать, что кто-то из них в отдельности или все они вместе в чем-то ошибались, указывая и раскрывая связи и обусловленность русскими национальными особенностями тех или иных положений идеологии, изобразительных средств, способов действий, стереотипов сознания, присущих большевизму и сталинизму. Напротив, именно эти авторы в своих многочисленных, ярких и выразительных публикациях по данным проблемам были и остаются наиболее убедительными во всей истории русской культуры. И я неоднократно ссылался на их труды, когда дело касалось неразрывной связи между сталинизмом и русской культурой в плане преемственности идей, наиболее устойчивых стереотипов сознания, социальных и политических институтов.
В качестве содержательного сюжета, наиболее часто упоминаемого в таком смысле, — в том числе и в работах названных авторов, — можно сослаться, например, на идею холизма, или целостности, которой пронизаны все русское православие, русская религиозная философия, многое из классики нашей литературы, в том числе советской. Эта же идея, разнообразно представленная, лежит в основе сталинской идеологии, эстетики и политики. Не менее показательна в том же ряду идея субъект-объектности русской власти. Данная идея отчетливо прочитывается в вековом укладе наших государственных институтов, в умонастроениях и психологии народных масс, в художественном творчестве. В сталинизме она достигла своего апогея и в качестве социальной реальности, и в качестве идеологической концепции. Сюда же можно отнести в какой-то мере (из этого же ряда категорий культуры) идею ордынской сущности русской власти, в одинаковой мере присущую и сталинизму, и нынешним правителям, — присущую как воплощенная реальность.
Но ведь точно так же и многие немецкие мыслители, анализируя нацизм, усматривали его истоки в своеобразии именно своей, немецкой культуры. И это тоже вполне естественно и объяснимо, что подтверждается как социально-политической практикой нацизма, так и, например, работами Томаса Манна.
Примеры из немецкой культуры могли бы увести нас совсем уж далеко в сторону от основной темы. Но один из них очень показателен с точки зрения общего и особенного — применительно к истокам нацизма или сталинизма. Я имею в виду идею народности в том ее виде и значении, как она зародилась в Германии в эпоху европейского романтизма. В таком ее виде она, «идея народности», — собственно, даже не идея, а совокупность связанных между собой идей о немецком народе вообще, о его культуре, историческом пути, о его культурном или расовом приоритете, о миссии этого народа в мировой культуре и в мире вообще.
В свою очередь эта совокупность идей в их целостности представлена наиболее полно и разносторонне в творчестве замечательного немецкого поэта и мыслителя Фридриха Шиллера. Именно этим, видимо, объясняется то, как далеко распростерлось излучение его идей. Я имею в виду его философию целостности природы и человеческого общества, его стремление разрешить загадку динамического равновесия в борьбе враждующих природных и социальных сил. С одной стороны, подобные идеи смыкаются с творчеством олицетворяющих немецкую культуру Гердера и Канта. С другой стороны, те же его идеи воздействуют, в частности, на одного из корифеев русской культуры Федора Тютчева, который прекрасно знал творчество Шиллера и был буквально заворожен им. А от Тютчева (и не только, разумеется, от него) данные идеи простираются к русскому славянофильству в целом и далее — к панславизму и вообще к самым разнообразным концепциям русского национализма.
Следует подчеркнуть, что Шиллер, в свою очередь, идеологически наследовал эпохе Гете, которая вобрала в себя в качестве национального едва ли не все «самое-самое» немецкое. На этом же «самом-самом» во многом замешаны и реальности совсем другого плана, а именно: идеология, эстетика, философия и политика нацизма и сталинизма.
Спрашивается, если иметь в виду нацизм и сталинизм вместе с истоками этих явлений, где здесь общее и где здесь национальное и что есть это общее и это национальное?
Ответить не получится, без того чтобы не назвать хотя бы некоторые из основных, — нет, не содержательных положений, — а хотя бы сюжетов философии Шиллера, имеющих прямое отношение к нашему вопросу.
Гениальный философ, Шиллер (так же, как, скажем, гений Гете или Пушкина) запечатлел в своем творчестве и национально особенное, и общекультурное, и неотъемлемые ценности конкретной эпохи романтизма, и непреходящие ценности мировой культуры. Поэтому и в качестве истоков, или оснований, в его творческом наследии можно найти обоснование всему: и какой-то конкретной исторической реальности, и какой-то философской концепции. В том числе — обоснование нацизму.
То же относится, среди прочего, к сталинизму, когда его мировоззрение и социальную сущность выводят непосредственно из глубин русской национальной традиции. Можно вполне доказательно ссылаться на бесспорные предпочтения в идеологии сталинизма (например, живопись передвижников). Или, допустим, когда при объяснении самого феномена сталинской власти ссылаются на такую древнюю национальную черту, как «женственность» русской общественности — вечную готовность к тому, чтобы ею командовали, над нею властвовали. Такую готовность зафиксировал еще самый первый летописец в качестве события номер один в отечественной истории, а именно как обращение к варягам: «Придите и володейте нами». Дескать, наше дело, которое мы знаем, — жить, а не обустраивать свою жизнь.
Здесь я завершу краткий обзор бесплодных попыток отыскать общее между нацизмом и сталинизмом только в национальных особенностях и исторических традициях Германии или России. Идеологию и сущность обоих режимов действительно можно объяснить национальными особенностями, поскольку многое в них своими истоками действительно уходит в глубокие культурные традиции. Но можно столь же убедительно отрицать связь общего для нацизма и сталинизма со специфически немецкими или специфически русскими особенностями на том основании, что проявления подобного общего можно обнаружить и в любой из этих двух стран, и далеко от них, — например, в аналогичных режимах стран Латинской Америки или Азии.
Позиция «за» или «против» определяется в данном случае всецело широтой исторического контекста, в который рассматриваемая проблема погружается. Если рассматривать отдельные характеристики нацизма или сталинизма изолированно, они неизбежно обнаружат свои истоки в каких-то национальных особенностях. Если же посмотреть на нацизм со сталинизмом как на явление, общее для ХХ века, поставить их в один ряд с итальянским фашизмом, салазаровским режимом в Португалии и франкистским в Испании, с маоизмом в Китае, с режимом Кастро на Кубе, с режимом красных кхмеров в Камбодже, то сущность этого общего явления и его корни надо искать уже не в национальных особенностях перечисленных стран, а в особенностях, которые выявляются только в общей истории мировой культуры.
Национальные особенности при таком подходе, хотя и вплетаются напрямую в общую ткань происходящего, однако не только не способствуют обнаружению и раскрытию этого общего, а, напротив, в силу присущей им чрезвычайно повышенной эмоциональной заряженности, играют роль мощнейшей шумовой помехи. Они уводят от истинного соотношения общего и особенного и, что самое главное, фиксируя внимание на частностях, затуманивают взгляд, не дают увидеть нацизм и сталинизм в нашем сегодня
Но прежде чем показать такое искажение, рассмотрим уже названные «во-вторых» и «в-третьих».
4. Политические и социальные доктрины
Данный аспект проблемы общего и особенного в нацизме и сталинизме также основательно и всесторонне рассматривался в мировой гуманитарной науке. В частности, его затронул в своей замечательной и актуальной работе Игорь Голомшток8. Автор впервые выполнил сравнительный анализ тоталитарного искусства сталинского СССР, гитлеровской Германии и муссолиниевской Италии. В книге приводится богатейший материал из истории живописи и скульптуры ХХ века в трех странах, рассматриваемый в рамках указанной проблемы. По интересующему нас сюжету Голомшток, в свою очередь ссылаясь на Ж. Раделя и Д. Гусмана, отмечает, в частности, следующее.
Настоящим евангелием для всей сталинской эпохи был «Краткий курс истории ВКП(б)» — в гораздо большей степени, чем «Капитал» Маркса (или чем для Германии «Майн кампф» Гитлера). И хотя основал коммунистическую идеологию Маркс, в качестве «трех источников и трех составных частей марксизма» «Краткий курс» называет крупнейших представителей английской политической экономии, немецкой классической философии и французского просветительства. Расовую теорию, на которую опирался нацизм, создали французский дипломат и ориентолог граф Жозеф Артур Гобино и принявший немецкое подданство сын английского адмирала Хьюстон Стюарт Чемберлен. Парадоксально, но термин «антисемитизм» впервые ввел в обращение основатель «Лиги антисемитизма» Вильгельм Марр, еврей по происхождению. Доктрина итальянского фашизма многое почерпнула из теории государства Сен-Симона и из трудов последователя Маркса, французского инженера Жоржа Сореля. Общие источники для нацизма, сталинизма и фашизма — концепция коллективной воли Жан-Жака Руссо, многие аспекты философии Гегеля, пересаженный на социальную почву дарвинизм и разного рода теории исторического процесса.
Наряду с идейной всеядностью и теоретическим эклектизмом как нацизма, так и сталинизма, можно привести немало примеров их трогательного единодушия в идейном и социальном смыслах.
Довольно показательна с точки зрения социальной и идейной близости двух режимов, выраженной на доктринальном уровне, например, их последовательная критика капитализма, разрушающего «народные основы». Опубликованная в 1923 году книга МёллераванденБрука «Третий рейх». которая, по сути, дала имя гитлеровскому государству, первоначально называлась «Третий путь»: не капиталистическая эксплуатация человека человеком и не либеральная парламентская демократия, а народное государство, скрепленное волей вождя.
Можно привести и более убедительные свидетельства идейной и социальной близости нацизма и сталинизма — вплоть до их доктринальной тождественности. В «Майн кампф» Гитлер следующим образом интерпретировал три цвета германского имперского флага, сохраненного как эмблема и в Третьем рейхе: «Красный цвет отражает идеи социализма, белый — националистические идеи движения, черный символизирует борьбу за победу арийского человека и творческого начала, которая, по сути, всегда была антисемитской и останется таковой на все времена»9. В эти три цвета, отмечает Голомшток, окрашена идеология всякого тоталитаризма. В СССР черный и белый стали подмешиваться в идеологическую палитру лишь с середины 30-х годов. А с середины 40-х (добавлю уже от себя) они, кроме того, стали еще и выражением политической практики сталинизма.
О доктринальной близости свидетельствует и то, что для Гитлера, как и для Сталина, врагом номер один была демократия. Обвиняя своих противников в «демократических грехах», Гитлер писал: «Я многому научился у марксизма…Национал-социализм есть то, чем марксизм мог бы стать, освободись он от абсурдных и противоестественных связей с демократическими системами».
В самое последнее время отношение к западным демократиям в России развивается так, что, кажется, и это последнее различие, тогда как-то отдалявшее друг от друга нацизм и сталинизм, перестает уже быть актуальным.
Еще более выразительно в содержательном смысле и с точки зрения доктринальной близости двух режимов одно из признаний Геббельса. В статье «Национал-социализм или большевизм?», написанной в форме письма к «левому другу», он призывал своих идеологических противников к объединению: «Сегодня ни один честно мыслящий человек не стал бы отрицать справедливость рабочих движений. Поднявшись из нищеты и ничтожества, они стояли перед нами живыми свидетелями нашей разобщенности и беспомощности…Мы оба честно и решительно боремся за свободу, и только за свободу; мы хотим добиться окончательного мира и общности, вы — для человечества, я — для народа. То, что этого нельзя добиться при данной системе, ясно и очевидно для нас обоих…Вы и я — мы оба знаем, что правительство, система, которые лживы насквозь, должны быть свергнуты…Вы и я — мы боремся друг с другом, не будучи врагами на самом деле. Этим мы только распыляем силы и никогда не достигнем цели. Вероятно, самая крайняя ситуация объединит нас. Вероятно!»
Правоту предположения Геббельса о вероятном объединении в будущем подтверждает, скажем, и состоявшийся в 1939 году пакт Молотова — Риббентропа. Существовавшее продолжительное время и, по существу, совместное советско-германское политическое движение национал-большевизма с советской стороны активно поддерживал Карл Радек. Художественное течение дадаизма называли германским большевизмом.
Но о чем говорят перечисленные и многие другие подобные факты, которые можно было бы приводить еще и еще? Нацизм и сталинизм в идейном смысле были не только эклектичны, но и близки настолько, что подобную близость можно считать доктринальной и сходящейся, в конце концов, в марксизме? Безусловно, основания для такого суждения есть.
Более того, в современной России остается весьма распространенным убеждение, что именно марксистская доктринальность привела большевиков к победе в революции, а попыткой реализовать эту чуждую русской почве доктрину объясняются все беды России.
Я уже сказал выше о несостоятельности подобной позиции: она игнорирует другие сущностные реальности, уводит в сторону от социального содержания самой революции и последовавших за ней событий. Сейчас же мы подходим к этой же проблеме — марксистской доктринальности большевизма-сталинизма — с несколько другой стороны. С той стороны, откуда мы могли бы увидеть нечто общее между нацизмом и сталинизмом и посмотреть, что из этого общего есть в России сегодня.
В данном случае, как и при рассмотрении национальных особенностей, надо со всей определенностью сказать: вывод будет тот же. Хотя доктринальные совпадения в идеологии и практике нацизма и сталинизма многочисленны и разнообразны, то общее между ними, которое делает оба режима в одинаковой мере бесчеловечными, стало порождением определенного состояния или этапа в истории мировой культуры. Искать это общее надо не в каких-то социальных и политических доктринах, а в самой этой истории.
Даже при условии, что все важные доктринальные совпадения двух режимов в наибольшей степени сходятся в марксизме, всегда будет оставаться открытым вопрос: а почему именно в нем? И, главное: что же такое произошло в истории мировой культуры, что сделало фактом появление самого марксизма, в котором потом во многом доктринально сошлись большевизм, нацизм и сталинизм? Мы вернемся к этому вопросу после краткого замечания по поводу нашего «в-третьих».
5. Имя и дело Сталина
Если то общее, что определяет сущность нацизма и сталинизма и делает их в одинаковой мере жестокими и античеловечными, нельзя искать ни в национальных особенностях Германии и России, ни в политических доктринах, то, казалось бы, понятно само собой: тем более не надо искать это общее и в личностях Гитлера и Сталина.
Но и в данном случае, как и в первых двух, есть немало важных нюансов, проясняющих, почему корректность рассмотрения проблемы определяется тем, как проблема эта формулируется и в каком историческом контексте рассматривается.
Был, как известно, такой случай, когда личность Сталина официально и по инициативе самой власти была вынесена, по существу, на всеобщее обсуждение в Советском Союзе, — сразу после доклада Хрущева «О культе личности и его последствиях» на ХХ съезде КПСС в 1956 году.
Случай, надо отметить, редчайший, если не сказать уникальный, и не только для нашей отечественной истории. Уникальность его в том, что данный феномен — культ личности, культ вождя, — свойственный, с позиций общего развития культуры, традиционализму, — стал предметом всенародного обсуждения и обсуждало его население, для которого характерно полное преобладание традиционалистского же массового сознания. Побудительным импульсом руководителей государства, заговоривших о культе, был откровенный эгоистический прагматизм: они хотели спасти себя от надвигающейся ответственности за массовое истребление сограждан. Скрывать и дальше беззаконные «репрессии» оказывалось невозможно: из лагерей шел уже поток «реабилитированных». Но обеспечить успех подобного дела руководители страны могли лишь при выполнении охранительной функции в отношении сталинского режима: вынужденную информацию о «репрессиях» требовалось обставить так, чтобы удержать туман в сознании населения, показать, что многомиллионные расстрелы и аресты порождены не системой, а особенностями личности Сталина. Причем самими инициаторами этого предприятия всё это выполнялось не осмысленно, а скорее инстинктивно, а оболваненными пропагандой массами воспринималось с потрясающим недоумением и со столь же полной неготовностью что-нибудь понимать.
Ни о каком научном, адекватном или просто хотя бы рациональном постижении сталинизма как явления речи, разумеется, быть не могло. Но чтобы у читателя не оставалось на сей счет никаких сомнений, я приведу несколько «зарисовок с натуры» из того времени, характерных для общего, по существу, состояния еще «дорефлективного» традиционализма руководителей страны.
Договоренность вынести вопрос «о культе личности» на ХХ съезд была официально оформлена на заседании Президиума ЦК 9 февраля 1956 года. На заседании было заслушано очередное сообщение комиссии, возглавляемой секретарями ЦК П. Н. Поспеловым (председатель) и А. Б. Аристовым, а также выступление председателя Комиссии партийного контроля при ЦК Н. М. Шверника, генерального прокурора Р. А. Руденко, председателя КГБ И. А. Серова. В сообщении говорилось, что «1935–1940 годы в нашей стране являются годами массовых репрессий советских граждан» и что в эти годы «было арестовано по обвинению в антисоветской деятельности 1 920 635 человек, из них расстреляно 688 503 человека». Хрущев еще раз высказал твердую убежденность в необходимости рассказать все делегатам съезда. И не только о «репрессиях», но гораздо шире — о роли Сталина в них.
Далее я процитирую по протокольным записям некоторые замечания, предварявшие и сопровождавшие заседание Президиума ЦК, чтобы дать представление об общем уровне обсуждения.
— Виноваты повыше, — подавал то и дело реплики Хрущев, — полууголовныеэлементы привлекались к ведению таких дел. Виноват Сталин.
Он же:
— На XXI съезде уже будет поздно, если мы вообще сумеем дожить до того времени и с нас не потребуют ответа раньше.
Он же:
— Несостоятельность Сталина раскрывается как вождя. Что за вождь, если всех уничтожает? Надо проявить мужество, сказать правду.
Более основательно подготовить доклад призывал Ворошилов:
— Сталин осатанел в борьбе с врагами. Появились у него и звериные замашки. И, тем не менее, у него много было человеческого.
— Нельзя в такой обстановке решать вопрос, — возмутился Каганович. — Нельзя так ставить!.. Многое пересмотреть можно, но тридцать лет Сталин стоял во главе.
Сабуров обратил внимание на роль Сталина в войне (вернее, в ее катастрофическом начале) и в обострении международного положения:
— Мы потеряли многое из-за глупой политики, испортили отношения со всеми народами.
— Что партия должна знать правду, — согласен был вроде бы и Ворошилов. — Доля Сталина была? Была. Мерзости много. Правильно говорите, товарищ Хрущев. Не можем пройти. Но надо продумать, чтобы с водой не выплеснуть ребенка.
— Товарищ Хрущев, хватит ли у нас мужества сказать правду? — спросил Аристов.
— Чтобы не быть дураками, — Булганин призвал сказать партии всю правду о Сталине.
Подводя итоги прениям, Хрущев сказал:
— Сталин партию уничтожил. Не марксист он. Все святое стер, что есть в человеке. Все своим капризам подчинял…Надо наметить линию — отвести Сталину свое место, почистить плакаты, литературу. Взять Маркса — Ленина. Усилить обстрел культа личности.
Вникая сегодня в эти реплики, не хочется даже рассуждать о тех смыслах, которые в них, хоть и не без труда, но все-таки весьма отчетливо прочитываются. Поражает интеллектуальный уровень высших руководителей страны. Поражает, но не удивляет. Столь примитивный уровень обсуждения ситуации, сложившейся в такой огромной стране, свидетельствует о той степени интеллектуальной и нравственной деградации, которая стала возможной вследствие плебеизации общества (включая его так называемую элиту) после 1917 года.
Уже сам текст доклада Хрущева на ХХ съезде с научной точки зрения годился разве что как учебное пособие по психоанализу. Заметьте: в названии доклада слово «культ» есть, а Сталина — нет. Даже произнести вслух его имя в самой заявке на тему «мужественному», но тоже пораженному религиозностью по-советски Хрущеву духу не хватило. Как будто его неукоснительно преследовало некое не осознаваемое им самим заклинание. Первый секретарь ЦК КПСС тоже оставался всецело традиционалистом, пускай и традиционалистом уже более продвинутого, «рефлективного», «идеологизированного» типа все того же способа мышления. Даже в тех случаях, когда Хрущев касался, в сущности, наиболее важных проявлений традиционализма, — таких, например, как моноцентризм, авторитаризм, — или вещал о канонизации, сакрализации традиции, он о них не говорил, а проговаривался совсем другими словами. О самом же культе в наиболее обобщенной характеристике доклад утверждал лишь, что он «превратился на определенном этапе в источник целого ряда крупнейших и весьма тяжелых извращений партийных принципов, партийной демократии, революционной законности». Это и есть, на мой взгляд, не что иное, как воплощенная паранойя.
То есть проблемы в интересующей нас логической связи: «Сталин — состояние общества — сталинизм», — для Хрущева не существовало и не могло существовать вообще.
В ходе бурного обсуждения доклада во всех партийных организациях (а это по тем временам — 7,2 млн человек) кипели страсти, как и положено в таких случаях, преобладали и всё захлестывали эмоции. И ничего, что хотя бы отдаленно напоминало прояснение коллективного сознания и уж, тем более, сотрясение оснований Системы, конечно, быть не могло.
Система, породившая «культ» и получившая потом название «сталинизм», в докладе Хрущева даже не упоминалась никаким боком и, опять же, по той простой причине, что сталинизм как систему не могли представить себе тогда ни лично Хрущев, ни массовое сознание.
А когда в ходе обсуждения доклада отдельные люди начинали все-таки прозревать и о ней говорить, та же самая Система всем своим «нутром» — пускай снова на уровне интуиции, инстинктом самосохранения — сразу же улавливала угрозу своему существованию. И сурово карала таких «отщепенцев» только за то, что они хоть что-то свое произносили вслух — да еще не с трибуны, а где-то по кухням, по университетским закоулкам или на сеновалах во время выездов на работы в колхоз. Карала жестоко — пятнадцатью годами лагерей с последующим лишением права прописки в Москве и в крупных городах. Упомяну, например, знаменитое «дело Краснопевцева» на истфаке МГУ, участником которого мог бы стать и сам, окажись я тогда в Москве, а не в Красноярске, куда я на тот момент уехал по распределению.
Что сказать про такое всенародное обсуждение? Что здесь было важнее — единичные прозрения в среде в целом все еще заколдованной общественности или же незамедлительная репрессивная реакция на них все той же, столь же традиционно, как и раньше, ощущающей себя сталинской Системы?
Скорее всего, важным было и то и другое. В любом случае, доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях» и особенно его широкое обсуждение в массах превратились все-таки в событие, и именно данное событие — или, лучше сказать, явление — вместе с самим «культом», действительно, не остались без последствий для населения Советского Союза. Напротив, последствия оказались настолько грандиозными, что сам докладчик, вынесший слово «последствия» в название своего доклада, не мог не то чтобы сформулировать их в качестве возможных, — он не мог, опять же, даже их помыслить. Впрочем, не смогли такие последствия помыслить и почти все десятки миллионов людей, которые приняли участие в обсуждении самого «культа» и доклада со словом «последствия» в названии.
В этом-то, пожалуй, и есть грандиозность последствий того самого феномена, который эти самые десятки миллионов обсуждали, а именно: обсуждали они то, что помыслить себе и, тем более, осмыслить оказались не в состоянии.
Иначе говоря, хотим мы того или не хотим, но получается, что первым наиболее важным и заметным последствием культа личности Сталина на вторую половину ХХ столетия стало продолжение в СССР коллективной и массовой неосознанности данного явления даже и после того, когда на него указали пальцем.
На своем ХХ съезде партия решила, — пускай, повторюсь, скорее, и на уровне интуиции, нежели осмысленно, — пожертвовать именем Сталина ради спасения себя самой и сталинизма как социально-политической и идеологической системы. Подобную жертву в виде имени Сталина все еще зачумленная марксистско-ленинской идеологией советская (и в этом смысле традиционалистская) общественность принимала с трудом и до сих пор воспринимает ее с переменным успехом. В последнее время отношение к Сталину в массовом сознании неуклонно склоняется в сторону улучшения и «рейтинг» его растет, поскольку со спасением сталинизма все, в конце концов, получилось настолько, что он и сегодня у нас все еще живее всех живых.
Получается, что вторым наиболее важным последствием культа стало продолжение сталинизма почти до конца ХХ века по месту его постоянной прописки, а после распада Советского Союза, — даже после распада страны! — стало возможным перемещение и смещение его не только в пространстве, но и в Большом времени. Он перекочевал, пусть и в несколько урезанном виде, в ХХI век, в третье тысячелетие. Оказалось вполне возможно продолжение сталинизма не только без самого Сталина, но даже и без его имени. Возможно, даже без некоторых самых что ни на есть родовых признаков, столь характерных для ХХ века: как, например, ГУЛаг, массовые расстрелы и аресты, отпавшие вместе с ушедшим веком. Оказалось, что явление, обозначенное и нареченное «сталинизмом», может продолжаться какое-то — и весьма длительное — время вообще без имени собственного и без некоторых давно уже почти сросшихся с ним одеяний вроде, например, «социалистического реализма» или «социалистического государства диктатуры пролетариата».
Впрочем, если ко всему добавить ставшие ныне уже фактом частную собственность, рынок (хотя и с приставкой «вроде бы», но, тем не менее), а также не забыть профицитный бюджет и свободу передвижений, возможность (пусть и ограниченную) критиковать существующие порядки и даже высшую власть и еще многое другое в том же духе, то вполне естественно может возникнуть вопрос: да сталинизм ли еще все это?
В самом деле, если налицо столь важные и многочисленные перемены, — как бы к ним ни относиться аксиологически, — то что же именно говорит о сохранении и продолжении в ныне существующем строе все того же фундаментального содержания, которое делает такой строй по-прежнему сталинизмом?
Чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, продолжим сравнение нацизма и сталинизма по таким важнейшим для них вехам, как итоги войны и последствия культа личности Сталина.
6. Мертвые хватают живых
Предпринятая руководством КПСС на ХХ съезде попытка отделить культ Сталина от собственно сталинской Системы ради спасения этой Системы в среднесрочной перспективе удалась, и по существу сталинизм в Советском Союзе после ХХ съезда в несколько изменившейся форме продолжался. Тем самым он вписался и в перспективу Большого времени и в качестве определенного типа общественного устройства остался продолжением Русской системы, берущей начало в глубине веков и устоявшей даже в ходе потрясений 1917 года. Вместе с тем, если данную систему рассматривать в перспективе Большого времени как продолжение царизма, то, — и это тоже надо отметить, — после ХХ съезда определенный сдвиг в пределах самой системы все-таки произошел. Подобный сдвиг, чтобы подчеркнуть суть его направленности, можно определить как сдвиг от «эпохи богов» к «эпохе людей», или, что то же самое, — от традиционализма к современности. Советский культ Сталина, если его рассматривать с такой точки зрения, превращается в частный случай любой канонической культовой системы, — то есть культовой системы как таковой; критика же культа Сталина (особенно в ходе фактически всенародного обсуждения), хотя бы и не вполне осознанная, не выходящая далеко за пределы господствующей идеологии, способствует, тем не менее, дальнейшей десакрализации этой Системы.
Сдвиг в данном направлении произошел, а перехода от одной эпохи к другой и на сей раз не случилось.
Спустя сорок лет после свержения царя в 1917 году произошло очередное действо по десакрализации Системы, которая, однако, превратиться в бескультовую не может в принципе (отсюда и очередной «национальный лидер» сегодня), — иначе это уже был бы не традиционализм. Безрелигиозной каноничности не бывает. А любые попытки явить ее таковой, как-то ее осовременить неизбежно ведут все дальше к ее деградации, которая, собственно, и просматривается в затянувшихся и ставших посмешищем на весь мир кульбитах нынешней власти с «преемником».
То же просматривается и в перспективе Большого времени, и в ходе сравнения событий в Германии и в Советском Союзе с учетом личностей Гитлера и Сталина, а вместе с тем и в отношении нацизма и сталинизма.
После войны события в двух странах развивались уже в диаметрально противоположных направлениях. Нацизм вместе с культом Гитлера рухнул вследствие поражения в войне и насильственного иностранного вмешательства во внутренние дела Германии. Однако насильственное вмешательство СССР восточные немцы испытали на себе как фактор, значительно отсрочивший приход современности; западные же, оккупированные союзниками по антигитлеровской коалиции, наоборот ощутили невиданное в нормальных условиях ускорение.
Нацизм был сокрушен и уничтожен в результате поражения Германии в войне. Сталинизм же в результате победы СССР над Германией в той же войне еще больше окреп и расширился — за счет стран Восточной Европы (в том числе восточной части Германии), а также за счет ряда стран Азии, Африки и Латинской Америки. Крепчал и расширялся сталинизм и в самом СССР — за счет, главным образом, национализма и антисемитизма. Этот процесс, — хотя, опять же, в весьма своеобразных формах, — продолжается и в современной России.
* * *
После всего сказанного о сравнении гитлеровского нацизма и сталинизма попробуем вернуться к вопросу, поставленному нами в самом начале наших размышлений об особенностях исторической памяти в ХХ веке: в чем же состоит то общее для обоих режимов, то самое главное, что делает их если не тождественными, то, во всяком случае, сопоставимыми и сходными настолько, что не остается никаких сомнений — это режимы из одного «семейства»?
И вновь ответим: их общее основание — определенный тип человека, порожденный омассовлением, деэлитаризацией планеты и нарушением равновесия между природой и культурой во внутренней структуре индивида и общества. Такой тип — «человек-масса» — всеобщий феномен наступившей эпохи, которая есть не что иное, как эпоха господства масс. «Массовый человек» не ощущает в себе никакого особого дара или отличия от всех (хорошего или дурного), чувствует, что он — «точь-в-точь как все остальные», и нисколько этим не огорчен, — наоборот, счастлив чувствовать себя таким же, как все.
С наступлением эпохи масс оказалось, что освобождение только от внешних обстоятельств — вовсе еще не гарантия превращения человека в хозяина своей судьбы, а, следовательно, не гарантия освобождения его от внутреннего рабства.
Освобождение от внешних обстоятельств для человека-массы означало лишь одно: эпоха стремления к достижению сменилась для него эпохой удовлетворенности потреблением. Оставаясь по-прежнему внутренне закрепощенным, средний человек, столкнувшийся с некоторым вполне реальным и повсеместным улучшением материальных, социальных и правовых условий, очень быстро уперся в потолок своих желаний. В людском сообществе стали развиваться по нарастающей, — не как рост числа отдельных случаев, а как его системные свойства, — асоциальность, бескультурье и безнравственность, эгоизм и безответственность.
Именно подобные свойства в качестве внутренних скрепов, соединяющих и в то же время разъединяющих людей, заложили мощное основание бесчеловечности, на котором и поднялись такие монстры, как нацизм и сталинизм.
7. Глобализация ненависти
Итак, главная планетарная проблема ХХ века, которая осталась не осознанной не только на уровне массового сознания, но и на уровне интеллектуальных элит, да так неосознанной и перешла уже в ХХI век, — не Холокост и даже не Вторая мировая война, и уж никак не этнические чистки или феномен коллаборационизма. Человечество и прежде знало подобное в избытке, а пропорционально числу живущих случались события никак не менее чудовищные, в том числе — поголовное массовое истребление инородцев или иноверцев. Невольно приходится повторять за Гегелем: «История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы».
Главная проблема, — повторю это еще раз, — выход на авансцену политики широких народных масс в качестве субъекта и важнейшего актора. Массы породили весьма разнообразные массовые движения, революции, одержали победы и в результате этих побед утвердили диктатуры в виде большевизма, сталинизма, нацизма и прочих «измов». Они пережили и трагедии победившего большинства. В итоге мир оказался расколот на противоборствующие системы: лагеря, блоки, центры и периферии, — живущие в состоянии невиданной прежде постоянной напряженности.
Для меня сейчас неважно, в чем причина очевидной сосредоточенности западной интеллектуальной элиты на Холокосте. Но, в чем бы ни крылась эта причина, последствия подобной сосредоточенности очевидны. Холокост, — я вновь подчеркиваю это, — в значительной мере заслонил собой главные проблемы столетия. При таком смещении приоритетов вещи глобальные, а именно: особенности массового сознания в ХХ веке, сущность диктаторских режимов, общие жертвы человечества из-за них, хрупкость и уязвимость всего мироустройства, — превращаются в маргинальные проблемы.
А в чем смысл сосредоточенности на Холокосте? В том, чтобы показать, раскрыть нацизм на примере самого зверского проявления его бесчеловечной сущности, рассмотреть крайний предел человеческого падения режима?
Но то же можно было сделать, не нарушая иерархию причин и следствий в глобальной проблематике, не смещая уровни задач.
Однако для меня лично самое печальное в таком искажении исторического взгляда — не это. Оттеснение сталинизма как такового на задворки не только массового, но научного сознания создает и поддерживает иллюзию, что сталинизм целиком и полностью принадлежит прошлому и если еще имеет сегодня какое-то значение, то исключительно как элемент восстановления исторической памяти.
Например, секретарь французской Академии наук ЭленКаррерд’Анкосс на международной конференции по истории сталинизма прямо говорит: «Сталинизм — это тоже какая-то утопия прошлого, которая в головах строится. А нужно строить будущее. И пока люди не освободятся от этой утопии…Все-таки нужно освободиться, потому что никто не может строить будущее в трудные времена, смотря назад». Мадам Каррерд’Анкосс, таким образом, видит в сталинизме лишь повод для части российского населения ностальгировать по прошедшему, тогда как надо думать о XXI веке, «который очень…тяжело начинается и будет трудным, по многим причинам — именно потому, что индустриальный мир уже тонет под весом бедных стран».
На самом деле проблема как раз в том, что сегодняшняя Россия — это и есть живой сталинизм. Он, конечно, значительно изменился по сравнению со сталинскими или даже брежневскими временами: у нас даже вроде бы есть частная собственность и парламент и нет ГУЛага, массовых бессудных арестов и расстрелов. Однако сталинизм у нас сохранился и как общественное устройство, и как тип властвования, и как имперские идеология и политика. Именно в таком сущностном его качестве путинский сталинизм определяет собой внутреннюю и внешнюю политику современной России.
В значительной мере он определяет и общую конфигурацию современного мира, делает ее напряженной и опасной. В этом и есть суть проблемы, затуманенной Холокостом и «внедрением-вытеснением», «памятью-забвением» о сталинских преступлениях.
Суть сталинизма — не преступления, не «репрессии» и не «государственный террор как системообразующий фактор эпохи» и даже не только «государственное насилие» (как по А. Рогинскому, например). Его «родовая черта», — я вновь и вновь повторяю это, — неприятие, ненависть к любому «Другому», к любой другой субъектности, вплоть до полного уничтожения на практике всего «другого» и «других»: будь то буржуазия, крестьяне, евреи или мировой капитализм. Здесь — его однотипность с нацизмом и прочими «измами» ХХ века. Вот почему для меня Холокост, как и сталинские «репрессии» (и выдвигаемые в памяти на первый план, и предаваемые забвению), — всего лишь способ (умышленный или неосознанный) затмить в массовом сознании собственно проблему и суть сталинизма вместе с его глубинными причинами.
Холокост, рассматриваемый как определяющая историческая проблема, на русской почве более всего затуманивает взор и мешает увидеть за ним сталинизм как совершенно живую и совершенно реальную опасность сегодняшней России. В том же ряду, — то есть как помехи, заслоняющие коренную проблему, — стоят и споры о Голодоморе (геноциде) на Украине, и попытки вытеснить вообще сталинизм на задворки общественного сознания (именно такова сегодня официальная историческая политика в России), и подсчеты прибалтами ущерба, нанесенного оккупантами. Чем именно ученые и политики мотивируют свое уклонение от важнейшей темы — отдельный вопрос, для меня сейчас не столь существенный.
Никто в России не сделал больше, чем «Мемориал», в плане исследовательско-просветительной работы по сталинизму и увековечению памяти его жертв. Заслуживают всяческого уважения публикаторская деятельность этого международного общества и взвешенность основных его выводов и оценок. Тем более досадны отдельные неточности в высказываниях самых авторитетных представителей «Мемориала», например: «Наиболее специфическая характеристика сталинизма, его родовая черта — это террор как универсальный инструмент решения любых политических и социальных задач». Или: «Сегодня память о сталинизме — это почти всегда память о жертвах, но не о преступлении. В качестве памяти о преступлении она не отрефлексирована, на этот счет консенсуса нет».
В приведенных высказываниях нет ничего принципиально ошибочного. Они были бы совершенно корректны в соответствующем контексте. Тем не менее здесь кроется неточность: исходя из этих высказываний, можно принять за определение сущности явления то, что таковым не является. Массовые репрессии, государственное насилие и террор, — действительно, специфические и даже сущностные характеристики сталинизма, но все-таки еще не собственно его сущность. Это особенно важно иметь в виду, говоря о сталинизме в современной России. Отсутствие у нас сегодня массовых репрессий и террора совершенно не исключает государственного насилия и иных методов подавлять и уничтожать любую другую, кроме властной, субъектность. И на это, как оказалось, нынешняя сталинская власть по-прежнему вполне способна.
Сталинизм, повторюсь, — по своей сути не только государственное насилие, а, главным образом, — ненависть, агрессия по отношению к «Другому». Это — непрерывная и постоянная всеобщая мобилизация (и мобилизованность) на уничтожение всякого «Другого». И — всепоглощающая и всеобъемлющая практическая деятельность по его уничтожению.
8. Аристократы не духа, но плоти
В массовых движениях ХХ века проявилась глубинная сущность человека. Этой глубинной сущности, так же, как и особой природе массового сознания и массового поведения, принадлежит особая роль в общественной эволюции. С наступлением эпохи масс социальное в поведении человека приглушается, но резко возрастает значение биологической составляющей. В сущности, как в повседневности, так и, особенно, в массовых движениях начинают преобладать дочеловеческие формы социальности. Обостряется противоречие «природное — культурное», и становятся господствующими (по крайней мере, в иудео-христианской части мира) ценности «общества всеобщего потребления».
Самоновейший — 2008 года — кризис такого общества («ипотечный», «финансовый», «энергетический» etc.), между прочим, дает очень серьезную пищу для раздумий о нашем умении даже не учить исторические уроки, но хотя бы понимать вопросы, которые задает история.
Эпоха масс и массовые движения вызвали к жизни много самых разных коллективных и индивидуальных действий, свойств и проявлений: таких, например, как фанатизм, ненависть, горячие надежды, энтузиазм, нетерпимость. Все они в определенной обстановке и при определенных условиях мобилизуют могучий приток активности. Все они требуют слепой веры, безусловного подчинения и нерассуждающей преданности.
Особенно мощное объединяющее средство массовости, как отмечали многие исследователи массовых движений, — в частности, Эрик Хоффер, — ненависть: «Ненависть, — писал он, — отрывает и уносит человека от его “Я”, он забывает про свое благо и свое будущее и освобождается от мелочей зависти и корысти. Он превращается в безымянную частицу, трепещущую от страстного желания раствориться и слиться с ему подобными в одну кипящую массу».
То же свойство ненависти, но с несколько иной стороны, со стороны глубинной сущности человека, отметил в свое время Блез Паскаль: «Человеку хочется быть великим, а он видит, как мал он; ему хочется быть счастливым, а видит, как он несчастлив; ему хочется быть совершенством, а сам он полон недостатков; ему хочется быть любимым и уважаемым всеми, а он своими недостатками вызывает к себе презрение и отвращение. Эта двойственность его положения порождает в нем страсти преступные и несправедливые по отношению к Другим: в нем нарождается жгучая ненависть к горькой для него правде»10.
На объединяющем свойстве ненависти основана такая важнейшая черта массовости, как постоянная потребность во враге. Массовость может обходиться без веры в Бога, но без веры в дьявола — никогда. Когда Гитлера спросили: думает ли он, что евреи должны быть истреблены? — он ответил: «Нет…Тогда нам пришлось бы изобрести еврея. Очень важно иметь конкретного врага, а не только абстрактного».
Вот почему я считаю очень важным показать, где не надо искать то общее, что присуще и сталинизму, и нацизму. Вот почему снова подчеркиваю: общее, то, что определяет сущность двух режимов, — именно ненависть к «Другому» и готовность это «Другое» уничтожать. То есть общим у них является соответствие звериному, докультурному началу в человеке. Потому оба режима и оказались столь близки человеку-массе, столь успешны у него.
«Дьявол», «виноватый», «враг» — только персонификация ненависти к «Другому». Именно в этой ненависти проявляется сущность всех диктаторских режимов, поскольку они, в свою очередь, есть не что иное, как порождение человека-массы и массовых движений.
Категория врага, однако, — действительно системообразующий элемент построения России как государства, как империи, как самодержавия и как сталинизма. В статусе врага состояли у нас в разные времена варяги, «татары», западноевропейцы («католические недоверки»), отдельно — немцы, американцы, евреи, буржуи, кулаки. Уже в наше время поочередно — эстонцы, грузины, латыши, украинцы; сегодня к этой категории отнесены всякие разные «понаехали тут».
Только в ХХ веке лютая ненависть к очередному врагу (после объединенных врагов славянства и Первой мировой), к «виноватому» царизму обернулась для России десятками миллионов человеческих жертв. Потом во врагах побывал бывший (до 1941 года) лучший друг СССР — гитлеровский нацизм, что обошлось нам еще в несколько десятков миллионов павших. Затем, когда в 1990-х новой мишенью ненависти стал коммунизм, сменивший царизм в роли «виноватого», результатом стал распад Российской империи под названием СССР.
Однако поиски врагов и государственное воспитание ненависти продолжаются: сегодня в виноватых ходят демократия с демократами и, как всегда, Запад и американский империализм.
В феномене ненависти проявляются отчаянные усилия массового человека избавиться от собственной недостаточности и никчемности. Здесь презрение к самому себе переходит в неприятие и агрессию к «Другому». Ненависть возрождает господство дочеловеческих, инстинктивных форм социальности. В ней, в ненависти, — и глубинная сущность сталинизма.
Иными словами, самая большая беда сегодняшней России и главная причина ее неизбывного сталинизма — в соблазне для большинства наших сограждан сущностные характеристики нашего сталинизма отнести на счет других. И пока каждый из большинства не осознает необходимость и не найдет мужества обнаружить в таких сущностных характеристиках самого себя, сталинизму в России ничто не грозит.
Говорить о биологической составляющей в поведении человека, о роли подсознательного в массовых движениях — труднее всего. Трудно, но совершенно необходимо, поскольку, — повторюсь, — интеллектуальные силы и на Западе, и в России озабочены, в первую очередь, Холокостом, Второй мировой войной, Голодомором, геноцидом, сталинскими «репрессиями» и террором. Поиском виноватых среди недобитых и уцелевших. Поиском свободных мест на скамеечке среди жертв и обделенных…
Я сейчас не говорю о причинах, я констатирую факт: сегодня налицо дезориентация интеллектуальной элиты, в результате чего наиболее острые и самые актуальные проблемы современности задвигаются в исследовательские закоулки и на задворки массового сознания.
Почему же так исключительно трудно освоить идею биологической составляющей современной политики? И почему освоить эту идею так важно для выживания всего человечества? В чем трудность ее вербализации и представления в понятийных категориях?
Я уже цитировал слова Э. Каррерд’Анкосс, произнесенные в декабре 2008 года и называющие самую главную и самую трудную проблему современности: «Индустриальный мир уже тонет под весом бедных стран…». На мой взгляд, это не только совершенно справедливо, но, более того, многие (если не главные) составляющие указанной проблемы уходят корнями именно к тем первопричинам, которые и послужили движущей силой и механизмом глобального омассовления планеты. Слова Э. Каррерд’Анкосс дают ключ к тому, что побудило массы выйти на арену мировой истории, и заставляют непосредственно задуматься о природе массового сознания и поведения, о соотношении биологического и социального в массовых феноменах и, наконец, о возможности влиять на них.
Начало ХХ века в Европе (в какой-то мере и на других континентах) было ознаменовано соединением и переплетением двух совершенно разных по природе и содержанию явлений.
1. Под воздействием известных материальных, психологических и социальных факторов на историческую авансцену вышли широкие массы. В результате перестал существовать аристократизм как необходимое условие любой общественности. Его место заняла масса, а, вместе с тем, «западная идея, — по словам русского философа К. Леонтьева, — сделала из всякого поденщика и сапожника существо, исковерканное нервным чувством собственного достоинства». Все это сопровождалось беспрецедентным возрастанием роли полуобразованного населения планеты.
2. Колоссально расширилась сфера иррационального, а также массовых бессознательных стремлений и инстинктов. В какой-то мере ее расширение стало разноплановой реакцией на мощное наступление разума в предшествующих двух столетиях. В идейном плане Европа «устала» от рационализма XVIII–XIX веков, что выразилось в росте иррационализма и мистицизма — как философском ответе XX века на позитивизм. В познавательном плане реакцией на мощное наступление разума (итогом которого оказалось утверждение позитивизма и марксизма) стала полная смена в начале ХХ века научной парадигмы: отныне в ней преобладали как наиболее продуктивные идеи относительности, вариативности, дополнительности.
В плане массовой, групповой и индивидуальной психологии наступление разума (некоторые исследователи определяют его даже как «агрессию разума») привело к негативным, с точки зрения общественной стабильности, последствиям — к нарушению равновесия в человеческой психике. В ней, как теперь известно, кроме сознательного «Я», присутствует противостоящее ему «Оно» — сфера бессознательного, неуправляемых животных стремлений, борьбы инстинктов. Это «Оно» и есть главное препятствие для стабильного человеческого общежития.
Но в процессе своего становления человеческое общество выработало структуру, противостоящую бессознательному, — «сверх-Я», средоточие социального в человеке. Расширение на протяжении двух веков сферы разума за счет структур «сверх-Я» — религии, стереотипов морали, традиций — неожиданно обернулось в ХХ веке не укреплением позиций сознательного «Я», а ураганным распространением бессознательного «Оно».
9 «И вечный бой…»
Вся эпоха «Россия — СССР — Россия», если воспринимать ее в предельно обобщенном виде, а именно: как поиски нашим людским сообществом способов выжить путем стабилизации общественной организации, — есть практическая попытка (в чем-то продуманная, но в целом неосознанная, не отрефлексированная до проникновения в первопричины) обуздать коллективное (можно даже сказать, национальное) бессознательное — это самое «Оно» — за счет расширения сферы «сверх-Я». То есть обуздать стихию природных страстей, буйство животных инстинктов, разгул звериного эгоизма за счет расширения сферы социального. Последнее включило в себя искусственно созданный насилием социум, а также все остальное насильственное (террор, ГУЛаг), идеологическое (как суррогат религиозного), репрессивное (включая всю систему образования), пропагандистское.
И надо сказать, что с такой предельно обобщенной точки зрения, — исходя из выживания данного людского сообщества за счет расширения сферы «сверх-Я», — эта практическая попытка удалась: наше сообщество продолжает существовать. Что же касается неудач и потерь, то их, как оказалось, с точки зрения подобной сверхзадачи — выживания людского сообщества, можно и вообще не принимать в расчет. Или, на худой конец, можно их просто-напросто списать, опять же, по-русски: найти ответ на первый сокровенный русский вопрос «кто виноват?» — и навесить на этого-этих виноватых всю ответственность за все наши беды и прегрешения.
Ну что с того, что потери населения за всю эту эпоху по некоторым подсчетам исчисляются в сто миллионов? Что с того, что территориально Россия (СССР) в 1991 году скукожилась даже больше, чем до России в 1917-м? И потеря более чем двадцати миллионов русских («русскоязычных»), которые сегодня остались за рубежом, — оказывается, тоже ничто по сравнению с выживанием сообщества как такового. Наконец, даже то, что за счет расширения сферы «сверх-Я» произошло в действительности вовсе не обуздание «Оно», а подавление сознательного «Я», — то есть окончательная ликвидация личности в качестве базового элемента субъектности в данном сообществе, — тоже надо отнести к издержкам выживания…
Но тогда оказываются совершенно истинными все многочисленные указания на то, что русский народ — не цель, а средство подобного выживания. В частности, оказывается прав мудрый МерабМамардашвили: «Россия существует не для русских, а посредством русских».
Так что же представляет собой наше людское сообщество, которое за пятьсот лет существования так ничему и не научилось, кроме как пожирать и калечить само себя во имя выживания?
Известны многие ответы на этот вопрос, которые давали за последние двести лет (после Чаадаева) и в России, и за ее пределами. Но, как правило, в самих таких ответах вопрос о том, что есть Россия, подменяется вопросом о том, какой она должна быть. Русский идеал, оказывается, всегда легче себе представить и, особенно, проще сформулировать, чем определить и назвать русскую реальность.
И не случайно. Если оставить за рамками обсуждения ту грань проблемы, которая относится к науке, к логике и фактам (и мало кого по-настоящему интересует), но оттенить ту ее грань, которая затрагивает сферу нравственности, эмоций, патриотизма (здесь у нас неспециалистов вообще не бывает), то, называя кошку кошкой, заведомо рискуешь в глазах очень многих прослыть, как минимум, реакционером и/или русофобом. О чем свидетельствуют, в частности, отклики на публикацию первой части этой работы в «Новой газете».
Россия как людское сообщество по многим разным причинам, — некоторые из них я назвал, — застряла в начальном периоде борьбы за существование, где-то в самом раннем Средневековье. По социальным меркам наше сообщество абсолютно неспособно к самоорганизации. К тому же оно остается глубоко расколотым и пребывает разными своими составляющими в совершенно разных эпохах. В интеллектуальном плане мы неспособны к рефлексии и воспринимаем себя и окружающий мир преимущественно на коллективных — подсознательном и бессознательном — уровнях. В сфере духовной — тот же раскол, то же расщепление русского духа между святостью и животными инстинктами.
Когда ЭленКаррерд’Анкосс отметила, что «индустриальный мир уже тонет под весом бедных стран», она не сочла нужным уточнить: самим типом своей социальности, ментальности и духовности Россия существенно увеличивает этот «вес бедных стран». Не только своим абсолютным весом, но и своими попытками сплотить этот мир бедных.
Мы в мире бедных — среди своих. И особенно роднит нас с ними патологическая ненависть к Западу. В этой ненависти кроется и общее неприятие любой другой субъектности, и тайное признание своей собственной ущербности: нам хочется иметь и уметь то, чего у самих нет, а сделать самим не получается.
Но ненависть — при всей ее эффективности — плохое и опасное средство для сплочения.
Борис Стругацкий — Юрию Афанасьеву: За существование России я спокоен: время еще не пришло
Дорогой Юрий Николаевич!
Давно (с незабвенных времен «самиздата») не получал я такого удовольствия от публицистики, как при чтении Вашей статьи. Я знаю, конечно, что ничего не изменит она и не заполнит ни в какой мере всепобеждающую Пустоту, но она высечет, я уверен, десятки и сотни искр из родственных душ, которые есть, которые всегда были и которые будут всегда, — потому что Мир устроен так, а не иначе! Черт побери, он устроен так, чтобы родственные души были всегда и перекликались бы через Пустоту, вопреки Пустоте и в ущерб этой Пустоте, какой бы неодолимой она нам ни представлялась.
Я позволил себе несколько замечаний-дополнений к Вашему тексту не в надежде даже, что они представят для Вас какой-то интерес, а потому только, что они показались мне уместными.
Россия снова перед выбором: то ли все то, что уже довольно отчетливо просматривается в окружающей нас реальности, — ордынско-византийский политический курс властвования, традиционная русская геополитика, советское мессианство, всепоглощающая коррупция и путинская зачистка политического пространства России. То ли…
Я совсем не уверен, что у нас есть время для размышлений о каких-то альтернативах. Тем более для их реализации.
Время для размышлений всегда найдется — Божьи мельницы мелят медленно. Что же касается реализации — да зависит ли здесь от нас хоть что-нибудь? Мы всего лишь наблюдатели посреди Пустоты. И если у нас получится хотя бы ПОНЯТЬ происходящее, это уже будет немало.
И он (Сталин) решил, чтобы рывок все-таки сделать, — заменить народ.
Рывок получился, а замену народа потом нарекли «построением социализма».
Это важнейший момент в понимании того, что сделал Сталин!
Замятин и иже с ними предрекали роботизацию человечества при социализме, обращение индивидуумов в безликие номера, потерю личности они предрекали. Оказалось, что ничего этого с людьми делать не надо. Люди вполне могут оставаться людьми, они просто становятся плохими людьми — двуличными, предельно эгоистичными, запредельно пуганными, — они становятся «антиблагородными»: нравственный шлак, совсем утративший способность (и потребность) к анализу. Превращение в роботов обернулось превращением в «совок».
(Абстрактный вопрос: любой народ можно так «превратить» или только наш — с Ордой, опричниной и Империей в социальных генах?)
Обычно, когда хотят сказать о самом страшном из всего, что произошло с Советским Союзом в ХХ веке, говорят о войне и о сталинских «репрессиях». Так уж отпечаталось в коллективной памяти представление о жертвах, которые нашему народу пришлось положить на алтарь отечества. Жертвами сталинских «репрессий» в этой памяти оказались те многие миллионы, которые попали в ГУЛАГ или были уничтожены, еще не дойдя до него, в ходе «мирного» «социалистического строительства». И эти жертвы — правда. Но только далеко не вся и, может быть даже, не основная правда.
Это — «разрешенная» правда. Правда, допущенная цензурой к употреблению. Истинный ужас — превращение народа в социальный шлак — никогда не обсуждался сколько-нибудь широко. Что характерно! Ибо народ у нас вечен, неприкосновенен и всегда прав. Никто и ничто — ни татаро-монголы, ни крепостное право, ни бесы-большевики — не в силах изменить природу и суть народа-богоносца. На том стоим и до сих пор, и всегда стоять будем, какие бы режимы ни вторгались в нашу историю и на какие бы отчаянные раскаяния не решалось начальство.
Анализ «революции конца 80-х — начала 90-х» у Вас бескомпромиссен и даже попросту жесток. Этим, почти трогательным, на мой взгляд, Давидам, оказавшимся вдруг — без всякой пращи! — перед чудовищным Голиафом перезрелого протухающего социализма, Вы не оставляете, по сути, никакого права на «неумение» (а где было взять там умелых?), на «неполное служебное соответствие» (а откуда было взяться полному?), на простое отсутствие опыта в таком редкостном все-таки занятии, как совершение стихийной — как снег на голову — революции. Вы жестоки до беспощадности.
Государственных руководителей 80-х и 90-х годов <…> роднят и делают совершенно однотипными в одинаковой мере присущие им всем два основных качества — правовой нигилизм и аморальность. <…>
Любые решения, любые деяния властей во все рассматриваемое время можно разбирать, перебирая по косточкам все их экономические, геополитические, патриотические и прочие соображения и обоснования, но всегда если не на поверхности, то на донышке откроются эти два родовых их качества, объясняющие все до конца. Именно они, такие качества, стали преступной основой самих властей и создали необходимую среду для криминализации всего социума.
Не берусь оспаривать этих тезисов, хотя и считаю их по-прежнему чрезмерно жестокими. Но снова и снова спрашиваю — себя, Вас, всех: как?!!! Как можно было реализовать появившийся тогда у России «исторический шанс»?
С этим народом? С этими лидерами? С этой экономической ситуацией?
Более эффективно? Более исторически точно? Просто более перспективно, наконец?
Как?!!!
Движение, как известно, жизнь. Отсутствие жизни — смерть. Сегодняшние «Бог, Царь и Отечество» (олицетворенные Путиным) предлагают нам согласиться с тем, что общероссийская утренняя гимнастика («восставание с колен» под барабаны и фанфары) означает движение — то есть жизнь. <…>
На самом деле продолжать такую имитацию развития означает гарантировать очень скорый конец для того культурно-исторического феномена, который пока еще известен как Россия.
It depends, как говорят в таких случаях наши извечные супротивники.
Иногда мне кажется, что Путин взял за образец нынешней России царскую Россию 1913 года. Иногда мне кажется даже, что он такую Россию уже построил. Это вполне стабильное государство, населенное довольно спокойным, вполне неприхотливым народом, начальстволюбивым, неприязненным к тем, кому «больше других надо», и искренне убежденным, что начальников не выбирают — их назначают другие начальники, и получается гораздо лучше. Государство наше по сути своей — империя, имеет имперские амбиции и склонно к расширению своей территории, хотя склонность эту отнюдь не афиширует, а использует только во внутренних пропагандистских целях.
«Первым европейцем» страны, как и во времена Александра Сергеевича, остается «правительство», или, говоря современным языком, — «правящая элита». «Европейскость» элиты сводится, по сути, к совокупности вполне разумных представлений о наличествующем народе и его неотъемлемых правах. Так, названный народ, безусловно, имеет право голосовать за тех представителей, которые определены элитой. Народ имеет право на законно приобретенную частную собственность (квартиру, автомобиль, участок земли), он может также (с некоторыми оговорками) свободно выбирать себе место жительства, а при желании пересекать государственную границу в избранном направлении.
Большинство из перечисленных представлений элиты являются порождениями сравнительно недавнего времени — каких-нибудь 60 лет назад они прозвучали бы вполне одиозно (если бы кто-нибудь вообще рискнул их озвучить). Элита вообще склонна «жить и жить давать другим», что также выглядит не совсем привычно для нашего отечества и наводит на вполне европейские мысли о том, что «прогресс, ребята, движется куда-то понемногу — ну, и слава богу!..».
Как и положено быть, становой хребет Империи — чиновник, который ищет исключительно и только благорасположения начальства и более ничто в этом мире его не вдохновляет. Известно также, что основной закон нашей Империи (как и любой другой) — сохранение статус-кво, и всякое нарушение этого статус-кво встречается со всею энергией государственной неприязни. А это значит, что наша Империя — есть застой, торможение, поиск покоя. И не только среди первых Империя рискует не удержаться, но реально рискует не задержаться и среди вторых и остаться странноватым монстром — Верхней Вольтой с ядерными боеголовками.
Впрочем же, государство это (если без претензий) вполне устойчиво, перспективно и способно занимать место этак четвертое-пятое по ВВП в активно развивающемся мире, опираясь на своих Рябушинских, Мамонтовых, Путиловых, а там, глядишь, и на собственного Столыпина?
Надежно и надолго вытравленный дух народовольства обещает относительный покой в сумбурном нашем мире, страдающем, правда, приступами терроризма. Народ смирен и смиренномудр, и чтобы расшевелить его по-настоящему, нужны обстоятельства, покруче очередного (привычного) падения уровня жизни или сорокапроцентного (привычного) уровня бедности или, скажем, «роста безработицы», и, уж конечно, никак не «ускорения оттока капиталов из России». Тут понадобилась бы война, тяжелая и беспобедная, которой элита, разумеется, постарается избежать. Так что, честно говоря, я не вижу существенной угрозы нашей стабильности — даже в надвигающемся неуклонно энергетическом кризисе (в который мы все провалимся, как в яму, в одночасье оказавшись по образу жизни своей в XIX веке, — «веке пара и электричества», чем, впрочем, нас опять же не удивишь).
Правда, все выглядит не так благолепно и стабильно, как хотелось бы. Кроме названной элиты, я бы сказал, элиты гедонистов, в сумрачных недрах правящего класса угадывается еще и элита аскетов, жестких, холодных людей, исповедующих культ Власти — неограниченной, беспощадной, бескорыстной, черт возьми, — власти ради власти и во имя власти (без никаких там имущественных привилегий, счетов в Швейцарии и родных детей в Оксфорде). Их, может быть, даже и меньшинство, но они — свирепее, беспощаднее и авторитетнее мягкотелых гедонистов, и не за ними ли будущее? В конце 20-х Россия уже пережила схватку таких элит, мы знаем, кто победил тогда и во что вылилась эта победа.
К счастью, нет пока Идеи, способной оплодотворить беспощадную Власть ради власти, нет и вроде бы не предвидится, хотя проходят активную апробацию и «Россия превыше всего», и «Наша родина — Советский Союз», и даже «Православие, Самодержавие, Народность». Но — не хватает во всем этом наборе чего-то важного, чего-то исконного и новейшего одновременно — благородного безумия не хватает!
Впрочем, это дело наживное. В крайнем случае, хватит старой доброй идеи реванша — реванша за все: за унижения перестройки, за потерю земель, за потерю престижа, черт возьми! Что может быть важнее престижа для имперского человека!
А теперь вопрос: кто в первую очередь не потерпит реального положения вещей — аскеты или гедонисты? Скромное, но спокойное существование во вторых рядах мировых держав или — рывок, реванш, победоносное возвращение в сверхдержаву? Выбор будет сделан на протяжении поколения.
За существование культурно-исторического феномена, который пока еще известен как Россия, я, в общем, спокоен: время еще не пришло.
Но боюсь, что «живи и жить давай другим» у нас не получится никогда. И «обогащайтесь!» у нас (опять, как и в 20-х) не получится тоже. Холодные времена наступают, господа. Пора начинать ждать оттепели.
Извините, что задержался с ответом. Я теперь делаю все так унизительно медленно!
Здоровья и удачных мыслей!
Ваш Б. Стругацкий
05.12.2008
Примечания
1
В частном случае — в разговоре с «куратором» советской литературы от ЦК ВКП(б) — с типичным для Сталина иезуитским юмором он отметил: «В настоящий момент, товарищ Поликарпов, мы не можем предоставить вам других писателей». «В настоящий момент»…
(обратно)2
Salus revolutiae suprema lex (лат.) — «Благо революции — высший закон». Тезис сформулирован как антитеза исходному принципу демократии Salus populi suprema lex («Благо народа — высший закон») и принадлежит Г.В. Плеханову, который высказал его на II съезде РСДРП в 1903 г.
(обратно)
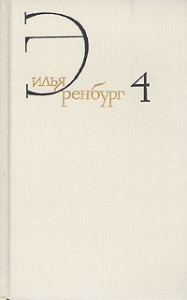



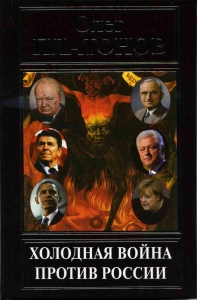
Комментарии к книге «Мы – не рабы?», Юрий Николаевич Афанасьев (политик)
Всего 0 комментариев