Джек Лондон О себе
Я родился в Сан-Франциско в 1876 году. В пятнадцать лет я был уже взрослым, и если мне удавалось сберечь несколько центов, я тратил их не на леденцы, а на пиво, — я считал, что мужчине подобает покупать именно пиво. Теперь, когда я стал вдвое старше, мне так хочется обрести свое отрочество, ибо у меня его не было, и я уже смотрю на вещи отнюдь не столь серьезно, как раньше. И почем знать, вдруг я еще обрету это отрочество! Едва ли не раньше всего в жизни я понял, что такое ответственность. Я совсем не помню, как меня учили грамоте, — читать и писать я умел с пятилетнего возраста, — но знаю, что впервые я пошел в школу в Аламеде, а затем мы переехали на ранчо, и там, с восьми лет, я прилежно работал.
Второй моей школой, где я, сколько мог, старался вкусить науки, было одно беспутное заведение в Сан-Матео. На каждый класс там давалась одна отдельная парта, но очень часто парты нам были совсем не нужны, так как учитель приходил пьяным. Кто-нибудь из мальчиков постарше нередко колотил его, а он, чтобы не остаться в долгу, лупил младших — можете представить себе, что это была за школа. Никто из моих родных и знакомых не питал никакого интереса к литературе — пожалуй, ближе всех к ней стоял мой прадед: этот валлиец был окружным писарем, в глухих лесах он с энтузиазмом проповедовал евангелие, за что получил прозвище «патер Джонс».
С ранних лет меня поражало невежество людей. На девятом году я с упоением прочитал «Альгамбру» Вашингтона Ирвинга и никак не мог примириться с тем, что никто на ранчо об этой книге ничего не знает. Со временем я пришел к выводу, что подобное невежество царит лишь у нас в деревне, в городе же все должно быть по-иному. И вот однажды к нам на ранчо приехал человек из города. Башмаки у него были начищены до блеска, пальто суконное; самый удобный случай, решил я, обменяться мыслями с просвещенным мужем. У меня была выстроена из кирпича от старой, развалившейся дымовой трубы своя собственная Альгамбра — башни, террасы, все размечено и обозначено мелом. Я провел городского гостя к своей крепости и стал расспрашивать его об «Альгамбре». Увы, он оказался столь же темным, как и жители ранчо, и мне пришлось утешиться мыслью, что на свете есть всего два умных человека — Вашингтон Ирвинг и я.
Кроме «Альгамбры», я читал в ту пору главным образом десятицентовые романы (я брал их у батраков) да газеты, — из газет служанки узнавали о захватывающих приключениях бедных, но добродетельных продавщиц. От такого чтения мой ум по необходимости должен был получить весьма своеобразное направление, но, чувствуя себя всегда одиноким, я читал все, что только попадало мне в руки. Огромное впечатление произвела на меня повесть Уйда «Сигна», я с жадностью перечитывал ее в течение двух лет. Развязку этой повести я узнал уже взрослым человеком: заключительные главы в моей книге были утеряны, и я вместе с героем повести уносился тогда в мечтах, не подозревая, как и он, что впереди его подстерегает грозная Немезида. Мне поручили в то время караулить пчел; сидя под деревом с восхода солнца до вечера и поджидая, когда пчелы начнут роиться, я вволю и читал и грезил.
Ливерморская долина — плоское, скучное место; не возбуждали во мне любопытства и холмы, окружающие долину. Мои грезы нарушало одно-единственное событие — роение пчел. Я бил тогда тревогу, а все обитатели ранчо выбегали с горшками, кастрюлями и ведрами, наполненными водой. Мне помнится, что первая строка в повести «Сигна» звучала так: «Это был всего-навсего маленький мальчик»; однако этот маленький мальчик мечтал о том, что он сделается великим музыкантом, что к его ногам будет повергнута вся Европа. Маленьким мальчиком был и я… Почему бы и мне не сделаться тем же, чем мечтал стать «Сигна»?
Жизнь на калифорнийском ранчо казалась мне тоскливой до крайности; не было дня, чтобы я не мечтал уйти за черту горизонта и увидеть мир. Уже тогда я слышал шепоты, зовущие в дорогу: я стремился к прекрасному, хотя в окружающей меня обстановке не было ничего красивого. Холмы и долины были как бельмо на глазу, меня тошнило от них — я полюбил их только тогда, когда расстался с ними.
Мне шел одиннадцатый год, когда я покинул ранчо и переехал в Окленд. Много времени провел я в оклендской публичной библиотеке, жадно читая все, что попадало под руку, — от долгого сидения за книгами у меня даже появились признаки пляски святого Витта. По мере того как мир раскрывал передо мной свои тайны, я расставался с иллюзиями. Средства на жизнь я зарабатывал продажей газет на улицах; с той поры и до шестнадцати лет я переменил великое множество занятий — работа у меня чередовалась с учением, учение с работой.
В те годы во мне пылала жажда приключений, и я ушел из дому. Я не бежал, я просто ушел, — выплыл в залив и присоединился к устричным пиратам. Дни устричных пиратов миновали, и если бы меня вздумали судить за пиратство, я сел бы за решетку на пятьсот лет. Позднее я плавал матросом на шхуне и ловил лососей. Почти невероятно, но очередным моим занятием была служба в рыбачьем патруле: я должен был задерживать всякого нарушителя законов рыбной ловли. Немало таких нарушителей — китайцев, греков и итальянцев — занималось тогда противозаконной ловлей, и не один дозорный из охраны поплатился жизнью за попытку призвать их к порядку. При исполнении служебных обязанностей у меня было одно-единственное оружие — стальная вилка, но я бесстрашно, как настоящий мужчина, влезал на борт лодки браконьеров и арестовывал ее хозяина.
Затем я нанялся матросом на корабль и уплыл к берегам Японии — это была экспедиция за котиками. Позже мы побывали и в Беринговом море. После семимесячной охоты на котиков я, возвратясь в Калифорнию, брался за разную работу: сгребал уголь, был портовым грузчиком, работал на джутовой фабрике; работать там приходилось с шести часов утра до семи вечера. Я рассчитывал на следующий год снова уплыть на охоту за котиками, но прозевал присоединиться к своим старым товарищам по кораблю. Они уплыли на «Мери Томас», — судно это погибло со всей командой.
В те дни, когда я урывками занимался в школе, я писал обычные школьные сочинения и получал за них обычные отметки; пытался я писать и работая на джутовой фабрике. Работа там занимала тринадцать часов в сутки, но так как я был молод и любил повеселиться, то мне нужен был часок и на себя, — времени на писательство оставалось мало. Сан-францисская газета «Колл» назначила премию за очерк. Мать уговаривала меня рискнуть, я так и сделал и написал очерк под названием «Тайфун у берегов Японии». Очень усталый и сонный, зная, что завтра в половине пятого надо быть уже на ногах, я в полночь принялся за очерк и писал не отрываясь, пока не написал две тысячи слов — предельный размер очерка, — но тему свою я развил лишь наполовину. На следующую ночь я, такой же усталый и сонный, опять сел за работу и написал еще две тысячи слов, в третью ночь я лишь сокращал и вычеркивал, добиваясь того, чтобы мое сочинение соответствовало условиям конкурса. Первая премия была присуждена мне; вторую и третью получили студенты Стенфордского и Берклийского университетов.
Успех на конкурсе газеты «Колл» заставил меня подумать о том, чтобы всерьез взяться за перо, но я был еще слишком неугомонен, меня все куда-то тянуло, и литературные занятия я откладывал на будущее, — одну статейку, сочиненную тогда для «Колл», газета незамедлительно отвергла.
Я обошел все Соединенные Штаты от Калифорнии до Бостона, возвратившись к Тихоокеанскому побережью через Канаду, где мне пришлось отбыть тюремное заключение за бродяжничество. Опыт, приобретенный во время странствий, сделал меня социалистом. Я уже давно осознал, что труд благороден; еще не читая ни Карлейля ни Киплинга, я начертал собственное евангелие труда перед которым меркло их евангелие. Труд — это все. Труд — это и оправдание и спасение. Вам не понять того чувства гордости, какое испытывал я после тяжелого дня работы, когда дело спорилось у меня в руках. Я был самым преданным из всех наемных рабов, каких когда-либо эксплуатировали капиталисты. Словом, мой жизнерадостный индивидуализм был в плену у ортодоксальной буржуазной морали. С Запада, где люди в цене и где работа сама ищет человека, я перебрался в перенаселенные рабочие центры Восточных штатов, где люди — что пыль под колесами, где все высунув язык мечутся в поисках работы. Это заставило меня взглянуть на жизнь с другой, совершенно новой точки зрения. Я увидел рабочих на человеческой свалке, на дне социальной пропасти. Я дал себе клятву никогда больше не браться за тяжелый физический труд и работать лишь тогда, когда это абсолютно необходимо. С тех пор я всегда бежал от тяжелого физического труда.
Мне шел девятнадцатый год, когда я вернулся в Окленд и поступил в среднюю школу. Там издавали обычный школьный журнал. Его выпускали раз в неделю — нет, пожалуй, раз в месяц, — и я помещал в нем рассказы; почти ничего не выдумывая, я описывал свои морские плавания и свои странствия. В школе я пробыл год и, чтобы заработать на жизнь, одновременно служил привратником. Все это требовало такого напряжения сил, что школу пришлось бросить. К тому времени мои социалистические убеждения привлекли ко мне довольно широкое внимание, я был прозван «мальчиком-социалистом» — честь, которая послужила причиной моего ареста за уличные выступления. Оставив школу, я в три месяца самостоятельно прошел трехгодичный школьный курс и поступил в Калифорнийский университет. Прервать учение и лишиться университетского образования я и думать не хотел, — хлеб я добывал работой в прачечной и литературным трудом. Единственный раз я работал из любви к работе, но задача, которую я себе ставил, была чересчур трудна, и через полгода я расстался с университетом.
По-прежнему я утюжил сорочки и прочие вещи в прачечной и каждую свободную минуту писал. Я старался управиться с тем и другим, но нередко засыпал с пером в руке. Я уволился из прачечной и целиком отдался литературным занятиям, вновь почувствовав и прелесть жизни и прелесть мечты. Просидев три месяца над рукописями, я решил, что писателя из меня не выйдет, и отправился в Клондайк искать золото. Не прошло и года, как я заболел там цингой и вынужден был возвращаться на родину: тысячу девятьсот миль я проплыл по морю в лодке и успел за это время занести на бумагу лишь кое-какие путевые впечатления. В Клондайке я нашел себя. Там все молчат. Все думают. Там обретаешь правильный взгляд на жизнь. Обрел его и я.
Пока я ездил в Клондайк, умер мой отец, и все заботы о семье легли на меня. В Калифорнии наступили плохие времена, я оказался без заработка. Я бродил в поисках работы и писал рассказ «Вниз по реке». Рассказ этот был отвергнут. Пока решалась судьба рассказа, я успел сочинить новый, в двадцать тысяч слов, — его собиралась печатать в нескольких номерах одна газета, но тоже забраковала. Несмотря на отказы, я все писал и писал новые вещи. Я в глаза не видал ни одного живого редактора. Я не встречал человека, у которого была бы хоть единая напечатанная строчка. Наконец калифорнийский журнал принял один мой рассказ и заплатил за него пять долларов. Вскоре после этого «Черный кот» предложил мне сорок долларов за рассказ. Так мои дела пошли полным ходом, и в будущем мне, видимо, не придется сгребать уголь, чтобы прокормиться, хотя прежде я умел держать лопату в руках и могу взять ее снова.
Моя первая книга появилась в 1900 году. Я мог бы прекрасно обеспечить себя газетной работой, но у меня было достаточно здравого смысла, чтобы не поддаться искушению и не стать рабом этой машины, губящей человека: я считаю, что молодых литераторов на первых порах, когда они еще не сложились, губит именно газета. Лишь после того, как я хорошенько зарекомендовал себя в качестве сотрудника журналов, я начал писать для газет. Я верю в необходимость систематической работы и никогда не жду вдохновения. По характеру я не только беспечный и безалаберный человек, но и меланхолик. Но я сумел побороть в себе и то и другое. На мне сильно сказалась дисциплина, которую я познал в бытность мою матросом. Старой матросской привычкой объясняется, вероятно, и то, что сплю я всегда в определенное время и сплю мало. Пять с половиной часов сна — вот норма, которой я обычно придерживаюсь. Еще не было случая, чтобы я почему-либо не лег спать, если время сна уже наступило.
Я большой любитель спорта, с наслаждением занимаюсь боксом, фехтованием, плаванием, верховой ездой, управляю яхтой и даже запускаю бумажных змеев. Хотя я родился в городе, жить мне гораздо больше нравится в предместье. Но лучше всего жить в деревне — только там и соприкасаешься с природой. Из писателей наибольшее влияние с ранних пор оказали на меня Карл Маркс в частности и Спенсер вообще. В дни моего бесплодного отрочества, если бы представился случай, я занялся бы музыкой. Теперь, когда я вступил, можно сказать, в дни своей подлинной молодости, окажись у меня один или два миллиона долларов, я посвятил бы себя писанию стихов и памфлетов. Лучшими своими произведениями я считаю «Лигу стариков» и кой-какие страницы из «Писем Кэмптон-Уэсс». «Лига стариков» некоторым не нравится. Они предпочитают более яркие и жизнерадостные вещи. Когда дни моей юности останутся позади, я, может быть, и соглашусь с ними.


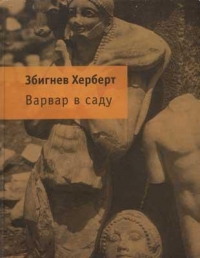

Комментарии к книге «О себе», Джек Лондон
Всего 0 комментариев