Василий Васильевич Ершов Аэрофобия
Философия полета
Философский смысл Прогресса был афористично выражен еще древними римлянами:
«Плавать по морю необходимо. Жить — не так уж необходимо».
То есть: двигаться вперед, в неизведанное, человечеству важнее, чем беречь жизнь.
Жертвы были и будут всегда. Но в разные времена менялись основные жизненные ценности. Если в 1812 году общество следовало лозунгу «Жизнь — за Отечество!», то нынче, в эпоху развивающегося капитализма и постепенного обрастания жирком, в моде другой лозунг: «Человеческая жизнь — бесценна и превыше всего!»
И еще: «Я плачу деньги — обеспечь мне удовлетворение желаний!»
А как же еще? Жил-жил, работал-работал, пластался-пластался — имею право!
Отчего-то в войну никто никого не спрашивал, кто как жил и кто как пластался. А нынче у нас мир, слава Богу, мир и удобства. И — полетели в отпуск.
Мы себя любим. Мы оберегаем себя от неудобств и неприятностей. Мы в интернете заранее спрашиваем: а что это за авиакомпания такая, пилоты которой меня повезут? А у нее самолеты старые? Кто летал, поделитесь впечатлениями! А в этом Ту-154 где лучше сесть? А где безопаснее? А чем кормят? А стюардессы ничего?
Цивилизация избаловала человечество. Неспособные физически постоять за себя, мы выдумываем боевики. Нам удобно, лежа на диване, тыкать в кнопки пульта. Мы жиреем. Мы закатываем истерики.
Уэллс, с его «Машиной времени», предвидел это.
Элои и морлоки. Нынешние элои равнодушны к крови и насилию на экране или в книге, но не дай Бог порежут пальчик, так уже — нервный стресс. Свой же, родной пальчик.
Мы очень любим себя и очень дорожим благополучием своего тела. Мы платим деньги за то, чтобы телу этому было комфортно. Мы не хотим принимать решений, мы не добиваемся иного результата кроме собственного комфорта.
Кто-то нас учит, кто-то нас лечит, кто-то кормит, кто-то перемещает в пространстве. Это — морлоки. Пусть они там как-нибудь. Не царево дело. Географию пусть ямщики учат.
И получается философия. Я имею деньги и за свои кровные требую услуг высокого качества. Нас — общество. Общество потребителей.
Нет, конечно, мы где-то что-то тоже созидаем. Нам за это созидание платят. Но это так… работа. В пять часов созидание закончено — и в магазин! Потреблять.
Потребитель нынче воинствующий. Изведет ведь, достанет. Тем более что качество пока еще хромает, и есть где порезвиться.
А тут еще реклама. «Шаурма… ведь вы этого достойны?» И каждый старается добыть блага качеством получше и устроить свою жизнь поближе к раю. Он же — достоин… шаурмы этой.
Общество потребителей изнежено. Мальчики воспитываются возле маминой юбки и так к ней привыкают, что мамы вынуждены даже службу сыночка в армии контролировать. Отслужив, под неусыпным маминым контролем (а обеспечивают ли воина туалетной бумагой?), мальчик становится мужчиной, обзаводится семьей и по привычке все беспокоится о комфорте жизни.
Вряд ли такой мальчик изберет себе стезю первопроходца. Зачем? Все, что ему надо, уже изобретено, обкатано, остается только требовать, чтобы блага, которых он достоин за свои деньги, подавались вовремя, с требуемым качеством и стопроцентной гарантией.
И вырабатывается кредо потребительского общества:
«Пусть кто-то примет решения за нас, а мы заплатим.
Мы заплатим, и пусть кто-то примет решение, как сделать нам приятное.
Мы платим — извольте обеспечить!
Мы платим за услугу. Извольте обеспечить с наивысшим качеством!
Мы — потребители. Кто-то там — созидатель, а мы все это с удовольствием покупаем. И требуем гарантий!»
Нет, ну, завтра снова на работу, что-то созидать, может быть, те блага для людей.
Но это же — работа, нам за нее деньги платят. И, пожалуйста, не путайте работу с любимым делом. Не может быть работа любимым делом. Есть жизнь, есть работа, а есть страсть, хобби, любимое состояние души…
Потребитель не способен понять, что и такое бывает: любимая работа, которой человек отдает всего себя, без остатка, и семью отдает, и друзей, и здоровье — все подчинено Профессии. Профессия как образ жизни, профессия — жертвенная, монашеская, созидательная, благородная, опасная. Мужская профессия.
Такова профессия летчика.
Мальчик из-под юбки — в летчики не пойдет. Как же он там — без мамы!
В летчики идут люди, которые способны себя преодолевать, которые умеют побеждать свои страхи и страсти, которые с открытыми глазами идут навстречу опасности и могут в минуту опасности принять решение. В летчики идут личности, готовые взять на себя ответственность, умеющие рисковать и делать дело в чуждой человеку стихии. Это — опасная профессия, удел альтруистов. В летчики никто силой не запихивает: человек сам делает свой выбор, сам кладет жизнь на алтарь. Ради вашего комфорта.
А вы — не решились?
Человек всегда нуждается в информации, его гнетет неизвестность. А уж что касается перелета по воздуху…
Поэтому у потенциального пассажира всегда есть вопросы к летчику. А у воинствующего потребителя — еще и масса претензий. И куча предложений. От боязливого дилетанта. Все эти вопросы и предложения есть следствие страха за свою драгоценную жизнь.
Русский менталитет веками вырабатывался под влиянием основных постулатов православной религии, главным из которых был примат духовного над телесным. Не вдаваясь в подробности, на простейшем уровне, — русское мировоззрение всегда было таково: бедность не порок, заботься прежде о душе, готовься к потусторонней жизни, там тебе воздастся.
На европейский менталитет оказали влияние идеи другой, не нашей церкви. Они, в простейшем виде, напрочь отличаются от православия и выглядят очень прагматично: цени свою жизнь, работай, добивайся, — и Бог воздаст тебе за труд еще при жизни.
Сейчас нашему народу открылся европейский путь. Хорошо это или плохо — судить не мне; таково нынче положение вещей.
Народ потихоньку стал работать и богатеть. Естественно, человеку хочется благ при жизни, как в Европе. Чтоб качество жизни было европейское.
Это называется: со свиным рылом — в калашный ряд. Не в обиду.
Наличие денег еще не приобщает человека автоматически к европейскому мышлению. Мышление европейцев вырабатывалось веками и, как мне кажется, присуще им на генетическом уровне. Они даже мостовые шампунем моют, и предки их так же мыли. А пришли к этому через века грязи, страданий, крови и размышлений.
А мы — потомки эры большевизма. Отнять и разделить. Управлять будет кухарка. Государство, ну-ка, выдели мне! Положено!
Слава Богу, нынче хоть кое-кто научился у нас деньги добывать.
Но в результате появления денег у внезапно разбогатевшего русского человека возникает эдакое чувство загулявшего купчика: «деньги плочены» — имею право!
Таковы искривления путей неисповедимых. Таков результат революционного, ускоренного вбивания ценностей европейской цивилизации в российские дремучие умы, на границе двадцать первого века. Открылись глаза. Нахватались верхушек. А тут еще деньги.
Никто в этом не виноват. Таков был вывих российской истории. И гражданин, продукт безвременья, нынче пытается утвердиться в новой жизни. Для него наступили новые времена. Он тяжелым, непосильным трудом выбился в люди… и стал ценить свою жизнь и здоровье, комфорт и информацию. Он — живой человек, пытающийся разобраться в море противоречивых сведений, вдруг хлынувших из всех щелей.
Жизнь у нас налаживается, и миллионы людей вновь обрели возможность перемещаться по воздуху. Перед ними, а паче перед их женами и детьми, встают вопросы безопасности полета, гарантий, комфорта — обычный комплекс потребителя благ. Но вопросы эти зачастую приобретают дотошность, настырность и глубину, которые проявляются у потенциальных пассажиров в ненормальной, чуть не истерической форме, как у перепуганного предстоящим неизвестным явлением ребенка.
Миллионы перевезенных пассажиров в сознании перевозящих их летчиков ассоциируются с конвейером. Полет — лишь одно из звеньев сложного механизма перемещения масс в пространстве. Людской поток выплывает из накопителя, наполняет самолет, перевозится, вытекает и всасывается в ворота для встречающих.
Такие ассоциации — нормальное отношение человека, имеющего по работе контакт с множеством зависящих от тебя людей. Такой же примерно комплекс испытывает врач, продавец, гид, вахтер на проходной. Пока течет поток, все лица сливаются в однородную массу. Но как только возникает необходимость контакта с конкретным человеком, сразу проявляется индивидуальное лицо, и перед тобой уже живой человек, с его болью.
Я пытаюсь чувствовать эту боль, стараюсь понять, чем обеспокоен человек. Моя работа такая: возить живых людей, сотни, тысячи, миллионы, поток. Но каждая частица этого потока имеет трепещущую душу. И эта душа пытается достучаться до источника достоверной информации.
Как старый пилот я могу в какой-то мере эту информацию донести до пассажира. Но прежде надо установить доверительные отношения между потребителем услуг полета и созидателем этих услуг.
Давайте сначала определимся с понятием: что есть полет. Потому что у большинства пассажиров понятие о процессе их перемещения по воздуху некоторым образом отличается от того, как этот процесс представляет рядовой ездовой пес Неба.
Что первично, а что вторично в авиаперевозках?
Пассажир считает, что первичен спрос: потенциальное желание перелететь. Мол, не будет нас, пассажиров, — нечего будет делать и летчикам. Придется, мол, вам летать где-то, и с другими целями. Мы, мол, вас кормим. Не задирайте нос.
Летчик считает, что авиация развивалась десятки лет вообще без пассажиров, и раз человек сам пришел в Небо, летать — работа там ему всегда найдется. Работа в Небе — сложная, ответственная и опасная. И нечего тут пассажирам об себе понимать. Плати да лети. Довезем.
Мне кажется, и то, и другое представления — слишком узки.
Плавать по морю необходимо. Летать по небу, осваивать леса и пустыни, продвигаться в космос… короче, прогресс человечеству необходим. Перемещаться по Земле надо все быстрее, и все большему количеству людей. И само перемещение, и оказание услуг по перемещению есть прогресс. Нечего спорить, что было сперва: курица или яйцо. Человечеству важно, что и курица существует, и яйца она несет, а значит, есть целесообразность в существовании услуги и ее конечном результате. И есть смысл, для большего коэффициента полезного действия Авиации, найти точки соприкосновения производителя и потребителя полета и попытаться понять друг друга.
Завтра вам лететь с семьей на теплое море. Каких-то шесть часов — и вы в другой стране; от таежных комаров и холодного дождя — к зною и пальмам… Настраивайтесь же не на страх, не на мучения и ожидание избавления от них, а на прекрасное, хоть в тесноте, но не в обиде, путешествие по волнам пятого океана.
В помощь непрофессионалу
Давайте отбросим апломб дилетанта и снобизм мэтра. Попробуем доброжелательно разобраться во множестве вопросов, которые хотел бы задать пассажир пилоту.
В интернетовском авиационном сообществе, куда открыт вход любому желающему, идет дискуссия о безопасности полета. Чуть не до истерики разогретое средствами массовой информации общественное мнение о ряде последних авиационных катастроф предъявляется в виде обвинений сообществу летных профессионалов.
Претензий очень много, но сводятся они к нескольким простейшим требованиям, которые, кстати, весьма талантливо сформулировал один из участников дискуссии:
Господа, а вам не кажется, что ваши претензии трудновыполнимы одновременно? Вы все хотите, чтобы вас:
— доставили быстро;
— доставили комфортно;
— доставили, невзирая на погоду;
— доставили, невзирая на время суток и время года;
— доставили АБСОЛЮТНО безопасно;
— доставили дешево.
Не кажется, что есть трудносовместимые комбинации? Ну, тогда — что вы все так надрываетесь-то? Почему вдруг такое настырное загибание пальцев?»
Причиной же дискуссии стало обсуждение главы из недавно опубликованной книги воспоминаний старого летчика, где он в подробностях описал процесс обхода грозы. Читателям не понравился один абзац: о мотивах, побудивших капитана «безрассудно» лезть в грозовой фронт.
Кроме того, автор имел неосторожность заикнуться о некоторых цифрах на приборах самолета. Цифры эти были азартно обсуждены; каждый дилетант высказался — о параметрах набора высоты, на самолете Ту-154, в жару, — с апломбом завсегдатая пивной, рассуждающего о политике. Вывод был сделан однозначный: автор сих строк — потенциальный убийца… и вы, пилоты, — все такие. И немногочисленные представители летной профессии, имевшие возможность между полетами участвовать в интернетовской дискуссии, так и не смогли переубедить толпу возмущенных пассажиров.
Автором той книги был ваш покорный слуга. А, как нынче принято говорить, — «за базар» надо отвечать. Вот и пришлось взяться за книгу о страхах и рисках, о претензиях и пожеланиях.
Хочу помочь потенциальному пассажиру разобраться и в себе, и в своем отношении к летчикам. Может, удастся помочь многим и многим преодолеть модную нынче боязнь полета — аэрофобию.
Почему стало страшно летать?
«Так ведь пилоты летать не умеют. Вон — две катастрофы: свалили самолет в плоский штопор!»
Мне, старому пилоту, слова «плоский штопор» в устах постороннего человека кажутся эдакой… картонной страшилкой. Хотя… у самого холодок в животе: это ж как надо ошибиться профессионалу, чтобы свалить самолет. Ведь действительно: таки свалили.
Но эти катастрофы обсудим позже. А у меня к оппонентам вопрос: и сколько таких катастроф, со штопором, вы еще знаете? Я, например, пролетав 35 лет, больше трех-четырех и не припомню.
«И вообще, летчики летать разучились. Они выпендриваются. Они удаль свою самим себе показывают. Они самоутверждаются в риске. Для них главное — не думать, и думать, и думать, постоянно, каждую секунду, думать о безопасности пассажиров, а — ловить кайф в противоборстве со стихией, на грани возможностей машины и своего мастерства. Они ради кайфа летают».
Хотел бы я, чтобы вы заглянули в глаза экипажу «Боинга», пролетевшему от Москвы до Владивостока и выползшему из кабины на затекших ногах. Двум человекам, которые вас довезли. Я бы хотел, чтобы вы нашли, отыскали в их красных, распертых спичками глазах тот кайф.
Кайф летчика — удовлетворение от сделанного Дела. Кайф — от удачной посадки после восьмичасового полета через грозы. Кайф — от того, что можно с достоинством смотреть в глаза тем, кто вас встречает на выходе. А самый главный кайф, вот сию минуту, — теплый душ и чистые простыни… и мертвый сон.
«Ага, через грозы… Вот лезут и лезут в грозы, подвергают и подвергают пассажиров опасности. Сами-то, небось, привыкли. Запаса по углу атаки не имеют. Скороподъемности нет, а лезут. На практическом потолке… Это ж на грани…» — и идут рассуждения, предположения, обвинения; и за всем этим чувствуется страх.
На технологии работы я остановлюсь потом, а пока давайте вернемся к списку желаний пассажира.
Итак, пассажир желает, чтобы его довезли «быстро». Для этого изобретены скоростные самолеты, летающие на больших высотах.
А почему быстро летать надо именно на больших высотах? Ведь падение с высоты 10000 метров заведомо опаснее, чем с двадцати метров? Это же очевидно: с малой высоты есть хоть какой шанс, что жив останешься, верно? Ведь самолет, если остановятся двигатели, камнем падает?
Нет, не камнем. Он планирует и может пролететь с большой высоты больше сотни километров. С малой же высоты — и мяукнуть не успеешь…
На высоте летчику легче сориентироваться, подобрать наивыгоднейший режим снижения, доложить земле, может, получить какие-то рекомендации, дотянуть до аэродрома и безопасно сесть. Самое главное — запас высоты дает время для оценки ситуации и принятия оптимального решения.
Так что простой вопрос о высоте и безопасности полета можно развернуть до обширной лекции. Чуть позже я посвящу этим вопросам отдельную главу.
Но быстро летать — это не значит просто преодолевать пространство. Надо преодолеть и те неблагоприятные погодные условия, которые могут помешать взлететь, пройти по маршруту и приземлиться. Чем меньше самолет зависит от погодных условий, тем больше вероятность взлететь вовремя, быстро долететь и безопасно сесть, к примеру, в тумане.
Приходится оснащать самолет дополнительным оборудованием и учить, тренировать летчиков заходам на посадку при минимуме погоды.
Задержка рейса. Пассажиры томятся, поглядывают на табло в зале ожидания и возмущаются: вот, говорили, погоды нет, а самолеты вылетают, такие же, как у нас, а мы сидим.
Один капитан такого же самолета — уже опытный и имеет допуск. Он решается и летит. А другой — менее опытный и допуска пока не имеет. Он сидит и ждет улучшения. А пассажиры ворчат: тот принял решение, а наш — трус. Они же все знают. Они же информацию имеют.
Один капитан допущен к посадке по одному минимуму, допустим, 60/800, а другой — по более низкому: 30/400. Вот этот и полетит, а тот — будет ждать, когда на аэродроме посадки улучшится до 60/800.
Минимум 60/800 означает, что капитан может произвести посадку в условиях не хуже чем: нижняя кромка облаков 60 метров, видимость на посадочной полосе 800 метров.
И посадить самолет в таких условиях для экипажа иногда труднее, чем пересечь грозовой фронт.
Право посадки по более низкому минимуму погоды капитан зарабатывает большим стажем полетов, длительными и упорными тренировками, слетанностью экипажа, проверками; кто-то из летных начальников берет ответственность на себя и допускает его. А пока допуска нет, летай по более высокому, доступному тебе минимуму, допустим, 80х1000… и жди погоды.
А пассажиров возят ведь и более опытные, и совсем молодые капитаны.
Вот и долетели «быстро».
А тут вдруг встречный ветер усилился в полете, и, по всем прикидкам, топлива до пункта посадки может не хватить. Приходится садиться на дозаправку по пути. Снова прилетели «быстро».
Таких накладок можно привести здесь сколько угодно. Это наша летная работа. И разве все объяснишь пассажирам. А они возмущаются, что формулировка задержки не конкретна: «по техническим причинам».
Еще бывает такой вариант. Сели на аэродроме — промежуточная ли посадка, или на запасной — и тут впереди закрылось. Высаживай пассажиров, на всякий случай, с вещами: мало ли что, если задержка получится надолго, — потому что кто ж его знает, когда там откроется.
У экипажа нет полной информации, и капитан пока не может принять решение. А рабочее время идет.
Ох уж это рабочее время. По закону его превышать нельзя. И когда оно у экипажа кончается, приходится идти отдыхать, даже если там, на аэродроме назначения, уже открылось.
Пассажиры возмущаются:
«А что, пилот не отдыхает из-за погоды?»
«А кто компенсирует мне сорванную деловую встречу?»
«Эти пилоты… в гостинице со стюардессами развлекаются, а мы тут в вокзале…»
Профессиональный летчик, читая претензии пассажиров, предъявляемые на форуме, срывается:
«А что, пилот не отдыхает из-за погоды?»
Хорошо, объясняю "на пальцах":
Итак, ни для кого не секрет, что человек не робот и не может работать 24 часа в сутки (даже лётчик).
Существует такой документ как КЗОТ. В нём оговорены нормы рабочего времени и отдыха, и это закон!
Во всех авиакомпаниях также (согласно КЗОТ) разработаны РПП авиакомпании (Руководство по производству полётов), где так же присутствуют статьи в части касающейся труда и отдыха экипажей (сколько можно работать и сколько нужно отдыхать). Есть нормы рабочего времени, которые экипаж не имеет права нарушать.
Теперь чистая математика:
Летим, к примеру, в Тюмень. Известно, что общее полётное время, туда-обратно, составит примерно 6 часов, плюс-минус 20 минут. Экипаж прибывает на рейс за 1.30 до вылета, проходит врача, и с этого момента начинает исчисляться рабочее время.
1.30 + 2.30 до Тюмени + 1 час стоянки там + 2.40 обратно + 1 час послеполётного разбора — итого получаем 8.40 рабочего времени (Проходит? А то!). Это в идеальных условиях.
Теперь. Экипаж прибыл на вылет, прошёл врача, пришёл на самолёт и… обнаружил, что самолёт неисправен. Пошла задержка вылета (а экипаж всё это время не в гостинице пузом кверху, а в АДП). Нашли резервный самолёт (устранили неисправность и т. д. (на самом деле причин может быть масса для задержки).
Допустим мы задержались на пару часов. Итого, уже в идеале рабочее время составит 10.40.
Теперь. Мы прилетели в Тюмень, собираемся обратно, и тут — БАЦ! вторая смена! В Москве нет погоды. Что делать? Правильно — ждать! По прогнозу, погода улучшится через два-три часа.
Делаем перенос рейса на три часа. Приходим на метео, смотрим новый прогноз и видим, что фактическая погода — ж…, а по прогнозу ко времени прилёта будет — гуд.
Вылетаем по прогнозу (а время-то всё идёт и идёт…). Приходим в Москву, а прогноз не оправдался, как была ж…, так и держится. Но мы же грамотные пацаны! У нас керосина по горло! Стоим над Москвой и ждём. Час ждём, второй… А её всё нет и нет (погоды)…
Топливо — не бесконечно. Видим, что ждать нам осталось максимум пару часов. Что делать? Уходим на запасной. Прилетаем, к примеру, в Питер и дозаправляемся. Смотрим снова погоду в Москве: ожидают улучшения через три часа…
А теперь нехитрый подсчёт. 1.30 + 2 часа (задержки)+ 2.30 до Тюмени + 3 часа в Тюмени + 2.40 лёту до Москвы + 2 часа над Москвой + 1.20 до Питера… Да я уже нарушил рабочее время, ещё будучи в зоне ожидания над Москвой, потому что после посадки в Питере, рабочего времени набежало аж 15 часов!
Ничо так? Поэтому, когда пассажир начинает обвинять экипаж, что они просто м….. и не хотят лететь, то прежде нужно подумать: а сколько эти люди уже на ногах и в воздухе!
А вы говорите: "А что, пилот не отдыхает из-за погоды?"…
По-моему, лучше не объяснишь. Но это ж — в книге, а что должен говорить капитан о нюансах погоды пассажирам в вокзале? Да и не у всех капитанов есть талант внятно объяснять.
Такова оборотная сторона летной романтики.
Что же касается «сорванной деловой встречи»: если вам надо быть в срок — «летайте поездом». Доверить срок серьезного мероприятия расписанию небесной стихии — мягко выражаясь, безрассудно. Ну, нет у нас всепогодных самолетов и аэродромов. Не рассчитывайте и не обижайтесь. Или вылетайте далеко заранее.
«Быстро» слетали. Теперь давайте — «комфортно».
Теснота в салоне — вещь привычная и само собой разумеющаяся. Тут все понятно. Правда, вещи деть некуда. Багажные полки забиты тяжелыми сумками и одеждой. Бортпроводники уговаривают снять сумки и поставить в ноги. И правильно: тряхнет самолет — сыграет сумка кому по голове…
Болтанка — вот что донимает в полете. Турбулентность. Не умеет капитан корабля вести его в штормовом небе. Нет, не умеет.
Морской капитан бы только развел руками. Кто ж его знает, когда разыграется шторм и какая будет качка. А пилот обязан знать. Его синоптик консультирует. Если по маршруту прогнозируется эта… турбулентность… нет, лучше не вылетать.
Да еще если эти… фронтальные грозы… нет, тоже нельзя лететь. Надо дать стопроцентную гарантию, что самолет безопасно преодолеет турбулентность. А 99 процентов — пассажира уже не устраивают.
Где только этот… «гарантометр» добыть. Который проценты выдает.
Ну, давайте посидим, подождем. «Быстро» хотели.
В воздухе завихрений не видно. Конечно, грозовые тучи визуально видно издалека… если не в облаках летишь. А в облаках — по локатору засветки от наэлектризованных кучево-дождевых облаков видны, а их окраины не светятся, а ведь на этих окраинах тоже трясет не слабо.
Да и в ясном небе болтанка иногда возникает, причем, совершенно внезапно. Сменить бы эшелон полета — так как раз же над тобой висит попутный борт, а под тобой — такой же, только чуть впереди, а интервалы надо выдерживать. Деваться некуда, надо терпеть. Капитан берет микрофон и объясняет пассажирам, что предпринимает меры к скорейшему выходу из зоны турбулентности… пристегнитесь.
А «скорейший выход» далеко: может, только километров через триста отвернет на перекрестке трасс тот борт, что ниже нас; можно будет снизиться… так и на его высоте такая же болтанка. А тот, что выше, говорит, у него болтанка слабая… но наш полетный вес пока не позволяет при этой температуре занять эшелон километром выше. Да и тот борт, что висит над нами, идет туда же, куда и мы, деваться с трассы ему некуда, а интервала нет, надо кому-то сбросить скорость, а кому-то добавить… Так мы же все летаем на максимальной скорости, не добавишь, а если убавить, притормозить, то — когда еще образуется между нами эта дистанция, двадцать километров. К тому времени или фронт кончится, или трасса отвернет от зоны болтанки.
А дальше ждет еще один фронт, или струйное течение, или тропопауза — и везде следует ожидать пресловутую турбулентность.
Это вас не пилот плохо везет. Просто условия такие, и выбирать их не приходится, надо быть готовым ко всему. Море штормит.
Кстати, в болтанку самолет идет на автопилоте. Он всегда идет на автопилоте, и автопилот смягчает болтанку. Пилотировать лайнер на большой высоте вручную трудно. И только в совсем уж сильную болтанку, когда нужна реакция пилота и особые способы пилотирования, приходится автопилот отключать и пилотировать руками, согласно рекомендациям Руководства по летной эксплуатации, РЛЭ.
На снижении, почти у земли, начинает донимать ветер. Обтекая рельеф местности, воздух взвихривается невидимыми протуберанцами, и чем ближе к земле, тем сильнее броски. Вины экипажа в том, что нас трясет, никакой нет.
Существуют нормативы параметров полета в болтанку, и если они выходят за пределы, надо уходить на запасной аэродром, несмотря на то, что погода — миллион на миллион.
Пассажирам этих отклонений не видно, и когда капитан сообщает им об уходе по метеоусловиям — попробуй, докажи: никто ж не поверит. Начинаются измышления: вот, пилот не справился с болтанкой.
А пилот всего только выполнил рекомендации по обеспечению вашей безопасности: чтобы самолет не сломало болтанкой при заходе на посадку.
Мы плавно перешли к третьей претензии: «независимо от погоды».
Отсылаю вас по обмену опытом к норильским пассажирам. У них там, за Полярным кругом, как заметет — так уж на неделю, и бедные пассажиры привычно скукоживаются на креслах в аэровокзале.
Погода пока еще оказывает влияние на регулярность полетов, не говоря уже о безопасности. Полет по воздуху всегда был, есть и будет опасен, как и плавание по морю, как езда на автомобиле, велосипеде, как даже катание на роликовых коньках. Раз условия погоды не позволяют — самолет будет погоду ждать.
Критерии облачности и видимости на посадке мы рассмотрели. А есть еще один параметр, очень влияющий на безопасность: боковой ветер.
Посадка с боковым ветром сложна тем, что самолет идет к полосе с упреждением, отвернув нос против ветра, и при этом строго выдерживает направление движения параллельно оси полосы. А если это направление изменится у земли вследствие порыва ветра или ошибки пилота, то и приземление произойдет сбоку от осевой линии, и пробег получится под углом, и самолет может выкатиться за пределы полосы.
Даже если пилот приземлит машину идеально, но поверхность посадочной полосы будет скользкая, то удержать самолет от сноса с полосы будет нелегко.
Поэтому для каждого типа самолета существуют нормативы зависимости предельно допустимого бокового ветра от состояния полосы. Коэффициент сцепления на полосе постоянно замеряется и по радио передается пилотам; они принимают решение: садиться или не рисковать.
Для разных типов самолетов при одном и том же коэффициенте сцепления, в зависимости от конструкции машины, допускается различный боковой ветер. И вот один самолет вылетает, а другой ждет, пока ветер ослабеет, или пока подвернет, или полосу расчистят и подсушат. А пассажиры строят домыслы: вот, Ту-134 полетел, а мы, на Ан-24, сидим, ждем… у нас пилот — трус.
Они же информацию получают: вот, позвонили родственникам по мобильнику, там погода хорошая, правда, ветерок есть, но не такой уж и сильный…
У Ту-134 шасси рассчитаны на боковой ветер 20 м/сек, а на Ан-24 ноги высокие, при таком боковом ветре могут и сломаться от боковой нагрузки. А на самолетах с узкой колеей шасси допустимый предел еще меньше, чем у Ан-24. Но разве это в вокзале по радио объяснишь.
Вот пусть лучше приведет пример из своего опыта обычный пассажир:
«2000 год. Рейс Домодедово — Южно-Сахалинск. При подходе к Сахалину — по метеоусловиям Южно-Сахалинска сели на запасной в Хабаровск. Сели — забирайте вещи из салона, и в здание аэровокзала.
Пришли — ждем, что дальше: задержка на час, потом еще на час. Пришел представитель: все понимаю, ничем помочь не могу, единственное — бесплатно сдать вещи в камеру хранения, и женщинам с маленькими детьми комната матери и ребенка.
Народ ропщет: давай корми, давай гостиницу. Представитель объясняет, что денег нет, гостиниц нет, ни х… нет — мол, сидите и ждите. Сидим ждем; спать охота жуть — по хабаровскому времени 9 утра, в Москве глубокая ночь.
Мобильников тогда особо не было — ходили звонить на переговорный. Прибегает взъерошенная ТЕТКА, из тех, что всегда до всего есть дело: я только что звонила домой — там солнце вовсю светит, никакого тумана нет, а нас тут за лохов держат — ВПЕРЕД!!!
Собирается инициативная группа: пойдемте к представителю. Тут по громкой объявляют задержку еще на час по метеоусловиям Сахалина, и следом: «произвел посадку самолет рейсом таким-то из Южно-Сахалинска».
Что тут было! Значит нас обманули: самолеты летают спокойно, а мы тут сидим…
Направляемся к представителю (ну, явно не его день); ТЕТКА сразу с порога: «Вы тут нам мозги е…, а самолеты-то летают! Тот стал объяснять про низкий Ксц, про разную боковую составляющую для Ан-24 и для нашего Ил-96… и тут нечаянно обронил: мол, все равно экипаж пошел отдыхать, и нам пока ничего не светит.
Зря он это сказал — я думал, его порвут на части. Как так — отдыхать??? Мы тут сидим, не спим, ждем, а эти козлы (самое мягкое слово) в гостинице со стюрами развлекаются??? Немедленно его сюда, а то мы сейчас перекроем ВПП — и в таком же духе.
Представьте разъяренную толпу в количестве 30–40 человек, в маленьком помещении.
Представитель стал белее бумаги и не знает, что и сказать. Народ орет. Душно-жарко, в общем, ж…а.
Ну, пришлось мне взять слово: «Господа уважаемые, не надо кричать, выслушайте, пожалуйста, меня, я такой же пассажир, как и вы, лечу этим же рейсом, так же мучаюсь, но попробую объяснить ситуацию».
Народ стал умолкать, но тут слово взяла ТЕТКА: «Да ты кто такой??? Что ты знаешь?» Я, говорю, работаю авиадиспетчером — немного знаю эту кухню; экипаж сейчас отдыхает, даже президент не вправе его сейчас поднять и приказать лететь. Никто за нами резервного экипажа не пришлет, да и лететь ему с Москвы — будь здоров; так что не кричите — экипаж проснется, придет на вылет отдохнувшим, будет погода, и полетим. Никто ведь не хочет из за ошибки уставшего экипажа досрочно отправиться на тот свет?
Тишина, даже ТЕТКА замолчала, но все равно вые…сь: «Но как же так? Мы тут не спим, а они там…» Но, смотрю, на нее зашикали.
Все внимание с представителя переключилось на меня. А когда же экипаж будет готов (ну не знал я сколько по нормам положено)? Ляпнул, что через 8 часов все будет ОК. Расспросили еще меня про скользкую полосу, про влияние боковой составляющей ветра на посадку.
В общем, все обошлось, представитель даже поблагодарил меня: типа, спасибо, выручил, мол, если что, заходи.
Не помню, через сколько, но вылетели, долетели приземлились.
Так что, как говорили древние: предупрежден — значит вооружен. Не таите от пассажиров очевидное, и Вам будет хорошо, и им спокойнее».
По телевизору как-то показывали кадры, как в сильный боковой ветер пилот допустил ошибку, самолет резко накренился и чиркнул крылом по бетону; еле капитан успел подхватить и уйти на второй круг. Не русский пилот, кстати; и самолет тоже не русский; не русский и город, за границей. Это, заодно уж, к вопросу, который мы разберем позже: «чьи летчики лучше?»
Так что полеты пока еще зависят от погоды, несмотря на всю автоматизацию захода на посадку и все искусство пилотов.
И от времени суток иногда зависит, сможет ли самолет сесть или вынужден будет уйти.
Видимость на полосе определяется по цепочке огней высокой интенсивности, которые в сложных условиях пилот ищет в тумане и, зацепившись за них взглядом, выполняет визуальную посадку. Без огней видимость, допустим, дают всего триста метров, а с огнями — все восемьсот, как раз минимум.
Но огни эти хорошо видны только в темное время суток, а с рассветом они бледнеют, растворяются в светлеющем тумане, и нет разницы, что по огням, что без них: видимость получается все равно триста, хуже минимума, и надо уходить.
Есть еще такое понятие «дефицит точки росы». Это когда влажность воздуха так велика, что понижение температуры на один-два градуса вызовет конденсацию водяного пара, и образуется роса (туман). Экипажу температура всегда передается двумя цифрами: температура воздуха и температура точки росы. Если на аэродроме посадки разница между этими цифрами больше трех градусов, можно вылетать: не успеет температура понизиться до точки росы. А если один-два градуса, то капитан хорошо подумает, принимать ли решение на вылет.
Так вот, под утро, к восходу, всегда самое холодное время суток, и вероятность тумана при понижении температуры на один градус — большая. И надо все учитывать: все эти температуры, дефициты, влажности воздуха, а также время суток, когда самолет прибудет в аэропорт — не к восходу ли? Может, лучше подождать с вылетом часа три-четыре, пока ляжет приземный туман и пока солнце его рассеет, — часам к десяти утра по тому, местному времени. С гарантией — лучше прийти туда часам к одиннадцати.
А пассажир справился по телефону: ему говорят, что ночь звездная, погода прекрасная… Кто капитан? Трус. Время тянет. Мерещится ему туман, видите ли.
Такие туманы выхолаживания обычно бывают в конце августа: вся московская зона закрывается по полусуток на целую неделю; вокзалы забиты народом… самый же час пик.
А такого оборудования для захода на посадку, и на земле, и на самолетах, которое, к примеру, изобрели в туманном Альбионе еще в 60-е годы, у нас в большинстве аэропортов еще нет. Наше самолетное оборудование не позволяет выполнять автоматическую посадку при нулевой видимости, а у них — позволяет.
Теперь главное. Долететь «АБСОЛЮТНО безопасно».
«Если у капитана возникнет хотя бы пять процентов сомнения в безопасности полета, лететь с пассажирами нельзя!»
Так считает далекий от кухни авиации человек.
Он по-своему прав. Он думает, что принятие решения на вылет укладывается в какие-то строгие таблицы безопасности и риска. Цифры какие-то, проценты… Если ноль риска и сто процентов безопасности — вот тогда будут гарантии, тогда полетим. А если один процент риска, то — куда ты лезешь, капитан.
Пресловутый «гарантометр».
Мало того. Человек думает, что неплохо было бы и с ним, пассажиром, пилоту посоветоваться. Пусть капитан объяснит ему риски, вероятности и гарантии. Чтоб был выбор.
Привыкли нынче: рынок — это выбор! Только вот что и из чего вы будете выбирать?
«Я тебе объясню… но у тебя возникнет столько новых вопросов», — сказал как-то обывателю пилот.
Давайте уж я, старый, седой и лысый отставной ездовой пес, попробую вам что-то объяснить. Вопросы, которые задаются, обычно типовые, и я методически, по порядку, буду рассказывать, кто, что и как гарантирует в авиации.
Вот, к примеру, перед вылетом синоптик консультирует меня по погодным условиям на аэродроме посадки и на запасном. Он проанализировал динамику развития метеорологической обстановки и дает мне прогноз аэродрома к моменту прилета.
Условия там такие, что вероятность возникновения тумана, или там, сильного снегопада, 50 на 50. Это указывается в прогнозе. И я, анализируя прогноз, сомневаюсь; и так же сомневается и синоптик, человек, принимающий такое же, как и я, решение и несущий за него ответственность.
Но прогноз — это лишь «научно обоснованное предположение о будущем состоянии погоды». Он может и не оправдаться. А я же на него надеюсь.
Правда, я продумываю варианты действий и на случай неоправдавшегося прогноза.
Анализирую прогноз и погоду запасного аэродрома, других, находящихся рядом аэродромов (если они есть), готовлю экипаж к самому неблагоприятному развитию событий. Мой экипаж, старые, битые Небом ездовые псы, — всегда готов к тому, что аэродром может закрыться, и знает, что надо делать в таком случае.
Руководящие документы разрешают, в случае, если внезапно закроются и основной, и запасной аэродромы, произвести посадку на запасном в любых условиях, даже хуже установленного минимума.
Опасно это?
Да, опасно. А куда деваться. Прогноз не оправдался. Тут все в руках капитана, в выучке, спокойствии, слетанности экипажа.
То есть: принимая решение на вылет, я предполагаю какую-то вероятность риска, но надеюсь на свой экипаж и свои руки.
Или не вылетать? 50 на 50.
Или что — собрать пассажиров, доложить им обстановку, проконсультироваться, учесть мнения активных ТЕТОК, проголосовать… и таки не вылетать? Ибо результаты голосования будут однозначны. Напуганный и плохо разбирающийся в нашей кухне пассажир откажется лететь. А еще хуже, когда дилетант «что-то где-то слышал».
Иногда отсутствие лишней информации для пассажиров — благо.
Что же делать бедному пассажиру?
Верить опыту и мастерству капитана. Другого пути, поверьте, нет. Я берусь вас доставить — и я вас доставлю! Это — смысл моей жизни. Это — мой Храм, на алтарь которого я положил жизнь еще в далеком 1964 году, когда поступал в летное училище. И занимался этим делом после окончания училища тридцать пять лет, принимая решения за штурвалом и реализуя их вот этими руками.
Я описал только один из множества вариантов развития событий, требующий принятия определенного решения. Такова летная работа.
Вопрос о встрече в полете с опасными метеорологическими явлениями, в частности, с так ужасающими пассажира грозами, будет достаточно подробно освещен ниже.
Что же касается понятия «долететь дешево» — то лучше будет задать на эту тему вопрос людям, в чьих руках монополия на авиационное топливо. Доля его стоимости в расходах авиакомпаний достигает уже шестидесяти процентов. Где уж тут думать о расходах на новые самолеты, оборудование, на развитие компании. Руководство авиакомпании обходится самолетным «сэконд хэндом» и вынуждено поднимать тарифы, возлагая часть расходов на пассажира, иначе не выжить.
Таким образом, понятие безопасности, гарантий и степени риска не поддается цифровому выражению. Это не математика, а психология.
Уверен ли капитан, принимая решение на вылет, что он долетит благополучно? Уверен. Иначе он не сел бы за штурвал. Он знает, что погода готовит ему сюрпризы, но опыт попадания в подобные ситуации говорит, что пути выхода из них обычно есть, и способ будет применен в соответствии с развитием обстановки, а варианты продуманы, обсуждены с экипажем, и экипаж обладает необходимой сноровкой.
Уверен ли капитан, что в самый критический момент не откажет материальная часть? Нет, не уверен. Но опыт летных поколений выработал комплекс мер и действий на случай отказа. Экипаж эти действия отработал на тренажере, за это несут ответственность специально подготовленные люди. Случись, не дай Бог, в воздухе отработанная на тренажере ситуация, экипаж справится.
Но все ситуации, какие только могут случиться в воздухе, отработать невозможно, только типичные, наработанные коллективным опытом. Часто в непредсказуемых ситуациях экипаж выручает интуиция капитана — его главный профессиональный капитал, нажитый годами, в процессе внутреннего разбора событий, произошедших и с ним, и с другими капитанами, анализа собственных и чужих ошибок.
Множество людей работает в одном направлении: чтобы самолет безопасно долетел; они все несут за это ответственность.
А экипаж отвечает и за их, и за свои ошибки — собственной жизнью. Он не считает цифры процентов риска. Но он готов к любому развитию ситуации.
Вы все водите автомобиль. Попадая в плотный поток в час пик — считаете вы проценты? Постоянно, каждую секунду, думаете о безопасности жены с ребенком на заднем сиденье? Продумываете варианты?
Вряд ли. Скорее, вы реагируете на развитие ситуации. А степень риска вы оценили перед поездкой — и явно не в процентах. А попав в непредсказуемую пробку, прижимаете уши и выкручиваетесь, сообразно степени своего мастерства, интуиции и хватки. Но если на улице гололед, вы же анализируете обстановку и принимаете решение не выезжать?
Разница только в том, что и в потоке, и в пробке, и на оживленном перекрестке — можно встать, выключиться, включить мигалки и обдумать, как поступить дальше. Все вас будут, ворча, объезжать. Но, главное: под вами будет твердая земля, на которой можно стоять хоть до следующего года.
Авиационная работа — вообще риск. По законам физики самолет, тело тяжелее воздуха, должен падать — а он летит. Его держат в воздухе скорость, тяга двигателей, правильное отклонение рулей и чувство Полета экипажа. Но остановиться лайнер не может! Все надо обдумывать и решать на ходу. Одна минута — 15 километров, одна секунда — 250 метров. Скорость пули! И экипаж думает, постоянно думает наперед.
Летчик
Каждый человек больше всего на свете любит собственную драгоценную жизнь. Каждый в минуту опасности думает о спасении этой своей драгоценной жизни. Думая о спасении своей жизни, человек предпринимает определенные действия, и этим свою жизнь спасает. И чужую, когда за штурвалом.
Поэтому, управляя полетом лайнера, я все время думаю и думаю об ответственности за жизни пассажиров. Но думаю я об этом не столь прямолинейно, как того желает и как это себе представляет иной пассажир: так ведь и с ума можно сойти. Нет, я думаю о том, как лучше выполнить свой Полет и остаться при этом в живых. Буду жив я — будете живы и вы.
Никакое чувство ответственности за дело, за вверенные тебе жизни, не перевесит простого рефлекса: спасти свою жизнь. Поэтому можете быть спокойны: самый главный рефлекс пилота работает в вашу пользу, в пользу пассажира.
Но все это — в экстремальной ситуации, когда напрягаешь все силы, прикладываешь все умение, рвешься из всех сухожилий, чтобы выкрутиться. Такие ситуации в воздухе иногда, увы, случаются, потому что это — Стихия.
Летчик в таких ситуациях не думает о своей погибели, не думает о боли и страданиях, предшествующих своей смерти или смерти пассажиров. Ему просто некогда думать об этом — он соображает, как спасти свой Полет, и действует! И уже одним этим он заведомо заботится о бесценных жизнях пассажиров.
Был такой случай в безвременье 90-х, когда при заходе на посадку у самолета Ту-154 начали последовательно отказывать двигатели. На кругу отказал один, на глиссаде второй, а тут еще курсо-глиссадная система захода на посадку забарахлила, и самолет оказался на 400 метров в стороне от створа полосы. Экипаж бился за жизнь, сумел на единственном работающем двигателе вывести самолет в створ, снизиться к полосе, не давая самолету упасть… и на высоте 9 метров отказал остальной двигатель! И сели благополучно, никто из пассажиров ничего даже не понял.
Так о чем же думал экипаж в те страшно напряженные минуты? Только не об огромной ответственности, не о слезах вдов и сирот. Летчики спасали — и спасли — свой Полет! И тем самым спасли жизни вверенных им пассажиров.
Причиной оказалось некондиционное топливо, заклинившее маленькие детальки в аппаратуре двигателей — случай беспрецедентный, единственный. Предвидеть его было невозможно. Где-то в аэропорту самостийно отреставрировали автоцистерну, из которой заправили самолет. Некондиционное смолистое покрытие внутренней стороны емкости оказалось растворимым и попало в топливо. Смолы отложились в топливной аппаратуре двигателей и заклинили золотники, отчего при установке малого газа двигатели поочередно останавливались.
Но экипаж оказался к этому готовым.
Летчик — существо особое. Через страх, желание, старание, через пробы и ошибки, испытывая восторг и страдания, — он нарабатывает чувство своего Полета. Объяснить обычными словами земному человеку, что заключено в этом понятии, «чувство Полета» — летчик не в силах, и я тоже. Это ощущение доступно только летающему существу.
Попробуйте научиться летать — может, поймете. А пока примите это за аксиому. Ну, как, к примеру, что параллельные линии не пересекаются.
Если бы вам удалось это понять, то, скорее всего, не было бы вопросов типа «думает ли в полете капитан о безопасности пассажиров?» Потому что Полет объединяет в себе и капитана, и экипаж, и железную птицу, и ее пассажиров. В воздухе все это, вместе взятое — и есть я, Летящий. Нет отдельно пассажиров — есть часть меня. Нет отдельно крыльев — это мои крылья. Нет мощи двигателей — это моя мощь. Я — могу летать!
В воздухе нет моей драгоценной жизни, есть Полет — Высшая Жизнь. Вот ее, свою Высшую Жизнь, я берегу и спасаю, когда припечет. И Ваша Жизнь, уважаемые пассажиры, — есть составная и неотъемлемая часть моей Высшей Жизни, и ее я так же спасаю.
Но некоторые люди этого всеобъемлющего слияния человека с самолетом понять не могут. Они, видимо, по жизни чиновники, которые сознательно в своей работе только исполняют функцию. Таких людей мне откровенно жаль.
Не все, конечно, столь прямолинейны по отношению к своему Делу. Многие чиновники находят себя в профессии и удовлетворены своим призванием. Но, согласитесь, каждый из нас иногда встречал таких вот людей, обделенных чувством романтики, выполняющих свою работу за тот рубль.
Когда искусство пилота иные не задумываясь приравнивают к ремеслу вождения автомобиля и походя называют Капитана водилой, я думаю, что человек просто сравнивает процесс полета — со своим пониманием движения за рулем, таким земным, таким привычным, таким элементарным… И, по своим понятиям, делает дилетантские выводы.
А оно ж таки очень сложное — просто пилотирование, управление аппаратом, имеющим шесть степеней свободы и полетный вес — много, много тонн. А уж в сложных погодных условиях… это — Великое Искусство.
Экипаж вживается в процесс пилотирования настолько, что действительно приобретает чувство Полета.
Есть автомобилисты, которым не уразуметь движения, существующего помимо понятий «вправо-влево, вперед-назад». Такой человек не знает блаженства подъемной силы. А летчик — знает. И это чувство влечет и гонит его в Небо. Чувство Полета гонит, а не рубль.
Русский ли это летчик, китайский, француз или чилиец — все мы одинаковы в любви к Небу и ощущении чувства своего Полета. Все мы бережем в полете свою Высшую Жизнь, и поэтому авиационный транспорт считается самым безопасным. Если взять цифры по всем видам транспорта — часы, километры, тонны, кресла, души, — сложить и разделить, получится, что в мировой авиации, по сравнению с другими видами транспорта, меньше всего жертв на единицу измерения. А так как в каждом самолете присутствует летчик, то цифра наибольшей безопасности напрямую зависит от него. Потому что, в сравнении с любым водителем любого вида транспорта, пилот наиболее квалифицирован, постоянно думает о тех, кто за спиной, и действует для их безопасности.
Мне на интернетовском форуме бросают в лицо: «Никогда не полечу с русскими летчиками — они не умеют летать! Они нарушают! С немцами — да, с немцами полечу: немец не нарушит, немец строго исполнит инструкцию, немец вернется при малейшем намеке на риск».
Ага. Вот тот аэробус, что в Гамбурге чиркнул крылом о бетонку, — пилотировал как раз немец. Да еще доверил посадку второму пилоту, женщине, — при боковом ветре за 20 м/сек. Это к вопросу о «строгом исполнении» и «намеке на риск».
Я мог бы привести немалое количество примеров — как из практики российских полетов, так и из практики полетов зарубежных. Везде примерно одно и то же. Есть случаи ошибок, есть случаи нарушений, головотяпства, забывчивости. И есть немало примеров проявления истинного профессионализма, летного мастерства, грамотных действий в самых экстремальных ситуациях — как нашими, российскими летчиками, так и африканскими или индонезийскими.
Не могу я делить летчиков на «наших» и «не наших». Все мы — одно летное братство. За всех душа болит. За российских нынче — особенно.
О проблеме с летными кадрами в нашей стране известно всем. Причины нехватки летчиков скрыты под мутными волнами перестройки, разрушившей единое некогда государство и единый некогда Аэрофлот.
Авиаторов, людей, работающих на самом сложном направлении нашего транспорта, на его острие, — государство бросило в свободное падение. Мало того, на самом верху так и не сложилась концепция развития или хотя бы поддержки отечественной авиации. Там — нет понятия. Декларации есть, амбиции есть, а понятия — нет, по крайней мере, не видно. Это подтвердит любой летчик России.
А мы — летаем. Возим людей — и сравнительные результаты безопасности полетов, как ни странно, у нас не очень отличаются от зарубежных.
Да, был период катастроф, когда летчики, брошенные на произвол судьбы, пытались заработать свой кусок хлеба, идя в какой-то степени на нарушения летных законов. В основном это были катастрофы грузовых самолетов. В те времена каждый гражданин развалившейся страны выгребался как мог: кое у кого теперь дворцы и яхты; кое-кто роется в мусорных контейнерах. По таланту своему.
Что же касается пассажирских перевозок, то летные происшествия в период безвременья происходили большей частью не на регулярных линиях, а на чартерных рейсах, и связаны они были тоже с нарушениями от жадности человеческой. Жизнь, ощерившаяся в период перестройки на некогда вроде бы устроенную летчицкую судьбу, иногда заставляла человека превышать пределы разумного. Ну… кушать хотелось.
Нищета — мать всех пороков. Летчики нашей страны пережили период бедности; сейчас, наконец-то, им вроде платят достойно. И период катастроф кончился.
Но, ни один процесс не ограничен строгими рамками. Щупальца безвременья, протянувшись из недавнего прошлого, нет-нет, да и выхватят даже сейчас свою жертву. Чаще всего — ошибается экипаж, и особенно там, где пахнет копейкой. Крепко засела в душах эта заноза: выбиться в люди, любой ценой!
Видимо, должно смениться несколько поколений авиаторов, чтобы летчик осознал себя не мелким хищником, не крысой на тонущем корабле, а Личностью, достойно выполняющей свою миссию на нашей Земле. И это относится не только к летчикам. И даже не в первую очередь к летчикам.
Нельзя чувство Высшей Жизни окунать в прах мелкого рвачества. Летчик не должен думать о материальной стороне своей работы — она должна быть гарантирована. Летчик должен развивать, улучшать и лелеять в себе высокое чувство Полета, а значит, и высокой ответственности за жизни пассажиров. Тогда вероятность катастроф будет меньше.
Катастрофы были и будут всегда, пока существует летающий, плавающий и ездящий транспорт. Такова цена прогресса. Полной безопасности на Земле никогда не было и никогда не будет. Но стремиться к ней — обязанность всех нас.
Летчик — отнюдь не «водила». Водителей — миллионы; гражданских летчиков в нашей стране едва наберется пятьдесят тысяч. Капитанов, людей, принимающих решения в воздухе и несущих ответственность за безопасность полета, — всего несколько тысяч. И каждый из них — Личность, заслуживающая глубокого уважения.
Поэтому когда пассажир-дилетант, принародно, на интернетовском форуме, начинает обвинять, советовать, да еще и поучать летчика, что и как ему делать в воздухе, — летчик с полным правом может посоветовать, куда этому обвинителю идти. Но нет: летчик на форуме таки старается объяснить человеку. Летчик терпелив и уважителен.
А тот пассажир все равно обижается и обвиняет летчика в высокомерии, хамстве, непрофессионализме и презрении к пассажирам.
Если бы мне пассажир с истерикой указывал, что, мол, «водила, куда ты лезешь, у тебя же запас по сваливанию всего три градуса!» — я бы тоже послал.
Это — наше собачье дело. Мы — ездовые псы Неба, обученные соблюдать безопасность и на практике, многократно, десятилетиями, испытавшие на своей шкуре тот запас по сваливанию. Мы лучше знаем, как его выдержать, каковы границы и пределы. Наш профессионализм и заключается в грамотном, оптимальном балансировании в пределах этих трех градусов.
«Так это ж на сколько процентов возрастает степень риска, когда приближаешься к границе?»
Мы знаем на сколько. Ровно на столько, как и при приближении двенадцати колес к бетону со скоростью полета 270 км/час. Вот здесь — чуть дрогни рука…
А каждый из нас выполнил тысячи таких посадок.
Полетов без риска — вообще не бывает.
Чуть дрогни рука у парикмахера, который выбрил опасной бритвой сотни тысяч человек…
Но он знает, как балансировать на грани.
«Пилот — «неземной» человек? Да бросьте вы. Такой же, как и все. По утрам так же бреется, по вечерам так же ложится с женой; так же думает, где б зашибить копейку; так же любит показать свою значимость среди людей; так же не любит ответственности и норовит ее сбросить на другого; так же сачкует и ловчит на работе, когда начальства рядом нет. И вообще, в летчики наверно идут рисковые трюкачи, которым не хватает адреналина, и они при любом случае — а тем более на самолете — играют с судьбой на грани».
Спорь, не спорь с человеком, далеким от Неба, — ну, есть такие, с апломбом, люди — летчик все равно ничего ему не докажет.
Он не докажет, что за относительно высокую зарплату пилоту приходится отдавать все силы, изо дня в день, месяцами, и, налетав за лето 400 часов, побыть дома за этот период едва ли десяток ночей. Он не докажет, что высокая эта зарплата выплачивается, в основном, за переналет установленной врачами санитарной нормы, а значит, ездовой пес изо всех сил налегает на постромки в погоне за дополнительным, самым лакомым куском требухи. И это продление саннормы налета — узаконено!
Не докажет он, что далеко не всегда бреется утром, а гораздо чаще встречает то утро в воздухе, уже выбритым с вечера, а в глаза хоть спички вставляй.
Про жену вообще промолчим.
Копейку хозяин стал платить летчику едва ли года три-четыре назад, а кое-где летчик до сих пор летает на советских Ан-24 тридцатилетней давности и получает в несколько раз меньше, чем его коллеги в тех четырех-пяти крупных авиакомпаниях. Однако пассажиров такой пилот бережет точно так же, как их бережет более удачливый, более способный, более трудолюбивый, более пробивной, летающий за рубеж на суперсовременном лайнере, богатый коллега.
Значимость свою летчик старается не показывать, а то ведь можно дождаться: или квартиру ограбят, или машину угонят. И редко, очень редко встретишь теперь на улице пилота в форменной одежде и фуражке.
Об ответственности летчика — вся эта книга. В воздухе ответственность не сбросишь, она вросла в хребет пилота; он свою состоятельность в этом мире чувствует скорее именно как ответственность и гордость за Полет, за жизни своих пассажиров.
В полете на современном лайнере, всего с двумя членами экипажа, не то что сачковать — просто перевести дух времени нет; ну, секунд двадцать…
Бытует мнение, что в воздухе экипаж предоставлен самому себе и может вытворять что хочет. Ну, трюкачи, и всё.
Вспоминаю давний разбор. Перед лицом своих товарищей держала ответ опытная женщина-пилот, капитан Ту-154, в прошлом чемпионка мира и лауреат высоких наград за летные достижения. Так ее при нас пороли за такое нарушение: она превысила скорость выпуска шасси на 1 км/час. Положено 400, а у нее бесстрастный «черный ящик» зафиксировал 401 в течение 5 секунд!
А вы говорите «вытворяет что хочет». Нас очень строго контролируют, и практически все полеты расшифровывает умный компьютер; с ним не договоришься. Все отклонения и нарушения фиксируются; ведется статистика, ее обязаны докладывать вышестоящему инспектирующему органу ежемесячно.
«Черный ящик», оказывается, нужен не только для расшифровки параметров полета после авиационного происшествия. Это еще и мощный рычаг контроля и воздействия на экипаж. Ведь при анализе отклонений в технике пилотирования можно вполне уловить опасную тенденцию и вовремя принять профилактические меры: допустим, сделать внеочередную летную проверку этого капитана лицом командного состава, чтобы тот опытным оком заметил ошибку и подтвердил данные самописцев. Потом придется дать человеку дополнительную тренировку, а потом снова анализировать бесстрастные записи «черного ящика». А записываются десятки и сотни параметров и разовых команд; весь полет как на ладони. Полет с неисправным самописцем считается нарушением, и самолет в полет без исправных средств объективного контроля не выпускается.
Итак, летчики хорошо подготовлены технически, то есть, умеют выдерживать параметры до единиц. Вы случайно не пробовали точно выдержать на автомобиле хотя бы в течение минуты скорость плюс-минус один км/час?
Казалось бы: проанализируй все условия полета, принимай решение, взлетай и иди себе по маршруту, обходя опасные явления погоды. А то — просто вернись, если чувствуешь, что не пролезть.
Меня тут как-то упрекнули, что после сложной ситуации я упомянул о «запахе адреналина» в кабине. Мол, «настоящий» летчик — тот, кому за всю свою жизнь и вспомнить-то нечего. Вот такой пилот и должен возить пассажиров.
Странные люди. Какие-то… бесстрастные. Да ты хоть вообще в жизни, пардон, потеешь? А тут — самолет, который пилот любит, как женщину. А ответственность! Сто раз взмокнешь. И ведь это — не подвиг, а просто отдаешь все силы, все эмоции любимому Делу. А событий в жизни летчика в воздухе хватает.
Ну, нет среди нас этих, «настоящих», бесстрастных, с холодным, все предвидящим и все вовремя взвешивающим разумом, — которые делают все строго вовремя и все точно по инструкции… И что: погода для них — тоже вся по инструкции?
Кем-то из великих сказано, что инструкции пишутся для тупых, а умный человек использует инструкцию не буквально, а в соответствии со сложившейся обстановкой.
Рамки наших документов узкие. Но и в узких пределах пилот умеет маневрировать так, чтобы полет был оптимальным. Выходить же за рамки — себе дороже: замордуют объяснительными, отпорют по полной программе, типа, «а почему ты сделал вот так, а не эдак?»
Почему, почему. Потому. Кто не работает, тот не ошибается. Еще одна шишка в мозгах, на память.
Эти летчицкие мозги — они не извилинами покрыты. Мозолями. Извилины нужны на земле, чтобы продумать и предусмотреть, да еще иной раз и отбрехаться. А в воздухе работают натренированные рефлексы, подкорка. Ну, и, иной раз, — Божье озарение.
Поэтому услышав дилетантское «и вспомнить-то нечего», летчик заржет. Ему кажется, что это у чиновника, клерка, исполнителя и потребителя, вспомнить, по большому счету, действительно нечего. У нашего брата — ой, есть чего.
Не обижайтесь, добросовестные клерки. Я отношусь к делу, которое вас кормит, с должной степенью уважения. Может быть, для вас это самая прекрасная профессия на земле, как для меня — моя летная.
Я просто перелистал тут «Планету людей» великого Антуана де Сент-Экзюпери. Это он, описывая мысли уставшего пилота, завтракающего после ночного полета в ресторанчике среди клерков, сравнивает жизнь созидателя Полета, борца со Стихией — и «жалкого чиновника». В те времена, видимо, чиновничья профессия была эдаким символом приземленности, что ли, а профессия летчика была окутана ореолом романтизма. Ну… кто на кого учился.
Нельзя превращать летающего человека в формального чиновника. Небо — не та стихия. Бумаги, документы здесь тоже нужны, но они — только фундамент, точка опоры штурвала, твердая ладонь, на которую кладутся жизни пассажиров. А потом эта ладонь несет ваши тела, с душами в пятках, через тысячи километров непростого пути.
Летчик привык к высоте: на высоте ему спокойно. Высота — его рабочее место, как у вас — кабинет или станок. Правда… кто нынче работает за станком, тому вряд ли хватит заработка на полет к морю.
Наш комфорт — гудящая тишина кабины. Наши удобства — трясущееся от болтанки кресло и чашечка расплескивающегося на брюки кофе. Наш покой — отсутствие суеты предполетной подготовки. Мы, наконец, в своем мире. Как птицы, вырвавшиеся из клетки. Свежая стратосферная струя бьет нам в ноздри. Яркий свет отражается от верхней кромки облаков. В разрывах между ними мы видим сумрак небесного дна: где-то там наш причал; но до него еще далеко.
Башни гроз подпирают собою стратосферу — это колонны нашего Храма. Сполохи молний — наши лампады. Мириады звезд — наши ангелы. Золотая заря украшает Лик. Мы преклоняем колена пред алтарем величия и силы Природы.
Какая там борьба со Стихией. Чтение контрольных карт — наши молитвы. Изворотливость — наши земные поклоны. Самоуверенность — наши грехи. Усталость — наш крест.
А вы говорите, летчик выпендривается ради кайфа.
Я на ладонях возношу под купол Храма, пред Богом, ваши безвольные, трепетные, доверившиеся мне тела. Я оправдываю доверие. Я стремлюсь вперед, приближаю вашу встречу с родными, и слезы радости на их глазах — елей на мою душу. В этом — смысл жизни летчика.
Да, в летчики нормальные, «такие как все» люди — не попадают. В Небо идут люди одухотворенные. И не верьте тем, кто утверждает, что нынче в авиацию повалил народ за длинным рублем. Мы — небожители, и кому же, как не нам, жрецам Авиации, знать о Полете больше, глубже и компетентнее. Не рубль правит бал в Небе, вернее, не только рубль. Далеко не только рубль.
Мы — те, кто взвалил на свои плечи более тяжелую, чем у всех, ношу: души людей. Мы поднимаем их от земных забот в горние выси, пред Тем, кто вершит нашу общую судьбу.
И кто ж больше нас, ежедневно предстающих пред Его Ликом, ответствен за жизни доверившихся нам людей.
Разве только Врач.
Вы же не пытаетесь поучать Врача, к которому ложитесь под скальпель?
Риски и страхи пассажира
Симптоматично: нынешний пассажир озабочен поиском информации. Об авиакомпании, о самолетах, об экипажах. Откуда у него такая специфическая любознательность?
В стародавние времена народ знал о нашем Аэрофлоте только то, что наши самолеты — самые надежные, наши летчики — самые беззаветно преданные, наши тренажеры — самые большие, наше топливо льется самой щедрой струей, и вообще, мы выше меркантильных расчетов. У нас любой строитель коммунизма за одну зарплату может слетать к Черному морю, где лучшие в мире курорты, а бабка в сибирской глубинке запросто летает в соседнюю деревню к куме чайку пошвыркать.
Так ведь оно и было. И топливо лилось рекой, и самолеты наши были самые прочные в мире, и прожорливость двигателей нас не беспокоила… впрочем, пилотов-то беспокоила, но кому до этого было дело. И тренажеры были самые железные. И бабки летали по деревням на Ан-2, и билет стоил два рубля.
А уж на том море места на пляже забивались с шести утра, а очереди в столовку — с одиннадцати. Мы перевозили больше ста миллионов пассажиров в год.
Бывали катастрофы. Во все времена, сколько летают самолеты, летные происшествия случались и будут случаться. Главные причины их всегда одни и те же, они распределяются примерно в такой пропорции: двадцать процентов — матчасть, восемьдесят — человеческий фактор. Человеку разумному свойственно ошибаться. Не ошибается только начальник, который порет на разборе.
Так что катастрофы случались.
Но наспех и глухо объявленные причины катастрофы во времена социалистического реализма тут же забивались громом фанфар, и народ и дальше строил коммунизм, не зацикливаясь на авиационном событии, и спокойно летел на море в очередной отпуск. Фатализм, что ли, такой был.
Грянула перестройка, открылись шлюзы гласности, и вместе с чистой информацией пошла пена рассуждений, измышлений, фантазии и сплетен. Четвертая власть впилась в мозги обывателя и вросла в них, как раковая опухоль.
В огромном потоке околоавиационной болтовни жалкие струйки истины были оттеснены бурунами недоброжелательности и треском жарящихся фактов. Журналисты, честно зарабатывая свой хлеб, бились во все двери, а то лезли и в окна, и, ухватив краем уха словечко, тут же украшали его кружевами домыслов, интерпретаций и апломба. Фраза «это же очевидно» стала их лозунгом. Интервью с подозрительными «авиаспециалистами» стали их аргументами.
И постепенно вокруг авиации возникла истерия. Она, впрочем, проявилась и вокруг других эпатажных явлений: дедовщина в армии, взяточничество врачей и преподавателей, криминальные разборки, аномальные явления, маги, гадалки, экстрасенсы… «лечу от всех болезней…» Ага, лети, лети — от всех не улетишь. Но вокруг авиаперевозок уж особенно вспухла пена. «Ящики» просто дымились.
Народ наш стал жаден до сплетен, скандалов, шоу. В безвременье все пугает, и хочется отвлечься, или найти хоть какую твердую опору, или уйти в наркотическую дурь.
А тут надо лететь. По воздуху. Среди гроз. Рейсом этой занюханной авиакомпании. На этих раздолбанных шаландах. За спиной у этих, неумелых, безголовых, рисковых ухарей-пилотов. Которые хотят словить кайф в борьбе со стихией на грани допустимого и самоутвердиться, и которые нас, паксов, откровенно презирают.
Страшно. И уже возникло понятие «аэрофобия» — боязнь полета на самолете.
А самолеты себе как летали, так и летают. Летчики как решали свои полетные задачи, так и решают. Краем уха они слышат разговоры об этой самой фобии… пожимают плечами, ухмыляются. Летчикам некогда думать об этом, у них куча своих заморочек. Но к пассажиру летчик стал относиться с определенной жалостью: что, мол, с них взять… трусливый нынче народ пошел. Изнеженный. Запуганный ящиком.
Помнится, когда мне было лет 45, я впервые столкнулся с проявлением откровенного страха у моих пассажиров и посетовал на это своему командиру эскадрильи. Старый летчик только ухмыльнулся:
— Да их половина таких, если не больше. Боятся летать… — И обозвал пассажиров обидным словом.
Для меня это было открытием. Как можно бояться летать! Чего там бояться? В самолете — самом для меня спокойном и надежном месте, где все так привычно, уютно и желанно…
И я попробовал представить полет глазами пассажира.
Добыт билет, позади все перипетии загрузки в самолет. Спина мокрая.
И вот человек, наконец, остался наедине со своим страхом. Сейчас эти дяди в фуражках, скрывшиеся за таинственной дверью пилотской кабины, будут что-то делать с этой железной коробкой, и она, качаясь и проваливаясь в воздушные ямы, поднимется высоко-высоко над землей, и будет под тобой бездонная пропасть.
Будет давить и щелкать в ушах, и желудок будет проситься наружу, и зеленоватый бумажный пакет вызовет неприятный рефлекс… и этот устоявшийся в салоне запах подтвердит, что рефлекс этот присущ многим. Но когда принесут синюю курицу, мало кто откажется от завтрака, потому что намотавшийся организм таки свое просит.
И будет тоскливое ожидание, когда же кончится эта болтанка, и будет ужас, когда самолет завалится на крыло, и на посадке: почему они не выпускают колеса? не забыли?
И ожидание тупого удара в зад. И, наконец, покатились. «Слава тебе Господи! Ну и летчик — разве так летают? И трясло, и проваливались, и шасси чуть не забыл выпустить, и об полосу грохнул. Водила».
Я вспомнил свой первый подъем в воздух, пассажиром. Это было в 1956 году, на самолете Ли-2. Откидные дюралевые лавки по бокам. Квадратные окошки. Наклонный пол. Сейчас, сейчас я полечу! Мечта детства!
И полетел. И был восторг, и мечта сбылась.
После разговора с комэской я стал относиться к пассажирам с предупредительным сочувствием. И к желанию сделать свой Полет красивым добавилось желание сделать путешествие приятным и для пассажиров. Раньше я делал это бессознательно, просто из присущего мне от природы чувства уважения к живым людям. Теперь же я стал определенно стараться для комфорта пассажиров за моей спиной.
Я научился информировать людей по громкой связи, куда и как мы полетим, искренне желал им приятного полета, а в воздухе не ленился включать микрофон на пару минут и спокойным голосом докладывать, что на борту у нас все в порядке. И все спрашивал у бортпроводниц, как меня было слышно, и не сказал ли чего лишнего, и как пассажиры реагировали, и успокоились ли. Это ведь были те времена, когда советский летчик еще стеснялся общаться с пассажирами по микрофону: не принято было.
Элементы пилотирования стал выполнять осторожно и плавно, рулил по перрону так, чтобы пассажиры не чувствовали перегрузок на разворотах, интерцепторы на снижении выпускал и убирал медленно, чтобы не было резких толчков самолета вверх и вниз. И экипаж мой делал все для того, чтобы полет был плавным и солидным, чтобы у пассажиров возникло чувство надежной уверенности в мастерстве пилотов.
Потом как-то узнал, что пассажиры нервно реагируют на изменение оборотов двигателей. Научился не сучить газами на посадке, так, чтобы звон турбин до самой земли был постоянным.
Само собой, прикосновение к земле я из принципа старался делать как можно мягче, чтоб было КРАСИВО.
Со временем пилотирование самолета как самостоятельный процесс слилось для меня с обеспечением удобства пассажиров, и постепенно пришло то самое осознание Полета с большой буквы и философское осмысление летной работы как Высшей Жизни в Небе.
Нынче иной авиапассажир в воздухе тревожно прислушивается не только к самому себе. Он только что не внюхивается в воздух. «А почему болтнуло? А может, гроза рядом? А как экипаж выдерживает безопасный интервал? А температура за бортом? А запас по сваливанию? На потолке мы или ниже? А топлива хватит? А почему изменился тон двигателей? А старый это самолет или очень старый? А может, на нем не все работы сделали перед полетом? А у экипажа опыта достаточно? А почему это стюардессы забегали? А чем это запахло? А почему член экипажа прошел в хвост и смотрит в окно? Господи, хоть бы скорее это кончилось».
И так весь полет.
«…Какова вероятность благоприятного исхода полета самолета, в котором мне, пассажиру, довелось лететь?»
«Какова вероятность сбоя системы «человек-среда-машина-земля?»
«Я не трус, но я боюсь сбойной ситуации в воздухе. Я знаю, риск есть, дайте мне цифру. Ну, сколько процентов риска? Один? Пять? Пятьдесят?»
«Все ли сделал пилот для полного обеспечения безопасности этого, моего полета? Он — стопроцентно уверен?»
«Пилот в воздухе должен избегать любого риска, даже малейшего».
«Если бы я перед полетом знал степень риска в процентах, то дождался бы всех ста процентов и только тогда бы полетел».
«А как в полете пилот определяет в процентах степень риска?»
«А что вообще пилот делает, когда риск появляется? Он ведь обязан вернуться».
«А есть ли на самолете «защита от дурака?» Если пилот вдруг нажмет не на ту кнопку?»
«А пилот в полете боится? Я вот на своей работе, когда уверен на все сто процентов, никогда не боюсь! Трусость — удел слабаков! Пилот не имеет права на слабость!»
«А мне вот в полете страшно. Я не уверен. Я не пилот».
«Дайте мне гарантии. Я заплатил за услугу. Дайте гарантии!»
«Я боюсь летать! А-а-а-а! Боюсь! Да — я трус, я слаб, я не мужик, успокойте, дайте гарантии! Я умру от страха в полете! Что делать, что делать? Водки… скорее…!»
Примерно такие мысли постоянно преследуют бедных, запуганных некомпетентной болтовней пассажиров. Аэрофобия… черт бы ее забрал.
Все мы ездим на автобусах и все знаем, что уж больше, чем нарушают правила движения водители маршруток и автобусов, обычно, вряд ли кто на дорогах нарушает. Многие из них недоучены, имеют опыт езды только на легковушке; вот как на легковушке — они и носятся, нас с вами возят. Убивают, кстати, сотнями.
Давайте бояться. «А-а-а-а! Не сяду в автобус, в маршрутку! Дайте гарантии! Деньги плочены! Водки, водки мне!»
Давайте тогда бояться ездить и на такси.
Мы понимаем, что, сев в транспортное средство, становимся заложниками мастерства водителя. Некоторые думают, что успеют вмешаться в процесс принятия решения водителем и как-то на него повлиять. Ну, кулаком в спину.
А вот на самолете — никак не повлияешь. Дверь закрыта — все. Заложники!
На паровозе хоть стоп-кран есть, гипотетически его можно дернуть и остановить состав.
На корабле хоть за обедом в кают-компании можно попенять капитану, мол, куда же он прется: на айсберги!
«А на самолете ты — груз. Для пилотов ты — загрузка и центровка. Именно эти качества пассажиров принимает в расчет летчик. Он рассчитывает, что пассажиры не будут бегать по салону, не станут пользоваться электронной аппаратурой, не будут курить и втыкать окурки в щели воздушной магистрали. А курить хочется… Лучше всех людей привязать — для их же безопасности. Груз должен быть пришвартован, а его вес приложен в строго определенной точке. Вот и отношение… как к грузу».
Действительно, все делается для вашей же безопасности.
А журналисты говорят: «Пилот по громкой связи сообщает пассажирам, что предпринимает все меры, а сам лезет в грозу из-за какой-то экономии топлива…»
«Какой ужас — падать четыре минуты и знать! «Вот оно! Случилось! Мама!»
«Господи, я, активный, деятельный человек, привыкший контролировать любую ситуацию, в которую попадаю, — сейчас бессилен! И ни-че-го не могу сделать! Это невыносимо!»
Не переживайте. Пилот действительно вас довезет. Все экипажи, ну, 99,99 процента, довозят. Вероятность погибнуть в железнодорожной или морской катастрофе, в автобусе, на велосипеде — гораздо выше, чем на этом раздолбанном самолете, с этим разгильдяйским экипажем.
Когда я начал летать на одномоторном Ан-2 над бескрайней тайгой, где иной раз на сотню километров нет ни полянки, мне сначала было страшно: «А вдруг!»
Но рядом летали мои коллеги, такие же, как и я, и постарше. Острое чувство, постоянно бередившее душу, было: не опозориться перед лицом своих товарищей.
Еще одним чувством, заполнявшим всего меня, был восторг.
А потом пришло чувство уверенности. Сначала робкое: «Кажется, я справляюсь». Потом, по мере возмужания, формулировка изменилась: «Справлюсь, даже в сложной ситуации; опыт есть». А уже с возрастом прочно вросло и утвердилось: «А кто же, как не я. Я-то как раз и справлюсь. И научу молодого».
Процентов степени риска в воздухе нет. Зато есть твердая уверенность капитана: «Небо — мой дом; а в своем доме я хозяин, и порядок там соблюдаю, и с огнем играть не собираюсь, и пожара не допущу».
Какое там еще самоутверждение на грани! Да это давно пройденный этап телячьей юности.
Как вы думаете: опытный музыкант перед концертом боится сбиться на самом красивом месте?
Если боится, значит, он не готов к выступлению.
Наоборот, настрой, чувство готовности, собранности, уверенности — дают возможность пальцам справляться с клавишами «на подкорке», а мозг будет занят решением задачи, как лучше истолковать и донести до зрителя смысл вещи.
То есть: профессионал не думает об исполнении. Он решает задачи более высокого порядка.
Так же и пилот. Он решает задачу полета, и в решение этой задачи органически входит безопасность. Выражаясь по-школьному, задача перемещения пассажиров решается на клетчатом листе безопасности полета. А как движется перо, левой или правой рукой… три градуса угол запаса или два… это как пальцы по клавишам. А произведение давно вызубрено наизусть.
Только не бывает двух абсолютно одинаковых концертов, двух одинаковых полетов. Везде решаются новые задачи, сообразно заданным природой условиям.
В Краснодаре, у красноярского экипажа, после взлета на Ту-154 однажды отказали сразу две гидросистемы: где-то лопнула трубка, и жидкость стала уходить. Осталась всего одна, третья гидросистема, она обеспечивала отклонение рулей и управляемость самолета в целом. Но выпуск закрылков для посадки производится от первой и второй гидросистем, а они-то как раз и отказали.
Необходимо было возвращаться и немедленно садиться, с максимальным весом, а значит, на большой посадочной скорости. Видя, что жидкость уходит, капитан, Олег Пономарев, используя запас жалких 900 метров высоты, успел выпустить шасси, развернуться, но на такой скорости, в жару, безопасно посадить самолет без закрылков было невозможно: длины полосы не хватило бы, да и тормоза работали бы только аварийные, менее эффективные.
Капитан, понимая, что жидкость уходит, как кровь, и надежды нет, просто сказал:
— Ребята, как хотите, а мне нужны закрылки. Закрылки 28!
Второй пилот сунул ручку на выпуск. И гидронасосы, захватывая вместе с пеной остатки жидкости, плещущиеся на дне бака, создали минимальное давление. Жидкость хлестала из трещины, но закрылки медленно, толчками, выпустились на 26 градусов. Полет был спасен.
Нельзя к пианисту подходить с мерками деревенского гармониста. Нельзя профессию пилота рассматривать через баранку автомобиля. Это разные уровни.
Гармонист понимает, что для создания музыки необходимым условием является растягивать меха. Летчик так же точно, автоматически, выдерживает скорость и все пределы. Без этого просто не полетишь, упадешь.
Но выдерживание параметров — только необходимое условие полета. Его явно недостаточно для обеспечения безопасности. Приборы приборами, но главный прибор в самолете — голова его капитана. И она приучена думать далеко наперед, думать за всех сразу, охватывать всю картину, предусматривать все возможности, решать задачу сначала на уровне прикидки, а, приняв решение, организовать работу экипажа со всей тонкостью.
Задачу можно УСПЕТЬ РЕШИТЬ, с мокрой спиной, а можно СДЕЛАТЬ ЭТО КРАСИВО. Причем, в моем понимании, красиво — значит, точно, надежно, безопасно, оптимально, рационально, изящно. Потому что красота — критерий качества любого дела.
Вот тогда, в Краснодаре, капитан Пономарев решил задачу красиво: теоретически не обладая средствами для безопасной посадки, практически — спас пассажиров, опираясь на опыт, интуицию, здравый смысл и немалое летное мастерство.
А я на его месте, может, и не додумался бы. Ну, нет жидкости в системе, прибор показывает почти ноль — чего уж там и пытаться. А он — попытался, против логики. Это было действительно озарение, ниспосланное свыше. Правда, в этой ситуации надо было еще и УСПЕТЬ, с мокрой до пяток спиной. Еще несколько секунд — и остатки жидкости утекли бы.
Присматривайтесь к Мастерам. Задумайтесь о том, как Человек достиг таких высот. И сами тянитесь выше, в меру вашего таланта, усердия и терпения. Стройте свой Храм!
Тот, кто осознает эти простые истины, способен понять, что пилот, человек неземной, летающий, — вряд ли ограничится простыми рамками ремесла, а значит, способен решать сложные задачи полета. И нет нужды бояться, что он не справится там, где провел тысячи часов без опоры под ногами. Он — довезет.
Риск и страх летчика
Давайте представим такую картину. В полете в кабину вошла бортпроводница и сообщила капитану страшную новость: половине пассажиров внезапно стало плохо, ну, к примеру, острое, угрожающее жизни отравление. Надо срочно, немедленно приземлиться для оказания экстренной помощи. Иначе люди погибнут.
Но единственный аэродром по пути, способный принять наш лайнер, закрыт непогодой; посадка невозможна: погода на аэродроме хуже минимума капитана.
Если капитан, обязанный в полете заботиться о здоровье и благополучии пассажиров, рискнет и — для спасения умирающих пассажиров — примет решение о посадке при погоде хуже минимума, то при этом он подвергнет опасности жизни остальных пассажиров и экипажа: есть, хоть и малая, а вероятность того, что самолет может разбиться при такой посадке. Но капитан уверен в мастерстве своего экипажа, а цифры погоды показывают, что там всего-то чуть-чуть хуже минимума… вполне можно сесть.
Если бы это был тот, оговоренный инструкциями случай, когда, при закрытии непогодой и основного, и запасного аэродромов, согласно нашим руководящим документам, капитану разрешается произвести посадку при погоде ниже минимума на запасном аэродроме, — то «по закону» можно было бы садиться. Хотя при посадке «по закону» ниже минимума — тоже остается какая-то степень риска разбиться. А куда, собственно, деваться.
А на приведенный мною здесь случай с массовым отравлением — руководящие документы такого права не дают. Посадка ниже минимума не по непогоде, а по другим причинам, считается «не по закону».
Как быть?
Если я рискну и сяду, причем, я на 99 процентов уверен, что сяду — и садился в таких условиях, «по закону», по непогоде, несколько раз, — то меня, за то, что рискнул и спас умирающих пассажиров, должны, по идее, посадить на скамью подсудимых.
Мне скажут: ты нарушил документ, ты подверг опасности жизни здоровых и ни в чем не виноватых людей. Да, конечно, ты спас заболевших пассажиров, молодец… но прокурор прежде всего ткнет тебя носом в документ. И отвечать ты будешь не по совести, а по букве Закона. На-ру-шил. И — отлетался. Потому что если тебя не наказать — рухнет вся система безопасности полетов, основанная на строжайшем выполнении требований руководящих документов. Извини, брат: закон суров — но это Закон!
А если я не стану рисковать и довезу до пункта посадки половину салона… мертвыми? Не моя вина — я действовал по букве документа!
Что скажут мне товарищи-коллеги? Что скажут мне матери, вдовы и сироты? Что скажет мне моя совесть человека и профессионала?
И что скажете мне вы, мои читатели, мои критики?
А если бы, не дай Бог, ВЫ попали в том полете в число отравившихся и молили Бога о скорейшем спасении, ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ?
А если бы вы сидели, живые и здоровые, рядом с умирающими и молили Бога, чтобы, черт с ними, с умирающими, а капитан не рисковал и не пытался ИХ спасать, а безопасно довез ВАС до места?
Каждый решает такую дилемму по своему понятию: жизни, риска, профессионализма и морали.
Это я — в ответ ревнителям буквы и сторонникам тезиса «все по инструкции». Как все просто: каждый должен исполнять инструкцию — и всем будет легко жить.
Можете с пеной у рта спорить, отстаивая каждый свою точку зрения.
А я поступлю просто. Чего там думать. Раз по инструкции нельзя садиться — доведу самолет до пункта посадки. А вы там, за спиной, как хотите. Ну, судьба такая ваша, планида. А я — не виноват! Я — по инструкции!
Или таки рискнуть жизнями невинных здоровых пассажиров ради спасения невинных умирающих? Ради вашего спасения!
НО! Для принятия такого, рискового решения я должен сделать себя Мастером. Работать и работать над собой, над мастерством своего экипажа, чтобы, в конце концов, обрести уверенность в нашей способности выполнить посадку в самых сложных, гораздо ниже минимума, условиях. Чтобы свести к минимуму риск остальных, невинных пассажиров.
Только вот… кто оценит степень запаса надежности в моих действиях?
Смею вас уверить, абсолютное большинство пилотов способно сесть при погоде хуже минимума. Этот минимум погоды учитывает, в частности, и запас надежности экипажей по профессионализму. Чтобы сесть при минимуме — но с гарантией. А если на запасном погода тоже ухудшится, произвести посадку на нем, при погоде хуже минимума, — используя тот самый запас надежности.
А запас надежности определяется в конечном счете — отсутствием нервного напряжения в экипаже при заходе на посадку в предельно сложных условиях.
Так что будет — если ради спасения Человека я немножко воспользуюсь этим запасом?
Убийца?
Герой?
Профессионал?
А самолет летит, 15 километров в минуту, 250 метров в секунду, и при этом грозы надо обходить, и ветер встречный усилился… и люди за спиной умирают… Надо очень быстро все это как-то осмыслить и очень быстро решить: что же для пилота в воздухе, сию минуту, главнее всего.
В экипаже, где есть штурман и бортмеханик, все же можно как-то распределить обязанности таким образом, чтобы коллективно помочь капитану принять это решение. В двучленном экипаже… ой, не завидую капитану.
Вариантов приведенной выше задачи много. Допустим, не пятьдесят процентов, а только сорок. Тридцать. Пять процентов. Одна — живая, здоровая человеческая душа, а рядом умирает сто человек. И — летное мастерство экипажа. И — мораль.
Где же проходит грань?
Пусть люди с математическим складом ума, сидя в кресле, у компьютера, с сигаретой и кофеем, спорят. Это ж не за штурвалом… там уж пусть водила как-то извернется… пес ездовой. По инструкции.
Давным-давно, зимой, поступило в Енисейский авиаотряд санитарное задание: вывезти истекающую кровью больную из дальней деревни.
Погода была на пределе. Хуже предела. Прогнозировались снежные заряды с видимостью хуже всех минимумов, и обледенение. Капитан мог не вылетать, прикрываясь и пунктом документа, и большей степенью риска: жизни двух пилотов и медсестры — против жизни одной женщины, сделавшей себе криминальный аборт.
Но это был Капитан! Он рискнул и решился попытаться спасти Человека. И второй пилот разделил с капитаном решение. И судьбу.
Их искали два года, и нашли самолет в глухомани, среди высоких елей, торчком. Стихия оказалась сильнее.
Таких примеров по неудавшемуся спасению я могу привести вам десятки. В большинстве авиационных событий, произошедших при полетах по спасанию людей, виноват экипаж. Не хватило мастерства. То есть: учета всех факторов, правильного их анализа, расстановки приоритетов, принятия верного решения, реализации его своими руками. Стихия оказалась сильнее.
Но мотив-то благородный! Не вернуться, а попытаться как-то найти путь и спасти Жизнь!
Иногда, уже попав в сложную погоду, капитан понимал, что дальше лезть безрассудно и надо возвращаться. Сколько тех вертолетов в снежном заряде цепляли винтом за деревья, уже в развороте назад!
Не хватало летного мастерства, взаимоконтроля, просто хладнокровия… когда нервы на пределе. Дрогнула рука. Потому что полет по спасению Жизни был на пределе человеческих возможностей!
А вот пример наглядный: я был свидетелем.
Ил-62, лайнер, летит из Якутска на Москву. В полете одному пассажиру стало плохо: то ли с сердцем, то ли язва прободная, кровотечение… И по пути один открытый аэродром — Полярный. Капитан решает садиться; скорая помощь примчалась в аэропорт. И тут подошел снежный заряд.
Самолет кружил, кружил, кружил… Капитан понимал, что человек умирает и надо немедленно садиться. Там и ухудшение видимости-то было не очень значительное; он мучился принятием решения… и все-таки не стал рисковать, дождался погоды, и только когда улучшилось, сел. А пассажир умер в воздухе.
Может быть, рискни капитан сесть при погоде чуть хуже минимума, удалось бы спасти человека. Врачи дежурили!
Но… 99 процентов — перевесили.
Посочувствуешь по-человечески тому капитану.
Еще пример.
Президент летит в Лондон. Погода в Хитроу явно хуже минимума. А Президенту очень надо попасть вовремя: давит протокол; ему никак нельзя улетать на запасной.
Представьте состояние экипажа: государственные интересы требуют нарушить летный закон. Капитан может не принять решения о посадке и уйти на запасной — его никто не упрекнет… но надо сесть!
Они сумели посадить машину, вышли из кабины в мокрых хоть выжми рубашках.
Кто чем рисковал? И почему экипаж — вымуштрованный, один из лучших в стране, персональный, президентский — нарушил инструкцию?
Так где же кончается инструкция и начинается человеческий фактор?
Может там, где высокие мотивы, государственные интересы заставляют сознательно нарушать несовершенный закон?
А может, там, где высокие мотивы, государственные интересы отступают перед тезисом «деньги плочены?» Или наоборот?
Вы хотели простых и ясных ответов на вопрос: почему людям стало страшно летать?
А я, пилот, старый капитан, пролетавший тридцать пять лет… не могу вам ответить.
Слишком, слишком сложна авиация, слишком неоднозначна, чтобы всю ее специфику втиснуть в строгие бараки инструкций, а по углам поставить вышки субъективного и объективного контроля и пулеметы санкций. Слишком много у авиации измерений против обычных «вперед-назад», «вправо-влево».
Говорят: рисковая работа, опасная. Верно. А пилоты что-то не шибко-то уходят на землю. Мало того: с какими усилиями, через какие только тернии не стремится списанный летчик восстановиться на летной работе! На какие только испытания и страдания не идет!
А некоторые потенциальные пассажиры, услышав, что пилоту приходится иной раз нарушать, что без этого никак не получается, что приходится принимать сложные, противоречивые, порой взаимоисключающие решения, — ничтоже сумняшеся предлагают: да бросай, РАЗ НЕ МОЖЕШЬ, уходи на землю!
«Раз не можешь» — что? Раз не можешь летать ПРОСТО, тупо следуя инструкциям, летать без отклонений и нарушений?
А ты, советчик, — можешь? На своей работе? Ревнитель.
Это наркоману любой может сказать: сделай над собой усилие и уходи из дури в нормальный мир — человеком станешь!
Так пилот и есть наркоман, но наркоман — особенный, наркоман-романтик. Он и клянет свою любимую, приносящую наслаждения и страдания работу, и не может без нового и нового укола яда Полета. Он иногда, по не зависящим от него обстоятельствам, не может строго и буквально соблюдать инструкции, хотя и хотел бы — как легко было бы тогда работать! — да проклятая летная жизнь иной раз заставляет выходить за рамки, как, к примеру, тот экипаж, что вез Президента…
ПРОСТО — в воздухе не летают. Воздух очень не прост. Да только ли воздух…
А главное — летчик НЕ МОЖЕТ бросить единственное дело, которому посвятил всю жизнь, единственное, которое его кормит — потому что ничего больше он делать не умеет — и не должен! После школы он принес свою душу в Храм Неба… он служит! А вы бросаете ему в лицо: да брось ты свою полетань… научись чему толковому.
Чему? Лучше штурвала для летчика ничего на свете нет… он и спал бы с ним… да и снится-то ему, в основном, что штурвал с самолетом улетел, а я, капитан, остался на земле… а пассажиры в самолете… как же это? И просыпаешься в холодном поту, и с облегчением вздыхаешь, что, слава Богу, это только сон… И так будет сниться до могилы.
А вы: «брось».
Вот эта ответственность за пассажирские души так въелась, что каждую секунду, сознательно и бессознательно, боишься, как бы без тебя не случилось чего с твоими пассажирами. Уж сны-то — самый показатель. Это подтвердит вам любой, абсолютно любой летчик, человек, очень хорошо понимающий, как важен для человека сон.
Это, кстати, и о рисках. Хроническое недосыпание летчика есть риск, а в двучленном экипаже — еще больший риск. Двучленный экипаж — соковыжималка здоровья. Но хозяин считает, что высокой зарплатой он пилотам этот риск и эту соковыжималку компенсирует. Так что — на том свете выспитесь, ездовые псы!
Сейчас летчиков не хватает. И не будет хватать. Им кинут хорошую кость, с добрым, сытным куском мяса, и еще заставят бежать за дополнительным, еще более вкусным куском. Но… работай, ездовой пес, солнце еще высоко! Давай-давай! Налегай!
Да, здоровье нынче летчик тратит очень быстро. Но в авиаторы берут с тройным запасом прочности. А загнанных псов пристреливают, не так ли?
Страх летчика. Спишут — нищета. Проходная. Пьянство. Нет Неба, нет жизни. Смысла нет. Ни на что не способен, никому не нужен…
«Лучше идти, чем бежать. Лучше стоять, чем идти. Лучше сидеть, чем стоять. Лучше лежать, чем сидеть. Лучше спать, чем лежать. Лучше умереть, чем спать».
Так распадается личность.
Уходи, Пилот, с летной работы, РАЗ НЕ МОЖЕШЬ!
Вот и тянут лямку ездовые псы Неба. МОГУТ! Лучше — бежать, чем идти! Через любые преграды, язык на плечо, отбросив все желания, кроме одного: дышать семидесятиградусным морозом высоты. Это и есть настоящая жизнь — в Небе, по колдобинам, слившись воедино с машиной и пассажирами в ее чреве. Это жизнь-жертва, жизнь-каторга, жизнь-наслаждение высшего, аскетического порядка: мы — над всем вашим мышиным гламуром! Нам кроме Полета ничего не надо… ну, выспаться.
Садитесь, пристегните ремни — мы вас довезем. Мы свое решение в воздухе — давно выстрадали на земле.
Чтобы совесть пилота была чиста, и он мог, так сказать, «законно» нарушать правила эксплуатации воздушного судна, проклятые западные капиталисты придумали MEL. Это такой толстенный перечень «отложенных» неисправностей, с которыми самолету можно летать неделю, может, месяц, до следующего техобслуживания.
То есть: самолет неисправен, летать на неисправном самолете нельзя… но есть лазейка, узаконенная и заводом-изготовителем, и авиакомпанией.
Пилоты приходят на вылет, листают бортовой журнал замечаний. Ага: к примеру, сегодня неисправен реверс левого двигателя. Эта неисправность входит в пресловутый перечень. Летим. Но при этом действуем как при отказе реверса, то есть, как в нештатной ситуации, с самого начала учитывая это обстоятельство, будучи к нему готовым, исполняя все ограничения, которые эта узаконенная неисправность вносит в выполнение полета, и матеря и MEL этот, и хозяев, и нервное перенапряжение, и погоду, и работу…
И получается иркутская катастрофа: на пробеге въехали в гаражи.
Надо полагать, после этой катастрофы, в которой явно замешан эрбасовский компьютер, завод-изготовитель заюлил, стал договариваться с авиакомпанией: «вам невыгодно, нам тоже… свалим вину на погибший экипаж». Свалили.
Совесть погибших пилотов чиста: выполняя посадку на заведомо неисправном самолете, они убили пассажиров «законно».
Но… не умеют пилоты летать. Нет, не умеют. А самолет хорош…
Я не верю, что пилоты полностью виноваты в этой нелепой катастрофе, как утверждает комиссия по расследованию. И другие пилоты не верят. Виноват иноземный самолет, эксплуатацию которого в спешке вынужден был осваивать экипаж — люди с другим, не европейским, российским менталитетом. И даже не самолет, а именно менталитет. А компании такой самолет выгоден. Сэконд хэнд. С чужого плеча. Почти халява. Эти престарелые «Эрбасы», наверно ровесники нашему «Туполю», только на «Эрбасах» «бабло рубят», а от «Туполей» одни убытки.
MEL властно влезает в правила полетов российских авиакомпаний. На иномарках он давно есть; на отечественных самолетах его пока нет, так уже вводят. И комфортабельных иномарок, по желанию потребителя, становится у нас все больше, а в обозримом будущем все мы будем летать с «отложенными» неисправностями. Хозяевам авиакомпаний надо делать деньги. Наделают — тогда и устранят дефект. А на этом старье тут же вылезет новый отказ.
Это при социализме нельзя было вылетать, пока не заменят последнюю сгоревшую лампочку.
Что ж: это — трудности роста, перестройки работы нашей авиации на зарубежный, рациональный, наработанный за столетие там, у них, чуждый нашему менталитету лад.
Куда мы денемся, перестроимся. За счет вашего кошелька, уважаемые пассажиры, мечтающие о заграничных удобствах на борту.
Будут, будут наши летчики летать на иностранных самолетах. Кстати, там вся технология работы в кабине, все переговоры в экипаже — на английском языке. Магнитофон все записывает, так что лучше приучить себя стать немножко американцем. Менталитет российский сменить на западный. Философию полета тоже.
На русском самолете — что бы ни случилось — можно руками пересилить автопилот, и тупая машина отключится, уступая более умному человеку. На «Эрбасах» пересиливать умный автопилот глупому человеку не позволено.
На русском самолете один пилот может своим штурвалом помочь другому, пересилить и исправить неправильные действия человека. На новейших «Эрбасах», насколько я понимаю, вмешаться в управление одного пилота другому невозможно, не переключив специальной кнопкой управление на себя.
Вот несчастные армяне, что упали в Сочи, видимо, как раз кнопку ту искали. Восточный менталитет сыграл злую шутку, перемешав философию полета, привнесенную с Запада, с долголетней совковой летчицкой привычкой. И получились действия пилотов «враздрай», и некогда стало следить за авиагоризонтами, а высота была слишком мала.
Чем виноваты пассажиры? Они ж хотели на комфортабельном самолете лететь. На более современном. Где хладнокровный летчик выполняет чисто операторские функции по слежению за автопилотом.
А чем виноваты армянские летчики? Их гоняли туда-сюда, то на запасной, то обратно в Сочи. Накрутили нервы. И восточный темперамент помешал людям собраться, настроиться и выполнить посадку, с которой в более спокойной обстановке они безусловно справились бы; да только самолет этот не спрашивает, какая обстановка.
Кстати, наши летчики, полетавшие на «Эрбасах», хвалят их. Так хвалит подержанную «Тойоту» с правым рулем бывший хозяин «Жигулей». Даже сравнения нет с отечественными самолетами: это как сравнивать, к примеру, красное — с соленым, что ли.
Но это — прогресс.
Ухудшение погоды ставит экипаж перед риском попасть в опасные для полета метеоявления. И перед капитаном встают вопросы заблаговременной оценки обстановки, вычисления степени опасности, общего анализа ситуации и принятия окончательного решения: или — или.
Как определить ту грань, за которую заходить нельзя? Не все же выражается в цифрах.
Вот, к примеру: сколько раз должно тряхнуть самолет, сколько раз стрелка должна подойти к опасной границе, чтобы капитан принял окончательное решение вернуться? Один раз? Два? Три? И на какую величину?
Ну как ты определишь. Летишь — тряхнуло, хорошо так тряхнуло. Сразу: «Что это?» Начинаешь думать, ждать подтверждения, тряхнет ли еще. Морщишь мозг: «Смена ветра? Тропопауза? Верхняя кромка облачности? Струйное течение?»
То есть: пока капитан не убедится, что источник опасности действительно существует, что степень риска высока, он решения не примет. Он будет выжидать, консультироваться, искать новые аргументы. И быстрота принятия решения зависит от его чисто человеческих качеств: интеллекта, умения анализировать, воли, решительности.
Самолет не создан для точного движения. Он ни по одному параметру не может идти так же стабильно, как поезд по рельсам.
Если машинист поезда почувствует, что колеса сошли с рельсов, хоть на пару сантиметров, — он мгновенно определит степень опасности.
Если капитан корабля заметит, что ватерлиния погрузилась в воду, он мгновенно заподозрит течь и станет предпринимать меры.
А пилот ждет повторения и подтверждения опасных признаков, чтобы убедиться, и только потом он принимает решение.
Или что — возвращаться при первом же пуке?
Моральная сторона дела. Ну, принял ты решение вернуться. На разборе надо будет привести убедительные аргументы, почему ты вернулся — и этим возвратом нанес авиакомпании немалый ущерб.
В случае ухода на запасной аэродром по непогоде капитан в качестве доказательной базы может хоть приложить к заданию на полет бланки прогноза и фактической погоды на момент ухода.
В случае посадки на запасном при погоде хуже минимума — прикладывается бланк фактической погоды на момент посадки. Тут все ясно, и никогда ни один руководитель не предъявит претензий капитану за грамотное решение.
А возврат с середины маршрута? Вот встретил фронтальную грозу, подумал, что «не пролезу», да еще тряхнуло — и вернулся. Да, безопасность пассажиров соблюдена. А расписание сорвано. Самолет этот по прилету планировался в другой рейс; этот рейс тоже сорван. И топлива сожжено немало. И рабочее время экипажа ушло; надо отдыхать. И так далее.
Когда в напряженный летний период на авиакомпанию начнут сыпаться подобные проблемы, решение которых, ввиду ограниченности парка самолетов, и большой загруженности экипажей летом в любой авиакомпании, а также высокой стоимости топлива, представляется очень сложным — то крайним поневоле окажется экипаж. И капитана на разборе обязательно спросят: «А каковы доказательства? Что — действительно фронт был непроходим? Для Ту-154?»
И что тут ответишь. Гроза прогнозов не выдает.
Некоторые обеспокоенные пассажиры наседают на летчиков: мы вам не верим, вы не смогли определить, что опасность действительно существует, вы не вернулись, полезли напролом, вы — авантюристы!
А что должно думать летное командование — профессионалы высокого класса, вертевшиеся в грозах, еще когда этот, не уверенный в себе капитан еще в садик ходил? Они тоже вправе сказать: ты что — уж совсем? Все обходят, а ты не смог. Ну-ка объясни нам, только не как пассажир пассажирам, а как профессионал профессионалам…
И если внятно не объяснишь — сделают вывод: рановато такого спеца ставить на серьезные рейсы, если не смог безопасно и оптимально решить простую задачу. Ошиблись в человеке.
Если бы вас, за вашу «законность», да на земле, да в нынешнее хищное время, да ваш начальник, который на вас рассчитывал, — а вы ему только убыток принесли своей нерешительностью, — если бы он вас поставил пред свои ясные очи, да стал говорить про «единую команду», интересы компании и прочую белиберду…
Не знаю как кто, а я, летая, все никак не мог отождествить свой экипаж с той «единой командой». Были они — люди, собравшиеся в команду для «рубки бабла», и были мы, ездовые псы, на хребте которых и рубилось то бабло.
Я уже давно не летаю. Может, времена изменились. Только ездовые псы таки выбастовали у контор высокую, настоящую зарплату — и хлопать себя по холке не позволяют.
Авиация всегда начиналась — и кончится летчиком. И сейчас это видно как никогда.
Но с летным начальством — такими же, но более опытными отцами-командирами — летчикам надо жить дружно, и отвечать за свои решения приходится перед компетентными специалистами.
В свете таких аргументов высокая и стерильная мораль поневоле начинает чуть деформироваться в сторону риска. Это так происходит с людьми везде: и в воздухе, и на земле.
Но в летчики именно и идут люди, имеющие такую психологическую черту: хоть малую, а — склонность к риску. Так уж устроен человек, решивший летать по воздуху. Без этой склонности он в воздух не пойдет. Холодный ремесленник, напрочь лишенный чувства риска и всегда работающий (как бы чего не вышло!) заведомо не доходя до рамок инструкций, — это не летчик, и не ищите таких среди нас. И не мечтайте о том времени, когда за штурвалом будет сидеть бесстрастный, бездушный, оценивающий все в процентах робот.
Человек, не склонный к риску, впервые сев за штурвал учебного самолета, после первого же полета, извините, наберется страху — и больше к самолету на версту не подойдет.
Наше летное командование, наши старые капитаны, не представляющие своего коллегу без этой, оправданной, кстати, авиационными психологами склонности, рассчитывают, что капитан употребит ее, эту склонность к риску, разумно, в здоровой пропорции между риском и прибылью.
Ведь так же это делается в любом бизнесе, начиная с сотворения мира?
Обходя грозу, капитан, где-то на задворках сознания, всегда ощущает давление ответственности за свою деятельность на благо или во вред компании, — и вынужден брать на себя определенную степень риска.
Летчик всегда является как бы буфером между давящими обстоятельствами полетной обстановки, давящей ответственностью за жизни пассажиров и давящей ответственностью перед авиакомпанией.
Причем, руководство компании, конторские менеджеры, прекрасно отдают себе отчет в том, что, не дай Бог, случись авиационное происшествие, оно обойдется хозяину в сто раз дороже, чем убытки от возврата.
Но авиационные происшествия, на общем фоне миллионов благополучных полетов, случаются исключительно редко, а убытки от нерешительности летчика — вот они, налицо, и случаются они намного чаще, чем хотелось бы. И решать твои заморочки авиакомпании приходится, вытягиваясь из жил. Хозяин, который держит тебя на работе и платит немалую зарплату, недоволен. Он требует служебного расследования и доказательной базы. И валит это все на твоих летных руководителей, а уж они с тобой разберутся.
Тебе обещали выходной, может, единственный за этот напряженный месяц. Но ты сорвал рейс — кто ж за тебя наверстает? И вместо выходного тебя ставят на другой рейс. И ты не отказываешься, потому что тебе платят за налет, это твой кусок хлеба. Если все лето просидишь на запасных, зарплата будет маленькая, средний заработок упадет… а ты, может, летаешь последний год перед пенсией…
Тут много аргументов падает на другую чашу весов. Вместо тебя выдернули в твой рейс другой экипаж, а у него, в бесконечной каторжной череде летних полетов, были свои семейные планы; он заранее договорился с командованием — а это немалые нервы… Все летит к черту. Коллега ворчит. Командир эскадрильи тоже ворчит: у него скомкался весь план полетов…
Вам, непосвященным, невозможно даже представить напряжение командира эскадрильи летом. Это одновременно — подвижничество и каторга, на телефоне и с карандашом в руке. И еще ж и самому подлетывать надо: допускать, проверять, провозить капитанов.
И если твои возвраты станут системой, тебе крепко не повезет по службе. Ну вот просто так. За твое неудобство. За твои принципы. А по сути — за твою трусость.
Это ведь так бывает и на земле, и вообще не на летной работе!
Постепенно товарищи от тебя не то что отвернутся… но сердечности отношений явно не будет. Потому что все как-то выкручиваются, и безопасность полетов обеспечивают, и выполнение плана, и на торжественных собраниях им благодарности… а ты будешь в уголке, за фикусом. И в гаражах за твоей спиной будет шепоток.
Так что капитан крепко подумает прежде чем вернуться, и будет, будет искать безопасные варианты на границах инструкции.
Да, бывают такие случаи, возвраты, но очень, очень редко. И если уж вернулся человек, если даже на Ту-154 не пролез, то коллеги понимают: сделано было все. Посочувствуют. И никто обвинять не будет.
Однако сваленные кучей на другую чашу весов аргументы не должны перевесить основанного на здравом смысле, окончательного решения о безопасности пассажиров.
Здесь все зависит от нравственной стойкости, твердости характера капитана. Судя по малому количеству возвратов, капитанам хватает мужества не сдаваться перед стихией, искать и таки находить безопасную дорогу.
Не надо обвинять пилотов голословно. Если уж обвиняете — подтверждайте это доказательствами.
И, главное, не количеством же возвратов мерить степень ответственности и уровень безопасности полетов. Количество возвратов говорило бы, скорее всего, о слабом уровне профессионализма пилотов данной авиакомпании.
А те редчайшие летчики, кому уж невмоготу стало вдумчиво, изобретательно, творчески подходить к границам и рамкам, те, кто привык жить по строгой, мертвой схеме, кто не хочет рисковать, не хочет брать на себя, — эти летчики, набив немало шишек в своей святой борьбе за буквальное, бездумное, простейшее, прямолинейное исполнение законов, ушли. Они хотят спать спокойно. Да пусть спят. И мы о них не вспоминаем.
Может вам еще про «итальянскую забастовку» напомнить? Ее ведь придумали летчики. Когда закон запретил им бастовать, они… стали делать все строго, буквально по инструкциям. И авиация встала. Не наша, советская, а ихняя, итальянская. Вот вам и работа строго по инструкции. Нет, человек, существо гибкое, придает мертвым инструкциям функцию жизни, постоянно взваливая на себя ответственность.
Когда некоторые читатели ругали меня за фразу «Но не возвращаться же. Пойдет анекдот, как Ту-154 из-за грозы вернулся в аэропорт вылета», когда называли потенциальным убийцей, поставившим, мол, свое самолюбие выше безопасности пассажиров, — они не поняли, или, вернее, мне не хватило таланта объяснить им главное. Не самолюбие, нет. Фраза «Но не возвращаться же» означает, что надо искать пути. Это как та лягушка, которая в кринке со сливками все дрыгала и дрыгала лапками, сбила, наконец, масло и выпрыгнула. Только для этого действия у лягушки было сколько угодно времени; у летчика его всегда в обрез.
Ту-154 в том далеком 1983 году был наиболее приспособлен для решения задач и поиска вариантов. Другого столь мощного самолета у нас еще не было изобретено. Поэтому вместо примитивного возврата мне, молодому, по второму году капитану, пришлось ломать голову и искать обходные пути. Я не мог поверить, что Ту-154 — и не пройдет!
И мы ведь нашли проход. Использовав весь свой опыт, опыт экипажа, подсказки летевших рядом бортов, технические возможности нашей прекрасной машины, продумав все варианты, вплоть до возврата, я принял решение — и мы проскользнули через фронт вполне безопасно. Мы ведь практически обошли его — за 200 километров, и проскользнули в подходящую дырку между засветками, уже «на углу» фронта.
Только запах адреналина… ага… «и вспомнить-то нечего». Но… хотел бы я посмотреть на того бесстрастного умника, с апломбом утверждающего, что «настоящему» летчику за всю летную жизнь вообще не должно ничего «такого» вспоминаться, — вот хотел бы я взглянуть на него, трясущегося, вблизи грозового фронта.
Я тогда в летном дневнике по возвращении домой сделал такую запись, еще дрожащей после того адреналина рукой:
«…Все же мы нашли проход. Правда, узкий и извилистый; но здесь помог нам месяц: он высветил стоящие столбами грозовые облака, чистые, без всегда сопутствующей им перистой и перисто-слоистой облачности. И мы повернули вправо.
Дальномер показывал уже 190 км к югу от Новосибирска. Слева показались огни Барнаула, впрочем, их сразу закрыло, как только мы втиснулись в облачное ущелье. Я ориентировался визуально, едва успевая перекладывать штурвал из крена в крен, второй пилот следил за параметрами, чтобы не выскочить за ограничения, а штурман вел нас по локатору, выискивая лучший по условиям безопасности проход между облачными стенами, за которыми непрерывно перекатывались клубы света, слепившие меня и не дававшие возможности оценить, как близко мы подошли к облаку.
Все светилось, сверкало, слепило, горело; на секунду устанавливалась полная темнота, и мы бросали взгляд на приборы, затем снова, то слева, то справа, то внизу вспыхивало и катилось красное, оранжевое, серебристое, зеленое и фиолетово-белое пламя.
«Чертики» заплясали на окнах, видимость пропала: вскочили в размытый край наковальни, но на две секунды; не тряхнуло, не шелохнуло, только разряды катились по стеклам фонаря. Штурман влип в голенище локатора, предупредил, что немножко потрясет, и правда, немножко колыхнуло, дрогнул самолет — и перед нами засияли звезды…»
Это не строки из книги — кто читал «Великую Грозу», может сравнить. Но ту главу я списывал с вот этих, приведенных выше строк своего летного дневника.
Экипажи пересекают грозовые фронты ежедневно и даже иногда несколько раз по одному маршруту. Это обычное наше дело, и ничего страшного летчики в такой работе не видят.
Да, напряжение есть — с грозой не шутят. Иной раз и взмокнешь. Да, локатор надо проверять перед вылетом еще на земле. Да, надо соотносить свои возможности и предвидеть развитие грозы. Надо хорошо знать авиационную метеорологию.
Но ничего экстраординарного в обходе гроз нет, и мой совет пассажирам: пристегнитесь потуже и любуйтесь красотой и мощью Великой Природы. Нет ничего краше и величественнее грозовых облаков. Может, немножко и потрясет. А мы уж вас довезем. Степень риска определит капитан, он и примет грамотное решение.
Их тысячи, воздушных капитанов, вот сейчас, в эту секунду, принимают такие решения по всему земному шару. Сто молний бьет за эту секунду в поверхность планеты.
А самолеты себе летят, перемещая по воздуху тысячи трепетных человеческих душ навстречу душам, томящимся в аэровокзалах, в ожидании и молитве.
Ликбез
Я пишу эту книгу для людей, совершенно далеких от авиации: для домохозяек, которым, может, всего-то раз в год и придется слетать в отпуск самолетом.
Но так как при этом неизбежно придется оперировать авиационными терминами, я постараюсь на пальцах, в примитивном виде, дать первоначальное понятие о принципах безопасного полета самолета — и тем самым заполнить пробел в ваших знаниях, утолить жажду информации.
Профессионалов, любителей точности, формул и графиков прошу пока покурить в сторонке.
Как создается подъемная сила и от каких факторов она зависит?
Возьмем плоскую пластинку и станем обдувать ее ровным воздушным потоком так, чтобы она разрезала воздух. Передняя кромка пластинки разделит струю на две части: одна пойдет над пластинкой, а другая — под нею. А за задней кромкой эти две части потока снова соединятся.
Если верхнюю часть пластинки сделать выпуклой, а нижнюю оставить плоской, то верхняя часть потока, стремясь соединиться с нижней, будет двигаться быстрее: ведь надо успеть пройти по кривой больший путь.
Там, где скорость потока больше, давление всегда меньше. Значит, над пластинкой будет меньшее давление, а под пластинкой — останется то же самое.
Разность давлений под нижней и над верхней поверхностью и создает подъемную силу.
Чем скорость потока больше, тем больше подъемная сила.
Вот так примерно устроено крыло самолета: сверху оно выпуклое, а снизу вроде как плоское.
Теперь повернем пластинку под углом к потоку, приподнимем ее переднюю кромку. Воздух будет набегать уже не параллельно пластинке, а под углом к ней. Этот угол и есть знаменитый угол атаки. Чем он больше, тем больше подъемная сила.
Приподнимем переднюю часть пластинки сильнее. Подъемная сила увеличится, пластинку станет вырывать из рук вверх; так поднимается воздушный змей.
А если поставить пластинку вообще поперек потока, то никакой подъемной силы не будет, а будет одно лобовое сопротивление.
Где же та грань, за которой при увеличении угла атаки подъемная сила начинает пропадать?
Эта граница называется критическим углом атаки.
На самолетах рабочие углы атаки находятся где-то в пределах до 15 градусов. Если крыло задрать еще сильнее, верхняя часть потока, обтекающая его криволинейную поверхность, уже не сможет соединиться с нижней частью потока за задней кромкой крыла. Верхний поток начнет срываться, закручиваться и станет турбулентным. А давление в таком турбулентном, вихреобразном потоке станет равным тому, что под крылом, — и подъемная сила резко упадет.
Значит, для создания и поддержания подъемной силы нужно как-то выдерживать угол атаки крыла, не доводя его до критического значения, — в так называемом летном диапазоне.
Чтобы внезапно не выскочить за предел летного диапазона, надо иметь какой-то запас угла атаки. Если, к примеру, критический угол равен 15 градусов, то лучше лететь на угле атаки 10, имея запас по углу атаки (или запас по сваливанию) 5 градусов. И не задирать крыло выше этих 10 градусов.
Цифры эти приведены здесь весьма произвольно. На самом деле, диапазон летных углов атаки на высоте гораздо более узок: чем больше высота полета, тем меньше становится критический угол атаки, тем ближе подкрадывается он к летным углам.
Таким образом, с ростом высоты полета запас по сваливанию уменьшается.
Выдержать в полете безопасный запас по сваливанию не так и трудно. Как только самолет задирает нос, так его скорость начинает падать. Как только самолет начнет опускать нос, скорость увеличивается. А пилотируется самолет именно выдерживанием скорости.
Если в полете уменьшится тяга двигателей, самолет начнет терять скорость. Для того чтобы сохранить прежнюю подъемную силу, а значит, высоту, придется чуть увеличить угол атаки. Скорость начнет падать. Для сохранения заданной высоты придется все увеличивать и увеличивать угол атаки, выбирая запас по сваливанию.
Многотонный самолет инертен и не так-то быстро теряет скорость. Так что выдерживание безопасного запаса по сваливанию — дело не очень сложное. И автопилот, и пилотирующий вручную летчик делают это автоматически.
Правда, можно одним коротким, резким движением штурвала на себя «вздернуть самолет на дыбы». При этом угол атаки на еще безопасной скорости может выйти за критическое значение. Но так никто не пилотирует.
А если экипаж прозевал, и самолет потерял скорость и подошел к опасному пределу, — хоть что-то может предупредить пилотов?
Во-первых, если угол атаки достиг критического значения и начинается срыв потока с верхней поверхности крыла, завихрения начнут трясти самолет. Перед сваливанием он как бы зависает и весь дрожит. Достаточно сунуть штурвал от себя, опустив нос и уменьшив таким образом угол атаки, как тряска прекращается, а самолет начинает разгонять скорость.
Во-вторых, на тех самолетах, где по конструктивным особенностям срыв потока с крыла не вызывает заметной тряски, устанавливают специальный механизм принудительной тряски штурвала. Как штурвал затрясло — толкай его от себя, и все прекратится.
В-третьих, на некоторых самолетах устанавливают специальный прибор, показывающий наглядно текущий угол атаки и границу критического угла. Шкала прибора крупная. Деления широкие. И вполне можно отдать отчет, как изменяется угол атаки и как близко он подходит к критической черте.
Кроме того, на этом приборе устанавливается еще звуковая и световая сигнализация: загорается красная лампочка и гудит сирена. Если экипаж не услышит сирену, не увидит красную лампочку, не обратит внимание на слившиеся стрелку и красный сектор на шкале прибора — ну, тогда, еще через пару градусов, самолет начнет сваливаться. Но даже в этот момент пилоту достаточно энергично отдать штурвал — и все восстановится.
На любимом моем самолете Ту-154, на котором я пролетал двадцать три года, в полете угол атаки стоит обычно в пределах около шести градусов по прибору. А критический угол караулит где-то на девяти градусах. Самолет себе спокойно идет на автопилоте, все стрелки неподвижны.
По мере выработки топлива вес самолета уменьшается, и ему уже не требуется большая подъемная сила, иначе он станет стремиться набирать высоту. Поэтому автопилот потихоньку опускает и опускает нос вниз, уменьшая таким образом угол атаки. Подъемная сила от этого уменьшения угла тоже уменьшается и вновь становится равной уменьшившемуся полетному весу. Так автопилот выдерживает заданную высоту.
В конце долгого маршрута, глядишь — текущий угол атаки уже где-то около четырех градусов. А критический — так и сторожит на девяти.
Запас по сваливанию растет по мере облегчения самолета. В начале полета, на тяжелом самолете, было три градуса, а теперь, на легком, после выработки топлива, стало пять градусов.
Если воздух на высоте по каким-то причинам станет теплее обычных 55–60 градусов мороза, самолету становится труднее лететь. Двигатели, засасывающие теплый, а значит, более жидкий воздух, теряют тягу. Крыло, обтекаемое жидким теплым воздухом, тоже теряет подъемную силу. Чтобы ее поддержать, самолет вынужден лететь на большем угле атаки, а значит, запас по сваливанию уменьшается.
Когда самолет еще может лететь, но уже не может набирать высоту, это называется «достиг потолка». По мере выработки топлива самолет снова может забраться повыше. Это уже будет его потолок для меньшего полетного веса.
Чем меньше вес, тем большего потолка может достичь самолет. Но не до бесконечности. По ряду причин максимальная высота полета ограничена. Для самолета Ту-154 максимально допустимая высота полета 12500 метров.
На большой высоте воздух более разрежен и позволяет самолету лететь с большой скоростью. На малой высоте воздух плотен, и при превышении приборной скорости давление скоростного потока может просто разрушить самолет.
Создать же прочный самолет, чтобы летал быстро на малых высотах, экономически не выгодно: он сможет возить только свою тяжелую, прочную конструкцию, а больше не поднимет.
Так что быстро летать лучше все-таки на не таком прочном, но зато легком самолете, на больших высотах. Приходится для этого создавать герметичную кабину и поддерживать в ней комфортные условия. И много чего еще надо добавить в конструкцию, чтобы безопасно летать на границе стратосферы.
Чтобы быстро лететь, нужна большая тяга двигателей, для преодоления сопротивления воздуха. А большая тяга — это большой расход топлива. На высоте же сопротивление жидкого воздуха меньше, а значит, потребуется меньшая тяга для достижения той же скорости.
Выходит, на высоте меньший расход топлива. Вот где собака зарыта! Оказывается, современные самолеты летают высоко потому, что там, на границе стратосферы, полет оптимален.
Это означает, что большую загрузку, с наименьшим расходом топлива, с приличным запасом по сваливанию, а значит, безопасно, можно перевезти именно на высотах от 10100 до 12100 метров.
Цифры высот полета, эшелонов, таковы: «туда» — 8100, 9100, 10100, 11100, 12100; «обратно» — 8600, 9600, 10600, 11600. Ты летишь на 10600, а навстречу тебе два шлейфа тянутся за самолетами на 10100 и 11100. Между нашим и встречным эшелонами должен выдерживаться промежуток по высоте, 500 метров, чтобы не столкнуться. Плюс-минус 30 метров. (Летчики, пожалуйста, не уточняйте).
Возможность маневрирования при полете на эшелонах не очень велика. Все самолеты всегда летят практически на максимальной скорости, грубо, 850–900 км/час. Это оптимальная, безопасная скорость. Не сильно-то обгонишь. Хорошо, когда впереди летит однотипный борт, с такой же, как у тебя, скоростью. Тогда выдерживать положенную друг за другом дистанцию 30 км нетрудно.
А если требуется с 10600 перейти на 11600? Надо, чтобы между встречным бортом, летящим на 11100, и тобой к моменту пересечения его эшелона был продольный интервал 30 км и боковой интервал 10 км.
Если же пересекаешь эшелон, занятый попутным бортом, интервал должен быть 20 км в момент пересечения.
Таковы правила полета по трассам — при непрерывном радиолокационном контроле диспетчером с земли. А если у диспетчера локатор почему-то не работает, то вообще самолеты на одном эшелоне летят по этому участку трассы с интервалом по времени 10 минут друг за другом.
Это я по поводу «тесноты» на воздушных трассах. Просто так, наобум — не обгонишь, не пересечешь. Все это — вопросы безопасности полета. И капитаны должны хорошо представлять себе всю аэронавигационную и метеорологическую обстановку, соотносить ее с возможностями машины, возможностями маневра и еще многими другими факторами.
Видели бы вы, как в свете зари вдоль всей трассы тянутся навстречу прямые жгуты спутных следов, и впереди точка самолета. Ближе, ближе — уже видно, как заворачиваются в разные стороны две струи расширяющегося пара… промелькнул — и медленно тает скрученная тугая нить траектории движения.
Это красота, доступная лишь посвященным. Каждый из нас натянул по чистому небу миллионы километров этих белых струн, и стратосферные ветра играют на них прекрасную мелодию Полета.
Материальная часть
Верит ли пилот в свой самолет? Любит ли он Машину? Надеется ли, что она выручит в трудную минуту?
Раньше не принято было даже думать о таких вопросах — это все было очевидно и описано во множестве книг, показано в фильмах, воспето в песнях.
Нынче что-то изменилось во взглядах. Все-таки былой авиационный романтизм изрядно замутился чьим-то чуждым, не нашим мировоззрением. Пожалуй, лучше всего эти нынешние взгляды на полет выразил один зарубежный участник интернетовского форума, видать, тоже летчик:
«Никогда нельзя слепо доверяться и полагаться на железо, тем более, в воздухе. Двигатели — не первой свежести и — не выдают полной мощности, автопилот может глюкнуть, внезапно начав закладывать «стаб.» на максимальные углы и т. п.
Я, когда летаю на одномоторной технике, будь то VFR (визуально) или IFR (по приборам) (оговорюсь — в дальнем зарубежье), всегда держу в голове сценарий своих действий, в случае если ПРЯМО СЕЙЧАС встанет движок. Если лечу VFR, всегда смотрю и анализирую поверхность под собой. Лечу над лесом — выискиваю глазами полянки, дорожки, озерца и стараюсь оценить, держаться ближе к этим ВОЗМОЖНЫМ местам вынужденной посадки. С полетом IFR, все, конечно, сложнее — но и тогда, стараюсь сопоставить карту для визуального полета с картой для приборного полета.
Другими словами в небе всегда необходимо иметь психологию, «А ЧТО, ЕСЛИ?»
Видимо, что-то свихнулось. Такие высказывания свойственны… ну, скажем так, молодому пилоту. Да его и так видно невооруженным глазом. Он вещает:
«Пилотирование — это приобретенные инстинкты, и — ничего более».
Да уж. Я, старый воздушный извозчик, написал три книги для непосвященных и одну — для самых уж профессионалов, — и в каждой из них не устаю твердить об АНАЛИЗЕ как основе пилотирования…
Нет, таки молодой летчик, явно.
Опаской этой, довлеющей над тобой, надо переболеть. Потом это состояние тревожной готовности «а вдруг?» проходит. У меня в молодости такое тоже было.
Это ж разве Полет? Это — прокрадывание по небу. Человек, прижав уши, ползет, с оглядкой, в напряжении. Так недолго и с ума сойти. В каждый полет — как на подвиг.
Как же мы тогда летали на одномоторном самолете над тайгой, а на сухопутном Ил-14 — над Карским морем — и после этих полетов полюбили Небо еще больше?
Мы летали по прямым трассам, вдали от дорог, речек и озер, как уж пролегла на карте линия пути.
Мы верили в Машину. Мы верили в Судьбу. Мы гордились, что победили страх.
Мало того, выходя в салон и глядя в глаза моим пассажирам, я испытывал небывалую гордость: сердце замирало от сознания того, что вот этим моим рукам — вот эти люди доверили свои жизни. Как же можно было обмануть это доверие!
Когда человек доверяет железу, ему легче принимать решения и исполнять их не отягченными страхом руками. И если даже где-то что-то «глюкнет» — свободный от страха разум быстрее справится с мгновенным оцепенением неожиданности.
«Ожидающий» же и не доверяющий «железу» молодой пилот — запутается в нескольких готовых сценариях, которые он держит, и держит, и держит в голове…
Вот у такого летчика за спиной я бы не хотел лететь. Пусть он повзрослеет.
Поверьте старому практику. Мне нет нужды что-то вам доказывать: так — есть, и это проверено и на себе, и на опыте других.
Всем нам приходилось в жизни сдавать экзамены и, толпясь у дверей аудитории, со страхом ожидать, когда, наконец, возьмешь билет. И всегда среди толпы шустро и деловито шныряли трусовато-озабоченные личности: «Ребята, надо что-то делать, надо как-то выкрутиться… Что делать? Куда бежать? А…? Что…?»
Поддавшись страху собственной недоученности, такой бзделовитый человек сеял панику, и экзаменуемых постепенно охватывало неприятное чувство собственной неполноценности, проявлявшееся потом при ответе на билет.
Я всегда шел и брал билет первым. Всегда. И отвечал, в основном, без обдумывания. И всегда получал пять. Понимая, что нельзя настраиваться на плохое, — шел грудью вперед! Даже если что-то и не помнил — оно само всплывало, во вдохновении ответа. Верил, что отвечу отлично! Я же — знаю!
И когда стал летать, постарался в первые же месяцы преодолеть неизбежный страх неопытности и смело, с открытыми глазами, идти навстречу неизвестности полета.
Судьба была благосклонна ко мне. Судьба благосклонна и к абсолютному большинству летчиков — мне кажется, не в последнюю очередь потому, что они верят и в Машину, и в себя, и в Судьбу.
Мне тут же возразит оппонент:
«В этом-то и проблема: ключевые слова — "верит в свой самолет". Именно это, как одна из основных причин, и приводит к авариям, подобным Донецкой. Пилоты теряют чувство реальности и расслабляются, свято веря в "непобедимость" Ту-154 — ведь столько раз самолет вывозил. Под Донецком — не вывез…»
И на это я отвечу: не самолет «вывозит», а Разум, сидящий в том самолете.
Раз уж зацепили мою любимую, лучшую в мире Машину, расскажу-ка вам о ней, не как жених о невесте, а как зрелый муж о своей любимой женщине.
Вот поглядите на знаменитый парусник «Крузенштерн». При всем снисхождении к его тихоходности, неэкономичности, невыгодности, неудобстве управления и прочих, не вписывающихся в реалии века его недостатках — это же сама Романтика! Кажется, с этим согласится любой. И уж кто хаживал на этом раритете в реальные шторма — тот уж Моряк. Тот уж попробовал морской соли и набил мозолей. Тот Богу-то маливался, и не раз. И вышел из всех передряг настоящим мужчиной.
Вот такая для меня — любимая машина Ту-154. Любимая до конца дней, любимая несмотря ни на что, любимая просто, бескорыстно, беззаветно. Это же вся жизнь моя! На ней я стал настоящим пилотом, капитаном и инструктором, на ней пролетал 23 года, почти одиннадцать тысяч часов — только на ней!
Свою машину надо любить, как жену. Надо любить ее облупленный штурвал, ее шаткое кресло, горячие после посадки колеса, гибкое крыло, мощные закопченные двигатели. Просто любить за то, что она — часть самого тебя. В ней уютно. Она дает восторг и наслаждение мягкой, как поцелуй, посадки. Она подпитывает тебя осознанием ежедневной, настоящей, мужской силы, достоинства, благородства. Обладать такой красавицей — высшее счастье, а научить летать на ней мальчишку и потом насладиться искусством ученика — высшая Божья награда.
Как же я могу не доверять любимой!
Мне тут же ответят: «Любовь, любовь… Совокупление!»
Что ж, каждый выбирает чувства и ощущения — по себе. И летная практика давно показала: каков ты по жизни, таков и в полете.
Или ты сочиняешь сценарии и прокрадываешься по жизни, никому не веря и не ожидая, что и тебе поверят, или идешь по велению сердца — и тебе верят!
Или ты любишь женщину сердцем и готов терпеть лишения и страдания ради обладания ею — или ты расчетливо потребляешь женщин другой частью тела.
Я хочу, чтобы пассажиры поверили моему сердцу.
Когда твоя женщина заболеет, и ты теряешься, и суетишься возле нее, и говоришь «потерпи, родная», и ждешь не дождешься приезда скорой помощи, — ты понимаешь, что от тебя здесь мало что зависит, и только любовью своей можешь поддержать страдающего человека.
Когда что-то случается в полете с Машиной, суетиться нельзя, и скорой помощи не жди. Думай, и решай, и справляйся сам, и молись, молись в душе: «потерпи, родная!» И она вывозит!
Не Машина «не вывезла» под Донецком — капитан загнал ее. В тот страшный момент он не думал о том, что любимой плохо, что она уже трясется от полной потери скорости! Так надо же было ту скорость держать!
Поэтому экипаж должен Машину любить. И беречь. И следить. И думать. Тогда она — «вывезет».
Каждый из нас с вами постоянно наблюдает повседневную картину: гастарбайтер добыл ржавые «Жигули» и добивает их, без меры загружая и погоняя на базар. Мне такую машину жалко. А ему нет. Скажи ему — он и не поймет, засмеется: «дарагой, это ж кусок железа!»
Ну, давайте и самолет так перегружать. И потом говорить: «железу доверять нельзя».
В начале восьмидесятых Ту-154 был для нас верхом технического прогресса. А ну-ка: на нем стояло не тросовое управление рулями, а гидравлическое! Три дублирующих друг друга независимых гидросистемы! Самая большая тяговооруженность! Скороподъемность зимой 30 метров в секунду! Да какой другой лайнер мог соперничать в этом с «Тушкой».
Конечно, экономичности никакой — но кто об этом думал при социалистическом реализме. Мощь! Скорость! Маневренность! Красота!
Рояль против гармошек.
И — не обойти грозу?
Эта машина требовала от летчика ума, знаний, тонкости пилотирования, она ставила интересные задачи, не прощала ошибок. Кто летал на этой прекрасной машине — был явно не середнячок, не ремесленник: отбирали лучших. И это был ведь самый массовый самолет в стране, он перевозил основную часть пассажиров.
Были катастрофы? Были. Но не больше, чем на других типах. Шло освоение новой техники. Прогресс брал свои жертвы. Кровью людской писались дополнения к летным законам.
Так это было и будет всегда. Но пилот должен верить в свою Машину, любить ее и надеяться на нее — независимо от количества катастроф.
Не бывает плохих самолетов. Бывают, изредка, летчики, которые Машину не любят. Они долго не летают. А вот спросите у «тушечников»: хоть один скажет о своей Машине плохо?
И сейчас Ту-154 в строю. И сейчас это — мощный самолет. И сейчас на нем возят людей. Не виноват самолет в том, что его иногда пилотируют неумело. А «иногда неумело» пилотируют нынче потому, что летчиков в стране все меньше и меньше. Но это проблема — государственная.
Теперь, слава Богу, наметились положительные сдвиги.
Хоть пенсию чуть добавили списанным летчикам. Хоть зарплату добавили летчикам летающим. И престиж летной работы постепенно стал восстанавливаться. Потек ручеек смены. Старые воздушные волки торопятся передать опыт, пока не прервалась нить. Старые технари поддерживают в приличном техническом состоянии старые самолеты. Приходят новые зарубежные машины, более современные, требующие высокой квалификации и выносливости пилотов. Авиация задышала свободнее.
Новые иностранные самолеты ничем не безопаснее старых отечественных. Ведь безопасность полета на восемьдесят процентов зависит от человеческого фактора. Но никто не может опровергнуть старое правило: летчик должен любить свою Машину. Если любит — сделает все для того, чтобы не ударить ее о землю.
Любовь и доверие — созидательны. Подозрительность — удел потребителя.
Верьте самолетам. И они не подведут.
А после этих нелепых катастроф на мою красавицу вылился ушат грязи. Оказывается, самолет очень, ну очень плохой, и всегда был плохим, и как вообще только на нем отчаивались люди летать.
Это, значит, полжизни я пролетал на любимой мною прекрасной Машине Ту-154, а теперь, на исходе ее летной жизни, на закате славы этого, некогда основного типа воздушного судна нашей гражданской авиации, — какой только осел не лягнет умирающего льва!
Не могу позволить такого отношения к любимой Машине!
Должен встать на ее защиту от глупых, некомпетентных, мерзких нападок из подворотни!
Что вы, охаивающие «Тушку», в ней понимаете. Ее — любить надо! Люби-ить! Так когда-то сказал мне прекрасный инструктор и Пилот от Бога Рауф Нургатович Садыков — и те же слова не устаю повторять я своим ученикам, а они — своим.
Любить надо любой самолет, на котором летаешь. Любить надо самолет, который обслуживаешь. Любить самолет, движением которого в небе ты руководишь. Самолет надо просто любить, как мы все подсознательно любим малых детей.
Не бывает плохих самолетов. Для летчика самолет — это его рабочий инструмент, к которому надо относиться не иначе как к кормильцу. Самолет надо беречь, стараться не нанести ему вреда, уметь к нему приспособиться, подладиться, сжиться с ним, почувствовать себя крылатым, летающим существом — и поблагодарить Машину за это прекрасное чувство.
Не годится ругать старика за то, что он стар, хуже видит, все у него из рук валится, и вообще — за печку его, и кормить из разбитого горшка, помоями!
Но старик — мудр, и как-то незаметно он эту мудрость вливает в младшее поколение, в детей и внуков своих.
Самолет Ту-154 воспитал плеяду летчиков, которые сейчас являются основными носителями опыта гражданской авиации нашей страны. На Ту-154 летала наша элита, цвет летного состава. Эта машина заставила летчика думать, расти над собой и анализировать тончайшие нюансы пилотирования. Этот самолет воспитал летчика — созидателя Полета! Какие еще, к черту, летчики-операторы! Те, кто сумел на этом самолете научиться анализу и научить молодых капитанов, внесли весомый вклад в копилку коллективного летного опыта.
Горжусь, что участвовал в процессе обучения молодых летчиков именно на этой Машине. Все они сейчас — либо опытные капитаны, либо инструкторы. И тем наша Школа продолжается. Спасибо нашей любимой Машине, что заставила думать и решать задачи.
И чем же не нравится людям мой самолет? Тем, что за 30 с лишним лет эксплуатации трижды свалился в штопор? А другие что — не сваливались? Сваливались, сколько угодно, и не только в нашей стране, и не только советского производства самолеты. И редко, очень редко удавалось вывести. Потому что обычно сваливание происходило вблизи земли, а для вывода из штопора необходим запас высоты.
Случаи же последних катастроф Ту-154 со сваливанием — ну уж совершенно уникальны.
Может, самолет плох тем, что соблазняет пилота своими возможностями летать выше гроз? Так возможности эти, при разумном их использовании, позволяют решать задачи, недоступные другим самолетам.
Вы не пробовали идти на обгон автобуса на горку на «Оке?» А на «Тойоте?» Какой автомобиль позволяет решать задачу успешнее?
Ну, давайте все ездить на «Оке». Потише-потише. Побезопаснее. Плестись за автобусом, дыша чадом его выхлопа.
Ах, да… я знаю, чем нехорош самолет. После заруливания на стоянку сначала выходят те пассажиры, что летели в хвосте, а потом уже первый салон. Чтоб случайно не посадить самолет на хвост. Двигатели тяжелые подвесили в хвосте, черт знает зачем, а ты мучайся. Страдай.
Кто не пробовал пилотировать при отказе двигателя в жару на взлете, да еще когда двигатели расположены под крылом, да когда сразу теряется половина тяги, а самолет разворачивает боком, — вот тот не поймет, что такое отказ одного из трех двигателей, расположенных «кучкой» вблизи продольной оси Ту-154. Да его и не почувствуешь. Не надо упираться ногой для балансировки машины; экипажу в этом случае гораздо, неизмеримо легче пилотировать. И запас тяги остается больший, чем при отказе на двухдвигательном самолете.
Схема расположения двигателей на самолете выбирается с учетом многих параметров, и спорить о преимуществах и недостатках могут только люди посвященные и разбирающиеся в нюансах. Пассажирам это ни к чему. А я, пилот, полетавший и на Ил-18, и на Ту-154, знаю, каково пилотировать турбовинтовой лайнер при отказе крайнего, четвертого двигателя, расположенного на крыле. И после этого я только благодарен конструктору, освободившему пилотов на Ту-154 от постоянной готовности мгновенно парировать разворот самолета при отказе двигателя.
Вы уж потерпите, пожалуйста, пока задние пассажиры выйдут, три минуты.
Говорят еще: «кондовая машина».
А в чем, собственно, ее «кондовость» для пассажира? Салон просторнее, чем у Боинга-757, о туалетах и говорить нечего. Да и при чем тут безопасность — и вытертая, скрипучая обшивка салона? Придет очередной срок, погонят ее в ремонт, вернется как новенькая.
А почему Ту-154 выводят из эксплуатации во многих авиакомпаниях?
Из-за неэкономичности его прожорливых двигателей.
А почему не установят более экономичные?
В свое время установили, правда, отечественные, и стал это уже другой самолет, Ту-154М. И даже если установить вообще самые экономичные, зарубежные…. Ох, в такую копеечку влетит, что не будет смысла: затраты не окупятся.
Современные западные самолеты отличаются от наших, советского производства, примерно как советский самосвал КРАЗ от японского «Комацу». Вес конструкции. Злые языки утверждают, что в свое время японцы хотели закупить у нас партию КРАЗов просто на металлолом — и выпустить из этого хорошего металла в два раза большую партию вдвое более грузоподъемных «Комацу».
Модифицированный Боинг-737, по полетному весу примерно, ровня «туполенку» Ту-134. При полетном весе чуть за 50 тонн, перевозит столько же пассажиров, сколько стотонный Ту-154. Это ж сколько набито железа и налито топлива в мою «Тушку!»
Но пассажиру-то какая разница: самый легкий самолет его везет или самый прочный. Ему важно то, как удобно он будет получать свои блага в салоне.
Старик тяжел. Ему бы легкую, современную конструкцию — ох и жеребец бы получился! И экономичнее был бы: вместо железа — да побольше пассажиров… правда, коленки на ушах…
Но… если бы у бабушки была борода — она была бы дедушкой. Парусники уходят: они уже не соответствуют требованиям современной жизни.
А летать на Ту-154 все так же безопасно, как и раньше. Матчасть надежная. Запчастей к нему полно, технологии обслуживания и ремонта отработаны, кадры есть. Летайте себе на здоровье.
То, что машина не приспособлена к выходу из какого-то плоского штопора, о котором я, старый линейный пилот, практически не имею понятия, вовсе не означает, что летать на машинах этого типа опасно.
Ну, вот заехали вы в лес за грибами, на обычной шоссейной машине. Она не приспособлена для езды вне асфальта… но грибов-то хочется. Но — не приспособлена! Не выводится она из ям, как тот Ту-154 из плоского штопора. А вы лезете. С женой, с детьми, понимая, что если застрянешь в яме, ночевать придется в лесу.
Не лезьте в яму. И будет вам безопасно. Или купите себе внедорожник.
А если бы самолет был приспособлен к выводу из штопора, а пилот владел методикой — что, безопаснее было бы лететь через грозовой фронт? И можно было бы лезть прямо в облако — ведь если машина свалится, пилот выведет.
Нет, не полез бы пилот в грозу. Это его решение не зависело бы от возможностей самолета выйти из штопора, а было бы продуктом анализа всех факторов ситуации, из которых способность к выводу из штопора стояла бы на последнем месте. А на первом месте стояла бы только и только безопасность пассажиров. И он нашел бы безопасный вариант.
«Я боюсь»
Вот сели вы в самолет, утряслись с вещами, отрегулировали ремень, огляделись. Кто-то прилип к иллюминатору, кто-то открыл ноут-бук, кто-то книгу, кто-то ушел в себя… молится.
Самолет задрожал; слышно, как идет раскрутка двигателей, зазвенели турбины, под полом срабатывают какие-то механизмы… поехали. Крыло разверзлось, задняя кромка опустилась… какие-то сквозные щели, все трясется на железочках, качается.
Боже мой — и на этом мы должны держаться в воздухе!
Да, именно на этом. Крыло современного самолета есть шедевр инженерной мысли. Оно легкое, прочное и гибкое. Притом, оно является вместилищем топлива, авиационного керосина. Внутри этой конструкции размещаются десятки тонн топлива, трудно даже представить, где же там эти баки.
Баки там — пустотелые кессоны, вдоль всего крыла, а в них еще куча насосов, трубок, проводов и датчиков.
Передняя кромка крыла на взлете и посадке отклоняется чуть вперед и вниз таким образом, что между этим предкрылком и крылом появляется узкая щель. Струя воздуха, врываясь в эту щель, сглаживает поток над крылом и не дает ему сорваться, а значит, можно взлетать и садиться на чуть больших углах атаки; при этом немного увеличивается подъемная сила.
А сзади крыла таким же образом выдвигаются закрылки. В выпущенном положении они так загребают воздух, что подъемная сила крыла возрастает очень значительно, а значит, при разбеге самолет оторвется от бетона гораздо раньше, на меньшей скорости. Значит, можно взлетать с более короткой полосы.
Те щели, что появились в задней части крыла при выпуске закрылков, предназначены для такого же сглаживания потока за закрылками, что и у предкрылка, а это немного уменьшает лобовое сопротивление, которое при выпущенных закрылках значительно увеличивается.
Все механизмы, управляющие механизацией крыла, эти винтовые подъемники, шарниры и кривые рельсы, рассчитаны на очень большие нагрузки и вибрации. Пускай себе трясутся.
Наступает страшная минута. Самолет, дрожа, увеличивает обороты; можно зримо представить, как тяга двигателей толкает его вперед, а мощные тормоза крепко удерживают на месте.
Крепко, хорошо пристегнулись?
Вы скажете, что на разбеге же вас вожмет в кресло — и зачем тот ремень?
Но на разбеге пилот готов к любой неожиданности: от отказа двигателя до коровы, каким-то непостижимым образом выскочившей на полосу. Тысячи всяких причин за долгий срок развития авиации заставили летчиков быть всегда готовыми к прерванному взлету.
Мы как-то взлетали в Самаре, и на разбеге поступил четкий доклад бортинженера:
— Двигатель номер три, экстренно!
Пришлось очень энергично прекратить взлет. Оказалось — ложное срабатывание аппаратуры, измеряющей вибрацию двигателя. Автоматика по сигналу той аппаратуры выключила двигатель.
Дело в том, что вибрация, появившаяся на двигателе, где турбина вращается с частотой 15000 оборотов в минуту, может вдребезги разнести двигатель за секунды. Вибрация означает разрушение одной из множества лопаток на рабочем колесе. Это как снаряд из пушки. И на каждом двигателе установлена следящая автоматика, при первом подозрении она отключает двигатель. От греха.
Поэтому, если экипаж решит прекратить взлет — для вашей же безопасности! — будьте готовы к тому, что от резкого торможения вас рванет вперед — и похлеще, чем на автобусе. Пилоту выбирать не приходится — чтобы остаться на полосе, он полностью использует всю силу и все средства торможения.
Так что затягивайте ремень покрепче.
В спорах и взаимных претензиях пассажиров и бортпроводников частенько всплывают факты, когда мама, жалея больного ребенка, разметавшегося во сне на соседнем сиденье, не хочет его будить, а бессердечные бортпроводники заставляют расталкивать и пристегивать как положено.
Будем взаимно принципиальны. Когда, не дай Бог, ребенок слетит и ударится спиной о крепления переднего блока кресел, будет поздно спорить. Вы же потом предъявите претензии к бортпроводникам. А они только пекутся о безопасности, выполняя свои обязанности строго по инструкции.
Думайте, думайте о безопасности малыша! Своевременно принимайте меры! Не рискуйте! Для пассажиров же это так просто, только надо пунктуально выполнить инструкцию: взять ребенка на руки и, будучи туго пристегнутым, крепко удерживать маленькое тельце в руках.
Стронулись, огромная сила вдавила вас в спинку — вот это ускорение!
Таким же может быть и торможение.
Вообще отказы двигателя на самолетах очень редки. Железо там надежнейшее.
Но бывали случаи.
Взлетал как-то из красноярского аэропорта наш Ту-154. В кабине было пять человек: в состав экипажа был включен бортинженер-инструктор; он натаскивал бортинженера-стажера.
На разбеге все было как обычно: двигатели выведены на взлетный режим, отпущены тормоза, пошел отсчет скорости штурманом: «Скорость растет, 160, 180, 200, 220, 240, рубеж!»
Не успел капитан ответить «Взлет продолжаем», как внезапно загорелось табло «Пожар», и сработала сигнализация пожара первого двигателя. Тут же прозвучал четкий доклад стажера о пожаре.
Рубеж — это как раз та скорость, до достижения которой, если внезапно откажет двигатель, дается команда «Стоп!» и прекращается взлет. А после рубежа — только продолжать взлет, потому что остановиться — уже не хватит полосы.
На принятие решения в таких случаях капитану дается три секунды. Это двести метров полосы.
Капитан, Владимир Уккис, получив доклад о пожаре двигателя, быстро опустил уже поднятую было для отрыва переднюю ногу и, несмотря на то, что рубеж уже остался позади, принял решение прекратить взлет, потому что длина полосы была больше расчетной, 3000 метров. А продолжать взлет с пожаром, как рекомендует инструкция, выполнять маневр и посадку на горящем самолете, сами понимаете, не очень приятно.
Мгновенно была дана команда «Стоп!», экипаж сработал как отлаженный механизм (красноярская школа!), и пока капитан, хлопнув по газам, обжимал тормозные педали, второй пилот вздергивал рычаг реверса третьего двигателя, а штурман тянул рукоятку интерцепторов, — бортинженер-инструктор через плечо стажера успел выключить двигатель и генератор, включить последовательно две очереди пожаротушения… Через несколько томительных секунд табло «Пожар» погасло.
Уф-ф… Самолет остановился у самого конца полосы.
Когда капитан после остановки сам открывал входную дверь, чтобы посмотреть, что произошло с первым двигателем, руки у него заметно тряслись. Столь велико было нервное напряжение.
Оказалось, на двигателе прогорела по сварному шву камера сгорания. Заводской дефект — редчайший!
Как капитан готовил и настраивал экипаж на действия в особых случаях перед взлетом, я не знаю, но сработали на едином дыхании.
За это и были награждены: капитану дали нагрудный знак «Отличник Аэрофлота», а экипажу — ценные подарки.
Стук колес по стыкам бетонки, быстрее, быстрее — и вот он, волшебный и ужасный момент отрыва! Вас слегка запрокидывает на спину, чуть вдавливает в кресло — и повисли…
Запас подъемной силы в это время достаточно велик, самолет может одновременно и отходить от полосы вверх, и разгонять скорость. Колеса только надо скорее убрать, а то уж очень сильно мешают разгоняться.
Стук — амортстойки снялись с замков выпущенного положения и пошли в свои гнезда. Распахнулись створки, шасси заняли свои места в нишах, зацепились серьгами за языки замков убранного положения. Стук — замки захватили, створки закрылись. Теперь хоть какая тряска — шасси, многотонные стальные конструкции, с замков не сорвутся.
Пока убирались шасси, подошла высота уборки закрылков. На взлете они ощутимо помогали, теперь ощутимо мешают лететь, и свирепый поток стремится оторвать их.
Начинается уборка закрылков и предкрылков. При этом подъемная сила крыла, естественно, падает, и самолет вроде как чуть просаживается вниз. Ужас!
Но пилот чуть берет штурвал на себя и увеличением угла атаки компенсирует падение подъемной силы. А тут и скорость наросла, и подъемная сила начинает увеличиваться так, что самолет ощутимо, вдавливая вас в кресла, начинает подъем к стратосфере.
И вдруг тон двигателей едва заметно снижается. Что это? Отказ?
Нет, просто надо снять напряжение с двигателей и перевести их со взлетного на номинальный, щадящий режим. И дальше будем набирать высоту на номинале.
Уф. Перевели дыхание. И вдруг! Машина наклоняется, земля торчком! Мама! За что бы ухватиться…
Это просто разворот самолета, по-научному, вираж. А на вираже все аэродинамические силы уравновешены, как и у велосипедиста, и конькобежца, и даже железнодорожного вагона. Вы обратили внимание, что вас не тащит вбок? Это-то и пугает?
Так это ж не автомобиль и не корабль. Там крен не создашь, там — «блинчиком»… и центробежную силу вы ощущаете собственными боками. Эта привычка — что на развороте должно тащить вбок, подсознательно всплывает и на развороте самолета.
На самолете пилот держит «шарик в центре». Действительно, есть такой прибор, с шариком в трубочке, показывающий, как лучше уравновесить центробежную силу. На больших самолетах за ним особо и следить не нужно, а вот на легкой машине пилот тренируется, чтобы крен соответствовал центробежной силе и нейтрализовал ее действие.
Крен на больших лайнерах ограничен. Не более 30 градусов. Вам кажется, что земля торчком — так это непривычному и напуганному глазу. А вы гляньте в это время в иллюминатор. Не бойтесь, вас бережно поддерживает равновесие аэродинамических сил — зато внизу такая красота! Полюбуйтесь нашей красавицей-Землей, почувствуйте всю прелесть полета над нею. Потому что скоро все предметы на земле уменьшатся, сольются, размоются, и останется один рельеф. А потом все закроется пеленой облаков, и вы останетесь наедине с Небом. Ваш лайнер — пылинку в безбрежном воздушном пространстве — ведут умелые руки привычных к этому пространству людей — Жителей Неба. Они — довезут.
Обратите внимание на управляющие кренами отклонения элеронов на концах крыла. Они миллиметровые. А если надо накренить машину посильнее, или, вернее, энергичнее вывести из крена, рядом с элероном на секунду отклонится вверх дополнительный элерон-интерцептор.
Чтобы управлять самолетом, оказывается, не надо вовсю шуровать рулями — какие-то миллиметры. Да и то, отклоняет рули теперь автопилот. Он следит за курсом, за кренами, за высотой и скоростью, он выдает команды на рулевые агрегаты, и они, повинуясь тонким командам, на миллиметр отклоняют тот или иной руль. А силы при этом на рулях многотонные. Но на лайнере стоят мощные гидроусилители, которые помогают, независимо от того, управляет ли пилот штурвалом вручную или это делает автопилот.
Кстати, в наборе высоты, еще не очень высоко над землей, иногда вдруг резко уменьшаются обороты двигателей, а траектория набора энергично искривляется вниз, и пассажиров даже чуть вроде отрывает от кресел. Многие пугаются, думают, что двигатель отказал, и сейчас… камнем…
А дело в том, что навстречу снижается самолет, и надо на узкой дороге нас безопасно развести. Команда летчикам поступает неожиданно, и приходится энергично переводить самолет из набора в горизонтальный полет и убирать режим двигателей, чтобы скорость не выскочила за предел.
Диспетчер дает возможность бортам приблизиться друг к другу с интервалом по высоте триста метров, а дальше идти навстречу друг другу без снижения. Если есть возможность, самолеты, предупрежденные диспетчером («вам встречный, следует на 2400, сохраняйте 2100, разойдетесь через полминуты левыми бортами»), ищут друг друга визуально. Как только из пространства вынырнет и пронесется над левым ухом встречный борт, я докладываю «расходимся левыми», а встречный — «подтверждаю расхождение».
Диспетчер убеждается в расхождении бортов по своему локатору, и только тогда дает нам набор, а другому борту снижение. Если идем в облаках, то диспетчер берет на себя всю ответственность, а мы выполняем его команды, но не слепо, а представляя в уме всю аэронавигационную обстановку вокруг нас. Иногда и переспросишь.
Вообще на больших лайнерах, летающих только по приборам, все изменения положения самолета в воздухе происходят только под радиолокационным контролем и строго по команде диспетчера. Это тонкая и точная работа, требующая от обеих сторон хорошего пространственного мышления.
Начинаются «воздушные ямы». То поднимет, то опустит. И желудок: то вожмется, то попросится наружу. И человек уходит вглубь желудка. Да еще же со страху не поел перед вылетом. А кушать надо, плотненько. Только не зацикливайтесь на ощущениях от вестибулярного аппарата: он совершенно правильно реагирует на изменение вертикальной перегрузки.
Природа «воздушных ям» проста. Солнце нагревает земную поверхность, как сковородку. Над нею воздух тоже нагревается, но неравномерно: над черным сильнее, над водой или лесом слабее. Пузыри горячего воздуха поднимаются вверх, рядом опускается на их место более прохладный воздух. Таким образом, в атмосфере, вблизи земли, в солнечную погоду постоянно существуют вертикальные перемещения воздушных масс — восходящие и нисходящие потоки. Нисходящие особенно непривычны для земного существа: все живое привыкло, что под ногами твердь, а когда она пропадает — значит, падаешь.
На самом деле, самолет никуда не проваливается. Просто он набирал по двадцать метров в секунду, а когда попал в нисходящий поток, его вертикальная скорость подъема уменьшилась до пятнадцати. А потом подхватило — стала двадцать пять. Потом опять двадцать. То есть: самолет периодически вроде как чуть притормаживается в движении вверх.
И нечего бояться: вот уже подходит верхняя кромка кучевки, среди которой нас и болтало. Как только пересечем этот уровень, так повиснем, как в меду.
Облака ведь что из себя представляют? Тот же пузырь теплого влажного воздуха. При подъеме вверх он начинает охлаждаться. Как только температура его дойдет до точки превращения пара в туман — это будет уровень конденсации, нижняя кромка облака. Дальше подъем теплого пузыря, уже в виде клуба тумана, продолжается до тех пор, пока его температура не сравняется с температурой окружающего воздуха. Все. Подъемная архимедова сил кончилась. Верхняя кромка — уровень конвекции. Кончилась конвекция — кончилась болтанка. Воздух спокоен.
Но если влажность воздуха велика, а солнышко греет и греет, отдельные крупные облака продолжают подъем все выше и выше — у них температура больше, чем у окружающего воздуха. Самые мощные из них начинают как бы всасывать в себя окружающий воздух и тем самым себя подпитывать. И разрастаются наконец до размеров грозы. Внутри у них все кипит и бушует, наэлектризованные частички воды, а наверху и льда, трутся друг о друга, напряженность электрического поля растет. А потом происходит разряд молнии.
В верхней части облака водяной пар охлаждается, конденсируется и превращается в дождь. А иногда и в град. Опускаясь под действием собственного веса, столб осадков увлекает за собой огромные массы окружающего воздуха. И получается так, что в верхней части грозового облака преобладают восходящие потоки, а в нижней, по краям столба осадков — нисходящие.
Огромные силы восходящих и нисходящих потоков внутри и рядом с грозовым облаком представляют наибольшую опасность для полета. Поэтому грозы надо обходить и не приближаться к ним ближе, чем на пятнадцать километров.
Грозы пилот обходит по радиолокатору. Электрический очаг внутри грозы хорошо отражает радиоволны и виден на экране бортового локатора как светлое пятно — засветка.
Отвернув самолет от засветки и ориентируясь по масштабным кольцам расстояний на экране, пилоты выдерживают безопасное расстояние от грозы — пятнадцать километров.
Иногда гроз по маршруту скапливается много. Например, когда с севера происходит заток холодного воздуха, и он на протяжении тысячи километров валом накатывает на более теплый южный воздух, образуется холодный атмосферный фронт.
Вырываясь из-под катка холодного воздуха, теплый влажный воздух взметается далеко вверх и образует цепь грозовых облаков. Их мощность и высота зависят от многих факторов, предусмотреть которые даже синоптикам иногда не удается.
Но чтобы обойти грозовые фронты, придется уходить от трассы слишком далеко, поэтому самолеты их пересекают, выдерживая те же правила: не ближе пятнадцати километров от границы засветки. А между соседними засветками должно быть не менее пятидесяти километров.
Бывает, что фронт лежит не поперек пути, а почти вдоль, под углом. Лучше всего пройти с ним рядом, потихоньку уклоняясь в сторону от линии пути, а потом найти проход и энергично пересечь фронт в сторону трассы.
Если же высота гроз позволяет, их легче обойти верхом, чем лавировать между засветками, находясь в слоистой облачности, которая лежит обычно как раз на высотах 10–11 километров.
Дело в том, что гроза, развиваясь вверх, выглядит обычно в виде этакого облачного столба. Столб облаков растет, клубится и устремляется все выше и выше — насколько хватит ему тепла.
Но атмосфера на высотах, где обычно летают самолеты, состоит из двух слоев. Нижний, тропосфера, залегает от поверхности земли до высот примерно одиннадцать километров в наших российских местах.
Выше тропосферы лежит стратосфера, она простирается гораздо выше потолка современных лайнеров.
Между стратосферой и тропосферой находится тонкий, может, с километр, слой тропопаузы. Атмосферные условия на тропопаузе таковы, что упершись в нее, грозовое облако начинает расползаться в стороны, образуя так называемую наковальню. На тропопаузе воздух теплее, чем в грозовом облаке, и там уровень конвекции, подъем воздуха, заканчивается.
Правда, иные, отдельные, набравшие очень много тепла грозовые облака протыкают тропопаузу и выпирают в стратосферу. Тогда над наковальней видна ослепительно белая макушка грозы.
Наковальни гроз на фронте обычно сливаются в один серый слой, и он располагается как раз на высоте нашего полета. Полет в этом слое не очень спокоен, все время мелкая, противная тряска. Но на безопасном удалении от засветки риск встретить в наковальне мощный поток невелик. Вот в такой воздушной толчее, трясясь, и обходят грозы наши летчики, ориентируясь только по радиолокатору, из раструба которого человек не вылезает почти весь полет.
Один, значит, не вылезает из того голенища, а другой следит за всем остальным. А если полет по пресловутому MELу, с разрешенной неисправностью, да еще усложнение обстановки… не позавидуешь двучленному экипажу.
На Ту-154 экипаж четыре человека. Есть кому следить за двигателями, есть кому — за грозами, есть кому — за приборами. Есть кому и принимать решения. И этого MELа на «Тушках», слава Богу, пока нет. Так на каком самолете безопаснее летать?
Правильно: на всех. На всех безопасно. Там, где экипаж два человека — на таком самолете больше автоматики, помогающей и разгружающей экипаж. Там, где четверо — меньше напряжение, меньше нагрузка на человека. Там меньше вероятность того, что занятый пилотированием, связью и контролем над приборами и системами капитан допустит стратегическую ошибку. Но там надо таки тот экипаж вымуштровать, «слетать» его воедино.
Слетанный экипаж нынче редкость. А мне, видать, повезло: я со своим, лучшим во всей вселенной экипажем, пролетал подряд пятнадцать лет.
Так вот: если все факторы безопасности полета позволяют обойти грозовой фронт верхом, то его верхом и обходят, и делают это довольно часто. Это — обычная наша работа.
А факторы эти таковы:
Позволяет ли температура воздуха в районе тропопаузы производить набор высоты с достаточным запасом по углу атаки?
Позволяет ли полетный вес набирать высоту с достаточным запасом по углу атаки?
Позволяют ли верхушки гроз обходить их на разрешенной высоте — не ниже пятисот метров над верхней кромкой?
Позволяет ли скорость роста грозы пройти над нею в расчетное время на этой безопасной высоте пятьсот метров?
Не стоят ли далее за первым рядом гроз — второй и третий ряды, более высокие, не позволяющие пройти верхом на безопасной высоте?
Не закроется ли дорога назад, для возврата, если дальше безопасный обход гроз окажется невозможным?
Не возрастет ли в процессе набора высоты температура воздуха относительно той, на которой мы начнем набор? Не зависнем ли в жаре над грозой без запаса по сваливанию?
И так далее. Все это есть наша обычная, повседневная, многолетняя летная работа. Мы эти задачи решать умеем.
Пока экипаж обходит отдельные грозы, любуйтесь красотой Стихии. Вблизи отвесной стены могучего облака загляните в сумрачную глубину, где ворочаются отблески скрытых молний, где, перечеркнутые полотнами вуали, растут и поднимаются в небо отростки облачного столба, где луч солнца, пробившись между клубами пара, золотит на черном дне крыши притаившегося города или излучину реки. Земным людям этого не увидеть никогда, а вы прикоснулись к Небу и видели грозу сверху. Вы поразились, как она огромна и как мал на ее фоне самолет весом двести тонн. Но Разум управляет этим гибким и изворотливым куском железа. Разум должен перехитрить Стихию.
Прошли грозовой район, небо снова сияет синевой, кругом покой и бесконечность. Но в этой бесконечности, в этой прозрачности, текут невидимые воздушные реки без берегов, и их завихрения подстерегают самолет.
Как в океане, так и в небе есть свои течения и водовороты, свои Гольфстримы и Мальстремы. Только расположение их непостоянно и зависит от циклонической деятельности. Распознать их визуально нельзя.
Тряхнуло. Тишина. Вот тряхнуло еще раз. Еще, Еще. Снова тишина.
Загорелось табло «Пристегнуть ремни». Это экипаж предупреждает пассажиров, что возможна болтанка. Значит, капитан проанализировал ситуацию и принял меры предосторожности. А причину болтанки он примерно знает: здесь прогнозировалось струйное течение, либо тропопауза, либо смена ветра, либо верхняя кромка облаков. Он убедился.
Может, он сейчас запросит эшелон повыше, где другие борты болтанки не зафиксировали. Ага, вот изменился тон работы двигателей, защелкало в ушах. Поднимаемся.
А крыло-то как качается! Как оно изгибается… вот-вот отломится! Боже мой!
Крыло на самолете — рессора. Оно рассчитано на миллионы колебаний и выдержит их, будьте уверены. В значительной степени ресурс, срок работы самолета, зависит от усталостной прочности конструкции крыла. А ресурсы огромны — на десятилетия, на десятки тысяч полетов рассчитывается самолет. Да и периодически производятся ремонты, и уж там, на заводе, крыло исследуется до каждой заклепки.
Попробовали бы вы полетать на жестком, прочном крыле: там уж душеньку бы вытрясло.
На современном лайнере к гибкому крылу, для вашего комфорта, добавляется еще автоматическая система устойчивости. Пилот не трогает штурвал, а небольшие толчки и возмущения исправляются автоматически — рулевые агрегаты через систему гироскопов чутко реагируют и нейтрализуют воздействие легкой болтанки.
Бывают, конечно, зоны хорошей турбулентности, уйти от которых никак нельзя; приходится терпеть. Пока горит световое табло, надо смирно сидеть пристегнутым на своем месте. Самолет может бросить как вверх, так и вниз. Бывали редкие случаи, когда непристегнутых пассажиров подбрасывало вверх и било головой о багажные полки.
Те перегрузки, которые испытывает пассажир в салоне, очень далеки от предельных, на которые рассчитан самолет. Его крыло безопасно может выдержать перегрузку 2,5 — это означает, что вес самолета вроде как увеличился в два с половиной раза. Такие перегрузки кратковременны, может, секунду-две, а случаются они при попадании в мощный восходящий поток.
Но пилоты никогда не полезут в опасную зону, а сделают все возможное, чтобы поскорее из нее выйти. На моей памяти не было катастроф, связанных с разрушением крыла восходящим или нисходящим потоком.
Конечно, когда тебя как мячик подбрасывает слепая стихия, чувствуешь себя неуютно. Пилотам, кстати, тоже неприятно пилотировать в болтанку; приходится плотно пристегиваться поясными и плечевыми ремнями, чтобы слиться с самолетом воедино.
Нет, ремни придуманы не зря, и надо ими пользоваться всегда.
Снова в иллюминатор видна стена грозовых туч. Огромные колонны сливаются внизу и тонут в приземных слоях облаков; там перекатываются сполохи молний. Вверху колонны подпирают серый свод неба, а над ними там и сям выглядывают белые купола. И, кажется, мы забрались как раз на их высоту. Неужели пойдем выше? И не будет запаса по углу атаки! И вокруг нас сомкнутся грозы, и страшные потоки подхватят самолет, и экипаж растеряется…
Успокойтесь. Я вам расскажу технологию.
Вон справа виден след встречного борта. Я у него расспросил, как он проходил фронт. Оказывается, высота верхней кромки одиннадцать тысяч, отдельные вершины до двенадцати с половиной. Профессионал уверенно говорит мне: «пройдешь на 11600».
Я перед вылетом смотрел синоптическую карту. По ряду признаков мы с синоптиком пришли к выводу, что контраст температур на этом фронте не очень большой, что фронт залегает почти параллельно изобарам и скорость смещения его невелика. Значит, развитие гроз в высоту будет, в основном, зависеть от подогрева солнцем, а к вечеру грозы начнут терять активность.
Сейчас как раз такое время дня, когда активность гроз начинает снижаться. Вряд ли в их верхней части возникнут такие потоки, что могут внезапно перекрыть нам дорогу.
По локатору видно, что грозы лежат двумя параллельными цепочками. Надо просканировать их качающимся лучом локатора, поднимая его потихоньку вверх. Засветки при подъеме луча пропадают примерно на высоте 10600, и только несколько отдельных очагов торчат выше 12 километров. Их легко обойти.
Температуру на высоте борт нам передал: минус пятьдесят два. На пять градусов выше нормы. Ну, пять — это не двадцать: значительной потери тяги не предвидится.
На приборе углов атаки запас между стрелкой и красным сектором — четыре градуса.
Старые пилоты, мои учителя, на практике убедились и передали нам правило: есть запас по сваливанию четыре градуса — смело набирай, вылезешь.
Болтанки не ощущается, спокойный полет. Борты в районе фронта давали слабую болтанку в той вуали наковален. Мы пойдем выше.
До фронта еще двести километров. Самолет, с нашим весом, способен набирать высоту по пять метров в секунду. Мы идем на 10600, будем набирать 11 600. То есть, километр высоты. Даже с вертикальной скоростью по четыре метра в секунду, с учетом роста температуры, будем набирать по 240–250 метров в минуту. Значит, весь набор займет четыре минуты. За это время мы продвинемся к фронту на 60 километров. И займем высоту 11600 еще за сто с лишним километров до фронта. За оставшиеся восемь минут проверим, как ведет себя самолет, каковы наши запасы по скорости, по углу атаки, прощупаем дорогу дальше — и примем окончательное решение: идти сверху облаков в спокойном воздухе, наблюдая верхушки гроз визуально, или же вновь снизиться и идти по локатору в облаках и болтанке.
— Запрашивай набор.
Диспетчер убеждается, что мы со встречным разошлись, и разрешает нам занять 11600.
Серый слой сплошной облачности несется под крылом. Повезло нынче: поднялась бы вуаль выше, метров на сто-двести — шли бы по самой верхней кромке, трепало бы. А так висим как в сгущенном молоке. Справа и слева проплывают освещенные солнцем ярко-белые купола, внешне совсем не страшные. Пассажир и не подозревает, что под этими шапками глубоко внизу бушуют ужасные силы, и незатухающие молнии освещают ад внутри облачного столба. Ночью бы все это тускло светилось, переливалось и разными цветами пробивалось сквозь слои облаков. А днем вы видите только светлые макушки.
Определить визуально, на какой высоте мы проходим над верхней кромкой, с точностью до сотен метров, невозможно. Кто-то там, в кабинетах, вывел средние цифры — но как и чем их измерить в воздухе? Мы просто много раз убеждались на практике, что на вот таком интервале идти безопасно.
По данным нашего локатора мы летим значительно выше верхней границы засветок и укладываемся в безопасные 15 километров бокового интервала. Визуально — кажется, проходим совсем рядом.
Не шелохнется воздух. Нечего ждать неожиданностей: практика давно показала, что не выстрелит из этого купола вверх молния, не протянется щупальце какого-то потока. Вот в шапке — да, там потоки есть… я всего раз в жизни в облаках в такую шапку вскочил; больше не хочется. Поэтому я их обхожу, лучше визуально.
Почему летчики не любят обходить грозы по локатору в облаках? Потому что граница засветки — это еще не граница облака, это только его середина; есть еще засветки размытые — это осадки, причем, на границе размытой засветки, которую определить на бледном экране может только опытный глаз, можно попасть и в дождь, и в град, и в нисходящий поток. Трясет, треплет, подбрасывает, надо вертеться. Вправо, влево, круче…
Кроме того, в этой вуали, на краю наковальни грозы, влага присутствует уже в виде кристалликов льда. От трения обшивки самолета об эти кристаллики на ней начинается электризация — накапливание электрического заряда. Пилоты замечают это сначала по шуму радиоприемника. Сперва шум, потом визг; связь вести почти невозможно.
Потом на стеклах кабины появляется фиолетовое свечение. Да, да — это обычные огни святого Эльма. Заряды сбегают по стеклу в виде маленьких молний; мы говорим: «чертики побежали».
Надо из такой зоны выходить. А то, неровен час, притянет еще молнию. Облако разрядится на самолет, молния прожжет несколько точечных отверстий в обшивке, оплавит заклепки, ослепит вспышкой экипаж.
Оно нам надо? Потом на земле отписывайся, красней на разборе, латай самолет.
Да провались оно. Вот идем над фронтом визуально, и полет спокоен, и верхушки видно. И вон уже видна дальняя граница фронта, за нею снова чистое небо.
Бывает, чуть качнет. Стрелка на приборе приблизится к красному сектору. Экипаж весь подбирается. С прибора глаз не сводят. Следят за скоростью, все следят, у каждого свой прибор. Капитан ждет: не подбросит ли еще раз. Если начинается болтанка, надо с потолка уходить. Снижаться внутрь фронта.
Никогда или почти никогда фронт не сплошная засветка. Всегда есть проходы между грозовыми очагами. Мы такую вероятность предвидели и за проходами всегда следим. Опытный штурман ведет машину независимо от визуальной видимости гроз, выдерживая безопасные интервалы между засветками по локатору. Так что если припечет снижаться, снизимся и пройдем в облаках. Не в грозовых, в слоистых, безопасных, между очагами.
Капитан учитывает и вероятность отказа двигателя над фронтом. Хотя наши двигатели в полете на эшелоне практически не отказывают, но… любой шланг может ведь дать трещину, уйдет масло… надо будет выключать двигатель и снижаться, потому что потолок на двух двигателях значительно ниже, чем на трех.
Сразу, кстати, объясню насчет полетов с отказами двигателя.
Любой многомоторный самолет рассчитан на то, чтобы успеть либо прекратить взлет, если откажет один двигатель и еще есть возможность остаться на полосе, либо продолжить взлет, если двигатель откажет в конце разбега. То есть: экипаж при отказе двигателя на взлете всегда готов и остановиться, и продолжить разбег, оторваться и взлететь с одним отказавшим двигателем. А дальше уж — по обстоятельствам. Если на аэродроме взлета условия не позволяют произвести посадку (туман, большой посадочный вес и т. п.), на современном лайнере вполне можно долететь даже до пункта посадки с одним неработающим двигателем, только высоту придется занять немного ниже.
На Ту-154 отказ одного двигателя вообще не является поводом для вынужденной посадки. Был случай, когда после отказа двигателя на взлете в Домодедове по ряду обстоятельств нельзя было приземлиться на ближайших запасных по маршруту, и капитан принял решение лететь аж до Красноярска.
У меня лично был случай отказа двигателя над Тобольском. Снизились на тысячу метров и спокойно дотянули до Самары.
А уж посадка на двух работающих для Ту-154 считается штатной ситуацией и ничем не отличается от посадки на трех двигателях.
Иногда, хоть и тоже редко, бывают вынужденные выключения в полете по признакам отказа. Сработало, допустим, табло «Стружка в масле», начало греться масло — надо выключать: видимо, какой-то трущийся узел начал разрушаться, чаще подшипник.
Если на эшелоне экипаж по каким-то причинам отключит двигатель, вы этого и не почувствуете. Самолет будет продолжать полет. Так что не задумывайтесь — довезут.
А летит ли самолет вообще с выключенными двигателями?
Дилетанты утверждают, что сопротивление набегающего потока, стремящегося раскрутить компрессор неработающего двигателя, очень велико — и… камнем.
Практики ухмыляются.
Однажды Ту-204 летел из Германии в Новосибирск. Погода была на пределе, закрывались запасные аэродромы, и, по ряду причин, экипаж, в конце концов, принял решение сесть в Омске. Но тут встречный ветер усилился, и на подходе к Омску стало ясно, что топлива в обрез… даже вряд ли хватит.
Экипаж в сложной ситуации предпринял все меры, чтобы, если двигатели остановятся, дотянуть до полосы. Снижаться стали попозже, шли выше расчетной траектории, чтобы, если встанут двигатели, запаса высоты хватило, пусть чуть и круче, но спланировать.
И двигатели встали — один за 17, другой за 14 километров до полосы. Тишина… Самолет имел запас высоты, пилоты им грамотно распорядились, и как с горки на саночках, на нормальной скорости, спланировали до полосы. Чуть великоват оказался запас высоты: получился перелет, самолет выкатился, но никто не получил ни царапины.
Это что: вон за рубежом самолет попал в облако вулканического пепла, двигатели отказали, а пилоты все-таки сумели дотянуть до ближайшего аэродрома и безопасно посадить самолет, большой «Боинг».
Был случай и у нас в Западной Сибири, на Як-40. Самолет уходил на запасной из-за закрытия основного аэродрома. Топливомер показывал остаток еще 800 килограммов, этого должно было вполне хватить. И вдруг! Вечно это вдруг. Все три двигателя остановились. Как ни пытался бортмеханик запустить хоть один — бесполезно. И топливо же есть! Прибор показывает!
А внизу сплошные облака, а под ними глухая тайга… и где-то рядом замерзшая Обь.
Капитан боролся. Он тянул в сторону замерзшей реки. Самолет снижался, вошел в облака… Уже радиовысотомер стал отсчитывать последние сотни метров высоты. Облака… Неужели облачность до земли?
Метров с пятисот внизу потемнело. Выскочили — под ними сплошной лес. Пилоты впились взглядами в горизонт: ну, где же река?
И вдруг! Сбоку забелела излучина, старое русло реки, замерзшее, покрытое толстым слоем снега.
Капитан извернулся и, используя остаток высоты, не выпуская шасси, строго выдерживая скорость, а потом дотягивая уже на последних углах атаки — сумел-таки посадить маленький Як-40 на брюхо. Самолет заскользил по снегу и остановился… невредимый! И через семь минут рядом зависли два спасательных вертолета.
Оказалось, топливомер отказал: самый подлый вид отказа — завышение показаний.
Заправляли, думали, по норме, а летели практически по лезвию ножа, почти с пустыми баками.
И еще один случай, с зарубежными коллегами. При заправке самолетный компьютер перепутал фунты с килограммами. Умные же у них на Западе самолеты! Экипаж-то думал, что заправка в килограммах, а оказалось, компьютер-то подразумевал фунты. Самолетная же автоматика заправляет согласно этим цифрам. Экипаж, привыкший, что расчеты производятся автоматически, не проверил по бумажечке в столбик. Это странные русские в столбик считают, и литры на удельный вес умножают.
И в полете двигатели, естественно, встали.
Капитан этого лайнера, к счастью, оказался действующим планеристом, умеющим выполнять безмоторный полет. А умные западные конструкторы вообще не предусмотрели в РЛЭ этого лайнера возможности полета с отказавшими двигателями. Эх, посмотрели бы они, сколько наворочено на эту тему в РЛЭ Ту-154…
Капитан интуитивно подобрал наивыгоднейшую скорость полета, а второй пилот в это время искал в окрестностях пригодный для посадки аэродром.
Ну, у них там, в другом полушарии, аэродромов этих — как гороху. Подвернулся по пути старый, заброшенный аэродром, там как раз шли какие-то автомобильные соревнования. И лайнер бесшумно сверзился чуть не на головы людям, закончил пробег, кажется, на стоянке автомобилей, но, к счастью, никто не пострадал.
Так что, будьте уверены: самолет без двигателей очень хорошо летит, он может дотянуть до ближайшего аэродрома — при наличии высоты, летного мастерства и везения.
Да вот, сейчас уже, будем снижаться, поставим малый газ — а это почти то же, что выключить двигатели — и покатимся с горки вниз. С высоты 11600 надо начинать снижаться за 180 километров. И долетим! Дотянем.
Мало того: может, еще придется и тормозить.
Чем тормозится самолет в воздухе?
А вот как раз посмотрите на крыло. Ближе к вам, на верхней поверхности крыла, отклонилась вверх, под углом, такая створка, как щиток. Это интерцептор, воздушный тормоз. У него еще есть другое название: «спойлер».
На взлете мы старались «облизать» поток на верхней поверхности крыла, используя профилированные щели, а на снижении решаем обратную задачу: как этот поток разлохматить, чтобы подъемная сила упала, а лобовое сопротивление возросло.
Вот интерцептор отклонился на 45 градусов. Самолет сразу затрясло: турбулентный поток за крылом энергично тормозит, и машина стала проваливаться вниз быстрее.
Вот пилот решил прекратить торможение и толкнул рукоятку интерцепторов до упора вперед. И мы все получили пинок под зад: так мгновенно, скачкообразно возросла подъемная сила.
Ну… так не делается. Надо же аккуратненько ту ручку двигать, так, чтобы пассажиры не почувствовали. Молодой, видать, мало тебя пороли. Пассажир не должен испытывать неприятных ощущений от твоего пилотирования. Красиво надо делать.
Конечно, опытный летчик старается так рассчитать снижение, чтобы и тормозами не пользоваться, и газу не добавлять. Но такое удается только истинным созидателям движения, для которых сотворить красивый полет — дело жизни. Для этого надо считать, считать, прикидывать, соотносить, терпеть… да кто там теперь терпит. Надо ехать — дай газ, надо тормозить — жми тормоз. Потребительский подход.
Ну, ладно еще, на новейших лайнерах. Там считать и тонко управлять руками некогда, мозг занят решением задач более высокого порядка, а все эти «газы-тормозы» выполняют механизмы. Только кнопки нажимай.
Я почему-то не люблю машины с автоматической коробкой передач. Скучно. А молодежи нравится. Жми себе газ-тормоз, газ-тормоз, а сам болтай по мобильнику.
Интересно, задумывались ли когда-нибудь болтающие по мобильнику за рулем, о безопасности такого способа вождения автомобиля? Продумывали ли наперед варианты развития событий, когда рука занята мобильником? И вообще, отдавали ли себе отчет в том, какому риску подвергают своих пассажиров? А ведь риск намного больше, чем на самолете. Намного! Ведь может и не хватить внимания, отвлеченного телефонным разговором, а, более того, проблемой, стоящей за этим разговором.
На дороге я всегда смотрю только на дорогу, и все время оцениваю условия движения. Какие там мобильники.
Но жизнь не остановишь. Времена моих воздушных кораблей, парусников реактивного века, уходят. Мой экипаж старался летать красиво. Остается только надеяться, что новые поколения летчиков найдут свою, новейшую красоту полета, а пассажирам с ними будет комфортно… и не страшно.
На снижении проблема: у вас давит в ушах? И у меня давит. Зажмите нос, закройте рот и попытайтесь, натужившись, «дунуть» в уши. Щелкнуло? Так и продолжайте. А если хороший насморк, то ничего не поможет: лучше вообще не лететь. Так уж устроены эти евстахиевы трубы, что при подъеме воздух пропускают, а при снижении их надо продувать.
Я как профессионал вообще не обращаю внимания: ну, давит, давит, а я работаю. А после посадки продул, щелкнуло — как хорошо слышно! Дело привычное.
В зоне аэродрома вновь начались эти виражи-развороты. Причем, в облаках, вне видимости каких-либо визуальных ориентиров, они еще тоньше улавливаются вестибулярным аппаратом, а отсутствие визуальной информации пугает еще больше.
В зоне аэродрома самолет выполняет полет по специально установленной схеме. Иной раз могут отправить и в зону ожидания — мало ли что, если собирается в одном месте много самолетов, очередь.
Но наступает момент, когда ваш слух улавливает что-то новое. То ли грохот замков шасси, то ли гул моторчиков, выпускающих закрылки.
Раньше существовала строгая последовательность операций, предусмотренных для захода на посадку. Началом было гашение скорости и выпуск шасси. Затем выпускались на небольшой угол закрылки. Потом выполнялся четвертый разворот, за ним довыпуск закрылков на полный угол, снижение по глиссаде и приземление.
Сейчас, если сначала выпустят закрылки, а шасси не выпускают, не пугайтесь — такова новая технология захода на посадку. Шасси будут выпущены уже в глиссаде, после всех операций захода. Это сделано в целях экономии топлива, чтобы не преодолевать лишнее сопротивление воздуха.
Так что не бойтесь, что экипаж забыл выпустить шасси.
Итак, гашение скорости. Самолет снижался на максимальной скорости, а теперь ее надо погасить, чтобы можно было выпустить механизацию крыла. Вас вроде как кладут на спину, вы ощущаете легкое торможение… пауза… пауза затянулась! Что там у них?
Да мало ли что. Капитан выжидает, точно рассчитывает, когда скорость упадет до того значения, когда можно начать следующий элемент захода. И вот оно: под полом загудело, вас потащило вперед, нос опустился…
Когда закрылки выпускаются, под брюхом самолета возникает такой воздушный пузырь. Он поднимает самолет и одновременно его тормозит. И пилот, противодействуя подъему, отдает штурвал от себя. А когда скорость понизится, чуть подтянет штурвал, чтобы самолет не поднырнул под заданную высоту полета, и, наконец, добавит режим двигателям, чтобы поддержать эту установившуюся скорость.
Я даже примерно скажу, какая это скорость: от 330 до 300 километров в час. На этой скорости самолет подходит к четвертому развороту. Выходя из четвертого разворота, самолет должен точно попасть в створ полосы. Пилот целится на полосу по своим приборам издалека, километров за десять.
Подходит точка входа в глиссаду — начало снижения на предпосадочной прямой. Вот здесь довыпускаются закрылки на максимальный угол, и самолет начинает ощутимо трясти, а вас еще разок от торможения тянет вперед.
На глиссаде подбирается такой режим двигателей, который уравновесит тормозящую силу закрылков. Скорость при этом в пределах 260–270 километров в час. В кабине идет чтение контрольной карты, чтоб чего не забыть. И вот, наконец-то, грохот замков шасси. Значит, до приземления осталось примерно две минуты. Еще раз добавляется режим, потому что шасси создают дополнительное сопротивление.
По тому, как добавляется и убирается режим на глиссаде, я как профессионал сужу о манере пилотирования нашего капитана. Вы все равно не разберетесь неопытным ухом, не различите, вручную двигаются газы или ими управляет автомат тяги. Поэтому пусть вас не беспокоит изменение звона турбин. Главное, самолет уверенно идет к полосе.
Если после выпуска шасси мы все еще не выскочили из облаков, значит, погода близка к минимуму. Вглядитесь в окно: за бегущими по стеклу каплями видны хмурые рваные хлопья тумана. И вдруг!
Это «и вдруг» бывает по-разному. И вдруг — нос задирается, звон турбин переходит в грохот, и машина вновь уходит в облака. Это — уход на второй круг, обычная операция, когда условия не позволяют сейчас, в этот момент, произвести приземление.
Таких условий, не позволяющих садиться, может быть несколько. Капитан обязан прекратить снижение и выполнить уход на второй круг, если:
— погода хуже минимума;
— имеются опасные метеоявления или скопления птиц, представляющие угрозу для посадки (гроза, сдвиг ветра, заряд ливня);
— отклонения от курса и глиссады превышают допустимые;
— положение воздушного судна относительно полосы непосадочное (скорость велика, самолет идет под углом к оси полосы);
— перед самой полосой пилот «потерял» землю (приземный туман, снежная белизна);
— препятствия на полосе (корова, предыдущий самолет не успел срулить);
— плохой расчет на посадку (недолет, перелет);
— и многое другое.
Уход на второй круг должен расцениваться как грамотное решение капитана. Ни одно должностное лицо не имеет права оспаривать это решение, а тем более, наказывать за него.
Это я в популярной форме изложил вам некоторые пункты правил полетов.
Очень много задается вопросов на авиационных форумах. «А вот, уже почти коснулись — и снова полетели… Что это? Почему это? А может…» — и пошло-поехало.
Я специально привел здесь эти пункты — и то, не все, — чтобы показать несведущим, как разнообразны бывают условия перед приземлением, какие только факторы приходится учитывать — за секунды! Вы благодарите судьбу, что капитан ваш вовремя принял грамотное решение и ушел от опасности.
Бывает «вдруг» и так: только разодралась завеса облаков — как уже и покатились. Это — мастерство. Ведь только представьте себе, как можно, не видя ничего кроме стрелок, вслепую, вывести самолет аккурат к торцу бетонки. И его движение заранее отлаживается пилотом так, что после посадки не надо исправлять стремление машины увильнуть за обочину.
Уверяю вас, если уж она туда юркнула — шансов вернуться на полосу очень мало, и такая несуразица — результат ошибки экипажа. Судя по тому, что случаев выкатываний за обочину полосы очень немного, можно сделать вывод, что летчики все-таки немножко летать умеют.
А без ошибок ни в каком деле не обходится. Важно только, чтобы эти ошибки не обходились нам дорогой ценой, да чтобы из них делались своевременные выводы.
Вот, кстати, мы, старые «тушечники», учим молодых пилотов: всегда старайтесь, чтобы самолет шел точно в створе полосы, чтобы его центр тяжести двигался строго параллельно ее оси, чтобы это, с таким трудом созданное, точное перемещение машины в воздухе не разбалтывать лишними движениями, а значит, строго, строжайше, следить, следить, следить!
Это понятно даже непосвященному. Ведь если тело стремится в сторону, да еще тело весом в несколько десятков, а то и сотен тонн, то просто так его движение, за счет одного только сцепления резины колес с бетоном — не исправишь. Только упреждать!
А когда идет тяжелый разговор о том, что капитан довел машину до сваливания в штопор — на самолете, выход которого из штопора невозможен! — акценты расставляются именно вокруг невыхода из штопора. Или самолет такой плохой, или летчик не умеет выводить… мол, не научили выводить!
Но никто почему-то не задается вопросом: а как опытнейший летчик довел машину до такого состояния? И куда смотрел экипаж?
Штопор на лайнере — дело неисправимое, примерно так же — как и шуровать педалями для возврата выкатывающегося самолета за обочину: это бесполезно. НАДО УПРЕЖДАТЬ!
Ни один тяжелый пассажирский лайнер при его создании даже не испытывается на штопор. Нет смысла. Потому что даже при правильных действиях по выводу из штопора самолет должен пройти момент отвесного пикирования. За эти несколько секунд пикирования машина разгонится до такой скорости, что при попытке вывода сломаются крылья от перегрузки, или они разрушатся от скоростного напора. Ничего тут не сделаешь. Надо, надо, надо следить за скоростью, чтобы не свалиться! И все.
Когда переполненная по борта лодка выходит в море, надо предвидеть, что может наступить волнение. И как только первые барашки запенятся рядом с кромкой борта, надо срочно возвращаться. Одна волна перехлестнет — и все. Уже не спастись.
На наших, отечественных самолетах указатель такого «барашка» — стрелка угла атаки. Как только она коснется, хотя бы раз, красного сектора, тут же загорится лампочка и сработает сирена. И этот сигнал запишется на черный ящик. И уж простым разбором в эскадрилье дело не ограничится.
Поэтому, если, не дай Бог, у меня бы сработала сигнализация опасного угла атаки, я бы немедленно перевел машину на снижение с разгоном скорости. И это действие было бы моим оправданием на разборе: ну, зевнул — но ведь немедленно принял меры!
Но Господь миловал, и за всю жизнь мне не пришлось на потолке вплотную приблизиться к опасному рубежу. Да и экипаж уж не смолчал бы — орали бы ребята, не дали бы залезть за грань.
Потому что у меня — волки сидели в кабине, седые, бывалые, решительные, надежные — лучший, о каком теперь можно только мечтать, экипаж!
А у другого капитана свой, лучший в мире экипаж. Вот такие-то вас и довезут.
Открылась земля, и у вас снова холодок в животе. Деревья уже бегут под крыло… вот-вот… Господи, скорее бы!
И тут вас стандартно ударяют о землю.
Тут спор среди пилотов вышел. Какая посадка безопаснее: мягкая или достаточно жесткая, «стандартная»? Именно среди пилотов. Ибо в последнее время взгляды профессионалов на мягкость посадки определенно разделились.
Нынешние новейшие самолеты, напичканные автоматикой, требуют такой посадки «об бетон», чтобы сработали установленные на шасси датчики. По сигналам этих датчиков начинает работать автоматика, обеспечивающая безопасный пробег. И пилоты, летающие на этой технике, отстаивают свое мнение: посадка должна быть стандартной.
Дальше мысль развивается в таком направлении. Грядет время скачкообразного повышения производительности труда, в том числе и на воздушном транспорте. То было все врукопашную, а теперь — в автомате. То ремесленник руками делал три сапога в неделю, а теперь машина лепит эти… ну, кеды, как из пулемета. Конвейер. Поэтому полеты должны стандартизироваться, усредняться, приближаться к единообразию — в идеале, скоро будем летать вообще без летчика. На кой черт он вообще будет в кабине нужен: датчики сработают…
Выходит, и посадка должна быть стандартной. Как гвозди в забор. Летчик, пока он еще сидит в кабине, независимо от условий, должен стремиться к стандартизации посадки. Жестко, но надежно.
Мало того: русскоязычный летчик-иммигрант, попав в зарубежную авиацию, жалуется, что старался же показать товар лицом, произвел мягкую посадку — и был нещадно выпорот седым шестидесятилетним инструктором. И была произнесена речь, суть которой сводилась к тому, что уверенная посадка — как раз жесткая, и они там по жесткости (в меру, конечно) и определяют уверенность пилота. И чтоб — забыл, раз и навсегда.
Мне такая позиция кажется скучной. Отчего-то жалко седого прагматика-американца.
Да и вам, если земля надежно залепит сапогом под зад — приятно будет?
Наша, советская школа, развивавшаяся параллельно с американской, но идущая своим путем, почему-то всегда считала, что мягкая и точная посадка — как раз и есть критерий мастерства. Сначала научись точному, без недолета, а потом и без перелета, расчету на посадку. Набьешь руку — начинай работать над нюансами. Их много — нюансов посадки. И кто ими овладеет в полной мере, тот всегда выполнит посадку и точно, и мягко, и безопасно, и в соответствии с условиями. А значит, КРАСИВО.
Поэтому мне как-то жалко зарубежного летчика-гармониста, бацающего одну плясовую всю жизнь. Да, на посадке разные условия, я это как никто понимаю, сам летчик, но приводить все нюансы к одной надежной, корявыми пальцами, мелодии…
Нет, не переубедить меня. Да хрен с ним, с тем датчиком. Ты считаешь свою работу искусством или ремеслом?
Задумайтесь о своей профессии. Неужели весь смысл ее, вся тонкость, вся ваша вложенная душа в любимое дело — и реализуются в какой-то стандартной операции? Неужели нет вариантов? Неужели, и правда, конвейер? Ради датчика?
Мне скажут: ради безопасности. Как бы чего не вышло из ваших нюансов. Равняйсь, смирно — и все в ногу! Одеяла на койках в казарме должны быть ощипаны единообразно!
К счастью, среди нашей молодой смены есть думающие, грамотные ребята, не утратившие чувства святой Романтики Полета. Они понимают, что надо использовать и опыт старой школы, и современные наработки, Осознают и роль датчика, и понятие о Полете как о творческом процессе, направленном на ту же безопасность. Они-то понимают, что надежность посадки не сводится к ее стандартизации, а, наоборот, является результатом взаимосвязи множества вариантов, отработанных в самых разных условиях и применяемых по потребности.
Если всю жизнь относиться к своей профессии как к ремеслу, как к конвейеру, — даю сто процентов, что все ваши профессиональные наработки к старости окаменеют в двух движениях гаечного ключа. Полет же предъявляет к профессионалу такое количество вариантов, что приходится до самой летной старости развивать свои навыки и умения.
Стремление к ремесленническому подходу как критерию надежности и безопасности делает человека узким специалистом. Такой спец — как острое зубило: на острие, да еще если деталь правильно установить, да оттренироваться… тут с ним не сравнится никто; но до всего остального ему нет дела. Во всем остальном он непроходимо туп, хоть кувалдой лупи. Мне рассказывали о зарубежных профессорах… нет, они в массе своей явно не энциклопедисты.
И часто ли летная работа устанавливает деталь под твое зубило под одним и тем же углом?
Узкая специализация низводит общество личностей к муравейнику. А летчик, человек, решающий задачи, делающий выбор и сам, в одиночку принимающий решения — должен быть Личностью.
Ошибки экипажей
Высказывания разумных людей:
«Вы на своей работе ошибок не совершаете? Думаю, вряд ли — цена только им меньше. Но те, кто сидит за штурвалом, — ТАКИЕ ЖЕ люди, только вы своими высказываниями их право на ошибку сводите к нулю, а за собой оставляете, а у вас на то есть право? Человеку свойственно ошибаться — это в его природу заложено. Так что не судите или начинайте с себя».
Вот еще одно редкостно доброжелательное обращение пассажира к пилотам:
«К сожалению, есть ошибки, которые слишком дорого стоят, и ваша специальность обременена именно этим грузом ответственности, но вы знали, какое место работы вы выбирали, и в этом я перед вами снимаю шляпу».
Спасибо, уважаемый! А то нынче перед водилой не шибко-то шапку ломают.
Считается, что пилот, допущенный к перевозке пассажиров, автоматически имеет все лучшие профессиональные и человеческие качества летчика.
На самом деле, становление пилота продолжается всю его летную жизнь. Те лучшие качества он нарабатывает с первых полетов — с вами за спиной. Сначала его контролирует опытный наставник, потом происходит великое событие в жизни каждого капитана — Первый Самостоятельный Полет. К этому событию его готовили, допустили, и командиры вместе с ним несут ответственность за ваши жизни, и трясутся: как он там — справится? Не подкинет ли ему стихия задачку, которую он еще не в силах решить ввиду малого опыта? И втайне молятся за него. И снова и снова проверяют в полетах.
Поэтому пока пилот наберется опыта, его подстерегают неизбежные ошибки, из которых кто делает выводы, а кто и вновь наступает на грабли.
Мне тоже доводилось ошибаться, ставя полет на самую крайнюю грань опасности:
На Ан-2 чуть не зацепил телефонный переход над рекой.
В горной местности как-то по глупости стал на Ан-2 набирать высоту в сторону возвышенности и чудом перетянул вершину, зацепив колесами за деревья.
Думая проткнуть за несколько секунд язык приземной облачности, попал в сильное обледенение и чудом, над замерзшим Енисеем, дотянул отяжелевшую, не имеющую противообледенительной системы машину до аэродрома.
На Ил-14 при посадке на короткую обледеневшую полосу выкатился в сугроб.
На нем же: сел, в сугроб же, до полосы, чудом выскочив невредимым на бетонку.
На Ту-154 при посадке резко опустил переднюю ногу и повредил ее.
Каждого из этих случаев мне хватило для выводов на всю жизнь, и больше ошибок я не допускал.
Другой капитан перечислит свой список ошибок. Мы их все разбираем в гаражах, да и на разборах приходится, если не удастся скрыть.
Думаете, только одни русские летчики такие разгильдяи?
Смею вас уверить: летчики всего мира ошибаются. Не по злому умыслу, а по неопытности. Только одни успевают набрать опыта еще в пору летной молодости, а иные наступают на грабли до самой пенсии.
Посмотрите на водителей на дороге. Вот когда из крайнего левого ряда перед вами метнется, резанет к крайнему правому ряду мальчик на иномарке — это не ошибка, это безрассудство.
Только их-то, водителей — тьма, там, по закону больших чисел, и нарушений и ошибок множество, они даже вроде бы уже обычное явление. А пилотов не так много, поэтому их ошибки более на виду… у СМИ.
И вот мы подходим к самому смачному: как свалили Ту-154 в штопор. Уж так обсосано… до блеска, до мозга костей.
Когда какая-либо система отлажена и долго работает, сбои в ней редки.
Когда система разлаживается, сбои в ней неизбежны.
Когда разваливается Держава…
Это еще слава Богу, что Он не так уж и много невинных жизней забрал в наказание за ошибки экипажей. В безвременье-то.
Правда, в это самое безвременье точно так же падали самолеты и за рубежом — в пропорции, адекватной опасности перемещения по воздуху. Хваленые, новейшие, напичканные автоматикой, с летчиками-операторами, не мешающими срабатывать датчикам. И на взлете падали, и на посадке, и при уходе на второй круг, и просто разваливались в воздухе — и «Боинги», и «Эрбасы», не чета Ту-154… Падали и в море, и в болото, и в джунгли.
Но своя боль чувствительнее.
Я остановлюсь на старой катастрофе, не получившей столь широкой огласки, как недавние.
Еще до перестройки, когда за многоцветьем плакатов и треском фанфар не видно и не слышно было внешних признаков упадка, разруха уже началась. Новостройки века тормозились от бестолковщины. Я проработал всю жизнь в Красноярске — так с 85-го года и до сих пор на привокзальной площади Емельяновского аэропорта торчит неработающий общественный туалет. Советский человек привык к трудностям.
В те годы как раз сдали новый аэропорт в узбекском городе Карши, и из него только начинались полеты. Были аэровокзал, АДП и взлетная полоса.
Экипажи толкались по жаре без удобств и уходили в полет без должного предполетного отдыха.
Так и этот экипаж Ту-154. Протолкавшись по ряду причин чуть не сутки на ногах, в сорокаградусную жару, собрались вылетать ночью в Питер. А так как входная дверь захлопывается и трап откатывает именно в тот момент, когда экипаж уже предельно измотан перипетиями подготовки к вылету и хочется только упасть и мертво уснуть — то и этот несчастный экипаж взлетел на пределе сил.
Я предполагаю. Только предполагаю. Я такое сам чувствовал не раз.
По расшифровке, которую нам потом довели, они перед взлетом забыли включить указатель угла атаки. И стали набирать высоту на автопилоте. И глаза у них слипались.
Я очень, ну очень хорошо знаю, что это такое: сто раз испытал.
И провалились в тяжелый летчицкий сон. На десять минут. Весь экипаж.
Автопилот исправно набирал высоту, выдерживая, как и положено, постоянный угол тангажа, то есть угол наклона носа относительно горизонта. А скорость при этом потихоньку падала. И запас по сваливанию уменьшался.
Если бы пилот следил за скоростью, он бы потихоньку уменьшал тангаж, сохраняя скорость. Но, я предполагаю, все они спали. И за спиной у них, так же провально, спали сто семьдесят измученных пассажиров.
Самолет вылез на высоту 11600 метров. Как он, с максимальным взлетным весом, мог это сделать по жаре, я затрудняюсь сказать. Скреб, скреб и таки наскреб, на самом уж критическом угле.
Но невключенная сигнализация не сработала.
На скорости около 400 началась тряска. Она разбудила экипаж. А ведь должна была разбудить сирена! Заблаговременно!
Может, это была легкая болтанка на тропопаузе.
Я смутно помню единственный раз опубликованные записи переговоров этого экипажа. Их потом навсегда спрятали.
По репликам можно судить, что реакция капитана была типа: «Что это было?».
Капитану показалось, что начался помпаж двигателей, сопровождающийся тряской всего самолета. Представляю, как заколотилось у него сердце!
Наверно он раньше не встречался с помпажем — явлением срыва потока на входе в двигатель из-за косого обтекания на больших углах атаки. Там так трясет, что ужас пронизывает: как палками по хвосту. И растет температура газов, нужно немедленно убирать режим, чтобы не спалить двигатель.
А трясочка-то была слабенькая, едва заметная.
Но капитан не взглянул на прибор скорости и спросонок слегка сдернул газы. Он и предположить не мог, что контролирующий прибор не включен.
Бортинженер не дал совсем убрать режим: ведь по его приборам помпажа не было.
Капитан снова сдернул. И потом еще. И отключил автопилот. Стал пилотировать вручную и раскачал машину. Все это было уже за пределом срабатывания сигнализации критического угла атаки, которую они включить забыли.
Они еще почти минуту держались. По расшифровке, угол атаки доходил чуть не до 20 градусов. За это время без тяги скорость упала почти на сто километров в час, и самолет таки свалился.
Реакция в ту же секунду спасла бы всех: толкануть что есть силы штурвал!
Но вялое тело не среагировало, а дальше было уже поздно: начались беспорядочные действия рулями, которые ничего изменить не могли.
Самолет, вращаясь в плоском штопоре, почти вертикально упал в барханы, недалеко от Учкудука.
Что нарушил экипаж?
Кому и что он хотел доказать?
На какой грани он хотел поймать адреналиновый кайф?
Они были смертельно уставшие, эти ребята. Они допустили ошибку: забыли включить прибор, который всегда, тысячи раз до этого включали. Они формально прочитали контрольную карту и формально на ее пункты ответили.
Простить их нельзя, понять профессионалу — можно.
Надо было отказаться. После двадцати часов ожидания. Глядя в глаза таким же измордованным пассажирам, вместе с экипажем толкавшимся на жаре. И уйти отдыхать. Только отдыхать в Карши в те времена было негде.
Министерство тут же с треском выдало указание: запрещается набор высоты на автопилоте. Крути руками. Видимо, чтоб не спал. Потом, через долгий промежуток времени, когда наказания высоким чинам были распределены и все утихло, этот запрет тихо убрали. Автопилот оказался ни при чем. Вместо этого запрета ограничили полетный вес на больших высотах, чтобы таки был тот запас по сваливанию.
Причину катастрофы долго жевали, приплели болтанку на высоте. Какая болтанка, если экипаж, вися на волоске, ошибочно сам убирает газы? И даже если и болтанка, то где был запас по углу атаки и его контроль?
Нет, таки, думаю, спал несчастный экипаж. Это такое состояние, когда уже не думаешь не только об ответственности — вообще ни о чем. И такое в своих полетах я по разным причинам несколько раз испытывал.
Так вы не хотите, чтобы неотдохнувший экипаж довез вас, превышая нормы рабочего времени?
Теперь о недавнем сваливании Ту-154 под Иркутском.
О капитане этого рейса кто-то сгоряча сказал: «лучший среди нас». После катастрофы была проверка из Москвы работы той дальневосточной авиакомпании. И по всем десяти пунктам акта отмечены грубейшие, безобразные нарушения правил подготовки летного персонала. В конце разбора председатель комиссии сказал: «Летчики не виноваты, что их не научили летать».
Больно писать об этом, но таковы были итоги перестройки в гражданской авиации. Цепь, которую беспорядочно дергают, рвется в самом слабом звене.
Обычный полет, обычный ночной заход на посадку; землю видно, еще пара минут — и покажутся огни подхода. Обычная, спокойная работа экипажа. Капитан, хоть и не так много налетал на Ту-154, но считается опытным. И второй пилот у него опытный, несколько лет на «Ту».
Самолет вписывается в схему захода, третий разворот, скорость великовата, прибрать режим…
Тысячи летчиков тысячи раз делали эту несложную операцию. А эти — прозевали падение скорости. На скорости 400 выпустили шасси на снижении, а когда скорость стала падать и подошла высота круга, перевели машину в горизонтальный полет и добавили режим двигателям. Но добавили маловато: скорость продолжала падать.
А дальше — разные школы. Красноярцы хорошо понимают, что в данной конфигурации, когда шасси выпущены, запас по сваливанию небольшой. Надо немедленно, едва только загорится последняя зеленая лампочка выпущенного положения шасси — тут же выпустить закрылки. Так положено по технологии. Рука уже дежурит у той рукоятки. Пусть скорость уменьшается — но на такой скорости, если еще поддержать газом, запас по сваливанию после выпуска закрылков сразу становится большим. Грубо говоря, на «чистом» крыле самолет свалится на 300 км/час, а при выпущенных закрылках на этой же скорости 300 он спокойно летит, это рекомендованная скорость для безопасного выполнения четвертого разворота; в этой конфигурации, чтобы свалиться, надо потерять скорость где-то аж до 200.
Только в процессе выпуска закрылков надо режим двигателям установить побольше, чтобы упредить падение скорости от возросшего сопротивления. И следить, следить за скоростями.
Все летчики так и делали раньше: строго следили и за темпом падения скорости, и за запасом по углу атаки, и за лампочками шасси, и за своевременным выпуском и довыпуском на максимальный угол закрылков, и за упреждающим добавлением режима.
У этих ребят школа, видать, была другая. Какая — это в акте комиссии, в десяти пунктах, отмечено.
А дальше проявились недостаточные организаторские способности капитана по распределению обязанностей в экипаже. Второй пилот управлял самолетом через автопилот — это удобный способ в простых условиях — а капитан, то ли не зная, каким способом пилотируется самолет, то ли не понимая сути явления, «помогал» штурвалом.
Вот первая ошибка: недостаточный объем и низкое качество предпосадочной подготовки экипажа. Один вроде управляет, и другой вроде управляет, да еще и подправляет. Роли четко не распределены.
Кстати, в прежние времена бывали такие вот аварии, на взлете и на посадке, когда самолетом… никто не управлял. Командир думал, что пилотирует второй, а второй думал, что пилотирует командир. Жизнь заставила распределять роли в пилотировании на ответственных этапах полета заранее и очень четко.
В процессе разворота капитану показалось, что крен велик, и он штурвалом подправил… да не в ту сторону. Возник спор о кренах, и экипажу стало как-то не до скорости.
Они забыли про выпуск закрылков и про падение скорости — они выясняли второстепенный вопрос крена. Скорость себе падала, запас по углу атаки выбирался… и сработала сигнализация критического угла!
Тут бы опомниться и сунуть рукоятку закрылков на выпуск!
У меня так несколько раз случалось в болтанку. На третьем развороте подболтнет — стрелка качнулась, подошла к красному сектору. Звучит сирена опасного угла атаки — суешь рукоятку на выпуск — и чувствуешь, как под тобой набухает подъемная сила, и видишь, как разъезжаются в стороны красный сектор опасных углов и стрелка текущего угла атаки. И тут же добавляешь газу.
Нет, они испугались сирены и последовали древнему рефлексу пилота: сунули штурвалы от себя! Самолет, на остатках скорости, успел перевалиться в снижение и стал разгоняться: 350, 370, 400…
Действия эти, по предупреждению сваливания — правильные: так они и описаны в Руководстве по летной эксплуатации.
На скорости 400 мы летаем по схеме аэродрома на «чистом» крыле — запаса по сваливанию хватает с избытком. Вот и у них скорость стала безопасной. Исправили ошибку. Только самолет пикировал.
Высота полета в этот момент была семьсот метров. Оставалось только аккуратно вывести самолет из крутого снижения в горизонтальный полет, выполнить уход на второй круг, успокоиться, собраться… кто вас гонит? Объяснительные и порка будут потом.
Наши инструкции предупреждают: вывод из сваливания производится потихоньку, плавным взятием штурвала на себя. Иначе можно снова создать такой угол атаки, что самолет свалится повторно.
Они, видимо, опомнились: ЗЕМЛЯ БЛИЗКО!
И — хватанули в четыре руки, да так, что угол атаки за две секунды увеличился чуть не до сорока градусов. На дыбы!
Все понятно.
Экипаж не хотел выпендриться. Он устал после долгого полета. Ему не надо было что-то кому-то доказывать. Они думали, что в простых условиях заведомо справятся… чего там мобилизовываться-то.
А про закрылки — забыли.
А потом внезапное срабатывание сирены! на скорости… ой, скорость мала! «А? Че? Куда, куда? Тяни, тяни! Выводи, выводи!»
Это стресс.
И никто в этом экипаже не ожидал от товарища, вот, сию секунду, нужной команды, которая вбита намертво. А — надо ожидать. Надо, чтобы каждый знал назубок и свою технологию, и технологию товарища.
Вместо команды на выпуск закрылков — не резанула пустотой пауза. Не приучен был экипаж хором петь мелодию полета — и фальшь не заметили.
А контрольную карту обязательных проверок прочитать уже не успели.
Это и есть недоученность, непрофессионализм. Результат поверхностной, скороспелой подготовки пилотов к полетам — на сложнейшем нашем лайнере. Школьная, курсантская, нервная ошибка. Экипаж, не приученный упреждать, плелся в хвосте ситуации, допустил провал в технологии работы и в условиях внезапного стресса — не справился.
Мне больно и стыдно. Теперь, из-за смертельной ошибки одного неподготовленного летчика, тень упала на всех нас.
И последний, «донецкий» случай.
То, что нынче остро не хватает летного состава, известно всем. Мальчишки-курсанты летных училищ «раскуплены» на несколько лет вперед. И как только они приходят из училища в авиакомпанию, их бегом переучивают на тот тип самолета, на котором не хватает кадров.
Выпускной тип, на котором курсант сдает госэкзамены в училище, обычно Ан-24. Таких самолетов уже днем с огнем не сыскать: они уходят. Поэтому в авиакомпании вчерашнего курсанта садят на правое кресло Ту-154. А слева садится зубр-инструктор. И компания рассчитывает, что за положенные по программе пятьдесят часов налета инструктор допустит второго пилота к полетам в закрепленном экипаже, с правом самостоятельного взлета и посадки.
Я пришел на Ту-154 с налетом девять тысяч часов, пройдя этапы ввода в строй капитаном на Ан-2, Ил-14 и Ил-18. И все равно первый год на этой машине мне было, мягко выражаясь, нелегко. Я полюбил ее уже потом, далеко не сразу.
За почти одиннадцать тысяч часов на Ту-154 я эту машину освоил, стал инструктором и занимался на ней как раз вводом в строй молодых вторых пилотов и капитанов.
В последние годы полетов и мне довелось освоить эту практику: ввода в строй пилотов после длительного, по пять лет, перерыва в летной работе.
А нынче уже разрешили восстанавливать летчиков с перерывом и в десять лет.
Так вот: летая с переучившимся на «Ту» бывшим вторым пилотом Ан-2, уже имевшим до перерыва в полетах девятьсот часов налета, я видел уровень: нулевой, навыки утрачены. Пришлось с самого начала вновь вырабатывать у человека элементарные навыки пилотирования, да еще на тяжелом и мощном лайнере.
Теперь этот человек вводится в строй капитаном Ту-154, пролетав вторым пилотом семь лет. Таки получился из него неплохой летчик. А сколько в него вложено!
И вот конкретный экипаж того несчастного Ту-154. Опытный, первого класса, пилот-инструктор. Опытный, пожилой второй пилот, бывший специалист по высшему пилотажу. И молодой, налетавший под опекой наставника всего несколько десятков часов второй пилот-стажер.
О штурмане и бортинженере я ничего не знаю: в полете они были заняты своими обязанностями.
Второй пилот в полете откатывал с правого кресла свою стажерскую программу, набирался опыта, и, как я понимаю, опыт этот давался ему с обычным для ввода в строй трудом. Во всяком случае, у него еще не выработался главный — элементарный, но твердый как сталь! — навык пилота: строжайше следить за скоростью — что бы ни случилось с самолетом!
Да и что с лайнером может случиться… слева сидит старый волк, за спиной примостился еще один, полетные бумаги пока ведет; а мое стажерское дело — постигнуть пилотирование этой, такой прекрасной, но такой сложной машины.
О решении задач полета, хотя бы об участии стажера в этом сложном процессе, не было и речи. Он осваивал нажимание кнопок.
В Анапу они прошли через тот проклятый холодный фронт, когда он еще только начинал развиваться и высота гроз на нем была обычная.
Как они консультировались на метео, я не знаю. Но, видать, особой настороженности по поводу уж слишком мощного фронта у капитана не возникло. Два часа назад он же его свободно прошел. Да и у синоптиков, судя по их последующим объяснениям, этот фронт сначала озабоченности не вызывал.
Экипажу была доложена вся необходимая информация, и капитан принял решение на вылет.
В наборе высоты разговоры экипажа между собой были о чем угодно, только не о фронте. Мало их, фронтов этих, пересек за свою жизнь капитан. И когда слева спереди стали проявляться сначала засветки на экране локатора, а потом и визуально стало видно мощную стену облаков, экипаж как обычно стал намечать пути обхода.
Диспетчеры в таких ситуациях всегда говорят экипажу: «Обход по своим средствам разрешаю». Можно сбоку, можно сверху. По своим бортовым радиолокационным средствам.
Штурман влез в раструб локатора, да так и не вылезал из него, выискивая проходы между засветками. Он короткими репликами отвечал на озабоченные вопросы капитана, который вблизи грозового фронта почувствовал неуверенность. Фронт оказался слишком мощным: за какие-то два-три часа верхняя кромка поднялась выше 12 километров.
Но практика полетов над фронтами подсказывала, что между верхушками гроз, слившихся внизу в одну большую засветку, есть проходы. Между куполами можно пройти. Так они надеялись. Полетный вес в таких условиях вроде позволял.
Капитан сомневался и упускал время. Самолет и стена туч сближались, и набор высоты надо было теперь производить энергичнее.
А на высоте температура воздуха перед фронтом оказалась на двадцать градусов выше нормы. Самолет не лез.
Кто пилотировал в этот момент, я не знаю. Что думал и куда смотрел капитан, тоже не знаю. Я в таких случаях, с молодым вторым пилотом, кручу штурвал сам; предупрежденный и настроенный мною второй пилот постоянно следит за скоростью и запасом по углу атаки; штурман следит по локатору и задает курсы обхода; бортинженер поглядывает на свой указатель скорости и готов без команды сунуть газы и предупредить, если скорость начнет падать. Изредка я заглядываю через плечо штурмана в локатор и лишний раз убеждаюсь, что лучше, чем мой верный Филаретыч, проходов я не найду. Все-таки пятнадцать лет плечо к плечу.
Когда мне говорят о нынешней зарубежной моде летать в раскрепленном экипаже, я тихо рычу. Полжизни я вложил в свой экипаж, берег его, и хоть летная судьба иногда раскидывала нас, я все равно снова собирал экипаж вместе. Это как спетый хор: мы уже настолько слились в понимании нюансов работы, что способны делать ее КРАСИВО.
А тут капитан судорожно запрашивает набор высоты, вскакивает в град — а в град можно вскочить только в облаке или под ним — и матерится. Он пытается куда-то отвернуть от грозы, но штурман путей не видит. Приходится временно запрашивать встречный эшелон, он на 500 метров выше. Диспетчер все разрешает экипажу: значит, экипажу так удобнее, безопаснее, он же видит обстановку!
А обстановка была такая, что зациклившийся на обходе гроз верхом капитан тянул и тянул на себя. Может, тянул на себя, по его команде, но при полном отсутствии контроля, стажер. Надо было вылезти на практический потолок.
Видимо, конвекция в том фронте была очень мощной, и верхушки гроз вырастали на глазах, и впереди, и сзади. И в этой грозовой круговерти капитан пытался залезть как можно выше. Видимо, выше облаков он уже вылезти не смог, рост верхушек опережал скороподъемность самолета. А спускаться снова вниз было страшно.
Я, старый летчик, хорошо знаю, какой в воздухе бывает страх и из чего он складывается. Это страх своей профессиональной несостоятельности, когда до тебя доходит, что, несмотря на опыт, ты купился и позволил заманить себя и своих пассажиров в ловушку.
Эта гроза была одной из тех редких ловушек стихии, предусмотреть быстрое захлопывание которой практически невозможно. Она развивалась не по привычному сценарию. Потом будет заявлено, что это была гроза тропического типа, редкостная для наших широт, с высотой гроз до 14–15 километров.
Но экипаж этого не знал, а просто был испуган резким развитием облачности такой силы, какой никто из экипажа до этого не встречал. Снижаться внутрь фронта казалось самоубийством, а вылезти наверх — все-таки оставалась надежда обойти. И капитану не оставалось ничего другого, как пытаться все-таки вскарабкаться повыше и лавировать между шапками гроз. Ну, так он понимал ситуацию.
Я бы в такой ситуации был озабочен тем, что и сзади меня все закрывается. Из такой ловушки вернуться назад-то очень сложно. Тем более что назад локатор не видит. И мой страх профессионала выразился бы в команде: всем тщательно следить за скоростью, а при усилении болтанки до срабатывания сигнализации — деваться некуда, надо немедленно идти вниз. Только вниз!
Практика полетов в грозах без радиолокатора — и на Ан-2, и на Ил-14, да и на лайнерах пару раз, когда радиолокатор отказывал, — эта практика говорила бы мне, что пролезть между засветками, с минимальным интервалом, хоть и очень опасно, но когда другого пути нет, то можно. И как только на снижении установится рекомендуемая в болтанку безопасная скорость 500 и появится запас по сваливанию, надо как угодно — а возвращаться.
Возможно, капитан подсознательно как раз и решал задачу возврата. Но вниз спускаться он не решался, переговоры экипажа это подтверждают. Слишком жутко было внизу: самая гуща очагов. Поэтому он лез и лез вверх, уже на пределе пределов. Может, он надеялся, как только вылезет на свет Божий, удастся развернуть самолет назад, лавируя между вершин визуально.
Надо не забывать, что обстановка там менялась быстрее, чем вы сейчас об этом читаете. От момента, когда до капитана стало доходить, что гроза превышает возможности полета над нею, до момента сваливания прошло всего две с половиной минуты.
Кабинетный человек за две с половиной минуты успеет только взмокнуть. У него даже медвежья болезнь развиться не успеет. Не говоря уже о принятии какого-то приемлемого варианта решения задачи спасения.
Чтобы самолету на эшелоне развернуться на 180 градусов, на истинной (не приборной!) скорости 900 км/час, с креном не более 15 градусов (в болтанку круче нельзя), нужно время — четыре с половиной минуты. А сзади уже все закрылось! А на развороте, по законам аэродинамики, запас по сваливанию уменьшается, и свалиться самолету еще легче.
В результате набора на пределах самолет стал тихонько терять скорость. И из пяти человек, перед каждым из которых маячило по указателю скорости (их на Ту-154 аж шесть, таких указателей), ни один на ту скорость не смотрел, ни один капитану не подсказал, что скорость уже 450, 420, 400 — и это на эшелоне 12 километров!
Вот двадцатью годами раньше, в такую же жару, вылетевший из Карши такой же Ту-154, на такой же скорости — уже затрясло.
Только под Карши такой сильной болтанки не было. А тут, под Донецком, двадцать лет спустя, на высоте двенадцать километров, в облаках, в граде, в болтанку, терял скорость такой же самолет. И ведь экипаж в нем явно не спал. И споров никаких не было. Вообще, слышно было одного капитана… его мат. Остальные прижали уши и… потеряли контроль над ситуацией. Людям было просто страшно: куда влезли!
Ну, хоть бы один крикнул: «Скорость!»
А скорость падала дальше. Вокруг стояли столбы гроз, видимо, самолет шел в облаках; штурман искал проходы.
Вот штурман — единственный из них — не несет перед Богом ответственности за потерю скорости; остальные четверо — виноваты все.
Сработала сирена сигнализатора критического угла атаки. Единственным правильным действием, которое еще смогло бы спасти экипаж, было — в ту же секунду с силой отдать штурвал от себя и рухнуть в глубину грозы. Там еще был шанс, что пока самолет наберет скорость, болтанка его пощадит.
Экипаж молчал; капитан матерился и говорил: «На себя, на себя!» Скорость падала дальше, запас по углу атаки был выбран; еще несколько раз сработал сигнализатор.
Как она, бедная машина, еще держалась!
Один раз, перед самым сваливанием, кто-то из экипажа сказал: «Снижаемся! Углы! Углы!»
Капитан тут же отрезал: «Куда снижаемся, ё… дураки! Ставь номинал!»
Видимо, они все-таки попали, вскочили в верхнюю часть грозового облака, и мощный поток подхватил уже практически неуправляемый самолет и вознес его еще на семьсот метров вверх. Скорость упала до 349 километров в час. На такой скорости самолет уже не летит. Сигнал критического угла срабатывал у них несколько раз.
Умные летные специалисты утверждают, что это было такое аэродинамическое явление: «подхват» — когда в процессе сваливания самолет с верхним расположением стабилизатора самопроизвольно увеличивает угол атаки на десятки градусов.
«Подхват» действительно свойствен некоторым типам самолетов, но… не надо самолет до такой потери скорости доводить.
Они так и не поняли, что уже свалились, что самолет вращается влево, делая один оборот за тринадцать секунд… Какие-то реплики о курсе… На компасе хорошо было видно это вращение, но они ничего не понимали. Капитан отдавал команды контролировать курс по дедовскому резервному магнитному компасу. Они просто думали, что вот такая сильная болтанка и у них «все выбило». Приборы (если только экипаж мог разглядеть их во мраке грозового облака) выдавали нелепые, неестественные показания. Капитан судорожно пытался парировать штурвалом броски самолета. Он ничего не понимал. За две минуты до смерти, уже давно вращаясь в плоском штопоре, капитан сказал: «Ё… в штопор свалимся…»
Команда стажеру «передай SOS» свидетельствует о высшей степени стресса (сигнал бедствия в авиации называется «мэйдэй»). На вопрос, какая же скорость (а ее в штопоре по прибору и не определишь), кто-то неуверенно ответил, что «упала чуть», но вроде в норме…
Какая норма! Шел отсчет последней минуты жизни ста семидесяти человек.
Только за пятьдесят секунд до смерти до кого-то из экипажа дошло: «Так мы падаем?»
Не надо заламывать руки насчет того, ЧТО испытали в эти роковые минуты пассажиры в салоне. Ничего они не испытали, кроме страха от болтанки и мрака за бортом — самолет падал внутри грозового облака. Внутри грозы — чернильная темнота, раздираемая слепящими сполохами молний. Но того, что они действительно падают в штопоре, не осознавал ни один человек на борту, ни в салоне, ни в пилотской кабине.
ЧТО испытали пассажиры тонущего «Титаника?» Ответ однозначный: ужас логического осознания неизбежной, медленной, ледяной смерти, долгие адские муки. А здесь, в падающем самолете, был просто страх.
На высоте две тысячи метров они, вращаясь, вывалились из облака — целые и невредимые — и увидели действительное положение вещей. Вот тогда капитан сказал «Ё-моё», а мальчик закричал, чтобы его не убивали. Рефлекторно, повинуясь уже не разуму, а инстинкту самосохранения, капитан кричал «на себя, на себя!» и все тянул и тянул штурвал на себя до самой земли.
Могли ли они все-таки вернуться?
Если бы анализ обстановки начался еще на метео Анапы; если бы капитан, при участии всего экипажа, обсудил с синоптиком вероятность развития гроз; если бы в наборе высоты поинтересовался у бортов, как обстановка; если бы, увидев по локатору засветки, заранее просканировал их и определил, хоть приблизительно, высоту верхней кромки; если бы заранее начал набор и определил возможности самолета в этой жаре набирать высоту; если бы при этом оценил запас по углу атаки; если бы, подойдя вплотную и увидев далеко впереди, над слившимися наковальнями, проявившиеся белые купола высотой явно более 12 километров, подумал, что быстро развивающаяся облачность может перекрыть путь назад… тогда, может быть, здравый смысл перевесил бы и привычку обхода верхом, и расчет на экономию топлива, о которой они вели разговор перед этим; и о пассажирах бы подумалось: «куда я их везу?» и вообще: «куда я лезу!»
О профессионализме этого пилота-инструктора, человека, который образцово должен провести подготовку и настроить экипаж на действия в особых случаях, распределить роли, организовать взаимоконтроль, высадить мальчика… Молчу.
Их сгубила беспечность и великая самоуверенность капитана, не справившегося с задачей безопасности полета в резко усложнившихся, почти непредсказуемых обстоятельствах.
Его ошибка — даже не в потере скорости. Его ошибка — в потере способности руководить экипажем. Что явилось причиной этой ошибки, судить не мне.
И что теперь — всех наших летчиков, всех мастеров своего дела, смелых, решительных, осторожных, здравомыслящих, надежных пилотов, капитанов, — всех обливать помоями?
Обеспокоенные потенциальные пассажиры задают вопрос: «А какие выводы сделали вы, пилоты, из этой катастрофы?»
Навскидку?
Не поддаваться всепоглощающему желанию сделать все по привычному стереотипу. Мол, сто раз проходило — и нынче пройдет.
Строить свою работу в небе так, чтобы неожиданность не застала тебя врасплох.
Всегда проверять цепь своих умозаключений элементарным здравым смыслом.
Верить правилам, выработанным за столетие авиации; отдавая должное новейшим датчикам, не брезговать и дедовским опытом: хоть за скоростью следить.
Строго выполнять технологию работы экипажа, не надеяться на себя одного, непогрешимого, организовать взаимоконтроль, настраивать людей.
Научиться отделять опасное от очень опасного и делать правильный и своевременный выбор.
Уметь переступить через свою гордость, через самолюбие, через страх.
И все перечисленные действия пропускать через призму безопасности тех, кто за спиной.
Можно привести вам тут целый список выводов. Да только я всю свою летную жизнь эти выводы делал, и нынче, с высоты лет, все они кажутся для меня само собою разумеющимися.
Технология работы
Недавно кто-то сказал: «Если бы люди своими глазами увидели технологию производства колбасы — они бы ее после этого в рот не взяли».
Так же думают иные и про технологию летной работы: узнав все ее подробности — десятой дорогой обходил бы самолет.
Тут один наш брат небесный, диспетчер, волею судьбы попавший в роли героя на телепередачу, ляпнул:
— Да я никогда в жизни самолетом не полечу! Слишком близко я эту кухню знаю!
Вот я и думаю: а что же в нашей кухне может отпугнуть пассажира.
Жизнь пассажира в самолете зависит от исправности матчасти, от качества горючего, от мастерства пилотов, от погодных условий, от искусства диспетчера, от подготовки аэродромов, от тщательности проведения антитеррористических мероприятий — и от многого другого.
Пассажира может отпугнуть старый, потрепанный самолет: «Боже мой, на ЧЕМ я сегодня должен лететь!»
На старом, проверенном, привычном, надежном транспортном средстве.
Так опытный турист идет в поход не в новеньких, а в старых, ношеных, но еще добротных башмаках, переживших уже детские болезни и многократно испытанных в деле. Они и ногу не натрут, и не порвутся почем зря, в них удобно ходить по любым дорогам. Они надежны.
Я уже говорил: не может просто так в полете отломиться крыло. Оно, как и вся конструкция самолета, рассчитано на многократные нагрузки, превышающие действительно указанный ресурс.
И двигатели рассчитаны на многотысячный ресурс в часах. На современных двигателях практически нечему изнашиваться: трущихся деталей — одни подшипники. Поэтому они тоже очень надежны.
Двигатели взаимозаменяемы, поэтому, когда выработается межремонтный ресурс одного из них, его заменяют любым другим.
Агрегаты тоже взаимозаменяемы. На самолете вообще все сделано так, чтобы он как можно меньше простаивал на земле и как можно быстрее отправлялся в полет.
Говорят, контрафактные агрегаты. Вот, добывают, мол, на стороне что попало и ставят на самолет.
Надо не забывать, что добывают и ставят агрегаты конкретные живые люди. И контролируют их такие же люди. Каждый ставит свою подпись. Для прокурора, не дай Бог что.
Каждый агрегат, прибор, чуть не каждый болт — имеет свой паспорт, формуляр и прочие сопровождающие его до могилы документы. Вы не представляете себе, сколько этих бумаг. И сколько людей следит, чтобы сроки не нарушались, чтобы все менялось вовремя.
И сколько из этих людей желает, чтобы самолет упал, а его, за подпись — в тюрьму?
В авиации никто никогда просто так подпись не ставит. Каждая подпись — это персональная ответственность за жизни пассажиров.
Экипаж в полете учитывает наработку матчасти до минуты. Подходит срок — самолет ставят на форму. Формы технического обслуживания разные: смена двигателя, периодическое обслуживание агрегатов, подготовка к работе в осенне-зимнем или весенне-летнем периоде, продление ресурса самолета и т. д. За все эти работы отвечает инженерно-авиационная служба, ИАС. Она включает в себя техников, непосредственно производящих работы, инженеров, организующих и контролирующих работы, специалистов, ведущих документальное оформление работ.
Когда мне, по долгу нынешней службы, приходится заглядывать в ИАС, я, как раньше, так и теперь, поражаюсь кипам документов и способности этих людей в них разбираться.
В авиации нет посредственных работников. Авиатехников готовят так же, как и летчиков: в специальных училищах гражданской авиации. И уж в железе эти люди разбираются. Инженеров готовят в авиационных вузах, и, смею вас уверить, подготовка специалистов там — капитальнейшая.
Прежде чем допустить таких людей к обслуживанию самолетов, их заставляют пройти кропотливую практическую школу на земле. Конкретный тип самолета, на обслуживание которого у специалиста есть допуск, он знает назубок. И если такой человек попадает с земли на летную работу в качестве бортмеханика — это надежнейший хозяин самолета. Он сделает в рейсе все, чтобы самолет долетел и безопасно довез пассажиров.
Бортмеханик является связующим звеном между летной и инженерной службами. Он контролирует подготовку самолета к полету — и уж малейшей недоработки не допустит, потребует сделать все, что полагается для безопасного полета.
Это я вкратце рассказал об одной из важнейших служб авиакомпании.
Что касается службы горюче-смазочных материалов, ГСМ, то ее специалистов готовят в специальных училищах или на специальных факультетах.
Топливо для самолетов должно быть идеальным, и поэтому существует эта служба. Она осуществляет хранение топлива, масел и жидкостей в строгом соответствии с требованиями инструкций, а также контроль качества подвозимого топлива, его удельный вес и многое, многое другое.
Я упомянул удельный вес. В авиации принято заправлять топливо в килограммах, чтобы точно подсчитать взлетный вес (правильно говорится «взлетную массу»). А удельный вес керосина, в зависимости от его температуры, разный. При заправке литры пересчитываются в килограммы именно по удельному весу топлива, находящегося сейчас в топливозаправщике, заправленном из емкостей, и анализы взяты, и все проверено в лаборатории, учтено в документах. Не дай Бог чего — мигом найдут и ту партию топлива, и ту емкость, и тот заправщик, и того водителя, и того авиатехника, что проверял перед вылетом отстой из самолетных баков на отсутствие воды или кристаллов льда.
Про летную службу и говорить особо не буду: сама эта книга, собственно, и есть кухня летной работы.
Каждый авиационный специалист, работающий в авиакомпании, под роспись знакомится со своей должностной инструкцией. Кроме общих положений, инструкция включает в себя главы о правах специалиста, его обязанностях и его ответственности. Каждый пункт — конкретный. Строгое выполнение инструкции — залог безопасности полетов.
В каждой авиакомпании существует инспекция по безопасности полетов. Этой инспекции есть дело до всего, что так или иначе может повлиять на безопасность. Задача ее — не допустить нарушений, постоянно контролировать соответствие реальных дел требованиям руководящих документов, выполнение мероприятий по безопасности полетов, спускаемых сверху.
И уж если где обнаружилось отклонение или нарушение — инспекция разберется и раздаст всем сестрам по серьгам, касается ли это казусов в летной, инженерной службе или службе, обеспечивающей бортовое питание.
Иногда проскакивают разговоры: мол, в этих авиакомпаниях все друг другу руку моют, скрывают серьезные нарушения, и эта инспекция — для отвода глаз.
Может, в той авиакомпании, где после катастрофы было вскрыто десять серьезных нарушений, инспекция работала, мягко говоря, недостаточно. Может быть. Думаю, в прежнем составе она теперь там уже не работает.
Про погодные условия в этой книге сказано предостаточно. А вот про диспетчерскую службу, занимающуюся организацией воздушного движения, надо рассказать подробнее.
Начнем с диспетчера аэродромного диспетчерского пункта, АДП. Экипаж начинает рабочий день с доклада этому диспетчеру и получает от него необходимые данные для предварительных расчетов: готовность основного и запасного аэродромов, прогнозы погоды и т. д. Диспетчер АДП координирует вылеты и прилеты, дает сообщения смежным службам. Он контролирует правильность принятия решения на вылет капитаном и дает диспетчерское разрешение на вылет — ставит подпись в задании на полет. Это означает, что экипаж, самолет, аэродромы и погода — все готово и соответствует правилам.
Запуск экипаж запрашивает у диспетчера руления. Рабочее место этого диспетчера расположено на вышке, ему видно все летное поле, он руководит рулением, буксировкой самолетов, движением спецавтотранспорта, предупреждает экипажи об условиях руления.
Взлет до высоты 200 метров и посадку с высоты 200 метров контролирует диспетчер старта. Он отвечает за готовность взлетно-посадочной полосы принять или выпустить самолет. Он работает в тесном контакте с метеонаблюдателем и определяет соответствие параметров погоды минимуму. Очистка ВПП от снега тоже под его контролем: он держит связь со спецмашинами и вовремя убирает их с полосы перед посадкой борта.
Диспетчер посадки контролирует снижение самолета на предпосадочной прямой. У него есть для этого специальные радиолокаторы, и он может подсказать экипажу отклонения. Он дает борту разрешение на посадку.
Диспетчер круга контролирует воздушное пространство в зоне схемы (круга) полетов в районе аэродрома. Он следит за выдерживанием экипажами схемы полетов, пресекает отклонения от схемы; выполнение разворотов и снижение на кругу выполняются строго по его команде. Он регулирует интервалы и дистанции между самолетами на схеме, устанавливает очередность захода.
Зону ближних подходов к аэродрому контролирует диспетчер подхода. Его работа состоит в оптимальном выведении бортов на аэродром и контроле выхода взлетевших самолетов из зоны круга, разведение бортов по высоте, много других задач. Диспетчер подхода держит в памяти всю «картинку» движения самолетов в своей зоне, контролирует это движение по своим приборам. Пожалуй, это самый нагруженный участок воздушного движения, требующий от человека, руководящего им, здоровья и качеств, не уступающих здоровью и профессиональным качествам пилота.
Кстати, нередки случаи переучивания диспетчеров, имеющих профессионально хорошее пространственное мышление, на пилотов.
И, наконец, диспетчер верхнего воздушного пространства — диспетчер контроля. Его задача — контролировать движение бортов по трассам в своей зоне действия — а это сотни километров. Борты идут по трассе, а диспетчеры контроля бережно передают их из рук в руки, из зоны в зону, разводя с поперечными, встречными и попутными, подсказывая экипажам отклонения от маршрута и пути обхода гроз.
Естественно, связь с бортами диспетчеры осуществляют по радио. И настолько важен этот фактор, что на любом самолете устанавливается минимум две радиостанции, а отказ связи в полете, то есть, отсутствие двусторонней связи диспетчера с бортом более пяти минут, расценивается как летный инцидент. Полет борта без связи является особым случаем полета, и действия в таких случаях все экипажи знают назубок.
Связь ведется по строгим правилам, единым для всей России, по установленной фразеологии, отступления от которой пресекаются.
И тут наступает момент. Ведь во всем мире связь ведется только на английском языке. А раз мы являемся членами международного авиационного сообщества, то придется и нам, на одной шестой части света, все равно вести связь на инглише. И никуда от этого не деться.
Собственно, фразеологию вызубрить можно. Но практика показала, что и летчик, и диспетчер должны владеть английским на разговорном уровне, позволяющем работать в любой нештатной ситуации. Поэтому сейчас языковая подготовка летчика должна начинаться со школьной скамьи. Хотим мы того или не хотим, но нынче английский язык является языком международного общения.
Я уже говорил, что на импортных самолетах все руководства по эксплуатации и технология работы экипажа написаны и выполняются только на английском языке, чтобы не было разночтений при переводе. А у нас таких самолетов становится все больше, и допускают летать на них наиболее способных, молодых, продвинутых, толковых, владеющих языком пилотов. Вот эти ребята, мне кажется, и понесут дальше знамя нашей отечественной авиации. На них и надежда.
Да еще надежда на старых инструкторов, которые обладают колоссальным опытом и передают этот опыт молодым. Связь летных поколений не должна прерываться.
Подготовка аэродрома означает, что поверхность ВПП чистая, сухая, коэффициент сцепления 0,6.
Если бы так было всегда. Когда бушует метель, а температура плавно повышается, дай Бог удержать сцепление хоть 0,35. Когда сеет переохлажденный дождь и все покрывается ледяной коркой, дай Бог, хоть 0,3 сохранить — минимальный коэффициент, при котором еще можно взлетать и садиться, да и то, если боковая составляющая не более 5 м/сек.
Подготовка аэродрома означает работу радио-светосигнального оборудования, призванного помочь пилоту найти аэродром и сесть при минимуме погоды.
Подготовка аэродрома означает, что ремонт бетонки производится в окнах между полетами: заливаются мастикой швы, наносится разметка, и т. п.
И всем этим занимаются специальные службы, и все их труды направлены только на безопасность пассажиров.
Все, о чем я здесь говорю, существует на самом деле, именно строго по инструкциям, без дураков. Не имитация бурной деятельности, не видимость дела, а настоящее, серьезное дело — дело безопасности полетов. Потому что без работы любой из этих служб полет будет невозможен.
Это огромная пирамида, возносящая и бережно поддерживающая в полете нас с вами, на самой ее вершине.
Так что же в этой пирамиде может отпугнуть пассажира?
Пассажир приезжает в аэропорт и имеет дело со службами аэропорта. С ним начинает работать служба организации перевозок. Это ее работники у стойки проверяют ваши билеты, регистрируют, выдают места и пропускают на главный, с раздеванием, досмотр. А внутри вокзала, невидимые пассажиру, работают диспетчеры, центровщики, грузчики, водители. Это они обрабатывают весовые и центровочные параметры предстоящего полета.
Ваш багаж будет взвешен, вас самих усредненно посчитают по 75 кг, детей по 35. Ручную кладь тоже надо взвешивать.
Данные выдаются диспетчеру по загрузке и центровке, он на компьютере подсчитывает вес, определяет центровку (положение центра тяжести самолета, зависящее от расположения топлива и загрузки); выписываются сопроводительная ведомость и другие документы, которые при посадке пассажиров в самолет дежурная по посадке вручает экипажу для его расчетов.
Тем временем ваш багаж загружается в контейнеры и везется к самолету. Там его пересчитают по местам, добавят со склада почту или груз, все разложат по отсекам, согласно рекомендации центровщика, под контролем бортпроводника, закрепят сетками, чтобы загрузка не сместилась.
Вас проведут в самолет, когда все будет готово. Вас усадят, помогут уложить ручную кладь, пересчитают еще раз, проверят, чтобы все цифры совпадали. Если человек потерялся, его несколько раз окликнут по громкой связи в вокзале, и если он найдется, довезут в самолет.
А если он не найдется, надо будет перерыть весь багаж, найти его вещи (может, в них спрятана бомба), выгрузить, а уже потом выяснять судьбу владельца вещей. Этим будет заниматься служба авиационной безопасности. А вы, наконец, дождетесь закрытия дверей и останетесь наедине со своим страхом.
У вас свои страхи и опасения, у нас свои.
Тут как-то на авиационном форуме человек с апломбом и пеной у рта обвинял российских летчиков, что вот, мол, в гражданской авиации создали было серьезную систему расшифровок полетов всех воздушных судов, чтобы контролировать уровень профессионализма пилотов — так они же настолько летать не умеют, что по их требованию эту систему разрушили! Кому мы доверяем свои жизни!
Не знаешь, так молчи уж.
Я уже приводил пример, как старую пилотессу ругали за отклонение один километр в час. Вспоминаю еще один случай.
Было это в Благовещенске, там граница с Китаем проходит совсем рядом, и при заходе по схеме надо опасаться, как бы не зайти за ограничительный пеленг.
Молодой штурман-стажер перед заходом на посадку забыл переключить важный тумблер, и на четвертом развороте, когда самолет ближе всего был к китайской границе, прибор не показал, что пора разворачиваться.
Дело в том, что в Благовещенске на тот момент оставалась единственная в стране устаревшая курсо-глиссадная система СП-50, а везде уже стояли более современные системы ILS, работающие на других частотах; так вот этот, забытый штурманом переключатель как раз и должен был быть установлен обязательно в положение «СП».
Самолет шел в сторону Китая, капитан ждал, что вот-вот отшкалится стрелка… И тут диспетчер тревожно закричал, что они уже зашли за тот пеленг и фактически уже над Китаем! Штурман тут же вспомнил, что здесь же надо переключиться на «СП» — только руку протянуть… Стрелка курса скакнула до упора вправо.
Капитан рванул штурвал, чтоб энергичней довернуть и скорее вскочить в пределы родной страны. Это всего-то километр-два. Но при этом он чуть превысил крен. Расшифровка полета показала, что крен был аж 38 градусов! А разрешается не более 30.
Вот и весь инцидент. И капитану погасили талон нарушений: чтоб настраивал экипаж, чтоб думал наперед, чтоб контролировал молодого штурмана, ну, и чтоб не дергал штурвал. К полетам вблизи Госграницы надо готовиться тщательно.
Не только не разрушили систему расшифровок, а наоборот, она стала довлеть над экипажами. Чуть где в сложных условиях загорится световое табло, показывающее, что близка граница допустимого режима, — экипаж уже думает, как будет отписываться. Ему надо думать о решении задачи полета, вот сейчас, сию секунду — а он думает о репрессиях. И табло это теперь, в процессе сложного захода, горит в мозгу, отвлекая от насущной задачи сохранения безопасности полета.
Будут объяснительные, будет разбор, и беседа будет, и наказание, и меры будут приняты, и дополнительная проверка в полете, и отчет в вышестоящую инстанцию, и статистика… И если на тебя приходят и приходят расшифровки, значит, у тебя существует обширное поле деятельности в работе над собой.
Так что я бы посоветовал тому человеку, что пекся о наших расшифровках, не горячиться. Не допускают наши летчики отклонений и нарушений; ну, бывают единичные случаи.
У меня, помню, был случай: компьютер расшифровал, что я на взлете выполнил первый разворот на высоте… 198 метров, а положено на 200. И никуда не денешься: пришлось, смехом-смехом, а пройти через систему мер, призванных подтянуть мой уровень техники пилотирования. С компьютером не поспоришь, а отчитаться положено.
Вот и летают пилоты под дамокловым мечом расшифровок. И в особой ситуации полета, когда надо решительно действовать, упреждая опасность, пилот, зачастую, думает прежде всего не о деле, а о том, выпорют его или нет. Это косвенно влияет на безопасность полетов.
Так в пилотскую душу змеей прокрадывается трусость.
А пилот в воздухе не должен быть скован никакими мыслями, кроме решения задач полета.
Нам и летчики-испытатели пеняют: да что вы так дрожите перед этими табло! Надо действовать — действуйте свободно… два-три градуса крена роли не играют…
Ага. Потом будут тебя вспоминать на разборах аж до тех пор, пока у кого-то из твоих товарищей не загорится другое табло.
Вы бы хотели, чтобы давление цифр и отписок за незначительное отклонение помешали когда-нибудь пилоту, и у него дрогнула рука… с вами за спиной?
Есть еще тема, вдоль и поперек изъезженная нашими «доброжелателями». Строгое следование букве инструкции. И демагогии в этих разговорах — море. Мол, работают целые коллективы, проводятся эксперименты, летчики-испытатели дают рекомендации…
А потом практическим летчикам десятилетиями тычут в нос пункты Руководства по летной эксплуатации: вот цифры — и ни на шаг в сторону.
Особенно такой демагогией страдают молодые летчики за границей.
А практика десятков тысяч часов налета в России показывает, что в то время, когда самолет создавался, эти цифры были предположительными, а жизнь требует внести коррективы. Опытные летчики делают все по Руководству, а там, где не запрещено, действуют по наработкам многих лет практической эксплуатации машины.
Обратной же связи, учета пожеланий пилотов, проверенных в сотнях тысяч полетов, практически нет. Уже и ресурс самолета заканчивается, и вот только к концу срока, через десятки лет, начинают приходить изменения. Да мы уже давным-давно так делаем!
Ага — значит, таки нарушали букву!
Так и хочется ответить: не учите тещу щи варить. Эти отступления от буквы проверены жизнью и направлены именно на повышение уровня безопасности полета — летчики тоже жить хотят не меньше пассажиров. А иные пункты Руководства писала тетя Маша, и списывала она их с другого типа самолета. И проскакивают в документе ляпы вроде четырех двигателей на трехмоторном Ту-154. Явно видно, какая это контора писала.
Вспоминаю, как долго велись среди командно-летного состава на Ту-154 дебаты: производить ли посадку самолета с закрылками, выпущенными не полностью, на 45 градусов, а только на 28. РЛЭ не запрещало, но и не разрешало. Часть командиров считала, что нельзя: как бы чего не вышло из этой самодеятельности. Часть использовала такой способ по необходимости, а на замечания реагировала просто: я что-нибудь нарушил? Нет? Будьте здоровы.
Заход и посадка с закрылками на 28 хороши в болтанку, когда скорость прыгает и может выскочить за ограничения по прочности закрылков. При закрылках на 45 этот предел равен 300 км/час, а при 28 ограничение уходит аж до 360. Поэтому опытные наставники приучали нас к тому, что, может, раз в жизни, а придется заходить и садиться в шторм, когда скорости пляшут от 250 до 310, так давайте, учитесь с закрылками на 28, смотрите, как хорошо управляема машина, как пляска скорости теперь не напрягает пилота.
Мне это пригодилось однажды при посадке в Сочи, где всегда сдвиг ветра по береговой черте. Я решил выпустить закрылки на 28, чтобы отодвинуть ограничение по скорости. Зашел, сел… но… Его Величество Случай! — при посадке допустил досадную ошибку: резко опустил переднюю ногу и повредил ее.
При разборе этого события меня долго тыкали носом в ненужную самодеятельность: мол, лучше бы ты садился с закрылками на 45, пускай скорость выскочила бы за предел, но можно было отписаться сдвигом ветра…
Эге, ребята. А что я, собственно, нарушил? За поврежденную ногу я понесу ответственность: это ошибка; а за закрылки — извините. А не дай Бог, превысил бы ту скорость, хоть до 305 км/час… какой бы шум вы подняли, друзья: «Превысил ограничение по скорости! Нарушил РЛЭ!» И давай талончик нарушений.
Объявили мне на всякий случай замечание… а через полгода, наконец-то, из горних высей министерства пришло дополнение к РЛЭ, разрешающее заход и посадку с закрылками на 28 в нормальном полете. И все споры прекратились.
Таких казусов в руководящих документах можно найти достаточно. Мы хорошо ориентируемся в этих тонкостях, чтобы, не дай Бог, если предстанешь перед прокурором, уметь себя защитить.
Недремлющее око транспортной прокуратуры — еще один дамоклов меч. Она — ну уж в каждую щель нос сует. Да вот недавно случай был… смеялись.
Летел Ан-24 в Туруханск. На левом кресле, впервые в своей жизни, сидел командир-стажер; правое кресло занимал пилот-инструктор. А в салоне среди пассажиров сидел чиновник из туруханской прокуратуры.
Первый полет стажера с командирского сиденья — это событие. Тебе доверили управление лайнером в роли капитана. Ты сам управляешь машиной на рулении. Когда ты летал вторым пилотом, учиться рулить по земле тебе было невозможно: штурвальчик управления передней ногой на Ан-24 стоит только на левом пульте; ты мог только приглядываться. А тут бери и рули, сам, а дядя справа только голосом может подсказать; ну, если экстренно, возьмет управление тормозами на себя и остановит самолет.
А рулить на Ан-24, кто знает, дело непростое. Дело в том, что от момента, когда ты дашь газ, до полной загрузки винтов проходит несколько секунд, а загрузку винтов надо чуять и регулировать. Короче, инструктор был начеку.
Стажер уверенно посадил машину в Туруханске, затормозил, под диктовку инструктора аккуратно развернулся на 180 и подкатил к отходящей от полосы вбок рулежной дорожке.
Предстояла задача: с сухого бетона срулить под 90 градусов на покрытую укатанным снегом рулежку. Инструктор спокойно диктовал: «Вот, добавь левому, теперь правому, разворачивайся, потихоньку, поехали… Куда, куда? Стоп! Взял тормоза!»
Самолет-то развернулся и с полосы срулил, а на рулежной дорожке был слой льда, присыпанного снегом, и от небольшой асимметрии тяги (загрузку винтов чувствовать надо!), его стало стаскивать с рулежки вправо. Инструктор убрал газы, перехватил тормоза и остановил машину, но переднее колесо все-таки съехало на обочину рулежки на 50 сантиметров.
Инструктор доложил диспетчеру, что на гололеде машину стащило, вызвал буксир.
Самолет дернули назад, через 22 минуты экипаж запустил двигатели и зарулил на перрон, причем, инструктор высадил стажера, сел на левое кресло и управлял уже сам. Ну, бывает… Главное, диспетчер сам не знал, что там гололед, и не предупредил экипаж.
Вот и вся история. Ни повреждения самолета, ни какой-либо опасности пассажирам, ни задержки рейса не было. Инструктор принял решение лететь по расписанию домой.
Но среди пассажиров же сидел чиновник из районной прокуратуры. Через два дня он позвонил в краевую прокуратуру, знакомому: вот, вторую ночь не сплю, трясусь… пью валерьянку, чуть не убили… разберись там с ними.
Краевая прокуратура послала запрос. И завертелось. А поч-чему это вы не доложили о серьезном инциденте, могущем повлечь за собой жертвы? Разобраться, прав или виноват экипаж, — и наказать!
Мордовали экипаж. Называется: служебное расследование.
Тут тонкость какая: событие, по нашим авиационным правилам, не подпадает вообще под какое-либо расследование. Это ничто, тьфу. Стажер, первый раз в жизни, рулил по гололеду, спрятанному под снегом, ошибся; инструктор использовал все имеющиеся у него средства и попытался ошибку исправить. Все это произошло не на пробеге, не при сруливании в конце пробега с полосы, то есть, не в процессе полета, — нет, это уже было после освобождения самолетом полосы, хвост самолета после остановки был 12 метров за полосой, на рулежной дорожке.
Не подпадает. Даже инспекция управления ГА послала запрос в Москву: как быть — прокуратура настаивает на наказании, а юридического основания нет.
Москва и до сих пор молчит. Есть, мол, документы, действуйте по ним, нечего ерундовые вопросы задавать.
Нет, прокуратура таки настаивает: наказать инструктора штрафом. Почему допустил? Почему не вмешался? Обязан, по должностной инструкции! Несешь ответственность за безопасность полета, независимо, сам ли управляешь самолетом или стажер.
Только безопасность-то — не нарушена. Ну, не подпадает.
Мы объясняем прокурору: ну, нет на Ан-24 справа органов управления передней ногой. Ну, такой самолет. И так спасибо, что инструктор успел остановить без последствий.
Нет, наказать. Отстранить инструктора от полетов.
Инструктор, кстати — один из лучших на этом, уже уходящем типе самолета, Пилот от Бога, с налетом 18000 часов. Он столько за свою жизнь этих молодых капитанов ввел… Смеется: «первый раз, что ли». Заплатил штраф и снова себе летает.
Я сам, в таких же условиях, занимался таким же трудом, только на Ту-154. И там тоже нет справа органов, только тормоза. И уж хорошо знаю кухню.
А как иначе ты его научишь. Тем более, зимой, тем более, по гололеду.
Нет, ну, в кабинете, покуривая, оно можно и поучить. И штраф выписать.
Вот такими делами прокуратура завалена. Имитация бурной деятельности на фоне пассажирской истерики.
А сколько нелепых жалоб от достаточно влиятельных пассажиров поступает в авиакомпании — с требованиями: «Наказать! Этот экипаж вообще летать не умеет! Я проконтролирую! Будете знать у меня!»
Ему, видите ли, показалось, что его чуть не убили.
Так и хочется сказать этому, влиятельному: прекрати истерику и не мешай летчикам работать. Вас, таких умников, много, а ребятам лететь в ночь, а им теперь не спится… пойдут в полет неотдохнувшими.
Генеральный директор авиакомпании вынужден что-то отвечать этому, воротиле. «Виноваты-с, накажем-с…»
Хотя объективных материалов, подтверждающих, что экипаж хоть что-то нарушил, нет. Экипажу эта новость — как снег на голову. Вот ребята и не спят, ворочаются, роются в памяти, выискивая несуществующие нарушения. Гложет обида.
Уважаемые пассажиры. Для жалобы должны быть объективные, документально подтвержденные основания. А всякие «мне показалось», «я своими глазами видел», «самолет чуть не налетел» — все это субъективные ощущения постороннего некомпетентного человека.
Сколько грязи выливается на пилотов, сколько им нервов истреплют… и ведь ни за что. А им завтра вас за спиной везти.
А эти чиновники из транспортной прокуратуры все не унимаются. Теперь вот прислали бумагу с указанием: наказать экипаж дисциплинарно. И инструктора, и стажера… за первый свой учебный полет.
Но административно наказывать-то не за что. Надо же писать в приказе: «в нарушение пункта…» А нарушения пункта — нет.
Что за прокуроров мы кормим, граждане?
Просто факты
Летели мы как-то в Москву. Самолет был загружен под завязку, и проводницам нашим уж было работы с пассажирами. Пассажир, он же кого хочешь достанет, особенно в подпитии.
Но в те времена пить на борту запрещалось, хотя люди умудрялись.
Среди пассажиров летела и группа артистов, возвращавшаяся с гастролей. Какие-то холеные цыгане, московского разлива, может, из «Ромэна». Их импресарио, или антрепренер, короче, вожачок, вел себя развязно. Видать, чесанули на периферии неплохо, и он, весь в счастье, уже подсчитал дивиденд.
Может это, а может, просто воспитание (кровь ведь — великое дело!) — толкали его на подвиги, да и алкоголем припахивало: видать они аккурат перед посадкой в самолет не слабо дерябнули.
Короче, достали они наших девчат. Слово за слово, потом уже и руками — двое наших парней-проводников встали на защиту девчат. И уже чуть не до драки.
Я не шовинист, но цыганскую натуру в условиях полной безнаказанности знаю. Да и вы знаете. Уже и пассажиры вступились, уже за грудки стали хватать друг друга… В салоне поднялся цыганский коллективный крик. Короче, плачущая девочка-бригадир по внутренней связи доложила мне обстановку.
С нами еще летел проверяющий, тишайший, вежливый человек, прекрасный инструктор, он делал мне какую-то очередную обязательную проверку. Второй пилот сидел за спиной без дела и скучал после сытного обеда. Его мы и отправили в салон разбираться.
В процессе этой разборки с пассажирами, на требование прекратить безобразия, экипажу было сообщено, что «мы к вашему министру ногой дверь в кабинет открываем», и что вообще «будете уволены».
Леша Бабаев, мужик, тертый жизнью, не стал спорить, сжал губы, молча прошел в кабину. Уже прослушивалась Москва. Он связался с диспетчером и вызвал к трапу наряд.
Как только открылась входная дверь и в салон ввалились трое крепких ребят с автоматами, с нашими цыганами произошла мгновенная, разительная перемена. Сладчайше-панибратским тоном ребятам-проводникам и подошедшему второму пилоту было похлопано по голяшке: «Да все хорошо, да никаких претензий, да молодцы, как хорошо довезли, да чего в жизни не бывает…» Десятки золотых зубов ощерились в подобострастии.
Но Леша, взглянув на размазанную тушь под глазами девчат, которым никто не удосужился принести извинения (кровь таки — великое дело!), — стиснул зубы и сказал буквально следующее:
— Раньше надо было разговоры разговаривать. Теперь я вас, сволочей, посажу. Пусть вас ваш кореш, министр, выручает.
Он пошел в отделение милиции, написал там заявление, и артистов упекли. Статья такая в Воздушном Кодексе есть, что можно привлечь.
Потом специально заходил узнать: таки дали тому руководителю три года, правда, не уточнили, реально или условно.
А то был случай с новым русским. Они тогда все ходили в малиновых пиджаках и гнули пальцы, в аэропорту — так начиная от самой кассы.
Тогда еще не было бизнес-класса, и приходилось летать в демократических условиях.
Вот и сцепился этот бизнесмен сначала с дежурной по посадке — еще на верхней площадке трапа, — а потом, давя массой, чуть не по головам влез в салон, всем видом показывая свою крутизну и что ему законы не писаны. Пьян был прилично, но еще держался. Они в то, пока еще строгое в аэрофлоте время, выпивали из горла бутылку вискаря прямо в накопителе, и развозило их как раз перед взлетом.
Проводницы наши, предчувствуя кучу проблем и прикрываясь инструкцией, отказывались брать пьяного. А он хмелел все сильнее и вел себя уже как слон в посудной лавке: свалил контейнер с посудой, оттоптал ногу ребенку, и все орал; посадка пассажиров застопорилась. Кричала дежурная, что-то сообщала по мобильной рации, видать, милицию вызывала. Естественно, ей уже пообещано было скорое увольнение и волчий билет… но наших дежурных надо знать: они далеко не робкого десятка и умеют справиться и разрулить ситуацию. Но тут она чуть поддалась и позволила этому жирному затылку влезть и раскорячиться в вестибюле. Запахло задержкой рейса.
Жирный затылок уже собрался согнать кого-то с первого ряда кресел, как вдруг перед ним предстал наш штурман.
Комично было смотреть, как субтильный и не очень из себя видный Филаретыч преградил дорогу этому бегемоту. Тот уставился на внезапно возникшее препятствие: какой-то сморчок… в пуп дышит. Послать его…
Эх, парень. Не знал ты, кому попался на зуб. Наш Виктор Филаретыч Гришанин, потомственный летчик, человек с очень непростым характером и сложной летной судьбой, на долгом пути к креслу штурмана прошел этапы: курсант летного училища, списали по язве, освобожденный комсорг авиапредприятия, восстановился по здоровью, бортпроводник, бортрадист — и, наконец, штурман лайнера; тридцать лет — и все с той же язвой. Перипетии и хвороба закалили его характер до железной твердости, и уж с людьми он, хоть и коряво, работать научился.
Корявость общения выражалась у него так. Сначала он, выставив клином сухощавую грудь, измерял оппонента соколиным взором с ног до головы. Потом выкатывал тырлы. Потом разевал хайло. И вполне литературным, но очень экспрессивным языком выказывал человеку все, что он о нем думает.
Это выглядело, примерно, в таком ключе: «Ты! Мне! Тут! Указывать собрался? Ну-ка! Мигом! Мухой! ВОН!!! Из самолета! ТАМ будем разговаривать!»
Обычно, в мелком конфликте этого вполне хватало: оппонент тушевался перед темпераментом вытаращенных тырл и выразительной лексики и с извинениями выполнял указания.
Здесь же столкнулись напор нетрезвого, наглого, но весьма энергичного бизнесмена и святое возмущение бывшего бортпроводника, а нынче навигатора, перевидавшего уж всяких пассажиров. Коса нашла было на камень.
Но штурману надо же было пройти на свое рабочее место! Он и прошел. Элементарно.
Конец этой истории рассказала проводница, с которой он еще в одной бригаде летал:
— Витенька, молодец, вспомнил молодость, спасибо, выручил. Как он его на трап выставил! А тут и сержант подъехал; так тот мигом протрезвел: чуть не на коленях уговаривал не ссаживать. У него там деловая встреча намечалась, большие деньги… А — не пей!
Филаретыч молчал, курил. Потом засмеялся:
— Не, ну, главное, когда он понял, что мы его здесь оставляем, и не уговорить, — он мне угрожать начал! Мол, тебя после рейса встретят… Я ему сказал, что я сын летчика, и у меня сын тоже летчик, и командую в самолете я — а такое дерьмо как ты, я стряхиваю и забываю. Напугал! Человеком надо быть, а не свиньей. Деловые, блин… пальцы гнут.
Я представил, КАКИМИ железными словами и в каких образах наш Засушенный Геракл, сорока семи килограммов весу, это наглецу СКАЗАЛ!
Потом, успокоившись в полете и ощупывая локатором небо в поисках гроз, Филаретыч признался:
— Знаешь, что-то к старости побаиваться я стал. Грозы эти… Так все ничего, а грозы… Старею. Суетюсь.
Уважаемые пассажиры, только, пожалуйста, не торопитесь утверждать, что летчики — хамы.
Был у меня командиром на Ил-18 старый летчик Иван Владимирович Чертусёв. Возраста он был почтенного, прихрамывал на одну ногу, был тяжеловат характером и не любил, когда ему говорили поперек. Споры с занозистым штурманом частенько пресекал громовым: «На самолете один командир, и командир этот — я!» И вечно курил «Беломор», одну от другой.
Снижались мы однажды с ним в Хабаровске. Был жаркий июльский день, над аэропортом только-только прошла гроза; лучи солнца яркими снопами пробивались сквозь разрывы уходящей тучи и расстилали по влажной земле золотые пятна света.
Дальневосточные грозы надо знать. Там уж, когда начинается сезон дождей, все заливает, реки выходят из берегов; да просто попасть под ливень — и то никому не желательно. Уж очень большая масса воды обрушивается на землю.
Наш лайнер допилил до хабаровской схемы как раз к открытию аэродрома. Руководитель полетов мотался по полосе, замеряя слой воды, который не должен превышать норму. Это необходимо делать для того, чтобы избежать глиссирования самолетных колес по слою воды на разбеге и пробеге.
Если перед колесом, катящимся на большой скорости, уплотнится слишком большой клин воды, машину поднимает на несколько миллиметров, и она моментально теряет сцепление с бетоном, даже колеса под воздействием гидродинамических сил могут начать крутиться в обратную сторону. Слететь с полосы в таких условиях — раз плюнуть.
Старому капитану, с которым я полетал уже достаточно, показалось, что, по таким условиям — самое время дать волчонку понюхать, как пахнет водичка на полосе. Я к тому времени летал уверенно, надо было учиться решать новые задачи.
Пока мы кружили в зоне ожидания, дед провел предпосадочную подготовку, со всей обстоятельностью, настроил меня на строгое выдерживание параметров, главное, на выдерживание створа полосы, наговорил про центр тяжести, особо — про торможение.
Руководитель полетов все никак не мог намерить на полосе положенные пятьдесят миллиметров воды: бетонка была залита и вода не успевала стечь. А с китайской стороны находила новая гроза. Топлива же у нас, хоть это и безразмерные баки Ил-18, было в обрез.
Как раз в это время у нас в отряде шла эпопея чтобы лишний керосин не возить: мол, каждая лишняя тонна веса — перерасход топлива. Поэтому у нас в баках керосинцу было аккурат до запасного, Комсомольска на Амуре, ну, еще маленькая заначка. И вот мы на кругах это топливо потихоньку выжигали.
Чертусев, с каменным лицом, прикидывал варианты: плюнуть и уйти в Комсомольск или таки дождаться, пока стечет вода с хабаровской полосы.
Тем временем гроза подошла, и край ливневого столба уже коснулся Амура с той стороны.
Нас было два борта на кругу, и этот второй борт занервничал и стал торопить диспетчера скорее разрешить заход на посадку. Диспетчер сказал обычное в таких случаях: «Минутку»… и вдруг сообщил пренеприятнейшую новость: Комсомольск, наш официальный запасной, только что передал, что у него «гроза над точкой» и он закрывается.
Борт, летавший за нами, не стал испытывать судьбу и тут же взял курс на Благовещенск. У него-то топлива, видать, хватало, да и прогноз Благовещенска был хороший.
А нам уже никуда не хватало: не лезть же на рожон в грозу в Комсомольск, когда здесь можно извернуться между двумя грозами… собственно, это был единственный вариант.
Руководитель полетов нервничал. Вода никак не хотела скатываться с полосы. В пологих углублениях бетона стояли лужи, по уклонам журчали ручьи, с Амура надвигался новый ливень, а над головой болтался борт с сотней пассажиров, без топлива, ему некуда было деваться, и надо было его сажать здесь, и быстро. Причем, все данные по погоде и полосе должны к моменту посадки быть в норме, иначе это уже будет не посадка, а, по аэрофлотским правилам, предпосылка к летному происшествию, авиационное событие, подлежащее расследованию. И тогда спросят со всех: как же это у вас так получилось, что борт сел с нарушениями на основном аэродроме, а не ушел своевременно на запасной и не сел там… в грозу.
Надо было брать на себя.
А грозу подтащило уже к кругу полетов, и нам пришлось слегка уворачиваться, помня, что сейчас закроется и…
Ну, что ты там раздумываешь!
И тут же диспетчер вызвал нас и сообщил, что полоса покрыта слоем осадков толщиной 50 мм, ну, и, как водится: «Ваше решение?»
— Садимся, — буркнул в эфир дед и тут же дал команду: — Шасси выпустить!
«Только бы ветер не сменил направление!» — думал каждый из участников события. — «Только бы не пришлось старт менять!»
Времени на смену старта и заход с другой стороны уже не оставалось.
Молнии лизали уже наш берег Амура; столб ливня подходил к противоположному торцу полосы. Мы висели на четвертом развороте.
— Ну, теперь спокойно, — сказал командир. — Будет сдвиг ветра; над торцом может поставить «буквой зю». Можем вскочить в ливень; дворники — включить на максимум. Бортмеханику насчет двигателей: «внутренним — ноль» — ставить строго по команде. По команде! А ты, — он повернул железное лицо ко мне, — ты пилотируешь; я буду страховать. И чтоб мне створ держал! Штурману: докладывать высоту после пролета торца — строго по радиовысотомеру, и громко!
Столб ливня двигался по диагонали, треть полосы уже была закрыта; мы висели на ста метрах, посадка была разрешена. Дворники с визгом елозили по сухому стеклу.
— Решение? — голос штурмана был строг и требователен.
— Садимся!
Я мелкими кренчиками держал ось полосы. Ось эту было видно только наполовину, дальше ее закрывал столб ливня, но мне хватало.
Под нависшим облаком быстро темнело. Заранее освещенные приборы ярко светились фосфорным светом в сумерках кабины.
Штурман, как положено, громко докладывал параметры полета:
— Семьдесят, скорость двести шестьдесят! На курсе, на глиссаде! Пятьдесят, скорость двести шестьдесят! Тридцать! Пятнадцать! Торец! Десять! Пять! Три! Два! Два!
И тут ударил ливень. Как будто стекло закрыли полиэтиленовой пленкой, сквозь которую едва просматривалось по две пары желтых трепещущих световых пятен на обочинах — больше не видно было ничего. Кабина тряслась. Я замер.
Самолет бросило на крыло. Мы с командиром одновременно крутанули штурвалы в противоположную сторону; на пальцах чувствовалась дрожь живого потока. Машина выровнялась.
— Два метра, два метра! — четко звенел голос штурмана, стоящего в проходе за спиной бортмеханика и не сводившего глаз с тоненькой стрелочки радиовысотомера.
— Внутренним — ноль!
Я выждал секунду, чуть подхватил — и тут же почувствовал на штурвале железный упор страхующих капитанских рук. Секунда — и мы плюхнулись.
— Всем ноль, с упора! — прогремел голос деда. — Держать направление! Держать! Не тормозить!
Машина, упершись пропеллерами в дождь, тормозилась сама.
Ничего не было видно впереди. Только выплывали по бокам желтые световые пятна, периодически пропадающие в слепящих электрических вспышках. Дворники перемешивали густой слой воды, которая облепила стекла как киселем.
Самолет чуть водило. Он явно скользил на тонком клине воды под колесами.
— Ногами не сучи! Не тормози, не тормози, терпи, пока она зацепится!
— Двести! Сто восемьдесят! Сто шестьдесят! Сто сорок!
Наконец вроде бы побежали как обычно. Почувствовались стыки. Передняя нога стала реагировать на отклонения штурвальчика.
— Вот, теперь притормаживай. Закрылки убрать. Штурман, доложи посадку.
Диспетчер дал команду освобождать полосу по второй рулежке и тут же добавил: «Гроза над точкой». Бесстрастный магнитофон зафиксировал: мы таки сели «до грозы» — никаких нарушений.
— Вон, справа рулежка! Ну и лупит!
Мы зарулили на перрон по морю воды и выключились. Рев винтов сменился раскатами грома. Молнии били вокруг, яркие белые сполохи рассеивались в дожде, заливая все вокруг мертвенным светом. За окнами быстро светлело, ливень перешел в дождь, и когда винты остановились, уже едва моросило. К моменту, когда под крыло подплыл трап, солнце осветило море воды вокруг. Гроза пронеслась за десять минут.
Подплыл автобус, к самому трапу. Пассажиры ворча прыгали с нижней ступеньки в коробку автобуса, на руках передавали детей. Кого-то тошнило через поручень.
Пассажиров увезли, и больше к стоящему почти по оси в воде самолету никто не подъехал.
Мы вышли на трап: вода рекой уносилась по перрону. От мокрых деревьев под лучами июльского солнца поднимался пар. Влажный воздух был напоен ароматом аэродромных трав; дышалось с наслаждением.
А — хрен с ним, — в голосе командира звучало глубокое удовлетворение от сделанного дела. — Ноги горят… Пошли!
Он кряхтя стащил башмаки, сунул носки в карман, засучил штаны, закурил папиросу и шагнул в теплую чистую воду. Я последовал за ним. И мы, босиком, с башмаками в руках, поплелись по водичке в АДП. И так приятно было натруженным подошвам, которые ласкали струйки воды, нагретой от раскаленного бетона, так свежо было вокруг, так сияло солнышко, так пело сердце от доверия капитана, от того, что я не подкачал и справился… На всю жизнь запомнил я этот полет в Хабаровск.
— Нормально, — не спеша говорил капитан между затяжками. — Створ держать умеешь. А вот добирать перед касанием не надо. Пусть она плюхнется в воду: скорее продавит до бетона, зацепится резиной. — Он ухмыльнулся: — Хор-рошая трепка! И РП молодец: молчал, пока не сели. Схожу на вышку, скажу ему пару добрых слов от экипажа.
Руководитель полетов сам опомнился, примчался за нами на машинке; усы фонтанов разлетались из-под колес. Мы залезли в нее босиком. На лбу мужика блестел пот. Мы пожали руки, поблагодарили за грамотное решение. Он спросил:
— Ну как? Таскало?
— Нормально. Но тянул ты время, брат, тянул… я понимаю.
— Да… думал же, стечет, а тут, вижу, новая гроза подходит. Ну, деваться некуда: дал «слой воды пятьдесят». Стоял, смотрел, как вы садитесь… да ни хрена не видно! Ну, слава Богу, справились, молодцы, — скороговоркой выпаливал диспетчер. — Нет, ну картинка: экипаж босиком по перрону… в фуражках! Кино!
Он отер пот со лба и засмеялся — возбужденным, счастливым смехом человека, которого благополучно миновала внезапная опасность.
Спустя несколько лет, уже на Ту-154, вместе с любимым капитаном Вячеславом Васильевичем Солодуном, Человеком с большой буквы и пилотом от Бога, отбивались мы в симферопольской аэродромной конторе от какого-то бюрократа, зацепившегося за закорючку в бумагах и трактующего ее так, что вылетать нам было никак нельзя.
Требовалось связаться по телефону с Красноярском, вызвать начальника, чтобы он устно что-то подтвердил. Экипажу же бюрократ не верил.
В Красноярске была еще ночь, начальство отдыхало; корячилась задержка.
Вячеслав Васильевич, мягчайший, добрейший, вежливейший, порядочнейший человек, обладающий талантом наставника, умеющий растолковать, убедить, расположить к себе человека, — час бился в чугунную душу чиновника. И когда, весь красный, выскочил из кабинета, хватаясь трясущимися руками за кобуру пистолета, я испугался.
— Слава, Слава, да успокойся ты, да не трать нервы на этого… да ты что! — я схватил его за руки и почувствовал внутренний гул: как будто трансформатор сидел внутри человека, готовый вот-вот взорваться. — Нам же еще в санчасть! Слава! Слава!
— Вася, ну что за люди! Ну как же так можно! Какая сволочь! Вася! — командир растерянно смотрел на меня. — Ведь он все понимает! Сволочь! Убить…
Я как мог успокоил своего инструктора. Он как-то осел, бесцветным голосом, полным безнадежности, прошептал:
— Эх… книгу бы про это написать…
Вопрос решился в кабинете сменного начальника аэропорта за две минуты. Задержка была никому не нужна, человек, бывший летчик, взял ответственность на себя: мелочь была несущественная. При нас снял трубку и отчитал того чиновника как положено.
Я все боялся, что командир не пройдет санчасть, потом опомнился: мы же отдыхали в профилактории, там же уже и предполетный медосмотр прошли. Вот ведь как вышибает внезапная заморочка на земле — а нам же еще в полет!
А уж грозы в тот день по трассе были! Как на заказ. Мы заходили в Актюбинске между столбами ливня, молнии стегали землю по сторонам под синими тучами, и мне, молодому капитану-стажеру, было страшновато, но инструктор так доходчиво, наглядно и убедительно подтолкнул меня к якобы самостоятельному решению, что я извернулся и примостил лайнер на влажную полосу, как пушинку. И только поразился тому, как этот же человек еще пять часов назад трясущимися руками хватался за кобуру.
Филаретыч, штурман мой верный, рассказывал, как однажды, еще радистом на Ил-14, попал он в переплет. Везли полный самолет пассажиров из Кежмы в Богучаны, и на снижении, уже на прямой, после выпуска шасси, не загорелась одна лампочка. Не вышла нога.
Если бы не вышла передняя, то выпустить ее можно было бы из кабины, вручную, открыв лючок в полу, вытолкнув и поставив ногу на замок выпущенного положения специально для этого предусмотренной на борту аварийной штангой, которая хранится в кабине.
Но тут-то не выпустилась основная нога.
Прошли над стартом, диспетчер подтвердил: таки правая нога не вышла, и створки гондолы шасси закрыты. Явно что-то с замком. Может, заело.
Особый случай полета. Внутри, конечно, холодок. Давай читать Руководство. Там все расписано на такие случаи: как приземляться, как поддержать креном и катиться на двух ногах, когда выключать двигатели, как укладывать машину на крыло и т. п. А то ведь, не дай Бог, что-нибудь сделаешь не по Руководству, или, еще хуже, забудешь выполнить какую-нибудь из его рекомендаций, — получишь потом по полной программе.
Пассажиров, естественно, проинструктировали. Бортпроводников к этому времени на Ил-14 уже не предусматривалось, потому что времена, когда он был лайнером и летал через всю страну, миновали. Поэтому радист, как наиболее свободный член экипажа, вышел в салон и провел среди пассажиров работу, заключающуюся, в основном, в проверке, хорошо ли затянуты ремни. Инструктаж был короток: принять рекомендуемую позу (он показал какую), не отстегиваться до полной остановки самолета на земле, а после остановки ждать команды члена экипажа на выход.
Сначала, как водится, капитан попытался выронить из ниши застрявшую ногу, создав в полете перегрузку, то есть, на снижении крепко потянув на себя штурвал. Пассажиров в сиденья вжало, а нога шасси все равно осталась на замке.
Потом он попробовал подойти к полосе на минимальной высоте, с кренчиком на выпущенную ногу, пристукнуть ею о землю и уйти на второй круг. Из этой затеи тоже ничего не вышло: стукнули и ушли, а нога все так же покоилась в нише.
Да оно ничего и выйти не могло, потому что замок крепко удерживал ногу в убранном положении, а тросик открытия замка, как потом выяснила комиссия, то ли оборвался, то ли болт его крепления к замку лопнул.
Посовещавшись с экипажем, командир решил сажать самолет на брюхо, с убранным шасси. Риск повредить самолет при этом минимален: ну, лопасти винтов погнутся. Касание о землю произойдет гондолами шасси и хвостовой частью фюзеляжа; низко расположенное крыло не даст машине опрокинуться.
Если же садиться на левую и переднюю ноги, неизбежен увод самолета в конце пробега на обочину, а затем — касание и последующее разрушение крыла, вокруг которого самолет обязательно крутанется перед остановкой.
Было выработано топливо, почти до конца, чтобы уменьшить вероятность возгорания при возможном разрушении конструкции.
Аварийная посадка самолета с убранным шасси производится не на бетон, а на предусмотренную для таких случаев грунтовую полосу.
Эта грунтовая полоса была вообще единственная в Богучанах: хрящеватый каменистый грунт с вкрапленной в него укатанной галькой. Хорошо бы было после дождя: грунт немного размокал, колеса шасси наматывали его вместе с галькой, разбрасывали по сторонам; иногда галька била винты, и их потом аккуратно запиливали.
Но в этот раз стояла сушь, и вероятность возникновения случайной искры от трения металла по сухой гальке была высокой.
Наконец, все было готово. На перроне стояли рядом скорая помощь и все имевшиеся в поселке пожарные машины. Масса зевак, привлеченных невиданным зрелищем, висела на заборах.
Как рассказывал потом радист, страшнее всего ему было, когда двигатели выключились и лопасти винтов повернулись во флюгерное положение, чтобы поток их не раскручивал. Наступила тишина, чуть разбавленная шумом раздираемого воздуха. Вот этот момент он вспоминает до сих пор с содроганием.
Потом чиркнуло. Потом еще раз, еще — капитан таки притер самолет на брюхо. Машина загрохотала.
И вдруг за окном полыхнуло. Естественно, в каждой голове мелькнуло: «Ну, все!» Только пассажиры сидели в рекомендуемой позе, головы на коленях, прикрытые руками, поэтому они пламени не видели. Да оно и лучше.
Филаретыч же, из своей кабинки радиста, слышал грохот, видел сноп пламени и, естественно, посчитал, что самолет загорелся и надо будет срочно эвакуировать пассажиров. Он расперся в кабинке руками и ногами, приготовившись, как только самолет остановится, прыгнуть к входной двери вперед пассажиров и открыть ее, а то бросятся без команды и со страху передавят друг друга.
Самолет, скрежеща брюхом по камешкам, катился по гальке как на шарикоподшипниках. Но это продолжалось всего несколько секунд. Довольно резкое торможение, остановка — и все заволокло черными клубами.
«Ну, все, пожар!»
Но нет — это оказалась пыль, которую свернувшиеся лопасти, как совки, обильно скребли вместе с камнями. И такое облако поднялось, что и народ подумал, не загорелся ли самолет.
Потом зрители рассказывали, какой эффектный сноп искр шваркнул из-под крыла на пробеге. Но обошлось.
Пожарные машины рванули по полосе вдоль следов ползущего самолета, за ними следом побежало все, что могло бежать.
Когда пыль стала рассеиваться, подбежавшие увидели в проеме пассажирской двери ну вылитого негра, улыбающегося во все 32 стучащих зуба. В те давние времена у Филаретыча еще были свои зубы… эх, у кого они нынче остались…
Да и пассажиры выглядели не лучше: под вскрывшимися от вибрации и слетевшими панелями пола пыли тоже хватало, а страх оросил их лица обильным потом.
Внешние повреждения после такой посадки оказались минимальны: погнутые лопасти винтов, стесанные створки гондол шасси и обтекатели маслорадиаторов, ободранная на брюхе обшивка, сорванные антенны. Через неделю самолет поставили на крыло, и он улетел своим ходом в ремонт.
А пассажиры этого рейса, без истерики, молитв и целования матери-земли, пересели в прилетевший резервный самолет и благополучно отбыли в Красноярск.
Фатализм, что ли такой был.
Командира корабля, Анатолия Корнейко, даже как-то официально наградили: нагрудным знаком «Отличник Аэрофлота», что ли. Филаретыч правильно хвалил капитана: Толя летать таки умел.
А вы говорите, наши, мол, летать не умеют, а вот немцы…
Юрий Васильевич Чикинев, опытный и очень грамотный пилот, пришел на «Тушку» с «Фантомаса», грузового Ан-12, на котором в свое время набрался хорошей практики принятия решений. И когда я сел к нему на правое кресло, прежде всего, поразился тому, как капитан знает РЛЭ: почти наизусть. Я и сам неплохо разбирался в Руководстве, но кроме Чикинева — ну, разве что еще пунктуальнейший Солодун так хорошо эту книгу знал.
Практическое применение предельных режимов нам пришлось применить в одном из первых же совместных полетов.
Вылетали из Симферополя на Сочи. Такой рейс был тогда из Крыма до Красноярска: через Сочи-Актюбинск. Взлетели курсом на юг и пошли через Ялту в море.
Не долетая до Ялты, не набрав еще положенной высоты 3300, мы услыхали стук в дверь. Ну, граница на замке — мы строго выполняли требования инструкций по безопасности. Бортинженер глянул в глазок: к нам ломилась бригадирша бортпроводников. Он открыл дверь.
— Командир, — задыхающимся голосом выдавила стюардесса, — в заднем салоне баня! Дышать нечем! Пассажиры рвутся вперед… дети у них ревут!
— Стоп! — капитан обернулся к бортинженеру. — Володя, что там у тебя? Быстро сбрось тепло!
Бортинженер как раз переключился с автомата на ручное управление заслонкой отбора горячего воздуха и пытался загнать ее на холод. По термометру видно было, что в задний салон подается воздух с температурой 110 градусов. Он давил и давил нажимной переключатель, но температура не хотела падать. Видать, заслонку заело в открытом положении. Несколько секунд он бился с переключателями.
Бортпроводница стояла в дверях и то пыталась вглядеться через плечо бортинженера в злополучный термометр, то оглядывалась в салон, где вдали уже копошилась в проходе масса людей, сдерживаемая двумя девочками-стюардессами.
— Командир, ничего не получается! — бортинженер дергал туда-сюда злополучный тумблер. — Уже сто двадцать! Зажарим людей!
Ударила по ушам сигнализация отключения автопилота: командир резко сдернул газы и заломил вираж на обратный курс.
— Доложи: срочный возврат из-за отказа системы кондиционирования! Вынужденная посадка! Высокая температура в салоне! Проводникам: держать людей любой ценой! Не давайте им бежать из хвоста! Что хотите, делайте! Пусть потерпят, пять минут! Пять минут всего — и мы сядем! Только удержите их в хвосте! Давай! — Чикинев говорил быстро, не оглядываясь: все его внимание было поглощено пилотированием.
Я запросил у подхода снижение и заход, по возможности, с прямой, объяснил ситуацию.
Ситуация, и впрямь, была угрожающая. Вытесняемые жарой пассажиры уже теряли самообладание; еще минута — и паника могла охватить полторы сотни людей. Если бы толпа хлынула вперед, где холоднее, центровка самолета нарушилась бы настолько, что приземлиться было бы невозможно: никаких рулей не хватило бы приподнять перед приземлением тяжелый нос машины, так бы и врезались в бетон передней ногой, а это, на скорости 260 — верная смерть.
Проводница оказалась женщиной с крепким характером, умеющей в трудную минуту действовать решительно, как это уж умеют делать наши российские женщины. Там где какая-нибудь американка только пронзительно визжала бы и искала широкую спину своего недобритого мачо, — наша схватила с полки аварийный мегафон, сорвала чехол, оттолкнула привставших было с ближних кресел бледных мужиков — и рявкнула!
Самолет на секунду притих. Из пилотской кабины плохо слышно было в открытую дверь, что именно было сказано пассажирам. Но сказано было — властно, внушительно, бескомпромиссно! Всем сидеть! А то я вас… — и по этажам!
Они ведь тоже профессионалы — наши русские девчата. Панику в салоне они решительно предотвратили. Нашли и слова, и тон, и взгляд. И народ, наш, русский терпеливый народ, понял, сжался и таки высидел на местах.
На кругу давали попутный ветерок, чуть больше нормы, садиться с обратным курсом вроде как и нельзя, но тут не до нюансов. Подумаешь — лишний попутный метр в секунду: не пять, а шесть. В некоторых случаях допускается и десять. Полоса в Симферополе длинная, для пробега хватит.
Капитан давил штурвал, разгоняя скорость до 600. Высота падала; он считал в уме вертикальную скорость снижения и удаление по рубежам. Скорее, скорее!
Симферополь дал заход с прямой, и все интересовался, как обстановка. Я отвечал, что пока держимся.
— Подсчитай-ка посадочную массу и скорость на глиссаде, — озадачил меня командир. — Уложимся в восемьдесят тонн?
Я лихорадочно прикидывал: взлетная масса — восемьдесят три, сожжем… сожжем… тонны три… получается… получается… как мысли разбегаются… кажется, уложимся. Так, скорость, скорость… грубо 270… ветерок попутный, длина пробега…
Не отрываясь от пилотирования, командир начал предпосадочную подготовку. Он хорошо понимал, что в запарке можно что-то важное упустить, и только слаженная работа и взаимоконтроль экипажа гарантируют безопасную посадку.
— Внимание, экипаж, — он выдавливал слова сквозь сжатые зубы. — Посадка в Симферополе, заход с прямой, посадочный курс… погода соответствует, эшелон перехода… давление установить не забудьте, и, главное, карту, карту — строго выполнять!
Он успел подготовить экипаж, рассчитал в уме рубежи гашения скорости, и пока мы со штурманом вели связь и читали карту, в точно отмеренную секунду подтянул штурвал на себя. Я, сидя за вторым штурвалом, мысленно участвовал в процессе гашения скорости и готов был подхватить управление, если бы понадобилось. Но капитан справился сам.
Строго по рубежам были выпущены шасси, закрылки; к этому времени нам переключили систему, и как только крест стрелок установился в центре, скорость была погашена до расчетной.
Конечно, прошло больше обещанных пяти минут. Мы только на глиссаде висели две бесконечные минуты. А как они тянулись для бедных, смертельно перепуганных пассажиров… А для наших мужественных бортпроводниц!
Юрий Васильевич мастерски посадил машину, закончил пробег, развернулся и отправил бортинженера в задний салон, чтобы тот открыл аварийные выходы для вентиляции. В салоне была баня, пассажиры круглыми глазами смотрели на бортинженера, дергающего ручки люков; проводница железным голосом разъяснила обстановку, и все сидели смирно.
Крышки люков откинулись, свежая струя ворвалась в салон… остальное было делом техники. Панику удалось предотвратить, и народ, глотая свежий воздух, стал успокаиваться. Иные были уже полураздеты… Прохлада растеклась. Проводница приносила пассажирам извинения за возврат и задержку рейса.
У трапа ждала машина скорой помощи. Старичок-инспектор усадил нас в машину и отвез в санчасть. Тут же нам подсунули трубки: тест на алкоголь. Таков порядок. Потом мерили давление, пульс, заполняли бумаги…
Когда мы написали объяснительные, созвонились с отцами-командирами и, голодные как волки, вернулись в самолет, нас уже ждали поджаренные куриные крылышки и бульончик, приготовленный девчатами из внутренних резервов.
А как же иначе. Экипаж ведь работал. А сами… сами — как-нибудь, потом.
Психология
Почему все-таки иногда экипажи нарушают правила и влезают в опасную ситуацию?
В процессе анализа катастрофы комиссия обычно отмечает, какую ошибку допустил экипаж, что он нарушил. Результаты формулируются примерно так: «пилот, в нарушение пункта такого-то документа такого-то, не выполнил таких-то действий… в результате произошло то-то и то-то».
И практически никогда никто не озадачивается вопросом: а способен ли был в той ситуации пилот правильно и своевременно произвести все предусмотренные документами действия?
Например: способен ли он был проконтролировать загорание пяти табло в разных местах приборной доски, отреагировать на звуковой сигнал, определить причину, принять решение, отключить автопилот и оптимально реализовать руками безопасный вариант? При этом будучи занят то ли обходом грозы, то ли вписыванием в схему, то ли принятием решения на возврат. Кроме того, ведением радиосвязи и контролем технологии работы пилотирующего стажера. И на все это, в процессе перехода ситуации из опасной, через аварийную, до катастрофической — пять секунд.
Комиссия считает, что — должен был. Положено ему так, по инструкции, по технологии. Врач-психолог, член комиссии разводит руками: да не способен человеческий организм за пять секунд переварить столько противоречивой информации! Человек, по природе своей, в таких условиях входит в ступор. Даже очень тренированный человек.
Но кто же к тому несчастному психологу прислушается.
Это только в последнее время в печати появились труды выдающегося авиационного психолога, великого защитника летчиков и борца с бездушным, бюрократически-железобетонным подходом к живому человеку как к функции. Генерал Владимир Александрович Пономаренко, академик, величина мирового класса — вот он впервые в своих трудах вынес на широкое обсуждение такие понятия как «летчик — личность» и «летчик — небожитель». Он тридцать лет бился за то, чтобы авиационная эргономика работала не на модное пресмыкательство перед Западом, а на безопасность полета. Он предсказал тот самолетопад последних лет, который поднял такую бурю страстей в СМИ и посеял такую панику среди потенциальных пассажиров.
Это академик Пономаренко стал говорить, что неправильные действия летчика в момент катастрофы — не вина его, а результат суммы условий, приведших к превышению силы обстоятельств над физиологическими возможностями человека. А условия эти, может, закладывались давно и далеко, живыми людьми… но в такие дебри комиссия по расследованию не лезет. Летчик не выполнил — значит, виноват летчик.
Так почему опытные капитаны иной раз не могут объективно оценить ситуацию в воздухе?
А давайте вернемся лет на двадцать назад, в советское, совковое время развитого социализма.
В те, уже далекие, предперестроечные времена, летчик выделялся среди общей массы хотя бы тем, что худо-бедно зарабатывал. Да, он, как и все общество, унижался перед продавцом в очереди, он таскал пакеты, ящики и корзины с юга на север и обратно — но жил летчик вполне достойно. И его семья привыкла к достатку, и сам он понимал, что государство о нем заботится, спину ему прикрывает — лишь бы строго выполнял требования и безопасно возил миллионы пассажиров. Он осознавал свою значимость для общества, и общество осознавало его значимость и уважало его.
Психологически летчик был защищен от проблем выживания, он не боялся ухода на пенсию, зная, что сможет устроиться на земле — да в родном же авиапредприятии — и продолжать работать, и жить, пусть скромнее, но все же достойно. Он был спокоен за свое будущее.
Перестройка переломала судьбы многим, но особенно тяжело ее переносил высококвалифицированный летный состав, личности, явно неординарные. Я сам, как и мои небесные братья, пережил все степени унижения в период развала, поэтому знаю, о чем говорю.
Многие люди переболели «синдромом перестройки», то есть, многократным переходом от надежды к отчаянию, от веры к разочарованию и опять к надежде, и снова к разочарованию, к озлоблению, даже к ненависти, даже до инфарктов — и все это на фоне вала новой, залившей всю жизнь мутным потоком, подавляющей сознание информации.
Информационное изобилие навалилось на человеческую психику, и у людей поневоле сместились приоритеты жизни. Все рушилось. Надо было как-то выживать. Старый менталитет, менталитет общества, в котором «фюрер думает за нас», менталитет, выражаемый одним словом «Дай!» — вступил в противоречие со словом «свобода».
А летчики не привыкли к свободе. Посвятив всю свою жизнь Службе, добровольно заточив свою свободу в рамки руководящих документов, пластаясь на летной каторге, они на всех углах твердили: «Да если бы Советский Союз весь так работал, как работаем мы — у нас вчера бы уже был коммунизм!»
Что там говорить: демократия демократией, а Аэрофлот был тоталитарным государством в государстве. За малейшее нарушение пороли, и отцы-командиры долгом своим считали — не допустить малейшей шероховатости в летной работе.
Мы, ездовые псы, по большому счету, не думали ни о чем кроме своей работы. Конечно, зарплата была как всегда, маловата, урвать лишний кусок, как и любому совку, хотелось, и если была возможность налетать побольше — охотно рвали налет. И с каждой зарплаты в доме прибавлялась вещь: то ковер, то телевизор, то стиральная машина. Летчикам выделяли талоны на АВТОМОБИЛЬ!
Чего ж было не пластаться: в едином строю, из единого корыта, скромно, но вполне сытно, иной раз и с икрой, — только летай и исполняй летные законы.
А когда аэрофлот рухнул… стала рушиться жизнь летчика.
Поползли слухи. Появлялись и пропадали надежды, и главной, как и всегда в авиации, была надежда, что «поднимут пенсию», «снимут потолок» — и можно будет зарабатывать на земле, имея гарантированную пищевую кость от государства — ведь мы ее трижды заработали!
Работы, собственно полетов, становилось все меньше, а аппетиты, раздуваемые рекламой и другими источниками, росли. И росла зависть. И зарождалась ненависть.
Вы ведь тоже в большинстве все это испытали?
Возможность выполнить рейс и заработать на хлеб стала зависеть от многих случайностей. Расползались устои. Смещались рамки. Задерживалась и обесценивалась нищенская зарплата. Иногда приходилось решать дилемму: пустой холодильник или небольшое летное нарушение.
Нам стало нечего жрать!
Поставили однажды меня в план на долгий рейс. Надо было перелететь пассажирами в Домодедово, взять там машину, перегнать ее во Внуково, загрузиться и слетать на Братск. Командир эскадрильи намекнул, что, возможно, будут неувязки с превышением нормы рабочего времени, поэтому… ориентируйтесь там по обстановке… заказчик щедрый…
Это был уже совсем не тот тон, каким с нами разговаривали бы лет десять назад: боже упаси перелетать хоть пять минут! Талон! На партсобрании строгий выговор! На переучивание на новую технику — волчий билет! И т. д.
Нет, тон стал совсем другой. Выживать надо было всем. А заказчик щедрый.
Пассажирами тогда экипаж завозили в любой аэропорт просто. Есть билеты — лети по билетам, нет билетов — подходи к командиру корабля. Я сам постоянно возил экипажи, размещая их кого где.
На этот раз места были только для девчат; наш экипаж поочередно толкался то в кабине, то в вестибюлях, на откидных креслицах. Пять часов тягомотного перелета — и мы в домодедовском АДП. Туда-сюда, пока решили кучу проблем, еще два часа. В конце концов, машину нам таки дали, да пока ее подготовили, да пока, наконец, взлетели, да с мокрой задницей 15 минут извращения в Московской зоне, да на пустом самолете с задней центровкой плюхнулись во Внуково, зарулили…
Потом ждали заказчика, потом грузили груз, немерено на грузовиках, а записано было всего 4 тонны, чтоб же до Братска, 4000 верст, топлива хватило. На взлете пришлось это обстоятельство, больший взлетный вес, учитывать, держать скорости повыше.
К моменту взлета рабочее время у нас было уже — 13 часов на ногах.
Естественно, полет ночью. Естественно, дремали по очереди за штурвалом. И когда взошло солнышко, мы были как веревки. И тут в кабину зашел представитель заказчика.
— Командир, надо кровь с носу сегодня к вечеру быть в Москве. Очень надо. Срочный груз. За нами дело не станет, отблагодарим.
Мы посовещались. Спать хотелось смертельно. Все-таки на чугунной заднице уже восемнадцать часов. Вылет обратно прогнозировался через четыре часа, и то, дай Бог, чтобы успели загрузить. И еще шесть часов до Москвы. И еще разгрузиться и перегнать пустую машину в Домодедово. И в ночь пассажирами домой.
Это стоило дорого. Иначе — за что пуп рвать. Поэтому я отвел в сторону представителя заказчика и показал ему четыре пальца. Это означало четыре миллиона тогдашних деревянных.
Какой разговор: он вытащил пухлый бумажник и молча отсчитал купюры.
Обратно лететь было веселее: стимул грел душу.
Мы справились. Пассажиров было всего несколько человек — это их груз мы и везли, там пару тонн всего. В Москве быстро разгрузились, перегнали, сдали самолет, пошли в гостиницу, выпили водки… помню, меня с трудом довели до самолета, ночь пролетела, под утро замерз как собака…
Деньги эти мы честно поделили с проводницами. Бумаги как-то умудрились расписать, по двум заданиям; рабочее время вошло в разрешенные рамки… Сплошная туфта. Командир отряда эти задания молча подписал. Заказчик щедрый…
Деньги эти, несколько сот тысяч, отдал дочери… семья врачей в те времена только что не нищенствовала. Разошлись эти копейки за неделю.
Вот вам — небольшое летное нарушение.
Тысячи летчиков в течение этих тяжких пятнадцати лет вынуждены были решать огромный объем житейских задач, весьма далеких от полета. Полет — это было само собой: да не мешайте, да справимся, мелочь какая, полет. Тут вон надо то, надо это… надо успевать, надо… надо… надо…
Надо было покупать детям квартиру. Надо было платить за институт. Надо было сыграть свадьбу… Надо было зашибать деньгу.
И постепенно некоторые капитаны потеряли страх. «Да что ты мне про скорость талдычишь — справлюсь я со скоростью, сто раз справлялся… мелочи какие…»
Летчики запутались в приоритетах. Что главнее — загоревшаяся перед взлетом лампочка опасного режима или… зайцы в техотсеке, а деньги уже в кармане! Ну не высаживать же зайцев… А — слетаем уж как-нибудь!
Для летчика стало важнее продать подороже свое умение летать. Стало важнее выбить премию, за экономию ли топлива или за экономию налета часов — неважно. Важно оказалось не столько выдерживать параметры, важно стало не столько передавать свой опыт смене, важно было не столько думать, и думать, и думать постоянно о сидящих за спиной, доверивших тебе свои жизни пассажирах — а важно оказалось думать, и думать, и думать о других, не летных, каких-то экономических, шкурных проблемах.
Нет, конечно, здравый смысл летчика всегда оберегает его от явных ошибок. Нет, профессионализм как сумма наработок навыков и умений остается… Но не у всех. И, главное, под гнетом экономических обстоятельств начинает замыливаться и терять значимость та постоянная опаска летчика, которая держит его в тонусе и заставляет наперед продумывать варианты событий в полете. Летчик теряет страх. Летчик не может правильно расставить приоритеты. Ему кажется, что эта ситуация — не есть главное в его жизни, что многолетний опыт полетов обережет его и позволит вовремя распознать развитие ситуации и предотвратить нежелательные последствия — предотвратить любым из множества профессиональных способов, которыми он за эти годы овладел… какие мелочи…
Вот почему авиационные события в наши времена чаще происходят не с молодыми летчиками, а, наоборот, со зрелыми, уверенными в себе пилотами.
Молодые же, если только не попадут в заботливые руки старых педантов, — и вообще путаются в определении, что же в полете главное. Для них понятие «лучше потерять жену, чем скорость на развороте» — не более чем образное выражение летунов поры братьев Райт. А вот английский язык — и из училища прямо на «Эрбас» — вот это они усваивают быстро, к этому стремятся, не задумываясь о прочности и основательности летного фундамента, который крепнет только в реальных многократных полетах, от простого самолета к сложному.
Да что далеко ходить: на нашей памяти свежи катастрофы по причине недоученности, малого опыта, другого менталитета, другой философии полета.
Когда соединяются в самолете, в одной кабине, самоуверенность и непредусмотрительность капитана, неопытность, недоученность и страх второго пилота, недоверие и пассивность других членов экипажа, когда к этому прибавляются непредсказуемые сторонние обстоятельства, когда капитан плетется в хвосте ситуации, когда, наконец, до него доходит, что его уверенность в своем профессионализме оборачивается на деле его профессиональной несостоятельностью — вот тогда нагрузка на психику человека оказывается выше его возможностей. Человек впадает в ступор и действует рефлекторно.
Комиссия потом найдет пункты нарушений. Но она никогда не соотнесет их с тем грузом пережитого, который постепенно раздавил в летчике Личность.
Самолетопад имеет глубокие корни. Это разрушение личности летающего человека обстоятельствами, от которых его не захотело оградить государство, — разрушение кирпичика, государственного человека, в государственной транспортной системе.
Таков объективный ход нашей истории: ломка государственных систем — по недоумию организаторов этой разрухи.
Конечно, через два поколения жизнь сама как-то организуется. Правда, эта самоорганизация будет идти методом проб и ошибок, естественного отбора, жертв. И авиация долго еще будет болевой точкой.
А на вашем рабочем месте? Там ведь тоже идет ломка, и смещение приоритетов, и подмена ценностей? И вы ведь, положа руку на сердце — сами тоже не очень точны в исполнении устаревших инструкций, написанных до вас, не так ли? Или вы таки идеальны и исполняете все буква в букву?
Мы все, вся страна, брошены в стихию самоорганизации и элементарной, звериной борьбы за существование. Часть общества, волею судьбы, выбилась наверх, чуть отдышалась, огляделась, прислушалась к вестям из-за рубежа… Захотелось комфорта и гарантий. Средний класс…
Эта часть общества — вы. Вы хотите гарантий от системы, которая еще не имеет фундамента — только дышащие под ногами раскаленные обломки. Но стоять на чем-то все равно приходится.
В авиации такие обломки былой мощи — опыт и здравый смысл стариков. Молитесь же об их здоровье, благодарите за непреходящую душевную боль о Летном Деле. Пока еще живы старики, а молодежь только-только начинает притекать в восстающую из пепла перестройки нашу авиацию, пока существует цепь передачи опыта — это гарантии вашей безопасности полета. Дальше пойдут другие наработки, продиктованные реалиями завтрашнего дня, но сейчас все пока держится на опыте старших поколений.
Теперь-то, когда небо взяло свои жертвы, лишний раз напомнив, что Стихию невозможно покорить, а можно только от нее увернуться, — авиационный мир встряхнулся. Я больше чем уверен: теперь летчики долго будут дуть на воду, обжегшись на молоке. И хотя словесная реакция на действия несчастных экипажей была выражена среди профессионалов просто и нелицеприятно, каждый из нас внутри себя все равно думает: «не дай Бог… лучше лишний раз перебдеть…» И метеорологическую обстановку экипажи изучают тщательно, и за углами атаки смотрят, и за температурой следят.
Что же касается психологии летчика, призванного профессией постоянно думать о доверивших ему свои жизни пассажирах, то лучше, чем об этой психологии как-то сказал один мудрый грузин, я вывода не слыхал.
Дело было давно, в разгар перестройки. Летел с нами пассажиром в Норильск, к сыну в гости, старый грузин, внешним видом и повадками очень напоминавший великого артиста Серго Закариадзе в пронзительном фильме «Отец солдата». Он сидел на первом ряду и все поглядывал в кабину, как только туда хоть на секунду распахивалась дверь. В полете я вышел в салон, и он обратился ко мне с просьбой: а можно хоть раз в жизни побывать в кабине экипажа во время полета? Ну, мечта. Стал очень просить; мне стало неловко перед пожилым человеком, и я пригласил его к нам в кабину. Он тихо присел на стульчик за моей спиной, робко оглядывая многочисленные приборы и переключатели.
Разговорились, в частности, и о заработках. Я получал тогда сто пятьдесят долларов в месяц. Он не поверил, покачал головой и замолк, задумался.
Когда распахнулись облака и через двадцать секунд самолет покатился по бетонке, потрясенный человек сказал золотые слова:
— Тэбэ… тэбэ за такой работа… миллион платыт нада!
Подумал и добавил:
— Ти… ваапщэ нэ должен думат о дэнгах.
Да только времена теперь другие; летное искусство — такой же товар, как и все остальное, и летчик все-таки вынужден думать о деньгах. Только, конечно, не о полутора сотнях долларов. Он рыщет по авиакомпаниям, ищет, где больше платят, где больше заботятся о летчике, где лучше условия труда. И в той компании, где платят столько, чтобы не думать о куске насущного хлеба, или, ну, к примеру, о совершенно необходимом летчику автомобиле, — там он и оседает.
Так в тех же компаниях и отношение к летчику не как к ездовому псу, которых, мол, вон, у нас за забором бродит целая стая, — а как к Главному Человеку в Авиации. И так и должно быть.
Хотя… за те деньги хозяева выжмут вчетверо. Но это уже твой выбор.
Если ты сам себя не уважаешь — кто ж тебя, водилу, уважать будет.
Часто журналисты после прогремевшего случая обращаются за консультацией к самому уж компетентному, на их взгляд, летчику. Обычно почему-то — к летчику-испытателю. Вот, мол, случай с Ту-154, прокомментируйте, пожалуйста как специалист.
Специалист комментирует. Не в обиду летчикам-испытателям, опыт, компетентность и способности которых я искренне глубоко уважаю. На мой взгляд, взгляд ездового пса, приладившегося к упряжке в течение четверти века, мнение летчика-испытателя о конкретном случае базируется на истинах, усвоенных им в полетах на множестве самых разных типов самолетов. Летчику-испытателю по большому счету все равно, на чем летать: он в полете на любом типе решает интереснейшие для него задачи — в этом смысл его полетов.
Поэтому выводы из того случая он делает, опираясь не на многолетний опыт полетов именно на этом типе самолета, опыт, которого у него нет, — а на общие принципы, общие положения, выработанные практикой частых полетов на самых разных типах летательных аппаратов. И, вдобавок, в его выводах всегда присутствует — и довлеет — незримый, бесценный для испытателя, но недоступный линейному пилоту опыт принятия мгновенных решений в особых, сложных, аварийных и катастрофических ситуациях.
У летчика гражданской авиации, всю жизнь летающего на надежнейших, обкатанных в сотнях тысяч полетов машинах, такого опыта нет, и быть его не может.
Поэтому вряд ли стоит обвинять линейного пилота в неумении выводить из штопора. Да, не умеет. А вы умеете проходить скоростной поворот на обледеневшей дороге, с управляемым заносом? Неужели это умение должно быть обязательным для водителя междугороднего автобуса?
Опыт ситуаций линейного пилота ограничивается оговоренными в Руководстве по летной эксплуатации случаями, с которыми волею судьбы ему пришлось встречаться. Очень редко, но бывают непредсказуемые ситуации, справиться с которыми помогает опыт многолетней летной работы, интуиция, хватка, верная оценка обстановки.
И еще. Испытатель мало летает с пассажирами. Нет у него таких возможностей — возить пассажиров по расписанию. В этом плане он свободен. У него, как и у военного летчика (оставим пока в стороне военно-транспортную авиацию), не выработано въевшегося за многие годы и постоянно давящего чувства — огромной, неотделимой от полета ответственности за жизни сотен тысяч, миллионов перевезенных вот этими руками пассажиров.
Летчик-испытатель будет говорить об аэродинамических особенностях, о «подхвате», о невозможности вывода из плоского штопора, о степени управляемости, о темпе, порциях и последовательности действий рулями… Большое, конечно, спасибо за точность, подробности, объективный подход, за сочувствие… и за излишнее нагнетание обстановки среди некомпетентных, но с апломбом, людей.
Главком ВВС прокомментировал пролет над грозой по-своему; журналист его не совсем правильно понял — и пошло-поехало: САМ главком говорит, что над грозой летать нельзя! Категорически!
А истребителям? Ну, подумайте: неужели главнокомандующий ВВС столь ограничен и столь категоричен? Может, вероятнее предположить, что ошибся журналист?
Да и… нашел же к кому за консультацией обращаться: к самому уж «компетентному» в полетах Ту-154 над грозой, военному летчику, правда, очень высокого ранга. Как он только к нему пробился.
Линейный пилот все комментарии свел бы к простому как мычание выводу: а не лезь за предел! Не лезь! Следи! Не допускай! Не подвергай людей той опасности, которую ты, линейный пилот, — за десятилетия — научился определять по одному взгляду на стрелку прибора. Не хватает запаса, вернись к прежнему, безопасному режиму. У тебя нет парашюта, нет катапульты — у тебя дети спят за спиной! Будь же предусмотрителен! Используя резервы, не забывай о контроле. Решая задачи, не отрывай глаз от приборов. Ищи, перебирай безопасные варианты. Организуй работу экипажа. И всегда отделяй житейских, сиюминутных мух повседневности от котлет безопасности.
Линейный пилот — вот он, перед вами, автор этих строк.
Как бы я себя вел
У пассажиров много претензий к пилотам и бортпроводникам. И везут-то плохо, и рискуют, и информацией не балуют, и обслуживают некачественно.
Все может быть. Раз на раз не приходится, причины я, как уж мог, попытался вам объяснить.
Как вы думаете, а у экипажа могут быть претензии к пассажирам? Которые, по их, пассажирскому мнению, тот экипаж кормят, а значит, требуют сугубого к себе уважения?
Я много раз сам летал пассажиром. И, глядя вокруг, всегда поражался, как иной раз прямо-таки по-свински ведут себя некоторые люди, вырвавшиеся наконец из давящих рамок приличия. Что-то такое происходит с человеком, целый год мечтающим об отпуске, и наконец дошедшим до этапа полета в тот отпуск. «Деньги плочены…»
Во-первых, пьянство в полете. Люди заливают свой страх, а когда их развезет и им станет хорошо, они начинают «делиться» своим кайфом с бортпроводницами.
В ином человеке просыпается барин, или, вернее, купчик. Оно и не удивительно: потомственный пролетарий генетически лишен высокого дворянского чувства самоконтроля и внутреннего такта, позволяющего быть дворянином в любых условиях и в любом обществе.
Вспомните кадры из «Титаника»: мечущаяся в поисках спасения озверевшая толпа — и аристократ во фраке, с бутылочкой бренди, достойно встречающий ниспосланный свыше свой смертный час.
Или настоящие интеллигенты — из исполнившего свой долг до конца корабельного оркестра. Вот таким людям и памятник после гибели поставили.
Очень симптоматично поведение детей этих… купчиков, а также воспитательные меры, применяемые к ним в полете мамашами.
Во-вторых, поражают оставшиеся в салонах после орды пассажиров (а как иначе назовешь) горы мусора: кипы мятых газет, бутылки, засунутые в карманы кресел пакеты с объедками, блевотиной, памперсами, прилепленная где попало жвачка…
Мне приходилось возить по российским просторам группы пожилых туристов из Швейцарии. То ли возраст, то ли менталитет другой, то ли генетически воспитанная аккуратность, то ли простая человеческая порядочность — но после выхода полутора сот человек из самолета мы обнаруживали в салонах первозданную чистоту, прилепленные на свои места салфеточки-подголовники… и пару пластиковых бутылок. Все.
Нет, и среди наших пассажиров большинство сидит спокойно, и не сорят, и детей как-то в порядке держат, и перипетии полета терпеливо переносят. Понятное дело: шесть часов в неподвижности — при самом изысканном обслуживании и самом спокойном пилотировании — все равно тягомотина, которую надо перетерпеть.
Но иная личность в самолете проявляет себя так явственно, что сразу видно, каков человек «по жизни». У некоторых проявляется по десять острых локтей и по лишней челюсти клыков. И думаешь: эге, брат, так вот каким путем ты пробился в люди…
Что поделаешь, появилось много новых «хозяев жизни». Среди них, или, по крайней мере, в их обществе, большинству пассажиров иногда приходится лететь часами. Надо вытерпеть: это планида такая вам выпала. В следующем рейсе, может, больше повезет.
Мне-то, ездовому псу, вроде как и не годится оглядываться через плечо на свои нарты. Но поскольку поклажа может съехать и перевернуть всю упряжку…
Затевать пассажирам в полете конфликт, втягивать в него бортпроводников, а то и экипаж, означает — наносить удар по безопасности полета.
Был случай. Летели в Баку из Красноярска кавказцы, полный самолет. Причем, были они различного вероисповедания. Вывозили их принудительно, по решению суда, чтобы пресечь распространение в нашем городе наркотиков. Естественно, в салонах дружелюбного расположения не ощущалось.
При подлете к Кавказу азербайджанцы сцепились в заднем салоне с армянами. Засверкали ножи, ком сцепившихся тел покатился по салону. Заранее предупрежденные, бортпроводницы удержать порядок все-таки не смогли и только успели сообщить о драке капитану.
Да капитан уже и сам почувствовал, что центровка самолета изменяется: самолет, управляемый автопилотом, начал производить плавные синусоидальные колебания.
Капитан был человек опытный, не просто как пилот, но и в житейском плане. Он понял, что отвести угрозу безопасности полета можно только решительными мерами. Передав управление второму пилоту, он вытащил пистолет из кобуры, выскочил в салон, схватил с полки мегафон и так, с пистолетом в одной руке и мегафоном в другой, пошел навстречу толпе, в которой уже пролилась первая кровь. Пройдя мимо сидящих в вестибюле скованных ужасом проводниц, он рявкнул в мегафон:
— А ну, все по местам! Прекратить драку! Свалите мне сейчас самолет!!!
Но разве ж пьяных кавказских парней просто так разнимешь. Они не обращали внимания даже на пистолет и все орали и махали кулаками с зажатыми в них перочинными ножиками, а он стоял перед ними и мучительно перебирал варианты.
Надо было применить решающее средство.
И тогда капитан сказал веские слова:
— А то сейчас сяду на запасной… в Тбилиси!!!
Все! Как бабка пошептала. Народ, вытирая кровавые сопли, кинулся по местам. Пристегнулись! Заизвинялись! Только, ради Аллаха, не в Тбилиси! «Просты, командыр!»
«Болше нэ будэм, командыр!» И до самой посадки сидели тихо как мыши.
Когда самолет приземлился, все бросились к окнам и успокоились, только увидев на аэровокзале знакомую надпись: «Бакы».
Слава Богу, те времена миновали. Народ вроде как цивилизовался. Но чтобы наработать тонкий слой интеллигентности, требуется время, жизнь нескольких поколений.
А начинать, мне кажется, надо сейчас, с себя и своих детей. Раз уж попал в калашный ряд, надо же стараться выглядеть человеком.
Из того же фильма «Титаник» — реплика в салоне первого класса:
— Он так похож на джентльмена!
В-третьих. Отношения с бортпроводниками, которые вас обслуживают в полете.
Я труд бортпроводника уважаю. Мне пришлось работать с ними бок о бок десятилетиями. Это не такая простая профессия, как иным представляется.
Стюардесса на самолете в первую очередь — спасатель. Их специально учат и тренируют действиям в особой, аварийной и катастрофической обстановке, на суше и на воде. Девочек, девятнадцати лет. И эти девочки, по роду своей профессии, по профессиональной гордости своей, никогда не завопят: «Мама, я боюсь!» Хотя им страшно бывает не просто по природе человека, женщины, — а из-за ответственности за безопасность вот этих, сидящих рядами людей: его, меня, тебя.
И когда в интернете я читаю жалобы взрослого мужика на то, что ему страшно летать, и чуть не вопли до истерики, — мне становится за него стыдно.
А когда нахожу там откровения иного пассажира, что бортпроводницы все пьяные вповалку, и воды, мол, не подадут, — я, по мудрости возраста, осмелюсь предположить в таком авторе личность, рядом с которой находиться никому не хотелось бы. Водятся среди нас такие люди: доведут придирками и поклепами кого хочешь.
Да, бывает, бортпроводницам, пока экипаж отдыхает в гостинице, приходится, на каблуках, решать в самолете и около него задачи подготовки к рейсу: ждать, пока снимут груз и почту, ехать на склад улаживать проблемы с нарушенными упаковками, перевешивать загрузку, ждать цех питания, уборщиц, мерзнуть в уже неотапливаемом самолете с открытыми дверями… И когда наконец она доползет до койки, кажется, только упала, а уже будят: «Девочки, на вылет!»
Бортпроводницы летают больше летчиков, из них соки выжимали всегда, в основном, при предполетной подготовке и послеполетном обслуживании, часами. Поэтому у них хроническое недосыпание, и, как любой живой человек, эта девочка в полете норовит улучить минутку и, во время, отведенное для приема пищи, прикорнуть в уголке, на контейнере с грязной посудой. И только провалится… звоночек! Пассажир требует обслуживания. Такая работа.
Я не помню случаев, когда бы бортпроводник не выполнил своих обязанностей. Множество раз летая по служебным делам пассажиром, я частенько толкался на кухне, и уж кухню знаю. Работы в полете у проводниц невпроворот, роли распределены, контроль и взаимопомощь налажены, и всегда в их коллективе присутствует опытный, бывалый бригадир. Попробуй посачковать. Работа в салоне ведь — только надводная часть айсберга.
На борту любого самолета есть книга жалоб и благодарностей. Полюбопытствуйте, попросите ее у бригадира, полистайте отзывы. И свой добавьте, если проникнетесь уважением к этой опасной и такой притягательной для девчат профессии. Единственно только — не надо обвинять бригаду в том, что вас, как вам представляется, неважно накормили или, к примеру, задержали рейс. Причины этих неувязок от бортпроводников не зависят.
Так что «о пьяных проводниках» — пассажирам можно было коллективно написать в ту книгу. И больше бы эти пьяницы не летали… если бы, конечно, были предъявлены объективные доказательства. Но… я таких случаев не знаю.
А не дай Бог что случись — стюардессы подготовлены предотвратить панику, организовать и быстро эвакуировать вас из самолета, отвести в безопасное место, спасти на воде. По всем этим действиям и умениям они постоянно сдают зачеты и проходят тренировку в натуральных условиях.
Они готовы действовать автономно, без команды экипажа, если этой команды поступить уже не может…
Уважайте, пожалуйста, работу бортпроводников, помогайте им поддерживать в салонах порядок, не докучайте лишними капризами, да просто слушайтесь хозяек самолета. Ведь вы у них нынче в гостях. Я лично в гостях веду себя так, чтобы не краснеть перед хозяевами. Честное слово, девчоночки заслуживают человеческого к себе отношения — точно так же, как заслуживаете его в полете вы. Или вы таки — баре, а они перед вами должны унижаться?
Касаемо недостаточной информации от экипажа и бортпроводников о том, где мы сейчас летим, какие реки и горы пересекаем и т. п. — эта практика только начинает приживаться на наших российских самолетах. Погодите, придет время, появится поколение раскованных, свободных от внутренней зажатости летчиков новой формации — тогда будет вам общение, будет и больше сведений о полете. Нынешние пожилые летчики просто стесняются лишний раз общаться с пассажирами. Пробормотал обязаловку — и за дело. Таков наш совковый менталитет — наследие времен, когда в ходу был лозунг «А не высовывайся!»
После приземления хлопать в ладоши — что остались живы — необязательно. Попробуйте лучше прочувствовать и насладиться прелестью мягкой посадки… если она вам, конечно, перепадет.
Вообще, попробуйте присмотреться к тому, как трогается с места и останавливается поезд, как причаливает корабль, как заруливает самолет. Ну, про общественный городской транспорт говорить не будем, потому что толчея больших городов противоестественна природе. Там без толчеи-то никак не получится: в огромной язве на теле Земли надо быстро копошиться. Пусть простят мне эту спорную сентенцию потомственные горожане — они с первым вдохом привыкают к смогу, шуму и пыли. Тут не до красот страгивания и остановки — тут прыгать надо!
Когда вы попадаете в Небо, нелишне представить себе Храм. Нынче же все вроде как верующие…
Вот в этом Храме живем и работаем мы: для некоторых из вас — ездовые псы, водилы, официантки; для Авиации — жрецы, служители культа Красоты и Безопасности Полета.
Так… не сорите, пожалуйста, в Храме. Будьте терпимы к ближнему. Простите ему грехи его. Постарайтесь не выпячивать свои острые углы. Представ пред Ликом, смирите свою гордыню разбогатевшего человека. Станьте выше себя, прикоснитесь к Небу, очиститесь в Нем.
Оно как-то вроде не стыкуется: Небо — и памперсы. Но, по большому-то счету, какая разница, в каком месте и в каком виде человек возвышается душой. И мне хочется не притянуть небо к потребителю, а чуть приблизить Человека к Небу.
К чему надо быть готовым
Когда вы подойдете к самолету и невольно станете отыскивать в его внешнем виде признаки дряхлости и ненадежности, следует твердо помнить несколько простых истин.
Стертая краска — не показатель. Значит, подходят сроки перегонки самолета в текущий ремонт на авиазавод — и только. Там машину разберут, обследуют, убедятся в надежности конструкции, заменят положенные по регламенту агрегаты, заново соберут и перекрасят. И будет он выглядеть с иголочки. Но как был это старый надежный самолет, так им и остался.
Сроки ремонта выдерживаются в любой авиакомпании очень строго, нарушений по ресурсу быть не должно — это основа основ.
Самолет закопчен. Это означает, что он много и регулярно летает, и полет с вами на борту будет одним из череды надежных и безопасных полетов.
Что касается мойки… ну, русский менталитет пока еще не дошел до европейского понимания эстетической привлекательности: и в саже машина летает надежно, и без сажи так же. Сроки мойки соблюдаются, но… явно не каждый день. На безопасность полета сажа не влияет.
Сажа появляется обычно при работе реверса тяги на пробеге, когда струи газов специальными приспособлениями направляются не назад, а вперед, ометая поверхность машины и осаждаясь на ней мельчайшими частичками гари. Есть сажа — значит, реверс работает надежно и на пробеге машину затормозит как положено.
Вам покажется, что резина на колесах шасси уж сильно стерта. Лысые колеса! Никакого протектора! Как самолет еще не буксует…
Авиационная резина отличается от автомобильной тем, что ей не надо зацепляться за бетон, чтобы толкать самолет вперед; толкает его сила вырывающихся из сопла газов.
Но гладкие самолетные покрышки должны быть очень прочными на разрыв и истирание. Поэтому их делают многослойными: двенадцать слоев корда! И, по нашим нормативам, в эксплуатацию допускаются пневматики, истертые до второго или третьего слоев корда. Не слои корда являются показателем изношенности, а специальные луночки на поверхности резины — индикаторы износа. Вот если уже и следа этих луночек на колесе не найти — тогда все: списывают резину.
Вам-то, по неведению, этих луночек и не разглядеть, а экипажи и техники очень строго следят за износом, да еще, согласно нашим правилам, меняют резину на колесах так, чтобы было не более 50 % изношенной резины на каждой ноге: колес-то на самолете много. Это необходимо для того, чтобы условия сцепления колес при торможении были примерно одинаковы и машину на пробеге не тащило в сторону.
Вы увидите, как ветер на стоянке медленно крутит огромные колеса компрессоров двигателей, услышите при этом, как погромыхивают плохо закрепленные в ободах колес лопатки.
Оказывается, лопатки закреплены в колесе не жестко, а с зазором; это сделано из инженерных соображений — конструкторы лучше нас знают зачем. Но как только раскручиваемый стартером ротор двигателя наберет обороты, центробежная сила расположит лопатки точно в гнездах, и вся вращающаяся система придет в состояние динамического равновесия, как барабан в стиральной машине при больших оборотах.
Вы увидите перед вылетом, как человек сливает в баночку из крыла топливо, рассматривает его на свет и что-то там ищет. Оказывается, после заправки и отстаивания в течение определенного времени, в нижних точках может осесть случайно попавшая в топливо вода, которая тяжелее керосина, или кристаллы льда в холодное время.
Вода, попав в форсунку двигателя, может сорвать пламя, и двигатель остановится. Кристаллы льда могут забить тонкий фильтр в топливной системе. Чтобы этих неприятностей избежать, авиатехник сливает из всех нижних точек отстой топлива, убеждается сам и показывает бортинженеру отсутствие в нем воды или кристаллов льда.
Оказывается, чтобы топливо на большой высоте, на семидесятиградусном морозе, не выделяло вымороженные кристаллы всегда растворенной в керосине влаги, в керосин добавляют чуточку специальной жидкости, растворяющей лед.
Уважаемые пассажиры, вы и представить не можете, какими мерами предосторожности, выработанными за сотню лет опыта, обставлен каждый полет.
Вылетая в холодное время года, в условиях снегопада или гололеда, будьте готовы лишний час ожидать, пока машину не обработают против образования на ней льда.
Оказывается, даже тончайший слой инея в процессе нарастания скорости способен стать основой для быстрого образования льда на крыле. Свойство же крыла создавать подъемную силу очень зависит от формы его профиля. Если наросший лед этот профиль изменит, несущие свойства крыла резко ухудшаются.
Кроме того, наросты льда создают завихрения там, где теоретически поток должен быть гладким. Значит, срыв потока может наступить раньше, на той скорости, которую пилот, по инструкции, считает вполне безопасной.
Вот чтобы обезопасить себя от всех бед, самолет требует идеальной обработки. Его либо обдувают горячим воздухом, либо обливают теплой водой, вытаивая лед из зазоров между крылом и рулями, чтоб не заклинило; его покрывают специальной противообледенительной жидкостью, чтобы на взлете не налипали снежинки или переохлажденные дождинки. А уж когда машина вырвется из облаков — она быстро обсохнет в сухом потоке.
Сидя недалеко от входа, вы увидите, как бортинженер закрывает толстую входную дверь, как поворачивает рычаг и еще какую-то защелку. Это все — меры предосторожности, чтобы в полете дверь случайно не открылась, особенно на большой высоте.
Самолет устроен так, что его очень трудно разорвать давлением изнутри, но довольно легко схлопнуть давлением снаружи. Как футбольный мяч. Причем, «мяч» этот — проколот, и в него все время подкачивается воздух, и все время выходит наружу через специальные клапаны, для вентиляции. Чем выше летит самолет, тем больше перепад между приличным давлением в кабине и уменьшающимся давлением за бортом. Он не так уж и велик — около 0,5–0,6 атмосферы. Но представьте себе, что на каждый квадратный сантиметр двери давит полкило. А площадь двери, грубо, пусть, — квадратный метр, то есть, десять тысяч этих самых квадратных сантиметров. Значит, дверь изнутри выпихивает в пространство сила около пяти тонн! Какие же должны быть мощные замки!
Вот этим рычагом бортинженер и поворачивает языки замка, много языков. Они и держат дверь. А чтобы стронуть рычаг, существует еще защелка, которую надо предварительно открыть.
А если в полете кому-нибудь из пассажиров захотелось бы «прогуляться» и он попытался бы повернуть защелку, а потом рычаг?
Не дай Бог. В открывшуюся дверь потащило бы все предметы, что находятся в салоне, с силой, пропорциональной площади этих предметов… живых людей… Это — тонны! Не удержать ничем.
Кстати, в фильмах показывают… Шварценеггер… драка в проеме люка… Ой, не верьте фильмам, такого не может быть… фантазия.
Так вот, для вашей безопасности в замок двери встроено барометрическое реле, которое, как только самолет станет набирать высоту, автоматически заблокирует замок намертво. И разблокирует его только после того, как давление в кабине сравняется с забортным.
На случай же разгерметизации самолета на высоте он оборудован кислородными масками, которые автоматически выпадут перед вашими лицами. Перед полетом внимательно прочитайте инструкцию, находящуюся в кармане кресла: там написано, как пользоваться маской. Маска понадобится вам, может, в течение минуты-двух. За это время экипаж выполнит экстренное снижение до безопасной высоты, на которой уже можно свободно дышать.
Такие случаи бывали, по разным техническим причинам, и у нас, и за рубежом. И всегда экипажи справлялись и успевали снизиться без последствий для здоровья пассажиров. Этой операции, аварийному снижению, уделяется особое внимание при тренажерной подготовке экипажа.
А в кабине и защелки, и замки дверей и люков контролируются специальными табло. И первые слова бортинженера при докладе капитану перед запуском таковы:
— Двери, люки закрыты, табло не горят…
Самолет, как и любое транспортное средство повышенной опасности, оборудован приспособлениями для спасения людей на суше и на воде. Не исключена возможность вынужденной посадки — хоть и очень редкая, маловероятная: современные самолеты практически всегда дотягивают до аэродрома. Но жизнь заставила подстраховываться и быть всегда готовым к любым поворотам судьбы..
Поэтому самолеты оборудованы надувными трапами, специальными брезентовыми желобами, канатами — для быстрого, моментального покидания машины в опасных условиях. При возможной посадке на воду самолет оборудуется специальными плотами, а каждый пассажир снабжается спасательным жилетом. Вам их демонстрируют перед полетом.
Как покидать машину, если возникла такая необходимость?
Надо строго выполнять команды бортпроводников и членов экипажа. Технология покидания разработана и успешно опробована в течение долгих лет. Надо только знать, что нужно делать для собственного спасения.
Первое что надо крепко запомнить — направление и расстояние до ближайшего аварийного выхода или двери. Если после приземления возникнет пожар, то в страхе, в дыму, в возникающих очагах паники, необходимо действовать спокойно и целенаправленно.
Если салон задымлен — немедленно опуститесь возможно ближе к полу: там дыма меньше.
Пригнувшись, или даже ползком, быстрее двигайтесь к ближайшему выходу.
Не поддавайтесь никаким комплексам. Когда тонул «Титаник», многие дамы не смогли преодолеть стеснительность и перенести ногу через перила, чтобы спрыгнуть в лодку. Вам придется, шагнув в проем, скатиться по надувному трапу на спине, задрав ноги — так вы не задержите следующих за вами пассажиров.
Чтобы быстро и правильно пройти в проем люка, запомните простое правило: сперва нога, потом голова. Если ноги останутся сзади, можете рухнуть на надувной трап вниз головой, и ею же затормозиться о землю.
Никаких вещей с полок, никакой одежды, обуви! Гори они синим огнем — не до них теперь. Пассажиры должны выскочить за минуту, все! И за ними — проводники и экипаж. А капитан обязан пробежать по салонам, убедиться, что никого из живых там не осталось, ни в вестибюлях, ни в туалетах, — и покинуть судно последним.
Если вас, крепкого мужчину, бортпроводники привлекли к процессу эвакуации пассажиров с помощью желоба, будьте джентльменом. Спуститесь по канату, схватите вместе с напарником угол выброшенного брезентового желоба, натяните его и принимайте пассажиров.
И внизу, у надувного трапа, сильные мужчины должны подхватывать и оттаскивать в сторону стариков, женщин и детей. Всегда, во все времена, мужчина был там, где труднее и опаснее, а женщины и дети надеялись на его силу и мужество.
Покидая самолет через аварийные люки над крылом, используйте специальные канаты с узлами, выходите на крыло и спускайтесь назад по полету, по выпущенным закрылкам: там краской специально обозначена дорожка.
При посадке на воду запомните важную вещь. Надутый, как мяч, самолет не тонет. Он уравновесится на поверхности воды; возможно, нос или хвост будут приподняты выше. Вот в той части фюзеляжа и откроют вам выходы. Экипаж выбросит надувные плоты и даст команду перемещаться по салону и усаживаться на плоты, либо на надувные трапы — это же большие лодки! Не надо только бежать скопом, массой, к двери, чтобы самолет не перевесился и не зачерпнул воды в опустившийся выход.
Экипаж вынесет аварийную радиостанцию и оборудование, с помощью которого плоты будут быстро обнаружены спасателями.
Жилеты, надетые заранее, не надо надувать до команды. Если команды не поступило, клапан баллончика открывайте, только попав в воду; жилет надувается моментально. Если же вы застрянете в проеме люка в надутом жилете, всем будет плохо.
Самолет постепенно будет набирать воду через открытые выпускные клапаны и дренажные отверстия. Он утонет, возможно, лишь через полчаса. За это время люди, не спеша, но и не задерживаясь, грузятся на плоты, обрезают фалы и отплывают. На плоту надо подчиняться назначенному капитаном члену экипажа.
Если вы будете знать, как правильно покинуть машину, то случись что — вряд ли поддадитесь панике, а то еще и поможете другим в беде. Мы же русские люди, в конце концов!
Вот еще и поэтому я настоятельно не рекомендую пить перед полетом и в полете. Пьяный человек в аварийной ситуации вполне может довести ее до катастрофической.
Человек больше всего боится неизвестности. Поэтому я стараюсь подробнее ознакомить вас с нашей кухней. Лучше знать и быть готовым, чем не знать и мучиться предположениями.
Летчиков часто спрашивают, где безопаснее всего размещаться в салоне на случай вынужденной посадки (они говорят, падения) самолета?
На случай падения — все равно где.
На случай же вынужденной посадки вне аэродрома опасности следует ждать не спереди, а, скорее, снизу. Разрушающее действие на самолет окажут вертикальные перегрузки в момент приземления и пробега. Здесь все зависит от того, какое поле выберет капитан для приземления: ровное или не очень. Если не очень — самолет на пробеге будет испытывать нагрузки, стремящиеся переломить самолет в районе основных ног шасси. Если шасси сложатся от перегрузок, фюзеляж будет следовать изгибам рельефа и затормозится очень быстро, но при этом велика вероятность возникновения пожара.
Всего не предусмотришь. Примите рекомендуемую позу и молите Бога, чтоб укрепил руку и сердце капитана. Да минует нас чаша сия. Будь что будет.
«А… поеду-ка я поездом!»
Выбор — за вами.
Я знаю очень мало случаев вынужденной посадки пассажирского лайнера вне аэродрома. Настолько мало, что и вам не стоит морочить голову.
Да довезем мы вас. Довезем куда положено, согласно купленным билетам. И с отказами материальной части — все равно довезем. Довезем через все грозы, через болтанку и обледенение, посадим машину при боковом ветре, при низком коэффициенте сцепления, и затормозим вовремя, и постепенно скорость наша уменьшится, и вкатимся на перрон… Вот тогда и подумайте о том, что вас везли — и таки довезли — Мастера, сильные, умелые и выносливые ездовые псы Неба. Сейчас они вместе с вами зайдут в автобус. Всмотритесь в их лица, загляните в усталые глаза.
А потом, когда вам навстречу раскроются объятия родных, еще раз оглянитесь на Летчика. Может быть, вы увидите в его глазах отблеск счастья.
— Уважаемые пассажиры! Наш экипаж прощается с вами. Надеемся, что воздушное путешествие доставило вам удовольствие. Мы будем рады встретиться с вами вновь на воздушных судах нашей авиакомпании. Желаем вам дальнейших увлекательных полетов.
Благодарю за внимание. До свидания, до новых встреч!
Черемшанка. 2008 г.


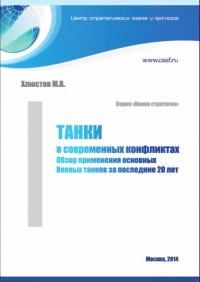

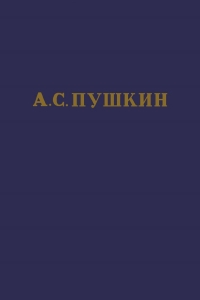

Комментарии к книге «Аэрофобия», Василий Васильевич Ершов
Всего 0 комментариев