Лев Николаевич Толстой Собрание сочинений в двадцати двух томах Том 21. Избранные дневники 1847-1894
1847
17 марта. [Казань. ]* Вот уже шесть дней, как я поступил в клинику, и вот шесть дней, как я почти доволен собою. […] Здесь я совершенно один, мне никто не мешает, здесь у меня нет услуги, мне никто не помогает — следовательно, на рассудок и память ничто постороннее не имеет влияния, и деятельность моя необходимо должна развиваться. Главная же польза состоит в том, что я ясно усмотрел, что беспорядочная жизнь, которую большая часть светских людей принимают за следствие молодости, есть не что иное, как следствие раннего разврата души.
Уединение равно полезно для человека, живущего в обществе, как общественность для человека, не живущего в оном. Отделись человек от общества, взойди он сам в себя, и как скоро скинет с него рассудок очки, которые показывали ему все в превратном виде, и как уяснится взгляд его на вещи, так что даже непонятно будет ему, как не видал он всего того прежде. Оставь действовать разум, он укажет тебе на твое назначение, он даст тебе правила, с которыми смело иди в общество. Все, что сообразно с первенствующею способностью человека — разумом, будет равно сообразно со всем, что существует; разум отдельного человека есть часть всего существующего, а часть не может расстроить порядок целого. Целое же может убить часть. Для этого образуй твой разум так, чтобы он был сообразен с целым, с источником всего, а не с частью, с обществом людей; тогда твой разум сольется в одно с этим целым, и тогда общество, как часть, не будет иметь влияния на тебя.
Легче написать десять томов философии, чем приложить какое-нибудь одно начало к практике.
18 марта. Я читал «Наказ» Екатерины*, и, так как дал себе вообще правило, читая всякое сурьезное сочинение, обдумывать его и выписывать из него замечательные мысли, я пишу здесь мое мнение о первых шести главах этого замечательного произведения.
[…] Понятия о свободе под правлением монархическим суть следующие: свобода, говорит она, есть возможность человека делать все то, что он должен делать, и не быть принужденным делать то, что не должно делать. Я бы желал знать, что понимает она под словом должно и не должно; ежели она разумеет под словом, что должно делать, естественное право, то из этого ясно следует, что свобода может только существовать в том государстве, в законодательстве которого право естественное ни в чем не разнствует с правом положительным — мысль совершенно верная. […]
19 марта. Во мне начинает проявляться страсть к наукам; хотя из страстей человека эта есть благороднейшая, но не менее того я никогда не предамся ей односторонне, т. е. совершенно убив чувство и не занимаясь приложением, единственно стремясь к образованию ума и наполнению памяти. Односторонность есть главная причина несчастий человека. […]
21 марта. В X главе излагаются основные правила и опаснейшие ошибки, касающиеся до уголовного судопроизводства.
В начале этой главы она задает себе вопрос. Откуда происходят наказания и откуда происходит право наказывать? На первый вопрос она отвечает: «Наказания происходят от необходимости охранения законов». На второй отвечает тоже весьма остроумно. Она говорит: «Право наказывать принадлежит одним законам, а делать законы может только монарх, как представитель всего государства». Во всем этом «Наказе» представляются нам постоянно два разнородные элемента, которые Екатерина постоянно хотела согласить: именно, сознание необходимости конституционного правления и самолюбие, то есть желание быть неограниченною властительницей России. Например, говоря, что в монархическом правлении только монарх может иметь законодательную власть, она принимает существование этой власти за аксиому, не упоминая происхождения ее. Низшее правительство не может накладывать наказаний, ибо оно есть часть целого, а монарх имеет это право, ибо он есть представитель всех граждан, говорит Екатерина. Но разве представительство государем народа в неограниченных монархиях есть выражение совокупности частных, свободных волей граждан? Нет, выражение общей воли в неограниченных монархиях есть следующее: я терплю зло меньшее, ибо если бы не терпел его, подвергнулся бы злу большему.
24 марта. Я много переменился; но все еще не достиг той степени совершенства (в занятиях), которого бы мне хотелось достигнуть. Я не исполняю того, что себе предписываю; что исполняю, то исполняю не хорошо, не изощряю памяти. Для этого пишу здесь некоторые правила, которые, как мне кажется, много мне помогут, ежели я буду им следовать. 1) Что назначено непременно исполнить, то исполняй, несмотря ни на что. 2) Что исполняешь, исполняй хорошо. 3) Никогда не справляйся в книге, ежели что-нибудь забыл, а старайся сам припомнить. 4) Заставь постоянно ум твой действовать со всею ему возможною силою. 5) Читай и думай всегда громко. 6) Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают, что они мешают; сначала дай почувствовать, а ежели он не понимает, то извинись и скажи ему это. Сообразно с вторым правилом, я хочу непременно кончить комментировать весь наказ Екатерины.
[…] В главе XIII говорится о рукоделиях и торговле. Справедливо замечает Екатерина, что земледелие есть начало всякой торговли и что в той земле, где люди не имеют своей собственности, земледелие процветать не может; ибо люди обыкновенно больше пекутся о вещах, им принадлежащих, чем о вещах, которые от них могут быть всегда отняты. Вот причина, по которой в нашем отечестве земледелие и торговля процветать не могут до тех пор, покуда будет существовать рабство; ибо человек, подвластный другому, не только не может быть уверен постоянно владеть своею собственностью, но даже не может быть уверен в своей собственной участи. Потом: «Искусным земледельцам и ремесленникам должно давать премии». По моему мнению, в государстве равно необходимо наказывать зло, как вознаграждать добро.
25 марта. Недостаточно отвращать людей от зла, нужно еще их поощрять к добру. Далее она говорит, что тех народов, которые по климату ленивы, надо приучать к деятельности отнятием у них всех способов пропитания, исключая труда; замечает тоже, что эти народы обыкновенно бывают склонны к гордости, и что самая эта гордость может служить орудием к истреблению лени. Народы, по климату ленивые, всегда бывают одарены пылкими чувствами, и ежели бы они были деятельны, то государство было бы несчастнее. Лучше бы сделала Екатерина, ежели бы сказала: люди, а не народы. И в самом деле, прикладывая ее замечания к частным лицам, мы найдем, что они чрезвычайно справедливы.
Потом она говорит, что в многонаселенных странах машины, заменяющие руки работников, часто не нужны и пагубны, а что для вывозимых рукоделий чрезвычайно нужно употреблять машины, ибо те народы, которым мы продаем их, могут купить такие же товары у соседственных народов.
Я думаю совершенно напротив, машины для рукоделий, внутри государства обращающихся, бесконечно полезнее машин для рукоделий вывозимых товаров. Ибо машины для рукоделий общеполезных, сделав эти рукоделия много дешевле, улучшили бы состояние граждан вообще; между тем как вывозимые товары приносят выгоды только одним частным лицам. Мне кажется, что причина бедности низшего класса в Англии есть та, что: во-первых, он не имеет поземельной собственности, и, во-вторых, потому, что там все внимание исключительно устремлено на торговлю внешнюю.
Весьма справедливо говорит Екатерина, что великое зло для торговли суть монополии. По моему мнению, монополия есть зло и притеснение торговле, купечеству и самим гражданам. Для торговли это есть зло потому, что ежели бы монополии не существовало, то вместо одного лица или компании, занимающейся этой частью торговли, занимались бы ею большее число торгующих. Для купечества потому, что оно лишено участия в этой части торговли. И для граждан потому, что каждый монопол дает как бы свои законы гражданам. К несчастию, это зло в нашем отечестве пустило глубокие корни.
Далее Екатерина говорит о том, что весьма бы было полезно устроить банк; но, чтобы граждане не сомневались в неприкосновенности этого банка, нужно, чтобы он был учрежден при каком-нибудь благотворительном заведении.
Чрезвычайно странны многие мысли Екатерины; она постоянно хочет доказать, что, хотя монарх не ограничен ничем внешним, он ограничен своей совестью; но ежели монарх признал себя, вопреки всем естественным законам, неограниченным, то уже у него нет совести, и он ограничивает себя тем, чего у него нет. Потом Екатерина старается доказать, что ни монарх, ни благородные не должны заниматься торговлею. Что монарх не должен заниматься торговлею, это ясно, ибо ему не нужно бы было даже торговать, чтоб завладеть всем в своем государстве, ежели бы он этого хотел.
Но почему же благородные в России не должны торговать? Ежели бы у нас была аристократия, которая бы ограничивала монарха, то в самом деле ей бы и без торговли было бы много дела. Но у нас нет ее. Наша аристократия рода исчезает и уже почти исчезла по причине бедности; а бедность произошла оттого, что благородные стыдились заниматься торговлею. Дай бог, чтобы в наше время благородные поняли свое высокое назначение, которое состоит единственно в том, чтобы усилиться. Чем поддерживается деспотизм? Или недостатком просвещения в народе, или недостатком сил со стороны угнетенной части народа.
[…] В XV главе говорится о дворянстве. Здесь Екатерина определяет, что есть дворянство и какая обязанность его; именно, обязанностью его она полагает защищение отечества и чинение в оном правосудия. Основными правилами же его она полагает добродетель и честь. Montesquieu признавал только одну честь основанием (principe) всего монархического правления, она же прибавляет к ней еще добродетель; в самом деле, добродетель может быть принята за основание монархического правления. Но история доказывает нам, что этого еще никогда не было. Замечательна ее мысль о том, что никто лишить права дворянства не может дворянина, ежели он достоин этого звания. В заключении о дворянстве она говорит, что пользоваться славой и почестями имеют право те, которых предки достойны были славы и почестей. После басни Крылова о гусях против этой ложной мысли ничего больше сказать нельзя. […]
26 марта. В XX главе содержатся разные статьи, требующие объяснения. Сначала говорится о преступлении в оскорблении Величества. Именно — это преступление есть совокупление слов с действием, стремящееся ко вреду монарха или монархии. Например, когда гражданин выходит на площадь и возбуждает народ словами, то он наказывается, но не за слова, а за действие, которого началом или следствием были эти слова. Речи же, против правительства клонящиеся, по причине трудности доказать это преступление, не должны быть наказываемы смертью, как вообще все преступления против Величества, а просто исправительными наказаниями. Письма же такого рода должны быть наказываемы смертью. Это постановление доказывает ясно, что в деспотическом правлении монарх не может надеяться на верность граждан. Почему? Потому что, так как в деспотии нет договора, посредством которого одно лицо имело бы право, а граждане обязанность, и наоборот, а властью этой завладело одно лицо посредством силы, то и говорю я: так как такого договора в деспотии не существовало, то и обязанности со стороны граждан существовать не может.
[…] Вообще о «Наказе» императрицы Екатерины можно сказать следующее. В нем, как я уже прежде сказал, везде мы находим два противоположных начала — дух революционный, под влиянием которого находилась тогда вся Европа, и дух деспотизма, от которого тщеславие ее заставляло ее не отказываться. Хотя она сознавала превосходство первого, не менее того в ее «Наказе» преобладает последний. Она республиканские идеи, заимствованные большей частью от Montesquieu (как справедливо замечает Мейер), употребляла как средство для оправдания деспотизма, но большей частью неудачно. От этого-то в ее «Наказе» нам часто встречаются мысли, нуждающиеся в доказательствах, без оных, мысли республиканские рядом с мыслями самыми деспотическими и, наконец, часто выводы, совершенно антилогические.
При первом взгляде на этот «Наказ» мы узнаем, что это был плод ума женщины, которая, несмотря на свой великий ум, на свои возвышенные чувства, на свою любовь к истине, не могла подавить своего мелочного тщеславия, которое помрачает ее великие достоинства. Вообще мы находим в этом произведении более мелочности, чем основательности, более остроумия, чем разума, более тщеславия, чем любви к истине, и, наконец, более себялюбия, чем любви к народу. Это последнее направление проявляется во всем «Наказе», в котором мы находим только одни постановления, касающиеся публичного права, то есть отношений государства (ее собственных отношений, как представительницы оного), чем гражданского, то есть отношений частных граждан. В заключение скажу, что «Наказ» этот принес больше славы Екатерине, чем пользы России.
([7] апреля. 8 часов утра.) Я никогда не имел дневника, потому что не видал никакой пользы от него. Теперь же, когда я занимаюсь развитием своих способностей, по дневнику я буду в состоянии судить о ходе этого развития. В дневнике должна находиться таблица правил, и в дневнике должны быть тоже определены мои будущие деяния. Через неделю ровно я еду в деревню*. Что же делать эту неделю? Заниматься английским и латинским языком, римским правом и правилами. Именно: прочесть «Vicar of Wakefield»*, изучив все незнакомые слова, и пройти 1-ю часть грамматики; прочесть как с пользой для языка, так и для римского права первую часть институций*, и окончить правила внутреннего образования, и отыграть потерянное ламе в шахматы*.
(8 апреля. 6 часов утра.) Надежда есть зло для счастливого и добро для несчастного.
Хотя я уже много приобрел с тех пор, как начал заниматься собою, однако еще все я весьма недоволен собою. Чем далее подвигаешься в усовершенствовании самого себя, тем более видишь в себе недостатков, и правду сказал Сократ, что высшая степень совершенства человека есть знать то, что он ничего не знает.
9 апреля (6 часов утра). Я совершенно доволен собою за вчерашний день. Я начинаю приобретать волю телесную; но умственная еще очень слаба. Терпение и прилежание, и я уверен, что я достигну всего, что я хочу.
17 апреля. Все это время я вел себя не так, как я желал себя вести. Причиною тому было, во-первых, мой переход из клиники домой; а во-вторых, общество, с которым я стал иметь больше сношений. Из этого я заключил, что при всякой перемене положения надо очень основательно подумать о том, какие внешние обстоятельства будут иметь влияние на меня при новом положении и каким образом можно устранить это влияние. Ежели мой переход из клиники домой мог произвести на меня такое влияние, какое же влияние произведет на меня мой переход от жизни студенческой к жизни помещичьей?*
Перемена в образе жизни должна произойти. Но нужно, чтобы эта перемена не была произведением внешних обстоятельств, но произведением души. Здесь мне представляется вопрос: какая цель жизни человека? Какая бы ни была точка исхода моего рассуждения, что бы я ни принимал за источник оного, я прихожу всегда к одному заключению: цель жизни человека есть всевозможное способствование к всестороннему развитию всего существующего. Начну ли я рассуждать, глядя на природу, я вижу, что все в ней постоянно развивается и что каждая составная часть ее способствует бессознательно к развитию других частей; человек же, так как он есть такая же часть природы, но одаренная сознанием, должен так же, как и другие части, но сознательно употребляя свои душевные способности, стремиться к развитию всего существующего. Стану ли я рассуждать, глядя на историю, я вижу, что весь род человеческий постоянно стремился к достижению этой цели. Стану ли рассуждать рационально, то есть рассматривая одни душевные способности человека, то в душе каждого человека нахожу это бессознательное стремление, которое составляет необходимую потребность его души. Стану ли рассуждать, глядя на историю философии, найду, что везде и всегда люди приходили к тому заключению, что цель жизни человека есть всестороннее развитие человечества. Стану ли рассуждать, глядя на богословию, найду, что у всех почти народов признается существо совершенное, стремиться к достижению которого признается целью всех людей. И так я, кажется, без ошибки за цель моей жизни могу принять сознательное стремление к всестороннему развитию всего существующего.
Я бы был несчастливейший из людей, ежели бы я не нашел цели для моей жизни — цели общей и полезной, полезной потому, что бессмертная душа, развившись, естественно перейдет в существо высшее и соответствующее ей. Теперь же жизнь моя будет вся стремлением деятельным и постоянным к этой одной цели.
Теперь я спрашиваю. Какая будет цель моей жизни в деревне в продолжение двух лет? 1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университете. 2) Изучить практическую медицину и часть теоретической. 3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. 4) Изучить сельское хозяйство, как теоретическое, так и практическое. 5) Изучить историю, географию и статистику. 6) Изучить математику, гимназический курс. 7) Написать диссертацию. 8) Достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи. 9) Написать правила. 10) Получить некоторые познания в естественных науках. 11) Составить сочинения из всех предметов, которые буду изучать.
18 апреля. Я написал вдруг много правил и хотел им всем следовать; но силы мои были слишком слабы для этого. Теперь же я хочу дать себе одно только правило и прибавить к нему другое тогда только, когда я уже привыкну следовать одному. Первое правило, которое я назначаю, есть следующее № 1. Исполняй все то, что ты определил быть исполнену. Не исполнил правила.
19 апреля. Встал чрезвычайно поздно и только в 2 часа определил, что делать в продолжение дня.
14 июня. [Ясная Поляна. ] Почти через два месяца берусь я за перо, чтобы продолжать свой дневник. Ах, трудно человеку развить из самого себя хорошее под влиянием одного только дурного. Пускай не было бы хорошего влияния, но не было бы и дурного, и тогда бы в каждом существе дух взял бы верх над материей; но дух развивается различно. Или развитие его в каждом существе отдельно составляет часть всеобщего развития. Или упадок его в отдельных существах усиливает его развитие во всеобщем.
16 июня. Дойду ли я когда-нибудь до того, чтобы не зависеть ни от каких посторонних обстоятельств? По моему мнению, это есть огромное совершенство; ибо в человеке, который не зависит ни от какого постороннего влияния, дух необходимо по своей потребности превзойдет материю, и тогда человек достигнет своего назначения. Я начинаю привыкать к 1-му правилу, которое я себе назначил, и нынче назначаю себе другое, именно следующее: смотри на общество женщин как на необходимую неприятность жизни общественной и, сколько можно, удаляйся от них. В самом деле, от кого получаем мы сластолюбие, изнеженность, легкомыслие во всем и множество других пороков, как не от женщин? Кто виноват тому, что мы лишаемся врожденных в нас чувств: смелости, твердости, рассудительности, справедливости и др., как не женщины? Женщина восприимчивее мужчины, поэтому в века добродетели женщины были лучше нас, в теперешний же развратный, порочный век они хуже нас.
[Правила]
[март — май 1847 г.]
Правила внутренние или в отношении к самому себе разделяются на правила образования нравственного и правила образования телесного. Задачей первых есть: развить волю, умственные способности (обдуманность и деятельность). Воля бывает на различных ступенях развития, смотря по тому, над какой частью человека она преобладает. Три главные момента ее владычества суть: преобладание над телом, преобладание над чувствами и над разумом. В каждый момент ее преобладания она сливается в одно с той частью человека, над которой она преобладает, так что уже не существует более этой части самостоятельно, а существует только воля, одаренная способностями этой части человека.
Ежели воля преобладает над телом, что есть низшая ступень ее развития, то тело перестает существовать самостоятельно, а существует одна воля телесная. Ежели она преобладает над чувствами, то ни тело, ни чувства более не существуют самостоятельно, а существует одна воля телесная и чувственная; ежели же воля преобладает над разумом, то разум перестает существовать самостоятельно, а существует одна воля телесная, чувственная и разумная. Ибо когда воля преобладает над какой бы то ни было из этих частей человека, то она может отречься от требований каждой этой части человека. Ежели же она может отрекаться, то она может и выбирать; ежели же она выбирает, то она и определяет деяния каждой из этих частей человека; ежели же она определяет все деяния человека, следовательно, ни тело, ни чувства, ни разум не могут действовать самостоятельно, и одна только воля может заставить их делать то или другое.
Низшее преобладание воли есть преобладание ее над телом. Эту ступень развития воли мы находим почти у всех людей, она есть необходимое условие существования человека, хотя и есть немногочисленные исключения: младенчество, дряхлость и болезни, как телесные, так и духовные (апатия, анемия). Воля телесная хотя и самостоятельна, но, однако, подлежит влиянию чувства и разума. Вторая степень преобладания воли — преобладание ее над чувствами, или воля чувственная, встречается реже. Хотя воля чувственная выше воли телесной, не менее того на нее имеет влияние высшая способность духа — разум.
Высшая же степень преобладания воли есть преобладание ее над разумом. Когда воля преобладает над разумом, то ни тело, ни чувства не существуют более самостоятельно, а существует одна воля разумная. Эта степень преобладания есть высшая степень развития духа человека; в этом положении дух совершенно отделяется от тела, он более не связан им. Эту степень развития воли мы весьма редко встречаем. В этом состоянии воля повелевает разуму мыслить, и мыслить об том только, что разумно. В этом положении души тело, чувства и разум перестают существовать самостоятельно, существует одна воля, одаренная телесными, чувственными и разумными способностями человека; в этом положении дух человека восходит на высшую степень своего развития и совершенно отдаляется, от всего вещественного и чувственного; в этом положении души разум мыслит только потому, что воля хочет, чтобы он мыслил, и мыслит о том, а не о другом, потому что именно этот предмет мышления избрала воля. На таковую степень воли ничто не имеет влияния.
Для того, чтобы развить волю вообще и дойти до высшей ступени ее развития, надо необходимо пройти и низшие ступени. Сообразно с этим делением воли, я и правила нравственные, имеющие предметом развить волю, делю на три отдела: на 1) правила для развития воли телесной, 2) правила для развития воли чувственной, 3) правила для развития воли разумной.
Правила для развития воли телесной
Правило общее. Все деяния должны быть определениями воли, а не бессознательным исполнением телесных потребностей. Так как мы уже сказали, что на волю телесную имеют влияние чувства и разум, то эти две способности должны определить правила, по которым бы могла действовать воля телесная для своего развития. Чувства дают ей направление и указывают цель ее, разум же дает способы, которыми телесная воля может достигнуть этой цели.
Правило 1) Каждое утро назначай себе все, что ты должен делать в продолжение целого дня, и исполняй все назначенное даже в том случае, ежели исполнение назначенного влекло за собою какой-нибудь вред. Кроме развития воли, это правило разовьет и ум, который будет обдуманнее определять деяния воли. Правило 2) Спи как можно меньше (сон, по моему мнению, есть такое положение человека, в котором совершенно отсутствует воля). Правило 3) Все телесные неприятности переноси, не выражая их наружно. 4) Будь верен своему слову. 5) Ежели ты начал какое бы то ни было дело, то не бросай его, не окончив. 6) Имей всегда таблицу, в которой бы были определены все самые мелочные обстоятельства твоей жизни, даже сколько трубок курить в день. 7) Ежели ты что-нибудь делаешь, то напрягай все свои телесные способности на тот предмет, который ты делаешь. Ежели же переменяется твой образ жизни, то переменяй и эти правила.
Правила для развития воли чувственной
(Чувства сами назначают себе цель.)
Источник всех чувств есть любовь вообще, которая разделяется на два рода любви: любовь к самому себе, или самолюбие, и любовь к всему нас окружающему. (Я не признаю любви к богу; потому что нельзя называть одним именем чувство, которое мы имеем к себе подобным или низшим существам, и чувство к высшему, не ограниченному ни в пространстве, ни в времени, ни в силе, и непостижимому существу.) Эти два основные чувства действуют взаимно одно на другое. Общее правило: все чувственные деяния не должны быть бессознательным исполнением потребностей чувства, но определением воли. Все чувства, имеющие источником любовь ко всему миру, хороши, все чувства, имеющие источником самолюбие, дурны. Рассмотрим каждый разряд чувств порознь. Какие чувства происходят от самолюбия? 1) Славолюбие, 2) корыстолюбие, 3) и любовь (между мужчиной и женщиной).
Теперь посмотрим, какие должны быть правила для преобладания воли над каждым из этих чувств.
Правила для подчинения воле чувства самолюбия
Правило 8) Не заботься о одобрении людей, которых ты или не знаешь, или презираешь. Правило 9) Занимайся более сам с собою, чем мнением других. 10) Будь хорош и старайся, чтобы никто не знал, что ты хорош. (Славолюбие бывает полезно другим, но не самому себе.) 11) Ищи в других людях всегда хорошую сторону, а не дурную. Всегда говори правду. Ежели, действуя для себя, деяния твои кажутся странными, то не оправдывай свои деяния ни перед кем. К правилам для подчинения чувств воле нужно прибавить еще одно следующее. 12) Никогда не выражай своих чувств наружно.
Правила для подчинения воле чувства корыстолюбия
Правило 13) Живи всегда хуже, чем ты бы мог жить. 14) Не переменяй образа жизни, ежели бы даже ты сделался в десять раз богаче. 15) Всякое приращение к твоему имению употребляй не для себя, а для общества.
Правила для подчинения воле чувства любви
Правило 1-е. Отдаляйся от женщин. 2-е. Убивай трудами свои похоти.
Чувства, происшедшие от любви, суть: 1) любовь ко всему существующему, 2) любовь к отечеству, 3) любовь к известным лицам.
Правила для подчинения воле чувства всеобщей любви
Правило 16. Жертвуй всеми прочими чувствами любви любви всеобщей, тогда воля будет требовать одного исполнения потребностей любви всеобщей и будет преобладать над нею. Правило 17-е). Жертвуй десятую долю всего того, чем ты можешь располагать, для блага других.
Люби себя равно с другими и помогай более тем, которые несчастнее и тебе удобнее помогать.
Правила для подчинения воле чувства любви отечества любви известных лиц
18) Эти все чувства подчиняются одно другому в том самом порядке, в котором они здесь стоят.
Правила для развития воли разумной
Правило 19) Определяй с начала дня все твои умственные занятия. 20) Когда ты занимаешься, старайся, чтобы все умственные способности были устремлены на этот предмет. 21) Чтобы ничто внешнее, телесное или чувственное не имело влияния на направление твоей мысли, но чтобы мысль определяла сама себя. 22) Чтобы никакая боль, как телесная, так и чувственная, не имела влияния на ум.
Какое бы ты ни начал умственное занятие, не бросай его до тех пор, покуда ты его не кончишь. Так как это правило может повести к большим злоупотреблениям, то здесь нужно его ограничить следующим правилом: имей цель для всей жизни, цель для известной эпохи твоей жизни, цель для известного времени, цель для года, для месяца, для недели, для дня и для часу и для минуты, жертвуя низшие цели высшим.
Правила для развития памяти
Правило 23) Составляй конспект из всего, чем занимаешься, и учи его наизусть. 24) Каждый день учить стихи на таком языке, который ты слабо знаешь. 25) Повторяй вечером все то, что узнал в продолжение дня. Каждую неделю, каждый месяц и каждый год экзаменуй себя во всем том, чем занимался, ежели же найдешь, что забыл, то начинай сначала.
Правила для развития деятельности
Деятельность бывает трех родов. Деятельность телесная, чувственная и умственная. Сообразно с этим и правила для развития деятельности разделяются на правила для развития деятельности телесной, чувственной и умственной.
а) Правила для развития деятельности телесной
Правило 26) Придумывай себе как можно больше занятий. 27) Не имей прислуги. 28) Не требуй помощников в том деле, которое ты можешь кончить один.
Правила для развития деятельности чувственной
Как уже сказано, что все чувства, происходящие от самолюбия, дурны, то, следовательно, здесь нам следует только дать правила, по которым могла бы развиться деятельность чувств, происходящих от любви вообще. Правило 29), относящееся к любви вообще. Чтоб каждый день любовь твоя ко всему роду человеческому выражалась бы чем-нибудь. Правило 30), относящееся к любви к отечеству. Будь полезен, сколько ты можешь, отечеству. 31), относящееся к любви к известным лицам. Старайся как можно больше находить людей, которых бы ты мог любить больше, чем всех ближних. 32), относящееся к любви к родственникам.
Правила для развития деятельности умственной
Правило 32) Не делай châteaux en Espagne[1]. 33) Старайся дать уму как можно больше пищи.
Правила для развития умственных способностей
Мы имеем пять главных умственных способностей. Способность представления, способность памяти, способность сравнения, способность делать выводы из этих сравнений и, наконец, способность приводить выводы эти в порядок.
Правила для развития способности представления
34) Очень полезны для развития этой способности все игры, требующие соображения.
О правилах для развития способности памяти я уже говорил.
Правила для развития способности сравнения
35) Изучай хорошо те предметы, которые ты сравниваешь. 36) Всякую новую тебе встретившуюся мысль сравнивай с теми мыслями, которые тебе известны. Все отвлеченные мысли оправдывай примерами.
Правила для развития способности делать выводы
36) Занимайся математикой. 37) Занимайся философией. 38) Всякое философическое сочинение читай с критическими замечаниями.
Правила для развития способности приводить выводы в порядок
39) Изучи систему своего существа. 40) Все твои сведения по одной какой-нибудь отрасли знания приведи к одному общему выводу. 41) Все выводы сравни между собою, и чтобы ни один вывод не противоречил другому. 42) Пиши сочинения не мелкие, но ученые.
Правила для развития чувств высоких и уничтожения чувств низких, или иначе: правила для развития чувства любви и уничтожения чувства самолюбия
Правило общее: чем более исполняешь ты какую-нибудь из твоих потребностей, тем более она усиливается, и чем менее исполняешь ты ее, тем менее она действует. 42) Любя всех равно, не исключай и самого себя из этой любви. 43) Каждого ближнего люби так же, как и самого себя, но двух ближних люби более, нежели самого себя.
Правила для развития обдуманности
Всякий предмет осматривай со всех сторон. Всякое деяние осматривай со стороны его вреда и его пользы. При всяком деянии рассматривай, сколькими способами оно может быть сделано и который из этих способов лучший. Рассматривай причины всякого явления и могущие быть от него следствия.
1850
14 июня 1850. [Ясная Поляна. ]Опять принялся я за дневник и опять с новым рвением и с новою целью. Который уж это раз? Не помню. Все равно, может, опять брошу; зато приятное занятие и приятно будет перечесть, так же как приятно было перечесть старые. Мало ли бывает в голове мыслей, и которые кажутся весьма замечательными; а как рассмотришь, выйдет пустошь; иные же точно дельные — вот для этого-то и нужен дневник. По дневнику весьма удобно судить о самом себе.
Потом, так как я нахожу необходимым определять все занятия вперед, то для этого тоже необходим дневник. Хотелось бы привыкнуть определять свой образ жизни вперед, не на один день, а на год, на несколько лет, на всю жизнь даже; слишком трудно, почти невозможно; однако попробую, сначала на день, потом на два дни — сколько дней я буду верен определениям, на столько дней буду задавать себе вперед. Под определениями этими я разумею не моральные правила, не зависящие ни от времени, ни от места, правила, которые никогда не изменяются и которые я составляю особенно, а именно определения временные и местные: где и сколько пробыть, когда и чем заниматься.
Представляются случаи, в которых эти определения могут быть изменяемы; но в том только случае я допускаю такого рода отступления, когда они определены правилами; поэтому-то в случае отступлений я в дневнике буду объяснять причины оных.
[…] Последние три года, проведенные мною так беспутно, иногда кажутся мне очень занимательными, поэтическими и частью полезными; постараюсь пооткровеннее и поподробнее вспомнить и написать их. Вот еще третье назначение для дневника.
17 июня. Встал в 8-м часу, до 10 ничего не делал, от 10 до 12 читал и дневник, 12 до 6 завтрак, отдых, некоторые мысли о музыке и обед, 6–8 музыка, 8-10 хозяйство.
Когда бываю в апатическом расположении, то я заметил, что очень возбуждает меня к деятельности всякое философическое сочинение, — теперь читаю Montesquieu. Мне кажется, что я стал лениться оттого, что много слишком начал, поэтому вперед не буду переходить к другому занятию, покуда не выполню назначенного. Для того, чтобы я не мог отговариваться тем, что не успел составить систему, буду вписывать в дневник как правила общие, так и правила по части музыки и хозяйства.
Из правил общих. То, что предположил себе делать, не откладывай под предлогом рассеянности или развлечения; но тотчас, хотя наружно, принимайся за дело. Мысли придут. Например, ежели предположил писать правила, то вынь тетрадь, сядь за стол и до тех пор не вставай, пока не начнешь и не кончишь.
Правила по части музыки. Ежедневно играть: 1) все 24 гаммы, 2) все аккорды, арпеджио на две октавы, 3) все обращения, 4) хроматическую гамму. Учить одну пьесу и до тех пор не идти далее, пока не будет места, где будешь останавливаться. Все встречающиеся cadenza перекладывать во все тоны и учить. Ежедневно, по крайней мере, четыре страницы музыки разыгрывать, и не идти, пока не найдешь настоящий doigté[2].
По части хозяйства. Всякое приказание обдумать со стороны его пользы и вреда. Ежедневно лично осмотреть всякую часть хозяйства. Приказывать, бранить и наказывать не торопиться, помнить, что в хозяйстве, больше чем в чем-нибудь, нужно терпение. Всякое данное приказание, хотя бы оно оказалось и вредным, отменять только по своему усмотрению и в крайней необходимости.
Записки. Зиму третьего года я жил в Москве, жил очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели; и жил так не потому, что, как говорят и пишут многие, в Москве все так живут, а просто потому, что такого рода жизнь мне нравилась. Частью же располагает к лени и положение молодого человека в московском свете. Я говорю: молодого человека, соединяющего в себе некоторые условия; а именно, образование, хорошее имя и тысяч десять или двадцать доходу. Молодого человека, соединяющего эти условия, жизнь самая приятная и совершенно беспечная, ежели он не служит (то есть серьезно), а просто числится и любит полениться. Все гостиные открыты для него, на каждую невесту он имеет право иметь виды; нет ни одного молодого человека, который бы в общем мнении света стоял выше его. Приезжай же тот же барин в Петербург, его будет мучить, отчего С. и Г. Горчаковы были при дворе, а я не был; как бы попасть на вечера к баронессе З., на рауту к графине А. и т. д., и не попадет, только ежели может взойти в салоны эти, опираясь на какую-нибудь графиню. И ежели он не вырос там, или ежели не умеет переносить унижения, пользоваться всяким случаем, и проползти хотя с трудом, но без чести.
18 июня. Встал в семь с половиной, до 11 ничего, 11–12 музыка, 2–5 хозяйство, 6–8 о музыке, 8-11 наряд, музыка и чтение.
19 июня. Вчерашний прошел довольно хорошо, исполнил почти все; недоволен одним только: не могу преодолеть сладострастия, тем более, что эта страсть слилась у меня с привычкой. Теперь, исполнив два дня, делаю распределение на два дня: 19 июня. 5–8 хозяйство и мысли о музыке, 8-10 чтение, 10–12 писать мысли о музыке, 12-6 отдых, 6–8 музыка, 8-10 хозяйство. — 20 июня. 5-10 хозяйство и дневник, 10–12 музыка, 12-6 отдых, 6-10 хозяйство.
Из правил общих. Случается, что вспомнишь что-нибудь неприятное и не обдумаешь хорошенько этого неприятного, надолго испортишь юмор.
Всякую неприятную мысль обсудить: во-первых, не может ли она иметь следствий; ежели может иметь, то как отвратить их. Ежели же нельзя отвратить, и обстоятельство такое уже прошло, то, обдумав хорошенько, стараться забыть или привыкнуть к оному.
1850. 8 декабря. [Москва. ]* Пять дней писал я дневник, а пять месяцев в руки не брал. Постараюсь вспомнить, что я делал в это время и почему я так отстал видимо от занятий. Большой переворот сделался во мне в это время; спокойная жизнь в деревне, прежние глупости и необходимость заниматься своими делами принесли свой плод. Перестал я делать испанские замки и планы, для исполнения которых недостанет никаких сил человеческих. Главное же и самое благоприятное для этой перемены убеждений то, что я не надеюсь больше одним своим рассудком дойти до чего-либо и не презираю больше форм, принятых всеми людьми. Прежде все, что обыкновенно, мне казалось недостойным меня; теперь же, напротив, я почти никакого убеждения не признаю хорошим и справедливым до тех пор, пока не вижу приложения и исполнения на деле оного и приложения многими. Странно, как мог я пренебрегать тем, что составляет главное преимущество человека, — способностью понимать убеждения других и видеть на других исполнения на деле. Как мог я дать ход своему рассудку без всякой поверки, без всякого приложения? Одним словом, и самым простым, я перебесился и постарел.
Много содействовало этой перемене мое самолюбие. Пустившись в жизнь разгульную, я заметил, что люди, стоявшие ниже меня всем, в этой сфере были гораздо выше меня; мне стало больно, и я убедился, что это не мое назначение. Может быть, содействовали этому тоже два толчка. Первое — проигрыш Огареву, который приводил мои дела в совершенное расстройство, так что даже, казалось, не было надежды поправить их; и после этого пожар*, который заставил невольно меня действовать. Отыгрыш дал же более веселый цвет этим действиям. Одно мне кажется, что я стал уже слишком холоден. Только изредка, в особенности когда я ложусь спать, находят на меня минуты, где чувство просится наружу; то же в минуты пьянства; но я дал себе слово не напиваться. Записки свои продолжать теперь не буду, потому что занят делами в Москве, ежели же будет свободное время, напишу повесть из цыганского быта*.
Заметил в себе я еще важную перемену: я стал более уверен в себе, то есть перестал конфузиться; я полагаю, что это оттого, что имею одну цель в виду (интерес), и, стремясь к ней, я мог себя оценять и приобрел сознание своего достоинства, которое так много облегчает отношения людей. […]
Правила для общества. Избирать положения трудные, стараться владеть всегда разговором, говорить громко, тихо и отчетливо, стараться самому начинать и самому кончать разговор. Искать общества с людьми, стоящими в свете выше, чем сам. С такого рода людьми, прежде чем видишь их, приготовить себя, в каких с ними быть отношениях. Не затрудняться говорить при посторонних. Не менять беспрестанно разговора с французского на русский и с русского на французский. Помнить, что нужно принудить [себя], главное, сначала, когда находишься в обществе, в котором затрудняешься. На бале приглашать танцевать дам самых важных. Ежели сконфузился, то не теряться, а продолжать. Быть сколь можно холоднее и никакого впечатления не выказывать.
Занятия на нынешний день. 11. Сидеть дома, читать, вечером написать правила для общества и конспект повести. Занятия на 8 декабря. С утра читать, потом до обеда дневник и расписание на воскресение дел и визитов. После обеда читать и баня, вечером, ежели не устану очень, повесть. Утром, тотчас после кофе, письма в контору, тетушке и Перфильев[у].
[13 декабря. ] 12 декабря, хотя я и не выписал в дневник, провел я хорошо, т. е. не в праздности. Поездил к властям и в клубы, вследствие чего убедился: первое, что в обществе с теперешним направлением я успею; а что играть, кажется, вовсе перестану. Кажется, что страсти у меня к игре больше нет, впрочем, не отвечаю: нужно попробовать на деле. Случая искать не буду, но выгодного не пропущу. Занятия на 13 декабря: переговорить с Петром о прошении на высочайшее имя и о том, могу ли я перейти служить в Москву? Писать письма тетушке и Перфильевым, ехать к князю Сергею Дмитриевичу и к Крюкову, читать, сделать покупки (камелии) и книги о музыке, обедать, читать и заняться сочинением музыки или повести.
[14 декабря. ] Недоволен я собой за вчерашний день; первое, за то, что слушал все ругательства графини на Васеньку, которого я люблю, и второе — что от глупой деликатности вечер вчера пропал у меня тунью.
Нужно нынче велеть написать прошение, съездить к Васеньке, обедать у Горчакова и вечером сделать что-нибудь из начатого; а главное, написать письма.
15 декабря. Недоволен очень я вчерашним днем. Первое, что ничего не сделал касательно Опекунского совета;* второе, что ничего не писал, и третье — начал ослабевать в убеждениях и стал поддаваться влиянию людей.
Встать очень рано, с утра почитать, потом заняться дневником, писаньем и письмами, в 12 часов ехать в Совет, к Евреинову, к Крюкову, к Аникеевой и к Львову; обедать дома и писать еще; потом в театр и опять заниматься дома.
Правила для общества. Не переменять названия, а всегда называть одним и тем же манером.
Ни малейшей неприятности или колкости не пропускать никому, не отплативши вдвое.
16 декабря. Исполнил все, исключая писанья. Всегда вставать рано. С утра писать письма и повесть, съездить на Калымажный двор* и в баню, послать в Совет и ко Львову, обедать дома и вечером у князя Андрея Ивановича играть и волочиться за княгиней. Купить сукна и нот после обеда.
17 декабря встать рано и заняться письмом Дьякову и повестью, в 10 часов ехать к обедне в Зачатьевский монастырь и к Анне Петровне, к Яковлевой. Оттуда заехать к Колошину, послать за нотами, приготовить письмо в контору, обедать дома, заняться музыкой и правилами, вечером к девкам и в клуб. 18-го быть в Совете, у Львова, у Евреинова, у князя Андрея Ивановича и просить о месте.
Правила общие. Ложиться, когда ничего нужное не задерживает, в 12 часов и вставать в 8, каждый день 4 часа заниматься музыкой серьезно.
18 декабря. Встать в 9½ до 10½ читать, до 12 писать и принять Волконского, 12 до 2 шляться, писать и писать до вечера. Обедать дома.
19 декабря исполнил то, что назначено 18.
20 декабря в 10 к Волконскому, в 11 до 2-х письма и повесть. До 3¼ музыка, до 9 у Дьяковых, дома писать о музыке. Вот уже 11 часов вечера, и я ничего не писал, и недоволен собою за то, что конфузился у Дьяковых.
21 декабря с 8 до 10 писать, с 10 до 2-х достать денег и фехтовать. С 2 до 6 обедать где-нибудь, с 6 до ночи дома писать и никого не принимать. У Львова узнать о службе Сережи. К графине Авдотье Максимовне.
Не читать романов.
22 декабря до 12 писать о музыке и анализировать, съездить к графине и обедать; ежели не получу денег, написать Либину и Петру Евстратову. Писать 1-е письмо*.
24 декабря встать в 12, писать письма в контору. Велеть прислать расчет. Обедать дома с Лаптевым, до обеда съездить к мощам, вечером учить генерал бас и сонату, ежели в духе, писать 1-е письмо.
Правила. В карты играть только в крайних случаях.
Как можно меньше про себя рассказывать. Говорить громко и отчетливо.
Правила. Каждый день делать моцион. […]
28 декабря. Очень собою недоволен; главное же потому, что был не здоров; нынче же последовать следующему правилу: ежели болен, то можно не исполнить предположенного, но и другого не делать. Съездить к Горчаковым, перечесть дневник и исполнить неисполненное. В Нескучный ехать и волочиться за княгиней. К вечеру с Николаем Горчаковым ехать к цыганам и укладываться.
29. Живу совершенно скотски; хотя и не совсем беспутно, занятия свои почти все оставил и духом очень упал. Встать рано, до 2 часов никого не принимать и не выезжать; в 2 ехать к Чулкову, к Дьяковым и обедать, к князю, просить о месте. Обдумывать на просторе о будущих действиях во всяком новом месте. Утром писать повесть, читать и играть, или писать о музыке, вечером правила или цыгане.
30 декабря. Правило. Искать положений трудных. Встать рано. Укладываться, все приготовить, вписать в дневник свое пребывание в Москве, просить Колошина узнать о месте и в 3 часа ехать.
[31 декабря. Покровское. ] 31 декабря был в дороге — виделся с Щербатовым и решился взять станцию*, был у почтмейстера, но не довольно основательно переговорил с Щербатовым.
1851
[1 января. Ясная Поляна. ] 1 генваря 1851 был в Покровском, виделся с Николенькой*, он не переменился, я же очень много и мог иметь на него влияние, ежели бы он не был столько странен; он или ничего не замечает и не любит меня, или старается делать, как будто он не замечает и не любит.
2-е генваря. Крестины* пробыть с своими, ехать к Дьяковым и в ночь в Тулу. Заключить там с Щербатовым условие, воротиться в ночь 3-го в Ясную, пробыть до вечера, и 4-го в ночь ехать в Москву. В Туле оставить доверенность и прошение, быть у председателя.
12 генваря. Москва. Встать в 8, ехать к Иверской, перечесть все касательно станции, передумать, записать и ехать к Татищеву.
13 генваря. Станцию сдал — характер не выдержал. Обоз пришел. Николая отпустил. Вел себя дурно.
Правило — делать копии со всех писем и иметь их у себя в порядке.
14 генваря. Угрызения совести, денег почти нет, к Сергею Дмитриевичу Горчакову, к Колошиным.
17 января. 1851. С 14-го вел я себя неудовлетворительно. К Столыпиным на бал не поехал; денег взаймы дал и поэтому сижу без гроша; а все оттого, что ослабел характером. Правило. Менее, как по 25 к. сер., в ералаш не играть. Денег у меня вовсе нет; за многие же векселя срок уже прошел платить; тоже начинаю я замечать, что ни в каком отношении пребывание мое в Москве не приносит мне пользы, а проживаю я далеко свыше моих доходов.
Правило. Называть вещи по имени. С людьми, которые о денежных делах говорят поверхностно, скрывать положение своих дел и, напротив, стараться останавливать их и наводить на этот предмет.
Чтобы поправить свои дела, из трех представившихся мне средств я почти все упустил, именно: 1) Попастьв круг игроков и, при деньгах, играть. 2) Попасть в высокий свет и, при известных условиях, жениться. 3) Найти место выгодное для службы. Теперь представляется еще четвертое средство, именно — занять денег у Киреевского. Ни одно из всех четырех вещей не противоречит одно другому, и нужно действовать. Написать в деревню, чтобы выслали скорее 150 р. сер., ехать к Озерову и предложить лошадь, велеть напечатать в газетах еще. Съездить к графине и выжидать, узнать о приглашениях на бал Закревских, заказать новый фрак. Перед балом много думать и писать. Ехать к князю Сергею Дмитриевичу и поговорить о месте, к князю Андрею Ивановичу и просить о месте. Заложить часы.
Узнать у Евреинова, где живет Киреевский, и ехать к нему. В 1½ к Евреинову, а оттуда, какого рода ни был бы ответ, ехать к Николаю Васильевичу.
18 [января]. Вел себя ни хорошо, ни дурно. Мало упругости. На 19 — место. Занятия: быть в манеже, у Чертовой, у Горчаковых, у князя Николая Михайловича. К вечеру банк. Писать историю дня*.
25 генваря. Влюбился или вообразил себе, что влюбился, был на вечеринке и сбился с толку. Купил лошадь, которой вовсе не нужно. Правила. Не предлагать никакой цены за вещь не нужную. Как входишь на бал, тотчас звать танцевать и сделать тур вальса или польки. Нынче вечером обдумать средства поправить дела. Быть дома.
28 февраля. Много пропустил я времени. Сначала завлекся удовольствиями светскими, потом опять стало в душе пусто; и от занятий отстал, то есть от занятий, имеющих предметом свою собственную личность. Мучало меня долго то, что нет у меня ни одной задушевной мысли или чувства, которое бы обусловливало все направление жизни — все так, как придется; теперь же, кажется мне, нашел я задушевную идею и постоянную цель, это — развитие воли, цель, к которой я давно уж стремлюсь; но которую я только теперь сознал не просто как идею, но как идею, сроднившуюся с моей душой.
Программа завтрашнего дня. Встать в 9 часов. Заниматься энциклопедией* и написать конспект. Идти на похороны, потом на гимнастику, обедать и с 6 до 12 заниматься одному или с Колошиным. Не курить. Помнить, что исполнение предположенного составляет все счастье моей жизни и наоборот.
1-е марта. Правило: Действовать в затруднительных случаях всегда по первому впечатлению. Встать в 8½, заниматься до 12. От 12 до 1 музыка, от 1 — до 2 занятия, от 2½ до 6 отдых. Не искать знакомых, вечер дома, занятия.
2-е марта. Немного стал я ослабевать, оттого, главное, что мне начинало казаться, что сколько я над собой ни работаю, ничего из меня не выйдет. Эта же мысль пришла мне потому, что я исключительно занимался напряжением воли, не заботясь о форме, в которой она проявлялась. Постараюсь исправить эту ошибку. Теперь я хочу приготовиться к кандидатскому экзамену; следовательно, вот форма, в которой должна проявиться воля; но недостаточно взять тетрадь и читать, нужно приготовить себя для этого, нужно заниматься систематически; нужно достать себе вопросы по всем предметам и по ним составить конспекты. Нужно приискать студента, который бы мог давать наставления и толкования.
Завтра утром читать «Энциклопедию» сначала с справками по Неволину*, от 8 часов до 12-ти; в 12-ть идти и отыскать студента; в 2 в гимнастику; от 6-ти до ночи заниматься «Энциклопедией» или чем другим, и час для музыки. Правило. Помнить при всяком деле, что первое и единственное условие, от которого зависит успех, есть терпение и что более всего мешает всякому делу и что особенно мне много повредило — есть торопливость.
7-го марта. Нахожу для дневника, кроме определения будущих действий, полезную цель — отчет каждого дня, с точки зрения тех слабостей, от которых хочешь исправиться.
Нынче. Утром долго не вставал, ужимался, как-то себя обманывал. Читал романы, когда было другое дело; говорил себе: надо же напиться кофею, как будто нельзя ничем заниматься, пока пьешь кофей. С Колошиным не называю вещи по имени, хотя мы оба чувствуем, что приготовление к экзамену есть пуф, я ему этого ясно не высказал, Пуаре принял слишком фамильярно и дал над собою влияние: незнакомству, присутствию Колошина и grand-seigneur-ству[3] неуместному. Гимнастику делал торопясь. К Горчаковым не достучался от fausse honte[4]. У Колошиных скверно вышел из гостиной, слишком торопился и хотел сказать что-нибудь очень любезное — не вышло. В манеже поддался mauvaise humeur[5] и по случаю барыни забыл о деле. У Бегичева хотел себя выказать и, к стыду, хотел подражать Горчакову. Fausse honte. Ухтомскому не напомнил о деньгах. Дома бросался от рояля к книге и от книги к трубке и еде. О мужиках не обдумал. Не помню, лгал ли? Должно быть. К Перфильевым и Панину не поехал от необдуманности. Все ошибки нынешнего дня можно отнести к следующим наклонностям:
1) Нерешительность, недостаток энергии. 2) Обман самого себя, то есть предчувствуя в вещи дурное, не обдумываешь ее. 3) Торопливость. 4) Fausse honte, то есть боязнь сделать что-либо неприличное, происходящая от одностороннего взгляда на вещи. 5) Дурное расположение духа, происходящее большей частью 1) от торопливости, 2) от поверхностного взгляда на вещи. 6) Сбивчивость, то есть склонность забывать близкие и полезные цели для того, чтоб казаться чем-либо. 7) Подражание. 8) Непостоянство. 9) Необдуманность. […]
8 марта. Опять долго не очнулся, однако преодолел. Николеньке написал письмо (необдуманно и торопливо). В контору — тою же, мною принятою глупою формою (обман себя). Гимнастику делал неосновательно, т. е. слишком мало соображаясь с своими силами, эту слабость я вообще назову: заносчивость, отступление от действительности.
Смотрелся часто в зеркало. Это глупое, физическое себялюбие, из которого кроме дурного и смешного ничего выйти не может. С Пуаре опять конфузился (обман себя). На коннозаводстве действовал слабо, первый поклонился Голицыну и прошел не прямо, куда нужно. Рассеянность. На гимнастике хвалился (самохвальство). Хотел Кобылину дать о себе настоящее мнение (мелочное тщеславие). Много слишком ел за обедом (обжорство). Поехал к Волконскому, не кончив дела (недостаток последовательности). Наелся сладостей, засиделся. Лгал.
Занятия на 9-ое. С 8-10 счет долгам. Письма: тетушке и Ферзену. 10 до 11 — гимнастика. Музыка с 11 до 12. С 12 до 3 к Панину, Перфильевым, Беер, Аникеева, Бегичев и делец [?]. О деньгах. Обедать у Горчаковых, о месте. Дома читать и писать, что в голову придет, конспект читанного или даже выписывать. Составить журнал для слабостей. (Франклиновский.)*
9 марта. Долго не вставал (недостаток энергии). Иславину письмо (невнимательность). Выехал в скверных перчатках и без шубы (необдуманность и торопливость). Панину рассказывал про свою постройку (желание выказать). У Оливье и Беер (нерешительность и трусость). У Горчаковых — ложный стыд и желание выказать. Поехал к Киреевской (неосновательность) так (трусость). Занятия на 10. Встать в 8. От 8 до 9 письма, от 9 до 11 музыка, 11 до 1 — фехтованье. 1 — до 2½ Аникеевы и гулять, гимнастика, обедать к Львову. Вечер читать и дневник.
10 марта. Долго не вставал. С Озеровым говорил дурно и навязывал лошадь. Низость. Пуаре. Обман и торопливость. Бегичеву солгал, что знаю сибирских Горчаковых. Шубы не взял, торопливость и неосновательность. В совете трусость. В гимнастике тщеславие. У Львова — самонадеянность и аффектация. Выписок не делал, лень. Журнал пишу торопливо и неотчетливо.
Занятия на 11-е марта. Распоряжения касательно фуфайки и лошадей, дневник, Франклиновский журнал и писать до 10, с 10 до 11 гимнастика, с 11 до 12 музыка. Гулять и обедать до 6. С 6 выписки и читать.
11 марта. Писал письмо хорошо, немного торопливо, гимнастику делал торопливо. У Исленьева мало dignité[6] и в манеже тоже (рассеянность). Обедать ждал, трусость. С Бегичевым откровенен, хотел выказать. С Михалковым трусость, желание выказать и неисполнение правил. Занятия на 12-е. С 10 до 11 распоряжения касательно лошадей и Пуаре. С 11 до 3 — концерт. Волконский. Обед. Вечером выписки и читать. Концерт и читать. Рано ложиться спать.
12 марта. Скверно, скверно и скверно весь день провел, завтра объясню; все оттого, что вчера лег в 3 часа и зашел Зубков. Занятия. С 8 до 9 дневник, с 9 до 10 гимнастика, с 10 до 12 читать и выписки. С 12 до 2 Беер, Муромцев и Дьяковы. С 2 до 4 гимнастика — обед, с 6 до 10 читать и писать*. Или Зубков.
Вчера. Был целый день не свой 1) оттого, что не выспался, 2) желудок расстроил. Когда дойду я до того, чтобы сознавать свои силы, то есть вперед знать, что я перенесу и что нет. Правило. Когда что-нибудь захочется, как физически, так и морально, то обдумать, представляет ли исполнение оного более трудностей, чем выгод; ежели нет, то можно приводить в действие.
Встал, фехтовал, распорядился, попал к Беер, не поговорил о деле, трусость, поторопился, не познакомился с Булгаковым, трусость, уехал от Беер без цели, ожидая чего-то особенного, и стал играть, слишком надеясь на себя. У Волконского спал, слабость. Домой поехал без шубы, необдуманность. Из концерта к Шевалье. Ожидал чего-то особенного. В концерте не подошел к Перфильевой, когда хотелось.
Способность весьма важная в жизни есть способность быстро переносить свое внимание с одного предмета на другой; в особенности же я заметил это после сильного ощущения радости или горя.
Правило — Как только обстоятельство, которое тебя занимало, не требует твоей деятельности, старайся устремить все твое внимание на другой предмет или занятие.
13 марта. Утром забыл написать Зубкову и ленился делать выписки. Лень. Приехал Жданов, и я поехал к Исленьеву, когда были другие дела. Трусость и рассеянность.
На гимнастике боролся с Билье, мало гордости, fierté. Заехал в лавочку, обжорство. Дома ленился выписывать. С Иславиным хотел себя выказать, тоже и у Беер, и притом трусость.
Занятия на 14. С 8 до 9 распоряжения, читать и выписки, с 9 до 10 гимнастика, с 10 до 11 Пуаре, с 11 до 12 писать. С 12 до 3-х к Муромцеву, Дьякову и коннозаводство. С 3 до 5 обед. С 5 до вечера читать и писать. Зубков или концерт. Читать о фехтовании.
20 марта. […] Две главные страсти, которые я в себе заметил, это страсть к игре и тщеславие, которое тем более опасно, что принимает бесчисленное множество различных форм, как-то: желание выказать, необдуманность, рассеянность и т. д. Вечером перечесть дневник со дня приезда в Москву, сделать общие замечания и поверить денежные издержки и долги в Москве.
Приехал я в Москву с тремя целями. 1) Играть. 2) Жениться. 3) Получить место. Первое скверно и низко, и я, слава богу, осмотрев положение своих дел и отрешившись от предрассудков, решился поправить и привести в порядок дела продажею части имения. Второе, благодаря умным советам брата Николеньки, оставил до тех пор, пока принудит к тому или любовь, или рассудок, или даже судьба, которой нельзя во всем противудействовать. Последнее невозможно до двух лет службы в губернии, да и по правде, хотя и хочется, но хочется много других вещей несовместных; поэтому погожу, чтобы сама судьба поставила в такое положение.
Много слабостей имел я в это время. Главное, мало обращал внимания на правила нравственные, завлекаясь правилами, нужными для успеха. Потом, имел слишком тесный взгляд на вещи; например, давал себе много правил, которые все можно было привести к одному — не иметь тщеславия. Забывал, что условием, необходимым для успеха, есть уверенность в себе, презрение к мелочам, которое не может иначе произойти, как от моральной возвышенности.
[21 марта. ] 20. Утром занимался писанием и чтением, писал мало, был не в духе и боялся поправить. Правило. Лучше попробовать и испортить (вещь, которую можно переделать), чем ничего не делать. […]
[22 марта. ] 21. Занимался довольно хорошо, исключая недостатка твердости и с желанием выказать. Обедал дома. О деньгах ничего не сделал и не придумал. Обман себя. Писал выписки*, замечания и дневник, слишком торопясь. Хорошую можно написать книгу: жизнь Татьяны Александровны*.
[Занятия на 23.] Встать в 8. С 8 до 10 читать и писать. С 10 до 11 гимнастика. С 11 до 2 распоряжения о деньгах, в коннозаводство, в совет. Верхом до 4. Обедать дома. Дневник и замечания начать раньше. Вечером могу куда-нибудь поехать часа на два. Необходима гимнастика для развития всех способностей. Гимнастика памяти. Каждый день учить что-нибудь наизусть. Английский язык.
23 [марта]. Встал в 8½. Читал и писал, не поправил писанья. Обман себя. Гимнастику ленился. У Колошина трусил, явно говорил свое мнение у Беер. Говорил о своем образе жизни, желание выказать. С Волконским обедал и много рассказывал про себя, желание выказать. Вечером читал без системы, необдуманность. В концерте не подошел к Закревской — трусость. Ухтомскому поклонился, трусость. Не мог поклониться Львовой, трусость. Дома засиделся за 12 с Костенькой, мало твердости.
Правило. Стараться формировать слог: 1) в разговоре, 2) в письме. […]
24 [марта]. Встал немного поздно и читал, но писать не успел. Приехал Пуаре, стал фехтовать, его не отправил (лень и трусость). Пришел Иванов, с ним слишком долго разговаривал (трусость). Колошин (Сергей) пришел пить водку, его не спровадил (трусость). У Озерова спорил о глупости (привычка спорить) и не говорил о том, что нужно, трусость. У Беклемишева не был (слабость энергии). На гимнастике не прошел по переплету (трусость) и не сделал одной штуки оттого, что больно (нежничество).
Горчакова солгал, ложь. В Новотроицком трактире (мало fierté). Дома не занимался английским языком (недостаток твердости). У Волконских был неестествен и рассеян и засиделся до часу (рассеянность, желание выказать и слабость характера).
[Занятия на] 25. С 10 до 11 дневник вчерашнего дня и читать. С 11 до 12 гимнастика. С 12 до 1 английский язык. Беклемишев и Беер с 1 до 2. С 2 до 4 верхом. С 4 до 6 обед. С 6 до 8 читать. С 8 до 10 писать. Переводить что-нибудь с иностранного языка на русский для развития памяти и слога. Написать нынешний день со всеми впечатлениями и мыслями, которые он породит*.
31 [марта]. Читал, не писавши дневника, и поздно. До 12 считался. С 12 до 2 говорил с Бегичевым слишком откровенно, тщеславно и обманывая себя. С 2 до 4 гимнастика, мало твердости и терпения. С 4 до 6 обедал и покупки сделал ненужные. Дома не писал, лень. Долго не решался ехать к Волконским. У них говорил слабо, трусость. Вел себя плохо. Трусость, тщеславие, необдуманность, слабость, лень.
[5 апреля. Пирогово. ] Утром занимался хорошо, поехал на охоту и в Пирогово, неосновательно. У Сережи лгал, тщеславился и трусил.
[Занятия на] 6. С 5 до 10 писать. С 10 до 11 обедня. С 12 до 4 обед. С 4 до 6 читать. 6 до 10 писать.
6 [апреля]. Ничего не исполнил. Лгал и много тщеславия, говел неосновательно и рассеянно. Сбивает меня очень мысль об истории с Гельке, нынче после обеда опишу ее*. Хочу писать проповеди.
17 [апреля]. Ничего не писал — лень одолела!! Нынче хочу начать историю охотничьего дня*. Долго разговаривал с тетенькой. Она очень добра и очень высокой души, но очень одностороння. У нее есть одна колея, в которой она чувствует и мыслит, дальше же этой колеи ничего. […]
Ничем лучше нельзя узнать, идешь ли вперед в чем бы то ни было, — как попробовать себя в прежнем образе действий. Чтобы узнать, вырос или нет, надо стать под старую мерку. После четырех месяцев отсутствия я опять в той же рамке. В отношении лени я почти тот же. Сладострастие то же. Уменье обращаться с подданными — немного лучше. Но в чем я пошел вперед, это в расположении духа.
19 [апреля]. Приехали Николенька, Валерьян и Маша. Завтра поеду в Тулу, решусь насчет службы* и Воротынку отдам за шестнадцать тысяч ассигнациями*. Я стал религиозен еще более в деревне.
[20 мая. В дороге из Саратова в Астрахань*]. 20 апреля я уже не писал дневника и до 20 мая. Я вспомню, однако, день за день этот месяц. Он очень интересен.
Последнее время, проведенное мною в Москве, интересно тем направлением и презрением к обществу и беспрестанной борьбой внутренней. Приезд в деревню. Тула. Щербатов казался добрым и милым. Арсеньев болен. В Ясной к обедне. В Пирогове Маша. Сережа падает морально. Говение, проповеди. Пасха в Ясную, в Тулу: Исленьев, Чулков, Перфильев, [1 неразобр. ], Арсеньев. Гартунг, вечером в Покровское. Несколько дней, Валерьян, Маша. В Тулу, назад. В Ясном. В Тулу. Исленьев. Селезнев. Москва. Костенька. Зубков. Николенька. Путешествие. В Казани. Шуваловы. Зыбин, Загоскина, Оголин, Юшковы. В Саратов. Майор. Немцы. Виды. Шторм. Рыбаки. Немцы.
[30 мая. Старогладковская]. Пишу 30 июня* в 10 часов ночи в Старогладковской станице. Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже. Хотел бы писать много: о езде из Астрахани в станицу, о казаках, о трусости татар, о степи, но офицеры и Николенька идут к Алексееву* ужинать, пойду и я. Я расположен любить капитана*, но отдаляться от других. Может быть, скверные.
[Март-май 1851 г. ]* […] Есть люди, которые все разумное понимают быстро, всему изящному сочувствуют живо и все хорошее чувствуют, но которые в жизни, в приложении, не умны, не изящны и не добры. Отчего бы это? Или есть две способности: восприимчивости и воспроизведения — или недостает той способности, которую называют гением или талантом, или, наконец, натуры слишком чистые всегда слабы и апатичны, и потому способности не развиты.
[…] Что натуры богатые ленивы и мало развиваются, это, во-первых, мы видим в действительности, во-вторых, ясно, что несовершенные натуры стремятся раскрыть мрак, который покрывает для них многие вопросы, и достигают усовершенствования и приобретают привычку работать. Потом: труды, предстоящие натуре богатой, чтобы идти вперед, гораздо больше и не пропорциональны с трудами натуры несовершенной в дальнейшем развитии.
Ламартин говорит, что писатели упускают из виду литературу народную, что число читателей больше в среде народной, что все, кто пишут, пишут для того круга, в котором живут, а народ, в среде которого есть лица, жаждущие просвещения, не имеет литературы и не будет иметь до тех пор, пока не начнут писать для народа.
Я не буду говорить о тех книгах, которые пишутся с целью найти много читателей, — это не сочинения, это произведения авторского ремесла, ни о тех ученых и учебных книгах, которые не входят в область поэзии.
(Где границы между прозой и поэзией, я никогда не пойму; хотя есть вопрос об этом предмете в словесности; но ответа нельзя понять. Поэзия — стихи. Проза — не стихи; или поэзия — все, исключая деловых бумаг и учебных книг.) Все сочинения, чтобы быть хорошими, должны, как говорит Гоголь о своей прощальной повести* (она выпелась из души моей), выпеться из души сочинителя. Что же доступного для народа может выпеться из души сочинителей, большей частью стоящих на высшей точке развития, народ не поймет. Ежели даже сочинитель будет стараться сойти на ступень народную, народ не так поймет. Так же как когда мальчик шестнадцати лет читает сцену насильствования героини романа, это не возбуждает в нем чувства негодования, он не ставит себя на место несчастной, но невольно переносится в роль соблазнителя и наслаждается чувством сладострастия, — так и народ поймет совсем другое из того, что вы захотите сказать ему. Разве «Антона Горемыку»*, «Geneviève» поймет народ? Слова доступны, как выражения мысли, но мысли недоступны. У народа есть своя литература — прекрасная, неподражаемая; но она не подделка, она выпевается из среды самого народа. Нет потребности в высшей литературе и нет ее. Попробуйте стать совершенно на уровень с народом, он станет презирать вас.
Пускай идет вперед высший круг, и народ не отстанет; он не сольется с высшим кругом, но он тоже подвинется. Pourquoi dire des subtilités, quand il y a encore tant de grosses vérités à dire[7]. Искали философальный камень, нашли много химических соединений. Ищут добродетели с точки зрения социализма, то есть отсутствия пороков, найдут много полезных моральных истин.
[…] Как меняется взгляд на жизнь, когда живешь не для себя, а для других! Жизнь перестает быть целью и делается средством. Несчастие делает добродетельным — добродетель делает счастливым — счастье делает порочным.
Есть два рода счастья: счастье людей добродетельных и счастие людей тщеславных. Первое происходит от добродетели, второе от судьбы. Нужно, чтобы добродетель глубоко пустила корни, чтобы последнее не имело вредное влияние на первое. Счастие, основанное на тщеславии, разрушается им же: слава — злоречием, богатство — обманом. Основанное на добродетели счастие — ничем.
[…] Говорить, что жизнь есть испытания, что смерть есть благо, отчуждая нас от всех горестей, — не должно. Это не есть ни утешение в потерях близких людей, ни нравственное поучение. Сочувствовать этому невозможно иначе, как в отчаянии, а отчаяние есть слабость веры и надежды в бога. Как нравственное поучение, эта мысль слишком тяжела для души молодой, чтобы не поколебать веру в добродетель. Ежели человек лишился существа, которое он любил, он может любить другое; ежели же нет, то оттого, что он слишком горд. Начало зла в душе каждого.
[…] Старухи тетушки и старики дядюшки считают себя обязанными за право иметь племянников платить наставлениями, как бы они ни были бесполезны. Им даже неприятно, когда племянники такого поведения, что их советы неуместны; им кажется, что они лишены должного.
Нет ничего тяжеле, как видеть жертвы, которые для тебя делают люди, с которыми ты связан и должен жить; особенно же жертвы, которых не требуешь, и от людей, которых не любишь. Самая обидная форма эгоизма — это самопожертвование.
[…] Все описывают слабости людские и смешную сторону людей, перенося их на вымышленные личности, иногда удачно, смотря по таланту писателя, большей частью неестественно. Отчего? Оттого, что слабости людские мы знаем по себе, и чтобы выказать их верно, надо их выказать на себе, потому что известная слабость идет только известной личности. У редких достает силы сделать это. Личность, на которую переносят собственные слабости, стараются сколько можно исказить, чтобы не узнать самих себя. Не лучше ли говорить прямо: «Вот каков я. Вам не нравится, очень жалею: но меня бог таким сделал». Никто не хочет сделать первого шага, чтобы не сказали, например: «Вы думаете, что ежели вы дурны и смешны, то и мы все тоже». От этого все молчат. Это похоже, как в провинции на бал ездят: все боятся приехать первыми, от этого все приезжают поздно. Покажи всякий себя, каков есть, то, что было прежде смешным и слабостью, перестанет быть таким. Разве это не огромное благо избавиться, хотя немного, от ужасного ига — боязни смешного. Сколько, сколько истинных наслаждений теряем мы от этого глупого страха. […]
2 июня 1851. Ах, боже мой, боже мой, какие бывают тяжелые, грустные дни! И отчего грустно так? Нет, не столько грустно, сколько больно сознание того, что грустно и не знаешь, о чем грустишь. Я думал прежде — это от бездействия, праздности. Нет, не от праздности, а от этого положения я делать ничего не могу. Главное, я ничего похожего на ту грусть, которую испытываю, не нахожу нигде: ни в описаниях, ни даже в своем воображении. Я представляю себе, что можно грустить о потере какой-нибудь, о разлуке, о обманутой надежде. Понимаю я, что можно разочароваться: все надоест, так часто будешь обманут в ожиданиях, что ничего ждать не будешь. Понимаю я, когда таятся в душе: любовь ко всему прекрасному, к человеку, к природе, когда готов все это высказать, попросить сочувствия, и везде найдешь холодность и насмешку, скрытую злобу на людей, и оттого грусть. Понимаю я грусть человека, когда положение его горько, а тяжелое, ядовитое чувство зависти давит его. Все это я понимаю, и в каждой такого рода грусти есть что-то хорошее с одной стороны.
Свою же грусть я чувствую, но понять и представить себе не могу. Жалеть мне нечего, желать мне тоже почти нечего, сердиться на судьбу не за что. Я понимаю, как славно можно бы жить воображением; но нет. Воображение мне ничего не рисует — мечты нет. Презирать людей — тоже есть какое-то пасмурное наслаждение, — но и этого я не могу, я о них совсем не думаю; то кажется: у этого есть душа, добрая, простая, то кажется: нет, лучше не искать, зачем ошибаться! Разочарованности тоже нет, меня забавляет все; но в том горе, что я слишком рано взялся за вещи серьезные в жизни, взялся я за них, когда еще не был зрел для них, а чувствовал и понимал; так сильной веры в дружбу, в любовь, в красоту нет у меня, и разочаровался я в вещах, важных в жизни; а в мелочах еще ребенок.
Сейчас я думаю, вспоминая о всех неприятных минутах моей жизни, которые в тоску одни и лезут в голову, — нет, слишком мало наслаждений, слишком много желаний, слишком способен человек представлять себе счастие, и слишком часто, так ни за что, судьба бьет нас, больно, больно задевает за нежные струны, чтобы любить жизнь; и потом что-то особенно сладкое и великое есть в равнодушии к жизни, и я наслаждаюсь этим чувством. Как силен кажусь я себе против всего с твердым убеждением, что ждать нечего здесь, кроме смерти; и сейчас же я думаю с наслаждением о том, что у меня заказано седло, на котором я буду ездить в черкеске, и как я буду волочиться за казачками, и приходить в отчаяние, что у меня левый ус хуже правого, и я два часа расправляю его перед зеркалом. Писать тоже не могу, судя по этому — глупо.
Et puis cette horrible nécessité de traduire par des mots et aligner en pattes de mouches des pensées ardentes, vives, mobiles, comme des rayons de soleil teignant les nuages de I'air. Où fuir le métier, Grand Dieu![8]*
8 июня. [Старый Юрт. ] Любовь и религия — вот два чувства — чистые, высокие. Не знаю, что называют любовью. Ежели любовь то, что я про нее читал и слышал, то я ее никогда не испытывал. Я видал прежде Зинаиду*институточкой, она мне нравилась; но я мало знал ее (фу! какая грубая вещь слово! — как площадно, глупо выходят переданные чувства). Я жил в Казани неделю. Ежели бы у меня спросили, зачем я жил в Казани, что мне было приятно, отчего я был так счастлив? Я не сказал бы, что это потому, что я влюблен. Я не знал этого. Мне кажется, что это-то незнание и есть главная черта любви и составляет всю прелесть ее. Как морально легко мне было в это время. Я не чувствовал этой тяжести всех мелочных страстей, которая портит все наслаждения жизни. Я ни слова не сказал ей о любви, но я так уверен, что она знает мои чувства, что ежели она меня любит, то я приписываю это только тому, что она меня поняла. Все порывы души чисты, возвышенны в своем начале. Действительность уничтожает невинность и прелесть всех порывов. Мои отношения с Зинаидой остались на ступени чистого стремления двух душ друг к другу. Но, может быть, ты сомневаешься, что я тебя люблю, Зинаида, прости меня, ежели это так, я виновен, одним словом мог бы и тебя уверить.
Неужели никогда я не увижу ее? Неужели узнаю когда-нибудь, что она вышла замуж за какого-нибудь Бекетова? Или, что еще жалче, увижу ее в чепце веселенькой и с тем же умным, открытым, веселым и влюбленным глазом. Я не оставлю своих планов, чтобы ехать жениться на ней, я не довольно убежден, что она может составить мое счастие; но все-таки я влюблен. Иначе что же эти отрадные воспоминания, которые оживляют меня, что этот взгляд, в который я всегда смотрю, когда только я вижу, чувствую что-нибудь прекрасное. Не написать ли ей письмо? Не знаю ее отчества и от этого, может быть, лишусь счастия. Смешно. Забыли взять рубашку со складками, от этого я не служу в военной службе. Ежели бы забыли взять фуражку, я бы не думал являться к Воронцову и служить в Тифлисе. В папахе нельзя же! Теперь бог знает, что меня ждет. Предаюсь в волю его. Я сам не знаю, что нужно для моего счастия и что такое счастие. Помнишь Архирейский сад, Зинаида, боковую дорожку. На языке висело у меня признание, и у тебя тоже. Мое дело было начать; но, знаешь, отчего, мне кажется, я ничего не сказал. Я был так счастлив, что мне нечего было желать, я боялся испортить свое… не свое, а наше счастие. Лучшие воспоминания в жизни останется навсегда это милое время. А какое пустое и тщеславное создание человек. Когда у меня спрашивают про время, проведенное мною в Казани, я небрежным тоном отвечаю: «Да, для губернского города очень порядочное общество, и я довольно весело провел несколько дней там». Подлец! Все осмеяли люди. Смеются над тем, что с милым рай и в шалаше, и говорят, что это неправда. Разумеется, правда; не только в шалаше, в Крапивне, в Старом Юрте, везде. С милым рай и в шалаше, и это правда, правда, сто раз правда.
(11 июня 1851. Кавказ. Старый Юрт, лагерь. Ночь.) Уже дней пять я живу здесь и одержим уже давно забытой мною ленью. Дневник вовсе бросил. Природа, на которую я больше всего надеялся, имея намерение ехать на Кавказ, не представляет до сих пор ничего завлекательного. Лихость, которая, я думал, развернется во мне здесь, тоже не оказывается.
Ночь ясная, свежий ветерок продувает палатку и колеблет свет нагоревшей свечи. Слышен отдаленный лай собак в ауле, перекличка часовых. Пахнет засыхающими дубовыми и чинаровыми плетьми, из которых сложен балаган. Я сижу на барабане в балагане, который с каждой стороны примыкает к палатке, одна закрытая, в которой спит Кноринг (неприятный офицер), другая открытая и совершенно мрачная, исключая одной полосы света, падающей на конец постели брата. Передо мною ярко освещенная сторона балагана, на которой висит пистолет, шашки, кинжал и подштанники. Тихо. Слышно — дунет ветер, пролетит букашка, покружит около огня, и всхлипнет и охнет около солдат.
Спать не хочется; а писать — чернил нету. До завтра. По мере впечатлений дня буду писать и письма. [Занятия на 12.] С 5 до 8 писать. С 8 до 10 купаться и рисовать. С 10 до 12 читать. С 12 до 4 отдых. С 4 до 8 перевод с английского*. С 8 до вечера писать. Продолжать делать гимнастику. Счетную книгу и Франклиновскую.
[12 июня. ] 11 июня. Встал поздно, разбудил меня Николенька приходом с охоты. Я ищу все какого-то расположения духа, взгляда на вещи, образа жизни, которого я ни найти, ни определить не умею. Хотелось бы мне больше порядка в умственной деятельности, больше самой деятельности, больше вместе с тем свободы и непринужденности. Вчера я почти всю ночь не спал, пописавши дневник, я стал молиться богу. Сладость чувства, которое испытал я на молитве, передать невозможно. Я прочел молитвы, которые обыкновенно творю: Отче, Богородицу, Троицу, Милосердия Двери, воззвание к ангелу-хранителю и потом остался еще на молитве. Ежели определяют молитву просьбою или благодарностью, то я не молился. Я желал чего-то высокого и хорошего; но чего, я передать не могу; хотя и ясно сознавал, чего я желаю. Мне хотелось слиться с существом всеобъемлющим. Я просил его простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели оно дало мне эту блаженную минуту, то оно простило меня. Я просил и вместе с тем чувствовал, что мне нечего просить и что я не могу и не умею просить. Я благодарил, да, но не словами, не мыслями. Я в одном чувстве соединял все, и мольбу и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств веры, надежды и любви я не мог бы отделить от общего чувства. Нет, вот оно чувство, которое испытал я вчера — это любовь к богу. Любовь высокую, соединяющую в себе все хорошее, отрицающую все дурное.
Как страшно было мне смотреть на всю мелочную — порочную сторону жизни. Я не мог постигнуть, как она могла завлекать меня. Как от чистого сердца просил я бога принять меня в лоно свое. Я не чувствовал плоти, я был — один дух. Но нет! плотская — мелочная сторона опять взяла свое, и не прошло часу, я почти сознательно слышал голос порока, тщеславия, пустой стороны жизни; знал, откуда этот голос, знал, что он погубит мое блаженство, боролся и поддался ему. Я заснул, мечтая о славе, о женщинах; но я не виноват, я не мог.
Вечное блаженство здесь невозможно. Страдания необходимы. Зачем? не знаю. И как я смею говорить: не знаю. Как смел я думать, что можно знать пути провидения. Оно источник разума, и разум хочет постигнуть… Ум теряется в этих безднах премудрости, а чувство боится оскорбить его. Благодарю его за минуту блаженства, которая показала мне ничтожность и величие мое. Хочу молиться; но не умею; хочу постигнуть; но не смею — предаюсь в волю твою! Зачем писал я все это? Как плоско, вяло, даже бессмысленно выразились чувства мои; а были так высоки!!
Утро я провел довольно хорошо, немного ленился, солгал, но безгрешно. Завтра напишу письмо Загоскиной, хотя черновое. Рисовал не тщательно. Вечером любовался облаками. Славные были при захождении солнца облака. Запад краснел, но солнце было еще на расстоянии сажени от горизонта. Над ним вились массивные, серо-пунцовые облака. Они неловко как-то соединялись. Я поговорил с кем-то и оглянулся: по горизонту тянулась серо-красная темная полоса, оканчивавшаяся бесконечно разнообразными фигурами: то склонявшимися одна к другой, то расходившимися, с светло-красными концами.
Человек сотворен для уединения — уединения не в фактическом отношении, но в моральном. Есть некоторые чувства, которые поверять никому не надо. Будь они прекрасные, возвышенные чувства, теряешь во мнении того человека, которому их поверяешь, или даже дашь возможность о них догадываться. Поверяя их, человек не сознает их вполне, а только выражает свои стремления. Неизвестность привлекает более всего. Мы живем теперь с братом между такими людьми, с которыми нам нельзя не сознать взаимное превосходство над другими; но мы мало говорим между собой, как будто боимся, сказав одно, дать догадаться о том, что мы хотим от всех скрывать. Мы слишком хорошо знаем друг друга.
Меня поразили три вещи: 1) разговоры офицеров о храбрости. Как заговорят о ком-нибудь. Храбр он? Да, так. Все храбры. Такого рода понятия о храбрости можно объяснить вот как: храбрость есть такое состояние души, при котором силы душевные действуют одинаково при каких бы то ни было обстоятельствах. Или напряжение деятельности, лишающее сознания опасностей. Или есть два рода храбрости: моральная и физическая. Моральная храбрость, которая происходит от сознания долга и вообще от моральных влечений, а не от сознания опасности. Физическая та, которая происходит от физической необходимости, не лишая сознания опасности, и та, которая лишает этого сознания. Примеры первой — человек, добровольно жертвующий собой для спасения отечества или лица. 2) Офицер, служащий для выгод. 3) В турецкой кампании бросились в руки неприятеля, чтобы только напиться, русские солдаты. Здесь только пример с нашей стороны храбрости физической и потому все.
13 июня. Я продолжаю лениться, хотя собою доволен, исключая сладострастия. Несколько раз, когда при мне офицеры говорили о картах, мне хотелось показать им, что я люблю играть. Но удерживаюсь. Надеюсь, что даже ежели меня пригласят, то я откажусь.
3 июля. Вот что писал я 13-го июня, и все это время потерял оттого, что в тот же день завлекся и проиграл своих 200, Николенькиных 150 и в долг 500, итого 850. Теперь удерживаюсь и живу сознательно. […] Был в набеге*. Тоже действовал нехорошо: бессознательно, и трусил Барятинского. Впрочем, я так слаб, так порочен, так мало сделал путного, что я должен поддаваться влиянию всякого Барятинского… Завтра буду писать роман*, переводить и скажу Кнорингу подождать и постараюсь достать денег. В среду поеду в Грозное.
[…] Сейчас лежал я за лагерем. Чудная ночь! Луна только что выбиралась из-за бугра и освещала две маленькие, тонкие, низкие тучки; за мной свистел свою заунывную, непрерывную песнь сверчок; вдали слышна лягушка, и около аула то раздается крик татар, то лай собаки; и опять все затихнет, и опять слышен один только свист сверчка и катится легенькая, прозрачная тучка мимо дальних и ближних звезд.
Я подумал: пойду опишу я, что вижу. Но как написать это. Надо пойти, сесть за закапанный чернилами стол, взять серую бумагу, чернила; пачкать пальцы и чертить по бумаге буквы. Буквы составят слова, слова — фразы; но разве можно передать чувство. Нельзя ли как-нибудь перелить в другого свой взгляд при виде природы? Описание недостаточно. Зачем так тесно связана поэзия с прозой, счастие с несчастием? Как надо жить? Стараться ли соединить вдруг поэзию с прозой, или насладиться одною и потом пуститься жить на произвол другой?
В мечте есть сторона, которая лучше действительности; в действительности есть сторона, которая лучше мечты. Полное счастие было бы соединение того и другого.
4 июля. Я собою почти доволен; исключая того, что я это время как-то пуст. Нет мыслей; ежели и есть, то они мне кажутся до того ничтожными, что не хочется их писать. Не знаю, отчего это? Подвинулся ли я в критическом отношении, или упал в творческом. Завтра поеду в аул и в Грозное. Поговорю с братом о деньгах и решу о поездке в Дагестан. Решительно ничего писать не могу, хотя есть личности стоящие.
Как ничтожно проходят дни! Вот нынешний. Как, ни одного воспоминания, ни одного сильного впечатления. Встал я поздно с тем неприятным чувством при пробуждении, которое всегда действует на меня: я дурно сделал, проспал. Я, когда просыпаюсь, испытываю то, что трусливая собака перед хозяином, когда виновата. Потом подумал я о том, как свежи моральные силы человека при пробуждении и почему не могу я удержать их всегда в таком положении. Всегда буду говорить, что сознание есть величайшее моральное зло, которое только может постигнуть человека. Больно, очень больно знать вперед, что я через час, хотя буду тот же человек, те же образы будут в моей памяти, но взгляд мой независимо от меня переменится, и вместе с тем сознательно. Я читал «Horace». Правду сказал брат, что эта личность похожа на меня. Главная черта: благородство характера, возвышенность понятий, любовь к славе, — и совершенная неспособность ко всякому труду. Неспособность эта происходит от непривычки, а непривычка — от воспитания и тщеславия.
[…] Обедали втроем, как и обыкновенно: я, брат и Кноринг. Попробую набросать портрет Кноринга. Мне кажется, что описать человека собственно нельзя; но можно описать, как он на меня подействовал. Говорить про человека: он человек оригинальный, добрый, умный, глупый, последовательный и т. д… слова, которые не дают никакого понятия о человеке, а имеют претензию обрисовать человека, тогда как часто только сбивают с толку. Я знал, что брат жил с ним где-то, что вместе с ним приехал на Кавказ и что был с ним хорош. Я знал, что он дорогой вел расходы общие; стало быть, был человек аккуратный; и что был должен брату, стало быть, был человек неосновательный. По тому, что он был дружен с братом, я заключал, что он был человек несветский, и по тому, что брат про него мало рассказывал, я заключал, что он не отличался умом. Раз утром брат сказал мне: «Нынче будет сюда Кноринг, как я рад его видеть». «Посмотрим этого франта», — подумал я. За палаткой я услыхал радостные восклицания свидания брата и голос, который отвечал на них столь же радостно: «Здравствуй, морда». Это человек непорядочный, подумал я, и не понимающий вещей. Никакие отношения не могут дать прелести такому нарицанию. Брат, по своей привычке, отрекомендовал меня ему; я, бывши уже настроен с невыгодной стороны, поклонился холодно и продолжал читать лежа.
Кноринг — человек высокий, хорошо сложенный, но без прелести. Я признаю в сложении такое же, ежели не больше выражения, чем в лице: есть люди приятно и неприятно сложенные. Лицо, широкое, с выдавшимися скулами, имеющее на себе какую-то мягкость, то, что в лошадях называется «мясистая голова». Глаза карие, большие, имеющие только два изменения: смех и нормальное положение. При смехе они останавливаются и имеют выражение тупой бессмысленности. Остальное в лице по паспорту. Он при мне, как я заметил, удерживался. Когда первые минуты свидания прошли, когда повторились несколько раз вопросы, после молчаний: «Ну, что ты?» и ответы: «Да вот, как видишь», он обратился ко мне с вопросом: «Надолго ли-с, граф, сюда?» Я опять отвечал холодно. Я имею особенность узнавать сразу людей, которые любят иметь влияние на других. Должно быть оттого, что я сам люблю это. Он из таких людей. На брата он имеет наружное влияние. Например, подзывает его к себе. Желал бы я знать, может ли быть, чтобы человек сознательно старался приобрести влияние на других. Мне это кажется так же невозможным, как казалось невозможным разыгрывать à livre ouvert;[9] впрочем, я пробовал это; так почему людям последовательным посредством практики не дойти до этого. Таковые люди при всяком поступке имеют такого рода заднюю мысль. Мыслей так много может вмещаться в одно время, особенно в пустой голове.
10 августа 1851. [Старогладковская. ] Третьего дня ночь была славная, я сидел в Старогладковской у окошка своей хаты и всеми чувствами, исключая осязания, наслаждался природой. Месяц еще не всходил, но на юго-востоке уже начинали краснеть ночные тучки, легкий ветерок приносил запах свежести. Лягушки и сверчки сливались в один неопределенный, однообразный ночной звук. Небосклон был чист и засеян звездами. Я люблю всматриваться ночью в покрытый звездами небосклон; можно рассмотреть за большими ясными звездами маленькие, сливающиеся в белые места. Рассмотришь, любуешься ими, и вдруг опять все скроется, кажется — звезды стали ближе. Мне нравится этот обман зрения.
Не знаю, как мечтают другие, сколько я ни слыхал и ни читал, то совсем не так, как я. Говорят, что, смотря на красивую природу, приходят мысли о величии бога, о ничтожности человека; влюбленные видят в воде образ возлюбленной. Другие говорят, что горы, казалось, говорили то-то, а листочки то-то, а деревья звали туда-то. Как может прийти такая мысль? Надо стараться, чтобы вбить в голову такую нелепицу. Чем больше я живу, тем более мирюсь с различными натянутостями (affectation) в жизни, разговоре и т. д.; но к этой натянутости, несмотря на все мои усилия, [привыкнуть] не могу. Когда я занимаюсь тем, что называют мечтать, я никогда не могу найти в голове моей ни одной путной мысли; напротив, все мысли, которые перебегают в моем воображении, всегда самые пошлые — такие, на которых не может остановиться внимание. И когда попадешь на такую мысль, которая ведет за собою ряд других, то это приятное положение моральной лени, которая составляет мое мечтание, исчезает, и я начинаю думать.
Не знаю, каким ходом забрели в мое гуляющее воображение воспоминания о ночах цыганерства. Катины песни, глаза, улыбки, груди и нежные слова еще свежи в моей памяти, зачем их выписывать; ведь я хочу рассказать историю совсем не про то. Я замечаю, что у меня дурная привычка к отступлениям; и именно, что эта привычка, а не обильность мыслей, как я прежде думал, часто мешает мне писать и заставляет меня встать от письменного стола и задуматься совсем о другом, чем то, что я писал. Пагубная привычка. Несмотря на огромный талант рассказывать и умно болтать моего любимого писателя Стерна, отступления тяжелы даже и у него. Кто водился с цыганами, тот не может не иметь привычки напевать цыганские песни, дурно ли, хорошо ли, но всегда это доставляет удовольствие; потому что живо напоминает. Одна характеристическая черта воспроизводит для нас много воспоминаний о случаях, связанных с этой чертою. В цыганском пенье эту черту определить трудно; она состоит в выговоре слов, в особом роде украшений (фиоритур) и ударений.
Я пел у окна одну, хотя не из любимых моих песен «Скажи, зачем», — но песню, которую говорила мне Катя, сидя у меня на коленях в тот самый вечер, когда она рассказывала мне, что она меня любит и что оказывает расположение другим только потому, что хор того требует, но что никому не позволяет, кроме меня, вольностей, которые должны быть закрыты завесою скромности. Я в этот вечер от души верил во всю ее пронырливую цыганскую болтовню, был хорошо расположен, никакой гость не расстроил меня. За то и вечер, и песню эту люблю. Я пел с большим одушевлением, застенчивость не сдерживала моего голоса и не путала переходов, я с большим удовольствием слушал самого себя. Тщеславие, как всегда, прокралось в мою душу, и я думал: «Мне очень приятно себя слушать, но еще приятнее, должно быть, слушать меня посторонним»; я даже завидовал их удовольствию, которого я лишен был, как вдруг, переводя дух и прислушиваясь к звукам ночи, чтобы еще с большим чувством пропеть следующий куплет, я услыхал шорох под своим окошком. «Кто тут?» — «Это я-с», — отвечал мне голос, которого я не узнал, несмотря на уверенность его, что ответ этот был совершенно удовлетворителен. «Кто я?» — спросил [я], раздосадованный тем, что расстроено мое мечтание и пение каким-то профаном. «Я домой шел-с, да остановился, слушал». — «А, Марка?» — «Так точно-с. Это вы, кажется, ваше сиятельство, изволите калмыцкие песни петь?» — «Какие калмыцкие песни?» — «Да я слышал, — продолжал он, не замечая моего огорчения и обиды, — что голос схож с ихними рейладами». — «Да, калмыцкие». Нужно было этому хромому Марке глупым своим разговором испортить мое удовольствие; теперь уж кончено, я не мог продолжать ни мечтать, ни петь. Сейчас пришла мне мысль, что я пою очень дурно, что смех, который я слышал на соседнем дворе, был произведен моим пением. Я очнулся под неприятным впечатлением. Заниматься я тоже не мог, спать мне не хотелось; притом же Марка, как видно было, был в хорошем расположении духа и был совершенно невинным орудием разочарования. Я изъявил ему свое удивление, что он еще не спит, он сказал мне весьма вычурными и непонятными словами, что у него бессонница. У нас завелся разговор. Узнав, что не хочу спать, он попросил позволения взойти ко мне, на что я согласился, и Марка уселся с своими костылями против моей постели.
Личность Марки, которого зовут, однако, Лукою, так интересна и такая типическая казачья личность, что ею стоит заняться. Мой хозяин, старик ермоловских времен, казак, плут и шутник Япишка, назвал его Маркой на том основании, что, как он говорит, есть три апостола: Лука, Марка и Никита Мученик; и что один, что другой, все равно. Поэтому Лукашку он прозвал Маркой, и пошло по всей станице ему название: Марка.
Марка — человек лет двадцати пяти, маленький ростом и убогий; у него одна нога несоответственно мала сравнительно с туловищем, а другая несоответственно мала и крива сравнительно с первой ногой; несмотря на это, или скорее поэтому, он ходит довольно скоро, чтобы не потерять равновесие, с костылями и даже без костылей, опираясь одной ногою почти на половину ступни, а другою на самую цыпочку. Когда он сидит, вы скажете, что это среднего роста мужчина и хорошо сложенный. Замечательно, что ноги у него всегда достают до пола, на каком бы высоком стуле он ни сидел. Эта особенность в его посадке всегда поражала меня; сначала я приписывал это способности вытягивания ног; но, изучив подробно, я нашел причину в необыкновенной гибкости спинного хребта и способности задней части принимать всевозможные формы. Спереди казалось, что он не сидит на стуле, а только прислоняется и выгибается, чтобы закинуть руку за спинку стула (это его любимая поза); но, обойдя сзади, я, к удивлению моему, нашел, что он совершенно удовлетворяет требованиям положения сидящего.
Лицо у него некрасивое; маленькая, по-казацки гладко остриженная голова, довольно крутой умный лоб, из-под которого выглядывают плутовские, серые, не лишенные огня глаза, нос, загнутый концом вниз, выдавшиеся толстые губы и обросший козлиной рыженькой бородкой подбородок — вот отдельно черты его лица. Общее же выражение всего лица: веселость, самодовольство, ум и робость. Морально описать я его не могу, но сколько он выразился в следующем разговоре — передам. Еще прежде у нас с ним бывали отношения и разговоры. В тот же самый день он пришел ко мне, когда я укладывал вещи для завтрашней поездки. У меня сидел Япишка, которого он боится, весьма справедливо полагая, что Япишка будет завидовать всему тому, что я дам Марке. Марку я выбрал своим учителем по-кумыцки. «У меня до вас, ваше сиятельство, можно сказать (он любит употреблять это вставочное предложение), будет просьбица». — «Что такое?» — «После позвольте сказать; а впрочем, — сказал он, одумавшись и теперь, улыбаясь, взглянув на Япишку, — ежели бы карандашик и бумажка, я мог [бы] письменно…» Я ему показал все нужное для письма на столе; он взял бумажку, сложил ноги и костыли в какую-то одну неопределенную кучу, уселся на полу, нагнул голову набок, мусолил беспрестанно карандаш, улыбался и с большим трудом выводил на колене какие-то каракули; через пять минут я получил следующее послание, разумеется криво и кругло написанное, которое он подал мне и, обратившись к Япишке, сказал: «Вот, дядя, тут сидишь, да не знаешь, что писано». — «Да, грамотей!» — отвечал тот насмешливо. «Осмелюсь просить вас, ваше сиятельство, что ежели милость ваша будет, то есть насчет дорожного самовара, и вперед готов вам служить, ежели он старенькой и к надобности не потребуется» Улыбку, с которой я ему сказал: «Хорошо, возьми», — он, верно, принял за одобрительную его литературному таланту; потому что ответил тою же самодовольною и хитрою улыбкой, с которой и прежде обращался к Япишке. — Вот и все.
Ночью же разговор у нас завязался следующий. «Вы еще отдыхать не изволите?» — «Нет, не спится; а ты где был?» — «Тоже, признаться сказать, спать не хотелось — по станице прогулялся, зашел кой-куда, да вот и домой шел». Надо заметить, что я имел, позвав его [к] себе и начав разговор, тайную цель — может ли он быть моим Меркурием и возьмется ли за это дело, которое, хотя я и знал, что он очень любит, не мог назвать прямо по имени. У меня есть та особенность, что вещи, которые я делаю не увлекаясь, а обдуманно, я все-таки не могу решиться назвать по имени и прямо приступить к ним. В его же разговоре есть та особенность, что у него их два: один обыкновенный, который он употребляет в случаях, не представляющих ничего особенного и особенно приятного; при такого рода обстоятельствах он держит себя очень просто и прилично; ежели же речь коснется чего-нибудь выходящего из колеи его привычек, то он начинает говорить вычурными и непонятными, не столько словами, сколько периодами; при этом даже и наружность его совершенно изменяется: глаза получают необыкновенный блеск, нетвердая улыбка искривляет уста, приходит всем телом в движение и сам не свой. Разговор и рассказ Марки очень забавен, особенно его ходатайство для К. Л…, который был к нему «очень привержен» и который, добившись желаемой цели, по слабости здоровья не мог воспользоваться трудами Марки.
22 августа. 28 мое рождение, мне будет 23 года; хочется мне начать с этого дня жить сообразно с целью, которую сам себе поставил. Обдумаю завтра все хорошенько, теперь же принимаюсь опять за дневник с будущим расписанием занятий и сокращенной Франклиновской таблицей. Я полагал, что это педантство, которое вредит мне; но недостаток не в том, а стеснить размашистых движений души никакой таблицей нельзя. Ежели таблица эта могла подействовать на меня, то только полезно, укрепляя характер и приучая к деятельности; поэтому продолжаю тот же порядок.
С восхода солнца заняться приведением в порядок бумаг, счетов, книг и занятий; потом привести в порядок мысли и начать переписывать первую главу романа. После обеда (мало есть) татарский язык*, рисование, стрельба, моцион и чтение.
4 сентября. Ко мне приехал брат с Балтою 27 числа. 28-го минуло мне 23 года. Много рассчитывал я на эту эпоху, но, к несчастию, я остаюсь все тем же, в несколько дней я успел переделать все то, чего не оправдываю. Резкие перевороты невозможны. Имел женщин, оказался слаб во многих случаях — в простых отношениях с людьми, в опасности, в карточной игре, и все так же одержим ложным стыдом. Много врал. Ездил бог знает зачем в Грозную; не подъехал к Барятинскому. Проиграл сверх того, что было в кармане, и, приехавши назад, целый день не спросил у Алексеева денег, как того хотел. Ленился очень много; и теперь не могу собрать мыслей и пишу, а писать не хочется.
1851. 29 ноября. Тифлис. Я никогда не был влюблен в женщин. Одно сильное чувство, похожее на любовь, я испытал только, когда мне было 13 или 14 лет; но мне [не] хочется верить, чтобы это была любовь; потому что предмет была толстая горничная (правда, очень хорошенькое личико), притом же от 13 до 15 лет — время самое безалаберное для мальчика (отрочество): не знаешь, на что кинуться, и сладострастие в эту эпоху действует с необыкновенною силою.
В мужчин я очень часто влюблялся, первой любовью были два Пушкина*, потом 2-й — Сабуров, потом 3-ей — Зыбин и Дьяков, 4 — Оболенский, Блосфельд, Иславин, еще Готье и многие другие. Из всех этих людей я продолжаю любить только Дьякова. Для меня главный признак любви есть страх оскорбить или не понравиться любимому предмету, просто страх. […] Все люди, которых я любил, чувствовали это, и я замечал, им тяжело было смотреть на меня. Часто, не находя тех моральных условий, которых рассудок требовал в любимом предмете, или после какой-нибудь с ним неприятности, я чувствовал к ним неприязнь; но неприязнь эта была основана на любви. К братьям я никогда не чувствовал такого рода любви. Я ревновал очень часто к женщинам. Я понимаю идеал любви — совершенное жертвование собою любимому предмету. И именно это я испытывал. Я всегда любил таких людей, которые ко мне были хладнокровны и только ценили меня. Чем я делаюсь старше, тем реже испытываю это чувство.
[…] Живопись действует на способность воображать природу, и ее область — пространство. Музыка действует на способность воображать ваши чувства. И ее область — гармония и время. Поэзия действует на способность воображать как то, так другое, то есть действительность или отношения наших чувств к природе. Переход от живописи к музыке есть танцы. От музыки к поэзии — песни. Отчего музыку древние называли подражательною? Отчего к каждому переходу не присоединить какое-нибудь чувство? Отчего музыка действует на нас, как воспоминание? Отчего, смотря по возрасту и воспитанию, вкусы к музыке различны? Почему живопись есть подражание природе, очень ясно (хотя оно не полно); но почему музыка есть подражание нашим чувствам и какое сродство каждой перемены звука с каким-нибудь чувством? Нельзя сказать. Природа подлежит нашим пяти чувствам, а чувства, как: отчаяние, любовь, восторг и т. д. и их оттенки, не только не подлежат нашим пяти чувствам, но даже не подлежат и рассудку. Музыка имеет даже перед поэзией то преимущество, что подражание чувствам музыки полнее подражания поэзии, но не имеет той ясности, которая составляет принадлежность поэзии.
Свобода состоит в отсутствии принуждения делать зло; ежели таким образом понимать свободу, то понятно, что она имеет это качество. Совершенной свободы нет, но более или менее происходит от большей или меньшей власти и искушения в обратном отношении.
Я допускаю власть рока только в том, что не имеет отношения к добру и злу (внутреннему). Никакое положение человека не может заставить быть добрым или злым.
Властью рока я выражаю — чему быть, тому не миновать и — «да будет воля твоя».
Все атомы имеют сферическую форму и обращаются вокруг своей оси. Закон тяготения есть закон — центробежной и центростремительной силы. Чувство осязания происходит от трения обращающихся атомов. Осязание было бы даже тогда, если бы не было давления. Чем меньше давление, тем яснее чувство осязания.
22 декабря 1851. Видел странный сон о Митеньке. 21 декабря того же года в 12 часов ночи мне было что-то, вроде откровения. Мне ясно было существование души, бессмертие ее — (вечность) — двойственность нашего существования и сущность воли. Свобода сравнительна: в отношении материи человек свободен, в отношении бога — нет.
Нынче 22 декабря меня разбудил страшный сон — труп Митеньки. Это был один из тех снов, которые не забываются. Неужели это что-нибудь значит? Я много плакал после. Чувства вернее во сне, чем наяву. Ложное рассуждение возбуждает поэтическое чувство.
1852
1852. Генваря 2. Когда я искал счастия, я впадал в пороки; когда я понял, что достаточно в этой жизни быть только не несчастным, то меньше стало порочных искушений на моем пути — и я убежден, что можно быть добродетельным и не несчастливым.
Когда я искал удовольствия, оно бежало от меня, а я впадал в тяжелое положение скуки — состояние, из которого можно перейти ко всему — хорошему и дурному; и скорее к последнему. Теперь, когда я только стараюсь избегать скуки, я во всем нахожу удовольствие.
Чтобы быть счастливу, нужно избегать несчастий, чтобы было весело, нужно избегать скуки.
Tout vient à point à celui qui sait attendre[10].
Платон говорит, что добродетель составляют три качества: справедливость, умеренность и храбрость*. Справедливость есть, мне кажется, моральная умеренность. Следовать в физическом мире правилу — ничего лишнего — будет умеренность, в моральном — справедливость. Третье качество Платона есть только средство сообразоваться с правилом — ничего лишнего — Сила.
У всех молодых людей есть время, в которое они не имеют никаких твердых понятий о вещах — правил, и составляют как то, так и другое. В это время обыкновенно они чуждаются интересов практических и живут в мире моральном. Эту переходную эпоху я называю — юность. У иных людей юность продолжается больше, у других меньше. Даже есть люди, которые всегда остаются юны, а другие, которые не были юными. От чего зависит продолжительность этой эпохи? Казалось бы, так как, я сказал, в это время молодые люди занимаются составлением твердых понятий о вещах и правил, то чем умнее молодой человек, тем скорее должна пройти эта эпоха: он составит себе правила и будет жить по ним. Но в действительности совершенно напротив. Практическая сторона жизни, чем дальше мы подвигаемся в ней, больше и больше требует нашего внимания; но чем больше имеет человек наклонности к размышлению (и поэтому находит в нем наслаждение моральное), тем больше старается он удалить от себя срок этого перехода; а чтобы составить верные понятия о вещах и верные правила для жизни, недостаточно целого века размышления; хотя он на пути этом и идет вперед, но необходимость требует перестать составлять правила, но действовать по каким бы то ни было уже составленным. Поэтому все мы, входя в практическую жизнь, начинаем действовать, основываясь на тех несовершенных и недоконченных правилах и понятиях, на которых застала нас необходимость.
Продолжительность этого периода доказывает ум, но не способствует успехам в практической жизни. Легче действовать на основании простых, несложных и хотя и неверных, но согласных между собой правил, которые я принял, не разбирая их, чем на основании правил, которые, может быть, и верны, но недостаточно объяснены и приведены к единству. От этого и успевают в свете дураки больше, чем люди умные.
Два замечания для писателя belles-lettres[11].— Тень, ежели и ложится на воде, то очень редко ее можно видеть, и когда видишь, то она нисколько не поражает.
Всякий писатель для своего сочинения имеет в виду особенный разряд идеальных читателей. Нужно ясно определить себе требования этих идеальных читателей, и ежели в действительности есть хотя во всем мире два таких читателя — писать только для них. Описывая типы или пейзажи, необыкновенные для большинства читателей, никогда не выпускать из виду типы и пейзажи обыкновенные — взять их за основание и, сравнивая с ними необыкновенные, описывать их.
5 февраля 1852 (Николаевка — еду в отряде). Я равнодушен к жизни, в которой слишком мало испытал счастия, чтобы любить ее; поэтому не боюсь смерти. Не боюсь и страданий; но боюсь, что не сумею хорошо перенести страданий и смерти. Я не совершенно спокоен; и замечаю это потому, что перехожу от одного расположения духа и взгляда на многие положения к другому. Странно, что мой детский взгляд — молодечество — на войну для меня самый покойный. Во многом я возвращаюсь к детскому взгляду на вещи.
1852 года февраля 28. В отряде (около Тепликичу). Никогда в действительности не оправдывал я для себя самого ожиданий своего воображения.
Я желал, чтобы судьба ставила меня в положения трудные, для которых нужны сила души и добродетель. Воображение мое любило представлять мне эти положения, а внутреннее чувство говорило, что у меня достанет для них силы и добродетели. Самолюбие мое и уверенность в силе своей души росли, не находя опровержений. Случаи, в которых я мог оправдать свою уверенность, но не оправдывал ее, я извинял тем, что мне представлялось слишком мало трудностей и я не употреблял всех сил своей души.
Я был горд, но гордость моя не опиралась на делах, но на твердой надежде, что я способен на все. От этого наружная гордость моя не имела уверенности, твердости и постоянства, я из крайней надменности переходил в излишнюю скромность.
Состояние мое во время опасности открыло мне глаза. Я любил воображать себя совершенно хладнокровным и спокойным в опасности. Но в делах 17 и 18 числа* я не был таким. Отговорки, которую я обыкновенно употреблял, что опасность не была такой великой, какую я воображал, нет у меня. Это был единственный случай показать всю силу своей души. И я был слаб и поэтому собою недоволен.
Я только теперь понял, что обманчива уверенность в будущие дела, что можно рассчитывать на себя только в том, что уже испытал. Что уверенность эта уничтожает самую силу и что надо ни один случай не считать ничтожным для того, чтобы приложить в нем все силы.
Одним словом, не откладывать до завтра, что можно. сделать сегодня.
Как ни просто это правило, как ни часто я его слышал, я понял и сознал его истину только теперь.
Есть только один известный путь, по которому мысль может перейти в убеждение.
20 марта 1852. Старогладковская. Сейчас перечел я свой старый дневник с июля 1851 года и кое-что написанное в этой книге. Удовольствие, которое доставило мне это чтение, заставляет меня продолжать дневник, чтобы на будущее время приготовить себе такое же удовольствие. Некоторые мысли, написанные в этой книге, поразили меня иные своей оригинальностью, иные своей верностью. Мне кажется, что я уже потерял способность писать и думать так бойко и смело; правда, смелость эта часто соединена с парадоксальностью; но зато и больше уверенности[12].
Надо признаться, что одно из главных стремлений моей жизни — было увериться в чем-нибудь — твердо и неизменно. Неужели с годами рождаются и сомнения? В дневнике я нашел много приятных воспоминаний — приятных только потому, что они воспоминания. Все время, которое я вел дневник, я был очень дурен, направление мое было самое ложное; от этого из всего этого времени нет ни одной минуты, которую бы я желал возвратить такою, какою она была; и все перемены, которые бы я желал сделать, я бы желал их сделать в самом себе.
Лучшие воспоминания мои относятся к милой Волконской.
Во всем дневнике видна одна главная идея и желание: это избавиться от тщеславия, которое подавляло собой и портило все наслаждения, и отыскивание средств избавиться от него.
Я перестал писать дневник почти уже семь месяцев. Сентябрь провел я в Старогладковской, то в поездках в Грозную и Старый Юрт; ездил на охоту, волочился за казачками, пил, немного писал и переводил. В октябре месяце я с братом поехал в Тифлис для определения на службу. В Тифлисе провел месяц в нерешительности: что делать, и с глупыми тщеславными планами в голове. С ноября месяца я лечился, сидел целых два месяца, то есть до нового года, дома; это время я провел хотя и скучно, но спокойно и полезно — написал всю первую часть*.
Генварь я провел частью в дороге, частью в Старогладковской, писал, отделывал первую часть, готовился к походу и был спокоен и хорош. Февраль провел в походе — собою был доволен. Начало марта говел, скучаю и ленюсь. Отправляясь в поход, я до такой степени приготовил себя к смерти, что не только бросил, но и забыл про свои прежние занятия, так что теперь мне труднее, чем когда-нибудь, снова приняться за них.
Хотя все это время я о себе очень мало думал, но мысль о том, что я стал гораздо лучше прежнего, как-то закралась в мою душу — и даже сделалась убеждением. Действительно ли я стал лучше? Или это только такая же надменная уверенность в своем исправлении, которую я всегда имел, когда вперед определял себе будущий образ жизни?
Сколько я мог изучить себя, мне кажется, что во мне преобладают три дурные страсти: игра, сладострастие и тщеславие. Я уже давно убедился в том, что добродетель, даже в высшей степени, есть отсутствие дурных страстей; поэтому, ежели действительно я уничтожил в себе хотя сколько-нибудь преобладающие страсти, я смело могу сказать, что я стал лучше.
Рассмотрю каждую из этих трех страстей. Страсть к игре проистекает из страсти к деньгам, но большей частью (особенно те люди, которые больше проигрывают, чем выигрывают), раз начавши играть от нечего делать, из подражания и из желания выиграть, не имеют страсти к выигрышу, но получают новую страсть к самой игре — к ощущениям. Источник этой страсти, следовательно, в одной привычке; и средство уничтожить страсть — уничтожить привычку. Я так и сделал. Последний раз я играл в конце августа — следовательно, с лишком шесть месяцев, и теперь не чувствую никакого позыва к игре. В Тифлисе я стал играть с маркером на партии и проиграл ему что-то около тысячи партий; в эту минуту я мог бы проиграть все. Следовательно, уже раз усвоив эту привычку, она легко может возобновиться; и поэтому, хотя я не чувствую желания играть, но я всегда должен избегать случая играть, что я и делаю, не чувствуя никакого лишения.
Сладострастие имеет совершенно противоположное основание: чем больше воздерживаешься, тем сильнее желание. Есть две причины этой страсти: тело и воображение. Телу легко противостоять, воображению же, которое действует и на тело, очень трудно. Средство против как той, так и другой причины есть труд и занятия, как физические — гимнастика, так и моральные — сочинения. Впрочем, нет. Так как это влечение естественное и которому удовлетворять я нахожу дурным только по тому неестественному положению, в котором нахожусь (холостым в 23 года), ничто не поможет, исключая силы воли и молитвы к богу — избавить от искушения. […]
Тщеславие есть страсть непонятная — одно из тех зол, которыми, как повальными болезнями — голодом, саранчой, войной — провидение казнит людей. Источников этой страсти нельзя открыть; но причины, развивающие ее, суть: бездействие, роскошь, отсутствие забот и лишений.
Это какая-то моральная болезнь вроде проказы, — она не разрушает одной части, но уродует все, — она понемногу и незаметно закрадывается и потом развивается во всем организме; нет ни одного проявления, которое бы она не заразила, — она как венерическая: ежели изгоняется из одной части, с большей силой проявляется в другой. Тщеславный человек не знает ни истинной радости, ни горя, ни любви, ни страху, ни отчаяния, ни ненависти — все неестественно, насильственно. Тщеславие есть какая-то недозрелая любовь к славе, какое-то самолюбие, перенесенное в мнение других — он любит себя не таким, каким он есть, а каким он показывается другим. Эта страсть чрезвычайно развита в наш век, над ней смеются; но ее не осуждают; потому что она не вредна для других. Но зато для человека, одержимого ей, она хуже всех других страстей — она отравляет все существование. Исключительная черта этой страсти, общая проказе, есть чрезвычайная прилипчивость. Мне кажется, однако, что, рассуждая об этом, я открыл источник этой страсти — это любовь к славе.
Я много пострадал от этой страсти — она испортила мне лучшие года моей жизни и навек унесла от меня всю свежесть, смелость, веселость и предприимчивость молодости.
Не знаю как, но я подавил ее и даже впал в противоположную крайность: я остерегаюсь всякого проявления, обдумываю вперед, боясь впасть в прежний недостаток. Не знаю, случай или провидение сделали так, что страсть эта редко удовлетворялась, так что я испытывал только одни страдания, которые она доставляет; или влияние брата, который почти не понимает, что такое тщеславие, или отдаление от тщеславного круга и образ жизни, который заставил меня смотреть с серьезной точки на свое положение, только я уничтожил совершенно эту страсть во время моей болезни в Тифлисе. Не могу сказать, чтобы страсть эта была совершенно уничтожена; потому что часто я жалею о наслаждениях, которые она мне доставляла, но, по крайней мере, я понял жизнь без нее и приобрел привычку удалять ее. Я только недавно испытал в первый раз после детства чистые наслаждения молитвы и любви. Еще по дневнику по моему прошлой зимой видно, что я хотел истребить эту страсть; но я нападал только на те проявления, которые были мне неприятны, не поняв того, что ее нужно выдернуть с корнем, чтоб от нее избавиться. Мне кажется, что теперь я это сделал; но еще имею наклонность к ней и поэтому должен остерегаться новой заразы.
20 марта. Встал в 9-ом часу. Очень болели зубы перед рассветом. Частью от лени, частью от болезни не пошел на ученье. Читал старый дневник и писал новый до обеда. Алексеев все так же скучен — те же бесконечные рассказы о вещах, которые никого занимать не могут; то же неумение слушать и робкий, нетвердый взгляд. Должно быть, мой взгляд на него действует, и от этого мне как-то совестно на него смотреть. — (Юнкер Махин.) После обеда писал, пришел Дурда, помешал мне; но мне совестно было его выгнать, потому что прежде я его принимал хорошо. Он должен быть хитрый плут, рассказывал мне про стычку Хаджи-Мюрата с Арслан-Ханом за мечеть*. Интересно бы было их посмотреть. Дурда стал отчего-то очень добреньким и хорошего мнения о русских; а прошлого года с гордостью рассказывал, как он бил казаков.
Странно, что ни один из пропасти чеченцев, которые трутся около русских, не показал тех дорог, которые показал Бота; а они все очень корыстолюбивы. Когда я спрашивал об этом Дурду, он мне сказал, что, верно, Бота очень рассердился. С какой стати я рассказывал Дурде, что я сам видел, как Бота струсил от гранаты, когда я не видал этого? После Дурды я пошел к Яновичу; но умысел другой тут был. Стех пор как я встретил Помчишку (должно быть, не нечаянно с ее стороны), она мне часто лезет в голову, а мне труднее стало удерживаться. У Яновича был юнкер; но он мне так не понравился, что я, увидав, не взошел в комнату. Когда мы пошли с Яновичем, я чему-то смеялся и мне хотелось, как говорит Николенька, поиграть в голышку. Дай бог, чтобы почаще приходило это расположение духа. Я давно не был так весел, как сегодня, это потому, что занимался. Сколько выгод, кажется, в труде; а в лени ни пользы, ни удовольствия, и все-таки она большей частью берет верх.
Янович так мне нравится своей добродушной, откровенной скромностью, что в несколько дней привык к нему, как к старому знакомому. Я с ним играл в шахматы рассеянно и торопливо, делал гимнастику, при чем присутствовал и Сулимовский. Потом, не знаю с какой стати, я позвал Дмитрия и смеялся над ним. Это было глупо. Еще сыграл несколько партий так же дурно в шахматы, и Янович пошел ужинать, а я сел писать письма Валерьяну и Андрею. Я сочинил эти письма в то время, когда получил письмо Андрея; тогда я был сердит и мне казалось очень хорошо; теперь же, напротив, был в хорошем расположении духа; и из этого соединения двух расположений вышли письма, которые мне не нравятся. Досада и выражения совершенно женские. Читал Тьера* и ложусь спать ½ 12-го.
Завтра встану пораньше и постараюсь провести день как можно полнее. Проклятая лень! Какой бы я был славный человек, коли бы она мне не мешала. Я беспокоюсь и скучаю о брате — мне все лезут скверные мысли на этот счет в голову.
21 марта. Я встал в 8-м часу, прочел главу Тьера во время чаю; потом пошел с Дмитрием и с собаками походить. Что было с моей стороны довольно глупо; потому что лучше было идти на учение, а еще лучше совсем не ходить; потому что я опять простудил зубы. Ничего не затравил, пришел домой и переводил до обеда; за обедом говорил о пожарах с Хилковским и довольно хорошо. Славный старик! — Прост (в хорошем значении слова) и храбр. В этих двух качествах я уверен; и притом его наружность не исключает, как наружность Сулимовского, все хорошее. Алексеев увлекся сеном, и взгляд его был тверд. Я совершенно убежден, что тщеславие происходит от физического и морального бездействия. После обеда переписывал 1-ую часть* и работал без всякого принуждения. Дай бог, чтобы это всегда так было. Приехал Султанов, в восторге от того, что получил собак. Замечательная и оригинальная личность. Ежели бы у него не было страсти к собакам, он бы был отъявленный мерзавец. Эта страсть более всего согласна с его натурой.
Приехал брат, я рассказывал ему, как мне неприятно было написать неправду в отзыве, который от меня требовали, надеясь, что он меня совершенно успокоит на этот счет, сказав, что это пустяки; напротив, он находит, что я сделал скверно. Странно, как он с своими рыцарскими правилами чести, которым он всегда верен, может уживаться и даже находит удовольствие с здешними офицерами. Отчего нам с ним как-то неловко с тех пор, как я приехал из Тифлиса? Не оттого ли, что мы слишком полюбили, идеализировали друг друга заочно; и ожидали друг от друга слишком много?
Порядок занятий, который я принял, то есть утром перевод, после обеда корректура и вечером повесть — очень хорош. Не знаю только, когда гимнастику; а это непременно нужно — какое-нибудь упражнение каждый день. Теперь 11-й час, я ужинаю и сейчас лягу спать.
Когда занимаешься, то время идет так скоро, что хотелось бы остановить его. В праздности оно идет так тихо, что хотелось бы гнать его. Что приятнее? Трудно решить. Знаю только то, что в воспоминаниях один день, проведенный в занятиях, равняется трем праздным. По этому расчету в праздные дни время должно бы было идти скорее, а выходит наоборот.
22 марта. Встал в 10-м часу, потому что ночью болели зубы — так сильно, что я впросонках охал и вскрикивал. Выпил два стакана кофе, чтобы противодействовать камфаре, которой я много поглотал по случаю зубной боли, и после этого потел целое утро. Пришел брат и Янович; они мне немного помешали, но я продолжал переводить. Обедал дома; после обеда немного заленился; хотя и работал, но не так усердно, как вчера. […] Корректур сделал не так много, как вчера, и не так чисто; а это главное, чтобы не надоел труд. Проиграл Яновичу две партии в шахматы — без царицы; и в этом видно, как он скромен. Не продолжал повесть частью оттого, что не успел, а частью оттого, что я сильно начинаю сомневаться в достоинстве первой части. Мне кажется слишком подробно, растянуто и мало жизни. Подумаю об этом. […]
27 марта, утро. […] Читал «Отечественные записки» за февраль. «Проселочные дороги» очень хороши, но жаль, что подражание*. Нынче буду делать корректуры, может быть, и писать.
27 марта, 12 ч. ночи. Хотя не совсем здоровилось, я делал корректуры до 11 часов, — и делал корректуры не совсем чисто и отчетливо; обедал, почитал и продолжал ту же работу, пришел брат, я ему читал писанное в Тифлисе*. По его мнению, не так хорошо, как прежнее, а по-моему, ни к черту не годится. Хотел облегчить свой труд; но писаря переписывать не могут; следовательно, нужно работать одному.
По случаю одной статьи А. Дюма о музыке* я вспомнил, какого огромного наслаждения я лишен здесь. Почти все мечты счастия разрушены действительностью в моем воображении, исключая счастия артиста. Я хотя в очень несовершенном виде, но испытал его в деревне, в 1850 году.
Завтра буду переписывать, писать письмо Сереже и обдумаю 2-й день:* можно ли его исправить или нужно совсем бросить?
Нужно без жалости уничтожать все места неясные, растянутые, неуместные — одним словом, неудовлетворяющие, хотя бы они были хороши сами по себе.
Постоянство и решительность — вот два качества, которые обеспечивают успех во всяком деле. Ложусь спать, ½ первого.
29 марта. […] С некоторого времени меня сильно начинает мучать раскаяние в утрате лучших годов жизни. И это с тех пор, как я начал чувствовать, что я бы мог сделать что-нибудь хорошее. Интересно бы было описать ход своего морального развития; но не только слова, но мысль даже недостаточна для этого.
Нет границ великой мысли, но уже давно писатели дошли до непреступной границы их выражения. Играл в шашки, ужинал, ложусь спать. Меня мучит мелочность моей жизни — я чувствую, что это потому, что я сам мелочен; а все-таки имею силу презирать и себя, и свою жизнь. Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть таким, как все. Но отчего это происходит? Несогласие ли — отсутствие гармонии в моих способностях, или действительно я чем-нибудь стою выше людей обыкновенных? Я стар — пора развития или прошла, или проходит; а все меня мучат жажды… не славы — славы я не хочу и презираю ее; а принимать большое влияние в счастии и пользе людей.
Неужели я так и сгасну с этим безнадежным желанием? Есть мысли, которые я сам себе не говорю; а так дорожу ими, что без них не было бы для меня ничего. Я писал повесть с охотой; но теперь презираю и самый труд, и себя, и тех, которые будут читать ее; ежели я не бросаю этот труд, то только в надежде прогнать скуку, получить навык к работе и сделать удовольствие Татьяне Александровне. Ежели примешивается тут тщеславная мысль, то она так невинна, что я извиняю ее в себе, и приносит пользу — деятельность.
Тщеславия я так боялся и так презираю, что не надеюсь, чтобы удовлетворение его доставило мне какое-нибудь удовольствие. А надо надеяться на это, потому что иначе что останется — из чего двигаться? Любовь, дружба! Невольно и эти два чувства я принимаю за увлечение, обман молодого воображения. Разве они доставляли мне счастие? А может быть, я только был несчастлив. Одна эта надежда поддерживает желание жить и стараться. Ежели возможно счастие, полезная деятельность и я испытаю их, по крайней мере, я буду в состоянии пользоваться ими. Господи, помилуй.
30 [марта]. День Пасхи. Спал хорошо и встал поздно, в 10 часов. […]
Я в первый раз после трех дней вышел, ходил по двору до 11 часов; в 11 пришли ко мне все офицеры под хмельком, и с ними Бароневской, в нем нет ничего замечательного, но как новое лицо, которое — я это чувствовал, обращающее на меня напряженное внимание, он смутил меня.
Я отобедал очень дурно дома; потому что от Алексеева ни к обеду, ни к ужину меня не приходили звать. Я к Алексееву больше не хожу ни обедать, ни ужинать. Потом поехал верхом к брату — у него компания, пьянствующая. Поездил за зайцами, видел одного — поделал гимнастику, напился чаю и пошел к брату, узнав от Буемского, что там все уже неблагопристойно пьяны. Известие было верно. Я застал их тащивших какого-то старика в хату. Ладыженский пьяный так же глуп и смешон, как и трезвый. […]
Николенька насилу говорит и смотрит на меня глазами, которые говорят: я с тобой согласен, что это скверно и что я жалок; но мне это нравится. Он пьяный чрезвычайно похож на пьяного Арсеньева. Предсказание Ермолова сбывается на нем, к несчастью. Ермолов забыл сказать: или с ума сойдет. Мне кажется, что я от скуки рехнусь. Презираю все страсти и жизнь, а увлекаюсь страстишками и тешусь жизнью. Я этого не могу иначе объяснить, как привычкою увлекаться и жить. Глупые привычки!
До обеда, часов в 11, и до заката солнца, часов в 6, надо уставать.
Нужно работать поусерднее; а то я начинаю лениться. Ложусь спать ½ 12-го.
31 марта. Просыпался в 6 часов, перебудил всех; но от лени не встал и проспал до 9. Пил чай, читал; пришел Алексеев и помешал мне заниматься до обеда. […] После охоты я болтал с Балтой до ужина; он мне рассказал драматическую и занимательную историю семейства Джеми. Вот сюжет для Кавказского рассказа*. […]
1-е апреля. Опять просыпался в 8-м, но заснул и проспал до 10-ти. Читал «Современник», в котором все очень дурно. Странно, что дурные книги мне больше указывают на мои недостатки, чем хорошие. Хорошие заставляют меня терять надежду. Писал главу о молитве, шло вяло. […] Писал, писал, наконец, стал замечать, что рассуждение о молитве имеет претензию на логичность и глубокость мыслей; а не последовательно. Решился покончить чем-нибудь, не вставая с места, и сейчас сжег половину — в повесть не помещу; но сохраню как памятник*. […]
3-е апреля. Встал в 12-ом часу; только что успел напиться чаю, позвали обедать. Без Алексеева совсем не так скучно; притом же нынче я был в духе. После обеда пришел Николенька, я предлагал ему читать 16 главу, он меня оскорбил холодностью. Писал немного, поехал верхом, был у Михаила Сехина, сделал выстрел, который очень польстил моему самолюбию, проехался полем и вернулся пить чай. Приехал Султанов, и пришли все офицеры. Завтра еду на охоту. Слушал очень занимательные рассказы Хилковского о казачей линии в Южной Сибири.
За ужином был простодушно весел. Работа с Ванюшкой подвигается. Я меньше конфужусь. 1-я глава, стихи, написана, но я не составил о ней никакого мнения — скорее дурна, чем хороша; ежели я в нерешительности. ½ 1 ложусь с намерением встать завтра со светом.
4 апреля. Меня разбудил в 8-м часу Хилковский, скоро подошли и другие. Ветер был так силен, что мы принуждены были вернуться с Хилковским. Брат поехал с Султановым в Шелковую. Он страстный охотник; но не молодец-охотник, и имеет пристрастие к наружным признакам и словам охотничьим, и злоупотребляет ими.
Я трусил сначала, когда ехал домой, — стыдно. Обедал дома; читал и проспал два часа; потом еще читал и пошел ходить по станице с дурными замыслами. Энергия ослабевает, страсть увеличивается. У меня нет постоянной энергии; но она почти периодически возбуждается и потом ослабевает.
От чего возбуждается и падает энергия? От рода ли занятий, или людей, которых я вижу; или от физических причин? Не знаю; а это интересно и полезно бы было знать.
Нужно перевести некоторых собак. Завтра распоряжусь. Павлычу не буду отдавать.
За ужином встретил Баумгартена и Вержбицкого. Не очень конфузился, но впал в другую крайность — много говорил. Глупо, что присутствие самого ничтожного человека заставляет меня переменяться; главное, замечать за собой эту перемену и стараться, чтобы ее не было — но не могу иначе. Должно быть, это пройдет само собой и должно принести мне пользу. Ложусь без 10 минут 12.
5 апреля. Встал в 10-м часу, читал до обеда. Писал очень мало, поехал на охоту и в баню. Читал, ходил ужинать. Алексеев до того глуп, что я больше к нему ни ногой. Скучно, беспрестанно remettre à sa place[13]. С дураком ничего не сделаешь. Лучше, кроме служебных, никаких отношений с ним не иметь. […] Получил от Татьяны Александровны письмо и 100 рублей. Напряженной деятельностью и энергией могу я только выкупить эту эскападу. Ложусь спать ¼ 12. Завтра встаю с светом и кончаю 1-й день и пересматриваю его.
6 апреля. Встал в 6 часов и был этим очень доволен. Писал до обеда. Обедал дома. Еще писал, но не тщательно; потому что клонил сон. Чтобы разгуляться, в 5 часов поехал верхом, вернулся в 7-м и дописал 1-й день; хотя не тщательно; но слог, кажется, чист, и прибавления не дурны.
У меня Япишка, послушаю его, поужинаю и лягу спать. Всем днем доволен. Без 5 минут 11.
7-е апреля. 11 часов ночи. Хотя просыпался в 7-м часу, я не мог преодолеть лени и встал только в 9. Перечел и сделал окончательные поправки в первом дне*. Я решительно убежден, что он никуда не годится. Слог слишком небрежен и слишком мало мыслей, чтобы можно было простить пустоту содержания. Однако я решился докончить корректуры всей первой части и завтра примусь за второй день. Пошлю ли я, или нет это сочинение? Я не решил. Мнение Николеньки решит это дело. Я об нем очень беспокоюсь, и мне на душе как-то тяжело и жутко. Очень хочется мне начать коротенькую Кавказскую повесть;* но я не позволяю себе этого сделать — не окончив начатого труда.
Обедал дома. Читал прекрасные статьи Бюффона о домашних животных*. Его чрезвычайная подробность и полнота в изложении нисколько не тяжела. В 6 часов ездил верхом и глупо рассердился на собак. Читал «Старый дом», о поездках на Алеутские острова*. Довольно интересно, хотя дурно написано.
8 апреля. Встал в 7-м часу и читал «Старый дом». День был так хорош, что я поехал в поле; и ездил до 12 часов. Обедал, принялся писать, но был не в духе; поэтому, написав две страницы, бросил. До вечера читал. Очень беспокоился за брата; наконец, он приехал с какой-то сальной компанией, которая, с присоединением Япишки, надоедала мне до 12-го часу. Ушли, я ужинаю и ложусь спать.
Утром получил грубую и глупую записку Алексеева об учении. Он окончательно решился доказать мне, что он имеет возможность мне надоедать. Утром перевел одну главу Стерна.
Увижусь завтра с Алексеевым и переговорю об учении. Меня очень подмывает ехать на море; но не на чем и не кончено начатое дело.
10 апреля. Встал в 8-м часу. Поленился — учился; потом принялся за роман; но, написав две страницы, остановился; потому что мне пришла мысль, что второй день не может быть хорош без интересу и что весь роман похож на драму. Не жалею, отброшу завтра все лишнее. […]
14 апреля. [Кизляр. ] Проснулся в 7 часов, поехал охотиться, ничего не затравил, в 12 часов приехал в Кизляр. […] Читал Стерна*. Восхитительно. […] Читал «Histoire d'Angleterre»*, и не без удовольствия. Я начинаю любить историю и понимать ее пользу. Это в 24 года; вот что значит дурное воспитание! Боюсь, что это будет ненадолго. Ложусь спать, 9 часов.
16 апреля. Встал в 9. Читал «Вечного жида»*, Ермака* и предание о Петре Великом*. Есть какое-то особенное удовольствие читать глупые книги; но удовольствие апатическое. […]
17 апреля. Встал поздно — читал до обеда и после обеда до 2 часов разные глупости. Писал новую главу «Ивины»;* но вышло дурно. […]
19 апреля. Встал в 9, читал какую-то глупость, немного писал, ходил стрелять ворон, обедал, опять читал (больше для процесса чтения). Написал большое письмо Митеньке в ответ на его, которое получил нынче. Писал немного. Зуб болит. Здоровье не хорошо, не дурно.
Есть особенный разряд скучных людей, которые вечно находятся в страхе, чтобы в их отношении не забылись. Человек, который всегда говорит правду, не может быть болтуном. Получая письмо от человека, которого любишь, меньше желаешь знать: что случилось, чем то, как смотрит этот человек на то, что случилось. Я вспомнил эпизоды Эсташевского сада и жалею, что не поместил их в повести.
[21 апреля, Орешинка. ] 21 апреля. Собрался ехать рано; но не мог выехать прежде 11. Притом же задержал Перепелицын. Зазвал к себе, чтобы показать свое щегольство, и поехал со мною, чтобы приобрести сверх своих хороших приятелей еще приятеля графа. Дмитрий пропал, Перепелицын обеспокоился, и мы разъехались, чему я очень рад. Ничего не затравил. Ежели завтра будет то же, то уничтожу борзых. Убил зайца и, кажется, начинаю любить ружейную охоту. Писал; но писанье мне кажется плохо.
Не знаю, хорошо ли я сделал для здоровья, что поехал, но для удовольствия очень хорошо. Целый день я был на воздухе и в движенье. Весна и время проходит; а болезни никогда не пройдут. Будь у меня деньги, купил бы здесь именье, и уверен, что сумел бы — не так, как в России, — хозяйничать выгодно. Орешинка.
22 апреля. Шандраковская пристань. Встал очень рано, и ежели ничего не затравил, то наслаждался прелестным утром. Собаки и скачут и нет; поэтому не знаю, на что решиться. В Большой Орешевке говорил с умным мужиком. Они довольны своим житьем, но недовольны армянским владычеством*. После обеда и отдыха ходил стрелять и думал о рабстве. На свободе подумаю хорошенько выйдет ли брошюрка из моих мыслей об этом предмете. […]
24 апреля. [Кизляр. ] Встал рано, чувствовал себя очень слабым и поехал до Кизляра. Дорогой потерял Улачина. Убедился, что собаки не скачут, и выслушал в Серебряковке от крестьянина патетическую и натянутую историю, от которой, однако, слезы навернулись мне на глаза, о том, как он после 40 лет хотел видеться в России с родными. «Не чувствую. Вот просто как дерево, только сердце так и бьется, как голубь. Тут всплеснула вот так руками и повалилась — «матушка родимая, встань да проснись, прилетела к тебе граничная кукушечка»; а тут обморок меня и на крыл». Доехал до Кизляра в 11 часов, без приключений. Досадовал, морально расстроен, здоровье в том же положении, ежели не лучше. Завтра еду домой. […]
10 мая. [Старогладковская. ] […] Завтра принимаюсь за продолжение «Детства» и, может быть, за новый роман*. Ложусь, 2 часа. С завтрашнего дня встаю рано.
11 мая. Встал рано, но не могу отвыкнуть от привычки читать. Писал немного, без всякого самолюбия и очень легко. Мне пришло на мысль, что я очень был похож в своем литературном направлении этот год на известных людей (в особенности барышень), которые во всем хотят видеть какую-то особенную тонкость и замысловатость. Спал долго после обеда, читал, рассердился на Ванюшку за тарантас. […]
[16 мая. Пятигорск. ] 15, 16 мая. Ехал ночью, поэтому не писал; впрочем, и особенного ничего не случилось и не придумалось, исключая того, что Буемский так же забавен и я так же скучен, но менее раздражителен. В Пятигорске музыка, гуляющие, и все эти, бывало, бессмысленно-привлекательные предметы не произвели никакого впечатления. Одно — юнкерство, одежда и делание фрунта в продолжение получаса нелепо, беспокоило меня. Не надо забывать, что главная цель моего приезда сюда — лечение: поэтому завтра посылаю за доктором и нанимаю квартиру один, на слободке.
18 мая. Встал рано, писал «Детство», оно мне опротивело до крайности, но буду продолжать. […] Писал «Письмо с Кавказа»*, кажется, порядочно, но не хорошо. Буду продолжать: 1) занятие, 2) привычки работать, 3) усовершенствование слога. Ложусь спать. 11 часов.
22 мая. Встал в ¼ 5, пил воды, купался, разболелась голова и очень ослабел. Ничего не писал, а болтал с Буемским о математике и рассказывал ему банкет Платона*, который забыл. Очень бы я желал повторить математику; не знаю только, способен ли я теперь на это. Буемский меньше стал пикироваться и начинает слушаться. Обедал, спал, пил воды, переписывал письмо, за второй частью которого придется подумать. Перечитывал главу «Горе»*и от души заплакал. Действительно, есть места прекрасные; но есть и очень плохие. Я становлюсь чрезвычайно небрежен во всем. Надо себя принудить. Ложусь, 11 часов.
23 мая. Тот же образ жизни, чувствую и веду себя довольно хорошо. С Буемским в ладу. Был Пяткин, которому я, неизвестно почему, очень обрадовался и изъявил ее. Докончил письмо довольно хорошо; написал Андрею о книге и проекте*. «Детство» кажется мне не совсем скверным. Ежели бы достало терпенья переписать его четвертый раз, вышло бы даже хорошо. Ложусь, без ¼ 12.
26 мая. Встал в 6. Шел дождь. Купался и потом пил воду. Был доктор, и был в Александровской галерее. Кончаю последнюю главу. Чувствую себя довольно хорошо, но начинают побаливать ноги и зубы. Галерея очень забавна, вранье офицеров, щегольство франтов и знакомства, которые там делаются. Морально чувствую себя хорошо. Завтра кончаю «Детство», пишу письма и начинаю окончательно пересматривать. Ложусь. 11 часов.
Встал в ½ 5. 27 мая. Обыкновенный образ жизни, утром окончил «Детство»* и целый день ничего не мог делать. Начало, которое я перечитываю, очень плохо; но все-таки велю переписать и тотчас же пошлю. Сажусь за ужин ¼ 11 и сейчас после лягу. Написал холодное и небрежное письмо Николеньке.
29 мая. Встал в 5-м часу. Обыкновенный образ жизни, здоровье нехорошо, горло болит. Ничего не писал. Хлопочу о фортепиано. Мечтал целое утро о покорении Кавказа. Хотя я знаю, что вредно для обычных занятий заноситься, не могу отвыкнуть. Мы ценим время только тогда, когда его мало осталось. И главное, рассчитываем на него тем больше, чем меньше его впереди. 20 минут 11-го, сажусь ужинать.
30 мая. Обыкновенный образ жизни; написал письмо Татьяне Александровне, которое не послал и которым недоволен. Ничего не делаю и подумываю о хозяйке. Есть ли у меня талант сравнительно с новыми русскими литераторами? Положительно нету. Сажусь ужинать ½ 11.
31 мая. Встал рано, пил воды, купался, пил чай и до обеда ничего не делал. Не спал; а писал о храбрости. Мысли хороши; но от лени и дурной привычки слог не обработан. Пил воды, был в веселом расположении духа. Был у меня писарь, отдал и прочел ему первую главу. Она решительно никуда не годится. Завтра переделываю вторую и, по мере того как буду переписывать, буду переделывать. […]
1 июня. Встал в ½ 5, пил воду, купался, пил чай, читал и опять ничего не делал до обеда. Толковал про всякие глупости с Буемским и имел глупость прочесть ему несколько глав из «Детства». Я вижу, что ему не понравилось; и не говорю, чтобы это было потому, что он не понимает, — просто дурно. Писец переписал 1-ю главу порядочно; а я был так ленив, что даже не приготовил в целый день следующей. Завтра переправляю с утра столько глав, сколько успею… Не спал днем; поэтому ложусь сейчас, 10 минут 10-го.
2 июня. […] Вечером читал, думал, пил дома воду, но ничего не делал. Хотя в «Детстве» будут орфографические ошибки — оно еще будет сносно. Все, что я про него думаю, это — то, что есть повести хуже; однако я еще не убежден, что у меня нет таланта. У меня, мне кажется, нет терпения, навыка и отчетливости, тоже нет ничего великого ни в слоге, ни в чувствах, ни в мыслях. В последнем я еще сомневаюсь, однако. Ложусь.
10 минут 10-го.
3 июня. Встал рано, пил дома воду, вел обыкновенный образ жизни. За обедом слишком много ел, ничего не делаю, и ежели что делаю, то дурно.
[…] Замечаю в себе признак старости. Я чувствую и сожалею о своем невежестве и от души говорю фразу, которую часто слыхал от пожилых людей и которая всегда меня удивляла: «Теперь и жалею, что не учился, но уже поздно!» Грустно знать, что ум мой необразован, неточен и слаб (хотя и гибок), что чувства мои не имеют постоянства и силы, что воля моя так шатка, что от малейшего обстоятельства все добрые мои намерения разрушаются, — и знать и чувствовать, что зародыши всех этих качеств во мне есть или были и им недоставало только развития. Сколько времени я стараюсь образовать себя! Но много ли я улучшился? Пора бы отчаяться; но я еще надеюсь и рассчитываю на случай, иногда на провидение. Надеюсь, что что-нибудь возбудит во мне еще энергию и не навсегда я погрязну с высокими и благородными мечтами о славе, пользе, любви в бесцветном омуте мелочной, бесцельной жизни. Ложусь. 10 минут 10-го.
4 июня. Обыкновенный образ жизни, писал письмо с Кавказа мало, но хорошо. Чувствую себя хорошо. Я увлекался сначала в генерализацию, потом в мелочность, теперь, ежели не нашел середины, по крайней мере, понимаю ее необходимость и желаю найти ее. Читал «Часы благоговения», перевод с немецкого* — книга, которую бы я прочел без внимания, или увлекся бы ей, или с насмешкой; теперь же она подействовала на меня. Она подтвердила мои мысли насчет средств к поправлению коих дел и прекращению ссор. И я твердо решился при первой возможности ехать в Россию, и coûte que coûte[14] продать часть имения и заплатить долги, и при первой встрече окончить миролюбно — без тщеславия, все начатые неприязненности и впредь стараться добротой, скромностью и благосклонным взглядом на людей подавлять тщеславие. Может быть, это лучшее средство, чтоб избавиться от моего неуменья иметь отношения с людьми. Ложусь. 40 минут 10-го. Писарь задержал. Один пьян, другой не умеет писать. Несчастие.
5 июня. […] Известно, что в целом лесу не найти двух листов, похожих один на другого. Мы узнаем несходство этих листов, не измеряя их, а по неуловимым чертам, которые бросаются нам в глаза. Несходство между людьми, как существами более сложными, еще более, и узнаем мы его точно так же по какой-то способности соединять в одно представление все черты его, как моральные, так и физические. Эта способность составляет основание любви. Из собрания недостатков составляется иногда такой неуловимый, но чарующий характер, что он внушает любовь — тоже в известных лицах. […]
7 июня. Встал в ½ 6, принял ванну, пил воду, был спокоен и здоров, переписывал и поправлял до 6 вечера, пил воду и читал апрельский «Современник», который гадок до крайности. Чувствую себя гордым, не знаю чем? Однако доволен собой морально. […]
11 июня. Мне лучше. Встал в 8, несмотря на слабость и пот, писал и поправлял. Обедал, читал «Историю» Гума Карла I*. Лучшее выражение философии есть история. Ложусь, 11-й час. Собою доволен.
15 июня. Несмотря на ветер, был в ванне. Писал. Кончил вторую часть, перечел ее и опять очень недоволен, однако буду продолжать. После обеда не писал. Купил фуражку, рахат-лукуму и спичек. Все ненужное. О паспорте не спросил. Спрошу завтра и поговорю с хозяйкой о своем корме. Ложусь, без пяти минут 11.
16 июня. Встал рано, был в ваннах, и что-то стало грустно смотреть на порядочных людей. Мне приходит в голову, что я был им. Глупое тщеславие! Я теперь порядочнее, чем когда-нибудь. […]
20 июня. Встал в восемь, пил воды, потом писал. Прибавил описание уборки* — порядочно. Ванюшка плох. Доктор был, я его не застал, он привез «Современник», в котором повесть М. Михайлова «Кружевница», очень хороша, особенно по чистоте русского языка — слово распуколка*. […]
22 июня. Встал рано, пил воды, купался. Я замечаю, что разговор начинает иметь для меня много прелести — даже глупый. Болтал с гусаром — он веневский, и с штатским, которому солгал вчера. Написал недурную главу игры, назвался к Дроздову. Обедал, спал, пил воды, был у Еремеева и Дроздова. Был застенчив, но приличен. Собой доволен. Начинаю чувствовать необходимость и желание в третий раз переписать «Детство». Может выйти хорошо.
Г-жа Дроздова, должно быть, зла, и забавно смотреть, как она боится, чтобы ее не приняли за провинциалку. Еремеев так же глуп и безалаберен, как был всегда. Забавен тем, что знает московских высших чиновников и т. д., и тем, что здешние г-да обыгрывают его, и тем, что у него есть не свои деньги и глупая жена, а я мог ему завидовать! Зинаида выходит за Тиле. Мне досадно, и еще более то, что это мало встревожило меня. Записался. Ложусь. 12.
26 июня. Не спал всю ночь от зубной боли. Утром весь разнемогся и немножко трухнул. Получил письмо от Татьяны Александровны, которое огорчило меня. Приготовил два письма: ей и Сереже; надо написать Беерше, Николеньке и о программах. Мечтал о своем возвращении в Россию. Уже не так радостны эти мечты, как бывали прежде.
27 июня. Встал в 8. Здоровье лучше. Писал письма Алексееву и Иславину (порядочно), отправил тетеньке и Сереже. Завтра надо написать тетушке Юшковой и Беерше. Читал Hume, писал «Детство», читал Rousseau. Были хорошие мысли, но все улетели. […]
29 июня. Встал в 9. Был доктор. Он посылает на Железноводск. Переписал последние главы. Обедал, писал, пил воды, купался и пришел домой очень слабый. Прочел «Profession de foi du Vicaire Savoyard»*. Она наполнена противоречиями, неясными — отвлеченными местами и необыкновенными красотами. Все, что я почерпнул из нее, это убеждение в небессмертии души. Ежели для понятия о бессмертии необходимо понятие воспоминания о предыдущей жизни, то мы не были бессмертны. А ум мой отказывается понять бесконечность с одной стороны. Кто-то сказал, что признак правды есть ясность. Хотя можно спорить против этого, все-таки ясность останется лучшим признаком, и всегда нужно поверять им свои суждения.
Совесть есть лучший и вернейший наш путеводитель, но где признаки, отличающие этот голос от других голосов?.. Голос тщеславия говорит так же сильно. Пример — неотомщенная обида. Тот человек, которого цель есть собственное счастье, дурен; тот, которого цель есть мнение других, слаб; тот, которого цель есть счастие других, добродетелен; тот, которого цель — бог, велик. Но разве тот, которого цель бог, находит в том счастие? Как глупо! А казалось, какие были прекрасные мысли. Я верю в добро и люблю его, но что указывает мне его, не знаю. Не отсутствие ли личной пользы есть признак добра. Но я люблю добро; потому что оно приятно, следовательно, оно полезно. То, что мне полезно, полезно для чего-нибудь и хорошо только потому, что хорошо, сообразно со мной. Вот и признак, отличающий голос совести от других голосов. А разве это тонкое различие — что хорошо и полезно (а куда я дену приятное), имеет признак правды — ясность? Нет. Лучше делать добро, не зная, почем я его знаю, и не думать о нем. Невольно скажешь, что величайшая мудрость есть знание того, что ее нет.
Дурно для меня то, что дурно для других. Хорошо для меня то, что хорошо для других. Вот что всегда говорит совесть. Желание или действие? Совесть упрекает меня в поступках, сделанных с добрым намерением, но имевших дурные следствия. Цель жизни есть добро. Это чувство присуще душе нашей. Средство к доброй жизни есть знание добра и зла. Но достаточно ли для этого целой жизни? И ежели всю жизнь посвятить на это, разве мы не будем ошибаться и невольно делать зло? Мы будем добры тогда, когда все силы наши постоянно будут устремлены к этой цели. Можно делать добро, не имея полного знания того, что есть добро и зло. Но какая ближайшая цель: изучение или действия? Отсутствие зла есть ли добро? Наклонности и судьба указывают на путь, который мы должны избрать, но мы должны всегда трудиться с целью доброю. Неужели всякое развлечение, удовольствие, не приносящее пользы другим, есть зло? Совесть меня не упрекает в них; напротив, она одобряет. Это не голос совести. Совесть рано или поздно упрекает во всякой минуте, употребленной без пользы (хотя бы и без вреда). Разнообразие труда есть удовольствие. Ложусь, без ¼ 11.
30 июня. Встал в 8, купался, пил воды дома, размышлял, обедал.
[…] Всякое добро, исключая добра, состоящего в довольстве совести, то есть в делании добра ближнему, условно, непостоянно и независимо от меня. Все три условия эти соединяет добро в добре ближнему. Удовлетворение собственных потребностей есть добро только в той мере, в которой оно может способствовать к добру ближнего? Оно есть средство. В чем состоит добро ближнего? Оно не безусловно как личное добро. Или добро то, что я нахожу таким по моим понятиям и наклонностям. Поэтому наклонности и мера разума не имеют влияния на достоинство человека. Сребролюбец добр, ежели он дает денег; мудрый добр, ежели он поучает; ленивый добр, ежели он трудится для других. Но взгляд этот подлежит сомнению, потому что он объективен. Облегчать страдания людей есть добро субъективное. Но где граница между страданием и трудом? Страдание физическое ясно, и то условно от привычек. Хочется мне сказать, что делать добро — давать возможность другим делать то же, отстранять все препятствия к этому — лишения, невежество и разврат. Но опять нет ясности.
Вчера меня останавливал вопрос, неужели удовольствия без пользы дурны; нынче я утверждаю это. Человек, который поймет истинное добро, не будет желать другого. Притом не терять ни одной минуты власти для познания делания добра есть совершенство. Не искать пользы ближнего и жертвовать ею для себя есть зло. Между тем и другим — большей или меньшей мерой деятельности — есть огромное пространство, в котором поставил творец людей и дал им власть избирать. Ложусь. 11 часов.
1 июля. Встал поздно, погода дурная, ездил на почту, получил деньги и письмо, в котором пишет о поданных векселях Копылова. Напишу письмо завтра Андрею и Сереженьке. Я могу лишиться Ясной, и, несмотря ни на какую философию, это будет для меня ужасный удар. Обедал, писал мало и дурно, ничего не сделал доброго. Завтра кончу «Детство» и решу его судьбу. Ложусь. ½ 12.
2 июля. Встал в 5. Ходил гулять, окончил «Детство» и поправлял его. Обедал, читал «Nouvelle Héloïse»* и написал черновое письмо редактору*. Справедливость есть крайняя мера добродетели, к которой обязан всякий. Выше ее — ступени к совершенству, ниже — порок. […]
4 июля. Ванюшка разбудил меня в 5-м часу. Встал, окончил поправлять и написал письма: Федуркину (хорошо), Копылову (порядочно), Татьяне Александровне (все хорошо), Беерше (умно, но небрежно). Написал доверенность и прошение и все отправил на почте довольно аккуратно. Обедал и ничего не делал, пил воды; с слишком большим удовольствием смотрел на Крюкову и злословил. Имел неосторожность выпить бутылку кислых щей и вследствие этого распрыгался и теперь потею.
Цель, найденная мною в жизни, не так уж занимает меня. Неужели это не истинное, твердое правило, а одна из тех мыслей, которые под влиянием самолюбия, тщеславия и гордости так же скоро рождаются, как исчезают? Нет, это правило истинно. Моя совесть говорит мне это. Я хочу, чтобы вследствие одного этого умозрения вся жизнь моя пошла бы лучше и легче. Нет, правило это нужно подтверждать действиями, и тогда действия оправдаются правилом. Нужно трудиться.
Написать письмо Николеньке и Дьякову. Сначала писать «Письмо с Кавказа». […]
6 июля. [Железноводск. ] Встал в 6. Зубы все разболелись, однако поехал в Железноводск и, несмотря на ужасные страдания, не стонал и не сердился. Спал, болтал с [Буемским] и играл в шахматы. Я говорил с ним о цели, которую я нашел в жизни. Жалею, что я это сделал. Видно, я уже не так дорожу этой мыслью, коли решаюсь рассказывать и доказывать ее другим; а впрочем, это лучшее из всего, что я думал или читал. Это — правда. Ложусь. 12-й час.
7 июля. [Железноводск. ] Встал в 6, зубы болели, и чувствовал большую слабость, пил воду. Лес очень хорош. Написал письмо к Татьяне Александровне, которое не пошлю, и письмо Николеньке. Надо торопиться скорее окончить сатиру моего «Письма с Кавказа», а то сатира не в моем характере. Пил воду, купался, опять простудил зубы, и теперь болят. Лягу в 11.
8 июля. Встал в 8. Пил воду и купался, писал «Письмо с Кавказа» порядочно. Зубы болели, читал с большим удовольствием «Confessions». Приехал Хилковский и Алифер. С первым рассуждал о моих артиллерийских планах, он сказал дельное опровержение — негоризонтальное положение колес*. Подумаю об этом. Буемский вступился в разговор, и я оскорбил его. Ложусь с страшной зубной болью. 11-й час.
10 июля. Встал поздно и в самом дурном расположении духа. […] Две мысли прелестные и возможные, но слишком хорошие, чтобы сбыться. Жить втроем: Николенька, Маша и я. Валерьян, разумеется, будет мешать; но эти три лица так хороши, что они и его бы сделали хорошим. 2-я) Отдать Ясную Николеньке и получать ежегодно 600 рублей серебром. Ежели я останусь служить здесь, то сделаю это. Ложусь. 11 часов.
15 июля. Встал в 6. Нагрубил Буемскому. Обыкновенный образ жизни — здоровье и состояние души. «Письмо с Кавказа» лежит на столе, и я не принимаюсь за него. Читаю Руссо и чувствую, насколько в образовании и таланте он стоит выше меня, а в уважении к самому себе, твердости и рассудке — ниже. […]
18 июля. Вчера не мог долго заснуть от ревматизмов и лунного света, сидел у окна и думал много хорошего. Встал поздно. Пил воду, купался, знакомился, гулял, болтал и ровно ничего не делал. Обдумываю план русского помещичьего романа с целью*.
Я молюсь так: боже, избави меня от зла, то есть избави меня от искушения творить зло, и даруй мне добро, то есть возможность творить добро. Буду ли я испытывать зло или добро? — да будет воля твоя! — Неужели я никогда не выведу понятие о боге так же ясно, как понятие о добродетели? Это теперь мое сильнейшее желание.
Наказание есть несправедливость. Возмездие не может определять человек, он слишком ограничен, — он сам человек. Наказание, как угроза, несправедливо, потому что человек жертвует верным злом сомнительному добру. Устранение — даже смерть — справедливы. Смерть не есть зло, ибо это есть несомненный закон бога. Понятие о боге проистекает из сознания слабости человека.
Ложусь. ½ 10. Мне кажется, что все время моего пребывания в Железноводске в голове моей перерабатывается и приготовляется много хорошего (дельного, полезного), не знаю, что выйдет из этого.
20 июля. Ночь не спал, встал в 6, пил воду дома, был у Рожера. Перешел в 8-й №. Здоровье как будто лучше; но все ничего не делаю. Не курю с нынешнего дня. Завтра начинаю переделывать «Письмо с Кавказа» и себя заменю волонтером. Ложусь. ½ 10.
3 августа. [Пятигорск. ] Встал рано. […] Хилковский уехал. Расположение духа прекрасное, провел целый день в саду. Читал «Politique»*. В романе своем я изложу зло правления русского, и ежели найду его удовлетворительным, то посвящу остальную жизнь на составление плана аристократического избирательного, соединенного с монархическим, правления, на основании существующих выборов. Вот цель для добродетельной жизни. Благодарю тебя, господи, дай мне силы.
6 августа. [Галюгай. ] Дорога: мечты, мелкие досады, безалаберщина. Думаю и передумываю о походе и все ни на что не решился. Обдумаю с братом и когда узнаю все хорошенько. Будущность занимает нас больше действительности. Эта наклонность хороша, ежели мы думаем о будущности того мира. Жить в настоящем, то есть поступать наилучшим образом в настоящем — вот мудрость. В Галюгае. Познакомился с армейским капитаном и поеду к нему в К.
11 [августа]. Встал рано, гулял, обедал дома, спал, гулял. Нет ни воздержания, ни деятельности, ни последовательности. Даже и думать ни о чем не хочется. Упрекнуть, однако, себя не в чем; и то хорошо. Можно поглупеть со здешним образом жизни. Пример — Николенька.
Примусь за старую методу: вперед определять занятия. Охота, дома письмо Сереже, читать Contrat Social*. После обеда — обдумывать план помещичьего романа и гулять верхом.
15 [августа]. Дурное утро. Был на ученьи, ездил верхом. Болтал с Алексеевым, Хилковским. […] Простота. Вот качество, которое я желаю приобрести больше всех других. Завтра будет Бригадный, и я назначен дежурным.
16 [августа]. Был дежурным. Провел весь день в безалаберной деятельности. Очень устал и многое узнал, хотя ненужное, но новое.
17 августа. [Старогладковская. ] Был на смотру. Лучшее, что я могу ожидать от службы, это то, чтобы выйти в отставку. Придя с смотра, спал до 9 часов. Голова очень свежа. Причины упадка литературы: чтение легких сочинений сделалось привычкой, а сочинение сделалось занятием. Написать в жизни одну хорошую книгу слишком достаточно. И прочесть тоже.
Дисциплина необходима только для завоевателей. Для каждого человека существует один особенный путь, по которому каждое положение делается для него истинным. Ничто не убедило меня в существовании бога и наших отношений к нему, как мысль, что способности всем животным даны сообразно с потребностями, которым они должны удовлетворять. Ни больше, ни меньше. Для чего же дана человеку способность постигать: причину, вечность, бесконечность, всемогущество? Положение это (о существовании бога) — гипотеза, подтвержденная признаками. Вера, смотря по степени развития человека, дополняет ее правдивость.
18 августа. Вот четыре правила, которыми руководствуются люди: 1) Жить для своего счастия. 2) Жить для своего счастия, делая как можно меньше зла другим. 3) Делать для других то, что желал бы, чтобы другие делали для меня. 4) Жить для счастия других. Целый день был на службе или с братом и офицерами. План романа начинает обозначаться.
25 [августа]. Убил бекаса. Два раза на ученье. Нельзя требовать возможности совершенной невинности от самого себя. Как часто весь род человеческий отступал от справедливости! Надо работать умственно. Я знаю, что был бы счастливее, не зная этой работы. Но бог поставил меня на этот путь: надо идти по нем.
28 августа 1852. Мне 24 года; а я еще ничего не сделал. Я чувствую, что недаром вот уже восемь лет, что я борюсь с сомнением и страстями. Но на что я назначен? Это откроет будущность. Убил трех бекасов.
29 [августа]. Ходил с Николенькой на охоту; убил фазана и зайца. Спал, получил письмо из Петербурга от Иславина (гадкое письмо, на которое я отвечу вместо колкостей, как я было хотел это сделать, истинным презрением — молчанием) и от редактора, которое обрадовало меня до глупости*. О деньгах ни слова. Завтра писать письма: Некрасову, Буемскому — и сочинять.
2 сентября. Конное ученье. Вечером убил трех фазанов. Какая прелесть «Давид Коперфильд»*.
3 сентября. Видел месяц с левой стороны. Влечение души есть: добро ближним. Влечение плоти есть: добро личное. В таинственной связи души и тела заключается разгадка противоречащих стремлений. Я, должно быть, недоспал и, придя с ученья, был очень не в духе. Употреблю все время, которое принужден буду остаться здесь, на то, чтобы быть лучше и приготовить себя к той жизни, которую я избрал.
5 сентября. Целый день был дома. Горло болит. Написал письмо к Некрасову*. Лень писать, а хочется.
19 сентября. Охотился. План моего романа, кажется, достаточно созрел. Ежели теперь я не примусь за него, то, значит, я неисправимо ленив.
22 сентября. Зубы перестали болеть, и я сел было писать, но приехал Цезархан и помешал мне. Ходил с Сулимовским на охоту, убил трех фазанов. Читал «Историю войны 13 года»*. Только лентяй или ни на что не способный человек может говорить, что не нашел занятия. Составить истинную, правдивую историю Европы нынешнего века. Вот цель на всю жизнь. Есть мало эпох в истории, столь поучительных, как эта, и столь мало обсуженных — обсуженных беспристрастно и верно, так, как мы обсуживаем теперь историю Египта и Рима. Богатство, свежесть источников и беспристрастие историческое, невиданное — совершенство. Перед тем, как я задумал писать, мне пришло в голову еще условие красоты, о котором и не думал, — резкость, ясность характеров.
24 сентября. Писал лениво, и хотя не слишком скверно, но насколько хуже того, как я думал! Нет сходства. Надо писать и писать. Одно средство выработать манеру и слог.
27 сентября. Я почти убедился, что представление мое не пойдет; напишу в Питер, чтобы окончательно убедиться в этом. Здоровье хорошо, писал немного, болтал с Николенькой и провел день хорошо. В числе вопросов, которые я стараюсь решить в моем романе, вопрос об оскорблениях занимает и сильно затрудняет меня. Или я слишком горд, или действительно я был слаб в тех случаях, только когда я вспоминаю о них, я чувствую что-то вроде раскаяния.
29 сентября. […] Читал новый «Современник». Одна хорошая повесть, похожая на мое «Детство», но неосновательная*.
30 сентября. Нездоровится, нога и скулы ломят. Писал немного, ездил на охоту. Получил письмо от Некрасова — похвалы, но не деньги*.
1 октября. Отпустил Шкалика*, порядочно. Ежели я каждый день буду писать по стольку, то в год напишу хороший роман. Скучно без Николеньки, хотя устроив порядок.
2 октября. Встал рано, дома читал, пришел Николенька. Я пошел к нему до обеда. После обеда спал, походил, написал письмо Татьяне Александровне, любовался на Япишку. Япишка, сафагильды*, казачьи хороводы с песнями и стрельбой, шакалки и славная звездная ночь — славно. Особенный характер. Написал пол-листа хорошо. Мне с Николенькой бывает иногда неловко. Лучшее средство не стесняться. Ежели неприятно с ним быть — не быть с ним.
4 октября. Разрешил вопрос о заключении романа после описи именья, неудачной службы в столице, полу увлечениясветскостью, желания найти подругу и разочарования в выборах, сестра Сухонина остановит его. Он поймет, что увлечения его не дурны, но вредны, что можно делать добро и быть счастливым, перенося зло*.
Убил четырех фазанов, был в бане. У Алексеева, который уволил меня от дежурств.
5 октября. […] Мне кажется, что я здесь, на Кавказе, не в состоянии описать крестьянский быт. Это смущает меня.
8 октября. Был весь день до вечера в странном положении непреодолимой апатии: ни читать — ни писать. Читал какую-то дрянь, потом написал 1 ½ листа. Надо навсегда отбросить мысль писать без поправок. Три, четыре раза — это еще мало. Вчера посылал Ванюшку в казармы за грубость. Я больше, чем когда-нибудь, решился выйти в отставку; на каких бы то ни было условиях. Служба мешает двум призваниям, которые единственно я сознал в себе, особенно лучшему, благороднейшему, главному, и в том, в котором я более уверен найти успокоение и счастие. Все решится тем, представил или нет меня Бриммер. Ежели представил, то я жду писать в Петербург, и ежели нет, то я тотчас же подаю в отставку.
13 октября. Почта мучает меня ожиданием. Ходил с Николенькой и один, убил двух фазанов, много писал. […] Хочу писать кавказские очерки для образования слога и денег.
19 октября. Простота есть главное условие красоты моральной. Чтобы читатели сочувствовали герою, нужно, чтобы они узнавали в нем столько же свои слабости, сколько и добродетели, добродетели — возможные, слабости — необходимые. Мне пришла мысль заниматься музыкой. Тем или другим, но надеюсь, что с завтрашнего дня начну работать неусыпно. Мысль романа счастлива — он может быть не совершенство, но он всегда будет полезной и доброй книгой. Поэтому надо за ним работать и работать, не переставая.
Ежели письмо от редактора побудит меня писать очерки Кавказа, то вот программа их: 1) Нравы народа: а) История Сал.*, b) Рассказ Балты, с) Поездка в Мамакай-Юрт. 2) Поездка на море: а) История немца, b) Армянское управление, с) Странствование кормилицы. 3) Война: а) Переход, b) Движение, с) Что такое храбрость?
Основания «Романа русского помещика». Герой ищет осуществления идеала счастия и справедливости в деревенском быту. Не находя его, он, разочарованный, хочет искать его в семейном. Друг его, она, наводит его на мысль, чтосчастие состоит не в идеале, а [в] постоянном, жизненном труде, имеющем целью — счастие других. […]
21 октября. Писал мало (¾ листа). Вообще был целый день не в духе; после обеда помешал Япишка. Но рассказы его удивительны. Очерки Кавказа: 4) Рассказы Япишки: а) об охоте, b) о старом житье казаков, с) о его похождениях в горах*.
28 октября. С нынешнего дня нужно снова считать время своего изгнания. Бумаги мои возвратили: стало быть, раньше половины, то есть июля месяца 1854 года, я не могу надеяться ехать в Россию, а выйти в отставку раньше 1855 года. Мне будет 27 лет. Ох, много! Еще три года службы. Надо употребить их с пользой. Приучить себя к труду. Написать что-нибудь хорошее и приготовиться, то есть составить правила для жизни в деревне. Боже, помоги мне. Писал очень мало, ездил на охоту и болтал у Николеньки. Он эгоист.
29 октября. Последнее слово подтвердилось нынче. Впрочем, я сам глуп, что принял к сердцу его замечание о том, что у него у самого мало денег. Написал письмо Татьяне Александровне — грустное письмо… Ездил с собаками… Николенька пришел ко мне и читал мне свои записки об охоте*. У него много таланта. Но форма нехороша. Пусть он бросит рассказы об охоте, а обратит больше внимания на описания природы и нравов; они разнообразнее и очень хороши у него. Ничего не писал, не читал.
31 октября. Вчера и нынче писал немного. Зуб болит. Прочел свою повесть, изуродованную до крайности*.
8 ноября. Открыл тетрадь, но ничего не написал. Написал письмо редактору, которое успокоило меня, но которое не пошлю*. Ходил на охоту, в баню, к брату и, кажется, простудился.
13 ноября. Выпил стакан и поехал с собаками, ездил до ночи, еще выпил чихиря, зашел к Хилковскому отдать деньги и просидел часа два. Николенька очень огорчает; он не любит и не понимает меня. В нем страннее всего то, что большой ум и доброе сердце не произвели ничего доброго. Недостает какой-то связи между этими двумя качествами. Прекрасно сказал Япишка, что я какой-то нелюбимой. Именно так я чувствую, что не могу никому быть приятен и все тяжелы для меня. Я невольно, говоря о чем бы то ни было, говорю глазами такие вещи, которые никому не приятно слышать, и мне самому совестно, что я говорю их.
17 ноября. Целый день был дома, писал немного. Все, «то написано, слишком небрежно подмалевано, много придется переделывать. Завтра еду в Шелковую. Еще раз писал письма Дьякову и редактору, которые опять не пошлю*. Редактору слишком жестко, а Дьяков не поймет меня. Надо привыкнуть, что никто никогда не поймет меня. Эта участь, должно быть, общая всем людям, слишком трудным.
[25 ноября. Старогладковская. ] 20, 21, 22, 23, 24, 25 охотился очень скверно, в Паробоче и Шелковой, но был хорош и не скучал. Как-то говорил с Николенькой, частью открыл ему отчасти план своей жизни и говорил о метафизике Н. С. Метафизика — наука о мыслях, не подлежащих выражению слов. Нынче приехал домой и был глупый Сверидов; вчера писал немного, порядочно. Прочел критику о своей повести* с необыкновенной радостью и рассказал Оголину.
26 ноября. Был с Оголиным на охоте, сидел у брата. После обеда начал писать хорошо и получил письмо от Некрасова. Мне дают 50 р. сер. за лист, и я хочу, не отлагая, писать рассказы о Кавказе. Начал сегодня. Я слишком самолюбив, чтобы написать дурно, а написать еще хорошую вещь едва ли меня хватит. […]
28 ноября. Видел ужасный сон про Татьяну Александровну. Ездил с Епишкой, ничего не замордовал. Был у брата, пробовал писать, нейдет. Видно, прошло время для меня переливать из пустого в порожнее. Писать без цели и надежды на пользу решительно не могу. […]
29 ноября. Ездил за дудаками, был в бане и у Николеньки. Получил письмо из Ясной и 100 р. Примусь за отделку описания войны* и за «Отрочество». Книга пойдет своим чередом*.
30 ноября. Много думал, но ничего не делал. Завтра утром примусь за переделку описания войны, а вечером за «Отрочество», которое окончательно решил продолжать. Четыре эпохи жизни составят мой роман до Тифлиса*. Я могу писать про него, потому что он далек от меня. И как роман человека умного, чувствительного и заблудившегося, он будет поучителен, хотя не догматический. Роман же русского помещика будет догматический. […]
1 декабря. Писал целый день описание войны. Все сатирическое не нравится мне, а так как все было в сатирическом духе, то все нужно переделывать. […]
3 декабря. Писал много. Кажется, будет хорошо. И без сатиры. Какое-то внутреннее чувство сильно говорит против сатиры. Мне даже неприятно описывать дурные стороны целого класса людей, не только личности. […]
4 [декабря]. Написал пол-листа. Я с каким-то страхом пишу этот рассказ. Был на охоте, отослал собак. Был Абилез, и я поручил ему выучить ястреба. Не знаю зачем.
5 [декабря]. Ездил с офицерами на рыбальство. Писал пол-листа. Рассказ будет порядочный. Получил милое письмо от Сережи, — на которое отвечал.
7 [декабря]. Встал поздно. Ездил на дурацкую станичную охоту с Сулимовским. Он был у меня. Не мог писать больше четверти листа. Мне кажется, что все написанное очень скверно. Ежели я еще буду переделывать, то выйдет лучше, но совсем не то, что я сначала задумал.
8 [декабря]. Был на охоте, стрелял три раза по оленю. Писал немного, без всякой охоты. Решительно так плохо, что я постараюсь завтра кончить, чтобы приняться за другое.
9 [декабря]. Ходил на охоту. Снег. Писал листа два. Надеюсь завтра кончить.
10 [декабря]. Целый день был дома, докончил рассказ. Еще раз придется переделывать его.
11 декабря. Был на смотру у Левина. Ездил верхом. Решительно совестно мне заниматься такими глупостями, как мои рассказы, когда у меня начата такая чудная вещь, как «Роман помещика». Зачем деньги, дурацкая литературная известность. Лучше с убеждением и увлечением писать хорошую и полезную вещь. За такой работой никогда не устанешь. А когда кончу — только была бы жизнь и добродетель — дело найдется.
24 декабря. Сочельник. Окончил рассказ*. Он не дурен.
26 декабря. Читаю Лермонтова третий день. Был у Николеньки. Алексеева видел, и мы с ним начинаем мириться; но я конфузился. Когда я буду всегда и во всех обстоятельствах совершенно свободен! Ничего не писал; но завтра начну непременно. Встретил поздно обнявшегося казака с казачками и с удовольствием вспомнил о кутежах с женщинами. Особенно утро, когда выходишь. Отослал с Сулимовским рассказ и рассказал ему.
27 декабря. Долго спал, стал было писать роман. Офицеры помешали мне. Ездил верхом и, приехавши, читал и писал стихи. Идет довольно легко. Я думаю, что это мне будет очень полезно для образования слога. Я не могу не работать. Слава богу; но литература пустяки; и мне хотелось бы писать здесь устав и план хозяйства.
1853
[1 января. Червленная?] 1) Выступил с дивизионом:* весел и здоров.
6 [января. Грозная]. Был дурацкий парад. Все — особенно брат — пьют, и мне это очень неприятно. Война такое несправедливое и дурное дело, что те, которые воюют, стараются заглушить в себе голос совести. Хорошо ли я делаю? Боже, настави меня и прости, ежели я делаю дурно.
12 [января]. […] Задумал — очерк: «Бал и бордель»*. Горло болит, но в духе.
21 января. Писал немного, но так неаккуратно, неосновательно и мало, что ни на что не похоже. Умственные способности до того притупляются от этой бесцельной и беспорядочной жизни и общества людей, которые не хотят и не могут понимать ничего немного серьезного или благородного. Я без гроша денег, и это положение заставляет меня бояться, чтобы не подумали обо мне дурно, что и доказывает, что я мог бы сделать дурное. В карты не хочу больше играть, не знаю, как поможет бог. Какую же хваленую пользу делает мне Кавказ, когда я веду здесь такую жизнь? Приехав в Тулу, я невольно вступлю опять в колею Куликовских, Гаш и Лютиковых. Нет, баста!
20 февраля. [Лагерь на Качкалыковском хребте. ] Выступили из Грозной в Куринское без дела. Стояли там недели две, потом стали лагерем на Качкалыковском хребте. Было 16 числа артиллерийское дело ночью и 17 днем. Я вел себя хорошо*. Был во все это время в выигрыше, но теперь без гроша, хотя мне и должны. Не выдержал в этом отношении характера, однако вел себя вообще хорошо. Нынче Оголин сказал мне, что я получу крест. Дай бог — и только для Тулы.
10 марта. [Лагерь у реки Гудермеса. ] Креста не получил*, а на пикете сидел по милости Олифера*. Следовательно, кавказская служба ничего не принесла мне, кроме трудов, праздности, дурных знакомств… Надо скорей кончить. […]
16 апреля. [Старогладковская. ] Давно не писал. Приехав около 1-го апреля в Старогладковскую, я продолжал жить так же, как жил в походе. Как игрок, который боится счесть то, что за ним записано. Проиграл, шутя, Сулимовскому 100 р. сер. Ездил безуспешно в Червленную для получения свидетельства о болезни. Хотел выходить в отставку; но ложный стыд — вернуться юнкером в Россию, решительно удерживает меня. Подожду производства, которое едва ли будет — я уж привык ко всевозможным неудачам. В Новогладковской, ежели не согрешил в страстной вторник, так только потому, что бог спас меня. Хочется взойти в старую колею уединения, порядка, добрых и хороших мыслей и занятий. Помоги мне боже. Я теперь испытываю в первый раз чувство чрезвычайно грустное и тяжелое — сожаление о пропащей без пользы и наслаждения молодости. А чувствую, что молодость прошла. Пора с нею проститься.
17 апреля. Встал рано, хотел писать; но поленился, да и начатый рассказ не увлекает меня. В нем нет лица благородного, которое бы я любил; однако мыслей больше. Перечитывал свое «Детство». […]
18 апреля. Встал рано, читал вещь Авдеева «Летучий змей», писал недурно. План рассказа только теперь начинает обозначаться с ясностью. Кажется, что рассказ может быть хорош, ежели сумею искусно обойти грубую сторону его. Все-таки провел много праздного времени от непривычки работать. […]
28 апреля. Встал рано, ничего не мог написать, целый день нездоровилось. Кунаки и команда моя надоедали, играл с ними. Получил книгу со своим рассказом, приведенным в самое жалкое положение*. Это расстроило меня; брат, Жукевич и Янович уехали. Получил отпуск, которым не намерен воспользоваться.
29 апреля. Написал очень мало, а был в духе. Нет привычки работать. Николенька едет завтра и был особенно мил.
30 апреля. Ходил на охоту, которая была неудачна. Ничего не писал. Сулимовский при мне сказал Оксане, что я ее люблю. Я убежал и совсем потерялся… Надо подумать о моих долгах. Написать Копылову. Завтра напишу. Меня сильно беспокоит то, что Барятинский узнает себя в рассказе «Набег».
[7 мая. ] 4, 5, 6, 7. Ничего особенного. Деньги 40 р. за рассказ получены на почте. Нынче писал довольно много, изменил, сократил кое-что и придал окончательную форму рассказу. […]
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мая. В эти семь дней ничего не сделал. […] Получил письма от Некрасова, Сережи и Маши — все о моем литераторстве, льстящее самолюбию*. Рассказ «Святочная ночь» совершенно обдумал. Хочу приняться и вступить опять в колею порядочной жизни — чтение, писание, порядок и воздержание. Из-за девок, которых не имею, и креста, которого не получу, живу здесь и убиваю лучшие года своей жизни. Глупо! Господи, дай мне счастья.
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мая. […] Бросил рассказ* и пишу «Отрочество» с такой же охотой, как писал «Детство». Надеюсь, что будет так же хорошо. Долги мои все заплачены. Литературное поприще открыто мне блестящее; чин должен получить. Молод и умен. Чего, кажется, желать. Надо трудиться и воздерживаться, и я могу быть еще очень счастлив.
22, 23, 24, 25, 26, 27 [мая]. Ровно ничего особенного. Писал мало, зато окончательно обдумал «Отрочество», «Юность», «Молодость», которые надеюсь кончить. Нынче прислал мне Алексеев бумагу, по которой Бриммер обещает уволить меня в отставку с штатским чином. Как вспомню о своей службе, то невольно выхожу из себя. Я еще не решился, хотя по теперешнему моему взгляду на жизнь, удержавшемуся от того, который я составил себе в Пятигорске, мне не следует задумываться. Подумаю хорошенько. Все не могу привыкнуть к пунктуальности и порядку, хотя стараюсь.
[29 мая. ] Я ошибся: вчера было 28-е. Нынче 29-е. Писал и обдумывал свое сочинение, которое начинает ясно и хорошо складываться в моем воображении. Решился, посмотрев 56 статью, выходить в отставку и просил об этом Алексеева. […]
30 [мая]. Писал довольно много и легко. Мне пришла мысль о моих оставшихся долгах и сильно беспокоила меня. Надо будет копить деньги, чтобы все заплатить их. Это необходимо для моего морального спокойствия.
31 мая. Ничего не писал целый день. История Карла Ивановича* затрудняет меня, играл с мальчишками, которые становятся дерзки — я слишком избаловал их. Ужинал у Б. и в этом ложном положении вел себя хорошо.
23 июня. Почти месяц не писал ничего. В это время ездил с кунаками в Воздвиженскую. Играл в карты и проиграл Султана. Едва не попался в плен, но в этом случае вел себя хорошо, хотя и слишком чувствительно. Приехав домой, решился пробыть здесь месяц, чтобы докончить «Отрочество», но вел себя целую неделю так безалаберно, что мне стало очень тяжело и грустно, как всегда бывает, когда недоволен собою. Вчера Гришка рассказывал, что я был бледен, после того как меня ловили чеченцы, и что я не смею бить казака, который ударил бабу, что он мне сдачи даст. Все это так меня расстроило, что я весьма живо видел очень тяжелый сон и, поздно проснувшись, читал о том, как Обри перенес свое несчастие и как Шекспир говорит, что человек познается в несчастье*. Мне вдруг непонятно стало, как мог я все это время так дурно вести себя. Ежели я буду ожидать обстоятельств, в которых я легко буду добродетелен и счастлив, я никогда не дождусь: в этом я убежден. […]
25 июня. Нынче получил от Сережи письмо, в котором он пишет мне, что князь Горчаков хотел писать обо мне Воронцову, и бумагу о отставке. Не знаю, чем все это кончится; но я намерен на днях ехать в Пятигорск. Ни в чем у меня нет последовательности и постоянства. От этого-то в это последнее время, что я стал обращать внимание на самого себя, я стал сам себе невыносимо гадок. Будь у меня последовательность в тщеславном направлении, с которым я приехал сюда, я бы успел в службе и имел повод быть довольным собой; будь я последователен в добродетельном направлении, в котором я находился в Тифлисе, я бы мог презирать свои неудачи и опять был бы доволен собою. С малого и до большого этот недостаток разрушает счастье моей жизни. Будь я последователен в своей страстности к женщинам, я бы имел успех и воспоминания; будь я последователен в своем воздержании, я бы был гордо-спокоен. Этот проклятый отряд совершенно сбил меня с настоящей колеи добра, в которую я так хорошо вошел было и в которую опять желаю войти, несмотря ни на что; потому что она лучшая. Господи, научи, настави меня.
Не могу писать. Я пишу слишком вяло и дурно. А что мне делать, кроме писанья? Сейчас обдумывал свое положение. В голове вертелась такая куча разнородных мыслей, что я долго не мог понять ничего, кроме того, что я дурен и несчастен. После этого времени тяжелого раздумья в голове моей образовались следующие мысли: цель моей жизни известна — добро, которым я обязан своим подданным и своим соотечественникам; первым — я обязан тем, что владею ими, вторым — тем, что владею талантом и умом. Последнюю обязанность я в состоянии исполнять теперь, а чтобы исполнять первую, я должен употребить все зависящие от меня средства.
Первою мыслью моей было составить для себя правила в жизни, и теперь я невольно возвращаюсь к ней. Но сколько времени я потерял даром! Может быть, бог устроил жизнь мою так, с целью дать мне больше опыта. Едва ли бы я так хорошо понял свою цель, ежели бы я был счастлив в удовлетворении своих страстей. Вперед определять свои действия и проверять исполнение их было благою мыслью, и я возвращаюсь к ней. С нынешнего вечера, в каких бы я ни был обстоятельствах, я даю себе слово каждый вечер исполнять это. Часто препятствовал мне в этом ложный стыд. Даю себе слово сколь возможно преодолевать его. Будь прям, хотя и резок, но откровенен со всеми, но не детски откровенен без необходимости. Воздерживайся от вина и женщин. Наслаждение так мало, неясно, а раскаяние так велико! — Каждому делу, которое делаешь, предавайся вполне. При каждом сильном ощущении воздерживайся от движений, а обдумав раз, хотя бы и ошибочно, действуй решительно.
[…] Завтра. Встать рано, писать «Отрочество» до обеда — после обеда пойти к хохлам и поискать случая сделать доброе дело, потом писать «Дневник кавказского офицера»* или «Беглец»* — до чаю. Побегать. Писать «Отрочество» или «Правила в жизни».
27 июня. Встал поздно. Писал утром довольно хорошо «Отрочество». У Алексеева не спросил денег. После обеда до самого вечера читал и обдумывал «Записки кавказского офицера». Был легкомысленен с ребятишками. Не ходил от дождя искать доброго дела, и непоследователен насчет Саламаниды. Япишка, кажется, надует меня. Завтра. Встать рано и писать «Отрочество» как можно тише, старательнее. За обедом спросить денег; после обеда, что бы ни было, пойти искать доброе дело и о Саламаниде. Вечером писать «Записки кавказского офицера» или, ежели будет мало мыслей, то продолжать «Отрочество».
28 [июня]. Утром писал хорошо. Мальчишки помешали перед обедом, спросил денег, добрых дел не нашел. Япишки нет. После обеда ничего не делал. Утром неосновательно сказал Барашкину, что пойду на охоту, и вечером из ложного стыда не отказался и потерял дорогое время и хорошее расположение; после ужина у Алексеева.
Писал немного «Дневник кавказского офицера» и «Рубку леса» и обдумал. Когда во время писания придут так много неясных мыслей, что захочется встать, не позволятьэтого себе. Завтра с утра писать «Отрочество» до обеда. После обеда до вечера писать «Дневник кавказского офицера».
29 [июня]. Утро вел себя хорошо, но после обеда ничего не делал. Так хорошо обдуманный план «Записок кавказского офицера» показался мне нехорошим, и я провел все после обеда с мальчишками и Япишкой. Бросил Гришку и Ваську в воду. Нехорошо. Хорошо ли или дурно, всегда надо писать. Ежели пишешь, то привыкаешь к труду и образовываешь слог, хотя и без прямой пользы. Ежели же не пишешь, увлекаешься и делаешь глупости. Натощак пишется лучше. […]
8 июля. Встал поздно. Начал было писать, но нейдет. Я слишком недоволен своей бесцельной, беспорядочной жизнью. Читал «Profession de foi du Vicaire Savoyard»*, и, как и всегда при этом чтении, во мне родилось пропасть дельных и благородных мыслей. Да, главное мое несчастие — большой ум. Спал после обеда, играл немного с мальчишками и сделал очень дурно, что не только не остановил, но подал повод срамить Япишку.
Не могу доказать себе существования бога, не нахожу ни одного дельного доказательства и нахожу, что понятие не необходимо. Легче и проще понять вечное существование всего мира с его непостижимо прекрасным порядком, чем существо, сотворившее его. Влечение плоти и души человека к счастию есть единственный путь к понятию тайн жизни. Когда влечение души приходит в столкновение с влечением плоти, то первое должно брать верх, ибо душа бессмертна, так же как и счастие, которое она приобретает. Достижение счастия есть ход развития ее. Пороки души суть испорченные благородные стремления. Тщеславие — желание быть довольным собой. Корыстолюбие — желание делать более добра. Не понимаю необходимости существования бога, а верю в него и прошу помочь мне понять его.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июля. [Пятигорск. ] Уехал из Старогладковской без малейшего сожаления. Дорогой Арслан-Хан опротивел мне до смерти. Приехав в Пятигорск, нашел Машу, пустившуюся в здешний свет. Мне было больно видеть это — не думаю, чтобы от зависти, но неприятно было расстаться с убеждением, что она исключительно мать семейства. Впрочем, она так наивно мила, что в скверном здешнем обществе остается благородной. Послал письма: Барятинскому — хорошее, Бриммеру — порядочное и Мооро — скверное. Валерьян благоразумен и честен, но нет в нем того тонкого чувства благородства, которое для меня необходимо, чтобы сойтись с человеком. Барон хороший человек. Как недостает у Валерьяна и Николеньки такта, чтобы не смеяться над наружностью и манерами людей, когда сами они так плохи в этих отношениях. Вообще мне было тяжело и грустно. Этого чувства я не испытаю, я уверен, свидевшись с Сережей, а еще более с Татьяной Александровной. […]
17 [июля]. Встал поздно, думал прекрасно, писал хорошо, но мало. Пришел Николенька. Я читал ему написанное. И кажется, хорошо. Обедал у Маши, спал там, ходил гулять и ужинать к Найтаки. Провел время без пользы и скучно. Холодность ко мне моих родных мучает меня. […] Завтра встать рано и писать, писать до вечера, чтобы кончить «Отрочество».
18 [июля]. Встал поздно. Николенька помешал. Только начал писать, как пошел к Маше и пробыл целый день: был в концерте Кристиани. Плохо. Отчего никто не любит меня? Я не дурак, не урод, не дурной человек, не невежда. Непостижимо. Или я не для этого круга? Маша так мила, что невольно жалеешь, что некому понять ее прелести. Дрянь, как Кампиони, нравится ей. Жалко. Завтра обедать в Бештау и писать, писать.
19 [июля]. Ничего не писал утром, а вечер провел у Маши безалаберно. Только вечером приятно поболтал с бароном о интересующем меня хозяйстве. Теперь 11 часов. Завтра буду писать, только вечерком пойду к Маше.
23 июля. Переписал первую главу порядочно. Был у Маши недолго. Труд, труд! Как я чувствую себя счастливым, когда тружусь.
24 июля. Встал в 8, переправил 1-ую главу и ничего не писал целый день, читал «Claude Genoux»*. Ходил к Маше, у которой очень скучно. Булька пропал. Получил письмо от Мооро: Бриммер задержал мою отставку.
Встать рано и писать, не останавливаясь на том, что кажется слабо, только чтобы было дельно и гладко. Поправить можно, а потерянное без пользы время не воротишь.
25 июля. Исключая часов трех, проведенных на бульваре, занимался целый день; но переписал только l ½ главы. «Новый взгляд» натянуто, но «Гроза»* превосходно. […]
27 [июля]. […] Читал «Записки охотника» Тургенева, и как-то трудно писать после него. Целый день писать.
26 [августа. Железноводск]. Ничего не делал. Решился бросить «Отрочество», а продолжать роман* и писать рассказы Кавказские*. Причина моей лени та, что я не могу писать с увлечением. Я ожидаю какого-то счастия в этом месяце и вообще с 26 года моего возраста. Хочу принудить себя быть таким, каким, по моим понятиям, должен быть человек. Молодость прошла. Теперь время труда. […]
28 [августа. Пятигорск]. […] Утром начал казачью повесть*, потом для приезда Николеньки и отъезда Теодорины и своего рождения ходил в тир, ездил в колонию и водил Машу на бульвар. Весело не было. Труд только может доставить мне удовольствие и пользу. Ложусь спать, буду читать.
10 сентября. [Пятигорск. ] Ничего не делал, болтал с Машей, делал планы о жизни всем вместе в Москве. Лень и сознание лени страшно мучают меня. Завтра буду работать хоть гадость; но только чтобы быть довольным собой, а то жизнь с постоянным раскаянием — мука!
11 сентября. Валерьян и Маша уехали. Я писал утром и вечером, но мало. Не могу одолеть лень. Придумал в присест писать по главе и не вставать, не окончив. Спал долго после обеда. Теперь часа 4.
12 сентября. Встал поздно. Окончил Историю Карла Ивановича до обеда. После обеда шлялся, был в церкви, где испытал весьма тяжелое чувство, потом на бульваре ходил с Клунниковым и увел его с собой. Целый вечер пропал. Завтра утром пойду в парк, обдумаю главу Беглеца. Напишу ее до обеда. После обеда полежу и обдумаю главу «Отрочества» — непременно.
13 сентября. Утром была тоска страшная. […] Потом пришла мысль «Записок маркера», удивительно хорошо. Писал, ходил смотреть собрание и опять писал «Записки маркера». Мне кажется, что теперь только я пишу по вдохновению, от этого хорошо.
14 сентября. Окончил начерно и вечером написал лист набело. Пишу с таким увлечением, что мне тяжело даже: сердце замирает. С трепетом берусь за тетрадь. Завтра приедут Валерьян и Маша. […]
18, 19 [сентября]. Ничего не делал, нынче начал было писать, но лень одолела, вечером был у Смышляева и писал стихи*.
Юмор может быть только в том случае, когда человек убежден, что недосказанные и странно сказанные мысли его будут поняты. Он зависит от расположения и еще болееот слушателей или от инстинктивного мнения о слушателях.
[28 сентября. ] 27, 28. Ничего не делал. Не пишется. Перечитывал свой роман Валерьяну. Решительно все надо изменить, но самая мысль всегда останется необыкновенною. Вечером вздумал писать стихи и не пишу. Валерьян притворялся, что у него зубы болят, — или дурно переносил боль. Начинаю подумывать о Турецком походе. Напрасно. Надо быть последовательным, в особенности в том благородном, прекрасном намерении, которое я принял, — т. е. быть довольным настоящим.
29 [сентября]. Утром написал главу «Отрочества» хорошо. После обеда ездил верхом с 6 до 8 часов. Был у Аксиньи. Она хороша, но не так нравится мне, как прежде. Предлагал ей взять ее. Она, кажется, согласится. В «Смерть бабушки»* придумал характерную черту религиозности и вместе непрощения обид.
[1 октября. ] 30. 1 октября. Вчера и нынче написал по главе, но не тщательно. Вчера поссорился с Машей и намерен написать ей откровенное письмо.
2 [октября]. Писал главу «Отрочества», встал в 5 часов. Всё «Отрочество» представляется мне в новом свете, и я хочу заново переделать его. Валерьян и Маша едут. Хочу писать письмо князю Андрею Ивановичу и Сергею Дмитриевичу.
[3 октября. ] Нынче, 3-го, ничего не делал; приехал Арслан-Хан.
[6 октября. ] 4, 5, 6. Пришла мысль о переводе*. Писал письма и докладную записку. Провожал Валерьяна и Машу. […] Ужасно грустно! Постараюсь завтра прогнать эту грусть деятельностью.
7 [октября]. Утро, ходил к Принцу, который опять наговорил мне неприятностей, которые часа на четыре расстроили меня. За обедом читал «Profession de foi» и вспомнил единственное средство быть счастливым. После обеда начал было писать «Девичью», но так неаккуратно, что бросил — нужно пересматривать сначала. Был у Дроздовых, ездил с ними верхом и провел вечер.
13 [октября. Старогладковская]. Был на охоте, написал письма Маслову и Барашкину. Убил двух фазанов. Читал нынче литературную характеристику гения*, и это сочинение разбудило во мне уверенность в том, что я замечательный по способностям человек, и рвение к труду. С нынешнего дня примусь. Утро писать «Отрочество» и «Беглец» после обеда и вечером. Мысли о счастии.
[14 октября. ] Ничего не делал того, что предположил, а ленился, читал. Написал четверть листа «Девичьей». Хочу принять за правило, начав одно дело, не позволять себе заниматься ничем другим, а для того, чтобы не пропадали мысли, которые будут приходить, записывать их аккуратно в книгу с следующим подразделением: 1) Правила, 2) Познания, 3) Наблюдения. Нынче, например, наблюдения: над пением, Япишкой; Познания: о миссиях в Осетии Северной и Грузии, и Правила: не позволять себе ничем отвлекаться до окончания начатого труда.
15 [октября]. Утром писал мало, читал Головнина с удовольствием. Обедал, играл в карты, чем потерял часа три времени. Докончил «Девичью», ужинал, написал длинное письмо Николеньке и несколько наблюдений, правил и сведений.
16 [октября]. Встал рано, читал Головкина, писал Университет Володи, который и кончил, обедал у Алексеева, читал Головкина, писал. […] Играл в преферанс после ужина и слишком торопливо написал наблюдения, сведения, мысли и правила.
18 октября. Встал поздно. Был Аиб, Аверьянов и Япишка. Написал пол-листа, после обеда написал еще главу. Вечер весь играл в карты. Это скверная привычка. […]
19 октября. Записал Наблюдения, Сведения, Мысли и Правила. Ходил с Громаном в сады, убил зайца. Обедал один с Громаном. […] Написал главу «Отрочества». Ужинал, дописал нынешнего дня Сведения, Наблюдения, Мысли и Правила и ложусь. Благодаря бога, я доволен собой, но странное я испытываю чувство беспокойства, когда я бываю внешне и внутренне спокоен, как будто кто-то говорит мне: вот ты хорош теперь, а никто кроме тебя этого не знает.
20 октября. Арслан-Хан, приехав во время обеда, остановился у меня и тем помешал мне заниматься вчера. […] До обеда читал превосходный роман Самуэля Варрена. После обеда спал, а проснувшись, переправил, и то плохо, одну главу до ужина. После ужина прочел «Инвалида» и часа два по атласу занимался географией. Кажется, война будет. Алексеев сказал мне, что пехотных юнкеров уже потребовали к экзамену. Говорят, что у Шамиля 40 000 в сборе и он сбирается напасть на князя Воронцова.
22 октября. Встал поздно, до обеда писал немного, после обеда был у Громана, к которому приехал офицер Самурского полка и рассказывал много занимательного о деле в Закаталах. Писал потом, несмотря на присутствие мальчишек, и после ужина играл в карты.
«Отрочество» опротивело мне до последней степени. Завтра надеюсь кончить. Идея писать по разным книгам свои мысли, наблюдения и правила весьма странная. Гораздо лучше писать все в дневнике, который стараться вести регулярно и чисто, так чтобы он составлял для меня литературный труд, а для других мог составить приятное чтение. В конце каждого месяца, пересматривая его, я могу выбирать и разносить из него все, что найдется замечательного, для легкости же на отдельном листе буду составлять краткое оглавление каждого дня.
23 октября. Проснулся я нынче очень поздно и с тем недовольным расположением духа. […] Дурное расположение духа и беспокойство помешали мне заниматься. Я прочел «Наденьку», повесть Жуковой*. Прежде мне довольно было знать, что автор повести — женщина, чтобы не читать ее. Оттого что ничего не может быть смешнее взгляда женщины на жизнь мужчины, которую они часто берутся описывать; напротив же, в сфере женской автор-женщина имеет огромное преимущество перед нами. Наденька очень хорошо обстановлена; но лицо ее самой слишком легко и неопределенно набросано; видно, что автора не руководила одна мысль.
Я берусь за свою тетрадь «Отрочества» с каким-то безнадежным отвращением, как работник, принужденный трудиться над вещью, которая, по его мнению, бесполезна и никуда не годна. Работа идет неаккуратно, вяло и лениво.
Докончив последнюю главу, нужно будет пересмотреть все сначала и сделать отметки и начерно окончательные перемены. Переменять придется много: характер. Я вял, действие растянуто и слишком последовательно во времени, а непоследовательно в мысли. Например, прием в середине действия описывать для ясности и выпуклости рассказа прошедшие события, с моим разделением глав, совсем упущен. Во все время обеда и после я не мог, да и не находил надобности — преодолеть апатическую тоску, которая овладела мною.
Докончив «Наденьку», я снова сел за отвратительное «Отрочество», но Илияс помешал мне; так что я, не желая прогнать его и терять время даром, пошел на охоту. Опять поработал над «Отрочеством», кое-как дописал одну главу и пошел ужинать, а после играл в карты.
С охоты, подходя к дому с северной стороны, я полюбовался видом серых гор из-за камышовых крыш домов и черной, тесовой, увенчанной крестом крыши часовни.
Два рекрута разговаривали на площади, и один из них, в то время как хотел слегка засмеяться шутке своего товарища, издал звук вроде кашля или перхоты, что часто бывает с людьми, ведущими неправильный образ жизни.
«Довольствоваться настоящим!» Это правило, прочитанное мною нынче, чрезвычайно поразило меня. Я живо припомнил все случаи в моей жизни, в которой я не следовал ему, и очень удивительно показалось, что я не следовал ему. Например, в ближайшем ко мне по времени случае в моей службе я хотел быть юнкером-графом, богачом, с связями, замечательным человеком, тогда как самое полезное и удобное для меня было бы быть юнкером-солдатом. Как много интересного я тогда мог бы узнать в это время и как много неприятного избежал.
Но тогда положение мое было ближе ко мне; поэтому-то я не так ясно видел его. Затронутые страсти (гордость, тщеславие, лень) давали другой вид положению и подсказывали уму другие размышления.
Верь рассудку только тогда, когда убедишься, что никакая страсть не говорит в тебе.
В бесстрастном состоянии рассудок руководит человеком, но когда страсти обладают им, они руководят и его разумом, придавая только больше пагубной смелости в дурных поступках.
24 октября. Встал раньше вчерашнего и сел писать последнюю главу. Мыслей набралось много; но какое-то непреодолимое отвращение помешало мне окончить ее. Как во всей жизни, так и в сочинении прошедшее обуславливает будущее — запущенное сочинение трудно продолжать с увлечением и, следовательно, хорошо. Обдумывал перемены в «Отрочестве», но не сделал никаких. Надо на легкую руку набросать заметки и просто начать переписывать снова.
До обеда читал критику описания войны 1799 года России с Францией*, а после обеда без всякой охоты пошел стрелять в цель с Громаном. Прекрасная погода соблазнила меня, и я пошел на охоту, на которой убил зайца и пробегал за чакалой до поздней ночи. После ужина играл в карты до 12 часов. Как легко делаются дурные привычки! Я уж привык играть после ужина.
Читая сочинение, в особенности, чисто литературное, — главный интерес составляет характер автора, выражающийся в сочинении. Но бывают и такие сочинения, в которых автор аффектирует свой взгляд или несколько раз изменяет его. Самые приятные суть те, в которых автор как будто старается скрыть свой личный взгляд и вместе с тем остается постоянно верен ему везде, где он обнаруживается. Самые же бесцветные те, в которых взгляд изменяется так часто, что совершенно теряется. […]
25 октября. С утра пересмотрел «Отрочество» и решился переписывать его снова и насчет изменений, перемещений и прибавлений, которые нужно в нем сделать. Часов в 10 пошел на охоту и проходил до ночи. Читал новый, весьма плохой «Современник». Ужинал и теперь ложусь спать. Нынче целый день был для меня моральным отдыхом, необходимость которого так часто бессознательно сознаешь в себе.
[…] Я начинаю жалеть, что слишком поспешно послал «Записки маркера». По содержанию едва ли я много бы нашел изменить или прибавить в них. Но форма не совсем тщательно отделана.
26 октября. Встал не рано и с ломотой усталости во всех членах. С утра работал порядочно над перепиской и приведением в порядок «Отрочества», но скоро позвали обедать, а после обеда, почитав немного и посидев с Алексеевым, который приходил ко мне, сделал очень мало.
[…] Описание борьбы добра со злом в человеке, покушающемся или только что сделавшем дурной поступок, всегда казалось мне неестественным. Зло делается легко и незаметно, и только гораздо после человек ужасается и удивляется тому, что он сделал.
Простой народ так много выше нас стоит своей исполненной трудов и лишений жизнью, что как-то нехорошо нашему брату искать и описывать в нем дурное. Оно есть в нем, но лучше бы говорить про него (как про мертвого) одно хорошее. Это достоинство Тургенева и недостаток Григоровича и его «Рыбаков». Кого могут занять пороки этого жалкого и достойного класса? В нем больше доброго, чем дурного; поэтому естественнее и благороднее искать причины первого, чем второго.
В старину я думал, что, взяв себе за правило быть основательным и аккуратным в своих занятиях, я могу следовать ему; потом часто повторяемые и никогда в точности не исполняемые такие правила начали убеждать меня в том, что они бесполезны; теперь же я убеждаюсь, что эти припадки, постоянно ослабевающие и снова возобновляющиеся, составляют нормальное состояние периодической к самому себе внимательности.
Надо привыкать всегда и во всем писать четко и ясно, а то часто бессознательно неясность или неверность мысли скрадываешь от самого себя неестественными оборотами, помарушками и размахами. […]
28, 29, 30 октября, 31 октября и 1-е ноября. [Хасав-Юрт. ] 28 и 29. Провел в том сознательном тяжелом бездействии, которое происходит от постоянно занимающей неприятной мысли. […] Ходил 29 целый день на охоте, болтал с Епишкой, играл в карты и читал биографию Шиллера, написанную его свояченицей*. Чрезвычайно заметен в ней поверхностный взгляд на великого человека сентиментальной женщины и лица, слишком близкого поэту, поэтому находящегося под влиянием мелочных домашних недостатков, утратившего должное уважение [к] поэту.
31 [октября]. […] Я читал «Капитанскую дочку», и увы! должен сознаться, что теперь уже проза Пушкина стара — не слогом, — но манерой изложения. Теперь справедливо — в новом направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самых событий. Повести Пушкина голы как-то. Вот мысли, которые приходили мне в эти четыре дня и которые я успел отметить для памяти в маленькой книжке.
Невозможно следовать определениям разумной воли только вследствие ее выражения. Необходимо употреблять хитрости против своих страстей. Добро приятно делать для каждого; но страсти часто заставляют нас видеть его в превратном свете. А рассудок, действуя непосредственно, бессилен против страсти, он должен стараться действовать одной на другую. В этом заключается мудрость.
[…] Шиллер совершенно справедливо находил, что никакой гений не может развиться в одиночестве, что внешние возбуждения — хорошая книга, разговор — подвигают больше в размышлении, чем годы уединенного труда. Мысль должна рожаться в обществе, а обработка и выражение ее происходит в уединении.
[…] Одна из главных причин ошибок нашего богатого класса состоит в том, что мы не скоро привыкаем к мысли, что мы большие. Вся наша жизнь до 25 иногда и больше лет противоречит этой мысли; совершенно наоборот того, что бывает в крестьянском классе, где 15 лет малый женится и становится полным хозяином. Меня часто поражала эта самостоятельность и уверенность крестьянского парня, который, будь он умнейшим мальчиком, в нашем классе был бы нулем.
Странно, что все мы таим, что одной из главных пружин нашей жизни — деньги. Как будто это стыдно. Возьмите романы, биографии, повести: везде стараются обойти денежные вопросы, тогда как в них главный интерес (ежели не главный, то самый постоянный) жизни и лучше всего выражается характер человека.
Есть разряд милых, благородных (хотя большей частью несчастных в жизни и неуважаемых), которые как будто живут только для того, чтобы выжидать случая пожертвовать собой для другого или для чести, и которые живут только с той поры, с которой начинается это пожертвование.
Часто случалось мне удивляться и завидовать основательному и точному взгляду людей, читавших мало.
Всякое оконченное начерно сочинение пересматривать, вымарывая все лишнее и не прибавляя ничего. Это первый процесс.
Читая рассказ какой-то английской барыни, меня поразила непринужденность ее приемов, которой у меня нет и для приобретения которой мне надо трудиться и замечать.
[…] Бывают лица, к числу которых принадлежит и мое и каким я хочу вырастить героя «Романа русского помещика», которые чувствуют, что они должны казаться гордыми, и чем более стараются выказать на своем лице выражение равнодушия, тем более кажутся надменными.
Часто в сочинении меня останавливают рутинные, не совсем правильные, основательные и поэтические способы выражения; но привычка встречать их часто заставляет писать их. Эти-то необдуманные, обычные приемы в авторе [?], недостаток которых чувствуешь, но прощаешь от частого употребления, для потомства будут служить доказательством дурного вкуса. Мириться с этими приемами — значит идти за веком, исправлять их — значит идти вперед его.
2, 3 ноября. […] Вчера завязался между мной и несколькими офицерами спор о ценности жалованных титулов; причем Зуев высказал без всякой последовательности свою зависть к моему титулу. В ту минуту мысль, что он считает меня тщеславным своим титулом, кольнула мое самолюбие; теперь же я от души радуюсь, что он дал подметить в себе эту слабость. Как опасно верить мыслям, являющимся в жару спора.
Всегда жить одному: дорогое правило, которое я постараюсь соблюдать.
Почти всякий раз при встрече с новым человеком я испытываю тяжелое чувство разочарования. Воображаю себе его таким, каков я, и изучаю его, прикидывая на эту мерку. Раз навсегда надо привыкнуть к мысли, что я исключение, что или я обогнал свой век, или — одна из тех несообразных неуживчивых натур, которые никогда не бывают довольны. Нужно взять другую мерку (ниже моей) и на нее мерять людей. Я реже буду ошибаться.
Долго я обманывал себя, воображая, что у меня есть друзья, люди, которые понимают меня. Вздор! Ни одного человека еще я не встречал, который бы морально был так хорош, как я, который бы верил тому, что не помню в жизни случая, в котором бы я не увлекся добром, не готов был пожертвовать для него всем.
От этого я не знаю общества, в котором бы мне было легко. Всегда я чувствую, что выражение моих задушевных мыслей примут за ложь и что не могут сочувствовать интересам личным.
Вчера перешел на квартиру. Ежели я буду принужден прожить здесь месяц, я уверен, что употреблю его с пользой. Уже вчера вечером я почувствовал то расположение к истинной пользе, под влиянием которого находился в Тифлисе, в Пятигорске. Нет худа без добра. […]
4 ноября. Вчера провел весь день, ничего не делая. Болтал с посетителями и перечитывал какой-то старый «Современник». […]
Не дорожить мнением, которого ты не уважаешь. Я хотел сказать: не дорожить мнением людей, которых не уважаешь; но это было бы неправильно, потому что даже те люди, которых ты презираешь, могут в некоторых случаях быть основательными судьями. Ошибка, которой я хочу избегнуть, состоит только в том, чтобы не стараться (как часто это случается с людьми тщеславными) выказывать себя таким, каким бы не уважал другого. […]
5 ноября. Зубы разболелись у меня утром так, что я не мог заснуть и встал рано. Начал пересматривать «Отрочество»; но, кроме вымарок, ничего не сделал.
[…] Я совершенно убежден, что я должен приобрести славу; даже от этого я тружусь так мало: я убежден, что стоит мне только захотеть разработать материалы, которые я чувствую в самом себе. […]
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 [ноября. Старогладковская]. Оставил Акршевскому почти половину «Отрочества» для переписки. Проиграл Соковнину 42 рубля и уехал из Хасав-Юрта, оставшись должен около 10 р. Посетители не давали мне там минуты покоя, так что совершенно сбили с толку.
[…] Я никогда не открывался в любви, но, вспоминая ту страшную гиль, которую я врал с особами, мне нравившимися, с тонкой замысловатой улыбочкой, я краснею от одного воспоминания. Разговоры, которые читаешь в наших великосветских романах pour tout de bon[15],— две капли воды похожи на них. Нужно убедиться в том, что праздность и беспорядочная жизнь (то есть без порядка) не только вредна в житейском деле, но может быть причиной самых ужасных пороков и поступков с моей стороны, как я испытал это нынче. Я так слаб! Нужно бояться праздности и беспорядочности так же, как я боюсь карт.
В разговорах с Епишкой меня поразили следующие вещи.
Как Минька — кривой — колдун бил зверей потных, которых черти ему с гор пригоняли; как он, встретившись с чеченцами, превратил себя и Ивана Иваныча в два лоховых куста, и как потом его посадили в передний угол, обсели кругом и стали увещевать, как старики говорили ему: — Это скверно, Минька, брось это, и т. д.
Еще восклицание в родительном падеже: «Какого горя!»
И еще два рассказа о том, как Епишка ездил из Аксая с кунаком гулять на свадьбу к чеченцам, и как он трусил, несмотря на покровительство зятя, и как удивлялся ему: «Хехехе, казакишь! казакишь!» И о том, как он убил ночью на охоте холопа Ильина, как он побежал за своими товарищами и звал их присутствовать при том, как он будет просить у него прощенья, как он умер дорогой на одре (брусья арбы), на который его с трудом положили, как потом он, перевернув свое ружье снастью от себя, подал его Василию Гавриловичу и упал ему в ноги, как потом, придя домой, он застал у жены бал, и как только что он сказал про свое горе, все бабы разбежались.
[16 ноября. ] 15. Встал рано, принялся писать; но, несмотря на обилие мыслей и аккуратность писания, написал весьма мало.
[…] Было время, что сознание развилось во мне до такой степени, что заглушало рассудок, так что я не мог ничего думать, кроме о том: о чем я думаю?
Меня часто поражало, как могут люди внутренно наслаждаться своими фразами без мыслей, — одними словами. Может быть, что на известной степени развития ум точно так же сочувствует словам, как на высшей степени — он сочувствует мыслям. Епишка говорит, что, чтобы умно сказать, надо сперва постоять у веника, то есть отвернуться в угол и подумать.
17, 18 ноября. Вчера встал рано; но писал мало. Две главы «Девичья» и «Отрочество», которые я так долго не могу окончательно обработать, задерживали меня. Обедал, играл в шахматы дурно и еще хвастался.
[…] Взял историю Карамзина и читал ее отрывками. Слог очень хорош. Предисловие вызвало во мне пропасть хороших мыслей*. Нынче прибил Алешку. Хотя он и был виноват, я недоволен собой за то, что разгорячился.
[…] Казаки говорят: эта ружье, и бедный употребляется в смысле ласкательном, — соболезно-ласкательном. Екатерининского времени люди называли служащих матушкиными детьми.
Есть собственные имена, названия вещей, животных и лиц, которые обрисовывают быт известного круга лучше, чем описания. Например: бык — Алексеич, ящик — бабушкина шкатулка.
Япишка объяснил мне, наконец, мнимое увеличение Терека; он был уже и глубже; теперь же, отклоняясь от гор, переменяя ложе и находя дно более упругое, он становится шире.
Хороша тоже песня, которую он сказал мне:
«Во славном во городе во Киеве, У славного была у князя Владимира, Жила-была девица, душа красная, Согрешила та девица богу тяжкий грех, Породила девица млада юношу, Того была Александра Македонского. Со того стыда красна девица С граду вон ушла; Она шла-прошла не стежкой, не дорожкой, А шла-прошла тропиною звериною. Навстречу красной девице доброй молодец, Доброй молодец, Илья Муромец. Как и стал он красну девицу крепко спрашивать, Чьего ты, красна девица, роду-племени. Да я рода-то девица не простого. Красна девица богатырского».
[…] Случается, что вдруг чувствуешь, что на мне осталась по забывчивости удивленная физиономия там, где уже нет более причины удивляться (В главу «Концерт»)*.
Кто-то рассказывал Епишке, что будто я отдал человека в солдаты за то, что он задушил мою собаку. Такая ужасная клевета всегда поддерживает меня в благородных мыслях, что делать добро есть единственное средство быть счастливым. Ежели только смотреть с другой точки зрения на жизнь — с какой бы то ни было, — такая одна клевета разрушает все счастье жизни.
Некоторые люди как будто сами себя обманывают, стараясь о своем образе жизни говорить в прошедшем или в будущем, но не в настоящем.
Ничто столько не препятствует истинному счастью (состоящему в добродетельной жизни), как привычка ждать чего-то от будущего. Между тем как для истинного счастья, состоящего во внутреннем самодовольстве, будущее ничего не может дать, а все дает прошедшее.
Чем моложе человек, тем меньше он верит в добро, несмотря на то, что он легковернее на зло. […]
19, 20, 21, 22 [ноября]. Я, кажется, обчелся числами, потому что решительно не могу припомнить, что я делал эти четыре дня.
[…] Один из главных и более всего неприятных для меня моих пороков есть ложь. Побудительная причина большей частью — хвастовство, желание выказать себя с выгодной точки. Поэтому, чтобы не допускать себя до той степени развития тщеславия, в которой уж нет времени одуматься и остановиться, даю себе правило: как только почувствуешь щекотание самолюбия, предшествующее желанию рассказать что-нибудь о себе, одумайся. Молчи и помни, что никакая выдумка не даст тебе в глазах других больше веса, как истина, которая для всех имеет осязательный и убедительный характер. Всякий раз, когда почувствуешь досаду и злобу, остерегайся всякого отношения с людьми, особенно с зависящими от тебя. Избегать общества людей, любящих пьянство, и не пить ни вина, ни водки. […]
В русском простом народе есть убеждение, что черный (брюнет) не может быть хорош собой, и даже черный есть почти синоним дурной: «как цыган».
Музыка — есть искусство посредством троякого сочетания звуков — в пространстве, времени и силе, воспроизводить в воображении различные состояния души.
Большая часть мужчин требуют от своих жен достоинств, которых сами они не стоят. […]
В простом народе существует убеждение, что присутствие зрителей при кончине мучительно для умирающего, что душе тяжеле выходить из тела (то же и при родах).
На мне всегда невольно отражается тон человека, с которым я говорю: он говорит напыщенно, и я тоже, он мямлит, и я тоже, он глуп, и я тоже, он говорит дурно по-французски, и я тоже.
С 23 октября по 1 декабря. Несколько раз был на охоте, бил зайцев и фазанов. Почти ничего не читал и не писал все эти дни. Ожидание перемены жизни беспокоит меня, а серая шинель до того противна, что мне больно (морально) надевать ее, чего не было прежде. Вчера заезжал Султанов. Получил третьего дня от Арслан-Хана письмо и шашку. Данным правилам — именно, не пить — изменял каждый день.
Несмотря на то, что Япишка человек не старого века и что он бывал в прикосновении с образованием, от уединенной ли его жизни, или от других причин трудно встретить человека более старинного характера, особенно речь его.
[…] Часто скромность принимается за слабость и нерешительность; но когда опыт докажет людям, что они ошиблись, то скромность придает новую прелесть, силу и уважение характеру.
(Шиллер) Для некоторых людей огонь вдохновения превращается в рабочий светильник. Литературный успех, удовлетворяющий самому себе, приобретается только посредством всесторонней обработки предмета. Но и предмет должен быть высокий, для того чтобы труд всегда был приятен.
Чем больше человек привыкает к приятному и изящному, тем более он себе готовит лишений в жизни. Из всех этих привычек лишение привычки иметь отношения только с изящными видами ума — самое тяжелое.
Владимир мог обратить свой народ в принятую им веру потому только, что он стоял на одной степени образования с ним, хотя и выше его в общественном значении. Народ верил ему. Ни один владетель образованного государства не в состоянии сделать того же.
Несколькими словами в одном из своих рассказов Епишка превосходно выразил мнение казаков о значении женщин. «Ты, жена, — холопка, — работай, — говорит муж жене, — а я загулял».
Хорош тоже подслушанный разговор о зиме: А. Нынче зима с моря идет. В. Да, крылом.
Казак — по-татарски значит бобыль. […]
2 декабря. Встал охотно, хотел приняться за «Отрочество», но без предыдущих тетрадей нашел неудобным; на новое же ни на что еще не решился. Привел в порядок свои бумаги и письма, обедал дома, читал «Отечественные записки». После обеда говорил и играл в шахматы с несносным Олифером, читал и с таким же сильным насморком ложусь спать.
Правило от лени — порядок в жизни, порядок в умственных и физических занятиях.
Есть два желания, исполнение которых может составить истинное счастие человека, — быть полезным и иметь спокойную совесть.
Тщеславие происходит и усиливается от морального беспорядка в душе человека. Я прежде только инстинктивно понимал, предчувствовал необходимость порядка во всем; теперь только я понимаю ее.
[…] Я решился, окончив «Отрочество», писать теперь небольшие рассказы, настолько короткие, чтобы я сразу мог обдумать их, и настолько высокого и полезного содержания, чтобы они не могли наскучить и опротиветь мне. Кроме того, по вечерам буду письменно составлять план большого романа и набрасывать некоторые сцены из него. […]
3 декабря. Встал рано, но ничего не мог начать. Казачий рассказ и нравится и не нравится мне.
[…] У меня есть большой недостаток — неумение просто и легко рассказывать обстоятельства романа, связывающие поэтические сцены.
[…] Я был в нерешительности насчет выбора из четырех мыслей рассказов. 1) «Дневник кавказского офицера», 2) Казачья поэма, 3) Венгерка*, 4) «Пропащий человек»*. Все четыре мысли хороши. Начну с самой, по-видимому, несложной, легкой и первой по времени — «Дневник кавказского офицера».
11, 12, 13, 14, 15, 16 [декабря]. Насморк и горловая боль не прекращаются. Два раза имел неосновательность ходить на охоту (с Сулимовским). Третьего дня приехал Алексеев. Начал вчера «Записки фейерверкера»*, но нынче ничего не писал, кончил «Историю» Карамзина.
[…] Читал рассказ Писемского «Леший». Что за вычурный язык и неправдоподобная канва!
[…] Сулимовский с обыкновенной своей грубостью рассказал мне, как Пистолькорс ругает меня за Розенкранца;* это сильно огорчило меня и охладило к литературным занятиям, но объявление «Современника» на 1854 год снова возбудило меня к ним*.
17 декабря. […] Целый день читал «Историю»*.
[…] Устрялов свойствами русского народа называет: преданность к вере, храбрость, убеждение в своем превосходстве перед другими народами, как будто это не общие свойства всех народов? — и будто нет у русского народа отличительных свойств?
[…] Каждый исторический факт необходимо объяснять человечески и избегать рутинных исторических выражений.
Эпиграф к истории я бы написал: «Ничего не утаю». Мало того, чтобы прямо не лгать, надо стараться не лгать отрицательно — умалчивая. […]
19, 20 декабря. Вчера, хотя и чувствовал себя лучше, не писал ничего.
[…] Одно, чем, как мне кажется, вознаградилось месячное бездействие, в котором я нахожусь, это — тем, что план «Романа русского помещика» ясно обозначился. Прежде, предугадывая богатство содержания и красоту мысли, я писал наудачу. Не знал, что выбирать из толпы мыслей и картин, относящихся к этому предмету.
[…] Читая философское предисловие Карамзина к журналу «Утренний свет», который он издавал в 1777 году* и в котором он говорит, что цель журналу состоит в любомудрии, в развитии человеческого ума, воли и чувства, направляя их к добродетели, я удивлялся тому, как могли мы до такой степени утратить понятие о единственной цели литературы — нравственной, что заговорите теперь о необходимости нравоучения в литературе, никто не поймет вас. А право, не худо бы, как в баснях, при каждом литературном сочинении писать нравоучение — цель его. В «Утреннем свете» помещались рассуждения о бессмертии души, о назначении человека, «Федон», жизнь Сократа и т. д. Может быть, в этом была и крайность, но теперь впали в худшую.
Вот цель благородная и для меня посильная — издавать журнал, целью которого было бы единственно распространение полезных (морально) сочинений. В который принимались бы сочинения только с условием, чтобы при них было нравоучение, печатание или непечатание которого зависело бы от воли автора. Кроме того, что без исключения из журнала этого была бы исключена полемика и насмешка над чем бы то ни было, по самому направлению своему он не сталкивался бы с другими журналами.
[…] Кто-то сказал, что знание живописи необходимо поэту. Читая нынче славную статью о выставке*, я понял это.
Чтоб сочинение было увлекательно, мало того, чтобы одна мысль руководила им; нужно, чтобы все оно было проникнуто и одним чувством. Чего у меня не было в «Отрочестве».
21 декабря. Здоровье несколько лучше, но не могу еще успокоиться. Завтра поеду в Кизляр, ежели только не пройдет совершенно. Получил письмо от Зуева и Акршевского, он не переписал и не прислал мне «Отрочества». Это меня бесит. «Отрочество» из рук вон слабо — мало единства и язык дурен. Ничего даже не читал. Приехал Султанов и променял собак. […]
22 декабря. Здоровье, как кажется, лучше; но тоска неодолимая. Утром писал предисловие романа. Вечером спал до ужина, потом писал письмо Николеньке и болтал с Епишкой. […]
Два выражения в Епишкине рассказе понравились мне. Баба воет: «Где горе не ходило и на нас, бедных» —…и, уговаривая его уступить, другая говорит: «Уж пять-то рублей тебя не родили!..»
24 декабря. Встал поздно и до позднего вечера провел день на охоте. Убил зайца и фазана. Здоровье моральное и физическое еще не совсем хороши. […]
Мне пришла мысль пересмотреть все мои правила, привести их в порядок и приучать себя к исполнению их. По нескольку месяцев каждого. До тех пор не задавать себе нового, пока месяц ни разу не изменю тому, которое задал.
25, 26 декабря. Вчера встал поздно, был с визитом у Алексеева, который тотчас же отдал его мне, и целый день ничего не делал. Нынче все время, исключая того, в которое меня отрывали разные гости, работал над приведением в порядок правил. После ужина писал грустное письмо тетеньке Татьяне Александровне.
Взял себе четыре правила: по одному из каждого разряда. Сам еще не знаю, хороша ли, или нет, эта метода.
[28 декабря. ] 27, 28 декабря. Вчера был на охоте, убил зайца и двух фазанов. Алешка не уехал, чему я очень рад, потому что письмо к тетеньке было несообразно с первым правилом — оно огорчило бы ее.
Нынче писал утром «Роман русского помещика», хотя и мало, но хорошо, после обеда прочел «Инвалиды»*и начал было писать «Записки фейерверкера», но глупое требование Алексеева послать Алешку в Старый Юрт и ужин развлекли меня. После ужина болтал с Епишкой до петухов.
29, 30, 31 декабря. 29-го был на охоте целый день и ничего не убил. Вчера. Писал утром «Роман русского помещика», вечером угорел и спал. Нынче писал утром «Роман русского помещика», вечером на охоте и в бане. После ужина написал письма Валерьяну и Татьяне Александровне.
Встретил Новый год за письмами и потом помолился. Алешка уехал. Получил письмо от Валерьяна и Маши, которое изменило мои чувства к ней.
Манера, принятая мною с самого начала, писать маленькими главами, самая удобная.
Каждая глава должна выражать одну только мысль или одно только чувство.
Правила
1853. 15 октября.
1) Иметь при себе всегда карандаш и тетрадку, в которой записывать все замечательные сведения, наблюдения, мысли и правила, которые приходится приобретать во время чтения, разговора или размышления, и вечером записывать их по отделам в особой книге.
2) Не начинать не только нового сочинения, совершенно не окончив старого, но даже чтения, не окончив начатого.
16 октября. 3) Позволять себе физический труд (охоту, гимнастику), с целью дать отдых уму, только тогда, когда ум действительно много работал. А то апатию, леность ума, которые уничтожить лучшее средство состоит в том, чтобы работать, часто принимаешь за усталость. Усталость может быть только после труда; а трудом можно назвать только то, что выразилось внешне.
4) Перечитывая и поправляя сочинение, не думать о том, что нужно прибавить (как бы хороши ни были проходящие мысли), если только не видишь неясности или недосказанности главной мысли, а думать о том, как бы выкинуть из него как можно больше, не нарушая мысли сочинения (как бы ни были хороши эти лишние места).
18 октября. 5) Из ложного стыда или деликатности не переставать спрашивать о незнакомом предмете до тех пор, пока ясно не увидишь, что человек, которого ты спрашиваешь, сам не знает его, или до тех пор, пока ты не поймешь его с такой ясностью, что в состоянии сам объяснить его другому.
6) Не позволять себе обдумывать предмета, за который по другим занятиям ты не можешь приняться.
7) Не составляй себе мнения о человеке до тех пор, пока твой первый взгляд на него не изменится.
8) На всякое свое сочинение, критикуя его, не забывать смотреть с точки зрения самого ограниченного читателя, ищущего в книге только занимательности.
9) Не гадать ни об чем.
10) Всегда иметь вместе с другими работами одну такую, которая бы не допускала поправок и тем приучала бы к обдуманному, аккуратному, сосредоточенному труду.
22 октября. 11) Когда приходят мысли о изменении образа жизни, то обдумывать, откровенно ли внушает такую мысль рассудок, или по внушениям дурных наклонностей, — лени, непостоянства.
12) Записать все замечательное, случившееся со мной и виденное на Кавказе, и продолжать вести такого рода записки в дневнике, где бы я ни находился.
Мысли
16 октября 1853. 1) Испытываемое иногда непреодолимое желание заменить умственные занятия физическим трудом не есть признак непостоянства или лености, но необходимая потребность отдыха.
2) На охоте отдыхает ум и трудится тело; совершенно наоборот тому, что бывает в кабинетных занятиях, и поэтому-то она так и приятна столько же увлечением, сколько и этим совершенным отсутствием чувств и мыслей.
3) Не может быть, чтобы лекаря и колдуны не верили сами в свою силу. Они бессознательно стараются заглушить здравый смысл надеждой на случай и стараются говорить и действовать как можно необдуманнее, надеясь, что инстинкт откроет и покажет им истину.
4) Искусство писать хорошо для человека чувствительного и умного состоит не в том, чтобы знать, что писать, но в том, чтобы знать то, чего не нужно писать. Никакие гениальные прибавления не могут улучшить сочинения так много, как могут улучшить его вымарки.
5) Японцы справедливо думают, что сношения с иностранцами и долженствующие последовать от них заимствования вредны для народа, не умеющего отличать блестящего от полезного. Народу нужно пройти по трудной дороге открытия, чтобы уметь ценить его и пользоваться им.
[…] 7) Пробный камень ясного понимания предмета состоит в том, чтобы быть в состоянии передать его на простонародном языке необразованному человеку.
8) Так называемые порядочные люди, gens comme il faut, ставя себя весьма высоко в собственном мнении, как скоро выходят из своей сферы и входят в сферу, в которой не ценятся условные достоинства порядочности, падают гораздо ниже людей непорядочных, которые, не гордясь ничем, стараются приобретать хорошее. Первые смотрят сверху и бездействуют, поэтому падают; вторые смотрят снизу и трудятся, поэтому влезают.
9) Мнение, которое мы получаем при первом взгляде на человека, обыкновенно изменяется более или менее скоро, и до тех пор, пока не произошло этой перемены, всегда будешь или слишком хорошо, или слишком дурно судить о человеке. Как о предмете, до тех пор, пока не привел его в движение.
10) Интерес «Отрочества» должен состоять в постепенном развращении мальчика после детства и потом в исправлении его перед юностью.
11) Притом внутренняя история его должна для разнообразия уступать место внешней истории лиц его окружающих, так чтобы внимание читателя не постоянно было устремлено на один предмет.
Наблюдения
16 октября [1853 г.].
2) Малое расстояние между глаз (особенно с приподнятыми краями) есть один из малых несомненных физиогномических признаков, это есть признак глупости.
3) Зверчик, рассказывая мне про одного своего больного, сказал с удивительной уверенностью, что у этого человека болезнь ветряная — ветер поднялся, ну его и душить.
17 октября. 18 октября. 4) Часто отталкивающая нас холодность в людях происходит от сосредоточенности человека на одном занятии или от резкого различия сферы, в которой он живет, а мы принимаем эту холодность за гордость или мизантропию.
5) Народы мало образованные известны большей частью другим народам под названием, не имеющим ничего общего с настоящим именем, которым народ сам называет себя и корень которого доискаться весьма трудно. […]
6) Я видел во сне девушку, в которую был влюблен, и при этом с такой верностью воображение воспроизвело не ее, а меня, в том чудном состоянии души, когда человек бывает искренно влюблен, что я проснулся влюбленным. Когда душа человека во сне — не была развлеченной внешними предметами, и вступает в то состояние души, в котором находилась прежде (что случается и наяву, когда нам кажется, что какой-нибудь факт повторялся уже несколько раз), она воспроизводит все предметы, в то время отражавшиеся в ней. Это одна из причин сновидений. […]
7) В склонности простого русского народа перевирать названия есть какое-то основание. Никогда я не встречал, чтобы перевранное название было неблагозвучно и кроме того не имело бы русского названия и еще отношения к месту или лицу, которому оно принадлежит. Аргун — Варгунай, Невинномысская — Безвинка и так далее.
8) Один из замечательнейших признаков гибкости русского языка заметен в изменении повторяемого стиха в песнях, например, ни одной песни нет, особенно веселой, лихой, в которой этот refrain не изменялся бы иногда 3, 4 манерами, например:
По горенке милый ходит, Тяжело вздыхает (тяжко воздыхает, тяжко он вздыхает, плачет, воздыхает).И надо заметить, что эти изменения невольно бессознательны, когда он поет с увлечением.
9) Часто я замечал, как простой народ, в припадке учтивости, относит учтивые выражения к себе, или к животному, а тому, кому бы они, казалось, назначены, говорит ты.
[…]12) Мне часто случается вдруг испытывать необъяснимое беспокойство, тоску тяжелую и вместе приятную. Это признак рождения высокой мысли, — так сказать, моральные потуги.
12) У писателей, описывающих известный класс народа, невольно к слогу прививается характер выражения этого класса. Желание передать свою мысль выражается даже в образе выражения. При изустном рассказе это еще более заметно. Епишка, рассказывая про что-нибудь, из своего лица представляет неодушевленные предметы.
[…]14) Часто бессознательно обманываешь сам себя в важности приходящих мыслей. Стараешься не уяснять их себе, для того чтобы, уяснив и тем более выразив их, не увидать всю их пустоту.
15) На человека находит душевное затмение — т. е. такое положение, в котором он теряет способность различать хорошее от дурного и забывает свои обдуманные намерения. Такое положение бывает следствием или страсти, или, напротив, апатии, и есть переходная ступень от добра к пороку.
16) Отличное морское выражение: Якорь забрал.
Правила и предположения
Декабрь 1853 г. — январь 1854 г.
[…]1) Не обдумав поступок, будь нерешителен, обдумав, будь решителен.
2) Каждому делу предавайся вполне, стараясь сделать его наилучшим образом.
3) Всегда трудись.
4) Не лги.
5) Не тщеславься.
6) Не гадай.
7) Не мечтай.
8) Чем хуже положение, тем более усиливай деятельность.
9) Блюди порядок в физических и умственных занятиях.
10) В удовлетворении каждого чувства физического и морального будь воздержан.
Основные правила
1) Целью каждого поступка должно быть счастье ближнего.
2) Довольствоваться настоящим.
3) Искать случаев сделать добро.
Правила исправления
[…] 3) В тяжелом положении старайся чаще думать, что оно могло быть еще хуже.
4) Бойся праздности и беспорядка.
5) Ничего не ожидай от будущего.
6) Бойся лжи и тщеславия, которое производит ее.
7) В минуты сильных ощущений старайся принудить себя к бездействию.
8) Блюди порядок в физических и умственных занятиях.
9) Чем хуже положение, тем более усиливай деятельность.
10) Бойся тщеславия.
11) Преодолевай тоску трудом, а не развлечением.
12) Верь рассудку только тогда, когда убедишься, что никакая страсть не говорит в тебе.
Правила практические
1) Запоминать и записывать все полезные сведения и мысли.
2) Не начинать ни нового чтения, ни нового сочинения, не окончив старого. Исключая «Роман русского помещика».
3) Стараться делать движение как можно регулярнее.
4) Не составляй себе мнения о человеке до тех пор, пока твой первый взгляд не изменится.
5) Поступки людей объясняй не своими чувствами, а теми, которые ты в них предполагаешь.
6) Не гадай.
7) Дурно ли, хорошо — всегда работать.
8) Вставать рано — до солнца.
9) По субботам пересматривать все сделанное в продолжение недели.
10) Писать всегда и все четко и ясно.
11) Быть воздержанным в питье и пище.
12) Не давать и не занимать денег.
13) Начатое, даже дурное дело не оставлять, не окончив.
14) С утра определять занятия на день и стараться исполнять их.
15) Не верить мыслям, родившимся в споре.
16) Жить всегда одному.
17) Не повторять чужих мыслей.
18) Не брать карт в руки.
19) Стараться сделать приятной жизнь людей, связанных со мною.
20) Избегать б….. и пьяниц.
21) Записывать приход и расход.
22) Верить первому побуждению.
23) Каждый день перечитывать все правила.
24) Каждый месяц из дневника выписывать правила.
Правила литературные
1) Цель всякого сочинения должна быть польза — добродетель.
2) Предмет сочинения должен быть высокий.
3) Избегать рутинных приемов.
4) Окончив сочинение начерно, пересматривай его, исключая из него все лишнее, но не прибавляя ничего. […]
Предположения
1) Издавать нравственный журнал.
2) Составить религиозное руководство простому народу в проповедях.
3) Написать русскую историю с Михаила Романова до Александра Благословенного, объясняя человечески все исторические события.
4) Исправить молитвы.
5) Составить для памяти выписку из русской истории.
6) Написать правила для жизни в деревне.
7) Написать общие правила для жизни.
8) Время изгнания употребить на усовершенствование характера.
9) Написать «Роман русского помещика».
10) Писать мелкие полезные рассказы. Вписывать в дневник только правила и замечания, относящиеся до предположенных работ.
Стараться запоминать преступления правил и записывать их.
Отдавать приказания только тогда, когда спокоен.
Не следовать безусловно правилу, не испытав его.
Избегать противоречия вообще, тем более с людьми близкими.
Как только мысль с трудом вклеивается в рассказ, записывай ее в примечаниях и, не останавливаясь на ней, иди дальше.
Ежедневно делай движение на воздухе.
Блюди порядок в одежде: он даст спокойствие в приемах.
Избегай осуждений и пересказов.
Избегай каждого движения и выражения, могущего оскорбить другого.
Пиши 1) начерно, не обдумывая места и правильности выражения мыслей; 2) раз переписывай, исключая все лишнее и давая настоящее место каждой мысли, и 3) раз переписывай, исправляя неправильности выражений.
С 9-го по 17-е.
1) Сочинение кажется гораздо лучше, когда его читаешь, чем когда его пишешь.
2) Начинать готовить успех с низших ступеней — в судах с писарей.
3) Не позволять себе расходов, делаемых для тщеславия.
4) Плотские страсти находят удовлетворение в настоящем, душевные страсти — честолюбие, корысть — в будущем, совесть — только в прошедшем.
1854
2 генваря. [Старогладковская. ] Встал не рано, писал целое утро третью главу «Его прошедшее»*, кажется хорошо, по крайней мере, писал с увлечением.
[…] Вписывать в дневник только мысли, сведения или примечания, относящиеся до предполагаемых работ. Начиная каждую работу, пересматривать дневник и выписывать из него все к ней относящееся на особую тетрадку. Правила выписывать из дневника каждый месяц. Запоминать и записывать карандашом каждый день все преступления правил и вписывать в дневник.
3 генваря. Предположено было писать утром «Роман русского помещика», что и исполнил, хотя мало. Вечером — «Записки фейерверкера», что и исполнил, хотя принялся поздно, потому что после обеда валялся и перечитывал письма Татьяны Александровны.
[…] После Бородина священники по одному убеждению долга сами принимали на себя обязанность хоронить тела, лежавшие без погребения до отступления Наполеона и распространявшие заразу. Такие и военные подвиги оставались не только без награды, но и неизвестными, так как совершавшие их избегали говорить о них, боясь наказания за противозаконные поступки, в которые они их вовлекали. Например, священник, дравшийся с французами, не думал о награде, а только боялся наказания.
Не назначать себе правила, не испытав его. […]
4 генваря. Предположено было утром писать «Роман русского помещика», вечером «Записки фейерверкера», пойти на охоту, ежели хороша погода, и спросить денег. Все утро писал «Роман русского помещика», но так мало и неудовлетворительно, что продолжал с сумерек до ужина, но только сделал вымарки. После же обеда читал «Инвалиды». Разговор с Воейковым не дается мне*.[…]
5 генваря. Утром писать «Роман русского помещика». Не только утро, но и после обеда усердно бился над четвертой главой и только при огне написал ее, хотя и не остался совершенно доволен.
[…]Часто в сочинении задерживает желание вклеить хорошую или хорошо выраженную мысль; поэтому, как только мысль с трудом вклеивается, вписывать ее в дневник, не останавливаясь на желании поместить ее именно там-то. Мысль сама найдет себе место. […]
6 генваря. Утром «Роман русского помещика». Выписывал утром из старой тетради пятую главу «Иван Чурис», но под предлогом холода ленился. Гулять до обеда. Только что вышел, позвали обедать; после обеда гулял, пил кофе и играл с мальчишками. Писать «Записки фейерверкера». Раскрыл тетрадь, но ничего не написал, а до ужина болтал с Чекатовским о солдатиках. За ужином завязался метафизический разговор. После ужина весело болтал с Епишкой.
Бесстрастие, то есть всегда одинаковый, хладнокровный взгляд, составляет мудрость стариков.
Солдат Жданов дает бедным рекрутам деньги и рубашки. Теперешний фейерверкер Рубин, бывши рекрутом и получив от него помощь и наставления, сказал ему: когда же я вам отдам, дяденька? — Что ж, коли не умру, отдашь, а умру, все равно останется, отвечал он ему.
Я встретил безногого угрюмого солдата и спросил, отчего у него нет креста. Кресты дают тому, кто лошадей хорошо чистит, сказал он, отворачиваясь. И кто кашу сладко варит, подхватили, смеясь, мальчишки, шедшие за ним.
Спевак, строевой ефрейтор, получил от Рубина на сохранение 9 р. сер. Он пошел гулять и вынул их с своими деньгами. Ночью у него украли их; и, несмотря на то, что Рубин не упрекал его, он не переставая плакал, убивался от своего несчастия. Рекрутик Захаров просил Рубина успокоить его, предлагая свой единственный целковый. Взвод сделал складчину и выплатил долг*.[…]
7 января. Предположил утром быть на охоте. Встал довольно рано, но написал письмо, прежде чем пойти на охоту. Пороша была дурная, поэтому не убил ничего и вернулся к обеду. Громан приехал и едет в Тифлис. Он добрый и честный малый. После обеда писать «Записки фейерверкера». После ухода офицеров заснул и спал до чаю. Пришел Чекатовский и снова помешал мне. После ужина сидел у Жукевича и теперь, ничего не сделав в целый день, ложусь.
Русский — или вообще простой — человек в минуту опасности любит показывать, что чувствует, или действительно чувствует больше страха потерять порученные ему или собственные вещи, чем жизнь.
[…] Епишка с Гичиком на вечерней заре отправлялись в буруны и ехали до петухов. Чтобы узнать, где есть аулы и табуны, Епишка выл по-волчьи. Когда собаки откликались, они подъезжали к аулу, ловили лошадей и гнали их к дому. Но часто блудили — а до зари не вернуться домой, беда! — тогда Епишка слезал с коня и пускал его вперед, сказав, что он убьет его, ежели он обманет. Конь выводил к станицам. Тогда, привязав сначала коней в тернах, Гичик переправлял Епишку, и этот последний гнал коней в горы, продавал за 1/10 цены, прятал бумажки в заправы и возвращался. […]
8 генваря. Утром «Роман русского помещика». Писанье не шло как-то. Нужно следовать правилу исключать, не прибавляя. Обедали рано. Гулять. Гулял после обеда.
Вечером писать «Записки фейерверкера». Писал довольно много, но принялся поздно, от холоду. Часа два в сумерках лежал на печке. Быть одному. Никто и не приходил. Страшный холод второй день много мешает мне.
Нужно писать начерно, не обдумывая места и правильности выражения мыслей. Второй раз переписывать, исключая все лишнее и давая настоящее место каждой мысли. Третий раз переписывать, обрабатывая правильность выражения.
Избегай осуждения и пересказов.
Солдаты носят суконные нагрудники.
Избегай каждого движения или выражения, могущего оскорбить другого. […]
9 генваря. Выписывать правила. Исполнил только вечером, и то не в книгу, а в тетрадку. Вообще я не решился насчет правил. Хотя знаю, что они полезны, не знаю, как воспользоваться ими. Кажется, что я их разделю на испытанные и неиспытанные. Пересмотреть написанное. Тоже исполнил, только поздно вечером и почти ничего не переправил. Гулять. Гулял до обеда. Спросить у Алексеева о представлении. Исполнил, когда он был у меня.
Холод страшный, и притом у меня насморк, что вместе побудило меня провести весь день без мыслей и без дела. Писать «Записки фейерверкера», ежели успею. Не успел вечером, хотя был в духе.
Отступления: 1) Встал поздно. 2) Разгорячился, прибил Алешку. 3) Ленился. 4) Был беспорядочен. 5) Был грустен. […]
[11 января. ] 10 и 11 генваря. 10-го утром — «Роман русского помещика». Встал очень поздно и от холода ничего не мог делать. Притом же Жукевич, Епишка и ногайцы мешали мне. Гулять и переписать письмо Пелагее Ильинишне. Вышел гулять, но от холода тотчас же вернулся. Письмо кое-как переписал. Вписать мысли и правила. Не сделал. Вечером «Записки фейерверкера». От холода после обеда ушел к Жукевичу и безалаберно провел весь вечер и ночь.
1) Валялся. 2) Падал духом. 3) Злился — ударил кошку и 4) вообще забыл о правилах. 5) Гадал. […]
11 [января]. Утром пришел домой, но Жукевич и разные посетители не позволили ничем заняться. После обеда пришли Оголин, Жукевич, кунаки из Старого Юрта и до сумерек не давали мне покою. Во время чая пришел Чекатовский. Я жаловался ему на свои несчастия и только ¼ страницы успел написать «Записок фейерверкера». Узнал, что Кноринг убит.
1) Осуждал, 2) ленился, 3) не имел решительности и 4) вообще упал духом. 5) Гадал. […]
12 генваря. Утром гулять и «Роман русского помещика». Встал очень поздно. Пригрелся — почти угорел против печки, а насморк увеличился. Притом же пришел Оголин, и я ничего не писал. Гулять. Исполнил. После обеда. Мысли и правила. Придя домой, лег на кровать и заснул. Проснувшись, открыл тетрадь и обдумал, но не написал основную мысль. Вечером «Записки фейерверкера». Тоже раскрыл тетрадь, но вместо дела мечтал о Турецкой войне и Калафате. За ужином узнал, что переведен в 12 бригаду*, и решился заехать домой. […]
13 генваря. Утром писать «Отрочество». Утром встал поздно, ходил в канцелярию, к Жукевичу и Кирке. Написал только письмо Сулимовскому. Вечером «Записки фейерверкера». Вечер провел то с офицерами, то с юнкерами. Только немного переписал «Песни лебедя»* и пересмотрел старое. Узнать о шубе. Исполнил. Спросить денег. Не исполнил. После ужина написал дерзкое письмо редактору.
1) Ленился, 2) был нерешителен, 3) солгал, что был знаком с Сухотиным. […]
14 генваря. Утром и вечером писать «Отрочество». Хотя встал не рано и не слишком усердно, но принялся за дело, когда пришли офицеры, и я имел слабость не только не удалить их, но и выпить с ними лишнее. […] До ужина написал листа два. Да после ужина — один. […]
16 генваря. […]Меня поразила нынче поэтической красотой зимняя погода. На небе поднявшийся туман, сквозь который только белеется солнышко. На дороге начинающий оттаивать навоз, и в воздухе влажная сырость. […]
[17 января. ] События. Смерть Кноринга и мой перевод. Занятия. Пересмотрел «Отрочество». Четыре мысли к правилам и одна к рассказам. Главные отступления: лень, нерешительность, беспорядочность и тоска. Расходов 12–10. Вообще недоволен итогами всей недели.
Пересмотрел.
19 января [Щедринская] (вторник). Докончить «Отрочество» и уехать. Исполнил. Встал рано и до самого отъезда писал или хлопотал. Отслужил молебен — из тщеславия. Алексеев очень мило простился со мной. Он и Жукевич прослезились. Доехал до Щедринской. Перечел «Отрочество» и решил не смотреть его до приезда домой, а дорогой писать кавказские «Записки фейерверкера».
Вчера очень поразило меня то, что правила, которые я с таким трудом составляю, все и гораздо лучше, чем у меня, написаны в азбучке. Так что мне кажутся — не правила, а записыванье их — пустяками. Франклиновский журнал — другое дело. Выписывать главные пороки и стараться избегать их. И писать мысли. Стало быть, в моем образе занятий только та перемена, что заменяется только тетрадка правил тетрадкой Франклиновской.
Нынче, думая о том, что я полюбил людей, которых не уважал прежде, — товарищей, я вспомнил, как мне странна казалась привязанность к ним Николеньки. И перемену своего взгляда я объяснял тем, что в кавказской службе и во многих других тесных кружках человек учится — не выбирать людей, а в дурных даже людях видеть хорошее.
Казачка сказала мне, что, говорят, Турцию распустили.
В «Отрочестве» я решил сделать следующие поправки.
1) Укоротить главу «Поездка на долгих». 2) «Грозу» — упростить выражения и исключить повторения. 3) «Машу» сделать приличней. 4) Соединить «Единицу» с «Дробью». 5) «Ключик» — прибавить то, что найдено в портфеле. 6) «Мечты о матери» изменить. 7) Приискать заглавие «Перемелется, мука будет». 8) «Дубков и Нехлюдов» — переменить начало и добавить описание нас самих и нашего положения во время беседы*.[…]
20 [января. Старый Юрт]. Встал рано. Приехал в Николаевскую и Старый Юрт. Известие о том, что мне не вышло креста, очень огорчило меня; но странно — через час я успокоился. Сулимовский достал мне оказию, и еду завтра, не останавливаясь. […]
21 генваря. [Галюгаевская. ] […] Вот факт, который надо вспоминать почаще. Теккерей 30 лет собирался написать свой первый роман, а Александр Дюма пишет по два в неделю.
Никому не нужно показывать, до напечатания, своих сочинений. Больше услышишь суждений вредных, чем дельных советов. […]
22, 23, 24, 25, 26, 27 января. Был в дороге. 24-го в Белогородцевской, 100 верст от Черкасска, плутал целую ночь. И мне пришла мысль написать рассказ «Метель»*.[…]
Ничто так не порадовало меня и не напомнило мне Россию дорогой, как обозная лошадь, которая, сложив уши, несмотря на раскаты саней, галопом старалась обогнать мои сани. […]
28, 29, 30, 31 января. 1, 2 февраля. [Ясная Поляна. ] Ровно две недели был в дороге. Поразительного случилось со мной только метель. Вел же я себя довольно хорошо. Ошибки мои были: 1) Слабость с проезжающими. 2) Ложь. 3) Трусость. 4) Рассердился раза два.
Николеньки и Сережи нет, а мне столько хочется подумать, поделать и почувствовать, что писать буду мало в дневник.
2 февраля. Проснулся поздно, поговорил с старостой и Осипом, нашел все в лучшем порядке, чем ожидал. Обошел хозяйство. Нездоровится. Приехал Валерьян. […]
[3 февраля. ] 3 января*. Проснулся рано, горло болит, несмотря на что поехал на мельницу и осмотрел место для конного двора. Болтал все больше о хозяйстве, послал письмо Щелину. Говорят, я произведен*.[…]
4 февраля. Встал рано, после тяжелой, беспокойной и бессонной ночи. Написал письмо Готье, съездил в церковь, отобедал, написал приказания и встретил тетеньку. Очень нездоровится.
[…] Главный недостаток моего характера и особенность его состоит в том, что я слишком долго был морально молод и только теперь, 25 лет, начинаю приобретать тот самостоятельный взгляд на вещи — мужа, который другие приобретают гораздо раньше 20 лет. […]
6 февраля. Встал рано, распорядился кое-чем, взял с собой деньги 600 р. в Совет и поехал в Тулу. Видел Гелке и кончил с ним дело, хотя и не совсем хорошо, но удовлетворительно.
[…] Происшествия с 17 [января] по 6 [февраля]. Выехал 19-го в Старый Юрт, узнал неудачу о кресте. Ехал дурно и плутал одну памятную ночь. 2-го февраля приехал в Ясную, усталый и нездоровый, нашел дела в порядке, а себя отставшим, исправившимся и устарелым. Братья уехали в Москву. Арсеньев умер, Черкасский и Нератов зарезались. 6-го был в Туле, кончил дело с Гелке и узнал о своем производстве.
Занятия. Докончил «Отрочество». Решился уничтожить записывание и приведение в порядок правил. Придумал три правила, необходимые для успеха в жизни. Сделал много распоряжений, написал несколько писем, но вообще немного отстал от порядка и деятельности. […]
8 февраля. [Покровское. ] В 12 часов мы выехали и в 9 приехали*. Я вел себя дорогой не совсем хорошо. Маша и тетенька очень милы, и я не видал, как прошел день. […]
10 февраля. Встал часов в 9, пошел во флигель, там написал письмо Алексееву, был у баронессы и хотя был неловок, но не стыдлив. После обеда написал завещание* и болтал. […]
13 февраля. [Ясная Поляна. ] 11 кончил дело с завещанием и выехал в 10, приятно болтал дорогой с Вергани, дома застал всех братьев и Перфильевых. Митенька огорчил, Сережа порадовал меня. Получил письмо от Некрасова, он недоволен «Рассказом маркера»*. Ничего не делал оба дня. Но провел их очень приятно, несмотря на горловую боль. […]
16, 17, 18 февраля. [Москва. ] Ничего не помню, исключая того, что приехал в Москву. Беспорядочен физически и морально и сделал слишком много расходов. […]
14 марта 1854 года. Букарест*. Начинаю новую тетрадь дневника после почти месячного промежутка, во время которого я так много переиспытал, перечувствовал, что мне не было времени думать и еще меньше записывать. С Кавказа я приехал в Тулу, видел теток, сестру, Валерьяна и узнал о своем производстве. Все три брата и Перфильевы приехали ко мне и увезли меня в Москву. Из Москвы я проехал в Покровское, там простился с тетушкой Пелагеей Ильиничной, Валерьяном, с Машей и Сережей. Эти два прощанья — особенно последнее — были одни из счастливейших минут в моей жизни. Оттуда поехал к Митеньке, который почти по моему совету бросил Москву, — и через Полтаву, Кишинев и т. д. третьего дня приехал в Букарест. Я был счастлив все это время!
Служебное положение мое здесь неопределенно, и я уже с неделю снова сомнительно болен. Неужели снова начнется для меня пора испытаний?
Впрочем, я сам виноват, счастье избаловало меня: я опустился и во многом имею упрекнуть себя со дня выезда моего из Курска и до сей минуты. Грустно убедиться, что я не умел переносить счастия так же, как и не умел переносить несчастия. Нынче пойду к командиру дивизии в корпусной штаб, сделаю кой-какие покупки, погуляю и приду домой писать письма и обедать. После обеда займусь чем-нибудь и перед вечером поеду в баню. Вечер просижу дома и займусь «Отрочеством».
15 июня. Ровно три месяца промежутка. Три месяца праздности и жизни, которой я не могу быть доволен. Недели три я был у Шейдемана и жалею, что не остался. С офицерами бы я ладил и с батарейным командиром умел бы устроиться. Зато дурное общество и затаенная злоба от своего неблестящего положения хорошо бы подействовали на меня. Я сердился бы, скучал, старался бы подняться морально над своим положением и стал бы лучше — работал бы.
Откомандирование меня в штаб* пришло в то самое время, когда я поссорился с батарейным командиром, и польстило моему тщеславию. Болезнь моя, во время которой я не мог даже вернуться на старую колею занятий и честного труда с одной целью добра, доказала мне, до какой степени я испортился. Чем выше я становлюсь в общественном мнении, тем ниже я становлюсь в собственном. Я имел несколько раз женщин, лгал, тщеславился и, что всего ужаснее, под огнем вел себя не так, как надеялся от самого себя.
[…]В последний раз говорю себе:
Ежели пройдет три дня, во время которых я ничего не сделаю для пользы людей, я убью себя.
Помоги мне, господи.
До обеда пишу письма: Сереже и теткам, Волконской, ежели успею. После обеда продолжаю «Записки фейерверкера».
23 июня. Во время перехода от Силистрии к Маю я ездил в Букарест. Я играл и принужден был занимать деньги. Положение, унизительное для каждого, и для меня в особенности. Написал письма: тетеньке, Мите, Некрасову и Оське. Все еще не знаю, за что приняться, и поэтому ничего не делаю. Кажется, что лучше всего работать за «Романом русского помещика».
24 июня. С утра сел за работу; но ничего не сделал и рад был, когда мне пришел помешать Горчаков. После обеда у генерала читал Беранже, ездил к доктору, который объявил мне, что мне должно делать операцию и лечиться месяца полтора, и болтал до ночи с Шубиным о нашем русском рабстве. Правда, что рабство есть зло, но зло чрезвычайно милое.
2 июля. Читал Gilbert и Gilberte*. Здоровье все status quo[16]. «Записки фейерверкера» все более определяются, нынче, 3 июля, кажется, займусь.
3-го июля. Целый день читал, работа никак не хочет идти. Вечером болтал с Прушинским, Олхиным и Андроповым. Проиграл глупо Прушинскому porte-feuille Поленькин и, несмотря на его отговорки, отдал ему.
Невольно, как только я остаюсь один и обдумываю самого себя, я возвращаюсь к прежней мысли — мысли об усовершенствовании; но главная моя ошибка — причина, по которой я не мог спокойно идти по этой дороге, — та, что я усовершенствование смешивал с совершенством. Надо прежде понять хорошенько себя и свои недостатки и стараться исправлять их, а не давать себе задачей — совершенство, которого не только невозможно достигнуть с той низкой точки, на которой я стою, но при понимании которого пропадает надежда на возможность достижения. То же, что было со мной в хозяйстве, в ученье, в литературе, в жизни. В хозяйстве я хотел достигнуть совершенства и забывал, что прежде нужно было исправить несовершенства, которых слишком много, хотел правильного разделения полей, когда мне нечем было их удабривать и сеять.
Нужно взять себя таким, каким есть, и исправимые недостатки стараться исправить, хорошая же натура поведет меня к добру без книжки, которая столько времени была моим кошмаром*. Я один из тех характеров, которые, желая, отыскивая и готовые на все прекрасное, не способны именно поэтому к постоянно хорошему.
4 июля. Главные мои недостатки. 1) Неосновательность (под этим я разумею: нерешительность, непостоянство и непоследовательность). 2) Неприятный тяжелый характер, раздражительность, излишнее самолюбие, тщеславие. 3) Привычка к праздности. Буду стараться постоянно наблюдать за этими тремя основными пороками и записывать всякий раз, что буду впадать в них. […]
5 июля. Читал во время чаю, обеда и десерта, утро же все писал одно письмо тетеньке, которое пошлю, несмотря на то, что французский слог его мне очень не нравится. Мне со дня на день становится труднее объясняться и писать по-французски, надо же эту глупую манеру писать и говорить на языке, который плохо знаешь! А сколько хлопот, потерянного времени, неясности в мыслях и нечистоты в природном языке из-за этой манеры, а необходимо!
Вечером написал с главу «Записок фейерверкера» с увлечением и порядочно. Олхин два раза был у меня, чего мне совершенно не нужно записывать, потому что чудесные выражения глупости, которые вырывались у него, я не запомню от того, что запишу их. Поел фруктов, несмотря на понос, и поручил Олхину нанять фортепьяно, вот две ошибки против основательности. Главный мой недостаток состоит в недостатке терпимости к себе и другим. Это не правило, а мысль, которую почему не записать сюда. Она напомнит через несколько времени то моральное состояние, в котором я находился 5-го июля 1854 года.
6 июля. Целый день читал то Лермонтова, то Гете, то Alphonse Karr’a* и не мог приняться за дело. […]
7 июля. Скромности у меня нет! вот мой большой недостаток.
Что я такое? Один из четырех сыновей отставного подполковника, оставшийся с 7-летнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17-ти лет, без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил; человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие года своей жизни, наконец изгнавший себя на Кавказ, чтоб бежать от долгов и, главное, привычек, а оттуда, придравшись к каким-то связям, существовавшим между его отцом и командующим армией, перешедший в Дунайскую армию 26 лет, прапорщиком, почти без средств, кроме жалованья (потому что те средства, которые у него есть, он должен употребить на уплату оставшихся долгов), без покровителей, без уменья жить в свете, без знания службы, без практических способностей; но — с огромным самолюбием! Да, вот мое общественное положение. Посмотрим, что такое моя личность.
Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим (intolérant) и стыдлив, как ребенок. Я почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как сам, урывками, без связи, без толку и то так мало. Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. Я умен, но ум мой еще никогда ни на чем не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового. Я честен, то есть я люблю добро, сделал привычку любить его; и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием; но есть вещи, которые я люблю больше добра, — славу. Я так честолюбив и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них.
Да, я нескромен; оттого-то я горд в самом себе, а стыдлив и робок в свете.
Утром писал эту страницу и читал «Louis Philipp’a»*. После обеда уже очень поздно начал писать «Записки фейерверкера» и до вечера написал довольно много, несмотря на то, что у меня были Олхин и Андропов. После ухода Андропова я облокотился на балкон и глядел на свой любимый фонарь, который так славно светит сквозь дерево. Притом же после нескольких грозовых туч, которые проходили и мочили нынче землю, осталась одна большая, закрывавшая всю южную часть неба, и какая-то приятная легкость и влажность в воздухе.
Хозяйская хорошенькая дочка так же, как я, лежала в своем окне, облокотившись на локти. По улице прошла шарманка, и когда звуки доброго старинного вальса, удаляясь все больше и больше, стихли совершенно, девочка до глубины души вздохнула, приподнялась и быстро отошла от окошка. Мне стало так грустно-хорошо, что я невольно улыбнулся и долго еще смотрел на свой фонарь, свет которого заслоняли иногда качаемые ветром ветви дерева, на дерево, на забор, на небо, и все это мне казалось еще лучше, чем прежде. […]
8 июля. Утром читал и писал немного. Вечером побольше, но все не только без увлечения, но с какою-то непреодолимой ленью. Решился не брать фортепьян и ответил Олхину, что у меня денег нет, чем он, верно, обиделся, тем более, что я подписал просто «весь ваш». Открыл я нынче еще поэтическую вещь в Лермонтове и Пушкине; в первом «Умирающий гладиатор» (эта предсмертная мечта о доме удивительно хороша) и во втором Янко Марнавич, который убил нечаянно своего друга. Помолившись усердно и долго в церкви, он пришел домой и лег на постель. Потом он спросил у жены, не видит ли она чего-нибудь в окне, она отвечала, что нет. Он еще раз спросил, тогда жена сказала, что видит за рекой огонек; когда он в третий раз спросил, жена сказала, что видит — огонек стал побольше и приближается. Он умер. Это восхитительно! А отчего? Подите объясняйте после этого поэтическое чувство.
9 июля. Утро и целый день провел, то пиша «Записки фейерверкера», которые, между прочим, кончил, но которыми так недоволен, что едва ли не придется переделать все заново или вовсе бросить, но бросить не одни «Записки фейерверкера», но бросить все литераторство; потому что ежели вещь, казавшаяся превосходною в мысли, — выходит ничтожна на деле, то тот, который взялся за нее, не имеет таланта. То читал Гете, Лермонтова и Пушкина. Первого я плохо понимаю, да и не могу, как ни стараюсь, перестать видеть смешное (du ridicule) в немецком языке. Во втором я нашел начало «Измаил-Бея» весьма хорошим. Может быть, это показалось мне более потому, что я начинаю любить Кавказ, хотя посмертной, но сильной любовью. Действительно, хорош этот край дикий, в котором так странно и поэтически соединяются две самые противоположные вещи — война и свобода. В Пушкине же меня поразили «Цыгане», которых, странно, я не понимал до сих пор.
Девизою моего дневника должно быть «Non ad probandum, sed ad narrandum»[17].
11 июля. Перечитывал «Героя нашего времени», читал Гете и только перед вечером написал очень мало. Почему? Лень, нерешительность и страсть смотреть свои усы и фистулы. За что и делаю себе два упрека. Нынче Боборыкину, который был тут и едет к генералу, поручил свой рапорт о переводе*. Еще упрек за то, что посмеялся над Олхиным при Боборыкине.
11 июля. Утром Олхин пришел мне объявить, что он едет в Леово, и хотел поручить своих лошадей и вещи, от чего я невольно отделался, сказав ему, что у меня нет денег. В самом деле, я опять в самом затруднительном денежном положении: ни копейки, по крайней мере, до половины августа, не предвидится ниоткуда, исключая фуражных, и должен доктору. Не предвидится, я говорю, потому что нынче получил «Современник» и убежден, что рукописи мои сидят где-нибудь в таможне*. Это дело я разъясню, как выздоровлю. Вечером я имел случай испытать воображаемость своего перерождения к веселой жизни. Хозяйская прехорошенькая замужняя дочь, которая без памяти глупо кокетничала со мной, подействовала на меня — как я ни принуждал себя — как и в старину, то есть я страдал ужасно от стыдливости.
Нынче в разговоре с доктором исчез глупый и несправедливый взгляд, который я имел на валахов, — взгляд, общий всей армии и заимствованный мной от дураков, с которыми я до сих пор водился. Судьба этого народа мила и печальна. Читал я нынче и Гете и Лермонтова драму*, в которой нашел много нового, хорошего, и «Холодный дом» Диккенса. Вот уже второй день, что я покушаюсь сочинять стихи. Посмотрим, что из этого выйдет.
Упрекнуть должен себя нынче только за лень, хотя писал и обдумал вперед много хорошего, но слишком мало и лениво.
12 июля. С утра чувствовал в голове тяжесть и не мог преодолеть себя, чтобы заниматься. Весь день читал «Современник». […]
14 июля. Утром, кроме обыкновенного чтения Гете и подвертывавшихся книжонок, написал Жданова, но насчет личности Веленчука все еще не решился*.[…]
Может быть, я не переработаю свой характер, а сделаю только одну и важную глупость из желания переработать его. Есть ли нерешительность капитальный недостаток — такой, от которого нужно исправляться? Не есть ли два рода характеров одинаково достойные: одни решительные, другие обдуманные? Не принадлежу [ли] я к последним? И желание мое исправиться не есть ли желание быть тем, чем я не есмь, как говорит A. Karr? Мне кажется, что это правда. Есть недостатки более положительные (абсолютные), как-то лень, ложь, раздражительность, эгоизм, которые всегда недостатки.
15 июля. Рано нынче разбудил меня доктор, и, благодаря этому случаю, я написал в утро довольно много — все переделывал старое — описание солдат. Вечером тоже пописал немного и читал «Verschwörung von Fiesko»*. Я начинаю понимать драму вообще. Хотя в этом я иду совершенно противоположным путем большинству, я доволен этим как средством, дающим мне новое поэтическое наслаждение. […]
[20 июля. Маро-Домняско. ] 19, 20 июля. Вчера утро читал и сбирался к отъезду. Вечером выехал самым безалаберным и нерешительным образом с Малышевым в Мара-Домняска, где и пробыл нынешний день. За эти оба дня упрекаю себя 1) за нерешительность при выезде, 2) за раздражительность вчера утром с Алешкой и 3) немножко за лень вчера.
21 июля. [Синешти. ] Рано утром меня разбудили и повезли в Синешти. Вообще недоволен я сегодняшним днем. […] Вчера забыл записать удовольствие, которое мне доставил Шиллер своим «Рудольфом Габсбургским»* и некоторыми мелкими философскими стихотворениями. Прелестна простота, картинность и правдоподобная тихая поэзия в первом. Во втором же поразила меня, записалась в душе, как говорит Бартоломей, мысль, что, чтобы сделать что-нибудь великое, нужно все силы души устремить на одну точку. […]
22 июля. Опять переход, несмотря на который я бы был доволен сегодняшним днем, ежели бы не глупое требование Крыжановского, чтобы я ехал в Леово. Я ходил к нему утром и имел слабость и глупость не разбудить его; потом заснул, пообедал и написал немного. Здоровье хорошо, и завтра являюсь к обоим начальникам и подаю оба рапорта. Упрек за нерешительность с Крыжановским.
23 июля. Нынче с утра ходил объясняться и являться к начальству. Вышло, что Крыжановский сказал, чтобы я ехал в батарею. Тишкевич насплетничал мне это, и я шел к Крыжановскому с дрожащими губами. Но несмотря на всю злобу, я был слаб и позволил замаслить это дело. Остальное время дня читал хорошенькую повесть Бернара и написал письмо Валерьяну. Меньше, чем когда, я со дня своего выздоровления чувствую себя способным к общежитию и равнодушно-веселому взгляду на жизнь. Подал другой рапорт о переводе*.
Упрекаю себя за лень. В целый день ровно ничего не сделал.
24 июля. [Курешти. ] Утром Новережский с подтянутой мордой принес мне назад мой рапорт с надписью Крыжановского. Все эти мелкие неприятности так меня расстроили, что я решительно целый день был сам не свой, ленив, апатичен, не в состоянии ни за что приняться, с людьми молчалив, стыдлив до поту. Я это испытал у Боборыкина, сначала с Зыбиным, Фриде и Балюзек, а вечером с Крыжановским и Столыпиным. Я слишком честен для отношений с этими людьми.
Странно, что только теперь я заметил один из своих важных недостатков: оскорбительную и возбуждающую в других зависть — наклонность выставлять все свои преимущества. Чтобы внушить любовь к себе, напротив, нужно скрывать все то, чем выходишь из общего разряда. Поздно я понял это. Не буду подавать рапорта, пока не буду в состоянии завести лошадей, и употреблю все средства для этого. Пока не буду ни с кем иметь других отношений, как по службе. Упрекаю себя за лень.
29 июля. Исправление мое идет прекрасно. Я чувствую, как отношения мои становятся приятны и легки с людьми всякого рода, с тех пор как я решился быть скромным и убедился в том, что казаться всегда величественным и непогрешным вовсе не есть необходимость. Я очень весел. И дай бог, как мне кажется, чтобы веселье это происходило от самого меня; от желаний всем быть приятным, скромности, необидчивости и внимательности за вспышками. Тогда бы я всегда был весел и почти всегда счастлив. […]
30 июля. [Рымник. ] Сделал верхом переход до Рымника. […] Старик все не кланяется мне. Обе вещи эти злят меня. С встречавшимися башибузуками вел себя хорошо. Объяснился с Крыжановским. Он, не знаю зачем, советует мне прикомандироваться к казачьей батарее; совет, которому я не последую. Желчно спорил вечером с Фриде и Боборыкиным, ругал Сержпутовскому и ничего не сделал, вот три упрека, которые делаю себе за нынешний день.
31 июля. [Фокшаны. ] Еще переход до Фокшан, во время которого я ехал с Монго. Человек пустой, но с твердыми, хотя и ложными убеждениями. […] Отношения мои с товарищами становятся так приятны, что мне жалко бросить штаб. Здоровье кажется лучше.
1 августа. Встал поздно и все утро читал Шиллера, но без удовольствия и увлечения. После обеда, хотя и был в расположении заниматься, от лени написал чрезвычайно мало. […]
12 августа. Утро начал хорошо, поработал, но вечер! Боже, неужели никогда я не исправлюсь. Проиграл остальные деньги и проиграл то, чего заплатить не мог, — 3 тысячи рублей. Завтра продаю лошадь. […]
13 августа. Проснулся не поздно и утро работал хорошо, но после обеда зато, исключая — прекрасной комедии «Свои люди сочтемся»*, целый вечер шалопутничал. […]
15 августа. Встал рано и ездил в Одобешти. Прогулка эта как-то не удалась мне. Немного написал и очень плохо, спал, ездил на скачку и вечер провел дома. Повторяю то, что было уже мною написано: у меня три главные недостатка: 1) бесхарактерность, 2) раздражительность и 3) лень, от которых я должен исправляться. Буду со всевозможным вниманием следить за этими тремя пороками и записывать. Уже после, ежели я исправлюсь от этих, примусь за исполнение двух правил довольства и снискивания любви. Но и теперь буду стараться не упускать их из вида.
17 августа. [Текуча. ] Переход от Фокшан до Текучи, во время которого я как-то съехался с генералом и Столыпиным, проехал время приятно, ежели бы не завтрак, во время которого я был нерешительно-стыдлив. В полдень выспался, прочел чудную комедию «Бедность не порок»*, погулял и написал несколько страниц. […]
20 августа. Окончил «Рубку леса». Schwach[18]. Обедал у Столыпина, был слишком резок с Крыжановским. […]
24 августа. [Васлуй. ] Дневка в Аслуе. Я испытал нынче два сильных, приятных и полезных впечатления. 1) Получил лестное об «Отрочестве» письмо от Некрасова, которое, как и всегда, подняло мой дух и поощрило к продолжению занятий*, и 2) прочел З. Т. Как странно, что только теперь я убеждаюсь в том, что чем выше стараешься показывать себя людям, тем ниже становишься в их мнении.
[…]Все истины — парадоксы. Прямые выводы разума ошибочны, нелепые выводы опыта — безошибочны. Я осудил нынче Столыпина, гордился письмом Некрасова и ленился. 3) Важнее всего для меня исправление от бесхарактерности, раздражительности и лени.
6 сентября. [Скуляны. ] Важнее всего для меня в жизни исправление от лени, раздражительности и бесхарактерности. Любовь ко всем и презрение к себе!
11, 12, 13, 14, 15, 16 сентября. [Кишинев. ] Ездил в Летичев. Много нового и интересного. Болел зубами. […] Высадка около Севастополя мучит меня*. Самонадеянность и изнеженность: вот главные печальные черты нашей армии — общие всем армиям слишком больших и сильных государств.
[…]Получил «Детство» и «Набег». В первом нашел много слабого. Временная — при теперешних обстоятельствах — цель моей жизни — исправление характера, поправление дел и делание как литературной, так и служебной карьеры.
17 сентября. Вел себя дурно. Ничего не делал, вечер бегал за девками, против предположения выходил со двора. План составления общества сильно занимает меня*.[…]
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5 октября. План общества перешел в план журнала* — для большей части 7-ых, но не для меня и для Фриде. По случаю журнала я не еду, и журнал подвигается слабо; я мало работаю и веду себя дурно. Завтра приезжают князья*. Пускай это будет для меня эпохой. Мне необходимо написать статью в пробный листок. […]
21 октября. Много прожил я жизни в эти дни. Дела в Севастополе всё висят на волоске. Пробный листок нынче будет готов, и я опять мечтаю ехать. Столыпин, Сержпутовский, Шубин, Боборыкин едут и уехали. […]
2 ноября 1854. Одесса*. Со времени десанта англо-французских войск у нас было с ними три дела. Первое, Алминское, 8 сентября, в котором атаковал неприятель и разбил нас; второе дело Липранди 13 сентября, в котором атаковали мы и остались победителями, и третье, ужасное дело Даненберга, в котором снова атаковали мы и снова были разбиты. Дело предательское, возмутительное. 10 и 11 дивизия атаковали левый фланг неприятеля, опрокинули его и заклепали 37 орудий. Тогда неприятель выставил 6000 штуцеров, только 6000 против 30 [тысяч]. И мы отступили, потеряв около 6000 храбрых. И мы должны были отступить, ибо при половине наших войск по непроходимости дорог не было артиллерии и, бог знает почему, не было стрелковых батальонов. Ужасное убийство. Оно ляжет на душе многих! Господи, прости им. Известие об этом деле произвело впечатление. Я видел стариков, которые плакали навзрыд, молодых, которые клялись убить Даненберга. Велика моральная сила русского народа. Много политических истин выйдет наружу и разовьется в нынешние трудные для России минуты. Чувство пылкой любви к отечеству, восставшее и вылившееся из несчастий России, оставит надолго следы в ней. Те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы. Они с большим достоинством и гордостью будут принимать участие в делах общественных, а энтузиазм, возбужденный войной, оставит навсегда в них характер самопожертвования и благородства.
В числе бесполезных жертв этого несчастного дела убиты Соймонов и Камстадиус. Про первого говорят, что он был один из немногих честных и мыслящих генералов русской армии; второго же я знал довольно близко; он был членом нашего общества и будущим издателем журнала. Его смерть более всего побудила меня проситься в Севастополь. Мне как будто стало совестно перед ним.
Английские пароходы продолжают блокировать Одессу. Море, к несчастию, тихо. Говорят, что 27 было дело опять без результатов и что 3 будет приступ. Я не успею приехать раньше 5-го, но мне чудится, что я еще не опоздаю.
[3 ноября. ] 3 октября*. В Одессе рассказывали мне трогательный случай. Адъютант дежурного генерала приехал в N-ский госпиталь, где лежат раненые 4-го корпуса из Крыма. Главнокомандующий князь Горчаков, сказал он им, приказал благодарить вас за храбрую вашу службу и узнать… Урра! — раздались слабые и недружные голоса со всех коек. Славная, великая награда Горчакову за его труды. Лучше портрета на шею.
На перевозе в Николаеве лоцман рассказывал мне, что 26-го было дело, на котором отличился Хомутов, взял будто пропасть пленных и орудий, но что 26-го из 8000 наших воротились только 2 тысячи. В Николаеве[?] офицер подтвердил эти слухи. Нахимов и Липранди, говорят, ранены. Неприятель получил подвоз войск и располагается на зимовые квартиры. Бог знает, что правда. Еще рассказывал мне лоцман анекдот про казака, который поймал арканом и вел аглицкого князька и вел к Менчикову. Князек выпалил в казака из пистоля. Ей, не стреляй, сказал казак. Князек еще раз выпалил и опять не попал. Ей, не балуй, сказал казак. Князек в третий раз (всегда до трех раз) промахнулся. Казак начал его лупить плетью. Когда князек пожаловался Менчикову, что казак его бил, казак сказал, что он его учил стрелять, коли он начальник, да не умеет палить, что же его казаки вовсе не будут знать. Менчиков рассмеялся. Вообще в народе больше слышно о англичанах, чем о французах.
[5 ноября. ] 4, 5 октября. [В пути из Одессы в Севастополь. ] В Николаеве не мог ничего видеть. Слухи же не пишу, потому что оказались все нелепы: после 24, исключая осадных работ, ничего предпринимаемо не было.
От Херсона до Олешко везли меня на лодке. Лоцман рассказывал про перевоз солдат: как солдат в проливной дождь лег на мокрое дно лодки и заснул. Как офицер прибил солдата за то, что он почесался, и как солдат на перевозе застрелился от страху, что просрочил два дня, и как его бросили без похорон. Теперь лодочники пугают друг друга, проезжая речкой мимо того места, где брошен солдат. «Какой роты?» — кричат они.
[…]Видел французских и англицких пленных, но не успел разговориться с ними. Один вид и походка этих людей почему-то внушили в меня грустное убеждение, что они гораздо выше стоят нашего войска. Впрочем, для сравнения у меня были фурштаты*, провожавшие их.
Ямщик, привезший меня сюда, рассказывал, что 24 мы бы совсем забрали англичан, коли бы не измена. Грустно и смешно. «Онадысь, говорит, провезли шестериком железную карету, должно, под Менчикова». Встретил и своих раненых, славный народ, жалеют начальство и говорят, что они несколько раз ходили на приступ, но не могли удержаться, потому что обходил левый фланок; они рады придраться к одному непонятному, следовательно для них многозначительному, слову, чтобы им объяснять неудачу. Им слишком бы грустно было верить в измену.
11 ноября. [Севастополь. ] Я приехал 7-го, все слухи, мучившие меня дорогой, оказались враньем. Я прикомандирован к 3 легкой* и живу в самом городе. Все укрепления наши видел издали и некоторые вблизи. Взять Севастополь нет никакой возможности — в этом убежден, кажется, и неприятель — по моему мнению, он прикрывает отступление. Буря 2-го ноября выкинула до 30 судов — 1 корабль и 3 парохода.
Общество артиллерийских офицеров в этой бригаде, как и везде. Есть один, очень похожий на Луизу Волконскую, — я знаю, что он скоро надоест мне; поэтому стараюсь видеться с ним реже, чтобы продлить это впечатление. Из начальников порядочными людьми оказываются здесь — Нахимов, Тотлебен, Истомин. Меншиков кажется мне хорошим главнокомандующим, но несчастно начавшим свое военное поприще с меньшими силами против втрое сильнейших и лучше вооруженных. Обе стороны были войска необстрелянные; поэтому преимущество численное было в 10 раз ощутительнее. Необстрелянные войска не могут отступать, они бегут.
20 ноября.
Когда же, когда, наконец, перестану Без цели и страсти свой век проводить, И в сердце глубокую чувствовать рану, И средства не знать, как ее заживить. Кто сделал ту рану, лишь ведает бог, Но мучат меня от рожденья, Грядущей ничтожности горький залог, Томящая грусть и сомненья.Симферополь.
23 ноября. [Эски-Орда. ] 16-го я выехал из Севастополя на позицию. В поездке этой я больше, чем прежде, убедился, что Россия или должна пасть, или совершенно преобразоваться. Все идет навыворот, неприятелю не мешают укреплять своего лагеря, тогда как это было бы чрезвычайно легко, сами же мы с меньшими силами, ниоткуда не ожидая помощи, с генералами, как Горчаков, потерявшими и ум, и чувство, и энергию, не укрепляясь, стоим против неприятеля и ожидаем бурь и непогод, которые пошлет Николай Чудотворец, чтобы изгнать неприятеля. Казаки хотят грабить, но не драться, гусары и уланы полагают военное достоинство в пьянстве и разврате, пехота в воровстве и наживании денег. Грустное положение и войска и государства.
Я часа два провел, болтая с ранеными французами и англичанами. Каждый солдат горд своим положением и ценит себя; ибо чувствует себя действительной пружиной в войске. Хорошее оружие, искусство действовать им, молодость, общие понятия о политике и искусствах дают ему сознание своего достоинства. У нас бессмысленные ученья о носках и хватках, бесполезное оружие, забитость, старость, необразование, дурное содержание и пища убивают в нем последнюю искру гордости и даже дают ему слишком высокое понятие о враге.
В Симферополе я проиграл последние деньги в карты, а теперь живу с батареей в татарской деревне и испытывая только теперь неудобства жизни.
26 ноября. Живу совершенно беспечно, не принуждая и не останавливая себя ни в чем: хожу на охоту, слушаю, наблюдаю, спорю. Одно скверно: я начинаю становиться, или желать становиться, выше товарищей и не так уже нравлюсь. Вот почти верные известия из Севастополя. 13 числа была вылазка в неприятельские траншеи, против 3, 4 и 5 бастионов. Екатеринбургский полк против 4-го бастиона занял траншеи врасплох, выгнал и перебил неприятеля и отступил с потерею трех — ранеными. Офицер, командовавший этой частью, был представляем в. к. Николаю Николаевичу. «Так вы герой этого дела? — сказал ему князь, — расскажите, как было дело». — «Когда я пошел с бастиона и стал подходить к траншее, солдаты остановились и не хотели идти». — «Ну что вы говорите…» — сказал князь, отходя от него. «Как вам не совестно», — заметил ему Философов. «Ступайте прочь», — заключил Меншиков. Я уверен, что офицер не врал, и жалею, что он не зубаст.
Вылазка с 3-го бастиона была неудачна. Офицер, увидав часовых, вернулся за приказаниями к адмиралу и дал время приготовиться. О вылазке с 5 бастиона подробностей не знаю. Вообще эти известия еще не совсем достоверны, хотя и более вероятны, чем дикие слухи о взятии каких-то 30 орудий.
Липранди назначен командующим войск в Севастополе. Слава богу! Исключая успехов, которые он имел в этой кампании, он любим и популярен не […], а распорядительностью и умом. К добру или не к добру, но к сильной досаде, безденежье удерживает меня дома; а то я бы был уже на южном берегу в Евпатории или вернулся бы в Севастополь.
7 декабря. 5 был в Севастополе, со взводом людей — за орудиями. Много нового. И все новое утешительное. Присутствие Сакена видно во всем. И не столько присутствие Сакена, сколько присутствие нового главнокомандующего, не уставшего, не передумавшего слишком много, не запутавшегося еще в предположениях и ожиданиях. Сакен побуждает, сколько может, войска к вылазкам. (Я говорю — сколько может, ибо побуждать действительно может только Меншиков, давая тотчас награды — чего он не делает. Представления, выходящие через три месяца, действительно ничего не значат для человека, всякую минуту ожидающего смерти. А уж человек так глупо устроен, что, ожидая смерти, он ожидает и любит награду.) Сакен сделал траншейки перед бастионами. Но бог знает, хороша ли эта мера, хотя она и доказывает энергию. Говорят, одну такую траншейку из восьми человек сняли [?], но главное, чтоб вынести днем из траншей этих раненых, надо другим рисковать быть ранеными. Траншеи эти без связи с бастионами, отдалены от них больше, чем от работ неприятеля. Сакен завел порядок для относу раненых и перевязочные пункты на всех бастионах. Сакен заставил играть музыку.
Чудо, как хорош Севастополь. Мне третьего дня чрезвычайно грустно было. Я часа два провел в палате раненых союзников. Большая часть выписана, — умерли и выздоровели, остальные поправляются. Я их нашел человек пять, около железной печки, французы, англичане и русские болтали, смеялись и играли в карты, болтали каждый на своем языке, только сторожа приноравливались к иностранным языкам, говоря на каком-то странном наречии — гай да, знаком. Англичан кричит — у у ка а, русский кричит — ой, и т. д. Когда я вышел на берег, солнце уже садилось за английскими батареями, кое-где подымались облачка дыму и слышались выстрелы, море было тихо, мимо огромных масс кораблей неслись ялики и шлюпки, на Графской играла музыка и долетали звуки труб какого-то знакомого мотива, Голицын и еще какие-то господа, облокотись на перила, стояли около набережной. Славно!
Из новостей о вылазках вот что справедливо. Вылазок было много, не столько кровопролитных, сколько жестоких. Из них замечательны две. Одна, в конце прошлого месяца, в которой взято три мортиры (и одна брошена между бастионом и их работами), пленный французский офицер, раненный зубом [1 неразобр. ], и много ружей; другая, в которой лейтенант Титов выходил с двумя горными единорожками и ночью стрелял вдоль их траншей. Говорят, в траншее был стон такой, что слышно было на 3-м и 5-м. Похоже на то, что скоро я отправлюсь. Не могу сказать, желаю я этого или нет.
1855
23 января 1855. [Позиция на реке Бельбек. ] Я прожил больше месяца в Эски-Орда под Симферополем. Казалось скучно, а теперь с сожалением вспоминаю о той жизни. Впрочем, есть отчего пожалеть о 14 бригаде, попав в 11-ую. Лучше 1-ой и хуже 2-ой я не видел в артиллерии. Филимонов, в чьей я батарее, самое сальное создание, которое можно себе представить. Одаховский, старший офицер, гнусный и подлый полячишка, остальные офицеры под их влиянием и без направления. И я связан и даже завишу от этих людей! Был в Севастополе, получил деньги, говорил с Тотлебеном, ходил на 4-й бастион и играл в карты. Собой очень недоволен. Завтра следует пойти в баню. Переписать проект о штуцерных батальонах и написать докладную записку*.
28 января. Два дня и две ночи играл в штосс. Результат понятный — проигрыш всего — яснополянского дома. Кажется, нечего писать — я себе до того гадок, что желал бы забыть про свое существование. Говорят, Персия объявила войну Турции, и мир должен состояться.
3, 4, 5 февраля. Был в Севастополе. Показывал Кашинскому проект. Он как будто недоволен. Не удалось быть у Краснокуцкого, который был у меня и не застал. Флот в сборе, что-то предпринимают. В Евпатории дела — просился туда, но тщетно.
6, 7, 8 февраля. Опять играл в карты и проиграл еще 200 р. сер. Не могу дать себе слово перестать, хочется отыграться, а вместе могу страшно запутаться. Отыграть желаю я все 2000. Невозможно, а проиграть еще 400 ничего не может быть легче; а тогда что? Ужасно плохо. Не говоря уже о потере здоровья и времени. Предложу завтра Одаховскому сыграться, и это будет последний раз. Переводил балладу Гейне* и читал «Горе от ума». Завтра непременно писать и много.
12 февраля. Опять проиграл 75 р. Бог еще милует меня. что не было неприятностей; но что будет дальше? Одна надежда на него! В Евпатории было дурное дело, отбитая атака, которую называют рекогносцировкой. Время, время, молодость, мечты, мысли, все пропадает, не оставляя следа. Не живу, а проживаю век. Проигрыш заставляет меня немного опомниться.
14 февраля. 5 февраля Хрулев подвел 120 легких орудий на 100 и 300 сажен и открыл огонь по городу. Неприятель отвечал слабо. Батальон греков и Азовского пошел на штурм. Его подпустили в упор и тогда только грянули по нем картечью и батальным огнем из ружей. Потери, как говорят, от 5 до 8 сот человек.
Отряд отступил, и войска расположились по квартирам. В Севастополе с 11 на 12 февраля полк зуавов атаковал новый редут и был отбит. Довольно этого, чтобы сказать «дело было выгодно для нас». Нашу потерю определяют от 2 до 5 сот человек. Мысль об отставке или военной академии все чаще и чаще приходит мне. Я писал Столыпину, чтобы он выхлопотал меня в Кишинев. Оттуда уже устрою одно из этих двух.
[16 февраля. ] 15, 16. Проиграл еще 80 р. сер. Начал писать «Характеры»*, и кажется, что эта мысль очень хороша, и как мысль и как практика. Еще раз хочу испытать счастия в карты.
[19 февраля. ] 17, 18, 19. Проиграл вчера еще 20 р. сер. и больше играть не — буду.
20 февраля. Не совсем достойные вероятия люди рассказывали мне нынче много новостей. Редут, против которого была отбита атака Селенгинским и Минским полком, построен по назначению и воле государя. Меншиков будто уехал в Петербург, и место его должен заступить Горчаков. Пруссия будто объявила войну Австрии. Послезавтра еду в Севастополь и узнаю все подробно.
Нынче писал и завтра буду писать проект* с тем, чтобы показать его Сакену.
1-е марта. Анненков назначен продовольствователем обеих армий. Горчаков на место Меншикова. Слава богу! 18 февраля скончался государь, и нынче мы принимали присягу новому императору. Великие перемены ожидают Россию. Нужно трудиться и мужаться, чтобы участвовать в этих важных минутах в жизни России.
2, 3, 4 марта. В эти дни я два раза по нескольку часов писал свой проект о переформировании армии. Подвигается туго, но я не оставляю этой мысли. Нынче я причащался. Вчера разговор о божественном и вере навел меня
на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать сознательно к соединению людей с религией, вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня.
6, 7, 8, 9.10,11 марта. Я еще проиграл 200 р. Одаховскому, так что запутан до последней крайности. Горчаков приехал со всем штабом, я был у него, был принят хорошо, но о переводе в штаб, которого весьма желаю, ничего не знаю. Просить не буду, но буду дожидать, что он сам это сделает, или письма тетки. Имел слабость позволить Столыпину увлечь меня на вылазку, хотя теперь не только рад этому, но жалею, что не пошел с штурмовавшей колонной. Вообще поездка эта с 9 до 11 наполнена интересными событиями. Вроновский один из милейших людей, которых я встречал когда-либо. Военная карьера не моя, и чем раньше я из нее выберусь, чтобы вполне предаться литературной, тем будет лучше.
12 марта. Утром написал около листа «Юности», потом играл в бабки и болтал с Броневским. У нас составился план основать пансион*. Он вполне разделяет эту добрую мысль.
13 марта. Писал «Юность» и письмо Татьяне Александровне. План пансиона зреет. Мне так много не удавалось, что для достижения этого я буду работать пристально, деятельно и осмотрительно.
14, 15, 18 марта. Вчера писал «Юность», но нынче в целый день ничего не сделал. Отчасти оттого, что вчера Лугинкн задержал меня и я поздно [вернулся], отчасти оттого, что был утро на параде..
17 марта. Написал около листа «Юности» хорошо, но мог бы написать больше и лучше. И лег поздно.
18 марта. Я перечел страницы дневника, в которых я рассматриваю себя и ищу пути или методы к усовершенствованию. С самого начала я принял методу самую логическую и научную, но меньше всего возможную — разумом познать лучшие и полезнейшие добродетели и достигать их. Потом я постиг, что добродетель есть только отрицание порока, ибо человек добр, и я хотел исправиться от пороков. Но их было слишком много, и исправление по духовным началам возможно бы было для духовного существа, но человек имеет два существа, две воли. Тогда я понял, что нужна постепенность в исправлении. Но и то невозможно. Нужно разумом подготавливать положение, в котором возможно усовершенствование, в котором наиболее сходятся воля плотская с волей духовной, нужны известные приемы для исправления. И на один из этих приемов я напал случайно, я нашел мерило положений, в которых легко или трудно добро. Человек вообще стремится к жизни духовной, и для достижения целей духовных нужно такое положение, в котором удовлетворение плотских стремлений не противоречит или совпадает с удовлетворением стремлений духовных. Честолюбие, любовь к женщине, любовь к природе, к искусствам, к поэзии.
Итак, вот мое новое правило, кроме тех, которые я давно поставил себе, — быть деятельным, рассудительным и скромным. Быть деятельным всегда к цели духовной, обдумывать все свои поступки на том основании, что те хороши, которые стремятся к целям духовным. Быть скромным так, чтобы наслаждение довольства собой не переходило в наслаждение возбуждать в других похвалы или удивления. Хотел я тоже часто систематически работать для своего матерьяльного благосостояния, но цель эта была слишком многообразна, и притом я делал ту ошибку, что хотел образовать его независимо от обстоятельств. С своим же теперешним правилом буду работать для улучшения своего благосостояния в той мере, в которой оно будет доставлять мне средства к жизни духовпой, и буду работать так, чтобы только не препятствовать обстоятельствам. Назначение мое, сколько мог я понять из 10-летнего опыта, не есть практическая деятельность; поэтому хозяйство более всего несообразно с моим направлением. Нынче мне пришла мысль отдать свое именье в аренду зятю. Я этим способом достигну трех целей, развяжусь с заботами хозяйства и привычками молодости, ограничу себя и развяжусь с долгами. Написал нынче около листа «Юности».
20 марта. Два дня не писал ничего ровно, исключая брюльона письма Валерьяну и двух писем Некрасову. Одно — ответ на полученное от него нынче, в котором он просит меня присылать ему статьи военные. Приходится писать мне одному. Напишу Севастополь в различных фазах и идиллию офицерского быта*.
21 марта. Ничего не делал. Получил восхитительное письмо от Маши, в котором она описывает мне свое знакомство с Тургеневым*. Милое, славное письмо, возвысившее меня в собственном мнении и побуждающее к деятельности. Но нынче я целый день был морально и физически болен. 24-го идем в Севастополь.
27 марта. Первый день пасхи. Третьего дня был в Севастополе, поездка эта как-то особенно приятно удалась мне. У всех наших Южных* я видел искреннее удовольствие видеть меня — даже до Башибузука и Крыжановского. Приятнее же всего было мне прочесть отзывы журналов о «Записках маркера», отзывы самые лестные. Радостно и полезно тем, что, поджигая к самолюбию, побуждает к деятельности. Последнего, к несчастью, еще не вижу — дней пять я строчки не написал «Юности», хотя написал, начал «Севастополь днем и ночью»*, и не принимался еще отвечать на милые письма два Некрасова, одно Валерьяна, Маши, Николеньки, тетки. Предлагали мне чрез Невережского место старшего адъютанта, и я, обдумав хорошенько, принял его — не знаю, что выйдет. Правду говорит Тургенев, что нашему брату литераторам надо одним чем-нибудь заниматься, а в этой должности я буду более в состоянии заниматься литературой, чем в какой-либо. Подавлю тщеславие — желание чинов, крестов, это самое глупое тщеславие, особенно для человека, уже открывшего свою карьеру. Я нынче ничего не делал и поэтому, должно быть, в каком-то странном холодно-злобном настроении духа. В Севастополь идем мы не 24, а 1-го апреля.
28 марта. Утром написал страницы четыре «Юности», но вечер, исключая нескольких слов «Севастополя», ничего не делал, отчасти оттого, что много гостей было, отчасти оттого, что нездоровится.
29 марта. Написал страниц восемь «Юности» и не дурно, но не написал писем. Завтра еду в Севастополь квартирьером нашей батареи. Узнаю положительно, что значит постоянный огонь, который слышен уж третий день оттуда, говорят о отбитом штурме на 5-м бастионе, на Чоргуне и о сильном бомбардировании.
[1 апреля. Севастополь. ] 30, 31 марта и 1 апреля. Бомбардирование и больше ничего. Вот уж 6-й день, а я в Севастополе 4-й. Насчет перехода моего не удалось, потому что, говорят, я только подпоручик. Досадно. Пороху нет!
2 апреля. Вчера пришла батарея. Я живу в Севастополе. Потерь у нас уже до пяти тысяч, но держимся мы не только хорошо, но так, что защита эта должна очевидно доказать неприятелю [невозможность] когда бы то ни было взять Севастополь. Написал вечером две страницы «Севастополя».
3, 4, 5, 6, 7-е утром. Все дни эти так занят был самыми событиями и отчасти службой, что ничего, исключая одной нескладной странички «Юности», не успел написать еще. Бомбардирование с 4-го числа стало легче, но все продолжается. Третьего дня ночевал на 4-м бастионе*. Изредка стреляет какой-то пароход по городу. Вчера ядро упало около мальчика и девочки, которые по улице играли в лошадки: они обнялись и упали вместе. Девочка — дочь матроски. Каждый день ходит на квартиру под ядра и бомбы. Насморк такой ужасный, что я ни за что приняться не могу.
11 апреля. 4-ый бастион. Очень, очень мало написал в эти дни «Юности» и «Севастополя»; насморк и лихорадочное состояние были тому причиной. Кроме того, меня злит — особенно теперь, когда я болен, — то, что никому в голову не придет, что из меня может выйти что-нибудь, кроме chair à canon[19] и самой бесполезной. Хочу еще влюбиться в сестру милосердия, которую видел на перевязочном пункте.
12 апреля. 4-й бастион. Писал «Севастополь днем и ночью» и, кажется, недурно и надеюсь кончить его завтра. Какой славный дух у матросов! Как много выше они наших солдат! Солдатики мои тоже милы, и мне весело с ними. Вчера взорван еще горн 5-й, стрельба, как кажется, увеличилась с нашей стороны и уменьшилась с ихней.
13 апреля. Тот же 4-й бастион, который мне начинает очень нравиться, я пишу довольно много. Нынче окончил «Севастополь днем и ночью» и немного написал «Юности». Постоянная прелесть опасности, наблюдения над солдатами, с которыми живу, моряками и самым образом войны так приятны, что мне не хочется уходить отсюда, тем более что хотелось бы быть при штурме, ежели он будет.
14 апреля. Тот же 4-й бастион, на котором мне превосходно. Вчера дописал главу «Юности» и очень не дурно. Вообще работа «Юности» уже теперь будет завлекать меня самой прелестью начатой и доведенной почти до половины работы. Хочу нынче написать главу «Сенокос», начать отделывать «Севастополь» и начать рассказ солдата о том, как его убило*.[…]
21 апреля. Семь дней, в которые я решительно ничего не сделал, исключая двух перебеленных листов «Севастополя» и проекта адреса*. Третьего дня у нас отбиты ложменты против 5 бастиона, отбиты со срамом. Дух упадает ежедневно, и мысль о возможности взятия Севастополя начинает проявляться во многом.
24 апреля. 4-й бастион. Я получил из дома 300 р., отдал Мещерскому и Богаевичу, но остальные не отдаю, потому что хочется поиграть. Получил письмо от тетки, которое передал, для передачи князю, Ковалевскому. Эти две приятные вещи, я думаю, больше всего оттолкнули меня от работы, так что я в каком-то ужасно холодном практическом расположении и духа и в два дня на бастионе отделал только несколько листочков «Севастополя».
8 мая. Вчера заступил на бастион. Ровно ничего не делал все время, но приятно, очень приятно провел это время. Из письма Пелагеи Ильиничны ничего не вышло. Должно быть, к лучшему. Послал «Севастополь» и получил вещи и «Записки фейерверкера» кончу на днях.
19 мая. [Позиция на реке Бельбек. ] 15 мая я назначен командовать горным взводом и выступил в лагерь на Бельбек в 20 верстах от Севастополя. Хлопот много, хочу сам продовольствовать и вижу, как легко красть, так легко, что нельзя не красть. У меня насчет этого воровства планов много, но что выйдет, не знаю*. Природа — восхитительна, но жарко. Все время ничего не делал.
11 июня. Утром занимался легко и с большим удовольствием, но начал поздно и не повторил вечером. Кроме того, бесхарактерен был два раза в прижигании лаписом и в том, что ел вишни. Итого три.
Смешно, 15-ти лет начавши писать правила, около 30 все еще делать их, не поверив и не последовав ни одному, а все почему-то верится и хочется. Правила должны быть моральные и практические. Вот практическое, без которого не может быть счастья, умеренность и приобретение. — Деньги.
12, 13, 14, 15 [июня]. Два дня делал ученья, вчера был в Бахчисарае и получил письмо и статью от Панаева*. Меня польстило, что ее читали государю*. Служба моя в России начинает меня бесить так же, как и на Кавказе. […]
16 июня. Целый день работал, и несмотря на то, что здоровье хуже, я доволен своим днем и ни в чем не имею упрекнуть себя. Ура. Окончил «Записки юнкера»*, не четко и нехорошо, но послать можно.
17 июня. Встал поздно, здоровье нехорошо, работал все над «Записками юнкера». […]
18 июня. Утром кончил «Записки юнкера», написал письмо и послал. После обеда поленился читать Пена*. Но делал ученье, вечером написал проспектус маленькой «10 мая»*.[…]
19 июня. Утро занят был бумагой Крыжановского о квитанции и хозяйством. Только читал. После обеда пописал немного «10 мая», но очень мало. […]
20 июня. Встал поздно, читал, хозяйничал и написал немного «10 мая». После обеда же ужасно, непростительно ленился, все читал Пендениса. Здоровье хуже. […]
21 июня. Встал поздно, читал, написал письмо Маше. После обеда ленился, но зато после чаю написал много и с удовольствием. Здоровье лучше.
22 июня. Каково! В целый день ни в чем не могу упрекнуть себя. Писал много «10 мая» и написал письмо Татьяне Александровне. […]
23 июня. Целый день писал. Окончил начерно и вечером лист набело переписал. Тщеславился ужасно перед Столыпиным, 1. Не выдержал характера — не написал письма. 2. Впрочем, это извиняется. Лучше пишется, когда скоро. На завтра. Пересмотреть всю «Весеннюю ночь»* с точки зрения цензуры и сделать изменения и variantes.
24 июня. Беру себе за правило для писанья составлять программу, писать начерно и перебеливать, не отделывая окончательно каждого периода. Сам судишь неверно, невыгодно, ежели часто читаешь, прелесть интереса новизны, неожиданности исчезает, и часто вымарываешь то, что хорошо и кажется дурным от частого повторения. Главное же, что с этой методой есть увлечение в работе. Целый день работал и ни в чем не могу упрекнуть себя. Ура!
25 июня. […] Завести две тетрадки 1) Правила и 2) На завтра; во второй вымарывать по мере исполнения и просматривать первые числа. Или лучше 4 отдела дневника: 1) Правила, 2) На завтра, 3) Мысли, 4) Факты. […]
26 июня. Кончил «Весеннюю ночь», уж не так хорошо кажется, как прежде. Упрекать себя не могу ни в чем.
27 июня. [Бахчисарай. ] Был в Бахчисарае, читал Ковалевскому «Весеннюю ночь», которой он остался очень доволен. Еще польстило моему самолюбию и рассердило против Крыжановского то, что я узнал от Ковалевского, что я давно приглашен участвовать в Брюссельском журнале*.[…]
[30 июня. Позиция на реке Бельбек. ] 28 июня. Употребление дня. Утром рано выехал из Бахчисарая, приехал к себе, поел, распорядился, написал немного дневника и поехал в Севастополь. На Инкермане отдал деньги Ельчанинову, заехал к штабным, которые более и более мне становятся противны, и наконец в Севастополь. Первая встреча была бомба, которую разорвало между Николаевской и Графской (на другой день около библиотеки — пули). Вторая — было известие о смертельной ране Нахимова. Броневский, Мещерский, Калошин — все меня любят и милы. На возвратном пути на другой день, 29 июня, которое утром провел частью у офицеров батареи, частью у Мещерского, я на Инкермане. Нашел барона Ферзена и был рад ужасно. Действительно, я, кажется, начинаю приобретать репутацию в Петербурге. «Севастополь в декабре» государь приказал перевести по-французски.
Факты. Есть люди, по своей храбрости похожие на заводских жеребцов, которые ужасно страшны на выводке и коровы под седлом. 2) Покойный Тертюковский был, говорят, чисто русский хорошенький молодой офицерик. Стоя на батарее, похлопывая ногой и в ладони, кричал, бывало: первое, второе, третье… 3) В Волынском редуте, перед приступом, одна бомба падала за другой. Никто не приходил и не выходил, мертвых раскачивали за ноги и за руки и бросали за бруствер. 4) Интересный весь рассказ Никифорова о беганье. 5) При контузии человеку кажется, что он летит кверху. […]
30 июня. Приехал домой, был в самом гадком расположении духа, написал два письма — Валерьяну и Пелагее Ильиничне, читал, распоряжался. Должен сделать себе сильный упрек за раздражительность. Завтра примусь за «Юность».
5 июля. Начинаю сильно лениться. Теперь только настало для меня время истинных искушений тщеславия. Я много бы мог выиграть в жизни, ежели бы захотел писать не по убеждению.
Факты: Солдаты, сидя верхом, ужасно любят петь. Лень, лень, лень.
6 июля. Надеюсь, что нынче последний день праздности, в которой я провел всю неделю. Нынче целый день читал какой-то нелепый роман Бальзака* и только теперь взял перо в руки. Мысли: Писать дневник офицера в Севастополе — различные стороны, фазы и моменты военной жизни. И печатать его в какой-нибудь газете. Я думаю остановиться на этой мысли, хотя главное мое занятие должно быть «Юность» и «Молодость», но это для денег, практики слога и разнообразия. Упреки: 1) Лень, 2) раздражительность.
8 июля. Здоровье очень худо, и не могу работать. Ровно ничего не делал. Мне нужно собирать деньги, 1) чтоб заплатить долги, 2) чтоб выкупить имение и иметь возможность отпустить на волю крестьян. […]
12 июля. Целый день не писал ничего, читал Бальзака, занимался только ящиком новым. И решил, что денег казенных у меня ничего не останется. Даже удивляюсь, как могла мне приходить мысль взять даже совершенно лишние. Я очень рад, что выдумал ящики, которые будут стоить целковых 100 с лишком. Вечером проиграл в ералаш 8 р. 1) Лень, 2) лень, 3) лень, раздражительность два раза, итого четыре. Завтра пишу «Юность» с утра.
17 июля. Здоровье хуже. Ничего не делал. Три правила: 1) быть, чем есть: а) по способностям — литератором, b) по рождению — аристократом. 2) Никогда ни про кого не говорить дурно, и 3) расчетливым в деньгах. […]
19, 20 июля. Сегодня получил письмо от Панаева, «Записками юнкера» довольны, напечатают в VIII книжке*.[…]
24, 25 июля. Вчера начал писать «Юность»*, но ленился. Написал только ½ листа, нынче целый день раскладывал пасьянс. 1) Правило. Каждый день написать из головы, по крайней мере, лист и переделать столько же. До этого не ложиться спать. 2) Правило. К каждому делу, необходимому, но к которому чувствуешь отвращение, приступать как можно быстрее.
Не знаю, каким ходом мыслей или просто воспоминаньем вернулся я нынче, говоря с Хонзини [?], к прежнему взгляду на жизнь, цель которой есть благо и идеалом добродетель. Мне возвращение это было чрезвычайно приятно, и я ужаснулся, как далек я от этого взгляда, как практичны и дурны были мои последние мысли и правила. Они, однако, будут мне полезны. Для жизни добра нужна известная степень успеха, которая достигается этими правилами. Да, на мне отразилось военное общество и выпачкало меня. Завтра выпишу все правила. Конец месяца. Нынче получил два письма из деревни и одно от Алексеева. Для «Юности»: Гроза в доме, как затворяют окна. Лень, лень сильная.
[2? августа. ] Сегодня, разговаривая с Столыпиным о рабстве в России, мне еще ясней, чем прежде, пришла мысль, сделать мои четыре эпохи истории русского помещика, и сам я буду этим героем в Хабаровке*. Главная мысль романа должна быть невозможность жизни правильной помещика образованного нашего века с рабством. Все нищеты его должны быть выставлены и средства исправить указаны.
8 августа. Был в Бахчисарае, но не удалось ехать в Симферополь с большой компанией, которая звала меня. Столыпины нагоняют на меня тоску. Написал письмо Панаеву, Сереже и Валерьяну. Здоровье хорошо. Написал рапорты о лафете и экстренных суммах. Не успел заняться «Юностью», завтра. Вечером мог бы сделать кой-что — лень. […]
25 августа. Сейчас глядел на небо. Славная ночь. Боже, помилуй меня. Я дурен. Дай мне быть хорошим и счастливым. Господи, помилуй. Звезды на небе. В Севастополе бомбардировка, в лагере музыка. Добра никакого не сделал, напротив, обыграл Корсакова. Был в Симферополе.
2 сентября. Неделю не писал дневник. Проиграл 1500 рублей чистыми. Севастополь отдан, я был там в самое мое рожденье*. Нынче работал над составлением описанья хорошо*. Должен Розену 300 рублей и лгал ему.
17 сентября. Вчера получил известие, что «Ночь» изуродована и напечатана*. Я, кажется, сильно на примете у синих*. За свои статьи. Желаю, впрочем, чтобы всегда Россия имела таких нравственных писателей; но сладеньким уж я никак не могу быть, и тоже писать из пустого в порожнее — без мысли и, главное, без цели. Несмотря на первую минуту злобы, в которую я обещался не брать пера в руки, все-таки единственное, главное и преобладающее над всеми другими наклонностями и занятиями должна быть литература. Моя цель — литературная слава. Добро, которое я могу сделать своими сочиненьями. Завтра еду в Королес и прошусь в отставку, а утро пишу «Юность».
21 сентября. Я пропаду, ежели не исправлюсь. С теми данными характера, воспитанья, обстоятельств и способностей для меня нет середины, или блестящая, или жалкая будущность. Все силы моего характера на исправление. Главные пороки. 1) Бесхарактерность — неисполнение предначертаний. Средство исправления 1) знать общую цель и 2) обдумывать и записывать будущие деяния и исполнять их, хотя бы они были дурны. Цель моя 1) добро ближнего и 2) образование себя в такой степени, чтобы я был способен делать его. Вторая в настоящую минуту важнее первой, поэтому и помни все сделанные предначертания, хотя бы они были противны первой общей цели. Назначать вперед деяния, сначала как можно меньшие и легкие и, главное, не противоречащие одни другим.
Моя главная цель в жизни есть добро ближнего, и цели условные — слава литературная, основанная на пользе, добре ближнему. 1) Богатство, основанное на трудах, полезных для ближнего, оборотах и игре, и направленное для добра. 2) Слава служебная, основанная на пользе отечества. В дневнике буду разбирать, что я сделал каждый день для достижения сих четырех целей и 2) сколько раз не исполнил предназначенного.
Завтра для первой пишу письма теткам и брату Дмитрию, узнаю о пище, здоровье и помещении людей, для второй составляю план статьи и пишу ее (или «Юность») и «Юность», для третьей делаю счеты и пишу старосте, для четвертой узнаю местность.
23 сентября. Написал письмо тетке Пелагее Ильиничне, советовал и обещал грекам помощь, которую подам*. Для 2) составил план «Севастополя в августе», для 3) написал старосте, для 4-й ездил на позицию. Не писал «Юности», не позаботился о людях и не делал счетов. […]
1-ое октября. Все эти три дня был в беспрестанных хлопотах и передвижениях; вчера даже выпустил две картечные гранаты. Не умывался, не раздевался и вел себя безалаберно. Совершенно забыл свои цели. Для 1) в это время ровно ничего не сделал; ни в чем себя не принудил и не удержал, для 2) просил о наградах солдатам, для 3) ничего, для 4) ничего не мог сделать, для 5) стрелял и хлопотал довольно много.
Для 1) завтра пишу «Юность» и «Севастополь в августе» во что бы то ни стало, для 2) пишу брату Николеньке и Крыжановскому, для 3) пишу счеты и письмо Валерьяну, для 4) пишу «Юность» и «Севастополь в августе», для 5) еду к Тетеревникову и прошу что-нибудь сделать.
10 октября. Нахожусь в лениво-апатически-безысходном, недовольном положении уже давно. Выиграл еще 130 р. в карты. Купил лошадь и узду за 150. Какой вздор! моя карьера литература — писать и писать! С завтра работаю всю жизнь или бросаю все, правила, религию, приличия — все.
21 ноября. Я в Петербурге у Тургенева*. Проиграл перед отъездом 2800 и 600 р. перевел с грехом пополам на своих должников. Взял в деревне 875 р. Мне нужнее всего держать себя хорошо здесь. Для этого нужно главное 1) осторожно и смело обращаться с людьми, могущими мне вредить, 2) обдуманно вести расходы и 3) работать. Завтра пишу «Юность» и отрывок дневника.
1856
9, 10 января 1856 года. Я в Орле. Брат Дмитрий при смерти. Как дурные мысли, приходившие мне, бывало, насчет него, уничтожились в прах. Маша* и Т. А.* ходят за ним. Валериан опять не нравится мне. Мне ужасно тяжело. Я не могу ничего делать, но задумываю драму.
2-е февраля. Я в Петербурге. Брат Дмитрий умер, я нынче узнал это*. Хочу дни свои проводить с завтра так, чтобы приятно было вспоминать о них. Завтра привожу в порядок бумаги, пишу письма Пелагее Ильиничне и старосте и набело «Метель», обедаю в шахматном клубе и все пишу еще «Метель» и вечером захожу к Тургеневу, утром час гуляю. Прочел страницу дневника, очень дельную, в которой говорю, что не надо смешивать совершенства с усовершенствованием и стремиться ко второму отрицательно*. Мои главные недостатки, привычки к праздности, беспорядочность, сладострастие и страсть к игре. Буду работать против них.
[5 февраля. ] 5) Благодаря богу веду себя хорошо второй день.
[…] История десятского. Староста продал хлеб помещика на семь тысяч и, отлучившись по делам, велел десятскому их караулить. Десятский взял деньги и бежал в Одессу, где разжился. Но чтобы бежать, он дал две тысячи помещику, который дал ему фальшивую вольную. Через десять лет десятский стосковался по родине. Он взял с собой тысяч десять из двухсот ассигнациями, которые нажил, и приехал в деревню. Встретившись с дядей, он просил его проводить к братьям и не утерпел — открыл ему себя, дав ему две тысячи и обещая братьям по стольку же. Дядя ввел его в деревню, но, когда они въехали, он схватил его за шиворот и закричал: караул. Десятского схватили и посадили в острог. Дядя ничего не согласился взять в награду от помещика и возвратил ему две тысячи.
Сцена пьяного. Выходя на Вознесенский проспект, я заметил толпу. Два господина в чуйках выводили пьяного, маленького старичка без шапки, в нанковом сюртуке, и сажали на извозчика, который, главное, требовал, чтобы его подрядили, и закрывал полость. Господа в чуйках были в азарте. Сверху проспекта показался городовой в замшевых перчатках; он шел, поправляя их ладонями. Старичок весь сморщился. Господа в чуйках отошли от извозчика и повели старичка на тротуар. Городовой: Что? буянит, и длинная история, которую городовой не слушает. Веди. Его повели. Городовой, поправляя перчатки, пошел за ними, как будто гуляя по тротуару, но, подойдя к старичку, он огромным кулаком ударил его в спину и снова стал поправлять перчатки, раз, другой — и опять перчатки. Публика стала расходиться. Вишь, публику собрали.
История любви Б. и К. Старый ярыга и выросшая из сугроба Т. барышня встретились на железной дороге; в один час, сидя рядом, они были на ты. Б. нашел, что он не хочет ничем жертвовать понапрасну. Она писала, что требует величайших доказательств любви — 10 р., чтобы подкупить горничную и в 2 часа ночи прийти к нему. Слишком трогательно и хорошо, чтобы описать.
Никогда не будировать, а когда что-нибудь случится такое, что ведет к этому, то сейчас сказать, что это заставит нас будировать.
Уважение к женщинам. Есть три рода отношений к женщинам. Одних уважаешь почему-нибудь — иногда по пустякам, за связи, к стыду — выше себя — несчастье. Иногда любишь, ценишь, но третируешь ребенком — несчастье. Иногда уважаешь так, что больно несогласие в мнениях и хочется спорить, — хорошо.
7 февраля. Поссорился с Тургеневым*.[…]
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 февраля. Ничего не делал. Нынче ходил и радовался толпе у балаганов и изучал характер русской толпы, слушающей оратора. Обедал у Тургенева, мы снова сходимся. […] Пишу прежде всего Епишку или «Беглеца». Потом комедию*, потом «Юность».
12 марта 1856. Давно ничего не записывал и нахожусь уже недели три в тумане. Притом нездоров. План комедии томит меня. Мир заключен*. С Тургеневым я, кажется, окончательно разошелся. Приезжала Сазонова, внушила невыразимое отвращение. Задумал «Отца и сына»*.
21 марта. Третьего дня нечаянно прочел письмо Лонгинова и послал ему вызов*. Что будет, бог знает; но я буду тверд и решителен. Вообще это имело на меня благое влияние. Я решаюсь ехать в деревню, поскорей жениться и не писать более под своим именем. А главное — всегда и со всеми быть сдержанным и осторожным в разговоре.
Деятельность, чистосердечие, довольство настоящим и снискивание любви. Главная моя ошибка в жизни состояла в том, что я позволял уму становиться на место чувства, и то, что совесть называла дурным, гибким умом, переводить на то, что совесть называла хорошим. Отчего любовь, находящаяся в душе, не находит удовлетворения при столкновении с человеком, который возбуждает ее. Самолюбие уничтожает ее. Скромность есть главное условие sine qua non[20] для взаимной любви.
4 апреля. Одно из главных зол, с веками нарастающих во всевозможных проявлениях, есть вера в прошедшее. Перевороты геологические, исторические необходимы. Для чего строят дом в 1856 году с греческими колоннами, ничего не поддерживающими?
19 апреля. Кончил даже поправки «Отца и сына», которых, по совету Некрасова, назвал «Два гусара» — лучше. Привел в порядок бумаги и хочу приняться за серьезную работу «О военных наказаниях»*.[…]
22 апреля. Ничего не пишу. Мое отношение к крепостным начинает сильно тревожить меня. Чувствую потребность учиться, учиться и учиться.
23 апреля. Утро был у Медема. Обедал у Блудова. Вечер у Кавелина*. Прелестный ум и натура. Вопрос о крепостных уясняется. Приехал от него веселый, надежный, счастливый. Поеду в деревню с готовым писаным проектом.
24 апреля. Набросал конспекты проектов*. Слушал прелестный проект Кавелина. Был у Кутлера и видел славную девочку, его belle-sœur[21].
25 апреля. Утром пришел Горбунов. Приятно для самолюбия видеть его улучшение. Потом пошли к Милютину, который объяснил мне многое и дал проект о крепостном праве, который я читал за обедом. Написал для себя проект проекта и докладной записки*. Был у Тургенева с удовольствием. Завтра надо занять его обедом.
5 мая. Был обед Тургенева, в котором я, глупо оскорбленный стихом Некрасова, всем наговорил неприятного. Тургенев уехал. Мне грустно тем более, что я ничего не пишу.
8 мая. Вчера узнал, что отпуск мой выйдет очень не скоро. Обедал у Блудова. Скучно. Ездил на острова с Шевич. Приятно. Вечером сидел у Оболенского с Аксаковым*, И. Киреевским и другими славянофилами. Заметно, что они ищут врага, которого нет. Их взгляд слишком тесен и не задевающий за живое, чтобы найти отпор. Он не нужен. Цель их, как и всякого соединения умственной деятельности людей совещаниями и полемикой, значительно изменилась, расширилась и в основании стали серьезные истины, как семейный быт, община, православие. Но они роняют их той злобой, как бы ожидающей возражений, с которой они их высказывают. Выгоднее бы было более спокойствия и Würde[22]. Особенно касательно православия, во-первых, потому, что, признавая справедливость их мнения о важности участия сего элемента в народной жизни, нельзя не признать, с более высокой точки зрения, уродливости его выражения и несостоятельности исторической, во-вторых, потому, что цензура сжимает рот их противникам.
Третьего дня был у Милютина Николая. Он обещал вести меня к Левшину.
11 мая. Вчера утром написал письмо Татьяне Александровне и докладную записку. В 2 часа был в Министерстве внутренних дел. Левшин сухо меня принял. За что не возьмешься теперь в России, все переделывают, а для переделки люди старые и потому неспособные. Обедал у Шевич, написал у Некрасова проект и послал. […]
12 мая. С утра пришел Михаил Иславин, потом Соковнин и Тим. Тим просил писать текст в листке*. Я очень рад. Обедал у Некрасова. Фет — душка и славный талант. Мне было весело. Вечер пробыл у Толстых, читал «Гусаров». Там есть Мальцева, милая и почему-то ужасно смешная женщина — наивность какая-то 35-летняя, не притворная, и старушечьи морщинки и пукли. Вернувшись домой, нашел записку от Васьки и Аполошки и ужасно обрадовался, как влюбленный. Как-то все светло стало. Да, лучшее средство к истинному счастию в жизни — это: без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви и ловить туда все, что попало, и старушку, и ребенка, и женщину, и квартального.
13 мая. Встал в 9. Пошел на гимнастику. Без друзей скучно. Читал «Морской сборник». Погодина с наслаждением прибил бы по щекам. Подлая лесть, приправленная славянофильством*. Новая штучка. Все празднества московские — какая нерусская черта. Левшин сказал, что докладывал министру; но все-таки дал ответ évasif[23]. Буду писать проект, несмотря на то. Обедал у Кокорева. Щи, варенец, шампанское, золотая солонка на русский манер. Дичь, безвкусие, неясность. Статья Кокорева умна, но безобразна, он перебирает все раны экономические слегка. Зашел к М. Г. Ничего, ничего, молчание. Тургеневых* не было дома. Опять провел вечер у Толстой. Опять старушка Мальцева.
15 мая. Встал поздно, привел в порядок бумаги, написал письмо Тургеневу. Была Александра Николаевна. Пошел к Фету, с ним на биржу, оттуда к Дюссо обедать с Макаровым, Мещерским, Горбуновым, Долгоруков[ым]. Оттуда в театр.
[…] Нынче встал в 3. Пришел Королев, Горбунов и Долгоруков. Первый неглупый и милый малый. Повел его обедать к Некрасову. Он плох, но я его начинаю любить*. Оттуда поехал в штаб. Отпуск выйдет завтра. […]
16 мая. Встал поздно, пришел Фет и Трузсон. Последний прелестно сказал, что второй гусар писан без любви*. Ездил к Константинову, обедал у Некрасова, они мне очень льстили. […]
17 мая. Утром пришли Горбунов и Долгоруков, Прац и Колбасин 2-й, последнему отдал из 10 процентов издание «Детства» и «Отрочества». Поехал в 12 часов, было скучно дорогой*. Сначала с А. Ланским, а потом с австрийским каким-то дипломатом. Читал «Лишнего человека»*. Ужасно приторно, кокетливо, умно и игриво.
18 мая. [Москва. ] Приехал в 10 прямо к Перфильевым. Два толстые бутуса. Васенька все-таки хорош, и очень. Ездил обедать к старым Перфильевым. Вареньки не было; но не было скучно. Приезжал какой-то игрок с разлитой желчью, из армян, с Владимиром на шее и хорошенькой женой, урожденной графиней Паниной. Избитый тип и отношения в литературе, но который мне первый раз привелось видеть. После обеда ездил в Кунцево. Застал пустую дачу прехорошенькую, — книги, сигары, стакан воды, запотевший от льду, который в нем растаял. Дружинина первого встретил в саду, потом Боткина, вечером пришел Григорьев, и мы болтали до 12-ти весьма приятно. Одни говорят, что ругают, другие говорят, больше литераторы, что «Гусаров» хвалят.
19 мая. [Сергиев посад. ] Боткин довез меня в 8 часов до конторы, и я поехал в Троицу с кривым старичком, худощавым молодым человеком и смешливым, рыжим, красным офицером. Было очень скучно, да и голова разболелась так, что я с тетенькой был сух. Она все та же. Тщеславие, маленькая, красивая чувствительность и доброта. В церкви раут: Мальцева, Горчаковы, Талызина, простой народ расталкивают солдаты. Вечером поболтали с тетенькой, в 12 часов пошел посидел еще часик у Горчаковых. Я был весел.
20 мая. [Сергиев посад. — Москва. ] Проснулся поздно, почитал какое-то житие, записал две, три штуки и пошел в церковь. Опять оно на меня нашло, то же расположение духа, игривое. Был в ризнице. Точно раек показывают и тут же прикладывается, а старушка-зрительница так и воет от радости. Евмений утащил к себе, я его просил писать в Ясную. Наскоро простился с тетенькой, обещая ее взять в деревню, и уехал.
Барыни со мной ехали, одна учительша прелестная, загорелая от ходьбы. У Перфильевых пробыл вечер с Костенькой. Юрий Оболенский приезжал. Поедем с ним обедать к С. Аксакову.
21 мая. Утром были Калошины и Загоскин. Обедал у Аксакова. Познакомился с Хомяковым. Остроумный человек. Спорил с Константином* о сельском чтении, которое он считает невозможным. Вечером у Горчаковых с Сергеем Дмитриевичем спорил о совершенно противном; Сергей Дмитриевич уверял, что самый развратный класс крестьяне. Разумеется, я из западника сделался жестоким славянофилом.
22 мая. Обедал у Дьяковой. Не узнал Александрин Оболенскую, так она переменилась. Я не ожидал ее видеть, поэтому чувство, которое она возбудила во мне, было ужасно сильно. От них ездил к Аксаковым, слушал 4-й отрывок*. Хорош, но старика захвалили. Вернулся к Дьяковым, танцевал немного и выехал оттуда, с Александром Сухотиным, страстно влюбленным человеком.
Да и теперь мне ужасно больно вспомнить о том счастии, которое могло быть мое и которое досталось отличному человеку Андрею Оболенскому. Сухотину рассказал свое чувство, он понял его тем более, что его, кажется, разделяет.
28 мая. [Ясная Поляна. ] В дороге. M-lle Vergani, самая ощутительная деспотка, которую я видел когда-либо, как всегда бывает это с нерусскими. Заезжал в Судаково, славная там жизнь. В Ясном грустно, приятно, но несообразно как-то с моим духом. Впрочем, примеривая себя к прежним своим ясенским воспоминаниям, я чувствую, как много я переменился в либеральном смысле. Татьяна Александровна даже мне неприятна. Ей в 100 лет не вобьешь в голову несправедливость крепости. Дорогой сочинял стихи, кажется, плохи. Нынче делаю сходку и говорю. Что бог даст. Был на сходке. Дело идет хорошо. Мужики радостно понимают. И видят во мне афериста, потому верят. Я, по счастию, ничего слишком не соврал и говорил ясно. Ужинал и болтал с тетенькой. Написал страниц пять «Дневника помещика». 2-й час, ложусь спать.
29 мая. Вставал в 6, но заснул и спал до 12. Посидев с тетенькой до l½ — пошел в церковь полями. Очень приятно. Потом на Грумант, выбрал деревья, выкупался и выпил молока. Домой приехал верхом, обедал, болтал с тетенькой и Наташей, написал три письма двум братьям и Васеньке и пошел на сходку. Совсем было расстроилось, но теперь идет на лад. 12 часов, поужинал, еду к Маше.
30 мая. [Покровское. ] Приехал в Покровское в 10-м часу. С Валерьяном было неловко. Я все еще не понимаю его. Маша, дети ужасно милы. […] Ходил в купальню, завтракал, спал, написал письмо Тургеневу. Проснулся в 6, выкупался, играл с детьми, объяснился с Валерьяном, ужинал и ложусь спать. Мне что-то неловко здесь, и я чувствую, что не я в этом виноват.
31 мая. [Спасское — Покровское. ] В 5-м часу утра поехал верхом к Тургеневу. Приехал в 7, его не было дома, болтал с Порфирьем и дописал в памятной книжке. Дом его показал мне его корни и много объяснил, поэтому примирил с ним. Он приехал, я позавтракал, погулял, поболтал с ним очень приятно и лег спать. Разбудили меня к обеду. Семейство его дяди плохо*. Бледные — моральные немки, поэтому, наверно, дурные в этой обстановке помещичьей. Рассказывали дело убийства управляющим мужика, и за обедом был доктор, который дал свидетельство, что мужик не убит. Поехали домой, приятно болтали, равно и дома, где разные смешливые барышни. Хочется писать историю лошади*.
1 июня. [Покровское. ] Встал в десять, шлялся то с детьми, то с Валерьяном, то с Тургеневым, с которым купался, то с Машей. Потом катались на плоту, музицировали немного. Отношения Маши с Тургеневым мне приятны. С ним мы хороши, но не знаю, оттого ли, что он или я другой. […]
2 июня. Встал в 11-м часу, пошел к Маше и детям. Очень хорошо болтал с Тургеневым, играли «Дон-Жуана». После завтрака пошли кататься по реке, потом обедали и разъехались. Маша с Валерьяном поехали провожать меня. […]
3 июня. [Ясная Поляна. ] Троицын день. Приехал в 5-м часу и, пройдя сквозь насквозь провоненный дом, испытал огромное наслаждение у окна на сад. Прочел «Дон-Жуана» Пушкина*. Восхитительно. Правда и сила, мною никогда не предвиденная в Пушкине. […] Вечером сходки не было. Но узнал от Василья, что мужики подозревают обман, что в коронацию* всем будет свобода, а я хочу их связать контрактом. Что это сделка, как он выразился.
4 июня. Встал в 5, гулял, признаюсь, с ужасно эротическими мыслями. Читал первые стихотворения Пушкина. Потом разбирал свои старые тетради, непонятная, но милая дичь. Решил писать «Дневник помещика»*, «Казака»* и комедию*. За первое примусь за «Казака». Завтракал, спал, обедал, гулял, купался в Воронке, читал Пушкина и пошел к мужикам. Не хотят свободу.
7 июня. Проспал до 11 часов и проснулся свежий. […] Читал Пушкина 2 и 3 часть; «Цыгане» прелестны, как и в первый раз, остальные поэмы, исключая «Онегина», ужасная дрянь. Вечером беседовал с некоторыми мужиками, и их упорство доводило меня до злобы, которую я с трудом мог удерживать.
9 июня. Встал в 9, поясница болит хуже. Читаю биографию Пушкина* с наслаждением. Все обдумывается роман помещика. Не могу быть весел. Тетенька осаживает меня, нынче она говорила про наследство покойного Митеньки, про интриги и как странен Николенька [?]. Он промолчал, «ничего не сказал». Довольно тяжело. Пришло в голову письмо Блудову о крепостных, которое набросал*. Ездил к Гимбуту, не застал дома. Обратился к объездчику об деле. И в бане к Алешке.
Вечером делал расчет рабочих дней; что за нелепые отношения! Всех дней строгой половиной без праздников мужицких 10500. Нужно же для обработки полей самым большим числом 5000; а всегда поголовная. Летом приходится от мая до октября как раз на бумаге ровно с положением, а зимой нечего делать мужикам и уйти они не могут. Два сильных человека связаны острой цепью, обоим больно, как кто зашевелится, и как один зашевелится, невольно режет другого, и обоим простора нет работать.
10 июня. Встал в 9. Боль в пояснице все усиливается. Читал биографию Пушкина и кончил. Гулял по Заказу, кое-что придумал. Главное, что «Юность» надо писать предпочтительно, не оставляя других: «Записок русского помещика», «Казака» и комедии, особенно для последней главная тема окружающий разврат в деревне. Барыня с лакеем. Брат с сестрой. Незаконный сын отца с его женой et cet.[24]. Объездчик приходил и не застал, потом уж было поздно. Написал было записку Дуровой [?], но, боюсь, слишком нежно. Вечером была сходка. Окончательно отказались от подписки. Об оброке речь осенью. И я буду осень в деревне. Теперь же свободен.
13 июня. Встал в 5, ловил рыбу, шлялся. […] Читал прелестнейший рассказ «Чеченка» Николеньки*. Вот эпический талант громадный. […] Говорил нынче с Агафьей Михайловной, она рассказала про слепого мужика, который все-таки работает, вертит какую-то машину. С завтрашнего дня пойду по всем мужикам; узнаю о их нуждах и буду отдельно уговаривать в обязанные.
14 июня. Встал в 9. Шлялся. Поехал с Натальей Петровной к Гимбуту и к Арсеньеву. […] Читал Николенькин рассказ, опять заплакал. Рассказывая казачью песнь — тоже. Начинаю любить эпически легендарный характер. Попробую из казачьей песни сделать стихотворение*.
15 июня. Встал в 10. Шлялись с Дьяковым, много советовал мне дельного, о устройстве флигеля, а главное, советовал жениться на Валерии. Слушая его, мне кажется тоже, что это лучшее, что я могу сделать. Неужели деньги останавливают меня. Нет, случай. […]
18 июня. Приехал Дьяков, и уговорил его ехать вместе к Арсеньевым. Валерия болтала про наряды и коронацию. Фривольность есть у нее, кажется, не преходящая, но постоянная страсть. Приезд мой с Дьяковым был неловок, как будто обещал им что-то.
22 июня. Целый день один с тетенькой дома, в праздности, урывками играя и читая «Ньюкомов»*. Вечером долго не мог заснуть, был в мечтательном расположении духа и составил ясно не на бумаге, а в голове план «Юности». С 18 июня я не записывал, и один день у меня пропал как-то. Начинается сильное сердцебиение.
23 июня. Совсем нездоров, сердцебиение мешает ходить, зубная боль. Утром дописал дневник и заметки. Целый день дома, на рыбной ловле, читая «Ньюкомов»…
24 июня. Были у Арсеньевых с тетушками. Валерия была ужасно плоха, и совсем я успокоился.
26 июня. Встал в 9-м, читал «Ньюкомов», переписал заметки, перечел «Юность», хотел писать, но так и остановился. Мужика убрали*. Делал гимнастику, ел постный обед дома и поехал с Натальей Петровной к Арсеньевым. Встретил еще на дороге посланного. У них Тарасов. Валерия в белом платье. Очень мила. Провел один из самых приятных дней в жизни. Люблю ли я ее серьезно? И может ли она любить долго? вот два вопроса, которые я желал бы и не умею решить себе. Уезжая оттуда, Наталья Петровна страшно болтала. Мне стало противно. Вчера получил письма от Колбасина, Некрасова, Перфильева и Тургенева. Надо писать.
28 июня. Встал в 10, отделал первую главу «Юности» с большим удовольствием. Зубы разболелись хуже, после обеда поехал к Арсеньевым. Валерия ужасно дурно воспитана, невежественна, ежели не глупа. […]
30 июня. Встал в десять, дочел «Ньюкомов». Написал страничку «Юности», играл симфонию пятую. Приехали Арсеньевы. Валерия славная девочка, но решительно мне не нравится. А ежели этак часто видеться, как раз женишься. Оно бы и не беда, да не нужно и не желается, а я убедился, что все, что не нужно и не желается, — вредно. […]
1 июля. Проснулся в 12-м часу, играл много, написал странички две «Юности». […] Провел весь день с Валерией. Она была в белом платье с открытыми руками, которые у ней нехороши. Это меня расстроило. Я стал щипать ее морально и до того жестоко, что она улыбалась недоконченно. В улыбке слезы. Потом она играла. Мне было хорошо, но она уже была расстроена. Все это я узнаю.
2 июля. Написал письма Некрасову о «Современнике» и злости*, Розену и Корсакову, пообедал и поехал к Арсеньевым. Валерия писала в темной комнате опять в гадком франтовском капоте. Она была холодна и самостоятельна, показала мне письмо сестре, в котором говорит, что я эгоист и т. д. Потом пришла M. Vergani и начались шутливо, а потом серьезно рекриминации, которые мне были больны и тяжелы. Я сделал ей серьезно больно вчера, но она откровенно высказалась, и после маленькой грусти, которую я испытал, все прошло. Она несколько раз говорила, что теперь: пусть по-старому. Очень мила.
3 июля. [Покровское. ] Играл. Писал немного «Юность» и в 2 после обеда поехал*. Неделикатно сказал при тетушке Полине, которой дал деньги, что у меня денег нет. Ехал приятно, кой-что придумал, приехал в 12-ть, поболтался и лег спать.
4 июля. Дождь обложный, поездка в Мценск отложена. Послано к Тургеневу. День провел с детьми и музицируя.
5 июля. Проснулся рано, купался. Девчонка прибегала, но я был хорошо расположен и прогнал ее. Играл с детьми, обедал, музицировал. Приехал Тургенев. Он решительно несообразный, холодный и тяжелый человек, и мне жалко его. Я никогда с ним не сойдусь. […]
7 июля. [Спасское. ] […] Поехали к Тургеневу и там теперь. Дорогой испытал религиозное чувство до слез.
8 июля. [Покровское. ] Встал поздно, приехал. Сережа, Маша и Валерьян гадко поступили. Сереже неприятно, им тем паче. Провел день безалаберно. Тургенев глупо устроил себе жизнь. Нельзя устроить необыкновенно. У него вся жизнь притворство простоты. И он мне решительно неприятен. Вечером ловил рыбу, и поболтали славно с Сережей. Он хочет ехать за границу. Славные делали планы. Страшно, что планы.
10 июля. [Ясная Поляна. ] Лег спать, проснулся в 12. Играл, обедал, поехал к Арсеньевым. Там были гости. Валерия очень мила, и наши отношения легки и приятны. Что ежели бы они могли остаться всегда такие.
11 июля. Хотел ехать к имениннице Лазаревич, но простудился — ревматизм, и горло болит. Целый день дома играл, мечтал и был счастлив. Что за прелесть тетенька Татьяна Александровна, что за любовь!
12 июля. Встал поздно с горловой болью. Ничего не делал. Приехали судаковские. Валерия была лучше, чем когда-нибудь, но фривольность и отсутствие внимания ко всему серьезному — ужасающи. Я боюсь, это такой характер, который даже детей не может любить. Провел день, однако, очень приятно.
13 июля. Встал рано, горло лучше, но спина все болит. Поехал верхом, на овсы, через Бабурино в Мясоедово. Они выморочные, вольные. Дворовые сели на землю. Я долго говорил с одним. В кабак ходят больше, фруктовые сады вырубили. Некоторые живут хуже, но все говорят, как будто лестно, что слободные, на травке лежи, сколько хочешь. Хочу ехать к Арсеньевым и поговорить с Vergani.
С Vergani не говорил. Застал там Завальевского, а потом Спечинского. Добрый малый, кажется. Валерию дразнили коронацией до слез*. Она ни в чем не виновата; но мне стало неприятно, и я долго туда не поеду. Или, может, это оттого, что она слишком много мне показывала дружбы. Страшно и женитьба и подлость — то есть забава ею. А жениться — много надо переделать; а мне еще над собой надо работать. Приехал поздно.
16 июля. Дождь. Был у Брандта. Придумал фантастический рассказ*.
25 июля. Встал в 12, читал «Мертвые души» с наслаждением, много своих мыслей, ничего не писал. Погода хороша. За обедом, посредством спора, расшевелил Машу, и потом приятно поговорили с ней. После обеда поехал с Натальей Петровной к Валерии. В первый раз застал ее без платьев, как говорит Сережа. Она в 10 раз лучше, — главное, естественна. Закладывала волосы за уши, поняв, что это мне нравится. Сердилась на меня. Кажется, она деятельно любящая натура. Провел вечер счастливо.
27 июля. Встал поздно, праздноствовал с помощью фортепьян. Писал немного «Юность» и с большим удовольствием. Непременно, с моей привычкой передумыванья, мне надо привыкнуть писать сразу. За обедом поспорил желчно с Машей. Тетенька вступилась за нее. Она сказала, что Тургенев говорит, со мной нельзя спорить. Неужели у меня дурной характер? Надо удерживаться, а причиной всему гордость, правду сказала Валерия. После обеда ездил верхом и в баню. Ничего не делал.
30 июля. Проснулся поздно. Писал главу «Экзамен», написал листочка два. […]
31 июля. Встал поздно, пришла тетенька Татьяна Александровна. Она прелесть доброты. Писал главу экзаменов. […]
1 августа. Встал поздно. […] Просыпался рано и в пробуждении пробовал придумывать свои лица. Воображение ужасно живо. Успел представить себе отца — отлично. Дописал экзамены. Приехали Арсеньевы. Валерия была в конфузном состоянии духа и жестоко аффектирована и глупа. Думаю вечером писать. Не писал.
9 августа. 7 августа не помню. Знаю только, что в эти дни писал каждый день часа по два и был у Арсеньевых, и Валерия возбуждала во мне все одно чувство любознательности и признательности. Впрочем, вспомнил. 8-го они были у нас, и Валерия глумилась над собой, я дразнил ее. 8-го и 9-го я сидел дома, потому что переврала Наталья Петровна.
10 августа. Я писал утро, вечером поехал к ним. Они сбирались в баню. Мы с Валерией говорили о женитьбе, она не глупа и необыкновенно добра.
12 августа в десять поехал к Арсеньевым провожать. Она была необыкновенно проста и мила. Желал бы я знать, влюблен ли или нет. Приехал домой, пописал немного.
13 августа. Писал до двух, пришли гости из Засеки и надоедали до восьми. Написал письмо с поправками «Детства» и «Отрочества» Колбасину.
22 августа. Кончил начерно «Юность», первую половину, и придумал «Отъезжее поле», мысль которого приводит меня в восторг*. Молчание Валерии огорчает меня. Нынче протравил русака, которого отукнул.
23 августа. Утром был Гимбут, я объяснился с ним, хотел поправлять, но не приступил. Начал «Отъезжее поле».
29 августа. Утром дописал главу понимания*. Ездил на охоту, затравил двух, вечером ничего не делал, читал Берга. Как ни презренно comme il faut [?][25], а без него мне противен писатель, р. л.*.
1 сентября. Погода гадкая, снег. Диктовал и написал «Юность», с удовольствием до слез. Целый день дома.
4 сентября. Продиктовал три главы, и последняя очень хороша. Ездил на охоту, ничего не нашел. Здоровье нехорошо, все болит, сон гадкий. О Валерии думаю очень приятно.
6 сентября. Встал с колотьем в боку, но поехал на охоту и в Судаково. Ничего не нашел. В Судакове с величайшим удовольствием вспоминал о Валерии. Приехав домой, совсем разболелся, послал за доктором, поставил пиявки и отказал Офросимову, который присылал, но продиктовал, и порядочно, главу: «Кутеж».
[22 сентября. ] 21, 22. Здоровье все плохо, переделывал «Юность» порядочно, кажется. Получил от Дружинина письмо и отвечал ему, посылая «Юность»*.
23 [сентября]. Здоровье поправилось, приезжал Троицкий. Поправил «Юность». Вторая половина очень плоха.
24 [сентября]. Здоровье лучше и лучше. Приезжала m-lle Vergani, по ее рассказам Валерия мне противна. Кончил «Юность», плохо, послал ее.
25 [сентября]. Утром хозяйственные мысли, ничего не делал, ездил к Арсеньевым. Валерия мила, но, увы, просто глупа, и это был жмущий башмачок.
26 сентября. Была Валерия, мила, но ограниченна и фютильна невозможно.
29 сентября. [Судаково. ] Проснулся в 9 злой. Валерия не способна ни к практической, ни к умственной жизни. Я сказал ей только неприятную часть того, что хотел сказать, и поэтому оно не подействовало на нее. Я злился. Навели разговор на Мортье, и оказалось, что она влюблена в него*. Странно, это оскорбило меня, мне стыдно стало за себя и за нее, но в первый раз я испытал к ней что-то вроде чувства. Читал «Вертера»*. Восхитительно. Тетенька не прислала за мной, и я ночевал еще.
1 октября. [Ясная Поляна. ] Проснулся все не в духе. Часу в 1-м опять заболел бок без всякой видимой причины. Ничего не делал, но, слава богу, меньше думал о Валерии. Я не влюблен, но эта связь будет навсегда играть большую роль в моей жизни. А что, ежели я не знал еще любви, тогда, судя по тому маленькому началу, которое я чувствую теперь, я испытаю с ужасной силой, не дай бог, чтоб это было к Валерии. Она страшно пуста, без правил и холодна, как лед, оттого беспрестанно увлекается. Написал письмо Ковалевскому и отставку вчера*.
7 октября. Дома праздно и не в духе.
8 октября. Поехал к Арсеньевым. Не могу не колоть Валерию. Это уж привычка, но не чувство. Она только для меня неприятное воспоминание. Затеял было писать комедию*. Может, возьмусь.
11 октября. [Лапотково. ] Проснулся в 9-м, поехал охотой к Маше. Приехал в Лапотково в 5, затравив одного. Прочел «Bourgeois Gentil’homme»* и много думал о комедии из Оленькиной жизни. В двух действиях*. Кажется, может быть порядочно. Перечел весь этот дневник. Чрезвычайно приятно.
14 октября. [Покровское. ] Встал рано. Порфирий с наслаждением ругал мне часа два Николая Николаевича Тургенева. И Тургенев кругом виноват*. Никакая художническая струя не увольняет от участья в общественной жизни. Что лучше, увидав зарезанного, с отвращением отойти от него или дать ему хоть неловкое пособие.
Ничего не делал целый день, получил вчера письмо от Ивана Тургенева, которое мне не понравилось. Вечером приехал Валерьян. Мне не хочется ехать в Москву. Читал «Пиквикский клуб», а дорогой Molier’a.
15 октября. Встал в 8-м, немного пописал. Написал начало комедии и письмо Тургеневу, получил письмо от Дружинина. Хвалит «Юность», но не слишком. Мне приятно с Машей, много болтал о своих планах об «Отъезжем поле». Завтра, кажется, пороша.
19 октября. [Судаково. ] Поехал в Тулу, заехал к Арсеньевым на минутку. Получил письма от Сережи, Панаева и расписки от майоров. […] Вечер у Арсеньевых и ночевал. Смотрел спокойнее на Валерию, она растолстела ужасно, и я решительно не имею к ней никакого, дал ей понять, что нужно объясненье, она рада, но рассеянно. Ольга умна. Ночевал у них.
20 октября. [Ясная Поляна. ] Поехал с ними в санях в Ясную. Не скучно было. Но сердит на себя за то, что не решился ей объяснить всего.
[22 октября. Судаково. ] Утро провел дома, читая; тетенька все дуется. Я не выдержал этого и поехал к Арсеньевым. Сначала по своему полю ничего не нашел. У них был Павлов, поэтому не мог найти случая рассказать историю Храповицкого* и для этого остался ночевать. Немножко поговорили, обещался утром рассказать.
23 [октября]. Еще Валерия не встала, как приехали Гимбуты и опять помешали рассказать историю. После обеда было очень весело. Когда Гимбуты уехали, за ужином затеялся милый разговор вчетвером, и я рассказал m-lle Vergani историю Храповицкого в кабинете, а она рассказала ее Валерии. Напрасно я не сказал сам. Я заснул почти спокойный, но далеко не влюбленный, — у них.
24 октября. [Ясная Поляна. ] Валерия пришла смущенная, но довольная. Мне было радостно и совестно. Я уехал. Дома помирились с тетенькой.
Поехал на бал. Валерия была прелестна. Я почти влюблен в нее.
25 октября. Был у них, говорил с ней. Очень хорошо. Чувствовал даже слезливое расположение духа.
27 октября. Утро болен, гулял, писать ничего не могу. Приехала Валерия. Не слишком мне нравилась, но она милая, милая девушка, честно и откровенно она сказала, что хочет говеть после истории Мортье, я показал ей этот дневник, 25 число кончалось фразой: я ее люблю. Она вырвала этот листок.
28 октября. С собаками доехал до Гимбута, у него обедал, утром написал письмо Дарагану, Арсеньеву и поехал к Валерии. Она была для меня в какой-то ужасной прическе и порфире. Мне было больно, стыдно, и день провел грустно, беседа не шла. Однако я совершенно не вольно сделался что-то вроде жениха. Это меня злит. Застал Сережу. Прочел у них «Фауста» Тургенева. Прелестно.
29 октября. С Сережей болтал целое утро. С ним поехал к Арсеньевым. Она была проста, мила, болтали в уголку.
[30 октября. Судаково. ] Ездил на охоту, поймал двух на логовах, одного застрелил, нашел m-lle Vergani и с ней поехал к Арсеньевым. Нечего с ней говорить. Ее ограниченность страшит меня. И злит невольность моего положения. Много думал на охоте. Надо больше жить жизнью. Совершенства нет. Хорошо, ежели нет худа.
[31 октября. Тула. ] Ночевал у них. Она не хороша. Невольность моя злит меня больше и больше. Поехал на бал, и опять была очень мила. Болезненный голос и желание компрометироваться и чем-нибудь пожертвовать для меня. С ними поехали в номера, они меня проводили, я был почти влюблен.
1 ноября. [Москва. ] В дороге думал только о Валерии, не совсем здоров, приехал в Москву ночью, остановился у Шевалдышева.
2 ноября. Написал Валерии длинное письмо. Поехал к Маше, она мила и здорова. Рассказывал ей про Валерию, она на ее стороне. Вечером был у Боткина, очень приятно, и у Островского, он грязен и, хотя добрый человек, холодный самолюбец. Страшная мигрень.
3 ноября. Утром письмо тетеньке, у Машеньки, катался с детьми, обедал у Боткина. Григорьев и Островский, я старался оскорбить их убеждения. Зачем? не знаю. Вечером у Маши и Волконского, очень приятно.
4 ноября. Дочел «Полярную звезду»*. Очень хорошо, записал дневник. […]
5 ноября. Утром писал немного, обедал опять у Маши, в театре «Горе от ума» — отлично. […]
7 ноября. [Петербург. ] Приехал, был у Константинова, он славный, великий князь знает про песню*. Ездил объясняться с Екимахом* молодцом, гимнастика, обедал дома один, вечером Дружинин и Анненков, немного тяжело с первым.
8 ноября. Утром написал злое письмо Валерии, одно не послал, другое послал. Был у Дружинина и Панаева, редакция «Современника» противна. Гимнастика. Обедали с Гончаровым и Дружининым у Клес, вечером сидели у меня и Ковалевский. Поехали к Краевскому, чему я очень рад.
10 ноября. Встал в 11-м. Ничего не успел написать, как пришел Балюзек, поехал смотреть квартиру к Колбасину и на гимнастику. Успел тоже написать Сереже, Маше и Константинову. Купил книгу, обедал дома, прочел все повести Тургенева. Плохо. Диктовал немного. С Дружининым поехал к Ольге Тургеневой. Дружинин стыдится за меня. Ольга Тургенева, право, не считая красоты, хуже Валерии. Много о ней думаю. Нашел квартиру. Завтра переехать и в Правоведение. Видел во сне вальс с Валерией и странный случай.
11 ноября. С утра переезжал, читал дрянь, льстился на службу, но удержался. Пошел к Давыдову, прочел рецензию на «Севастополь в августе» и «Метель», умно и дельно*, поехал на квартиру. Оставили меня без сапог, злился. Написал крошечное письмо Валерии, думаю о ней очень. Продиктовал часа 1½. Поехал к Гардееву. С Трузсоном приехал домой, он отсоветывает жениться, славный человек. Завтра к Константинову, Гончарову, в Правоведение, в штаб, приготовить для переписки «Роман русского помещика».
13 ноября. Встал в 11-м, писал второе явление комедии*, на гимнастику, там мальчик-аристократ, в 4-м часу к Дружинину, там Гончаров, Анненков, все мне противны, особенно Дружинин, и противны за то, что мне хочется любить, дружбы, а они не в состоянии. […] Перечел переписанный «Роман русского помещика», может выйти хорошая вещь. Чуть-чуть подиктовал «Разжалованного» и дописал письмо Валерии — очень холодно.
14 ноября. Встал рано, писал утром немного «Разжалованного». К Панаеву, нагнал тоску. Я страшно восприимчив к похвале и порицанью. Гимнастика весело. Дома Нечаев, обедал, спал, ездил зачем-то к Ухтомскому, дописал начерно «Разжалованного». Завтра написать Некрасову и объяснить цену за «Юность» и предложить Давыдову*.
15 ноября. Ничего не сделал из назначенного. С утра встал и поправил «Разжалованного», читал «Генриха IV»* и злился на «Современник». Гимнастика, обедал у Боткина. История с «Современником», я высказал отчасти свое мнение. Читал «Разжалованного», приняли холодно, оттуда поехали с Дружининым к Анненкову и застали его играющим на органе, поехали к Безобразову. Собрание литераторов и ученых противно, и без женщин не выйдет. Потом ужинали с Анненковым и много толковали, он очень умен и человек хороший.
17 ноября. С утра переправлял «Роман русского помещика», растянуто жестоко. Гимнастика, обедал дома и опять то же работал до 9 часов. Поехал к Боткину, застал там Дружинина, приятно провел вечер, я был добр и скромен, и от этого хорошо было. Спорили с Боткиным о том, представляет ли себе поэт читателя, или нет. Он склонен к туманности. Дружинин был добродушен. Получил 100 р. от Колбасина.
18 ноября. Переправлял «Разжалованного», поехал к Боткину обедать. Читал «Роман русского помещика». Он дал хорошие советы, говорит — порядочно, приятно болтали, был у доктора от боли в ляжке; приехав домой, поставил банки, прочел статью Дружинина, приехал Трузсон, сначала было скучно, потом разболтались до двух.
19 ноября. С утра ленился приняться. Немного написал «Роман русского помещика». Получил письмо от Валерии недурное, но странно — под влиянием работы я к ней хладнокровен. Гимнастика, дома обедал, от пива спать захотелось, написал Валерии среднее письмо и от 9 до 2 работал. Больше половины сделано.
20 ноября. Встал в 10, написал немного. Гимнастика, обедал у Дружинина. Там Писемский, который, очевидно, меня не любит, и мне это больно. Дружинин отказался слушать меня, и это меня покоробило, дома нашел письмо от Валерии. Ничего нового в письмах, неразвитая любящая натура. Отвечал ей, лег в 3.
21 ноября. Встал в 1. Пришел Майков. Гимнастика, обедал у Столыпина, неучтив был с его женой. У Боткина весь вечер, прочел «Роман русского помещика», решительно плохо, но напечатаю. Надо вымарывать. […]
22 ноября. Встал в 11. Хотел писать, не шло. Гимнастика. Обедал у Панаева. Потом у Краевского до вечера. Литературная подкладка противна мне до того, как ничто никогда противно не было. Написал Валерии письмо. Очень думал об ней. Может, оттого, что не видал в это время женщин.
23 ноября. Встал в 1. Тишкевич помешал, поправил немного, обедал дома. Поправлял. Получил милое письмо от Валерии, отвечал ей. […] Как хочется поскорее отделаться с журналами, чтобы писать так, как я теперь начинаю думать об искусстве, ужасно высоко и чисто.
25 ноября. Встал в 9, дурно спал опять. Поехал в зверинец, рано. К Ковалевскому, он был мил. В университете дрянь играли. Государь читал «Детство». В зверинце барыня со сладострастными глазами. Поработал утром и перед обедом. Обедал дома, был милый Анненков и несносный Бакунин. […]
26 ноября. Встал в 10, писал, гимнастика, дома обедал, диктовал «Утро помещика» хорошо, приехал Балюзек, потом Дружинин, легко и приятно. Получил глупо-кроткое письмо от Валерии, поехал к Ольге Тургеневой, там мне неловко, но наслаждался прелестным трио. Заехал к Панаеву, он нагнал на меня тоску.
27 ноября. Встал в 10. Получил письмо глупое от Валерии. Она сама себя надувает, и я это вижу — насквозь, вот что скучно. Ежели бы узнать так друг друга, что не прямо воспринимать чужую мысль, а так, что видеть ее филиацию в другом. […]
29 ноября. Пропустил и не помню, что делал. Корректуры немного. Да, кончил «Утро помещика» и сам отвез к Краевскому*, там был в духе, спор с консерватором. Каменский. Дудышкин и Гончаров слегка похвалили «Утро помещика». О Валерии мало и неприятно думаю.
30 ноября. Зачем-то с утра взял карету, поехал к Константинову. Штатское платье еще нельзя, в магазины, книги купил, заказал платье, гимнастика, все болит, обедал дома, корректура «Разжалованного», который плох. Опоздал к Анненкову и к Дружинину и к Щербатову. […] Получил страховое и милое письмо от Валерии. […]
1 декабря. Встал в 11, записал день и играл до гимнастики. Рука очень болела, обедал дома, дочел Carmen* — слабо, французско, получил письмо от Тургенева и послал ему. Заснул, пришел Полонский, смешон, Боткин, с ним в «Гугенотов», просто нехорошо. Написал письмо Валерии, хорошее, ни тепло, ни холодно, и письмо Каткову. Завтра написать письма тетеньке, Николеньке, Сереже, съездить к Шевич, к Оболенскому и к Столыпину.
2 декабря. «Разжалованного» не пропускают. Поехал в университет. Симфония прелестна. К Столыпину, он скучен. К Боткину, к Дюссо обедать. Вечер сидел с Боткиным, Дружининым и Анненковым. Приятно, денег издержал много, к Шевич написал.
3 декабря. Ничего не пишу — читал Мериме — хорошо, думаю комедию*. Гимнастика, хорошо не болит. Обедал дома, заснул, был у Шевич, скучно, играл. У Боткина, Панаев хвалит «Юность» очень. Приятно, поправил корректуры «Разжалованного». […]
5 декабря. Утро читал «Обыкновенную историю»*, которую послал Валерии. Написал Сереже и тетеньке. Поправил «Разжалованного», гимнастика, у Шевич слушал дурной рассказ, у Дружинина приятно, объяснился с Панаевым. […]
7 декабря. Встал поздно, написал письмо Валерии, гимнастика, обедал дома, прочел «Бедную невесту»*, просто слабо. Хороша его любовница. Был в цирке, ужинал неизвестно зачем у Дюссо. Прочел вторую статью Дружинина*. Его слабость, что он никогда не усомнится, не вздор ли это все.
11 декабря. Читал «Лира»*, мало подействовало, гимнастика, обедал дома. К Боткину — там застал Анненкова и Дружинина, ужинал. Мне очень грустно.
16 декабря. Встал в ½ 3-го, свеж, пошел к Ковалевскому, взял материал для истории, обделал дело Б-й Зубкова [?], к Боткину, у него продержал корректуры* и приятно болтал, к Дружинину, от него к А. Толстому. Прутковщина. Его мать добродушно-лихая, славная госпожа.
17 декабря, проснулся в 11, стал поправлять третью тетрадь, принесли перемаранные корректуры духовной цензурой. Пошел на гимнастику, очень был в духе. Упал. У Боткина обедал, не похвалил его статью*, он злился. Потом к Тургеневу. Лир прелестен*. Но с Ольгой Александровной мне все неловко, виноват Ванечка. Завтра ехать к Иоанну* и написать Николеньке, тетеньке и Валерии.
18 декабря. Разбудили меня в 11. Поехал к отцу Иоанну, стерва! К Панаеву, там Чернышевский, мил. На гимнастике плохо. У Панаева обедал, Боткин в восхищенье от «Юности», у меня Столыпин, Полонский, Дружинин, Анненков, Боткин, Панаев, Жемчужников, Толстой. […]
28 декабря. Встал поздно. Все думал о комедии. Вздор. Гимнастика. Получил свидетельство*. Обедал у Шевич. Блудов стерва. Вяземский запретил последнюю главу*. От Некрасова письмо. Неожиданно поехал к Дружинину. Не кончил корректуру, пришли наряженные.
29 декабря. Встал поздно, получил длинное письмо от Валерии, это мне было неприятно. Гимнастика. Злился дома. Обедал у Боткина. Нелепость и невежество цензуры ужасны. Был у Лажечникова, он жалок. Дома музыка. Безобразов, Бакунин, Столыпин, Боткин, Дружинин, Анненков. Хорошо было. Нервы мои убиты до сих пор.
Дневник помещика
28 мая [1856 г.]. В 8 часов вечера я позвал к себе старосту Василья — молодого красивого мужика из богатых ямщиков, который ходит в синем казакине и говорит красноречиво, путая господские обороты с крестьянской речью, и Осипа Наумова, мужа моей кормилицы, бывшего старосту, известного за колдуна, хозяина и пчеловода. Осипу Наумову лет 60, но на вид не более 40. Он приземист, очень белокур, глаза всегда смеются. Он умен, речист и гордится тем, что знает солнечные часы и планы, что не мешает ему быть вполне народным как в жизни, речах, так и приемах. Я объявил им, что намерен отпустить всех крестьян по оброку, и созвал сходку для того, чтобы узнать, согласен ли будет мир на оброчное положение при следующих двух условиях: 1) чтоб крестьянские земли все отмежеваны были к одному краю, и 2) чтоб дело я имел не с каждым отдельным крестьянином, а с обществом, причем общество за недоимки обязано выставлять по урочной плате нужное число рабочих.
Василий сказал, что размежевку земли составить слишком затруднительно, на что я ответил, что затруднения не остановят меня. Осип сказал, что иметь дело с обществом невозможно, потому что найдется слишком много лежебоков. Он не понял меня. Когда я объяснился лучше, он замолк. Я перешел к сходке. Здравствуйте (я не знал, сказать ли «ребята», или «друзья», или «мир», и промычал что-то), сказал я и спросил, нет ли жалоб и довольны ли начальниками. Все молчали, я смотрел на Матвея Егорова, богатого ямщика. «Так довольны», — повторил я. «Что ж…» — сказал кто-то. «Стало быть, довольны», — повторил я опять после долгого молчания и перешел к изложению моего предложения. Когда я сказал, что даю еще по полдесятины на душу, двое поклонились. Я сказал, что дело не в благодарности (они перестали тотчас же), а в том, чтобы ответили мне на два вопроса. Когда объяснял, как я понимаю мои отношения к обществу, многие изъявили одобрение. Когда я говорил о перемежевке, Василий объяснил, что та самая отходящая земля, 25 десятин, приступит к крестьянскому полю. Я ничего не понял и выразил ему это, но один из мужиков понял, что то была речь о земле барской в крестьянском клине, которая поступит в число ¼ десятины на душу.
Предоставив решить дело между собой, я ушел домой. Часа через 1½ пришли Василий и Осип и объявил Василий, что насчет общества согласны, чтоб я положил сумму на всех и сказал, какую еще землю даю, чтобы они знали, сколько мне платить могут. Общинное начало не удивило их, они еще развили его. Насчет размежевки земли же они изъявляли свое несогласие, предполагая, что вся крестьянская земля будет переделяться между ними и между мной; причем Осип прибавил, что ежели я у них за С. верхом землю отмежую, то они без хлеба останутся. Они, видимо, предполагали во мне умысел обобрать их. Когда я объяснил, что перемежевки не будет, исключая наивозможного сосредоточения в одно всей моей земли, они согласились. При этом я показал это, как я понимаю, на плане. Осип старался не столько понимать, что я говорил, сколько уколоть Василия его незнанием плана. О цене же я сказал, что прежде назначения ее хочу определить все условия, и что тогда пусть сами скажут, что могут дать. Я купец, они покупатели. Это понравилось Осипу. Еще я сказал им передать миру, чтобы определили справочные цены работ, весьма неудачно объяснив необходимость не набавлять цены тем, что я не буду брать их по высоким ценам зарабатывать оброк, и приказал старосте поговорить с владельцами всех долженствующих перемежеваться земель о их требованиях.
Они ушли, но я не вытерпел и в темноте подошел к забору, от которого мог слышать их речи. Объяснение перемежевки понравилось, говорили все вместе. Свеженавозные земли были одним затруднением; кто-то один сказал, что коли у кого отойдет навозная земля, то миром навозить ее, и все согласились. Владельцами перемежевывающихся земель оказались все, и все согласились. Насчет справочных цен почти единогласно чрезвычайно умеренно назначили цены: пахоту 1 р. сер., косьбу крюком 50 к. с. и т. д. Доводом к тому, чтобы не набавляли лишнего, было то, что коли дорого назначить — будут работать чужие и своим придется брать дешевле. Как они меня поправили!
Я подошел к ним; сняли шапки и замолкли. Говорили только староста, Осип и Резун, бездомовник, умный плотник, говорун, лет 60, но на вид 40, худощавый, остроносый, с бородой. Я требовал, чтобы надели шапки, говоря, что с шапками голос пропал. Дружелюбно смеялись: цель сходки нравилась. Резун предложил взять земли на мальчиков. Осип нетерпеливо поддернул плечом и отвернулся. Я сказал, что земли даю только те, которые находятся в владении. Поняли, что Резун бил на нечистое дело.
Я предложил вопрос о том, сколько хотят сенокоса в одном месте, чтобы ни мне, ни миру обидно не было. Резун сказал, что половину дать им. Я ответил, что он судит скоро, чтоб подумал: цена оброка будет зависеть от того, сколько у них будет земли. Замолчали, и звуки одобрения. Я простился и пошел, они тоже пошли, громко разговаривая. Завтра дадут ответ о сенокосе.
29 мая. В 9 часов мне сказали, что собралась сходка. Я пошел к ним и предложил вопрос о сенокосе. Вообще заметно было уныние, непохожее на вчерашнее расположение духа. О сенокосе мне сказали, что у них сена слишком мало и желали бы иметь больше, именно Арковский верх и т. д. Я пошел с Осипом смотреть на плане. Он многозначительно поводил пальцем и растолковал мне. Мы решили определить так, что я отдаю все покосы, исключая некоторых. Я вышел снова к ним из конторы и предложил вопрос так: хотите взять по вольному контракту или нет и какую назначите цену? Осип сказал: рублей 20,— как будто не понимая, в чем дело — предложил то есть 1/3 настоящей цены. Я снова ушел в контору, посоветовав им совещаться. Я с глазу на глаз объявил Василию цену, за которую я хочу отпустить. Он нашел цену небольшою. Сообщил ему мысль приобщить дворовых к общине. Он понял так, что крестьяне будут нанимать у дворовых. Сообщил тоже Осипу о дворовых, ему понравилось. Осип сказал вдруг, что о сенокосе несогласны, не зная цены. Вышел к ним, объяснил о дворовых всем, обращаясь преимущественно к Резуну. Он вдруг сказал, что вообще отвечать общиной не согласны. Мы разошлись совсем. Они сказали, что с барщиной много довольны и жить хорошо, ежели бы я прибавил сенокоса и земли. Снова я спросил, как могут быть не согласны, не зная цены. Просили открыть цену. Я сказал. Молчание. Резун сказал: нельзя. Какой-то дерзкий голос, с желанием уколоть меня, как мне показалось: оброком нас всех разорите. Много голосов, все из бедных и бездомовных: за что общество будет отвечать за неимущих и полтора оброка платить? Я доказывал, что заработают барщиной, одной поденной работой в 1½ раза больше. Умолкли. Я предложил советоваться и ушел. Вызвал старосту, прося его убедить их. Он обещал, как дело весьма для него легкое. Снова я пошел к ним. Уже толковали о том, сколько платить старикам без земли. Просили прибавить земли на мальчиков и убавить цены, я назначил каждый день сходки и ответ в троицын день через пять дней.
3 июня. Троицын [день]. Сходки не было, потому что я не приказал старосте, а только сказал мужикам на сходке. Василий, однако, утром сказал мне, что мужики решительно не согласны, что Осип сказал, что и 10 р. не заплатить, а Резун один согласен. Вечером на Груманте встретил Кирилу, Анисимова брата, в лесу и заговорил с ним; он сказал, что нынешний год тяжел падежом лошадей, и поэтому оброк невозможен. Потом подъехал к Осипу: он с сдержанной улыбкой умного человека, который проник, что его хотят надуть, и не поддастся, сказал, что придется платить по 150 рублей за нищих, что оброк велик и что староста угнетатель.
Встретил Резуна, тот сказал, что он не понимает упорства других, что он согласен и что надо поговорить еще. Потом подъехал к Даниле (богатый семейный мужик, из ямщиков, худой, бледный, неподобострастный, но добродушный и очень умный). Он подошел ко мне, когда я заговорил об оброке, с лицом, выражающим стыд за меня, что я притворяюсь и лгу. Он отделался общими местами, говоря, что и за мной жить хорошо, что при папеньке моем за ними оброк тоже не стоял. Часов в 10 я пошел ходить с Васильем и рассказал ему весь свой план. Василий понял, не удивился и сказал, что он как пред богом, так и передо мной объяснит, что они имеют в разуме, что я хочу сделку сделать, теперь обязательство взять, так как знаю, что в коронацию всем будет свобода, и главное от этого не соглашаются. Они и не знали, что я намерен пересадить на оброк с осени. Но трудно будет разуверить в том, что я их обманываю. Завтра открою им свою мысль и допущу оброк хотя нескольких, ежели не захотят обществом.
5 июня. Нынче была сходка. Когда я спросил: желают ли на оброк обществом, долго все молчали и потом стали говорить, что дорого и что некоторые пойдут, может. Сказали только, что не согласны, когда я спросил: не согласны? Говорили, что хлеба нет и придется платить по 92 рубля, что некоторые пойдут. Я объяснил, что все дело решится только осенью. Молчание… Я вошел в контору и из окна начал говорить: что цель моя в том, чтобы они откупились. Молчание. Что произойти это не может раньше выкупа из Совета, 24 лет. Яков, белобрысый бойкий мужик, сказал, что никто не доживет до этого срока. Звуки одобрения. Сказали, что оброк велик и что и так жить хорошо. Я предложил идти на оброк тем, которые хотят, и составить общество. Звуки одобрения; но когда я сказал, что остальные пусть вместе с другими сделают условие — контракт, послышались испуганно-недовольные возражения, что может сделаться болезнь и из всего общества 10 человек останется. Я сказал (необдуманно), что контракт нельзя сделать иначе, как когда все пойдут, а потом сказал, что можно и совсем, вообще изложил неясно.
Сначала напали бедняки, и из первых Яков, на то, что оброчным нечего ходить, ежели не все. Я объяснил, что каждый свободен; потом возразили, что пусть лучше останется на прежнем положении, а то кормить в голод некому будет, и выйдя из оброка, я не приму его. Возвратились к оброку, просили отсрочку до осени; когда я сказал, что нужно мои поля бросить, они предлагали нанять их. Я сказал им пункты условия, все изъявили неудовольствие и к подписке выражали страх. Потом я заметил, что ежели свобода будет дана общая, то условия контракта моего пусть будут недействительны. С ужасом восставали на всякое поползновение к подписке и обращались к оброку. Я сказал, что подписка для того, чтобы связать наследников. Они сказали, что им все равно и у Морсочникова* жить. Даже те, которые были за оброк, замолкли. Стали льстить и врать официально. «Вы наши отцы, нам хорошо».
Резун вдруг предложил отдать им всю землю. Я предложил ему отдать мне свой армяк и сапоги. Засмеялись. Я возвратился к подписке. Оскорбленно говорили, что никак нельзя, как можно, отцы не делали, и дети пусть служат, как будто я предлагал им дать подписку в том, что каждый будет осквернять святыню. Данило, к которому я приступил, требуя объяснения отказа и объясняя его надеждой воли без выкупа, божился мошеннически, и все одобрительно подтверждали его слова, что они ничего не знают. Он сказал, что дети пусть тоже служат барину. Да, я сказал, разве им не лучше будет? Нет, — ответил он, и все подхватили, — вольным жить хуже. И опять начали не то льстить; видно, они испугались чего-то, чего — еще я не понял. Я сказал, что все-таки пусть потолкуют, согласны ли на контракт и кто согласен на оброк? Голос из толпы, что на оброк никто не пойдет, и все одобрительно молчали. Я отошел в сад и минут через пять вернулся. Никого уже не было. Все разошлись молча, плотники толковали с старостой о сваях. Как будто нынешние мои слова были уже так глупы, что не стоило никакого внимания. Староста, с которым я после заговорил об этом деле, сообщил мне, что когда он начал говорить им, они и слушать не стали и разошлись молча. Староста, который на мою сторону клонит и, как богатый мужик, должен желать свободы, объяснял их несогласие, действительно, тем, что свободным хуже. Он подтверждал это примерами. Завтра напишу черновое условие и дам им.
6 июня. Вот черновой договор*, который дал старосте и который он одобрил, с тем чтобы дать его читать крестьянам. Староста объяснил мне, что они, действительно, ожидают вольной в коронацию и что они боятся, [что] я их надую.
7 июня. Я велел собрать стариков. Староста же сделал весьма неудачный выбор. Влас, болезненный, развратный старик. Мороз, добродушный плут, который отвечал мне, что он глух. Владимир, добрый, но тупой мужик Резун, Осип и Данило. Староста им прочел еще прежде меня, я прочел снова. Резун говорил, что понимает, когда же я приступил с вопросами: хотят или нет? сказали, что лучше по-старому, что мы готовы, — одним словом, не отвечали на вопрос. Осип сказал, что хуже бы не было от того, что три дня; я доказывал нелепость его слов. Он сказал, что он стар, — с молодыми поговорите. Потом сказал, что начальства будет много. Данило, злобный плутовской брюнет. Ямщик. Косится на других, когда говорит. Говорил, что они глупы, не понимают. Лучше служить по-старому, и что они не доживут воли. Наконец, когда я нападал на их недоверие и скрытность, Резун, которому, между прочим, нужно от меня лошадь, сказал, что он скажет все: надеятся свободы, а я их свяжу подпиской. Я прочел последний пункт, опять толковал, просил об одном, чтобы со мной советовались. Стали сговорчивей и обещались подумать. Воскресенье велел созвать общую сходку. На этой сходке Резун снова, как будто обещая согласиться, просил прибавить земель, и все подтверждали.
Черновое письмо гр. Блудову.
Ваше сиятельство!
Граф Дмитрий Николаевич!
Уезжая из Петербурга, я, кажется, имел честь сообщать вам цель моей поездки в деревню. Я хотел разрешить для себя, в частности, вопрос об освобождении крестьян, занимавший меня вообще. Перед отъездом моим я даже подавал докладную записку товарищу министра внутренних дел, в которой излагал те основания, не совсем подходящие к законам о вольных хлебопашцах и обязанных крестьянах, на которых я намерен был сделать это*. Г-н министр передал мне словесно через своего товарища, что он одобривает мой план, рассмотрит и постарается утвердить подробный проект, который я обещал прислать из деревни.
Приехав в деревню, я предложил крестьянам идти вместо барщины на оброк вдвое меньший, чем оброк в соседних деревнях. Сходка отвечала, что оброк велик и они не в состоянии будут уплатить его. Я предлагал заработки — несогласие. Я предложил им выйти в обязанные крестьяне работой по три дня в неделю, с прибавками земли, с тем чтобы, по истечении 24 лет, срока выкупа именья из залога, они получили вольную с полной собственностью на землю. К удивлению моему, они отказались и еще, как бы подтрунивая, спрашивали, не отдам ли я им еще всю и свою землю. Я не отчаивался и продолжал почти месяц каждый день беседовать на сходках и отдельно. Наконец, я узнал причину отказа, прежде для меня непостижимого. Крестьяне, по своей всегдашней привычке к лжи, обману и лицемерию, внушенным многолетним попечительным управлением помещиков, говоря, что они за мной счастливы, в моих словах и предложениях видели одно желание обмануть, обокрасть их. Именно: они твердо убеждены, что в коронацию все крепостные получат свободу, и смутно воображают, что с землей, может быть, даже и со всей — помещичьей: в моем предложении они видят желание связать их подпиской, которая будет действительна даже и на время свободы.
Все это я пишу для того только, чтобы сообщить вам два факта, чрезвычайно важные и опасные: 1) что убеждение в том, что в коронацию последует общее освобождение, твердо вкоренилось во всем народе, даже в самых глухих местах, и 2) главное, что вопрос о том, чья собственность — помещичья земля, населенная крестьянами, чрезвычайно запутан в народе и большей частью решается в пользу крестьян, и даже со всей землею помещичьею. Мы ваши, а земля наша. Деспотизм всегда рождает деспотизм рабства. Деспотизм королевской власти породил деспотизм власти черни. Деспотизм помещиков породил уже деспотизм крестьян: когда мне говорили на сходке, чтобы отдать им всю землю, и я говорил, что тогда я останусь без рубашки, они посмеивались, и нельзя обвинять их: так должно было быть. Виновато правительство, обходя везде вопрос, первый стоящий на очереди. Оно теряет свое достоинство (dignité) и порождает те деспотические толкования народа, которые теперь укоренились. Инвентари. Пускай только правительство скажет, кому принадлежит земля. Я не говорю, чтобы непременно должно было признать эту собственность за помещиком (хотя того требует историческая справедливость), пускай признают ее часть за крестьянами или всю даже. Теперь не время думать о исторической справедливости и выгодах класса, нужно спасать все здание от пожара, который с минуту на минуту обнимет [его]. Для меня ясно, что вопрос помещикам теперь уже поставлен так: жизнь или земля. И признаюсь, я никогда не понимал, почему невозможно определение собственности земли за помещиком и освобождение крестьянина без земли? Пролетариат! Да разве теперь он не хуже, когда пролетарий спрятан и умирает с голоду на своей земле, которая его не прокормит, да и которую ему обработать нечем, а не имеет возможности кричать и плакать на площади: дайте мне хлеба и работы. У нас почему-то все радуются, что мы будто доросли до мысли, что освобождение без земли невозможно и что история Европы показала нам пагубные примеры, которым мы не последуем. Еще те явления истории, которые произвел пролетариат, произведший революции и наполеонов, не сказал свое последнее слово, и мы не можем судить о нем как о законченном историческом явлении. (Бог знает, не основа ли он возрождения мира к миру и свободе.) Но главное, в Европе не могли иначе обойти вопроса, исключая Пруссии, где он был подготовлен. У нас же надо печалиться тому общему убеждению, хотя и вполне справедливому, что освобождение необходимо с землей. Печалиться потому, что с землей оно никогда не решится. Кто ответит на эти вопросы, необходимые для решения общего вопроса: по скольку земли? или какую часть земли помещичьей? Чем вознаградить помещика? В какое время? Кто вознаградит его? Это вопросы неразрешимые или — разрешимые 10-летними трудами и изысканиями по обширной России.
А время не терпит, не терпит потому, что оно пришло исторически, политически и случайно. Прекрасные, истинные слова государя, сказанные в Москве*, облетели все государство, все слои, и запомнились всем, во-первых, потому что они сказаны были не о параде и живых картинах, а о деле, близком сердцу каждого, во-вторых, что они откровенно-прямо-истинны. Невозможно отречься от них, опять потому, что они истинны, или надо уронить в грязь prestige[26] трона, нельзя откладывать их исполнения, потому что его дожидают люди страдающие.
Пусть только объявят ясно, внятно, законом обнародованным: кому принадлежит земля, находящаяся в владении крепостных, и пусть объявят всех вольными, с условием оставаться в продолжение шести месяцев на прежних условиях, и пусть под надсмотром чиновников, назначенных для этого, прикажут составить условия, на которых останутся отношения крестьян с помещиками, пусть допустят даже свободное переселение с земель и определят по губерниям minimum его. Нет другого выхода, а выход необходим. Ежели в шесть месяцев крепостные не будут свободны — пожар. Все уже готово к нему, недостает изменнической руки, которая бы подложила огонь бунта, и тогда пожар везде. Мы все говорили: это много труда, обдумыванья, времени. Нет! время приспело. Есть три выхода: деньги! Их нет. Расчетом уплатой — время нет. И третий — без земли. Можно после утвердить. Первая приготовительная мера — объявление, нечего скрываться, все знают.
10 июня. Была окончательная общая сходка. Долго молчали на мой вопрос: согласны ли? Наконец один маленький плюгавый бедняк заговорил за всех и объявил, что не согласны. Общее мычанье подтвердило. Резун объяснил причины, будто бы 1) что я не даю сенокоса, и 2) что мальчики будут подрастать, земли понадобятся и неоткуда их будет взять, и 3) что по 24 лет им одних своих земель мало. Я отвечал, что сенокосы дам и земли будут давать по требованию. Опять жалобы на недостаток хлеба, сенокосов и поголовную работу, которая их разорила совершенно. (По журналу не выходит 130 дней на тягло.) Я сказал, что одно средство — подписка. Вопль, что мы не противничали, как служили, так и будем, не было бы хуже, за больных отвечать. Я решил, что дело прямо невозможно, и предоставил один оброк, осенью решится дело.
Опять является смутное понятие о их собственности на всю землю. Потом я предложил земли; никто не хотел брать, говоря, что для этого нужно принуждать: очевидное противоречие с вторым доводом Резуна.
Мир, как правила детской игры, compétent в решении дел о сенокосах, но перенесите его в другую сферу, дайте ему другую задачу, задачу о выходе из помещичьей власти, он не только не решает, но сам уничтожается, и остаются невежественные бессмысленные единицы. Контракт с ними невозможен, я решил одно — оброк, для того завести своих рабочих. Когда все будут на оброке, еще раз предложу контракт.
1857
1 января. [Петербург. ] Всю ночь спал дурно. Эти дни слишком много слушал музыки. Проснулся в 12-м часу, получил сухое, но милое письмо от Тургенева*. Написал письмо Валерии, короткое и сухое*, и Некрасову, которое посылать мне отсоветовали*. Перевел сказочку Андерсена*. За обедом у Боткина прочел ее, она не понравилась. От Некрасова получил письмо Боткин, он лестно вспоминает обо мне*. Болтали приятно, я пошел к Ольге Тургеневой и у нее пробыл до 12-го часа. Она мне больше всех раз понравилась. Едва удержался, чтобы не ехать в маскарад.
2 января. Встал поздно, пошел на гимнастику, оттуда обедать к Боткину, от него с Анненковым к Дружинину, и у него написали проект фонда*. Утром читал Белинского*, и он начинает мне нравиться. Страшная головная боль.
3 января. Очень поздно встал, прочел прелестную статью о Пушкине и поехал к Блудовой и Шевич, первую не застал, вторая почти отказала участие в театре*. Гимнастика. Обедал у Боткина. От него к Толстому. Он милая, детски мелкопоэтическая натура. […]
4 января. Встал во 2-м часу. Статья о Пушкине — чудо*. Я только теперь понял Пушкина. Гимнастика. Обедал у Боткина с одним Панаевым, он читал мне Пушкина, я пошел в комнату Боткина и там написал письмо Тургеневу*, потом сел на диван и зарыдал беспричинными, но блаженными, поэтическими слезами. Я решительно счастлив все это время. Упиваюсь быстротой морального движенья вперед и вперед. Вечером был у Дружинина, у Писемского и, против чаяния, провел вечер приятно, его жена славная женщина, должно быть.
6 января. Встал в 12-м часу с головной болью, у меня сидел Бакунин, играл с ним и с ним и с Колбасиным пошел к Боткину. Известие о освобождении крестьян*.[…]
7 января. Встал почему-то в 7 часов и до 2-х ничего не писал, хотя и намеревался, только читал и разыгрывал. На гимнастике торжество майора, стоившее мне пять рублей, не удалось. Толки об указе вздор, но в народе волнение. Обедал дома хорошо. Спал. У Столыпина, не расположен был слушать музыку, нервы тупы. История Кизиветтера подмывает меня*.
8 января. Помянут мое слово, что через 2 года крестьяне поднимутся, ежели умно не освободят их до этого времени. Проснулся, славная погода, первое лицо встретил Кизиветтера. После гимнастики поехал к Альбрехту и за скрипкой. Застал Дружинина в дыму, больше никто не пришел обедать. Удивительно, что мне с ним тяжело с глазу на глаз. Пришел Кизиветтер. Он умен, гениален и здрав. Он гениальный юродивый. Играл прелестно. […]
11 января. Опоздал на чугунку, разбудил Колбасина, пришел Чернышевский, умен и горяч. Гимнастика, один обедал дома. Спал. Разбудил Кавелин, к которому я заезжал. Пылок и благороден, но туп. Потом Колбасин и Давыдов, у которого я взял 800 р. Она не пришла, и мне это грустно.
12 января. [По дороге в Москву. ] […] Три поэта. 1) Жемчужников есть сила выражения, искра мала, пьет из других. 2) Кизиветтер, огонь и нет силы. 3) Художник ценит и того и другого и говорит, что сгорел.
[…] Писать не останавливаясь, каждый день: 1) «Отъезжее поле», 2) «Юность» вторую половину, 3) «Беглеца», 4) «Казака», 5) «Пропащего», 6) Роман женщины — «тогда орехи, когда зубов у белки нет». Любит и чувствует себя вправе тогда, когда уже дает слишком мало*. 7) Комедия. «Практический человек», Жоржзандовская женщина и Гамлет нашего века, вопиющий больной протест против всего; но безличие*.
[…] Повесть Григоровича* дрянь.
13 января. [Москва. ] Спал до 2-х. Поехал к Маше. Она грустна, одинока. Полина* — тщеславная 60-тилетняя девочка. Поехал в клуб, спорил о Грановском с Черкасским*, сухой диалектик.
20, 21, 22, 23, 24, 25 января. Чтение у С. Т. Аксакова. «Детство»* прелестно! Бал у Нарышкиных, танцевали две кадрили, скучно. Бал у Воейковых. Муромцева чахоточна — приятно. Островского «Доходное место» лучшее его произведение* и удовлетворенная потребность выражения взяточного мира. Самолюбие невозможное. Менгден замечательная женщина. Вечер у Сушковых. Тютчева мила.
29 января. [В дороге*.] Утро дома, визит к Аксаковым, к [1 неразобр. ], обед у Шевалье. Поехал, гадко сидеть, спутники французы и поляк. Я не довольно самостоятелен, однако обдумал много «Пропащего». Едем 30, 31.
3 февраля. Indigestion[27], холод, скука, моральная усталость. Кажется, что «Пропащий» совсем готов. Вспомнил постыдную нерешительность насчет бумаг к Герцену, которые принес мне присланный по письму Колбасина Касаткин*. Я сказал об этом Чичерину, и он как будто презирал меня. […]
21 нового стиля. [Париж. ] Все время в дороге. Путаница в голове и в записках. Нынче приехал в Париж. Я один — без человека, сам все делаю, новый город, образ жизни, отсутствие связей и весеннее солнышко, которое я понюхал. Непременно эпоха. Аккуратность и прежде всего каждый день хотя четыре часа уединения и труда. Не мог сойтись с Тургеневым и Некрасовым. Много издержал денег, ничего ровно не видал. […] Тургенев мнителен и слаб до грустного. Некрасов мрачен.
[11/23 февраля. ] 15/23*. Встал поздно, копался долго, дома с порядком, поехал к банкиру, взял 800 франков, сделал покупки и перешел*. Был у Львова, она мила — русская. Читал речь Наполеона с неописанным отвращением*. Дома начал немного путешествие* и обедал. Бойкая госпожа, замер от конфуза. Театр «Précieuses ridicules» и «Avare»* — отлично. «Vers de Vergue»* невыносимая мерзость.
19/3 марта. Утро дома до 2. Получил письмо от Валерии. У Garnier — философ, последователь Декарта. Шлялся до 5. Обедал дома. Противный англичанин. С Тургеневым в концерт, прелестный трио и Виардо. Delsarte. Поднял на улице… У Тургенева грустно.
[24 февраля/8 марта. ] 25 ф./8 м. Утром зашел Тургенев, и я поехал с ним. Он добр и слаб ужасно. Замок Fontainebleau. Лес. Вечер писал слишком смело*. Я с ним смотрю за собой. Полезно. Хотя чуть-чуть вредно чувствовать всегда на себе взгляд чужой и острый, свой деятельнее.
[25 февраля/9 марта. Париж — Дижон. ] 26 ф./9 м. Дурно спал. В 8 поехали, дорогой играли. Тургенев ни во что не верит, вот его беда, не любит, а любит любить. Пошел в баню — мерзость. Несмотря на этот комфорт, пропасть своего рода лишений для нашего брата русского. Обедал. Кафе. Писал и плохо и хорошо. Больше первое. Слишком смело и небрежно.
[26 февраля/10марта. Дижон. ] 26/10. Спал отлично. Утром написал главу славно. Ходил с Тургеневым по церквам. Обедал. В кафе играл в шахматы. Тщеславие Тургенева, как привычка умного человека, мило. За обедом сказал ему, чего он не думал, что я считаю его выше себя. Театр Etoile du Nord. Sakinkers [?]. Вечером написал главу порядочно.
1/13 марта. Встал поздно. Тургенев скучен. Хочется в Париж, он один не может быть. Увы! он никого никогда не любил. Прочел ему «Пропащего». Он остался холоден. Чуть ссорились. Целый день ничего не делал.
4/16 марта. [Париж. ] Встал поздно. Поехал в Hôtel des invalides. Обоготворение злодея, ужасно*. Солдаты, ученые звери, чтобы кусать всех. Им надо умирать с голоду. Оторванные ноги поделом. Notre dame. Дижонская лучше. Fontainebleau. Грустно ужасно. Издержал пропасть денег. Опоздал обедать к Трубецким. Княжна разнравилась. Hume и сделал и не сделал*. Надо попробовать самому. Зашел к Тургеневу. Он дурной человек, по холодности и бесполезности, но очень художественно-умный и никому не вредящий. Получил депешу от Сережи, ответил ему. Грустно ужасно. Деятельность единственное средство.
5/17 марта. Встал в 12, убрал кое-как портфель, пошел с Орловым в Лувр. Все лучше и лучше. […] Зашел к Тургеневу. Нет, я бегаю от него. Довольно я отдал дань его заслугам и забегал со всех сторон, чтобы сойтись с ним, невозможно.
6/18 марта. Встал в 1. Одевшись, пошел на биржу и сделал кое-какие покупки. Биржа — ужас. Обедал, дома противно от земляка. Пошел в «Bouffes Parisiens»*. Истинно французское дело. Смешно. Комизм до того добродушный и без рефлексии, что ему все позволительно. […]
7/19 марта. Вчера ночью мучило меня вдруг пришедшее сомненье во всем. И теперь, хотя оно не мучит меня, оно сидит во мне. Зачем? и что я такое? Не раз уж мне казалось, что я решаю эти вопросы; но нет, я их не закрепил жизнью. Встал раньше, усердно работал по-итальянски. Пошел ходить на Colonne Vendôme[28] и по бульварам. В 5 зашел Тургенев, как будто виноватый; что делать, я уважаю, ценю, даже, пожалуй, люблю его, но симпатии к нему нету, и это взаимно. […]
15/27 марта. Встал поздно. Поехал в Версаль. Чувствую недостаток знаний. […] Пошел в Folies Nouvelles* — мерзость. «Diable d’argent» тоже*. Император с гусарами. У Тургенева. Шлялся с Рюминым, великанша, песни диких. Ездил смотреть Père-Lachaise*.
4 апреля. Встал в 12. Начал писать довольно лениво. Читал Бальзака*. Пустили Брикона, я вышел, чтобы от него отделаться, и вернулся в 5. Читал «Myrrha»* по-итальянски, обедал наверху. Пошел смотреть Ristori — одно поэтическое движение стоит лжи пяти актов. Драма Расина и т. п. поэтическая рана Европы, слава богу, что ее нет и не будет у нас. Дома написал листок. Ложусь во 2-м часу.
6 апреля. Больной встал в 7 час. и поехал смотреть экзекуцию*. Толстая, белая, здоровая шея и грудь. Целовал Евангелие и потом — смерть, что за бессмыслица! Сильное и недаром прошедшее впечатление. Я не политический человек. Мораль и искусство. Я знаю, люблю и могу. Нездоров, грустно, еду обедать к Трубецким. Написал глупое письмо Боткину*. Читал лежа и дремал. Пошел к Трубецким, пр. [?] смущал меня. Там Hartmann, Тургенев. Долго слишком остался, и надоело. Пошел к Тургеневу. Он уже не говорит, а болтает; не верит в ум, в людей, ни во что. Но мне было приятно. Гильотина долго не давала спать и заставляла оглядываться.
7 апреля. Встал поздно, нездоровый, читал, и вдруг пришла простая и дельная мысль, уехать из Парижа. Пришли Тургенев и Орлов, с ними зашел к последнему, шлялся, укладывался, обедал с Тургеневым и навязавшимся Крюднером у Дюрана, оттуда на минутку зашел к Тургеневу, он к Виардо, я к Львовым. Княжна была. Она мне очень нравится, и кажется, я дурак, что не попробую жениться на ней. Ежели бы она вышла замуж за очень хорошего человека и они бы были очень счастливы, я могу прийти в отчаяние. Поболтал потом с честной и милой институткой и пошел спать спокойнее, чем вчера.
8 апреля. [Париж — Амберьё. ] Проснулся в 8, заехал к Тургеневу. Оба раза, прощаясь с ним, я, уйдя от него, плакал о чем-то. Я его очень люблю. Он сделал и делает из меня другого человека. Поехал в 11. Скучно в железной дороге. Но зато, пересев в дилижанс ночью, полная луна, на банкете. Все выскочило, залило любовью и радостью. В первый раз после долгого времени искренне опять благодарил бога за то, что живу.
10 апреля. [Женева. ] Проснулся рано, чувствую себя здоровым и почти веселым, ежели бы не гадкая погода. Поехал в церковь, не застал службы, опоздал говеть, сделал покупки, был у Толстых. Александрин Толстая вдалась в религиозность, да и все они, кажется. Bocage* — прелесть. Целый день читал «Cousine Bette», но был аккуратен в жизни. Написал пять заглавий*. В 28 лет глупый мальчуган.
15 апреля. Встал поздно — баня. Читал там предисловие «Comédie Humaine», мелко и самонадеянно;* читал немного историю революции* и «Liberté» Emile Girardin* — пусто, хотя честно. Ничего не написал, но вновь передумал. Буду писать наикратчайшим образом самое дело. Выходит страшно неморально.
16 апреля. Написал письмецо Тургеневу в ответ на милое, полученное от него. Был два раза у службы церковной. Читал «Liberté» Girardin. Хорошо, но безвыводно. Немного писал. Много передумал. Надо делать мне три вещи: 1) образовывать себя, 2) работать в поэзии и 3) делать добро. И поверять эти три дела ежедневно.
17 апреля. Кажется, окончательно обдумал «Беглеца». Ходил к доктору, делал заказы, ванны, площаница. Мария хорошо сложена. Читал «Liberté», исповедовался. Хорошее дело, во всяком случае. Получил письмо от тетеньки.
19 апреля. Дурно спал, все как будто боялся опоздать куда-то. В 9 пошел в ванну, дома читал историю Франции. Был на проповеди Martin. Умно, но холодно ужасно. Написал конспект*. Поскорее отобедал и пошел с Пущиными к Толстым. Встретил два раза Марию, недурна, но уже высокомерно учтива. Пущины прелесть добродушия. Мещерский может мне быть полезен, пойду к нему. Был страшным демократом, напрасно. Тоже напрасно кокетничал с англичанкой.
20 апреля. Встал рано, ванна. Читал «Dames aux perles»*. Талант, но грунт, на котором он работает, ужасен. Деправация Бальзака — цветочки перед этим. Церковь. Мне было весело. Начал «Беглеца», пошло хорошо, но ленился. Обедал дома, катался на лодке, продолжал читать и укладывался. Так что в целый день, для образования себя и для добра, ничего не сделал.
[21 апреля. Женева — Кларан. ] Встал в пять, ванна, уложился, на пароход. Дурная погода. Не видал, как прошло время, с милою Толстою. Путаница. Обед у Пущиных. […]
[22 апреля. Кларан. ] Встал в восемь, пописал немного «Казака». Началась беготня, все поехали в Риги. Очень приятно, беззаботно весело, вернулись в восемь, поехали к Мещерским. Хорошие люди. Ничего не делал, но очень, очень приятно, веет каким-то добром, особенно Лизавета Карамзина — славная.
24 апреля. Толстая уехала, несмотря на гадкую погоду. Мне хоть совестно было, но я не поехал провожать ее. Обедал гадко в Vevey. Лизавета Карамзина хорошая, но выработанная, поэтому тяжелая особа. Чай пил с батюшкой у Пущиных. Вечером у Карамзиной. Мещерские отвратительные, тупые, уверенные в своей доброте, озлобленные консерваторы.
26 апреля. Нездоровится. Немного пописал «Казака». Получил письма от Некрасова, Тургенева и А. Толстой. Читал историю революции. Гордость. В начале бе слово. Вечером сидел Пущин и хвастался изо всех сил.
30 апреля. [Кларан. ] Встал рано, походил, читал отвратительные дела англичан с Китаем* и спорил о том с стариком англичанином. Написал немного поэтического «Казака»; который мне показался лучше, не знаю, что выбрать. Целый день читал историю революции.
5 мая. Встал поздно. Буквально целый день ничего не делал. Утром ходил в Montreux, в ванну. Прелестная, голубоглазая швейцарка. Написал ответ на полученное от Тургенева письмо. Англичане морально голые люди и ходят так без стыда. […]
11 мая. [Женева. ] […] К Толстым, весело, с ними на Салев. Очень весело. Как я готов влюбиться, что это ужасно. Ежели бы Александрин была 10-ю годами моложе. Славная натура. […]
14 мая. [Кларан. ] Встал в 5½, гулял до 8½. Писал «Поврежденного» листа три. Костя прелесть. Вечером пришла Карамзина с племянницей. Славная девочка. Доброта и простота.
12/24 мая. Встал в 8, целый день читал Sarrut*. Мыслей, особенно из романа русской женщины, бездна, художественно счастливых мыслей. […]
15/27 мая. […] Проводил милейших Пущиных. Я их душевно люблю. Мария Яковлевна готовность добра бесконечная. […]
7 июня. Встал в 8, болит губа. Утром писал славно дневник путешествия*, после обеда немного «Казака», купался, прошел до милого Бассе, и немного еще «Поврежденного». Славно.
8 июня. Встал в 8, нездоровится. Писал «Поврежденного» один лист и письмо Некрасову и Карамзиной. Купаюсь два раза в день, катался на лодке. Получил письма от Тургенева, Некрасова, Боткина и Дружинина. Приехали чистоплотные, дурносопые англичанки.
9 июня. Очень тяжело спал, нездоровится, встал в 7, выкупался, снес письма на почту. Писал «Отъезжее поле» мало, но идет порядочно. Припадок деятельности начинает ослабевать. […]
9 июня. Я как-то ошибся днем. Туман как будто, это дождь шел целый день. Славно написал первую главу «Юности», и написал бы больше, но хочется скорее сделать полный круг. После обеда писал дневник путешествия. Написал маленьких листочков девять, но не кончил. […]
10 июня. Проснулся в 6, ясно. Пошел в Веве, для векселя. Ничего не сделал. Был у Зыбиных. […] Написал листа четыре или больше «Путевых записок». Отлично обдумал «Беглого казака» и опробовал написанное.
11 июня. Разбил зеркало. Только этого предсказания недоставало. Имел слабость загадать в лексиконе, вышло: подметки, вода, катар, могила. Целое утро читал «Соседей»*. Плохо как произведение искусства, но милого, симпатического таланта и поэзии много. Целый день не выходил. Написал больше после чаю пять листков «Беглого казака».
[31 мая/12 июня. Кларан — Женева. ] 12 июня. Утром сходил в Блоне. Прелесть. Овальный новейший фонтан и величественные старинные террасы, треснувшие каштаны и преющие лавочки. Поехал в Женеву. […]
17 июня. [Турин* — Сен-Мартен. ] Проснулся рано, выкупался, сбегал в Atheneum*. Чувство зависти к этой молодой, сильной свободной жизни. Пошли в кафе. Везде можно жить и хорошо. Поехали с Владимиром Боткиным в Chivasso. […]
19 июня. [Грессонэ. ] […] Писал листочка два «Казака». Читал восхитительного Гете, «Прощанье и встреча»*. Ходил в Trinité. Лощина вроде Гриндельвальда, хороша. Вл. Боткин милый русский малый.
24 июня. Встал в 6, выкупался. Читал Боткину «Поврежденного». Действительно, это плохо. «Казак» ему понравился. Болтали, поехал в Vevey, там шлялся. Дома поболтали. Ровно ничего, исключая успеха «Казака».
4 июля. [Женева — Берн. ] Проснулся в 9, торопясь собрался на пароход. Толпа такая, какой я не видал никогда. Молоденький курчавый швейцарчик, чисто говорит по-французски, лжет, путает, но все складно. Руссо был фармасон. Разные типы: 1) Немцы угловатые, широкоскулые, с брошкой на боку манишки. 2) Французы, тоненькие парижане. 3) Толстые здоровяки-швейцарцы. Железная дорога. Крики, венки, приемы, путешествующему владыке-народу. Обед с курьером. Путешествующая школа девочек и мальчиков, с румяным, потным, скуластым регентом. Французы в другом вагоне, везде хотят faire la noce[29]. Восхитительная лунная ночь; пьяные крики, толпа, пыль не расстраивают прелести; сырая, светлая на месяце поляна, оттуда кричат коростели и лягушки, и туда, туда тянет что-то. А приди туда, еще больше будет тянуть вдаль. Не наслаждением отзывается в моей душе красота природы, а какой-то сладкой болью. Хорошо было до Берна, в вагоне спали, я глядел в окошко и был в том счастливом расположении духа, в котором я знаю, что не могу быть лучше. Нашел квартиру в «Couronne». Вход стрелков с музыкой был мне жалок.
7 июля. [Люцерн. ] Проснулся в 9, пошел ходить в пансион и на памятник Льва*. Дома открыл тетрадь, но ничего не писалось. «Отъезжее поле» — бросил. Обед тупо-умно-скучный. Ходил в privathaus[30]. Возвращаясь оттуда, ночью — пасмурно — луна прорывается, слышно несколько славных голосов, две колокольни на широкой улице, крошечный человек поет тирольские песни с гитарой и отлично. Я дал ему и пригласил спеть против Швейцерхофа — ничего, он стыдливо пошел прочь, бормоча что-то, толпа, смеясь, за ним. А прежде толпа и на балконе толпились и молчали. Я догнал его, позвал в Швейцерхоф пить. Нас провели в другую залу. Артист пошляк, но трогательный. Мы пили, лакей засмеялся, и швейцар сел. Это меня взорвало — я их обругал и взволновался ужасно*. Ночь чудо. Чего хочется, страстно желается? не знаю, только не благ мира сего. И не верить в бессмертие души! — когда чувствуешь в душе такое неизмеримое величие. Взглянул в окно. Черно, разорванно и светло. Хоть умереть.
Боже мой! Боже мой! Что я? и куда? и где я?
8 июля. Здоровье нехорошо, ревматизм в ноге, р. Погулял чуть-чуть. Написал письмо тетеньке. Передумал «Отъезжее поле» и начал иначе. Не пишется. […]
9 июля. Встал рано, хорошо себя чувствую. Выкупался, не нарадуюсь на квартирку, писал «Люцерн», написал письмо Боткину до обеда. Взял Фрейтага «Soll und Haben» и Андерсена «Импровизатора» и читал, ездил на лодке и ходил в монастырь. Робею в пансионе ужасно, много хорошеньких. Я сижу с немцем. Хитрый купец, воспитавший детей лучше себя. Старик глухой, трогательная история соблазненной дочери.
10 июля. Здоров, в 8 выкупался, писал «Люцерн» порядочно до обеда. Дочел Фрейтага, плох. Невозможна поэзия аккуратности. […]
11 июля. [Люцерн — Зарнен. ] Встал в 7, выкупался. Дописал до обеда «Люцерн». Хорошо. Надо быть смелым, а то ничего не скажешь, кроме грациозного, а мне много нужно сказать нового и дельного. […]
16 июля. Встал в 7, собака разбудила, я упустил ее. Немного пописал, пошел к Саше. Что нам делать? Скучно. Жара утомительная. После обеда пописал, сколько мог, несмотря на жару, читал «Вильгельм Мейстера»* и «Miss Brontë»*. Третьего дня получил письмо от Тургенева, милое, спокойное. От Боткина недовольное. Нынче ответил им, но не пошлю. Вечером шлялся, кретинка. Возвращаясь, ночь — из окна пансиона Мендельсон. Неужели слезы Sehnsucht[31], которыми я часто плачу, пропадут с годами. Я боюсь замечать это за собой. Надо понатужиться к характерной, порядочной жизни.
22 июля. [Шафгаузен — Фридрихсхафен. ] Шафгаузен. Встал в 6, выкупался. Собаки все нет — злился. Чуть-чуть пописал «Казака», пошел к водопаду. Ненормальное, ничего не говорящее зрелище. […]
23 июля. [Фридрихсхафен — Штутгарт. ] Встал в 7; купался. Пошел в летний дворец. Милая бедность и отвратительная чопорность и придворность. […] Отлично думается, читая. Совсем другое казак — дик, свеж, как библейское предание, и «Отъезжее поле» — комизм живейший, концентрировать — типы и все резкие.
Увидал месяц отлично справа. Главное — сильно, явно пришло мне в голову завести у себя школу в деревне для всего околотка и целая деятельность в этом роде. Главное, вечная деятельность. […]
30 июля. Леченье будто, праздная жизнь. Вечер с барышнями опять в Obersteinschloß. Неловко. Дрянь народ. А больше всего сам дрянь.
31 июля. [Баден — Баден. ] Утро то же. Приехал Тургенев. Нам славно с ним. Вечер у Смирновой, смешно и гадко. Лег поздно, нездоровится.
1 августа. Такой же пошлый день, взял у Тургенева деньги и проиграл. Давно так ничто не грызло меня. Получил письма от Сережи. Маша разъехалась с Валерьяном. Эта новость задушила меня. Ванечка мил. И мне стыдно перед ним.
5 августа. [Эйзенах — Дрезден. ] В 9 приехал. Нездоров. Город мил. Поехал в ванну, иду оттуда — Пущин. Он потерял много прелести, вне Швейцарии. Сбегал в галерею. Мадонна сразу сильно тронула меня. Спал до 4. Театр, комедия Гуцкова*. Немецкая сосредоточенность. […]
6 августа. [Дрезден. ] Здоровье еще хуже. Пошел по книжным и музыкальным лавкам, глаза разбегаются. Выбрал нот и книг, опять в галерею, остался холоден ко всему, исключая мадонны. […]
31-е июля нашего. [Петергоф. ]* Встал рано, здоровье плохо. Утро сизое [?], росистое, с березами, русское, славно. С Некрасовым неловко. Поехали к Ратаеву. Он напоил. Некрасов дорогой говорил про себя. Он очень хорош. Дай бог ему спокойствия. Шапулинский напугал. Я остаюсь. Дружинин приехал. Я почти не воспользовался им. Пиявки. Авдотья стерва, жаль и Панаева и Некрасова*.
1-е августа. [Петербург. ] Здоровье скверно. Прочел им «Люцерн». Подействовало на них*.[…]
2 августа. Дома, читаю. Салтыков талант, серьезный*. Здоровье плохо.
6 августа. Решился выехать. Все, худо ли, хорошо, обделал. Выехал в 9. Противна Россия. Просто ее не люблю*. Здоровье лучше.
8 августа. [Ясная Поляна. ] Встал в 4. Лошади до 5 не приезжали. Поехал. На полдороге встретил Василья. Приехал в Ясную в 11. Приветствую тебя, мой*…Прелесть Ясная. Хорошо и грустно, но Россия противна, и чувствую, как эта грубая, лживая жизнь со всех сторон обступает меня. Зорина прибили на станции, я хотел заступиться, но Василий объяснил мне, что для этого надо подкупить доктора. И много такого он говорил мне. Бьет, сечет. Вот как дорогой я ограничил свое назначенье: главное, литературные труды, потом семейные обязанности, потом хозяйство — но хозяйство я должен оставить на руках старосты, сколько возможно смягчать его, улучшать и пользоваться только 2-мя тысячами, остальное употреблять для крестьян. Главный мой камень преткновенья есть тщеславие либерализма. А как Тит — для себя по доброму делу в день, и довольно*.
9 августа. [Пирогово. ] Встал в 9, здоровье нехорошо. Староста глубоко презирает меня, и мне трудно с ним что-нибудь сделать. […] Поехал в Пирогово. Бедность людей и страдания животных ужасны. […]
10 августа. Целый день болтовня и чувство разочарованья в счастье, которое я ожидал. За обедом желчный спор Сережи с Машей.
11 августа. [Пирогово — Ясная Поляна. ] Здоровье получше. Монах, гувернантки и даже тетенька расстраивают наш кружок. Маша рассказала про Тургенева. Я боюсь их обоих. Сережа трогателен с своим недоумением. Уехал домой. Меня вез Теншинов, погоревший четыре дня тому назад, 70 лет, завирается, добр и плут. Сел со мной. Разъяренный чиновник исколотил его за то, что зацепил. Я хотел дать 25 р., и подлое сомненье лишило меня этого удовольствия. Письмо от Pegot-Ogier.
12 августа. В 9-м, горло лучше. Похозяйничал недурно, пересмотрел книги, почитал Brontë; написал Ogier, Колбасину и Некрасову. Фортепьяно отнимает время. Написал вечером легко листочек «Казака». Был в бане. Холод, дождь. Надо усилия теперь против праздности и против излишнего рвения.
13 августа. С подрядчиком утром, отправлял старосту. Ленюсь ужасно и впадаю в старую колею. Ездил с собаками, здоровье хорошо. Немного читал Brontë, написал письмо Тургеневу. Приступил к отпуску с выкупом дворовых.
14 августа. Встал в 9. Здоровье лучше. Дождь целый день. Отправил в Тулу деньги Некрасову и в Пирогово за деньгами. Чуть-чуть пописал, играл, читал Brontë. Вечер И. И. мешал. Лень ужасная.
15 августа. [Ясная Поляна. ] Целый день ничего. Читал «Илиаду»*. Вот оно! Чудо! Написал Рябинину. Переделывать надо всю «Кавказскую повесть»*. Мужики мало идут на оброк, получил письмо от Зейде.
16 августа. Утро Василий Давыдкин. Дал ему 3 р. «Илиада». Хорошо; но не больше. Пошел гулять вокруг мельницы, думал о хозяйстве. Князь Енгалычев. Хитрый, глупый, необразованный и добродушный. Поехал и затравил зайца. Дома хозяйничал. Написал писулечку тетеньке, прибавил жалованье старосте. […] Опять лень, тоска и грусть. Все кажется вздор. Идеал недостижим, уж я погубил себя. Работа, маленькая репутация, деньги. К чему? Матерьяльное наслаждение тоже к чему? Скоро ночь вечная. Мне все кажется, что я скоро умру. Лень писать с подробностями, хотелось бы все писать огненными чертами. Любовь. Думаю о таком романе*.
17 августа. Только читал «Илиаду» и отрывками хозяйничал. Был на охоте и у Енгалычевых. Грустно и мрачно в этом доме, никаких воспоминаний. Вернулся в 1. «Илиада» заставляет меня совсем передумывать «Беглеца».
18 августа. Встал поздно, здоровье совсем хорошо; но утром я рассердился и бранился болваном. Беда! Не заметишь, как опять погибнешь. Читал «Илиаду». Был Сережа, мы с ним приятно болтали. «Отъезжее поле» совсем обдумалось, а «Кавказской» я совсем недоволен. Не могу писать без мысли. А мысль, что добро — добро во всякой сфере, что те же страсти везде, что дикое состояние хорошо, — недостаточны. Еще хорошо бы, ежели бы я проникнулся последним. Один выход.
21 августа. Совсем опять болен. Утром проводил Машу, почитал чуть-чуть «Илиаду», начал писать «Записки мужа» из дна*. Ходил гулять с детьми. Вообще целый день лучше, чем другие дни.
22 августа. Получил корректуры, переправил кое-как. Ужасно взбалмошно. Послал, пообедал, пошел гулять. Позанявшись утром, был свеж и доволен.
23 августа. Ложусь рано, чувствую себя свежим. Ничего не делаю. Привезли лекарство. Собак я не куплю. Лука приезжал, говорит, что мы все пропускаемся через машину. Здоровье опять хорошо.
24 августа. Немного попробовал пописать, но не то. Читал Гомера. Прелестно. Ездил на охоту, затравил одного. Написал холодное письмо Машеньке. Здоровье хорошо.
25 августа. [Пирогово — Ясная Поляна. ] Встал поздно, вчера объелся. Здоровье нехорошо. Читал восхитительную «Илиаду». Гефест и его работы. Сережа желчен, оскорбил тетеньку. Я радуюсь, что понемногу вхожу в роль примирителя. Дай бог мне силы самоотвержения и деятельности, и я буду счастлив. Поехал с собаками в Ясную. Затравил одного, Злобный в одиночку. Коротенькое письмо от Тургенева.
26 августа. Здоровье так и сяк. С утра хозяйство. Плохо во всех отношениях, а больше всего, что вновь втягивает меня в крепостную колею. Не хочется мучиться, чтобы заводить новое. Решил купить землю в Бабурине. После обеда замолотье. Зябрев отказался; читал Кольцова*. Прелесть и сила необъятная. Дал пять вольных. Что будет — бог знает, а делать людям лучше, хотя и не пользуясь нисколько благодарностью, все-таки дело и в душе что-то остается. Завтра еду чем свет*.
28 августа. 29 лет. Встал в 7, Машенька ездила в Спасское. Это злило меня:* в одиночку. Свиделись мы с ней таки холодновато. Права тетенька, что она не виновата во вкусе к этой среде; но вкус есть к этой отвратительной среде.
Сережа уехал. Мы с ним больше и больше сходимся. Главное, найти струнку, по которой играть на человеке, и свою струнку дать ему. Приехали спасские*. Скучны! Дети милы! Тетенька прелесть. Все советы ее золото правды, под какой бы странной, пошлой формой ни были. Только умей их разобрать. Морелька плоха. Читал вторую часть «Мертвых душ», аляповато. «Отъезжее поле» надо одно писать. И тетеньку туда. Завтра еду к Горчаковым.
29 августа. [По дороге из Пирогова в Верхоупье. ] Выехал в 6. Затравил одного, славно из-под стада. Рассердился, не найдя тарантаса. Дочел невообразимо прелестный конец «Илиады». Все мысли о писанье разбегаются, и «Казак», и «Отъезжее поле», и «Юность», и «Любовь[?]»*. Хочется последнее, вздор. На эти три есть серьезные материалы. Ложусь в 9. Завтра в Верхоупье, Ник. и к Горчакову. Читал Евангелие, чего давно не делал. После «Илиады». Как мог Гомер не знать, что добро — любовь! Откровение. Нет лучшего объяснения. […]
1 сентября. [Пирогово. ] Встал в 9, разломан и горло болит. Читал Козлова и «Думы»*, хорошо. Удаль форсирована, вот его большой недостаток. Целый день шлялся с детьми и ничего не делал. […]
2 сентября. Встал рано, попробовал писать, нейдет «Казак». Читал глупый французский роман. Ездил верхом после обеда. Здоров совсем. Машенька эгоистическая натура, и избалованная, и ограниченная. Написал братьям.
3 сентября. [Ясная Поляна. ] Написал Валерьяну и в Женеву. […] Поехал в Ясную, ничего не нашел. Продажа начинается леса. Денег нет. Прошла молодость! Это я говорю с хорошей стороны. Я спокоен, ничего не хочу. Даже пишу с спокойствием. Только теперь я понял, что не жизнь вокруг себя надо устроить симметрично, как хочется, а самого надо разломать, разгибчить, чтоб подходить под всякую жизнь.
6 сентября. Опять хозяйство, которое сильно втянуло меня. Поехал с собаками и ничего не нашел, да и скучно. Один обедал, попробовал читать Gackländer*, скверно, и mal fait[32] и бесталанно. О своем писанье решил, что мой главный порок — робость. Надо дерзать. Вечером написал два листочка «Погибшего». […]
8 сентября. Воскресенье. Послал по мужикам. Юхван 55 лет. Все испуганно на меня смотрели, а добрые. Макарычев рассказывал про воровство и клятвопреступление брата. Обедал один. Поехал верхом. Гимбут мошенничает. Пописал немного, и хотелось писать. Послал ответ Колбасину. Читал полученные письма Гоголя. Он просто был дрянь человек. Ужасная дрянь*.
24 сентября. Встал поздно. Злой. Якова бранил. Скверно! Чудная погода, пописал немного. Я распустился страшно во всех отношениях. Сколько нерешенных вопросов. О тяглах: прибавлять или нет? и т. д. […]
8, 9, 10, 11 октября. [Ясная Поляна. ] Был в Ясном, хозяйничал довольно успешно, изредка писал. […] Меня обругали «Петербургские ведомости»*.
19 октября. [Москва. ]* Хлопотал утро. Обедал в клубе, скучно, да и нездоровится. Вечер у Аксаковых. Отвратительная литературная подкладка.
20 октября. Пришел Фет, добродушный. Перенятая литераторская вычурность. […]
21 октября. Утро решил о квартире, ходил, обедал у Фета. И он самолюбив и беден. С ним у Аксаковых. В театр к Арсеньевым. Вчера был у Берса. Любочка* ужасна, плешива и слаба. Со всех сторон несчастья. И боже, как я стар. Все мне скучно, ничто не противно, даже сам себе ничего, но ко всему холоден. Ничего не желаю, а готов тянуть, сколько могу, нерадостную лямку жизни. Только зачем, не знаю. […]
22 октября. [Петербург. ] Поехал в Петербург, чуть не опоздал. Арсеньевы и Талызин там. Не очень он мне нравится. Утро к министру*, видел Зеленаго и почему-то смутился. К Некрасову, тяжел. К Анненкову, мил. Обедал в клубе с Ковалевским, вечером у Толстых. Прелесть Александрин, отрада, утешенье. И не видал я ни одной женщины, доходящей ей до колена. Александра Петровна вечером; поздно, у ней морщинки.
25 октября. У Блудовой утром. Обедал у Толстых и вечер у Салтыкова.
29 октября. Застал министра. Плохо успел поговорить о деле. Обедал у Шостак. История Перовского*. Прелесть Александрин. У них вечер.
30 октября. [Москва. ] Поговорил с Колбасиным и поехал. «Смерть Пазухина»* невозможная мерзость. Юшков. Деспот и дурак. Долгоруков, стареющий светский человек и бедняжка Мещерский из Парижа на Кавказ. Известие о свадьбе Орлова с Трубецкой возбудило во мне грусть и зависть. Приехал усталый и с жестоким насморком и гриппом. Машенька все рассказывала про себя, про меня не спросила слова. И приласкала меня. Ничего. Спал днем. Прочел книгу Н. С. Толстого*. Славно. И Севастополь Ершова* хорошо. Хочу сидеть дома и писать. Петербург сначала огорчил, а потом совсем оправил меня. Репутация моя пала или чуть скрипит. И я внутренне сильно огорчился; но теперь я спокойнее, я знаю, что у меня есть что сказать и силы сказать сильно; а там, что хочет, говори публика. Но надо работать добросовестно, положить все свои силы, тогда пусть плюет на алтарь*.
7 ноября. Ничего не мог писать, от Сережи пошел в Совет, прочел «Nord». К Арсеньевым, не застал. Дома обедал с тетушкой Полиной. Вечером читал «Дон-Кихота» и ездил в баню.
8 ноября. Встал раньше, написал письмо Валерии. Приятно сказал себе, что это хорошо*. Поехал на гимнастику с Сережей, он остается. Обедали одни, немного почитали. Тетушка собралась в театр. «Жених из ножовой линии» ловкая пьеса*. Садовский прекрасен, ежели бы не самоуверенная небрежность. Поехал к Сухотиным. Со всеми неловко, исключая с Александрой Алексеевной*. Отличная. Вернулся во 2-ом.
11 ноября. Пошел в Совет, к Островскому. Он холоден. Гимнастика. Фет обедал. Прочел «Антония и Клеопатру»* и разговором разжег меня к искусству. Надо начать драмой в «Казаке». Не могу спать.
13 ноября. Утром писал немного. Гимнастика. Дома обедал. У Фета вечер очень приятно.
14 ноября. Эврика! для «Казаков» — обоих убили*. […]
17 ноября. Ездил с Сережей, дома обедал. Вечер у Аксаковых, гордость страшная. Спорил о Гоголе напрасно.
23 ноября. Писал утро. С тетенькой приятно говорили у меня. Вечером писал и поехал к Аксаковым. Кажется, понравилось старику*.
24 ноября. Писал «Погибшего». Был у Тютчев[ой?]. Ужасно неловко почему-то. Славный обед дома. Дописал «Сон» недурно*. […]
25 ноября. Встал рано, пересматривал «Погибшего». Гимнастика немного подвигается. После обеда еще пересматривал и кончил. Вся вторая половина слаба.
27 ноября. Читал «Мертвое озеро»*, дрянь. Заехал Фет. […]
28 ноября. Не помню утро. У Киреевой. Обедал дома. Вечер у Сушковых, приятно в кабинете — Раевский интересен. Стихи Тютчева плохи*. Известие о циркуляре* — вчера. В клубе, глупо спорил в умной комнате*.
1 декабря. В час поехали с Машенькой в концерт. Впечатление слабо. Киреева, Сухотина, Оболенская, Щербатова хорошенькая. Н. С. Толстой обедал и сначала хорошо, а потом убил скукой. Вечер у Дьяковых. Чудные сестры. Александрин держит меня на ниточке, и я благодарен ей за то. Однако по вечерам я страстно влюблен в нее и возвращаюсь домой полон чем-то — счастьем или грустью — не знаю.
3 декабря. Немного писал. Обедал у Фета. Все что-то не то. «Антоний и Клеопатра». Перевод дурен. Театр, все время с Александрин. К ним чай пить, говорил ей о моем тумане. Она любит мой туман. Прения с Михаилом Михайловичем* о социализме.
5 декабря. Проснулся в час, походил, у Берса. Дома обедал, не в духе, голова болит. С Машенькой к Аксаковым. Они меня милостиво поучают. Иван Аксаков надрачивается. Дома спорил с братьями.
6 декабря. Гимнастика плохо. Писал немного. Театр, пьеса мерзость. К Сушковым. Тютчева, выговор за диалектику. К Рюминым — не то. Щербатова не дурна очень.
9 декабря. Утром Арсеньев. В Ясной. Хозяйство скверно. Сходка хорошо.
10 декабря. Вернулся в Москву.
11, 12, 13… до 26-го декабря. Несколько балов невеселых. Несколько надинских* вечеров приятных, но неясных. Последнее время скучных. Переправка «Музыканта». Напечатаю. Два раза у цыган.
26 декабря. В 12 встал, хотел позаняться, как пришел Островский, потом Сергеус с цыганами, широкие натуры — ералаш. Потом Аксаковы. Толк об обеде*. Обедали дома, тетенька доказывала пользу пытки; оттого что детей перепугали. Константин Аксаков. Николенька был с ним плох. У Сушковых очень приятно.
28 декабря. Крюков и Бахметев. Визиты. Сухотина мила очень. Олсуфьевы много говорили обо мне. Досадно. Обед на кончике; речи пошлые все, исключая Павловской*. Аксаков Константин мил и добр очень. У Сушковых В. была очень мила, но ровна. Раевский был отвратителен.
29, 30, 31 декабря. Бал у Бобринских, Тютчева начинает спокойно нравиться мне. Писал Николенькин сон*. Никто не согласен, а я знаю, что хорошо.
Отрывок дневника 1857 года
[Путевые записки по Швейцарии]
15/27 мая. Нынче утром уезжали мои соотечественники и сожители* в Кларанском пансионе Кетерера. Я давно уже сбирался идти пешком по Швейцарии, и, кроме того, мне слишком бы грустно было оставаться одному в этом милом Кларане, в котором я нашел таких дорогих друзей; я решился пуститься в путь нынче же, проводив их.
С утра в трех наших квартирах происходила возня укладки. Впрочем, наши хозяева поняли нас, русских, и, несмотря на то, что мы все хвастались друг перед другом своей практичностью, укладывали за нас трудолюбивые муравьи Кетереры.
Долго я пытался достигнуть аккуратности немецкой, но теперь уж махнул рукой, утешая себя тем, что ежели у меня и пропадают и пачкаются и мнутся вещи больше, чем у прусского генерала, который укладывался два дня не переставая, зато уж и никому так равнодушно не обойтись без пропащей вещи и не носить испачканного или измятого платья. Это тоже русская практичность в своем роде.
В 8 часов мы все в последний раз сошлись за кетереровским чаем, в маленьком Salon, с ситцевыми гардинками и портретами Наполеона в Берлине и Фридриха с кривым носом. Все были такие же чистенькие, общительные, жизнерадостные, как и каждый день в продолжение двух месяцев.
В конце чая в Salon вошла наша соотечественница с своими детьми*. Она искала квартиру. Старшему, 11-ти-летнему мальчику ее ужасно хотелось идти в горы, а так как мне всегда казалось, что ходить по Швейцарии с очень молодым мальчиком, для которого «еще новы все впечатленья бытия», должно быть вдвое приятнее, я предложил матери отпустить его со мной. Мать согласилась, и мальчик рысью, раскрасневшись и от радости задирая ноги чуть не выше головы, побежал укладываться.
В 10 часов мы все были в известном положении укладывающихся людей, то есть ходили без всякого дела кругом комнаты и растерянными глазами оглядывали лежащие на полу чемоданы и стены комнат, все что-то вспоминая. В это время приехали из Montreux русские барышни с только что приехавшей из России матерью* и еще с каким-то господином, тоже русским; потом приехали русские из Basset, тоже нынче уезжающие*. Благодарный Кетерер за подарки, которые сделал ему наш кружок, приготовил завтрак. Не было одной комнаты свободной, везде чемоданы, отворенные двери, все комнаты сделались ничьи. Гости переходили из одной в другую. Было одно время, что как будто никто не знал, кто у кого и зачем, и кто куда едет, и с кем прощаться. Я знал только то, что расстраивается наш мирный милый кружок, в котором я не видал, как прожил два месяца, и эти два месяца, я чувствовал, останутся навсегда дорогим воспоминанием моему сердцу. Это чувствовали, кажется, и все.
В 12 часов все тронулись провожать первых отъезжающих, мужа с женой Пущиных. Я надел свой ранец, взял в руки Alpenstock[33], подарок прусского 95-летнего генерала, и все тронулись пешком до парохода. Нас было человек десять; правда, что большая часть из этих людей были редко встречающиеся превосходные люди, особенно женщины, но на всем нашем обществе в это утро лежала одинаковая общая всем печать какого-то трогательного чувства благодушия, простоты и любовности (как ни странно это выражение), я чувствовал, что все были настроены на один тон; это доказывали и ровные, мягкие походки, и нежно искательные звуки голосов, и слова тихой приязни, которые слышались со всех сторон. Удивительно спокойно гармоническое и христианское влияние здешней природы.
Погода была ясная, голубой, ярко-синий Леман, с белыми и черными точками парусов и лодок, почти с трех сторон сиял перед глазами; около Женевы в дали яркого озера дрожал и темнел жаркий воздух, на противоположном берегу круто поднимались зеленые савойские горы, с белыми домиками у подошвы, — с расселинами скалы, имеющими вид громадной белой женщины в старинном костюме. Налево, отчетливо и близко над рыжими виноградниками, в темно-зеленой гуще фруктовых садов, виднелись Монтрё с своей прилепившейся на полускате грациозной церковью, Вильнев на самом берегу, с ярко блестящим на полуденном солнце железом домов, таинственное ущелье Вале с нагроможденными друг на друга горами, белый холодный Шильон над самой водой и воспетый островок, выдуманно, но все-таки прекрасно торчащий против Вильнева*. Озеро чуть рябило, солнце прямо сверху ударяло на его голубую поверхность, и распущенные по озеру паруса, казалось, не двигались.
Удивительное дело, я два месяца прожил в Clarens, но всякий раз, когда я утром или особенно перед вечером, после обеда, отворял ставни окна, на которое уже зашла тень, и взглядывал на озеро и на зеленые и далью синие горы, отражавшиеся в нем, красота ослепляла меня и мгновенно, с силой неожиданного, действовала на меня. Тотчас же мне хотелось любить, я даже чувствовал в себе любовь к себе, и жалел о прошедшем, надеялся на будущее, и жить мне становилось радостно, хотелось жить долго-долго, и мысль о смерти получала детский поэтический ужас. Иногда даже, сидя один в тенистом садике и глядя, все глядя на эти берега и это озеро, я чувствовал, как будто физическое впечатление, как красота через глаза вливалась мне в душу.
Подойдя к Берне, маленькой деревушке, где пристает пароход, мы нашли в лавочках под высокими раинами, как всегда и везде в Швейцарии, семейство чистоплотных англичан, пастора в белом галстуке, старуху с корзинкой и двух молодых швейцарок в шляпках, с багровым румянцем и певучими голосками. Все дожидались парохода. Я не умею говорить перед прощаньем с людьми, которых я люблю. Сказать, что я их люблю, — совестно, отчего я этого не сказал прежде? говорить о пустяках тоже совестно. Я пошел на берег делать камушками рикошеты и занимался этим до самого того времени, как лодочник сказал, что пора садиться в лодку и выезжать к пароходу. Сапоги и башмаки застучали по полу лодки, и два большие весла стали толкать лодку. Мы подъехали под самый пароход так близко, что пена забрызгала нас. Покуда нам бросали канат, с парохода празднично смотрели на нас пассажиры; опершись на решетку, знакомый капитан, с французской бородкой, кланяясь, встретил у трапа чету Пущиных; пустили веревку, синяя, как распущенная лазурь, вода забурлила около ярко-красных колес, и как будто мы побежали прочь от парохода. Пассажиры передвинулись к корме, замахали платками, и наши друзья очутились уж совсем далеко от нас и в чужой незнакомой среде людей, которые их окружали.
Там тоже махали другие платками и совсем не нам, а краснощекой швейцарке, которая, не обращая на нас никакого внимания, тоже махала батистовым платком. На суше, у поворота в Монтрё, я простился еще с дорогими друзьями и с уже менее мне близкими людьми пошел в гору в Монтрё за своим молодым спутником. Наш милый кружок был расстроен, и, верно, навсегда; дамы, с которыми я шел, говорили о своих частных делах, я почувствовал себя вдруг одиноким, и мне это показалось так грустно, как будто это случалось со мной в первый раз.
Вместе с земляками в два часа мы пошли обедать в пансион Вотье. Несмотря на самые разнообразные личности, соединяющиеся в пансионах, ничто не может быть однообразнее вообще пансиона.
Мы вошли в низкую длинную комнату с длинным накрытым столом. На верхнем конце сидел тот самый седой чисто выбритый англичанин, который бывает везде, потом еще несколько островитян мужского и женского пола, потом скромные, пытающиеся быть общительными немцы и развязные русские и молчаливые неизвестные. За столом служили румяные миловидные швейцарки, с длинными костлявыми руками, и m-me Votier в черном чепце, с протестантской кроткой улыбочкой, нагибаясь, спрашивала, что кому будет угодно. Те же, как и во всех пансионах, пять кушаний с повторениями, и те же разговоры на английском, немецком и ломаном французском языках, о прогулках, о дорогах, о гостиницах. В начале весны обитатели пансионов еще дичатся друг с другом, в середине лета сближаются и под конец делаются врагами; тот шумел прошлую ночь и не давал спать, тот прежде берет кушанье, тот не ответил на поклон. Особенно немки по своей обидчивости и англичане по своей важности бывают зачинщиками раздоров…
В 4 часа, напившись кофею, я зашел за своим спутником. После радостной торопливой беготни, которая продолжалась ¼ часа, он был готов и с мешком через плечо и длинной палкой в руках прощался с матерью, сестрой и братом. От Монтрё мы стали подниматься по лесенке, выложенной в виноградниках, прямо вверх в гору. Ранец мой так тянул мне плечи и было так жарко, что я только храбрился перед своим товарищем, а думал, что вовсе не в состоянии буду ходить с этой ношей. Но вид озера, который все уже и уже и вместе с тем блестящее и картиннее открывался перед нами, и заботы о том, чтобы Саша (мой спутник) не мучился бы напрасно, подпрыгивая по ступенькам и не оборвался бы под 10 и кое-где 20-тиаршинную стену виноградника, развлекали меня, и, пройдя с полчаса, я уже начинал забывать об усталости. Уж мальчик мне был чрезвычайно полезен одним тем, что избавлял меня от мысли о себе и тем самым придавал мне силы, веселости и моральной гармоничности, ежели можно так выразиться.
Я убежден, что в человека вложена бесконечная не только моральная, но даже физическая бесконечная сила, но вместе с тем на эту силу положен ужасный тормоз — любовь к себе, или скорее память о себе, которая производит бессилие. Но как только человек вырвется из этого тормоза, он получает всемогущество. Хотелось бы мне сказать, что лучшее средство вырваться есть любовь к другим, но, к несчастью, это было бы несправедливо. Всемогущество есть бессознательность, бессилие — память о себе. Спасаться от этой памяти о себе можно посредством любви к другим, посредством сна, пьянства, труда и т. д.; но вся жизнь людей проходит в искании этого забвения. Отчего происходит сила ясновидящих, лунатиков, горячечных или людей, находящихся под влиянием страсти? Матерей, людей и животных, защищающих своих детей? Отчего вы не в состоянии произнести правильно слова, ежели вы только будете думать о том, как бы его произнести правильно? Отчего самое ужасное наказание, которое выдумали люди, есть — вечное заточение? (Смерть как наказание выдумали не люди, они при этом слепое орудие провиденья.) Заточение, в котором человек лишается всего, что может его заставить забыть себя, и остается с вечной памятью о себе. И чем человек спасается от этой муки? Он для паука, для дырки в стене хоть на секунду забывает себя. Правда, что лучшее, самое сообразное с общечеловеческой жизнью спасенье от памяти о себе есть спасенье посредством любви к другим; но не легко приобрести это счастье.
Я намерен был через гору Jaman идти на Фрейбург.
В Avants, 1½ часа от Монтрё, мы хотели ночевать нынче. Когда мы вышли на большую дорогу, высеченную, как все горные дороги, фута на два в каменном грунте, идти стало легче. Мы поднялись уже так высоко, что около нас не видать было желто-кофейных плешин виноградников, воздух как будто стал свежее, и с левой стороны, с которой заходило солнце, сочнолиственные, темно-зеленые лесные, а не фруктовые, деревья закрывали нас своей тенью. Направо виднелся глубокий зеленый овраг с быстрым потоком; через него торчал на горе Rigi Vaüdais пансион, составляющий казенную partie[34] англичанок и немок, а оглянувшись назад, виднелось уже значительно сужившееся синее озеро, с белыми парусами и с дорожками, которые по разным направлениям бежали по нем. Вале в синей дали с руслом Роны далеко и глубоко расстилался перед нами, направо снеговые горы Савойи обозначались чище и яснее.
Чем выше мы поднимались, тем реже встречали швейцарцев с корзинками за плечами и с певучими «bonsoir, monsieur»[35], которыми они приветствовали нас, лес становился гуще и чернее, дорога становилась грязнее, глиннстее и колеистее. Может быть, это оттого, что я русский, но я люблю, просто люблю, глинистые, чуть засыхающие, еще мягкие желтые колеи дороги, особенно когда они в тени и на них есть следы копыт. Мы присели в тени на камне около желобка воды, из которого чуть слышно лилась струйка прозрачной воды, я достал фляжку и накапал рому в стаканчик. Мы выпили с наслажденьем, над нами заливались лесные птицы, которых не слышишь над озером, пахло сыростью, лесом и рубленой елью. Было так хорошо идти, что нам жалко было проходить скоро.
Вдруг нас поразил необыкновенный, счастливый, белый весенний запах. Саша побежал в лес и сорвал вишневых цветов, но они почти не пахли; с обеих сторон были видны зеленые деревья и кусты без цвета. Сладкий одуревающий запах все усиливался и усиливался. Пройдя сотню шагов, с правой стороны кусты открылись, и покатая, огромная, бело-зеленая долина с несколькими разбросанными на ней домиками открылась перед нами.
Саша побежал на луг рвать обеими руками белые нарциссы и принес мне огромный, невыносимо пахучий букет, но, с свойственной детям разрушительной жадностью, побежал еще топтать и рвать чудные молодые сочные цветы, которые так нравились ему.
<Странная грустная вещь — всегда несогласуемое противоречие во всех стремлениях человека, но жизнь как-то странно по-своему соединяет все эти стремления, и из всего этого выходит что-то такое неконченное, не то дурное, не то хорошее, грустное, жизненное. Всегда полезное противоположно прекрасному. Цивилизация исключает поэзию. Полей с нарциссами уже остается мало, потому что скотина не любит их в сене.)
Avants состоит из десятка швейцарских домиков, разбросанных у подошвы Jaman, перед началом глубокого заросшего оврага, который идет до самого Монтрё, на широкой просторной зеленой поляне, буквально усеянной нарциссами. Кругом темные дубовые и сосновые рощи, вверху скалистый зуб Жаманский, внизу открывается дом Риги, несколько шале и уголок синего далекого озера и лощины, с исполосанной дорогами, изгородями и Роной долиной Вале. Несколько потоков шумят около домов.
Нам указали гостиницу: это скромный, еще необитаемый пансион. Швейцарка с зобом отнесла наши котомки в две чистенькие комнатки, дала кисленького вина и накрыла чай на террасе. Мальчишки стреляли в цель из арбалета, странствующий итальянец чинил посуду перед одним из домиков. Здоровые швейцарцы, с голыми по подмышки грязными руками, укладывали вонючий сыр, другая старая старушка, с зобом, сидя на бревне, вязала чулок перед домом, около которого было два чахлых кусточка розанов, — вот все, что мы видели, пройдясь по деревне. Уединенно, бедно, скромно, и над этим всем непоколебимая красота зеленых лесистых гор, синей дали, с клочком блестящего озера и прозрачного неба, на котором белым облачком стоял матовый молодой месяц.
Саша побегал по деревне, завел знакомство с итальянцем, узнал, сколько у него детей и хорошо ли жить в Милане, придержал пальцем фонтан около дома и, запыхавшись, вернулся на террасу. Мы напились чаю и разошлись в свои комнатки. Я сел было писать, но, вспомнив о друзьях, с которыми расстался, мне стало так грустно, что я бросил и из окна перелез на террасу. Все уже было черно кругом, месяц светил на просторную поляну, потоки, не нарушаемые дневным шумом, равномерно гудели в глуби оврага, белый запах нарциссов одуревающе был разлит в воздухе, сосны и скалы отчетливо рисовались на светлом месячном горизонте.
Хозяйка мне сказала, что поля с нарциссами — скверные луга для скотины [1 неразобр. ] переводят. Неужели такой закон природы, что полезное противоречит прекрасному, цивилизация — поэзии? — пришло мне в голову. — Зачем же эта путаница? Зачем несогласуемые противоречия во всех стремлениях человека? — думал я, чувствуя в то же время какое-то сладкое чувство красоты, наполнявшее мне душу. И в себе я чувствовал противоречие. Впрочем, все эти кажущиеся несогласуемыми стремления жизнь как-то странно по-своему соединяет их. И из всего этого выходит что-то такое неконченное, не то дурное, не то хорошее, за которое человек сам не знает, благодарить или жаловаться. Видно, покаместа так надобно.
В молодости я решал и выбирал между двумя противоречиями; теперь я довольствуюсь гармоническим колебанием. Это единственное справедливое жизненное чувство. Красота природы всегда порождает его во мне, это чувство не то радости, не то грусти, не то надежды, не то отчаяния, не то боли, не то наслаждения. И когда я дойду до этого чувства, я останавливаюсь. Я уже знаю его, не пытаюсь развязать узла, а довольствуюсь этим колебанием.
Я опять перелез в окно и скоро спокойно заснул в своей маленькой чистенькой комнатке, в которую до половины пола проникали лучи месяца.
16/28 мая. Я проснулся в 4. В окно уже виднелся бледный свет утра. Башмаки мои не были принесены, дверь заперта снаружи, я отворил окно, перелез в него на террасу.
Свежий воздух охватил меня, и дрожь пробежала по телу. Потоки, так же как и вчера, уединенно и равномерно шумели внизу темного сырого оврага, над голубым озером далеко тянулись туманные белые тучки, Жаманский скалистый зуб наверху с снегом, прилепившимся к нему, отчетливо виднелся на золотисто-голубом горизонте, разбросанные по горам шале казались ближе, на траве и по дороге серебрилась морозная роса. Где-то недалеко уж звонили бубенчиками пасущиеся коровы. Я постучался к хозяйке. Костлявая, с длинными руками, девушка отворила мне дверь, из которой пахнуло спаньем, и дала башмаки и платье. Я разбудил Сашу, он укусил себя за мизинец, чтобы совсем проснуться, и через ¼ часа мы были готовы, заплатили хозяйке что-то 4 франка за постели, чай и вино и пустились в дорогу.
Широкая вытесанная дорога, извиваясь, шла в гору. Справа и слева все глуше и мрачнее становился еловый и сосновый лес. Кое-где попадались как бы болотца с бледной растительностью, от недавно стаявшего снега, попадались изгороди, отделявшие одну горную пастьбу от другой, и небольшие полянки на полугорьях, на которых, позванивая подвешенными под горло бубенчиками, паслись некрупные, но сбитые, красивые швейцарские коровы и грациозные козочки. Даже повернувшись назад, не было видно веселого блестящего озера, все было серьезно, уныло, но не мрачно и мягко.
С полчаса от Avants мы подошли к загородке с затворенными воротами. Опять большая поляна над оврагом, и на поляне длинный шале, в котором делают сыр, с фонтаном и колодой. Проходя мимо шале, мы услыхали в нем звонки и топот копыт поворачивающихся коров и голоса.
— Здравствуйте, кто там? — спросил я. перегнувшись через запоры в темные конюшни.
— Jae! — откликнулся оттуда заспанный грубый голос, — qui est là?[36]
— Иностранцы. Нет ли молока? — спросили мы.
К нам вышел малый лет 16-ти с лилово-желтыми засученными руками и ногами и таким же лицом, с тупым удивленным выражением. Другой, старый голос слышен был из конюшни; он на своем грубом patois[37] сказал что-то малому. Малый указал нам на плоский чан с молоком, положил в него деревянное орудие вроде лопаты без ручки и, сказав «voilà»[38], скрылся в конюшне.
— Ну что, хотите? — сказал я Саше, предлагая ему деревянное орудие и указывая на желтоватое с синим [молоко], все усыпанное сверху плавающим сором.
Саша расхохотался только, мы напились воды и пошли дальше.
— И он думает, что это пить можно. Хорошо угощение! — говорил Саша, подсмеиваясь над швейцарским сырником.
У детей, как и у простолюдинов, есть одинаковое счастливое свойство насмешливости над привычками и обычаями, которые не похожи на ихние. Сколько раз я видал, как наши солдаты помирали со смеху над французами, оттого что они не понимали по-русски, и над татарами, которые снимали башмаки, входя в комнату. И Саша никак не мог понять, что ему в горной сырне не подается молоко, как в пансионе Вотье, и помирал со смеху над этим. Больше уже до самой вершины Jaman мы не встречали жилищ; только то над головами в кустах, то внизу над самым оврагом слышали равномерное побрякиванье бубенчиков пасущегося стада. Раз даже целое стадо, в главе которого бежала веселенькая красная коровка с маленькой головкой и на тоненьких прямых ножках, наткнулось на нас. Саша посторонился с уважением от коров, но поймал маленькую козочку за рога и с хохотом любовался ворочаньем ее коротенького черненького хвостика.
— Ну еще, вот так, ну еще, — приговаривал он.
Правду мне говорили, что, чем выше идешь в горы, тем легче идти; мы шли уже с час, и оба не чувствовали ни тяжести мешков, ни усталости. Хотя мы еще не видели солнца, но оно через нас, задевая несколько утесов и сосен на горизонте, бросало свои лучи на возвышенье напротив; потоки все слышны были внизу, около нас только сочилась снеговая вода, и на поворотах дороги мы снова стали видеть озеро и Вале на ужасной глубине под нами. Низ Савойских гор был совершенно синий, как озеро, только темнее его, верх, освещенный солнцем, совершенно бело-розовый. Снеговых гор было больше, они казались выше и разнообразнее. Паруса и лодки, как чуть заметные точки, были видны на озере.
Это было что-то красивое, даже необыкновенно красивое, но это не природа, а что-то такое хорошее. Я не люблю этих так называемых величественных знаменитых видов — они холодны как-то. Саша, кажется, разделял мое мнение. Даль этого вида только интересовала его, но не нравилась очень. Через последний поток, который нам надо было перейти, нам пришлось снова спускаться на несколько сот шагов в глубокий овраг на мостик. Этот вид больше поразил нас.
Внизу — крутой шумный поток по камням, через который переброшен мостик из нетесаных елей; с нашей стороны, между черными, все густеющими книзу елями вьется вниз каменистая дорога, и по другой стороне, по каменистому уступистому косогору, поднимается вверх. По крутому течению все гуще и гуще ели; кое-где повырваны и переброшены на камни красные стволы, и корни виднеются на серебристой пене, и рядом с пеной симметрическая верхушка другой сосны, растущей в обрыве; и книзу все гуще и гуще, круче и круче идет поток, перемешиваясь с темно-зелеными верхушками, и, наконец, на самом низу его закрывает от глаз облако, кое-где прорванное кажущимися совершенно черными ветвями сосен.
Перейдя мостик, Dent de Jaman казалась уже совершенно над нами, мы различали ее расселины и снег и кусты около нее; но идти еще было тяжело и далеко. Саша мой все старался идти прямее, по диагоналям, забегал вперед и отдыхал, и от этого уставал еще больше. Он уже отказывался идти, и мне становилось тяжело; но, зная по опыту, что надо не верить первому моменту усталости, я, еле-еле передвигая ногу за ногу, все шел вперед по зигзагам дороги, которая поднималась по редкому бору.
Солнце еще не выбралось из-за скал. Везде пусто, сыро, никого не видно и не слышно, с обеих сторон голые стволы дерев и бедная растительность. Чем выше мы поднимались, становилось грязнее и грязнее от таявшего снега, ноги скользили, и мешок страшно тянул мне спину, и я уже думал, что вовсе не так приятно ходить пешком по Швейцарии, как все говорят, когда вдруг все переменилось. Выше меня послышались бубенчики, [и] сильный, свежий мужской голос, который пел эту вечную швейцарскую песню с гортанными переливами; пройдя маленький зигзаг, мы очутились на маленькой сырой полянке, с которой открылся еще шире, дальше и блестящее вид на озеро; солнце большей половиной выкатилось из-за скалы и ослепительно заблестело по голым красным стволам сосен и по сырой траве поляны.
Взглянув вверх, над самой головой, я увидал черную навьюченную лошадку, которая, опустив голову вниз, как бы обнюхивая дорогу, по самой окраине спускалась вниз, осторожно поджимая задние ноги. Сзади скорыми шагами с палкой в руке шел швейцарец, молодой красивый малый в соломенной шляпе. Увидав нас, он перестал петь и только весело покрикивал на лошадку. «Bonjour, monsieur», — сказал он весело, заигрывающе ударяя на последнем слоге, когда мы сошлись с ним. «Bonjour, далеко ли до Alières?» — «Два маленьких часика, — отвечал он, — и — хуп, хуп», — закричал он и взялся за хвост лошади, которая, приложив уши, с каким-то шутовски веселым выражением, побрякивая бубенчиками, быстро спускалась по самому краю дороги. Пока мы входили, до самого верха горы, мы всё видели внизу [у] себя под ногами, то там, то сям, по извилинам дороги, черную лошадку с вьюком и слышали песню швейцарца.
Странная вещь — из духа ли противоречия, или вкусы мои противоположны вкусам большинства, но в жизни моей ни одна знаменито-прекрасная вещь мне не нравилась. Я остался совершенно холоден к виду этой холодной дали с Жаманской горы; мне даже и в голову не пришло остановиться на минуту полюбоваться. Я люблю природу, когда она со всех сторон окружает меня и потом развивается бесконечно вдаль, но когда я нахожусь в ней. Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух, и этот же воздух, клубясь, уходит в бесконечную даль, когда эти самые сочные листья травы, которые я раздавил, сидя на них, делают зелень бесконечных лугов, когда те самые листья, которые, шевелясь от ветра, двигают тень по моему лицу, составляют линию далекого леса, когда тот самый воздух, которым вы дышите, делает глубокую голубизну бесконечного неба; когда вы не одни ликуете и радуетесь природой; когда около вас жужжат и вьются мириады насекомых, сцепившись, ползут коровки, везде кругом заливаются птицы. А это — голая холодная пустынная сырая площадка, и где-то там красивое что-то, подернутое дымкой дали. Но это что-то так далеко, что я не чувствую главного наслаждения природы, не чувствую себя частью этого всего бесконечного и прекрасного целого. Мне дела нет до этой дали. Жаманский вид для англичан. Им, должно быть, приятно сказать, что они видели с Жаман озеро и Вале и т. д.
Кроме того, на горе недавно стаял снег, было сыро, я устал поднимаясь, хотел пить, а тут воды нигде не было. Два шале, которые мы нашли тут почти на самой вершине, были пустые. Саша побежал было к снегу, которого за хребтом горы было много, но снег был грязен. Вид по ту сторону Жамана несравненно гармоничнее: это до самого горизонта глубокое суживающееся мрачное, поросшее хвойным лесом ущелье. В отверстие ущелья выставляется другой хребет гор, того же строгого и величественного характера; в глуби и на полускатах ущелий виднелись дымки, которые одни оживляли картину; домов и шале нигде не было видно. На вершинах почти везде клочьями лежал снег. Спуск по ту сторону — по маленькой, едва проторенной каменистой тропинке. Тропинка эта так мала, что мы даже сомневались, на настоящей ли мы дороге.
Первый дым, который нами был виден и где надеялись спросить о дороге, остался вправо. Около часу мы все круто спускались, никого не встречая, и чем дальше мы шли, тем дорога становилась хуже. Видно было, что вблизи выше рубили лес, и на самой дороге попадались иногда сложенные сажени, а иногда просто сброшенные сверху деревья, заграждавшие дорогу.
Я сомневался, не сбился ли я, и, признаюсь, серьезно беспокоился, но Саша, которому я сообщил свои опасения, помирал со смеху от мысли, что мы заблудились. Я тоже смеялся, и не оттого, чтобы мне смешно было, но оттого, что мы, спускаясь, устали еще больше, чем поднимаясь, нас распарило, и как это часто бывает в подобных случаях, на Сашу нашел смехун и сообщился мне отчасти.
Скажу я: «Фу, в какую мы трущобу зашли», — и Саша спотыкался и падал от смеха и только повторял: «В трущобы зашли»; и мне почему-то становилось ужасно смешно.
— А вон, слышите, рубят дрова, — сказал я, — надо будет спросить у этого господина.
— Я вижу и господина, — сказал Саша, помирая со смеху, и, путаясь ногами, побежал вперед к господину.
Это был высокий, худой, рябой мужчина, ужасно грязно одетый и изнуренный, что весьма часто встречается в Швейцарии. Он, засучив рукава над своими худыми жилистыми руками, рубил дрова около дороги. На все вопросы Саши по-французски, как пройти в Альер? далеко ли? — он отвечал таким непонятным фляфляванием, как будто у него был полон рот каши, и с таким диким испуганным выражением смотрел на мальчика, что Саша начал пятиться от него. Предполагая, что он из немецкой Швейцарии и говорит на своем patois, я спросил его по-немецки; но, кроме каких-то непонятных слюнявых звуков и тех же растерянных взглядов, я ничего не мог от него добиться. Не итальянец ли он? Саша спросил его по-итальянски. Он только пожал плечами и сделал такую комическую рожу, что Саша лопнул, расхохотался и побежал прочь. Я не мог удержаться и сделал то же. Я нигде не встречал такой уродливой идиотической старости рабочего класса, как в Швейцарии.
Пройдя несколько шагов, мы встретили других дровосеков ниже дороги, Саша сбегал к ним, и эти поняли его и сказали, что мы идем хорошо и через маленький полчаса будем в Альере. Действительно, скоро уже дорога пошла ровно вдоль потока, между обсаженными каменными изгородями; стали попадаться стада, рассыпанные по полугорам, освещенным солнцем, и скоро около самой деревни мы нашли фонтан, которого нам так хотелось.
Alières в том же роде, как и Avants, — десятка полтора хорошеньких домиков, на довольно далекое расстояние друг от друга рассыпанных по зеленой долине. Тот же овраг внизу, те же потоки, те же душистые нарциссы в лугах, только больше коров и скотины виднеется в лугах и на полянах лесов. Справа и слева неумолкаемо слышались эти бубенчики, которые так идут как-то к утренним косым лучам солнца, к росистой зелени и к запаху цветов, росы и стада.
Саша с одной стороны вбежал в большой дом, мимо которого мы проходили, чтобы узнать, не это ли гостиница, а я с другой уж нашел вывеску, изображающую медведя, с надписью кругом: «Hôtel de L’ours, à la confiance»[39]. Служанка, к которой мы обратились по-французски, пожала плечами в знак сожаления, что не понимает, что, разумеется, нас очень обрадовало, дав возможность показать свои знания по-немецки.
Это был уже кантон Фрибурга.
Нас провели в залу с голыми столами и лавками и дали славного свежего хлеба и молока. Кофей, который мы заказали, мы слышали как жарился и терся. Но мы рады были отдохнуть, и на нас снова нашел смехун, вследствие наслаждения отдыха, хотя и под предлогом надписей на чашках и тарелках, которые нам подали. На моей чашке было написано просто: «Par l’amitié»[40] в лавровом венке, но у Саши надпись была длиннее: «Mon cœur est tout attristé,— je pleure en réalité»[41]. Но лучше всего была тарелка с синими разводами, с изображением якоря и с немецкой надписью внизу: «Komm her und küsse mich»[42]. Видно, здесь уже и в людях и в предметах боролись немецкий и французский элементы. Однако кофей был недурен, дешев чрезвычайно и подан скоро, так что еще не было жарко, когда мы пустились в путь дальше до Montbovon, где мы намеревались дневать и обедать.
Дорога шла, извиваясь между лугами и лесами, то в гору, то под гору. Под самым Альером мы нагнали женщину уже лет за 40, которая несла за спиной пустую корзинку. Она шла ровным охотничьим шагом, мы шли скорее, и, признаюсь, не без гордости подумал, как я легко обгонял горную женщину, и что она, глядя на нас, подумает, может быть: молодцы, хорошо идут. Услыхав за собой наши шаги, она посторонилась и произнесла этот певучий: «Bonjour, monsieur», к которому так привыкаешь на Лемане. Слово за слово, мы разговорились, кто, куда и откуда? и, признаюсь, мне стыдно стало, когда я узнал, что она, которую я хотел удивить, нынче вышла из Монтрё и, пройдя в одно утро то же самое, что мы в два дня, была впереди нас. Мало этого, она прибавила так, к слову, что вот сейчас здесь наложит 36 фунтов холстины в корзину и вернется нынче же в Монтрё.
Мы с Сашей только переглянулись. Вот так молодец баба! Когда она, пожелав нам счастливого пути, повернула в сторону, я внимательно осмотрел ее фигуру. Ничего особенного, тот обыкновенный тип рабочих женщин, которых с шляпами в виде бутылок встречаешь в виноградниках Côte и у большей части которых висит зоб под подбородком, плоская спина и грудь, костлявые длинные руки, вывернутые ноги и кислая сморщенная улыбка.
На половине дороги встретили мы с удовольствием такого же туриста, как мы, только гораздо менее навьюченного: у него была крошечная сумочка, а я тащил на себе, я думаю, больше пуда, и теперь, пройдя по горам около 20 верст, начинал серьезно уставать. Притом дорога однообразно идет по еловому лесу; кое-где ручьи, потоки или полянка с шале и фонтаном; но зато беспрестанные встречи: то дальние немцы-швейцарцы с большими палками и фарфоровыми трубочками, то из-под горы седой старик тянет корову за рога, а за ним идет хорошенькая румяная швейцарочка с длинной хворостиной и, потупив глазки, здоровается с иностранцами, то два мальчика, в вздернутых набок на одной помоче штанишках, вперед себя гонят куда-то коз и беспрестанно забегают в лес, выгоняя оттуда свое непослушное стадо, то две уродливые старухи вытаскивают за хвост красную свинью из оврага. Эту последнюю встречу мы сделали под самой деревней. Свинья пронзительно визжала, одна баба тащила ее за хвост, другая, худая, костлявая, с зобом и с каким-то странным тиком во рту, дававшим ей ужасно злобный вид, колотила ее палкой.
Саше моему так смешно показалось это зрелище, что насилу я мог удержать его, чтобы он не прыснул прямо в нос уродливой бабе, с которой мы столкнулись нос с носом на дороге. Зато уже после он дал себе волю, хрипел, пыхтел, фыркал, и смехун продолжался до самой гостиницы.
Montbovon живописно открылся нам под горой, на довольно большой речке, с большим городского фасада домом гостиницы, католической церковью и большой дорогой шоссе, которую я, признаюсь, увидал не без удовольствия, после дороги, по которой мы шли нынешнее утро.
Не дошли мы до гостиницы, как особенности католического края тотчас же выказались: грязные оборванные дети, большой крест на перекрестке перед деревней, надписи на домах, уродливо вымазанная статуэтка мадонны над колодцем, и один опухлый старик и мальчик в аглицкой болезни попросили у меня милостыню. Гостиница была чистая, просторная, на большую ногу и совершенно пустая; нам служили отлично. Бывшая хорошенькая горничная из Берна, принарядившись и напомадившись для нашего приезда, усиливалась говорить с нами по-французски и без надобности забегала в нашу комнату. Желательно бы было, чтобы к нам не переходил в Россию обычай иметь женскую прислугу в гостиницах. Я не гадлив, но мне лучше есть с тарелки, которую, может быть, облизал половой, чем с тарелки, которую подает помаженая плешивящая горничная, с впалыми глазами и маслеными мягкими пальцами. Госпожу эту звали Элиза, но Саша, смотревши на картинки в зале, изображавшие историю Женевьевы, брошенной в лес и вскормленной ланью, назвал ее Женевьевкой, потом Женевесткой, потом Женеверткой, и слово Женевертка заставляло его смеяться до упаду. Кроме того, с этого дня Женевертка стала для нас словом, означающим вообще трактирную служанку.
Я закрыл ставни и лег спать до обеда, Саша пошел удить рыбу на речку. Проснувшись, я порадовался по карте, как далеко мы отошли от Монтрё, и мне пришла мысль, что, так как мы стоим на дороге, ведущей из Фрибурга в Интерлакен, идти лучше любоваться горной природой в Оберланд, чем по пыльному шоссе идти в Фрибург, где я мог слушать знаменитый орган на возвратном пути. Перед выступлением я прошелся по деревне. Дома большей частью были большие, красивые, в каждом жило по нескольку семейств; но одежда и вид народа ужасно бедны. На нескольких домах я прочел надписи вроде следующей: «Cette maison a été batie par un tel, mais ce n’est rien en comparaison de celle que nous réserve le Seigneur. Oh mortel! mon ombre passe avec vitesse et ma fin approche avec rapidité!»[43] — и еще раз «Oh mortel»[44]. Что за нелепое соединение невежественной гордости, христианства, мистицизма и тщеславной напыщенной болтовни.
Саша ничего не поймал, проект мой ему очень понравился, и в 5-м часу мы пустились в путь совсем в противоположную сторону от той, в которую думали идти.
Дорога до Château d’Oex, где мы хотели ночевать, идет, редко где поднимаясь и опускаясь, по берегу большого быстрого потока. Поток этот называется Sarine. Несмотря на то, что он далеко не был в полном разливе, шум его был слышен за версту, и по нем в многих местах плыли и в других, зацепившись за камни, стояли еловые бревна, которые таким образом перевозят с места на место. Иногда через месяц хозяева леса, дожидаясь воды, приходят к плотинам и находят свой лес, который они узнают по клеймам. По ровному гладкому шоссе нам казалось так легко идти после прежней дороги, что мы прошли час и почти не устали, только мешки тянули нам плечи.
Мы приостановились на мосту, положив мешки на перила, чтобы они [не] тянули нам спины, и долго любовались Сариной, которая в этом месте через большие нагроможденные друг на друга камни довольно крутым уступом спускается вниз. Саша очень любит всякую воду, даже не может пропустить ни одного желобка с водой, чтоб не заткнуть его рукой, и лужицы, чтоб не поболтать в ней концом палки, поэтому водопады приводят его в восхищение; но для меня водопад, слишком далекий и не окруженный зеленью, такое же холодное зрелище, как декорация или знаменитые виды с высоких гор. Этот водопад, однако, шумел в прелестной рамке. С обеих сторон кривые, разной величины, темные сосны, и между ними эта стремительно движущаяся и однообразно возобновляющаяся белая пена, и широкие серебристые струи, и неподвижные, беспрерывно одинаково обливаемые то сверху, то с боков белые камни, бревна елей, живописно, всегда живописно столкнувшихся и зацепившихся, и этот одуревающий шум; так что вы не знаете, что вода и что камни.
Этот водопад был прекрасен. За шумом воды мы и не слыхали, как нас нагнала шагом ехавшая на одной вороной лошади немецкая открытая бричка с мучными мешками. На бричке спереди сидел красивый малый и сзади старушка.
— Попросите к ним мешки положить, — сказал Саша.
— Разве вы устали?
Но Саша уже таким заискивающим голосом сказал: «Bonjour, madame», — и так выразительно поглядел на старушку, что она посторонилась и показала ему подле себя место: «Садитесь, коли вы устали», — сказала она. Саша тотчас же вскочил к ней рядом, я тоже положил свой мешок и предложил швейцарцу выпить вместе бутылку вина в первом трактире.
— Oh, ce n’est pas ça[45],— сказал, покраснев, миловидный румяный швейцарец, — venez aussi[46],— прибавил он, давая мне место, — мы рысью поедем. Но я отказался, сказав, что догоню их. И мой Саша с новыми знакомцами, что-то руками рассуждая с старушкой, затрясся от меня рысью вперед по дороге.
Я их догнал у харчевни, подле которой молодой мельник остановил свою лошадь. Он тоже заказал себе пива, но я попросил его выпить вина со мною. Мельник принадлежал к тому милому и поэтическому красивому типу швейцарцев, который довольно часто встречается в кантонах Vaud, Женевы, Нешателя и Фрибурга. Громадно широкие плечи и грудь, чрезвычайно развитые мышцы ног и рук, небольшая белокурая голова, румянец во всю щеку и благодушная, кроткая, немного глуповатая улыбка. От трактира, по настоятельному приглашению, я сел с ним рядом на телегу, и мы разговорились. Он сирота, мельник, получает 4 франка, целковый, в неделю, но служит потому, что не записался в граждане и вовсе не находит это записыванье нужным.
— А что, вы не женаты? — спросил я.
— Молод еще, — отвечал он.
— Что же, веселитесь так с молодыми девками?
Он покраснел и оглянулся на старушку, которая сидела сзади.
— Oh non! — сказал [он].— Я не подхожу к девкам. Ça me gène[47],— прибавил [он], с недоумением пожимая плечами.
— От этого он так и здоров, — подхватила старуха.
— Что, вы его мать? — спросил я у нее.
— Нет, он так меня довозит; я из Россиньера, вот эта деревня на горе, там и большой пансион есть, много иностранцев приезжают.
— А о чем вы говорили с молодым человеком? — спросил я ее.
— О! он меня забавлял, — отвечала старуха, — рассказывал, что он был в четырнадцати государствах и восемь языков знает.
Я оглянулся на Сашу, он отворачивался, и уши его были красны.
Мельник немного не довез нас до нашего ночлега, повернул на свою мельницу. Подходя к Château d’Oex, мы встречали на каждом шагу пьяных солдат, которые буйными развратными толпами шли по дороге, и около самой деревни нас догнал дилижанс, то есть колясочка на одной лошади, в которой ехал один пассажир, и в синих мундирных фраках с красными обшлагами, почтовый лакей и кучер. Мы решили ехать нынче ночью дальше, кучер [сказал], что переменит лошадей и подождет нас в деревне.
Деревня большая, богатая, с высокими домами и такими же надписями, как в Montbovon, с лавками и замком на возвышении. На площади, перед большим домом, на котором было написано: «Hôtel de ville» и из которого раздавались отвратительные фальшивые звуки роговой военной музыки, были толпы военных — все пьяные, развращенные и грубые. Нигде, как в Швейцарии, не заметно так резко пагубное влияние мундира. Действительно, вся военная обстановка как будто выдумана для того, чтобы из разумного и доброго создания — человека сделать бессмысленного злого зверя. Утром вы видите швейцарца в своем коричневом фраке и соломенной шляпе на винограднике, на дороге с ношей или на озере в лодке; он добродушен, учтив, как-то протестантски искренне кроток. Он с радушием здоровается с вами, готов услужить, лицо выражает ум и доброту. В полдень вы встречаете того же человека, который с товарищами возвращается из военного сбора. Он наверно пьян (ежели даже не пьян, то притворяется пьяным): я в три месяца, каждый день видав много швейцарцев в мундирах, никогда не видал трезвых. Он пьян, он груб, лицо его выражает какую-то бессмысленную гордость или, скорее, наглость. Он хочет казаться молодцом, раскачивается, махает руками, и все это выходит неловко, уродливо. Он кричит пьяным голосом какую-нибудь похабную песню и готов оскорбить встретившуюся женщину или сбить с ног ребенка. А все это только оттого, что на него надели пеструю куртку, шапку и бьют в барабан впереди.
Я не без страха прошел через эту толпу с Сашей до дилижанса, он сел впереди, я сел с барином, и мы поехали. Какой-то мертвецки пьяный солдат непременно хотел ехать с нами и отвратительно ругался, ужасная музыка, не переставая, играла какой-то марш, до того невыносимо фальшиво, что буквально больно ушам было. Со всех сторон развращенные, пьяные, грязные нищие.
Зато с каким наслаждением, когда мы выехали из городу, я увидал при ясном закате прелестную Занскую долину, по которой мы ехали, с вечными звучащими живописными стадами коров и коз. Господин, с которым я сидел, был одет, как одеваются магазинщики в Париже, имел новенькое чистенькое porte-manteau[48], плед и зонтик. На носу у него были золотые очки, на пальце перстень, черные волоса старательно причесаны, борода гладко выбрита, в лице неприятное напущенное чопорное спокойствие, которое сохранялось только на то время, как он молчал. Говорил он по-французски с женевским акцентом, видимо, подделываясь под французский. Мне казалось, что это женевский или водский bourgeois[49]. Это безжизненная, притворная, нелепо подражающая французам, презирающая рабочий класс швейцарцев и отвратительно корыстно-мелочная порода людей. После его презрительной манеры говорить с нашим молодым кучером, который все заговаривал с нами, и условий, которые он мне предложил для поездки в наемной карете вместе в Интерлакен, я уже не сомневался. Он расчел как-то так, что мы с Сашей, у которых вовсе не было клади, платили за карету чуть не втрое против его, у которого с собой было три тяжелых чемодана. И он настойчиво уверял, что это стоило бы мне гораздо дешевле, чем в дилижансе.
Мало того, он еще рассердился на меня за то, что я отказался, и когда мы приехали, он как-то озлобленно сказал кондуктору, что он пойдет брать себе место в дилижансе une fois que monsieur (это я) ne veut pas aller[50], и сердито махнул на меня рукой так энергически, что мне без шуток показалось, что я виноват перед ним. Мне совестно уже было с ним встретиться, и я подождал его, чтобы пойти брать место в Post-bureau[51].
Я подошел к затворенной двери, на которой была надпись. Около двери сидело три человека, которые даже не посмотрели на меня. Я отворил дверь в пост-бюро. Это была грязная низкая комната, с грязной кроватью, с кадушками и развешанными платьями. Я вышел назад и спросил у сидевших у дверей, это ли пост-бюро. Это, — сказал мне один из сидевших грубым голосом, — идите туда, что ходите? Я вошел. Действительно, в крайнем углу стояла конторка и лежали бумаги. Никого, кроме болезненной женщины с грудным ребенком, не было в почти уже темной комнате. Через минуту тот самый человек в сертуке, который велел мне войти, размахивая руками и всей спиной, с фуражкой набекрень, вошел в комнату. Я поздоровался с ним, он захлопнул дверь и не взглянул на меня; сначала я думал, что он чужой и чем-нибудь очень занятой или огорченный человек, но, всмотревшись ближе, и особенно, когда он прошел за конторку, я убедился, что все его движения, физиономия, походка, все это было сделано для оскорбления меня или для внушения мне уважения. Он был высок ростом, широк в плечах, но худощав; длинноног, белокур и ряб. На нем был сертук, широкие штаны и фуражка. Вообще вся рожа его была отвратительна или так показалась мне.
Я самым учтивым манером спросил его о местах. Как будто бы это я во сне видел, что я говорю, — никакого внимания. Я стал вспоминать, не оскорбил ли я его чем-нибудь входя, не полагает ли он почему-нибудь, что я хочу гордиться. Я снял шляпу и в коротенькую фразу, которой я спрашивал его, сколько верст до Туна, я три раза поместил monsieur — это тоже не подействовало. Я подал ему деньги, он писал что-то и молча оттолкнул мою руку. Я начинал сердиться, и пускай меня обвиняют варваром, но у меня руки так и чесались, чтобы сгресть его за шиворот и разбить в кровь его рябую фигуру. По счастью для меня, он скоро бросил мне на стол два билета, так же швырнул сдачу, что, ежели бы я не удержал, она бы скатилась на пол, и он бы, верно, не поднял. Потом, размахивая так же спиной и руками и еще как-то сардонически чуть заметно улыбаясь, он вышел на улицу.
Нет, подобной бесчеловечной грубости я не только никогда не видал в России между колодниками, но я представить себе не мог ничего подобного.
Когда я вернулся домой и не выдержал, стал жаловаться кучеру, который принес мне наверх мои вещи. Он пожал плечами, улыбнулся (он был молодой веселый малый и в наступающую минуту ожидал на водку). «Vous dites que c’est le buraliste qui est comme ça?»[52] — «Да». — «Que voulez-vous, monsieur — ils sont républicains, ils sont tous comme ça. Et puis il est buraliste, il est fier de ça»[53].
Я, ложась спать, все не мог забыть бюралиста и твердил про него. А Саша хохотал. «Так задал вам страху бюралист? — все спрашивал он. — А Женевертка вычистит нам башмаки завтра?» — И он заливался хохотом. Кончилось тем, что и я расхохотался и, перебирая весь день, заснул все-таки с веселыми мыслями.
1858
1858. 1 января. [Москва. ] Визиты, дома, писал. Вечер у Сушковых. Катя очень мила*.
2, 3,4, 5 [января]. Хлопоты о музыкальном обществе*. Катя слабее, но тихой ненависти нет. Необъяснимое впечатление омерзения кокыревской речи*.
6 января. К Аксаковым. Спор с стариком. Аристократическое чувство много значит. Но главное. Я чувствую себя гражданином, и ежели у нас есть уж власть, то я хочу власть в уважаемых руках. Дома обедал. Тетенька радуется на Николеньку. С детьми, бобом занимались. Поехал в отличном духе на бал, но его не было.
7января. […] Дома славно. Андерсен прелесть. И scherzo Бетховена. Бал маленький, грязный, уроды, и мне славно, грустно сделалось. Тютчева вздор!
8 января. Нет, не вздор. Потихоньку, но захватывает меня серьезно и всего.
9, 10, 11, 12,13, 14 января. Был раз у них* от Аксаковского чтения. Раут. Глупо. Александрин Толстая постарела и перестала быть для меня женщина. Трубецкие. Карамзины прелесть, особенно он. Дома много сидел. Машенька тяжела.
15 января. [Соголево. ] Проводил Александрин до Клина, заехал к княжне, неправдиво немного. Хорошо начал писать «Смерть»*.
18января. [Соголево — Москва. ] Вчера немного поправил вечером. Встал в 7-м. Болтали хорошо, читал, обедал. Поехал с тем, чтобы встретиться в Вышнем Волочке*, но разъехался. Самарин рассказывал про обед. Глупо. Скучно ехал. Дома Сережа. Просто неприятно с ним. Как мне с Тургеневым. […]
19 января. [Москва. ] Тютчева. Занимает меня неотступно. Досадно даже, тем более что это не любовь, не имеет ее прелести. Встал в 8. Написал письма, прочел главу. Николенька советует дерево оставить*. Пошел ходить с Николенькой. Толпа. Кремль, Берсы. Дома с Чичериным. Философия вся и его — враг жизни и поэзии. Чем справедливее, тем общее, и тем холоднее, чем ложнее, тем слаще [?]. Я не политический человек, 1000 раз говорю себе. В театр. «Жизнь за царя»*, хор прекрасен. В клуб. «Ася»* дрянь.
20 января. Встал рано. Думал, передумывал «Три смерти» и написал «Дерево». Не вышло сразу. Пошел на гимнастику. Ничего. М. Сухотину с язвительностью говорил про К. Тютчеву. И не перестаю, думаю о ней. Что за дрянь! Все-таки я знаю, что я только страстно желаю ее любви, а жалости к ней нет. Машенька едет в маскарад. Я озлобленно спорил с ней и сказал, что уеду. С Сережей опять пошло лучше. Пробежал нынче свой дневник. Как я заметно падаю.
21 января. Встал в 8-м. Написал письмо Василью. Дневник, Евангелие прочел и думал и переписывал «Дерево». […]
23 января. Писал утро, хотя и встал поздно. Нигде не был. Дописывал после обеда и прочел тетеньке, с слезами. К Свербеевым. Яшевский злобно напал на Аксакова. Хомяков вилял передо мной весьма слабо. Зашел к нему. Старая кокетка!
24 января. Встал поздно. Докончил «Три смерти». Гимнастика. Дома спор с Машенькой. Приехал Чичерин. Слишком умный. Ругал желчно славянофилов. Поехал с ним к Коршу. Спокойно и высоко умен.
25 января. Встал в 10. Читал утро. Гулял много. Обедал дома. Тетенька говорила о Машеньке. Она права. К Фету. Завидно и радостно смотреть на его семейное счастье. Вечер музыкальный прелесть! Вебер прелесть. Тютчева, Свербеева, Щербатова, Чичерина, Олсуфьева, Ребиндер, я во всех был влюблен. Машеньку мне стало жалко, и я заснуть не мог от счастья до 4 часов.
30 января. Фету, Чичерину и Коршу читал*. Хотят погрубее. Вздор! […]
13, 14, 15 февраля. [Ясная Поляна. ] Провел ночь у Шевалье перед отъездом. Половину говорил с Чичериным славно. Другую не видал, как провел с цыганами до утра и в Горячем. Поехал в Тулу. Зубы все вываливаются. Вчера работал над «Погибшим». Начинает выходить. Любви — нет.
16 февраля. Вчера приехал Сережа. Что за чудо, что моя любовь к мысли становится преградой между мной и старыми друзьями. Хорошо устроено, что в 30 лет женятся. Все мои слишком знают меня, чтобы любить. Опять работал над «Погибшим». Как будто кончил, но еще переделаю. […]
17, 18 февраля. Немного переделал «Альберта». И набросал мысли о наказаниях. Дальше читал. Читал «Атеней». «Revue des deux Mondes». Montégut — умница. «Hipocondriac» славная штука. Режет по целому*. «Midsummer-night’s» Dream по-английски и по-русски*. Григорьев хорош. Брандт был и надоедал. Все голова болит. Мысли о приближающейся старости мучают меня. Смотрюсь в зеркало по целым дням. Работаю лениво. И в физическом и умственном труде нужно зубы стиснуть.
19, 20, 21, 22, 23, 24 февраля. [Москва. ] Еще три дня в деревне, очень хорошо провел. Старое начало «Казаков» хорошо, продолжал немного. Сережа, убит, смирен. Оникеев, юмор. Черемушкин, уверенность по случаю капитала. В Туле, славная Маша*. Играл за Сережу, заигрался. Карнович, Завальевский. Я эманципатор!!!! По метели в Москву. Гимнастика. Баня. Объелся.
25 февраля. Встал рано, почитал журналы; о лорде Грее*. Некрасова плохая вещь*. Варгин, тетенька и споры. Я смирился. Пошел ходить. Не в духе. Обедал без братьев. Прочел Чичерина о эманципации* и Корша о реформе. Первая нехорошо. Написал листок «Казаков». Играл фантазию, глупо, а приятно. Спать в 11.
26 февраля. Встал рано. Писал рассказ Епишки о переселении с Гребня. Нехорошо. Пришел Чичерин, Васенька*, я потею и нездоровится. Гимнастика. Обед в клубе. Все это мне скучно, я вырос немножко большой. Дома Машенька получше. Я бирючусь немного. Пошел к себе, написал Алексееву о песнях* и Некрасову ответ на циркуляр*. Пересматривал еще «Музыканта»*. Надо всего переписать или так отдать. Писал «Ерошку». Чихачева. Умная кокетка. Нездоровится.
1, 2, 3, 4 марта. Утром читал, кажется, Чичерину и Коршу. Ничего. Нашли, что ничего. Ходил оба дни. Вечер, концерт. Глупости наговорил Львовой, зачем она ездит [к] Олсуфьевой, подтрунивая над дядей, и Бахметьевой оплеушил Аксакова. Работал немного, переделывал еще «Музыканта». Вчера мигрень. Григорович приехал.
8, 9, 10 марта. Был у Тютчевой, ни то ни се, она дичится. В концерте видел Щербатову и говорил с ней. Она мила, но меньше. Доканчивал «Музыканта». Чичерин эллин, но хорош.
14 [марта. Петербург]. Утром пришел Шеншин. Не ко мне, а Чичерину, и это рассердило меня. У Толстых Пущины и Трубецкой. В эрмитаже Ruisdal — хорош Рубенса «Блудный сын»* с грубым затылком и «Снятие с креста». Мурильо не очень. Штеен прелесть композиции. Обед у Кавелина. Это все настраиванье себя. Мне с ним делать нечего. Зашел к Колбасиным. Они больны, и у меня флюс.
17 марта. [Петербург — Москва. ] Салтыков, читал. «Идеалист» хорош*. Он здоровый талант. Поехал. Орлов с женой, Корсакова, Болычев. Не скучно. Зубы болели.
20 марта. Немного писал, но отбивает продолжающаяся зубная боль. Читал Чичерина статью о промышленности Англии*. Страшно интересно. С некоторого времени всякий вопрос для меня принимает громадные размеры. Много я обязан Чичерину. Теперь при каждом новом предмете и обстоятельстве я, кроме условий самого предмета и обстоятельства, невольно ищу его место в вечном и бесконечном, в истории. Ходил до 4 часов. У Машеньки писал и прочел ½ «L’oiseau», «L’insecte» Michelet*. Ужасно глубоко местами и местами дрянно.
21 марта. Зубы мучительно болят. Прочитал Michelet. Написал словечко Тургеневу. Пошел ходить. Купил барометр, обои. Обедал. Пописал немного. Я весь увлекся «Казаками». Политическое исключает художественное, ибо первое, чтобы доказать, должно быть односторонне. У Щепкина видел Кетчера. Ничего. Машенька спокойна и мила. Сейчас прочел суд Le [?]. Старик бессмысленный перед английским судом и адвокат*. Будущая революция будет революция против законов разума и общественности.
24 марта. Поздно встал больнешенек. Куча управляющих. К. Р. бывший волонтер в уланском полку. Благодаря бога, водки не пьет. Дочел «L’insecte». Приторно и притворно. В «Literarisches Centralblatt». Поэма в будущем, о соединении Германии, Эмерсон, о Шекспире и Гете, в «Athenaeum’e» спор о литературном фонде Диккенса*. Осада Лукнова. Бесчеловечность Англии*. В 7 обедал, суп. Приехала тетенька. Написал Александрин Толстой и читал «Lachapelle Voyage»*. Montluc «Commentaires»*. Молодец гасконец. Здоровье получше.
27 марта. Разбудили Островский и Горбунов, Островский несносен. Чичерин, Фет. Спор о Христе. Дома читал геологию. Поехал к Маше. Она лучше и лучше. Читал американскую повесть. Писал «Светлое Христово воскресенье»*.
28 марта. Островский, Аксаков, Сухотин. Праздность совершенная. Вечер у Сушковых. Увы, холоден к Тютчевой. Все другое даже вовсе противно.
1-е апреля. В 10 встал. Чичерин, неловко с ним. Христос не приказал, а открыл нравственный закон, который навсегда останется мерилом хорошего и дурного. Поехал к Пикулину. Сатин. Они, западники, дичатся меня. […]
9 апреля. [Москва — Ясная Поляна. ] Выехали чем свет, весна. Новые радости, как выедешь из города. Потом болели зубы. В ночь приехали в Ясную.
10 апреля. [Ясная Поляна. ] Проснулся в 12. Милые Феты, проводил их, занялся хозяйством.
11 апреля. Тревожно спал, кошмар и философская теория бессознательности. Встал в 9. Читал «Centralblatt» и разбирал бумаги и книги. Походил, беспорядок в лошадях, обедал один, читал «Journal des Débats». Rigault — умница. Религии нет, да и была ли та, которой он требует. Распекал, ездил верхом. Уже начал торопиться в решениях и робеть… Играл немного. Написал письма Чичерину, Николеньке, Иславину и Меринскому. Писал с увлечением письмо офицера о тревоге*.
12 апреля. Встал, пошел ходить. Обругал Якова и было настращал становым. Скверно, что все это больше от зуб. Дома прочел Wisman о папах Льве 12 и Пие 8. Немного пописал. За обедом читал «Scènes de la vie américaine». Интересно бы критику написать вообще французского романа. Писал с богатством содержания, но неаккуратно. Бегство в горы не выходит. Ездил верхом. Хозяйство так-сяк. Надо привыкнуть, что так-сяк. Играл довольно много, но неаккуратно.
13 апреля. Скверная погода. Читал «Athenaeum». О папах. «Revue des deux Mondes» — дрянные повестишки. Заколодило на бегстве в горы. Оттого писал мало. Ходил и ездил верхом, безалаберно играл. Написал письма Николеньке и Чичерину. Проезжая через прешпект, нахлынули воспоминания молодости.
14 апреля. Сейчас написал нелепое письмо А. Толстой. Прочел «Débats». Ходил немного. Вообще ничего не делал. Зато уяснил себе конец романа. Офицер должен разлюбить ее.
20 апреля. Прелестный день, прет зелень — и тает последнее. Грустил и наслаждался. Сова пролетела, через раз хлопая крыло о крыло, потом чаще и села.
21 апреля. Чудный день. Бабы в саду и на копани. Я угорелый… Письмо от Чичерина. Что-то не то*. Petit, mon Prince[54]. Лил в него все накипевшие чувства, через него скорей.
25 апреля. О! Гимбуд, о! злодей. С 9 до 11 ½ лгал, ломался и говорил про свое следствие. И это весной. Я страдал ужасно.
С утра покопался в хозяйстве, перечитывал военные рассказы. Последние плохи. Получил письма от Алексеева, Николеньки, Дружинина о журнале*, Колбасина и Alexandrine. (Начинает мне надоедать ее сладость придворно-христианская.) Писал конец письма. Небрежно, но идет. Теперь все переделать надо в лето.
26 апреля. Выехал рано в поле, рассердился. Перечитывал все и переделывал. Ездил по зову солдата напрасно. Обедал, спал, ходил в поле. Поотделал «Кордон»*, много новых мыслей. Христианское воззрение. Играл часа три — сикстами три аккорда под соловьев и наслаждался. Получил письмо от Александрин о «Трех смертях».
27, 28, 29, 30 апреля. Все был дома. Засечный солдат замучил меня. Вчера ездил в Судаково и к Гимбуту. Грустны судаковские перемены, но я не жалею. Енгалычев хороший человек, завидую ему. Его как раз достает на содержание своей жизни. Надежда Николаевна была одна. Она сердита на меня, а улыбка милая. Ежели бы не павлиньи руки.
Читал эти дни Маколея* и газеты. Нет, история холодна для меня. Перечитывал вчера кавказский дневник. Напрасно я воображал, что я такой милый там мальчик. Напротив, а все-таки, как прошедшее, очень хорошо. Много напомнило для кавказского романа. В романе дошел до второй части, но так запутано, что надо начинать все сначала или писать вторую часть.
1 мая. Погода гадкая. Ничего не писал, но нашел значительную перемену. Марьяна должна быть бедная, так же как и Кирка. Отчего это так, бог знает. […]
3 мая. Болел язык, голова. Ничего не писал оба дня. Прочел 1-й том Маколея. […] Еще обдумал «Казаков». Марьяна Соболька. Хочу попробовать последние главы, а то не сойдется.
4, 5, 6, 7, 8 мая. Приехал Сережа. Славно болтали до 2-х часов. На другой день приехали все наши. Машеньку известие об отсутствии Тургенева ударило. Вот те и шуточки. Поделом ему скверно. […] Ничего не писал и не читал все это время, но занимался понемногу хозяйством. Нынче они уехали, мы одни с тетенькой. […]
9 мая. Немного невнимательно пописал «Возвращение Кирки». Ездил верхом, затравил двух. Живем с тетенькой по-старому славно. Получил письмо от Фета. Ждем напрасно. Палочка вынута. Сходка не уладилась о лесах.
10, 11, 12, 13 мая. Чудный троицын день. Вянущая черемуха в корявых рабочих руках; захлебывающийся голос Василия Давыдкина. Видел мельком Аксинью*. Очень хороша. Все эти дни ждал тщетно. Нынче в большом старом лесу, сноха, я дурак. Скотина. Красный загар шеи. Был у Гимбута. Я влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли. Мучаюсь. Завтра все силы.
Почти месяц не писал. Нынче 12 июня. Все это время ничего не писал. Занимался хозяйством, но больше беготней… Был в Пирогове. Фет. Николенька пробыл день. Отставил Василья. Вчера приехал Тургенев. Судя по нем, я возмужал, мне легко с ним. Прочел «Три смерти», слабо. Хочу работать, и, главное, порядок.
14 июня. Целый день в поле. Ночь удивительная. Росистый белый туман. На нем деревья. Луна за березами и коростель; соловьев нет больше.
С 16 июня по 19 июля. Не пишу, не читаю, не думаю. Весь в хозяйстве. Сражение в полном разгаре. Мужики пробуют, упираются. Грумантские пасмурны, но молчат. Я боюсь самого себя. Прежде незнакомое мне чувство мести начинает говорить во мне; и месть к миру. Боюсь несправедливости…* Талант мой — зависть. Получил письмо от Фета с статьей «Continental Review»* и письмо Чичерина. Нынче еду в Тулу!
20, 21, 22 июля. В Туле уладил дело с Копыловым, но рабочих нет. Безносые, гордые солдаты. Жничиха хорошенькая, около нее мужики. Спор о том, можно ли быть на барщине. На барщину 5, к мужику 4. Иван Иваныч страстный и славный садовник. Дома сходка. Записываются косить, о мальчиках крик. На другой день косьба. Вчера Гаврила Болхин разбивал рабочих, я призывал его и велел работать до покрова. Анисим просил прощенья.
Приходит мысль описать нынешнее лето*. Какая форма выйдет.
4 сентября. Убрался хорошо… Varis[55] увеличивался. Ездил к Николеньке и Тургеневу: первый мил очень дома, второй тяжел невыносимо. Фет милашка. Были выборы. Я сделался врагом нашего уезда*. Компания Черкасского дрянь такая же, как и их опозиторы, но дрянь с французским языком. Ездил в Алексин, накупил лошадей. Тургенев скверно поступает с Машенькой*. Дрянь. Играл в карты. Остался в выигрыше. Хочется работать. Мне 30 лет.
15 сентября. Москва. Я страшно постарел, устал жить в это лето. Часто с ужасом случается мне спрашивать себя: что я люблю? Ничего. Положительно ничего. Такое положенье бедно. Нет возможности жизненного счастья; но зато легче быть вполне человеком-духом, «жителем земли, но чуждым физических потребностей». Я в Москве. Дело задержит меня с неделю. Виделся с Коршем и Тютчевой. Я почти бы готов без любви спокойно жениться на ней; но она старательно холодно приняла меня. Правду сказала племянница Тургенева. Трудно встретить безобразнейшее существо. Болезнь морально мучает меня. Обещал Коршу описание лета, но узость задачи претит мне. Вчера у Корша Арапетов, Лонгинов, мелкое злословие. Я ушел.
15 сентября. Москва. В Совете ничего нельзя сделать. […] Вечер сидел у Яковлевой с тетенькой. Людей нельзя не любить: они все, мы все, так жалки. Ужасно жалки. Описание лета не пойдет. Завтра поеду домой.
17 сентября. С тоской в душе шлялся утро. Обедал у Берса. Милые девочки! […]
19 сентября. [Москва — Ясная Поляна. ] Убирался. Был на гимнастике. Сильно посвежел. Поехал. Наслаждался. Решил, что надо любить и трудиться, и все. Уж сколько раз! Дорогой любил.
20 сентября. [Ясная Поляна. ] Приехал. Устал. Не любил и не трудился.
30 октября. Видел Валерию — даже не жалко своего чувства. С Машенькой опять пошло на лад. С детьми — прекрасно. Был в Туле. Черкасский не глуп, но узенькая головка. Все славянофилы не понимают музыки. Переписывал «Казака». Надо еще раз. Денег нет, хозяйство плохо.
27 ноября. Нет, я так попустился, что это невозможно. Грубое занятие хозяйством. Нынче Резун лгал, я взбесился и по мерзкой привычке сказал: высечь. Я ждал, что он придет. Послал остановить, его не догнали. Буду просить прощенья. Никогда не буду выговаривать, как после 2-х часов. Просил прощенья, дал 3 рубля, но мучило. Вечер писал отлично «Секрет»* и вижу в будущем все хорошо. Тетенька говорит, что Сережа переменился со времени проигрыша. Верно, его так испугало. По-своему понимает, а правда.
6 декабря. Привел в порядок бумаги. До обеда буду переделывать начало «Казака», а после обеда займусь маленькими*.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 декабря. [Москва. ] Немного занимался; но хозяйственная колея, втягивая меня, слишком отвлекала меня. Нынче 13, я в Москве. Литература, которую я вчера понюхал у Фета, мне противна. То есть я думаю, что, начав литературное поприще при самых лестных условиях общей, два года сдержанной похвалы и почти первого места, без этих условий я не хочу знать литературы, то есть внешней, и слава богу. Надо писать тихо, спокойно, без цели печатать. Написал записку о дворянском вопросе и, никому не показывая, сжег ее*.
23 декабря. Приехал в Москву с детьми. Перезалог не удался. Деньги повсюду нужны. Поехал на охоту за медведем, 21 убил одного; 22 меня погрыз*. Денег промотал пропасть.
1859
1 января. [Москва. ] Все это время занимался и нынче тоже. Голова еще болит. Надо жениться в нынешнем году — или никогда. Первый день прошел слишком тихо. Никого ровно не видал. Работал невидную работу*.
16 февраля. Все это время работал над романом и много успел, хотя не на бумаге. Все переменил. Поэма. Я очень доволен тем, что в голове. Фабула вся неизменно готова. Почти никуда не ездил. Вчера был с первым визитом у князя Львова. Третьего дня провел с ним вечер у Гагарина и пришел домой влюбленный в обеих*. Ночью не спал, и С. осталась одна. Вчера тоже пять часов не мог заснуть. Нынче спокоен. Работаю. Здоровье мое нехорошо: и желудок и нервы. Видел один сон — клубника, аллея, она, сразу узнанная, хотя никогда не виданная, и Чапыж в свежих дубовых листьях без единой сухой ветки и листика.
19 февраля. Еще третьего дня прошло. Опять не то. Я никому не говорил однако. И в жизни и в искусстве нужно это сосредоточенье в одном себе. […]
9 апреля. Москва. Ездил на охоту и в Петербург. В Петербурге десять дней счастливейших*. В Москве опять два раза видел Львову. Поднялось, но не с такой силой. Было бы очень хорошо, ежели бы не здоровье. Получил деньги, продул на китайском бильярде. Работал. Кончил «Анну»*, но нехорошо. […]
9 мая. [Ясная Поляна. ] Неделю уже в деревне. Хозяйство идет плохо и опостыло. Получил «Семейное счастие». Это постыдная мерзость. Я ко всему оказываюсь отвратительно холоден. О Аксинье вспоминаю только с отвращением, о плечах. Feuillet огромный талант*. Мне грустно на самого себя. Сердце мое так молчит нынешний год на все. Даже грусти нет. Одна потребность работать и забывать — что? Нечего. Забывать, что живу. Молился нынче и хочу принуждать себя регулярно работать и делать хоть немного добра. Надо написать письма Александрин, Боткину и «Вестнику».
28 мая. Вчера остригся, и даже это мне кажется признаком возрожденья. Я недоволен собой. Порядок моей жизни разладился. Аксинья уходила к Троице. Сейчас ее видел. У меня была раз, были Феты, дом перестраивали. Утин*все стоит. Сейчас хочу пописать «Казака».
1859. 2-е октября. Лето в хозяйстве, хандре, беспорядочности, желчности, лени. Маша построила дом и переехала.
1859. Октябрь 9. С 28 мая и по нынешний день я был в деревне. Беспорядочен, желчен, скучлив, безнадежен и ленив. Занимался хозяйством, но дурно и мало. Аксинью продолжаю видать исключительно. Маша переехала от меня в свой дом, я с ней чуть не поссорился совсем. Я ударил два раза человека в это лето. 6 августа я ездил в Москву и стал мечтать о ботанике. Разумеется, мечта, ребячество. Был у Львовых; и как вспомню этот визит — вою. Я решил было, что это последняя попытка женитьбы; но и то ребячество. […] И вот я дома и почему-то спокоен и уверен в своих планах тихого морального совершенствованья. Что бог даст.
Нынче надо осмотреть хозяйство, решить судьбу управляющего, написать письма и заняться романом вечерком.
11 октября. С каждым днем хуже и хуже моральное состояние, и уже почти вошел в летнюю колею. Буду пытаться восстать. Читал «Adam Bede»*. Сильно трагично, хотя и неверно и полно одной мысли. Этого нет во мне. Лошади хуже и хуже. Рассердился на Лукьяна.
1860
1 февраля 1860. [Ясная Поляна. ] Вчера была бессонница до 5 часов утра. Читал о «dégénérescence de l’espèce humaine»* и о том, как есть физическая высшая степень развития ума. Я в этой степени. Машинально вспомнил молитву. Молиться кому? Что такое бог, представляемый себе так ясно, что можно просить его, сообщаться с ним? Ежели я и представляю себе такого, то он теряет для меня всякое величие. Бог, которого можно просить и которому можно служить, есть выражение слабости ума. Тем-то он бог, что все его существо я не могу представить себе. Да он и не существо, он закон и сила. Пусть останется эта страничка памятником моего убеждения в силе ума.
1 февраля. 60. Тип русского, слишком чистого от неприкосновения к жизни.
16 февраля. Вчера сделал кое-какие перемены по хозяйству. Читал и учил немного*. Нынче. Писать «Казаков» утром, пройдясь по хозяйству. Зайти к мальчикам, окатиться, обедать. Вздремнуть. Писать «Казаков» или о книгопечатании* до чаю и вечером письма Борисову, Фету и братьям о машинах и лечебнике и Дружинину и Подчаскому.
22 мая. 1860. Троицын день. Дождь. Читал Ауэрбаха* и «Reineke-Fuchs»*. Перечел записку — дельно*. Пропустил все веселье — грустно. Нужно любить всех, и Филата, и Ивана, и быть с ними проще. Обругал старосту и Матвея.
26 мая. Видел необычайный сон — мысли: странная религия моя и религия нашего времени, религия прогресса. Кто сказал одному человеку, что прогресс — хорошо. Это только отсутствие верования и потребность сознанной деятельности, облеченная в верованье. Человеку нужен порыв, Spannung[56] — да.
Встал в 5, сам распорядился, и все хорошо — весело. Ее нигде нет — искал. Уж не чувство оленя, а мужа к жене. Странно, стараюсь возобновить бывшее чувство пресыщенья и не могу. Равнодушие трудовое, непреодолимое — больше всего возбуждает это чувство. Вечером рассердился было на навозе, слез и начал работать до 7 потов, все стало хорошо и полюбил их всех. Странно будет, ежели даром пройдет это мое обожание труда. Не мог заснуть, и нездоровилось, написал Машеньке.
2 августа. [Киссинген.]. Два месяца почти не писал. Нынче 20 июля*. Я в Киссингене*. Постараюсь возвратиться назад с нынешнего дня, до отъезда.
Вчера 19 июля. Читал историю педагогии*. Лютер велик. Ходил гулять. Поденщики работают меньше, чем вдвое меньше наших баб и 20 к. в день. Невежество, нищета, лень, слабость. Вчера же был у американского пастора о школах. Все от правительства и убили своими достоинствами всю частную конкуренцию. Преподавание религии — одна Библия без толкований и сокращений.
18 июля. Гулял с Ауэрбахами. Читал Räumer’a.
17 июля. Был в школе. Ужасно. Молитва за короля, побои, все наизусть, испуганные, изуродованные дети.
16 июля. Был в школе малых детей — также плохо. Lautiermethode[57]. Познакомился с немцем, вольнодумным стариком. Был в поле. Knecht[58].
3 августа нового стиля. Читал историю педагогики. Франц Бако*. Основатель матерьялизма. Лютер реформатор в религии — к источникам. Бако в естествоведении. Риль в политике*. Познакомился с Фрёбелем. Аристократ — либерал*. Риль болтун. Искусство не может ничего дать, когда сознательно.
4 августа. Риля читал и Герцена* — разметавшийся ум — больное самолюбие, но ширина, ловкость и доброта, изящество — русские. Ходил на охоту. Писал к своим.
5 августа. Montaigne первый ясно выразил мысль о свободе воспитания. В воспитании опять — главное равенство и свобода.
6 августа. Читал Риля «Kulturgeschichte»l4*. Каламбур ученый преобладает. Он забывает искусство. Volkskunde[59] состоит из множества отдельных наук. А искусство помощник, но самостоятельный. Риль же не художник и хочет сделать из своей Volkskunde мешанину искусства и науки. Приехал Сережа. Сон в руку. Самые дурные известия. Он продулся. Николеньке хуже.
7 августа. Немного успел почитать Риля о календарях. Он прав; о органическом значении народных старых календарей и вообще народной из народа литературы. Но где же место Ауэрбаха? Intermédiaire[60] между народом и образованным классом. Мечтал о уничтожении рулеток. Гулял вечером. Болтал с мужиками. Мысль повести. Работник из всех одолел девку или бабу. Формы еще не знаю*.
8 августа. Сережа хочет общества, блеск аристократизма действует на него. Гулял один. Форма повести: смотреть с точки мужика — уважение к богатству мужицкому, консерватизм. Насмешка и презрение к праздности. Не сам живет, а бог водит.
10 августа. Знакомство с Фрёбелем. Либеральный болтун. Ауэрбахи 3-го уехали, и накануне мы славно болтали о литературе. Я предлагал ему аренду. Получил письмо из дому. Неприятно перенесло меня во все дрязги хозяйства.
11 августа. Ходил в Гариц, знакомство с молодым школьным учителем, которого занимает вопрос, по двум или по одной линейке писать. Старик рутинер. Нанимал работников, косил.
12 августа. Положение Николеньки ужасно. Страшно умен, ясен. И желание жить. А энергии жизни нет. Ездил в Героде. Ауэрбахи, даже она, — чрезвычайно милы.
13 августа. Николенька уехал. Я не знаю, что делать. Машеньке плохо и ему. А я ни к чему. После обеда все с Фрёбелем. Он меня стал уважать. Вечер с Ландауером.
14, 15, 16 августа. Ближе сошелся с Фрёбелем. Политика истощила его всего. Познакомился с Блумом и Экономом. Мало умных людей. Мысль о опытной педагогике привела меня в волненье, но не удержался, сообщил и ослабил ее. Писал. Ауэрбахи приехали. Скопин остался. От Николеньки получил письмо.
23 августа. Видел во сне, что я оделся мужиком, и мать не признает меня. Господин von из Мекленбурга — «старый порядок хорош, новый принесет бедность». Щеголяю. Как будто образуется форма романа*.
24 августа. Читал Риля. Консерватизм невозможен. Нужны более общие идеи, чем идеи организмов государства — идея поэзии, и ее не уловишь в Америке и в образующейся новой Европе. Целый день боялся за свою грудь.
29 августа. [Соден — Франкфурт. ] Встал в ½ 8. Не так здоров. Болтал с Шнейдером о 48 г. и порядках. […] Дорогой пришла мысль о простоте рассказа, — живо представляя слушателя — Андрея. Николенька весел. Пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, а самому делать жизнь.
13/25 октября. Иер. Скоро месяц, что Николенька умер*. Страшно оторвало меня от жизни это событие. Опять вопрос: зачем? Уж недалеко до отправления туда. Куда? Никуда. Пытаюсь писать, принуждаю себя, и не идет только оттого, что не могу приписывать работе того значения, какое нужно приписывать для того, чтобы иметь силу и терпенье работать. Во время самых похорон пришла мне мысль написать матерьялистическое Евангелие, жизнь Христа-матерьялиста. Поездка из Содена ничем не замечательна. В Женеве College. Под диктовку историю и один складывает. Пьяный учитель. Изуродованные дети в salle d’asile[61]. Глупый Тургенев*. Николенькина смерть самое сильное впечатление в моей жизни. Marseille. Школа не в школах, а в журналах и кафе*.
28 октября. Воскресенье. Одно средство жить — работать. Чтобы работать, надо любить работу. Чтобы любить работу, надо, чтобы работа была увлекательна. Чтобы она была увлекательна, надо, чтобы она была до половины сделана и хороша. Cercle vicieux;[62] но что же делать. Гаданье карт, нерешительность, праздность, тоска, мысль о смерти. Надо выйти из этого. Одно средство. Усилие над собой, чтоб работать. Теперь час, я еще ничего не делал. Дописать первую главу с обеда*. После обеда письма.
Утро писал — помешали Semainville и зов обедать. Написал не больше половины главы. Писем не писал. Завтра до завтрака писать письма и докончить главу и 3-ю, ежели успею. Обедал у Шангирея. Морель спорил о музыке, не может понять вне оперы. Perkennes — дура. С княгиней и Катенькой весело*. У Машеньки. Она притворяется больной.
10 Nоября. Лет десять не было у меня такого богатства образов и мыслей, как эти три дня. Не пишу от изобилия.
12 Nоября. Умер в мученьях мальчик 13 лет от чахотки. За что? Единственное объяснение дает вера в возмездие будущей жизни. Ежели ее нет, то нет и справедливости, и не нужно справедливости, и потребность справедливости есть суеверие.
13 Nоября. Справедливость составляет существенную потребность человека к человеку. То же отношение человек ищет в своем отношении к миру. Без будущей жизни его нет. Целесообразность! единственный неизменный закон природы, скажут естественники. Ее нет в явлениях души человека — любви, поэзии, в лучших явлениях. Ее нет. Все это было и умерло, часто не выразившись. Природа далеко переступила свою цель, давши человеку потребность поэзии и любви, ежели один закон ее целесообразность.
1861
1/13 апреля. [Веймар. ] Что прошло в эти четыре месяца, трудно записать теперь — Италия, Ницца, Флоренция, Ливурно. Попытка писанья Аксиньи*. Неаполь. Первое живое впечатление природы и древности — Рим — возвращенье к искусству — Гиер — Париж — сближение с Тургеневым — Лондон — ничего — отвращение к цивилизации. Брюссель — кроткое чувство семейности, письмо о Катеньке к Машеньке. Ейзенах — дорога — мысли о боге и бессмертии. Бог восстановлен — надежда и бессмертие. Первая и вторая ночь в Ейзенахе, крик больного ребенка — часы — лепечут. Веймар — одна девка — Liebes gutes Kind, sie sind irre[63]. Landmann[64] учителя. Tröbst. Герцог.
15 апреля. Иена. Бессонница с вечера. Воспитание и образование не разрешаю, но спокойнее смотрю на германское образование; в 10 на Аполду и пешком приятно и легко в Иену. Стоя жена ерыга, его писанье — ловкая болтовня и дерзкая*. Ценкер пьяная, грубая скотина, одобряющая палку. Шефер, математик характером — тип. Thibaut u Elkund, Zeiss. И с ним беседа о педагогии. Мы начинаем сначала на новых основаниях. Опять бессонница и беспокойство до часу. Книги Ценкера* и Стоя. Германия одна выработала педагогию из философии. Реформация философии. Англия, Франция, Америка подражали
16 апреля. (Веймар.) Schullehrerseminar[65]. Прекрасно Rechnen[66] палочками и с переводом в числа — география с порученьями измерения. (Язык нехорошо, с напрасным трудом определения определенного.) Цвецен. Глупейшая школа, доказывающая, до чего доводят учреждения сверху. Теория без практики. Grignon — образец. Пошел пешком. На горе в лесу, упивался природой просто и счастливо. […] Думал дорогой, кидая камешки, и об искусстве. Можно ли целью одной иметь положенья, а не характеры? Кажется, можно, я то и делал, в чем имел успех. Только это не все общая задача, а моя.
17 апреля. Встал в 8. В Kindergarten[67]. Геометрическое рисованье и плетенье пустяки. Законы развития ребенка не уловишь. Они учат наизусть, где только не по-ихнему, а ихнее не поймешь. Рисует палки, а ему смутно представляется круг. И приучить к последовательности нельзя тогда, когда все ново. Последовательность есть сила отрицанья всего не того, чем хочешь быть занят. Бидерман не глуп, но ученый и литератор, которого часть уже сидит в книге его, а не в нем*. Я, кроме «Детства», еще весь в себе, и потому я так свободно сверху смотрю на них. Потом Трёбст и Келер с его матерью. Увидав ее, я понял, что ответственность я на себя беру, увозя его*. А у него шея длинная. Нынче я свободнее думаю о его деятельности, ибо школа определилась — переход от практики жизни к теории. Готовое из жизни привести в систему. Во всех науках и особенно в естественных. Ходил гулять в хорошенький Тифорт — с Бек, Трёбстом и Келером. Пустая болтовня. Герцогиня — глупо неловка. «Zauberflöte» — восторг, особенно дуэт*. Келер, кажется, напрасно.
[9/21 апреля. Берлин. ] 21 апреля. Встал в 5. Всю дорогу здоров и весел. Один vis-à-vis поэт, другой мекленбургский помещик с вещами и перстнем, третий рейнский разгильдяй. Рот. Молодость не всё цветы. Ауербах!!!!!!!!!!*Прелестнейший человек! Ein Licht mir aufgegangen[68]. Его рассказы о присяжном, о первом впечатлении природы «Versöhnungs Abend’a», о Клаузере, пасторе христианства. Как дух человечества, выше которого нет ничего. Читает стихи восхитительно. О музыке, как pflichtloser Genuss[69]. Поворот, по его мнению, к развращению. Рассказ из «Schatzkästlein»*. Ему 49 лет, он прям, молод, верущ. Не поэт отрицания.
[12/24 апреля. ] 12 апреля. Граница*. Здоров, весел, впечатление России незаметно.
14/26 апреля. [Петербург. ] Ковалевский, Аксаков. Мне легче с ними. Толстые хорошо, но немного фальшиво. Обедал у них. Вечером у Анненкова, он нашел, что я умирен.
22 [апреля. Петербург — Москва]. Дорога — Погодин — суета.
25апреля. [Москва. ] У меня Дмитриев, умен и спокоен. Жемчужников несчастен от самолюбия и бездарностью. Дома обедал. Катков настолько ограничен, что как раз годится для публики. Флюс хуже. Зачем-нибудь да это делается.
6 мая. [Ясная Поляна. ] Не писал дней десять. Ехал с m-me Фет, скучал. В Туле Ауэрбахи, Головачев, Воейков для хаоса. Тетенька грустна и постарела, Сережа — хорош во всех отношениях, только празден. Меня назначили мировым посредником, я принял*. Поехал в Тулу, много болтал и начинаю гордиться и потому глуп. Марков отказался от соредакторства в журнале*. И вообще мысль журнала слабеет. В Пирогове хаос, и с Сережей ничего не сделал. Забыл день у Берсов приятный, но на Лизе не смею жениться*.
Завтра с утра «Поликушка» и читать положения*. Вечером приготовить программу школы и лекцию.
7 мая. С мужиками почитал положенья и больше ничего. Лень обхватывает меня. Ермил вздохнул: господи, помилуй! Иван Деев: тайную полицию. Немец напрасно. Лошади противно.
8 мая. До 12-ти приготовлял историческую лекцию. Читал и записывал ее до обеда, после обеда проехался. Втянулся в хозяйственный гнев. Опять школа прекрасно и дома два часа праздно.
9 мая. У обедни, пригласил священника читать. Их объяснение обрядов еще глупее, чем то, которое дает им священник. Господа из гимназии. Совещание. Я их пригласил в журнал. Совещание с мужиками. Макарыч, грубое выражение их мысли. Расстался дружески.
10 мая. Сережа, разговор о разделе. Лекция физики превосходная.
11 мая. Лекция историческая хороша, но мне нездоровилось. Поехал в Тулу. Договорились до того, что книжки научные невозможны.
12 мая. Подал прошение о школе*. Я — приходский учитель. Гимнастикой замучал. Славные лекции в саду. Приехал домой и забирает писать «Казака». […]
13 мая. Встал рано, нездоровилось. Урок словесности, который не записал, и больше ничего.
25 июня. Замечательная ссора с Тургеневым; окончательная — он подлец совершенный, но я думаю, что со временем не выдержу и прощу его*. Посредничество дало мало матерьялов, а поссорило меня со всеми помещиками окончательно и расстроило здоровье, кажется, тоже окончательно. В школе идет порядок, но, боюсь, безжизненный. Я не хожу от болезни. Написал программу*.
22 сентября. Москва. Я в Москве. О Тургеневе справедливо. Я уже хотел и почему-то не написал ему письма, в котором хотел просить прощения. Дела очень много впереди. Я держусь за него. Лиза Берс искушает меня; но это не будет. Один расчет недостаточен, а чувства нет.
23 сентября. Написал письмо Тургеневу*. Был у Рачинского. Застал сборище молодых профессоров. «Мы, умные, тоже, мол, можем просто веселиться». Чичерин гордится, чему я очень рад. Перечел письмо ему*. Лучше, что не послал. Пикулин будет смотреть нынче. Не ужинаю и почти здоров. Чахотка есть, но я к ней привыкаю*. Скучаю, что слишком ограничен мой кружок. Нет ли там ее — там, где меня нет.
[8] октября. Ясная Поляна. Вчера получил письмо от Тургенева, в котором он обвиняет меня в том, что я рассказываю, что он трус, и распространяю копии с письма моего*. Написал ему, что это вздор, и послал сверх того письмо: вы называете мой поступок бесчестным, вы прежде хотели мне дать в рожу, а я считаю себя виноватым, прошу извинения и от вызова отказываюсь*.
У меня два студента, школа идет хуже. Я начинаю разочаровываться в журнале.
28 октября. Дела по школам и посредничеству идут хорошо, по журналу не начинались. Писать хочется. Вчера открыл третью школу, которая не пойдет. Написал Чичерину о студентах.
5 ноября. Был в церкви с певчими. Учителя плохи. Алексей Иванович глуп. Александр Павлович нравственно нездоров. Иван Ильич надежнее всех. С старостой поссорился, дневник ясенский хорошо начал писать*. Помешали гимназисты. Плебейское негодование Чернова на Ауэрбаха. У учителей какие-то противные тайны. Ежели это бабы, то хорошо. Эксперименты Келера — интересны и хороши. Он мил и полезный малый. Мне хорошо и пишется. Не знаю, что будет завтра. Общее ли это хорошее настроение по времени, или только правильность переработки желчи.
6 ноября. С утра писал дневник, порядочно. Матерьяла бездна. В школе занимался, анализ — ощупыванье.
Петр Васильевич пьянствовал. Гимнастика. Прочел Перевлесского* — не то. После обеда напрасно пел. Вечером писанье не шло. Работается еще — что дальше будет.
1862
Мая 20. На пароходе*. Как будто опять возрождаюсь к жизни и к сознанию ее.
Вспоминаю с Москвы. Мысль о нелепости прогресса преследует. С умным и глупым, с стариком и ребенком беседую об одном. Написал в этом духе статью в 6-й № «Ясной Поляны»*. […]
23 августа. [Москва. ] В Москве. Не ел два дня, мучился зубами, ночевал у Берсов. Ребенок! Похоже! А путаница большая*. О, коли бы выбраться на ясное и честное кресло! Надо писать две статьи: о Маркове* и о Комитете грамотности* и Р. Подал письмо государю*. Любовался маневрами. Отлично — драгун запутался, а царь скачет*. Я боюсь себя, что ежели и это — желанье любви, а не любовь. Я стараюсь глядеть только на ее слабые стороны, и все-таки оно. Ребенок! Похоже.
24 августа. Встал здоров с особенно светлой головой, писалось хорошо, но содержанье бедно. Потом так грустно, как давно не было. Нет у меня друзей, нет! Я один. Были друзья, когда я служил мамону, и нет, когда служу правде. Пошел к тетеньке. Старушки живут и тоже не просто, а кипит сложная со всеми тонкостями жизнь. У Крыжановского, старался показать, что он не забывается в величии*. А кабы он знал, как я его величие считаю ему в упрек. Орлов, вот простая дура! В театре не мог высидеть балета, а царь каждый день. К Каткову. Кислый Бабст. Тоже судят все о благе России. Жена Каткова* — они за нее стыдятся, а она умнее их всех, она мать. О Соне* меньше думаю, но когда думаю, то хорошо.
25 августа. Дома тоска. Писал статью. Пошел ходить и ездить. Краснокуцкие (скверные мысли). Плещеев (бедная натура). Погодин — славная старость и жизнь. Чудная ночь.
26 августа. Пошел к Берсам пешком, покойно, уютно. Девичий хохот. Соня нехороша, вульгарна была, но занимает. Дала прочесть повесть*. Что за энергия правды и простоты. Ее мучает неясность. Все я читал без замиранья, без признака ревности или зависти, но «необычайно непривлекательной наружности» и «переменчивость суждений» задело славно. Я успокоился. Все это не про меня. Труд и только удовлетворение потребности.
27 августа. Смущена нехорошо, но крепко сидит где- то. У Мертваго. Оттого и здоровы, что ограничены в мысли. Студенты вечером. Отличный 6-ой №*. Статья Маркову складывается глубокая.
28 августа. Мне 34 года. Встал с привычкой грусти. Придумал общество для учеников мастерствам. Пако с букетом писем и цветов. Сердобольский. Суворин. Попов. Поработал, написал напрасно буквами Соне*. Обедал напрасно у Печкина, дома вздремнул. К Сушковым (соврал о 1000). Приятный вечер у Тютчевых. Сладкая успокоительная ночь. Скверная рожа, не думай о браке, твое призванье другое, и дано зато много.
29 августа. […] Писал плохо. Обходишь сущность, и выходит болтовня. Обедал дома. Пошел к Берсу, с ним в Покровское. Ничего, ничего, молчание… Не любовь, как прежде, не ревность, не сожаление даже, а похоже, а что-то сладкое — немножко надежда (которой не должно быть). Свинья. Немножко, как сожаленье и грусть. Но чудная ночь и хорошее, сладкое чувство. Заставила разбирать письмо. Я смутился. Она тоже. У них была сцена. Все неестественно. Попов необычайно умен и приятен. Грустно, но хорошо. Машенька говорит: ты все ждешь. Как не ждать.
30 августа. Утро работал. Помешал Тимирязев. Разозлил Гиляров. Дома обедал, заснул и потом к Берс. Соню к П. не ревную; мне не верится, что не я. Как будто пора, а ночь. Она говорит тоже: грустно и спокойно. Гуляли, беседка, дома за ужином — глаза, а ночь!.. Дурак, не про тебя писано, а все-таки влюблен, как в Сонечку Колошину и в А.* только. Ночевал у них, не спалось, и все она. «Вы не любили», — она говорит, и мне так смешно и радостно.
31 августа. И утром то же сладкое чувство и полнота любовной жизни. Писал. Два дурака — Плещеев и Якушкин помешали, — предисловие и вставки к «Магомету»*. К Тютчевым, закорузлые синие чулки. Как мне на них гадко. Кто-то заговорил, и мне показался ее голос. Крепко сидит 3-я и последняя. Не про тебя, старый черт — критические статьи! Начал ей писать — помешали — и хорошо. Я не могу уехать теперь — вот что. Кохановская — стерва, и все стервы, засохли в кринолине.
3 сентября. У них, сначала ничего, потом прогулка. «Он дурен, вы здоровый», лорнет, «приходите, пожалуйста». Я спокоен! Ехал и думал: либо все нечаянно, либо необычайно тонко чувствует, либо пошлейшее кокетство, нынче один, завтра другой и, главное, к чему отъезжающий, либо и нечаянно, и тонко, и кокетливо. Но вообще, ничего, ничего, молчание. Никогда так ясно, радостно и спокойно не представлялось мне будущее с женой. Вечер у Перфильевых. Скучные старики. Знаю, Васюк, знаю твои грехи. Как пошло тихое обманывание друг друга — счеты. А может, и мне судьба тоже. Memento[70], Дублицкий, старый черт, дядя Лявон. А чувствуешь: «Mein schönes Herz»[71]. Главное, кажется, так бы просто, в пору, ни страсти, ни страху, ни секунды раскаянья.
7 сентября. Сказал Васеньке и стал спокойнее. Васенька жалок; так мелко, старо, параллельно чувствуется ему. Нынче один дома и как-то просторно обдумывается собственное положение. Надо ждать. Дублицкий, не суйся там, где молодость, поэзия, красота, любовь — там, брат, кадеты. Нажрался с Васенькой нынче, и сопели, лежа друг против друга, это твое. Вздор — монастырь, труд, вот твое дело, с высоты которого можешь спокойно и радостно смотреть на чужую любовь и счастие, — и я был в этом монастыре и опять вернусь. Да.
Неискренен дневник. Arrière-pensée[72], что она у меня, подле меня будеть сидеть и читать и….. и это для нее.
8 сентября 1862 г. Утром Ауэрбах с статьей жены. Васенька, Суворин. Саша Берс. Пошел-таки к Берсам к обеду. Андрей Евстафьевич в своей комнате, как будто я что украл. Танечка серьезно строга. Соня отворила, как будто похудела. Ничего нет в ней для меня того, что всегда было и есть в других, — условно поэтического и привлекательного, а неотразимо тянет. (С Сашей зашел в деревню — девка, крестьянская кокетка, увы, заинтересовало.) Лиза как будто спокойно владеет мной. Боже мой! Как бы она была красиво несчастлива, ежели бы была моей женой. Вечером она долго не давала мне нот. Во мне все кипело. Соня напустила на себя Берсеин татьянин, и это мне казалось обнадеживающим признаком. Ночью гуляли.
9 сентября. Она краснеет и волнуется. О Дублицкий, не мечтай. Пришел Пако и с Сашей, обедал, спал. Начал работать и не могу. Вместо работы написал ей письмо, которое не пошлю*. Уехать из Москвы не могу, не могу. Пишу без задней мысли для себя и никаких планов стараюсь не делать. Мне кажется, что я в Москве уже год.
До 3-х часов не спал. Как 16-летний мальчик мечтал и мучился.
[10 сентября. ] Проснулся 10 сентября в 10, усталый от ночного волненья. Работал лениво и, как школьник ждет воскресенья, ждал вечера. Пошел ходить. К Перфильевым. Дурища Прасковья Федоровна. На Кузнецкий мост и в Кремль. Ее не было. Она у молодых Горскиных. Приехала строгая, серьезная. И я ушел опять обезнадеженный и влюбленный больше, чем прежде. Au fond[73] сидит надежда. Надо, необходимо надо разрубить этот узел. Лизу я начинаю ненавидеть вместе с жалостью. Господи! помоги мне, научи меня. Опять бессонная и мучительная ночь, я чувствую, я, который смеюсь над страданиями влюбленных. Чему посмеешься, тому и послужишь. Сколько планов я делал сказать ей, Танечке, и все напрасно. Я начинаю всей душой ненавидеть Лизу. Господи, помоги мне, научи меня. Матерь божия, помоги мне.
11 сентября. С утра писал хорошо. Чувство так же сильно. Целый день, как и вчера.
Не смел идти к ним. Много ходил, был у Яковлевой. Говорил Васе. Никто не может помочь мне, кроме бога. Прошу его. Вечер у Перфильевых. Хорошенькие Мент. Для меня нет никого. Устал. Какое-то физическое волнение.
12 сентября. Целый день шлялся и на гимнастике. Обедал в клубе. Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится. Был у них вечер. Она прелестна во всех отношениях. А я отвратительный Дублицкий. Надо было прежде беречься. Теперь уже я не могу остановиться. Дублицкий, пускай, но я прекрасен любовью. Да. Завтра пойду к ним утром. Были минуты, но я не пользовался ими. Я робел, надо было просто сказать. Так и хочется сейчас идти назад и сказать все и при всех. Господи, помоги мне.
13 сентября. Ничего не было. Хотя и Сережа приехал. Каждый день я думаю, что нельзя больше страдать и вместе быть счастливым, и каждый день я становлюсь безумнее. Опять вышел с тоской, раскаянием и счастьем в душе. Завтра пойду, как встану, и все скажу или застрелюсь.
[14 сентября. ] 4-й час ночи. Я написал ей письмо*, отдам завтра, то есть нынче 14. Боже мой, как я боюсь умереть. Счастье, и такое, мне кажется невозможно. Боже мой, помоги мне.
[15 сентября. ] 14 сентября. Спал только полтора часа, но свеж и нервозен страшно. Утром то же чувство. Пошел к Сереже, смеялись там о бессмертии души. В Кремль. К стервам Тютчевым и к ним. Положение объяснилось, кажется. Она странная… не могу писать для себя одного. Мне так кажется, я уверен, что скоро у меня уже не будет тайн для одного, а тайны для двух, она будет все читать. Были у Перфильевых. Усталый нервно, лег спать. Но спал мало, 6 часов. Вчера — 14 — уже я был спокойнее, нынче еще спокойнее. Что-то будет.
15 сентября. Не сказал, но сказал, что есть, что сказать. Рассказал Васеньке смерть Николеньки, плакал слезами ребенка. Завтра.
16 сентября. Сказал. Она — да. Она как птица подстреленная. Нечего писать. Это все не забудется и не напишется.
17 сентября. Жених, подарки, шампанское. Лиза жалка и тяжела, она должна бы меня ненавидеть. Целует.
18 сентября. Утром работал, потом у ней. Ольга Зайковская. Встретился с Сережей. Растрепанная. Обед без Лизы. Объяснение с Андреем Евстафьевичем. Поливанов. Она не просто целует, тяжело.
19 сентября. Я спокойнее. Утро проспал. Чичерин, скука. Шлянье без цели, 5½ у них. Она тревожилась. Лиза лучше, вечер, она говорит, что любит.
20, 21, 22, 23, 24 сентября. [Москва — Ясная Поляна. ] Непонятно, как прошла неделя. Я ничего не помню; только поцелуй у фортепьяно и появление сатаны, потом ревность к прошедшему, сомненья в ее любви и мысль, что она себя обманывает.
Хорошие известия о статье и продаже сочинений. В день свадьбы страх, недоверие и желанье бегства. Торжество обряда. Она заплаканная. В карете. Она все знает и просто. В Бирюлеве. Ее напуганность. Болезненное что-то. Ясная Поляна. Сережа разнежен, тетенька уже готовит страданья. Ночь, тяжелый сон. Не она.
25 сентября. В Ясной. Утро кофе — неловко. Студенты озадачены. Гулял с ней и Сережей. Обед. Она слишком рассмелилась. После обеда спал, она писала. Неимоверное счастье. И опять она пишет подле меня. Не может быть, чтобы это все кончилось только жизнью.
26, 27, 28, 29, 30 сентября. В Ясной. Я себя не узнаю. Все мои ошибки мне ясны. Ее люблю все так же, ежели не больше. Работать не могу. Нынче была сцена. Мне грустно было, что у нас все, как у других. Сказал ей, она оскорбила меня в моем чувстве к ней, я заплакал. Она прелесть. Я люблю ее еще больше. Но нет ли фальши.
1-го октября. Сдержали слово. Отличное утро. Хлопоты по хозяйству. Рассердился на Игнатьева за банк. Василий Ермилович* приехал. После обеда писал письма. Она придворным тетушкам не хочет писать — все чует. С студентами и с народом распростился*.
15 октября. Все это время я занимаюсь теми делами, которые называются практическими, только. Но мне становится тяжела эта праздность. Я себя не могу уважать. И потому собой не доволен и не ясен в отношениях с другими. Журнал решил кончить, школы тоже — кажется. Мне все досадно и на мою жизнь, и даже на нее. Необходимо работать…
19 декабря. Еще месяц счастья. Дурное только Стелловский, моя ошибка в отношении его. Теперь период спокойствия в отношении моего чувства к ней. Я пристально работаю и, кажется, пустяки. Кончил «Казаков» первую часть.
Черты теперешней жизни — полнота, отсутствие мечтаний, надежд, самосознания, зато страх, раскаяние в эгоизме. Студенты уезжают, и мне их жалко. У тетеньки сделалось новое старческое выражение, которое трогает меня.
22 декабря. Странное состояние сна, как говорит жена, однако энергии много — не курю. Студенты сердятся за то, что должны и виноваты передо мной. А мне жалко этого элемента вне всех условий.
27 декабря. [Москва. ] Мы в Москве. Как всегда, я отдал дань нездоровьем и дурным расположением. Я очень был недоволен ей, сравнивал ее с другими, чуть не раскаивался, но знал, что это временно, и выжидал, и прошло. Было объяснение за куклу, ей хотелось пощеголять своей простотой ко мне. Теперь мы пережили. Были в театре, ничего не вышло и ей. Отца боюсь. Любовь Александровна мила. В Таню все вглядываюсь. Литераторов, кроме Фета, не видал и не увижу.
30 декабря. Пропасть мыслей, так и хочется писать. Я вырос ужасно большой. Не завидую ли я? Как не сделаться старым. Глупый вечер у Берсов. Лаборд* Таня — чувственность. Соня трогает боязнью. Одно различие [?] мне больно. Я всегда буду ее любить.
1863
3 января. [Москва. ] Только нынче стала немного отпускать зубная боль. Она говорит о ревности: уважать надо, — уверенность, что это фразы, а все боишься и боишься. Эпический род мне становится один естественен. Присутствие Поливанова неприятно мне: надо его перенести наилучше. Мы одиноки в Москве, надо сделать авансы; а вдруг будет горе и хуже, а теперь так хорошо. Она целовала меня, пока я писал. Я чувствовал, что было не шутя, оглянулся — она плачет. Татьяна надоедает. Меня удивляет, как мне никого не нужно, и одиночество поражает меня, но не стесняет; а ей все кажется, что даром проходит время.
5 января. Счастье семейное поглощает меня всего, а ничего не делать нельзя. За мной стоит журнал. Часто мне приходит в голову, что счастье и все особенные черты его уходят, а никто его не знает и не будет знать, а такого не было и не будет ни у кого, и я сознаю его. «Поликушка» мне не нравится. Я читал его у Берсов.
Люблю я ее, когда ночью или утром я проснусь и вижу — она смотрит на меня и любит. И никто — главное, я — не мешаю ей любить, как она знает, по-своему. Люблю я, когда она сидит близко ко мне, и мы знаем, что любим друг друга, как можем, и она скажет: Левочка, — и остановится, — отчего трубы в камине проведены прямо, или лошади не умирают долго и т. п. Люблю, когда мы долго одни и я говорю: что нам делать? Соня, что нам делать? Она смеется. Люблю, когда она рассердится на меня и вдруг, в мгновенье ока, у ней и мысль и слово иногда резкое: оставь, скучно; через минуту она уже робко улыбается мне. Люблю я, когда она меня не видит и не знает, и я ее люблю по-своему. Люблю, когда она девочка в желтом платье и выставит нижнюю челюсть и язык, люблю, когда я вижу ее голову, закинутую назад, и серьезное и испуганное, и детское, и страстное лицо, люблю, когда…
8 января. С утра платье. Она вызывала меня на то, чтоб сказать против, я и был против, я сказал — слезы, пошлые объяснения. Саша Кузминский милый юноша, а ему плохо слишком слабо, молодо, и в среде искушений. Мы замазали кое-как. Я всегда собой недоволен в этих случаях, особенно поцелуями, это ложная замазка.
[…] За обедом замазка соскочила, слезы, истерика. Лучший признак, что я люблю ее, я не сердился, мне было тяжело, ужасно тяжело и грустно. Я уехал, чтобы забыть и развлечься. Аксаков тот же самодовольный герой честности и красноречивого ума. Глупенький чахоточный Раевский. Дома мне с ней тяжело. Верно, незаметно много накипела на душе; я чувствую, что ей тяжело, но мне еще тяжелее, и я ничего не могу сказать ей — да и нечего Я просто холоден и с жаром хватаюсь за всякое дело. Она меня разлюбит. Я почти уверен в этом. Одно, что меня может спасти, ежели она не полюбит никого другого, и я не буду виноват в этом. Она говорит: я добр. Я не люблю этого слышать, она за это-то и разлюбит меня. […]
1863. 15 января. Москва. Новый дневник: а нового ничего нет. Я все тот же. Так же недоволен часто собой и так же твердо верю в себя и жду от себя… Еще бы я не был счастлив! Все условия счастия совпали для меня. Одного часто мне недостает (все это время) — сознания, что я сделал все, что должен был, для того, чтобы вполне наслаждаться тем, что мне дано, и отдать другим, всему, своим трудом за то, что они мне дали.
Встал поздно, мы дружны. Последний раздор оставил маленькие следы (незаметные) или может быть — время. Каждый такой раздор, как ни ничтожен, есть надрез — любви. Минутное чувство увлечения, досады, самолюбия, гордости — пройдет, а хоть маленький надрез останется навсегда и в лучшем, что есть на свете, в любви. Я это буду знать и беречь наше счастье, и ты это знаешь. Поправлял корректуры.
Таня с Сашей увлекли к Тулинову. […] За обедом весело. Мама. Таня — прелесть наивности эгоизма и чутья. Как она отнимет у Любови Александровны чай или повалит ее. Люблю и не боюсь. […]
23 января. Правду сказал мне кто-то, что я дурно делаю, пропуская время писать. Давно я не помню в себе такого сильного желания и спокойно самоуверенного желания писать. Сюжетов нет, то есть никакой не просится особо, но заблужденье или нет, кажется, что всякий сумел бы сделать. Тип профессора-западника, взявшего себе усидчивой
<2 >работой в молодости диплом на умственную праздность и глупость, с разных сторон приходит мне; в противоположность человеку, до зрелости удержавшему в себе смелость мысли и нераздельность мысли, чувства и дела*. Еще положение: любви мужа, строгой к себе, все поглощающей, сделавшейся делом всей жизни, в столкновении с увлечением вальса, блеска, тщеславия и поэзии минуты. «Поленька Сакс»* и, пожалуй, нынешняя драма: «Грех да беда»*. Я никогда не испытывал более сильного и ни одной фальшивой нотой не нарушенного впечатления. Поправлял «Казаков» — страшно слабо. Верно, публика поэтому будет довольна. Была лихорадка, все праздность, и все тягощусь ею. С женой самые лучшие отношения. Приливы и отливы не удивляют и не пугают меня. Изредка и нынче все страх, что она молода и многого не понимает и не любит во мне и что много в себе она задушает для меня и все эти жертвы инстинктивно заносит мне на счет. Нынче день деятельности, был у тетеньки и Горчаковых (Элен славная), у Фета (и он с женой). Главная перемена во мне за это время, что я начинаю любить слегка людей. Прежде всё или ничего, а теперь настоящее место любви занято, и отношения проще, В театре знакомые. Мне радостно, она всем нравится.
25 января. Утро.
Вчера была ссора будто бы из-за большой комнаты, в сущности, оттого, что мы переж…, и оттого, что мы оба праздны. Прежде я думал и теперь, женатый, еще больше убеждаюсь, что в жизни, во всех отношениях людских, основа всему работа — драма чувства, а рассуждение, мысль не только не руководит чувством и делом, а подделывается под чувство. Даже обстоятельства не руководят чувствами, а чувство руководит обстоятельствами, то есть дает выбор из тысячи фактов…
8 февраля. [Ясная Поляна. ] Мы в Ясной. Исленьев и Сережа помешали, а все-таки мне так хорошо, так хорошо, я так ее люблю. Хозяйство и дела журнала хороши. Студенты только тяготят неестественностью отношений и невольной завистью, в которой я их не упрекаю. Как мне все ясно теперь. Это было увлеченье молодости — фарсерство почти, которое я не могу продолжать, выросши большой. Все она. Она не знает и не поймет, как она преобразовывает меня, без сравненья больше, чем я ее. Только не сознательно. Сознательно и я и она бессильны.
Дорогой мне пришло в голову, что открытие законов в науке есть только открытие нового способа воззрения, при котором то, что прежде было неправильным, кажется правильным и последовательным, вследствие которого (нового воззрения) другие стороны становятся темнее. Мне понятно, что железо холодно, шуба тепла, солнце всходит, заходит, тело умрет, душа бессмертна. С новой же точки зрения я должен забыть про шубы и железо и не понимать, что такое шуба и железо, а видеть атомы, отталкивающие и притягивающие, так расположенные, что они делаются хорошими и дурными проводниками чего-то такого, называемого тепло, или забыть, что солнце все-таки всходит и заходит, и заря, и облака, и вообразить себе, что земля ходит и я с нею. (Многое я объясню на известном пути таким воззрением, но воззрение это не истина, оно односторонне.) В химии еще более. Или я забудь, что во мне душа и тело, а помни, что во мне тело с нервами. Для медицины — успех, для психологии — напротив.
23 февраля. Отослал свою статью* — хороша, хотя и небрежна. Начал писать*. Не то. Перебирал бумаги — рой мыслей и возвращение или попытка возвращенья к лиризму. Он хорош. Не могу писать — кажется — без заданной мысли и увлеченья. «Misérables»* — сильно. […]
1 марта. Пироговский поп тихим голосом говорит: мы ее распетрушили, Сергей Николаевич. Сережа говорит: еду за границу. Теперь игры нет, а может, и выиграю. Прокофий дворовый говорит: кабы мы были люди натуральные. […] Мы недавно почувствовали, что страшно наше счастье. Смерть, и все кончено. Неужели кончено? Бог. Мы молились. Мне хотелось чувствовать, что счастье это не случай, а Мое.
3-го марта. Два раза чуть не ссорились по вечерам. Но чуть. Нынче ей скучно, тесно. Безумный ищет бури — молодой, а не безумный. А я боюсь этого настроения больше всего на свете. Я целый день был погружен в хозяйство. «Мерин»* не пишется — фальшиво. А изменить не умею. Все, все, что делают люди, — делают по требованиям всей природы. А ум только подделывает под каждый поступок свои мнимые причины, которые для одного человека называет — убеждения — вера и для народов (в истории) называет идеи. Это одна из самых старых и вредных ошибок. Шахматная игра ума идет независимо от жизни, а жизнь от нее. Единственное влияние есть только склад, который от такого упражнения получает натура. Воспитывать можно только физически. Математика есть физическое воспитание. Так называемое самоотвержение, добродетель есть только удовлетворение одной болезненно развитой склонности. Идеал есть гармония. Одно искусство чувствует это. И только то настоящее, которое берет себе девизом: нет в мире виноватых. Кто счастлив, тот прав! Человек самоотверженный слепее и жесточе других. В «Мерине» все нейдет, кроме сцены с кучером сеченым и бега.
24 марта. Я ее все больше и больше люблю. Нынче 7-й месяц, и я испытываю давно не испытанное сначала чувство уничтожения перед ней. Она так невозможно чиста и хороша и цельна для меня. В эти минуты я чувствую, что я не владею ею, несмотря на то, что она вся отдается мне. Я не владею ею потому, что не смею, не чувствую себя достойным. Я нервно раздражен и потому не вполне счастлив. Что-то мучает меня. Ревность к тому человеку, который вполне стоил бы ее. Я не стою.
1 апреля. Я нынче сел у тетеньки, она спала. Стал вспоминать бывший разговор с Сердобольским, совсем другая пасха нынешнего года, свои скучные хозяйственные соображения; и мне на себя стало гадко. Я эгоист распущенный. А я счастлив. Тут и надо работать над собой. И немного нужно, чтоб закрепить это счастье: 1) порядок, 2) деятельность, 3) решительность, 4) постоянство, 5) желание и делание добра всякому. Буду в этих отношениях следить за собой.
2 июня. Все это время было тяжелое для меня время физического и оттого ли, или самого собой, нравственного тяжелого и безнадежного сна. Я думал и то, что нет у меня сильных интереса или страсти (как не быть? отчего не быть?). Я думал, и что стареюсь, и что умираю, думал, что страшно, что я не люблю. Я ужасался над собой, что интересы мои — деньги или пошлое благосостояние. Это было периодическое засыпание. Я проснулся, мне кажется. Люблю ее, и будущее, и себя, и свою жизнь. Ничего не сделаешь против сложившегося. В чем кажется слабость, в том может быть источник силы. Читаю Гете, и роятся мысли.
18 июня. Где я, тот я, которого я сам любил и знал, который выйдет иногда наружу весь и меня самого радует и пугает. Я маленький и ничтожный. И я такой с тех пор, как женился на женщине, которую люблю. Все писанное в этой книжке почти вранье — фальшь. Мысль, что она и тут читает из-за плеча, уменьшает и портит мою правду. Нынче ее видимое удовольствие болтать и обратить на себя внимание Эрленвейна и безумная ночь вдруг подняли меня на старую высоту правды и силы. Стоит это прочесть и сказать: да, знаю — ревность, и еще успокоить меня и еще что-нибудь сделать, чтобы успокоить меня, чтобы скинуть меня опять во всю, с юности ненавистную, пошлость жизни. А я живу в ней девять месяцев. Ужасно. Я игрок и пьяница. Я в запое хозяйства погубил невозвратимые девять месяцев, которые могли бы быть лучшими, а которые я сделал чуть ли не из худших в жизни. Чего мне надо? жить счастливо — то есть быть любимым ею и собою, а я ненавижу себя за это время. Сколько раз я писал: нынче кончено. Теперь не пишу. Боже мой, помоги мне. Дай мне жить всегда в этом сознании тебя и своей силы. Безумная ночь. Я тебя ищу, чем бы обидеть невольно. Это скверно и пройдет, но не сердись, я не могу не не любить тебя.
Должен приписать, для нее — она будет читать — для нее я пишу не то, что не правда, но выбирая из многого то, что для себя одного я не стал бы писать. То, что ей может другой человек, и самый ничтожный, быть приятен — понятно для меня и не должно казаться несправедливым для меня, как ни невыносимо, потому что я за эти девять месяцев самый ничтожный, слабый, бессмысленный и пошлый человек.
Нынче луна подняла меня кверху, но как, этого никто не знает. Недаром я думал нынче, что такой же закон тяготенья, как материи к земле, существует для того, что мы называем духом, к духовному солнцу. Пчела летает только на солнце. Матка работает и оплодотворяет в темноте, и совокупляется и играет (то, что мы зовем праздностью) на солнце. Завтра пишу.
Опять в третий раз сажусь писать. Ужасно, страшно, бессмысленно связывать свое счастье с матерьяльными условиями — жена, дети, здоровье, богатство. Юродивый прав. Могут быть жена, дети, здоровье и др., но не в том. Господи, помилуй и помоги мне.
5 августа. Я пишу теперь не для себя одного, как прежде, не для нас двух, как недавно, а для него*. 27 июня, ночью, мы оба были особенно взволнованы. У нее болел живот, она металась, мы думали только, что это последствия ягод. Утром ей стало хуже, в 5 часов мы проснулись, еще с вечера решившись мне ехать навстречу к нашим. Она была разгорячена, в халате, и вскрикивала, потом проходило, и она улыбалась и говорила: ничего. Я послал за Анной, больше для того, чтобы сделать, что можно, но не верил. Я был взволнован и спокоен, занят мелочами, как бывает перед сражением или в минуту близкой смерти. Мне досадно было на себя, что я мало чувствую. Мне хотелось ехать в Тулу и все сделать поаккуратнее.
Мы ехали с Таней и Сашей*, нам было неестественно. Я был спокоен и не позволял себе этого. В Туле мне странно было, что Копылов хочет, как всегда, говорить о политике, аптекари запечатывают коробочки. Мы поехали с Марьей Ивановной (акушерка Сережи). Дома подъехали, никого нет. Тетенька, которая сначала не хотела, чтобы я ехал, и боялась, вышла ко мне расстроенная, оживленная, испуганная, с добрыми глазами. Ну что? — Как ты мил, mon cher[74], что приехал! Были схватки. Я вошел. Милая, как она была серьезно, честно, трогательно и сильно хороша. Она была в халате, распахнутом, кофточка с прошивками, черные волосы спутаны, — разгоряченное, шероховато-красное лицо, горящие большие глаза, она ходила, посмотрела на меня. Привез? Да. Что? Ужасно сильные схватки. Анны Петровны нет, тут Аксинья. Она просто, спокойно поцеловала меня. Пока копошились, с ней сделалась еще. Она схватилась за меня. Как и утром, я целовал ее, но она про меня не думала, и серьезное, строгое было в ней. Марья Ивановна ушла с ней в спальню и вышла, роды начались, сказала она тихо торжественно и с скрываемой радостью, какая бывает у бенефицианта, когда занавес поднялся. Она все ходила, она хлопотала около шкапов, приготавливала себе, приседала, и глаза все горели спокойно и торжественно. Было еще несколько схваток, и всякий раз я держал ее и чувствовал, как тело ее дрожало, вытягивалось и ужималось; и впечатление ее тела на меня было совсем, совсем другое, чем прежде и до [и] во время замужества. В промежутках я бегал, хлопотал уставлять диван, на котором я родился, в ее комнату и др., и во мне было все то же чувство равнодушия, укоризны за него и раздражения. Все хотелось поскорей, побольше и получше обдумать и сделать. Ее положили, она сама придумывала… (Я не докончил этого и не могу писать дальше о настоящем мучительном.)
Ее характер портится с каждым днем, я узнаю в ней и Поленьку* и Машеньку* с ворчаньем и озлобленными колокольчиками. Правда, что это бывает в то время, как ей хуже; но несправедливость и спокойный эгоизм пугают и мучают меня. Она же слыхала от кого-то и затвердила, что мужья не любят больных жен, и вследствие этого успокоилась в своей правоте. Или она никогда не любила меня, а обманывалась. Я пересмотрел ее дневник — затаенная злоба на меня дышит из-под слов нежности. В жизни часто то же. Если это так и все это с ее стороны ошибка — то это ужасно. Отдать все — не холостую кутежную жизнь у Дюссо и метресок, как другие женившиеся, а всю поэзию любви, мысли и деятельности народной променять на поэзию семейного очага, эгоизма ко всему, кроме к своей семье, и на место всего получить заботы кабака, детской присыпки, варенья, с ворчаньем и без всего, что освещает семейную жизнь, без любви и семейного тихого и гордого счастья. А только порывы нежности, поцелуев и т. д. Мне ужасно тяжело, я еще не верю, но тогда бы я не болен, не расстроен был целый день — напротив.
С утра я прихожу счастливый, веселый, и вижу графиню, которая гневается и которой девка Душка расчесывает волосики, и мне представляется Машенька в ее дурное время, и все падает, и я, как ошпаренный, боюсь всего и вижу, что только там, где я один, мне хорошо и поэтично. Мне дают поцелуи, по привычке нежные, и начинается придиранье к Душке, к тетеньке, к Тане, ко мне, ко всем, и я не могу переносить этого спокойно, потому что все это не просто дурно, но ужасно, в сравнении с тем, что я желаю. Я не знаю, чего бы я не сделал для нашего счастия, а сумеют обмельчить, опакостить отношения так, что я как будто жалею дать лошадь или персик. Объяснять нечего. Нечего объяснять… А малейший проблеск понимания и чувства, и я опять весь счастлив и верю, что она понимает вещи, как и я. Верится тому, чего сильно желаешь. И я доволен тем, что только меня мучают. И та же черта, как у Машеньки, какой-то болезненной и капризной самоуверенности и покорности своей мнимой несчастной судьбе.
Уже час ночи, я не могу спать, еще меньше идти спать в ее комнату с тем чувством, которое давит меня, а она постонет, когда ее слышат, а теперь спокойно храпит. Проснется и в полной уверенности, что я несправедлив и что она несчастная жертва моих переменчивых фантазий, — кормить, ходить за ребенком*. Даже родитель того же мнения. Я не дал ей читать своего дневника, но не пишу всего. Ужаснее всего то, что я должен молчать и будировать*, как я ни ненавижу и ни презираю такого состояния. Говорить с ней теперь нельзя, а может быть, еще все бы объяснилось. Нет, она не любила и не любит меня. Мне это мало жалко теперь, но за что было меня так больно обманывать.
6 октября. Все это прошло и все неправда. Я ею счастлив: но я собой недоволен страшно. Я качусь, качусь под гору смерти и едва чувствую в себе силы остановиться. А я не хочу смерти, я хочу и люблю бессмертие. Выбирать незачем. Выбор давно сделан. Литература — искусство, педагогика и семья. Непоследовательность, робость, лень, слабость, вот мои враги.
[1863, 3… 16 августа. ]* Соня, прости меня, я теперь только знаю, что я виноват и как я виноват! Бывают дни, когда живешь как будто не нашей волей, а подчиняешься какому-то внешнему непреодолимому закону. Такой я был эти дни насчет тебя. И кто же [1 неразобр. ] я. А я думал всегда, что у меня много недостатков и есть одна десятая часть чувства и великодушия. Я был горд и жесток и к кому же? — К одному существу, которое дало мне лучшее счастье жизни и которое одно любит меня. Соня, я знаю, что это не забывается и не прощается; но я больше тебя знаю и понимаю всю подлость свою. Соня, голубчик, я виноват, но я гадок [1 неразобр. ], во мне есть отличный человек, который иногда спит. Ты его люби и не укоряй, Соня.
1864
16 сентября. [Ясная Поляна. ] Скоро год, как я не писал в эту книгу. И год хороший. Отношения наши с Соней утвердились, упрочились. Мы любим, то есть дороже друг для друга всех других людей на свете, и мы ясно смотрим друг на друга. Нет тайн, и ни за что не совестно. Я начал с тех пор роман*, написал листов десять печатных, но теперь нахожусь в периоде поправления и переделывания. Мучительно. Педагогические интересы ушли далеко. Сын очень мало близок мне. На днях вспомнил начатый материнский дневник о Соне, и надо его дописать для детей*.
К роману
1) Любит мучить того, кого любит — все теребит.
2) Отец с сыном ненавидят друг друга. В глазах неловко*.
1865
1865 года, марта 7-го. [Ясная Поляна. ] Здоровье ни то ни се. Третий день держусь не спуская и не натягивая слишком воли. Пишу, переделываю*. Все ясно, но количество предстоящей работы ужасает. Хорошо определить будущую работу. Тогда, ввиду предстоящих сильных вещей, не настаиваешь и не переделываешь мелочей до бесконечности. Соня была больна. Сережа очень болен, кашляет. Я его начинаю очень любить. Совсем новое чувство. Хозяйство хорошо.
9 марта. Оба дня писал, поправлял. Нынче не мог после чая. С Соней мы холодны что-то. Я жду спокойно, что пройдет. «Фауст» Гете читал. Поэзия мысли и поэзия, имеющая предметом то, что не может выразить никакое другое искусство. А мы перебиваем, отрывая от действительности живописи, психологии т. д.
17 марта. Был в Туле. На похоронах у Сережи*. Даже для печали человек должен иметь проложенные рельсы, по которым идти, — вой, панихида и т. д. Вчера увидел в снегу на непродавленном следе человека продавленный след собаки. Зачем у ней точка опоры мала? Чтоб она съела зайцев не всех, а ровно сколько нужно. Это премудрость бога; но это не премудрость, не ум. Это инстинкт божества. Этот инстинкт есть в нас. А ум наш есть способность отклоняться от инстинкта и соображать эти отклонения. С страшной ясностью, силой и наслаждением пришли мне эти мысли. Нынче был у Пашковых. Дети больны, и Соня тоже. Дня четыре не писал. Нынче писал. Раз рассердился на немца и долго не мог простить. Читаю Mémoire Ragus’a. Очень мне полезно*.
19 марта. Я зачитался историей Наполеона и Александра. Сейчас меня облаком радости и сознания возможности сделать великую вещь охватила мысль написать психологическую историю романа Александра и Наполеона. Вся подлость, вся фраза, все безумие, все противоречие людей, их окружавших, и их самих*. Наполеон, как человек, путается и готов отречься 18 брюмера перед собранием. De nos jours les peuples sont trop éclairés pour produire quelque chose de grand[75]. Александр Македонский называл себя сыном Юпитера, ему верили. Вся египетская экспедиция — французское тщеславное злодейство. Ложь всех bulletins[76], сознательная. Пресбургский мир escamoté[77]. На Аркольском мосту упал в лужу, вместо знамя. Плохой ездок. В итальянской войне увозит картины, статуи. Любит ездить по полю битвы. Трупы и раненые — радость. Брак с Жозефиной — успех в свете. Три раза поправлял реляцию сраженья Риволи — все лгал. Еще человек первое время и сильный своей односторонностью — потом нерешителен — чтоб было! а как? Вы простые люди, а я вижу в небесах мою звезду. Он не интересен, а толпы, окружающие его и на которые он действует. Сначала односторонность и beau jeu[78] в сравнении с Маратами и Барасами, потом ощупью — самонадеянность и счастье, и потом сумасшествие — faire entrer dans son lit la fille des Césars[79]. Полное сумасшествие, расслабление и ничтожество на св. Элене. Ложь и величие потому только, что велик объем, а мало стало поприще, и стало ничтожество. И позорная смерть!
Александр, умный, милый, чувствительный, ищущий с высоты величия объема, ищущий высоты человеческой. Отрекающийся от престола и дающий одобрение, не мешающий убийству Павла (не может быть). Планы возрождения Европы. Аустерлиц, слезы, раненые. Нарышкина изменяет. Сперанский, освобождение крестьян. Тильзит — одурманение величием. Эрфурт. Промежуток до 12 года не знаю. Величие человека, колебания. Победа, торжество, величие, grandeur, пугающие его самого, и отыскивания величия человека — души. Путаница во внешнем, а в душе ясность. А солдатская косточка — маневры, строгости. Путаница наружная, прояснение в душе. Смерть. Ежели убийство, то лучше всего.
Надо написать свой роман и работать для этого.
20 марта. Погода чудная. Здоров. Ездил в Тулу верхом. Крупные мысли! План истории Наполеона и Александра не ослабел. Поэма, героем которой был бы по праву человек, около которого все группируется, и герой — этот человек. Читал — Marmont’a. В. А. Перовского плен*. Даву — казнить*. Критика Маркова — плохо*. Дорожит мыслью и сердится. Сам-то ты что сделаешь? А силы, силы страшные! Языков сказал, что объясняю речи — длинно, — правда. Короче, короче.
21 марта. Погода чудная. Соня больна. Я досадую, что она слаба в боли. Сережа мучает меня болезнью. Хозяйство скотное веселит и хорошо. Ragus’a все читаю с отметками. Вечером писал сцену моста* — плохо.
23 марта 1865. Погода чудная. […] Писал вечером мало, но порядочно. Могу. А то все это время мысли нового, более важного, и недовольство старым. Надо непременно каждый день писать не столько для успеха работы, сколько для того, чтобы не выходить из колеи. Больше пропускать. Завтра попробую характеристику Билибина.
24 марта. Сережа у нас. Писал немного Билибина. Вчера был в Туле. Коли б были бог поэзии и искренности, кому бы досталось царство небесное — Константину или Владимиру Черкасскому. Одна из главных струн писанья — контраст поэзию чувствующего и нет.
19 сентября 1865. [Никольское-Вяземское*.] Я неспокоен. Я не знаю, болен ли я и от болезни не могу думать правильно и работать, или я распустился так, что не могу работать. Ежели бы я мог правильно трудиться, как бы я мог быть счастлив. […]
20 сентября. Утро не мог писать. Спал дурно. Гулял немного. Все то же лихорадочное состояние. Читал Mérimée «Chronique de Charles IX». Странная его умственная связь с Пушкиным. Очень умен и чуток, а таланта нет. Написал письмо Владимиру Федоровичу и тетеньке. Вечером обдумывал и немного переправлял. Под конец даже охотно.
23 сентября. [Черемошня. ] Лежал целый день. Ванна оживила. Читал «Consuélo»*. Что за превратная дичь с фразами науки, философии, искусства и морали. Пирог с затхлым тестом и на гнилом масле с трюфелями, стерлядями и ананасами.
24 сентября. Лучше. Читал свое. Их не занимает. Но мне показалось настолько недурно, что не стоит переделывать. Nicolas надо придать любовь к жизни и страх смерти на мосту. А Андрею воспоминания сраженья в Брюнне.
26 сентября. [Ясная Поляна. ] Я стал делать гимнастику. Мне очень хорошо, вернулись с Соней домой. Мы так счастливы вдвоем, как, верно, счастливы один из миллиона людей.
По случаю ученья милой Маши думал много о своих педагогических началах. Я обязан написать все, что знаю об этом деле.
29 сентября. Здоровье нехорошо — утин. Написал Сереже и Дьяковым. Целый день писал «Сраженье»* — плохо. Нейдет — не то. Читал Тролопа*. Коли бы не diffuseness[80], хорошо.
30 сентября. Рано поехал на порошу, приятно убил зайца. Написал Андрею Евстафьевичу. Читал Тролопа хорошо. Есть поэзия романиста: 1) в интересе сочетания событий — Braddon, мои «Казаки», будущее; 2) в картине нравов, построенных на историческом событии, — «Одиссея», «Илиада», «1805 год»; 3) в красоте и веселости положений — «Пиквик» — «Отъезжее поле», и 4) в характерах людей — «Гамлет» — мои будущие; Аполлон Григорьев — распущенность, Чичерин — тупой ум, Сухотин — ограниченность успеха, Николенька — лень и Столыпин, Ланской, Строганов — честность тупоумия.
1 октября. Все делаю гимнастику, записываю дни и не пишу. Ездил на охоту — ничего. Поэзия труда и успеха нигде и никем не тронута. Читаю «Bertrams» — славно.
2 октября. Здоровье хорошо. Ездил напрасно на охоту. Писал. Но я отчаиваюсь в себе. Тролоп убивает меня своим мастерством. Утешаюсь, что у него свое, а у меня свое. Знать свое — или, скорее, что не мое, вот главное искусство. Надо мне работать, как пианист.
3 октября. Вчера и нынче поработал с напряжением, хотя бесплодно, и уже нынче у меня болит печень и мрачно на душе. Это меня отчаивает. Надо ограничивать свою volupté[81]читанья с мечтами. Эти силы употреблять на писанье, переменяя с физической работой. Опять ездил вокруг своих лесов, и ничего. Кончил Тролопа. Условного слишком много.
8 октября. [Покровское. ] В дороге. Машенька очень мила и дети.
9 октября. У нее. Писал «Отъезжее поле». Выходит неожиданно.
12 октября. [Ясная Поляна. ] Поехали и приехали в Ясную. Приятно, но смутный страх заботы.
15 октября. Желчь, злился на охотника. Охота скверная. Две главы совсем обдумал. Брыков и Долохов не выходят. Мало работаю. С Соней вчера — объяснение. Ни к чему — она беременна.
16 октября. Убил двух беляков. Читал Гизо-Вит доказательства религии и написал первую статейку по мысли, данной мне Montaigne*.
17 октября. До обеда на неудачной охоте. Писать не хотелось очень. A se battre les flancs[82] ни за что не хочу. Для Долохова видел на охоте местность, и ясно.
20 октября. Я истощаю силы охотой. Перечитывал, переправлял. Идет дело. Долохова сцену набросал. С Соней очень дружны.
21 октября. То же, что вчера. К вечеру обдумывал Долохова. Читал Диккенса. Белла — Таня*.
1 Noябpя. Та же строгая гигиена. Совершенно здоров, как бываю редко. Писал довольно много. Окончательно отделал Билибина и доволен. Читаю Maistr’a*.
Мысль о свободной отдаче власти.
2 Noябpя. […] Дописал Билибина. Исленевы уехали. С наслаждением перечитал «Казаков» и «Ясную Поляну».
5 Nоября. Зубная боль. Та же диета. По утрам язык. Писал по-новому — так, чтобы не переделывать. Думаю о комедии. Вообще надо попробовать новое без переделок. Ужинал, кажется, напрасно.
8, 9 Noябpя. Слабее диета вчера. Нынче опять строго. Здоровье — особенно головы, хорошо. Вчера избыток и сила мысли. Написал предшествующее сражению и уяснил все будущее. Нынче взял важное решение не печатать до окончания всего романа.
10, 11, 12 [ноября]. Пишу, здоровье хорошо, и не наблюдаю. Кончаю 3-ю часть. Многое уясняется хорошо. Убил в ½ часа двух зайцев.
1865 г. Августа 13-го. Ясная Поляна*. Всемирно-народная задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства без поземельной собственности.
«La propriété c’est le vol»[83] останется больше истиной, чем истина английской конституции, до тех пор, пока будет существовать род людской. Это истина абсолютная, но есть и вытекающие из нее истины относительные — приложения. Первая из этих относительных истин есть воззрение русского народа на собственность. Русский народ отрицает собственность самую прочную, самую независимую от труда, и собственность, более всякой другой стесняющую право приобретения собственности другими людьми, собственность поземельную. Эта истина не есть мечта — она факт — выразившийся в общинах крестьян, в общинах казаков. Эту истину понимает одинаково ученый русский и мужик — который говорит: пусть запишут нас в казаки и земля будет вольная. Эта идея имеет будущность. Русская революция только на ней может быть основана. Русская революция не будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственности. Она скажет: с меня, с человека, бери и дери, что хочешь, а землю оставь всю нам. Самодержавие не мешает, а способствует этому порядку вещей. — (Все это видел во сне 13 августа.)
28 августа 1865 г.*
Ребенок блажит и плачет. Ему спать хочется, или есть, или нездоровится. (То же самое с большими; только на ребенке виднее.) Самое дурное средство сказать ему: ты не в духе — молчи. То же самое и с большим. Большому не надо ни противоречить, ни сказать ему: не верь себе: ты не в духе. Надо пытаться вывести его из этого состояния и потом сказать: ты был не в духе и не прав. Этому приему с большими научила меня няня и мать. Они, так поступая с ребенком, успевают. В ребенке все в меньшем размере и потому нам понятнее, а отношение сил то же. Так же чувство дурного расположения духа сильнее рассудка. Я не в духе; мне это скажут. Я еще хуже.
Люди кажутся друг другу глупы преимущественно оттого, что они хотят казаться умнее. Как часто, долго два сходящиеся человека ломаются друг перед другом, полагая друг для друга делать уступки, и противны один другому, до тех пор, пока третий или случай не выведет их, какими они есть; и тогда как оба рады, узнавая разряженных, новых для себя и тех же людей.
Есть по обращению два сорта людей: одни — с тобою очевидно такие же, какие они со всеми. Приятны они или нет, это дело вкуса, но они не опасны; другие боятся тебя оскорбить, огорчить, обеспокоить или даже обласкать. Они говорят без увлеченья, очень внимательны к тебе, часто льстят. Эти люди большей частью приятны. Бойся их. С этими людьми происходят самые необыкновенные превращения и большей частью превращения в противоположности — из учтивого делается грубый, из льстивого — оскорбительный, из доброго — злой.
Вся премудрость людей заключается не в мысли — еще менее в деле, — а в слове. Человек может быть совершенно прав только тогда, когда он говорит исключительно о себе. Искусство публичных речей, парламентских и судебных — в особенности, английских, — состоит в этом приеме. Они не говорят: обман есть преступление, или принудительное образование вредно и т. п., а они говорят: на мои глаза или по понятию наших отцов — обман есть преступление, — или: ежели принудительное образование есть зло, то… и т. д. Они, выражая свою мысль, облекают ее в форму факта или предположения, для того чтобы побеждать возражения. В общем же, когда слышишь и читаешь их речи, замечаешь, что у них две цели: одна — выразить свою мысль, другая — говорить так, чтобы никто не мог дать мне démenti[84]. Вторая цель большей частью преобладает. Так что очень часто вся речь наполнена только оговорками и заборчиками, ограждающими оратора от нарекания в том, что он сказал неправду.
И как певец или скрипач, который будет бояться фальшивой ноты, никогда не произведет в слушателях поэтического волнения, так писатель или оратор не даст новой мысли и чувства, когда он будет бояться недоказанного и неоговоренного положения.
То, известное каждому чувство, испытываемое в сновидении, чувство сознания бессилия и вместе сознания возможности силы, когда во сне хочешь бежать или ударить, и ноги подгибаются, и бьется бессильно и мягко, — это чувство пленеиности (как я лучше не умею назвать его), это чувство ни на мгновение не оставляет и наяву лучших из нас. В самые сильные, счастливые и поэтические минуты, в минуты счастливой, удовлетворенной любви, еще сильнее чувствуется, как недостает чего-то многого, и как подкашиваются и не бегут мои ноги и мягки и не цепки мои удары.
Совершенное возможно в воображении, как вечное движение возможно без трения и тяготения. Самое увлечение красотой и истиной мешает осуществлению красоты и истины.
Человек живет двумя сторонами: воображением и на другой стороне — деятельностью всех своих других способностей.
Человек, который жил бы только деятельно, не знал бы, что хорошо и что дурно (мужики); человек, который жил бы одним воображением, — слишком хорошо знал бы, что хорошо и что дурно, но не имел бы ни силы, ни уменья сделать то, что хорошо, и удержаться от того, что дурно.
Чем мудрее люди, тем они слабее. Чем глупее, тем тверже.
Хочешь узнать очень близко человека — снять с него ореол, который тебе видится над ним, посмотри на ноготь большого пальца его руки — плоть. А у Кесаря был большой ноготь.
Мы судим животных с точки зрения ума. «Заяц умен, что делает сметки». Он нерешителен. Заяц судил бы нас с точки зрения трусости: «Человек выдумал железные дороги, чтобы скорее бежать».
1870
1870. 2 февраля. [Ясная Поляна. ]* Я слышу критиков: «Катанье на святках, атака Багратиона, охота, обед, пляска — это хорошо; но его историческая теория, философия — плохо, ни вкуса, ни радости»*.
Один повар готовил обед. Нечистоты, кости, кровь он бросал и выливал на двор. Собаки стояли у двери кухни и бросались на то, что бросал повар. Когда он убил курицу, теленка и выбросил кровь и кишки, когда он бросил кости, собаки были довольны и говорили: он хорошо готовил обед. Он хороший повар. Но когда повар стал чистить яйца, каштаны, артишоки и выбрасывать скорлупу на двор, собаки бросились, понюхали и отвернули носы и сказали: прежде он хорошо готовил обед, а теперь испортился, он дурной повар. Но повар продолжал готовить обед, и обед съели те, для которых он был приготовлен.
Сколько бы ни говорили о том, что в драме должно преобладать действие над разговором, для того, чтобы драма не была балет, нужно, чтобы лица высказывали себя речами.
Тот же, кто хорошо говорит, плохо действует, и потому выразить самому себе герою словами нельзя. Чем больше он будет говорить, тем меньше ему будут верить. Если же будут говорить другие, а не он, то и внимание будет устремлено на них, а не на него.
Комедия — герой смешного — возможен, но трагедия, при психологическом развитии нашего времени, страшно трудна. Оттого только в учебниках можно говорить об «Ифигении», «Эгмонте»*, «Генрихе IV», «Кориолане»* и т. д. Но ни читать, ни давать их нет возможности. Оттого бездарные подражатели могут подражать подражанию (слабому) Пушкина, «Борису Годунову». Оттого белый стих, о котором останется несомненной истиной то, что на будущего себя сказал Пушкин:
Послушай, дедушка, мне всякий раз, Когда взгляну на этот замок Ретлер, Приходит в голову, что если это проза, Да и дурная*.Взятие Корсуни Владимира — эпопея.
Меншиков женит Петра II на дочери, его изгнание и смерть — драма.
3 февраля. 1870. Система, философская система, кроме ошибок мышления, несет в себе ошибки системы.
В какую форму ни укладывай свои мысли, для того, кто действительно поймет их, мысли эти будут выражением только нового миросозерцания философа.
Для того, чтобы сказать понятно то, что имеешь сказать, говори искренно, а чтобы говорить искренно, говори так, как мысль приходила тебе.
Даже у больших мыслителей, оставивших системы, читатель, для того чтобы ассимилировать себе существенное писателя, с трудом разрывает систему и разорванные куски, относя их к человеку, берет себе.
Таков Платон, Декарт, Спиноза, Кант. Шопенгауэр говорит, что его система есть круг (он говорит свод), чтобы понять который надо пройти его несколько раз.
У слабых мыслителей, Гегель, Cousin, разорвав систему, приходишь в непосредственное сношение с пустым человеком, от которого нечего взять.
Толпа же любит систему. Толпа хочет поймать всю истину, и так как не может понять ее, то охотно верит.
Гете говорит: истина противна, заблуждение привлекательно, потому что истина представляет нас самим себе ограниченными, а заблуждение всемогущими*. Кроме того, истина противна, потому что она отрывочна, непонятна, а заблуждение — связно и последовательно.
Русская драматическая литература имеет два образца одного из многих и многих родов драмы: одного, самого мелкого, слабого рода, сатирического, «Горе от ума» и «Ревизор». Остальное огромное поле — не сатиры, но поэзии — еще не тронуто.
1870, 14 февраля. Одним из лучших образцов того, каким образом очевидные для нас причины людских действий (для них самих кажущихся таковыми) не суть причины, ибо не совпадают с последствиями, а имеют другие причины, совпадающие с последствиями, есть мода. Причина вечной перемены одежды для людей есть желание богатейших отличаться от беднейших. Но ясно, что цель бессмысленна, ибо отличий много, кроме моды, и цель не достигается, ибо тотчас все переменяют. Но цель, не видная для действующих, достигается: брошенные платья одевают все бедное население Лондона, Парижа — больших городов. И это не случайно, очевидно из того, что там, где большое скопление народа, пролетариат, там и быстрые перемены мод, отдающие неизношенные материи дешево бедным. И где меньше пролетариата, там медленнее движение мод, где больше, там быстрее.
4 апреля. Читаю историю Соловьева. Все, по истории этой, было безобразие в допетровской России: жестокость, грабеж, правеж, грубость, глупость, неуменье ничего сделать. Правительство стало исправлять. И правительство это такое же безобразное до нашего времени. Читаешь эту историю и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершилась история России.
Но как же так ряд безобразий произвели великое, единое государство?
Уж это одно доказывает, что не правительство производило историю.
Но кроме того, читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли (только об этом и речь в истории), невольно приходишь к вопросу: что грабили и разоряли? А от этого вопроса к другому: кто производил то, что разоряли? Кто и как кормил хлебом весь этот народ? Кто делал парчи, сукна, платья, камки, в которых щеголяли цари и бояре? Кто ловил черных лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары? Кто воспитывал и рожал этих людей единого корня? Кто блюл святыню религиозную, поэзию народную, кто сделал, что Богдан Хмельницкий передался России, а не Турции и Польше?
Народ живет, и в числе отправлений народной жизни есть необходимость людей разоряющих, грабящих, роскошествующих и куражащихся. И это правители — несчастные, долженствующие отречься от всего человеческого.
5 апреля. История хочет описать жизнь народа — миллионов людей. Но тот, кто не только сам описывал даже жизнь одного человека, но хотя бы понял период жизни не только народа, но человека, из описания, тот знает, как много для этого нужно. Нужно знание всех подробностей жизни, нужно искусство — дар художественности, нужна любовь. Кроме того, при величайшем искусстве нужно много и много написать, чтобы вполне мы поняли одного человека. Как же в 400-х печатных листах (самое многотомное историческое сочинение) описать жизнь 20 миллионов людей в продолжение 1000 лет, т. е. 20 000 000×1000? Не придется буквы на описание года жизни человека.
Но и это не вся еще беда.
Искусства нет и не нужно, говорят, нужна наука.
Не только подробностей всех о человеке нет, но из миллионов людей об одном есть несколько недостоверных строчек, и то противуречивых.
Любви нет и не нужно, говорят. Напротив, нужно доказывать прогресс, что прежде все было хуже.
Как же тут быть? А надо писать историю. Такие истории писали и пишут, а такие истории называются: наука.
Как же тут быть?!
Остается одно: в необъятной, неизмеримой скале явлений прошедшей жизни не останавливаться ни на чем, а от тех редких, на необъятном пространстве отстоящих друг от друга памятниках — вехах протягивать искусственным, ничего не выражающим языком воздушные, воображаемые линии, не прерывающиеся и на вехах.
На это дело тоже нужно искусство. Но искусство это состоит только во внешнем: в употреблении бесцветного языка и в сглаживании тех различий, которые существуют между живыми памятниками и своими вымыслами. Надо уничтожить живость редких памятников, доведя их до безличности своих предположений. Чтобы все было ровно и гладко, и чтобы никто не заметил, что под этой гладью ничего нет.
Что делать истории?
Быть добросовестной.
Браться описывать то, что она может описать, и то, что она знает — знает посредством искусства. Ибо история, долженствующая говорить необъятное, есть высшее искусство.
Как всякое искусство, первым условием истории должна быть ясность, простота, утвердительность, а не предположительность. Но зато история-искусство не имеет той связанности и невыполнимой цели, которую имеет история-наука. История-искусство, как и всякое искусство, идет не вширь, а вглубь, и предмет ее может быть описание жизни всей Европы и описание месяца жизни одного мужика в XVI веке.
1871
1871. 26 ноября*. Есть литература литературы — когда предмет литературы есть не сама жизнь, а литература жизни, и литература литературы 999/1000 всего пишущегося. Есть политика политики — когда предмет политики не есть государство, а прежняя современная политика, 999/1000 всей деятельности палат. Есть поэзия поэзии, и в музыке, и в живописи, и ваянии, и в письме, — когда предмет поэзии есть не жизнь, а прежняя поэзия, 999/1000 всего творящегося. Есть наука науки — когда предмет не есть жизнь, а прежние положения науки — Линней, Кювье, Дарвин. Есть или нет видов? Есть или нет понятия справедливости? Есть или нет тяготения? Есть философия философии, когда предмет не мысль, а системы. Первое легко и безгранично, второе трудно и редко.
Естественные науки — это стремление найти общее в жизни внешнего мира с жизнью человека. Человек родится из оплодотворенного яйца. Давай отыскивать яйцо в полипе и оплодотворение в папоротнике.
1873
1873, Noябpя 5. [Ясная Поляна. ] Художник звука, линий, цвета, слова, даже мысли в страшном положении, когда не верит в значительность выражения своей мысли. От чего это зависит? Не любовь к мысли. Любовь тревожна. А эта вера спокойная. И она бывает и не бывает у меня. Отчего это? Тайна.
Nоября 6. Еду на порошу. Я смолоду стал преждевременно анализировать все и немилостиво разрушать. Я часто боялся, думал — у меня ничего не останется целого; но вот я стареюсь, а у меня целого и невредимого много, больше, чем у других людей. Орудие ли анализа у меня было крепко, или выбор верен, но уже давно я более не разрушаю; а целыми остались у меня непоколеблены — любовь к одной женщине, дети и всякое отношение к ним, наука, искусство — настоящие, без соображений величия, а с соображением настоящности наивного, охоты — к деревне, порою к севру*…и все? Это ужасно много. У моих сверстников, веривших во все, когда я все разрушал, нет и 1/100 ТОГО.
Montaigne. La pointe à la sauce[85]*.
Nоября 17. Разговор о земстве с Свербеевым. Администрация чувствует, что власть одна [?], а троицын день — березки.
Читал Верна*. Движение без тяготенья немыслимо. Движенье есть тепло. Тепло без тяготенья немыслимо. […]
28 декабря. Если человек думает, что его жизнь есть только преходящее явление — звук лиры Платона*, то это происходит оттого, что жизнь всех других людей представляется ему только звуком лиры, но если он любим или любит, значение своей жизни станет для него глубже.
1878
1878, 17 апреля. [Ясная Поляна. ] После 13 лет* хочу продолжать свой дневник. Вчера был у заутрени (пасха). Утром читал записки Веневитинова*. Ходил гулять с Василием Ивановичем. Говорили о его деле*. Вечером все с детьми на тягу в Заказ. Читал Болотова*. Дневник Бочарова. Кажется, все ясно для начала. Нынче встал в 10, читал, сбирался писать, но — насморк и слабость духовная и физическая. Вышел гулять, но холодно, — вернулся. Соня говорила с Лизаветой Александровной* и рада, что сделала ей пользу. Катают яйца. Стану писать письма.
5 мая. Вчера не помог старушке телятинской. Празднословил с Василием Ивановичем. Тщеславился мыслью и горячился с Соней. Нынче сердился на Алексея* и старосту, за то, что дурно окопали яблони. Читал утром записки Фон-Визиной*. Преданность богу — правда и опасно.
22 мая. Пережил важные и тяжелые мысли и чувства вследствие разговора с Василием Ивановичем о Сереже. […] Все мерзости моей юности ужасом и болью раскаяния жгли мне сердце. Долго мучился. Ездил в Тулу с Сережей и говорил с ним. Стал вставать рано и пытаюсь писать, но нейдет. Нейдет оттого больше, что нездоровилось. Но кажется, что я полон по края, и добром. Окончил Болотова. Читал Парфения*. Раскол наводит меня сильнее и сильнее на важность мысли о том, что признак истинности церкви есть единство ее (всеобщее единство), но что единство это не может быть достигнуто тем, что я, А или В, обратит всех других к своему взгляду на веру (так делалось до сих пор, и все расколы, папство, лютеранство и др. — плод этого), но только тем, что каждый, встречаясь с несогласными, откидывая в себе все причины несогласия, отыскивает в другом те основы, в которых они согласны. Осьмиконечный или четырехконечный крест, и пресуществление вина или воспоминание, разве не то же ли самое.
Был у обедни в воскресенье. Подо все в службе я могу подвести объяснение, меня удовлетворяющее. Но многая лета и одоление на врагов есть кощунство. Христианин должен молиться за врагов, а не против их.
Читал Евангелие. Везде Христос говорит, что все временное ложно, одно вечное, то есть настоящее. «Птицы небесные…» и др. И на религию смотреть исторически есть разрушение религии.
Дети: Илья и Таня рассказывали секреты, влюблены. Как страшны, скверны и милы.
Начал писать «свою жизнь»*.
1 июня. Летние гости: Машенька, Варенька, Таня, Свербеевы, Исленьев, Иславин, Бобринский, Урусов, все это кипит и расстраивает. Кроме того, Андрюша болен. Строю избу в Чепыже*. Все время это не брал пера в руки. Правда, письма написал. Читаю Парфения.
3 июня. Был Бобринский. Измучил меня своими разговорами о религии, о Слове. Его страсть говорить! Самообольщение удивительное. Для меня он важен был тем, что на нем с ужасной очевидностью ясно заблуждение основания веры на слове, на одном слове. Вчера писал довольно много в маленькую книжку, сам не знаю зачем? — о вере.
1879
28 октября 1879*.
Есть люди мира, тяжелые, без крыл. Они внизу возятся. Есть из них сильные — Наполеоны пробивают страшные следы между людьми, делают сумятицы в людях, но всё по земле. Есть люди, равномерно отращивающие себе крылья и медленно поднимающиеся и взлетающие. Монахи. Есть легкие люди, воскрыленные, поднимающиеся слегка от тесноты и опять спускающиеся — хорошие идеалисты. Есть с большими, сильными крыльями, для похоти спускающиеся в толпу и ломающие крылья. Таков я. Потом бьется с сломанным крылом, вспорхнет сильно и упадет. Заживут крылья, воспарит высоко. […]
Язык*
Не исполняется приказанье, надо письмо подновить.
Побирушка, помирушка.
Железные дороги какие леса потушили.
Я не уйду. Нечто за ноги выволокут.
Посыкнулись было купцы вновь отстроить, да не выстроили.
От приседания хвоста глаза смутились.
Всяк живот смерти боится.
Цвет темно-зеленый — крапивный.
Из пеленок вывалялся.
Лазоревый — яхонт. Лазоревый не ярко-зеленый ли?
«Произвел сына в грамоту». Мы смеемся сами, взяв у народа слово «произвел» и неточно употребляя его в смысле произвели в генералы.
Народ заворашивается. Завируха.
Похлебствоеал тому-то.
По угодникам шел.
Белужина, — земля. Вязковатый.
Земля матушка.
Обесхлебели, обезлошадели в конец.
В дуростях спускать не обык.
Особист.
Бомбы садить.
За тепло, за лето успею кончить.
Еще мне за сердце щепа влезла.
У татарина два коня, третья душа.
Однодворец замужичел.
Москва обсадилась козаками.
Вечную не кликнул.
По пояс в грязи лежит, а говорит — не брызжи. Свое справляй.
Трое союзников одной державы (о мосте).
Живот радуется.
Оборка будет.
Чужой чужим и пахнет.
Приплывная колода.
Чернозем, ног не выволочешь, облепит.
У глажены монастыри.
Старинушка!
Посягнул на дело.
Кнутом стегануть.
Стрельбы две или три.
Господь ходил по земле, так он нами не требовал.
Кремняет.
Нога назад отдает.
Вперед не чухайся.
Народ мляв.
Тармасит.
Тес колоний толщиной 9 вершков. Не узнаешь, что комель, что макуша.
На руку скор. Сабачут.
Почерябали бороной.
Язык помягче — пока не стар.
Закис — овес.
Овес косматый — за горой.
Денег — куб. сажень.
Лопаточка — скована.
[…] Привитает чужников.
С покрепочкой.
Отбросился от дома, дом упадает.
Без каши внучек ни на час.
К дому не рачит.
Распутная — всё по дворам.
Сяду перед ней на конник, не станет ли прощенья просить, — нет.
К дому не рачит.
Это его раденье.
Вызволяет мужичков.
Федор Алексеевич просит маму перекрестить.
Обнимает мать мальчик.
Обыкли, приобыкли.
Идучи за солому цепляется.
К тому делу приличился.
За косы, за ноги выволоку.
Выбили из дома вон.
По нем наровить. Чинит понаровку.
Жесток, а стал мякнуть.
Плоть играет. 4 года отстала.
Изба запустовала.
Душу отвесть нечем.
Коровенки нету.
Обрящи бог виноватого, оправдай бог правого.
Ах ты, ахроян!
Мулявишь, мулявишь, зубов нет.
Перевоз. Добору нет.
Авось бог даст, я отдохну.
Ногу пересадило.
Стрельцы лоском лежали.
Холостую не обратаешь. А то взять с задницей с одной.
Улуча время. Не в Иванову версту.
Способ к чему-нибудь.
Припало жениться.
Однова дыхнуть.
Заведни разве переделаешь.
Щунял.
Грамматика*
Грамматика. 1) Предлоги приставные к глаголам, под них подводи глаголы.
1) на, 2) при, 3) за, 4) у, 5) с, 6) под, 7) от, 8) раз, 9) об, 10) вз, 11) до, 12) в, 13) из, 14) вы, 15) пере, 16) про, 17) по, 18) о. Вести подходит под всё.
2) Однова, двою, трою и т. д.
3) А есть бывает высока, то лестницу подставляю.
А высоко бывало было, подставлял лестницу.
А буде высоко, подставлю лестницу.
А есть бывает спит, то не бужу.
А спит (бывало), я не будил.
— А будет спит, я не разбужу.
[…] 4) Хорошо ты делаешь. Много ты смыслишь. Большой твой капитал. Велика свинье честь. Нужно тебе было. Обратный смысл, как только эпитет первым словом.
5) Быть было в тебе ножу. Пропасть тебе как червю. Пропадать мне пришло. Пропасть было. Пропадать было. Пить до дна, не видать добра. Пить умереть. Особое время условное, будущее.
6) Купивши ружье, рассмотрев, бросил.
Рассмотревши, купив, не бросил.
Бросивши, не купив, не рассмотрел.
Севши, задремав, заснул.
Купивши (давнопрошедшее), купив (прошедшее), покупая (настоящее).
Взявшись за гуж да поплевав в пясть [1 неразобр. ] затягивает. (Деепричастие настоящее без дополнения.)
7) А что он на меня клеплет, ей (вместо то) облыжно.
8) А идти навстречу, спину знобит. (Если время не известное.)
А дожидаться их отъезду, не опоздать бы.
А сделать грех, навеки на сердце ляжет.
[…] 9) Много (у меня) хожено, видено, сижено, граблено, выпито. Plusquamperfectum.
А заехано, обвенчано, нагрешено-то.
10) Ноне — даве — ходя, живя — часом. Нонче, давеча, ходячи, живучи…
11) И велел ехать с осторожкой, и ты-де чист приедешь.
Обороты
1) Письмом подновить приказ.
2) Не выйду, нешто за ноги выволокут.
3) Чугунки да пароходы какие леса потушили. Разбои потушили.
4) От приседания хвоста глаза смутились.
5) Крапивный цвет — темно-зеленый.
6) Из пеленок вывалялся.
7) Лазоревый яхонт.
8) Произведи сына в дело.
9) По угодникам шел от Пензы до Киева.
10) Обесхлебел, обезлошадел, обезлесел, обессилил, обездомил ты меня, себя.
11) Я к седлу привык, приобык. Я ученью навык. Я спать обык после обеда, приобык или отвык. Я с женою свыкся. Баловаться повык?
12) Садит в город бомбы. Ногу пересадило. Кол засадил. Засади тебя. Москва отсадилась казаками.
13) За лето, за день успею кончить. Летом, днем сделаю. По лету приезжал. В лето всего успеешь.
14) Однодворец замужичел.
15) По родителю кликнула вечную.
16) В мосту трое союзников одной державы.
17) Живот радуется, болит.
18) На руку ерзок был.
19) С покрепочкой, с окоротой, с задержкой, с опаской.
20) Старинушко. Хозяинушко.
21) Ты хочешь вперед попнуться, а нога сама назад отдает.
22) Коровенки нет — нечем и душу отвесть. Хлеб приелся.
23) Придет зима, отдохнем. Думали, помрет, а отдох. Пыл отдох.
24) Девку не обратаешь. Он обротал его и насел.
25) Она ему не верста. Не в Иванову версту. Кого сверстал. Никого себе в версту не ставит. Безмерный человек.
26) Улуча время, час, вошел.
27) Способа не найду. От него способа не жди.
28) Припало жениться, учиться, уйти богу молиться.
29) Лаял матерно. Облаял меня ни за что. Взлаивает по-собачьи.
30) Отбросишься от дома, дом упадает.
31) А она (он) не по дворам.
32) Выволокут за ноги, за косы.
33) Выбивают из дома вона. Сбился с ног. Добивают до шпенту. Отбивается от рук. С похвей сбились.
34) У бабы купил за 10 к. спичечницу. Совсем с повалом.
35) Брат в отделе. В откладах дело проходит. Как цены на овес? Торгом.
36) Надо окороту дать (останову).
37) Полсема аршина — 6½.
38) Надо опаску иметь. Тут опаска нужна. Без обсылки не узнаешь. Мне без посылки нельзя.
39) Астраханцам голову отсекли, и тебе того ж хочется.
40) Нам и вода (сидни) (хлеб)… в честь.
41) Ты у меня по лестнице головой все ступеньки сочтешь.
42) Бей теперь во! Ты намерялся вчерась.
43) Давно ли ты от кнута да от плахи.
44) Какой ты князь. Я твоих родных в холопях найду.
45) Насилу цел уволокся. Только выволокся в Москву.
46) У тебя пьяная искра в лице, в глазах. От соплей ус мокрый.
47) Оходы вырежу. Налив бельмы, об угол ударишься. Ты бы своего отца за бороду поймал. Пойди к брату, он гостинцы с тобой поделит.
48) Добр подьячий, а язык высуня пишет. Зашод сзади, по голове ударя, язык бы пришиб.
49) Бахарь такой, что заслушаешься.
50) Притча — случай. Со мной всякие притчи бывали.
51) Лихо. Бойся лихого человека. Лихо — зло неисправимое.
52) Человек нравный. Лошадь с норовом. Не по нраву. К его нраву не подладишь (не примеряешься) (применишься) (привесишься). Нрав — то, что нравится и не нравится. Уже, чем характер, то, что остается от характера, — обычай, чтобы выразить характер — нрав и обычай. Вполне характер — склад.
53) Смышлен — intelligent — умен, разумен. Он не смышлен, да умен. Вымышленник. Он смыслит.
54) Ловкой, хлесткой, устрый, шустрый, стремой. Проворный.
55) Склонен к пьянству. Падок до денег, лаком до женского полу. Лих, добр до
56) Напрасно на меня наносишь покор.
57) На нем порока, покора нет.
58) <Всем телом неключим нравом>. От лени окоростовел.
59) Опился. Спился. Допился. Испился. Запил. Подпил. Перепил. Опили его. Распил ее.
60) Пришедши, доложась пойду.
61) Животом, грудью, головой скорблю.
62) Ко псу приравнял.
63) Исступила (ума). Выступила из ума. Отступила ума. Исступленье.
64) Нате разделите по себе жемчуг.
65) Умей затевать, умей и распутывать.
66) Мы тебя отсюда опростаем (выпростаем).
67) С давних лет повелось.
68) Всех воевод повывел. Дураков не выведешь.
69) Ходит около дела.
70) Дорогу перенял.
71) Каяться. Не закаивался. Пора покаяться. Перед смертью вспокаялся. На своего глядя накаешься. Докаялся до того, что еду в грех ставил.
72) Стигнуть. Пристигла святая. Застигла погода. Настигла зайца. Состигает зайца.
73) Ступать. Ступаться. Наступил на него. Приступил к делу, к человеку. Не знает, как приступиться. Он его заступил. Заступил его место. За него заступился. Уступай жене. Соступил с своей чести. Подступился к ней с лестью. Расступилась земля. Исступил ума (выступил). Проступился раз, одного прости, другой проступится. Отступился обступился.
74) Всё из купли — покупное.
75) У бар бояр спесь на сердце нарастает. До свадьбы зарастет. Земля урастает. Срослись. Доросли, что женить. Михайло порос.
76) Поститься. Напостился вволю. Запостился вот 2-й год совсем. Отпостился уж я. Допостился до того, что как тряпка. Испостился в нитку.
77) Метать. Наметывает горшки. Заметывал мережки. Подметки.
78) Пора тут — там.
79) Проварили бабу.
80) Литься. Налил бельма. Налился. Прилило счастье. Залило водой. Улило совсем. Водой разлились. Залился слезами.
81) Никого не щити. Ощитил постель. Защитил себе дом. Ищитился так, что его не найдешь.
82) С глушинкой, слепинкой, дуринкой.
83) Невразумительно, непонятно, путано говорит.
84) Вечор, заутро. Вчерась. Завтра наране… Позавтра. Завчера. Позавчера.
85) Катыши — крутячки, шарики.
86) Худобы (дурна) худого не было. Худость моя — мое недостоинство.
87) Прилика к нему. На него улики. Его облика такая. Разлика есть. По чем различить.
88) Нагульный скот. Загульная баба. Прогульные дни.
89) Силою, умом, деньгами легонек.<>
90) Свежина. Свежа сердцем.
91) Манка (Марья). Мосяга (Моисей). Исачка (Исай). Ивашка. Симонка. Орька. Орютка. Оринка. Пелагейка. Васильюшко. Николаюшко. Иванушко. Пелагеюшка. Софьюшка. Татьянушка. Янко. Якуш. Яшка. Яша. Лукаш.
92) Объявилось на виду у…
93) Он по отцу-матери, по хлебе-соли кроет.
94) Он его лошадью поклепал.
95) Блюдясь опалы. Блюдись греха, грязи. Покору от людей не ублюдешься. Наблюди без меня коня. Ублюди лошадь. Поблюди с хорошим кобелем. Поблюлся Ивана. Приблюди к дому.
96) Поставить с очей на очи.
97) Сигать. Руки не досягают. Посягнул на дело.
98) Принес вину, просьбу. Повинился в чем-нибудь.
99) Молчит во всем. Он ей молчит.
100) Добр, лих, до чего…
101) Невдолге, вскоре.
102) Затеять не умеет. Затеял на кого…
103) Ехать. Заехал в ухо. Наехал след и съехал. Изъехал до конца. Переехал путь.
104) Наутро. Заутро. Поутру, с утра, под утро.
Слова
1) Поликушко! будешь ужинать? Матушка, побирушке щей поставить ли? — Даром.
2) Посыкнулся было купец вновь отстроить.
3) Народ заворошился. Заваруха.
4) А не похлебствуй он куму, неправде его давно было оказаться.
5) Земля белужина.
6) Земля вязковатая.
7) Из себя особист.
8) Молодость не без глупости, старость не без дурости.
9) Оборка скотины летось была, да и по весне опять.
10) Собачуга был управляющий.
11) Почерябать бороной, очерябать стеклом руку.
12) За горбом поле. На горбу пашня, полоса.
13) Привитает чужников.
14) Монастыри углажены. Изуглажены.
15) Посягнуть на дело. На какое ты дело посягаешь?
16) Я и не высок, да кремняст.
17) Ты и не чухайся (суйся).
18) Нынче народ стал мляв.
19) Слышу, что-то в коробке тормосит.
20) Все примерли, и изба запустовала.
21) И видать, что мужик ахреян.
22) Без зубов сухой хлеб мулявишь, мулявишь.
23) К перевозу додору нет.
24) Стрельцы лоском лежали. В лоск положили. Лоском уложили.
25) Злыдни все не переделаешь. Из злыдней не выдерешься.
26) Батюшка пощунял, да и все.
27) К дому не рачит.
28) Это его раченье.
29) Вызволь меня из беды.
30) Личить. Он к тому делу приличился. В том деле уличился.
31) Он жесток для мужика. Он мягок для, до нас.
32) Плоть играет. Плоть отстала играть.
33) Тростить. Бревно, воду стростить, веревку, бревно в канат затростить, к канату пристрастить, натроститъ. Две веревки перетростить, подтростить к ней еще.
34) Наровит по ком-нибудь. Или: ты ему понарови. Понарови, пока он доходит, к нему принарови. Понаровку ему дай, сделай. Снаровку знает.
35) Никак не объегоришь рубленую пуньку.
36) Одолен, плакун-трапа.
37) Полоник. Полоничком снял.
38) Барина пластали. Умрет неравно. Станут пластать.
39) Принесут попам блинков, а ребята поповы околузывают.
40) Дума, думка — воображение.
41) У нас лугами, водой, лесом скудно. Дает рука, не оскудеет. Паскудная девчонка все бегает. Прокудливей кошки. Прокудит.
42) У часов бой с перечасьем. Вперебой идет лошадь. Перететивье.
43) Опрясла забора. Колокольня в опрясел.
44) Колокол в подголос. Подъездок. Подручный.
45) Ознаменка — рисованье.
46) Чулан — спальня.
47) Клин — треугольник.
48) Мишень — плоскость.
49) Подызголовье — большая подушка. У него на постели 2 подызголовья да подушка.
50) Гривна и цена и вес. В гривну воску. На гривну воску.
51) Прокладки и пронизки в четках.
52) Женщина пригожая — гожая, угожая. В лесу угодье.
53) Небылишные, позорные слова.
54) Не царевич, а псаревич — псарев внук.
55) В уме заплелся. Душа займется.
56) Чего приспеешь своей душе, то тебе и будет на том свете.
57) А лучится ехать мимо, заезжай. Как прилунится. И случило, он с ним в лавке.
58) Бахмат. Аргамак, маштак.
59) Он и стар, а все борзится.
60) От убоя (ушиба) лежит, лечится.
61) Страдник ты, мужик пахатный.
62) Оходы — кишки, внутренности. Оходы собакам.
63) Бедро. Стегно, голень, лодыга (козанок) (бабка), плюсня.
64) Плечи, мышки (мышцы), локти, лытки, олокотни (цевки), запястье. Пясть (кисть).
65) Неключимый раб. Пять лет исключим лежал. Неключима баба.
66) Черная немочь, недуг. Недужится. Неможется.
67) Я те ослопом.
68) Ни шкни. Шикать. Шикнуть. Пошикнуть.
69) Не своим изволом (изволением) (произволением) делаю, враг наущает.
70) Знаю свою худость. Моя худость при мне, и твоя доброта перед тобой.
71) Оглашенство, оглашенный.
72) Дурна бы не делали. Дурном не заслужишь.
73) Кляпом закляпал рот (пушку) цепь. Раскляпать.
74) Вымыслы. Выдумки.
75) Стрельба, бой в притин. Тин, полтина.
76) Одобрили двоих. Облиховали одного.
77) Шатость стала в народе.
78) В молодости. В глупости не волен, а за дурость не хвалят.
79) На своих проторях.
80) Охулки, помешки, сморжки, порухи, оплошки, промашки, затяжки… не делай.
81) Сосуд проутинился, изутинился. Утини дом.
82) А ты не костыляй, как заяц.
83) Шаркнул кольцами по пруту. Кура шаркает. Так его шаркнул, что с ног долой. Шаркнул рогачом.
84) Разметки, выметки не было.
85) Обморухом остался. Заморух.
86) Я потазаю, а бить не бью.
87) Зависть к дому. Завистен работать.
88) Благочесливый, склонный, поклонный, уклонный, приклонный — радушный.
89) Простота (щедрость) хуже воровства. Простина (отсутствие лжи). За простину бог любит.
90) У мясников топор тупик тяжеле. Обиднай топор шире. Секач уже.
91) Стяговец — на чем стяги вешают.
92) Пяло — на чем распяливают.
93) Бескишочный?
94) Мадеет. Измадел совсем.
95) Почему красава и одежа лучше, чем красавица и одежда? Потому что одежонка и красавушка, а одеждинка и красавинька — нельзя.
96) Ичетыти червлены.
97) Прохлада (прохолодь, прозелень). Прохладная жизнь, прохлажаться. Удовольствия тоже есть прохладушка, но нет удовольствица.
98) Слетва новь. Новые новины, primeurs.
99) Игрицы. Песенницы.
100) Испынять — taquiner.
101) Вихлянье спин. Идет, спиной вихляет.
102) Печка дрочит. Дроченое детище.
103) Даве — ноне — ина-че.
104) Тафья.
105) Безмерный человек. Безмерство, в версту себе никого не ставит. Божевольный.
106) Поновиться, поновленье — говеть.
107) Кошуля — шуба легкая.
108) Быстрень поймет луга.
109) Косы северные кривуши, наши литовки.
110) А ты не дуруй. Не делай дурна.
111) Говори прямое (настоящее) дело. Прямое ли золото?
112) Шесток, ошёсток печи. Девицы по ошёсткам спят.
113) Знатно — очевидно.
114) Горе, печаль, кручина, скорбь, зазноба, тоска, скука. Горе — злосчастье. Горе — судьба горькая. Духовное, скорбь физическое. Печаль о других. Кручина временная от других. Тоска — недовольство собой. Скука — небольшое горе, отсутствие забот сердечных. Зазноба — физическое — кила? любовь.
115) Мануть. Tromper. Поманул меня жалованьем, да не отдал. Обманул совсем. Проманул меня до поста. Сманул с места. Заманул к себе. Переманул от NN, выманул у нас, взманул его, подманул, отманул.
116) Малоумен, глуп, дурковат. Дурашен, несмышлен, простоват.
117) Щипком дерется.
118) Достоканец вина.
Пословицы, поверья
1) Всяк живот смерти боится.
2) За сердце щепа влезла.
3) У татарина 2 коня, 3-я душа.
4) По пояс в грязи, а кричит — не брызжи.
5) Чужой чужим и пахнет.
6) Приплывная колода.
7) Сам господь по земле ходил и то нами не требовал.
8) Обрящи бог виноватого, справь невинного.
9) Замуж взять, прости господи, не из-за задницы одной.
10) Дите без каши ни на час.
11) Идучи за солому цепляется.
12) Мятый лапоть из мятого лыка (пропускает сквозь колодочку) — как уха.
13) Оба (сына) детища равны.
14) Ухватка держит.
15) Сухи кости останутся — чахотка.
16) В запас не берем.
17) Дай бог водить, не дай бог за ней ходить.
18) Не все поповым ребятам Митрева суббота.
19) Думка за горами, смерть за плечами.
20) Ночная кукушка (жена) денную перекукует.
21) Не стало у меня родимой матушки. На кого ты меня с сиротами оставила? Заставила век кукушкой куковать. Выйду на задворочек. Нет моей родимой матушки.
22) Лаптем шти хлебать.
23) Пес на свою блевотину ворочается.
24) Как свеча богу на жертву.
25) Мучьтесь за Христа хорошенько. Не оглядывайтесь назад. Не тужите о безделицах мира сего. Побоярил (поцарствовал), надо попасть и в небесное боярство (царство).
26) Одинаково над тобой и мною распростерто небо, одинаково и тебе и мне вся тварь служит, тебе ни больше и мне ни меньше.
27) Честь (добро) (счастье) перелетает.
28) Третины, девятины, полусорочины, сорочины.
29) Похвальное слово — пагуба.
30) Одна свеча другие зажжет, а сама в своем свете не умалится.
31) Не говори правды, не теряй дружбы.
32) Запалый порох выходит от заговора.
33) Сам заработаю, сам и пропью. Не твои холсты или паневу.
34) Сядешь ужинать, руки ко рту не донесешь, так закостенеют.
35) Проварили бабу. Лицом к ставцу поставили.
36) Не малина, не опанет.
37) Бог по душу сослал.
38) Поклониться — голова не отвалится.
39) Добудешь так, что и домой не будешь.
40) Палачи отрошники — отца матери отреклись — кого хочешь брать будут.
41) Дитятко — сестрица — кумушка милая.
42) Чем тебя бог известит.
43) Судом божьим осталась сиротою.
44) Вешника шерсть: волосень на паневы, выволочка на сукно — кафтан.
45) Не у браги увечья добыл, ни с печи убился.
46) Подле Казани, где пьяных вязали, 8 полтей тараканьих да 7 стягов комарьих, 40 кадушек соленых лягушек, 40 шестов собачьих хвостов.
47) Передом сечет, задом волочет.
48) Шуба соболья да шуба сомовья.
49) Кот, да кошка, да поп Тимошка.
50) У мужей к женам сердце отнимает. На соль и на мыло наговаривает. Сжигает ворот рубахи и пепел в след сыплет.
51) Мыло сколь борзо смоется, и какова рубаха на теле бела, таков и муж был бы светел.
52) Жабу во рту уговаривает. Горшки наметывает на брюхо. Кто болит, омывает. Ангел-хранитель, утиши в младенце боль.
53) У кого товар заляжет, велит наговорным медом умываться. А наговаривает на мед: как пчелы ярые роятся да осетаются — так купцы скорые. Сколь скоро плотно мыло прильнет, столь бы муж прилюбил. На чеснок, на вино, на уксус. Утиши сам Христос, Увар христов мученик, Иван-креститель, Тихон святой. На кого наклеплет, она глянет на сердце, узнает. Как старой женке детей не рожать, так и грыжи не было. На медвежий ноготь, на громовую стрелу. Сучит свечи с волосами и жжет.
Посыкнулись сваты.
Обезлошаделся.
В дуростях спускать.
Мне за сердце щепа влезла.
Живот радуется.
Собачуга и на руку ерзок стал.
Мать [?] я скажу, у меня язык помягче.
С покрепочкой жил Петр.
Чужой чужим и пахнет.
Приплывная колода.
Как я посягну на такое дело?
Не гребую. Милявый старик.
Душу отвесть чайком.
Кровинки нет, урежь кровь.
Не пойду. Оплошка. Ахраян. Озорник. Никак не обротаешь.
Улучи времячко. Лает матерно, дом упадает. К дому не рачит.
Идучи, за солому цепляет.
Я один примечаю, на тебя припека нет.
Плоть играет. Мятый лапоть, как уха.
В уме зашелся. Для опаски посижу.
После сорочин. Бахарь известный.
Сунуть, волочь, метать, переть, драть, смолить. От убоя. Ты не щити ее.
С глушинкой. Устрая девчонка.
Бескишочный. В косы увяз руками. Прохладная жесточь.
Блюдись его греха. Засыпка была. Принеси вину.
В ворота рубахи пепла насигает.
Какова рубаха на теле бела, так бы и муж был светел.
Она тянет — узнает. Малоумна, малогласна. Сучит свечу с волосами. Тоскует перед смертью.
Дурна.
Пора дурости оставить.
Пристигла. Ума выступил.
Об жену цепинку сломал.
Как ветошка стал.
Его куры загребут.
Костыляет — лукавит. Всё из купли. Разметку сделаю.
Шаркну рогачом.
Лаком до женского полу.
Порок наносишь. От лени окоростелись. Оболгали.
Разве житье у меня? Животина скорбит.
Широк ты здесь. А это разделит по себе.
Оглашенство. Изыскная химия.
Перемогниться еще мол [?]
Понаровки не делай. Дощупался правды.
Напорно спроси. С прижимкой.
Распалился. Кости мои не дергай.
Гладеха. До осела догоняют.
Стоит на руках помереть.
Мотыга. Не залетай.
Пузырил, пузырил.
Заведешь мысль, ровно слышишь.
Поважковатей стала пазуха.
Широко — ветер ходит. Как литая.
Донюшка — дочь. Валяешь глазами.
В питье не запью, в еде не заем, во сне не засплю.
Ясотка моя.
Человек во плоти живет.
Не ухватиста как-то.
Кривье. Живот замирает. Крыльями лезет.
Красик. Жируха.
Притомяна [?]
Мысленый глазок. Оморок надить. Живомужняя вдова.
Леща дам.
Очеретнел.
Терта, перетерта, куда ни пошли.
Из потрясучего кобеля не идет.
Чистяк. Красик. Неключим.
Прокудит.
Он бусор такой.
Ключил меня.
Переплакать.
В сухую щепку засушить.
Живот не надышу.
Под время. Красотничает мачеха.
Посычка была.
Обмерк на пути. Лопастый тебя задави. Светик.
Голубка моя белая.
Лядваги-то порастрясешь.
Вздивячится в нем бес.
Надо мной за посмех делает.
Засухотил, зачиврел.
Изукладил его [1 неразобр.]. Защепила.
Какая есть. Располыхну весь дом. [1 неразобр.]
Ее любует, жалкует. От бою и собака бежит.
Нукася вопрутся. Языка терзать не буду.
Лытки [1 неразобр.]. Немой затылок стал. Стебанул.
Не два века жить будем.
Оглоушить. Подыскивать.
В версту подбирает.
Забыл бы затевать.
В любовь пришла тебе, и люби [?] Запсинел.
Неразволочная.
Не ухвалится. Всю…. измызгала. Остробучился.
В животе буравцом вертит.
На сердце огнем жжет.
Что мечешься, через голову?
Сестрицы милые. За беду стал.
Раздроби подробно. Бог на себя прибрал. В лутошку… сошлась.
Теперь расправилась. Поело [?] лежит. Пыху сбавит.
С избы крышу роет. Загвоздит память. Дери вас горой.
Ноги соплетаются.
Такая часина. Бог наречет.
Сноп не перекотишь.
Висяга бытущая.
1879 г.
1) Избы новгородские крыли встарь колоным тесом.
2) В бревне 20 аршин, не знать, где комель, где макуша.
3) Язык-то у меня в молодые годы помягче был. Теперь груб стал.
4) Овес закис в земле, не пыхнул.
5) Денег кубическая сажень.
6) Овес косматый.
7) Кровь под скамью льет, пока не свалится.
8) Лопаточка у нас скована была железная — людей бить.
9) Середняя упряжка жизни. 1-я упряжка до женитьбы, 2-я до внуков, 3-я до смерти.
10) Чернозем облепит, ног не выволочешь.
11) Стрельбы две или три от дома.
12) Как кнутом стегануть — прямо.
13) Его пехота на горе, как мураши, высыпали.
14) Цвета: 1) алый, 2) красный, 3) червленый, 4) малиновый, 5) брусничный, 6) вишневый, 7) голубой (голубь), 8) лазоревый, 9) дымчатый, 10) карий, 11) бурый, 12) желтый, 13) песочный, 14) рудо-желтый, 15) зеленый, 16) крапивный, 17) осиновый, 18) янтарный (пшеничный), 19) стальной, 20) серый, 21) яичный, 22) (льняной) железный.
15) Белье держали в кипарисном сундуке (коробе).
16) Гребень (расческа) прорезной.
17) Эпитеты.
Бело тело, белы груди, руки.
Мать сыра земля.
Ясны очи. Красно солнце. Сине море. Белый камень. Ярый воск, ярая пчела. Серый заяц, волк. Черный ворон. Ясный сокол. Шелкова трава. Буйная голова. Могучи плечи. Сироты горьки; крутые. Родимые матушка, батюшка [1 неразобр.]. Святая милостыня. Смерть, рожь, земля — матушка.
18) Мать твоя его любила.
19) А ты знай дядю своего, Оску палача, орленый кнут да липовую плаху.
20) Час, другой полежит, встанет, 1000 поклонов отбросает и сядет.
21) Никона блевотину подлизывает. Как пес на свою блевотину ворочаетесь.
22) Некого четками постегать. Не на кого поглядеть, как на лошадке поедет, некого по головке погладить. Нет миленького сударика. В последний поглядел на него, как причастил.
23) Пишут Спасов образ; лицо одутловатое, власы кудрявые, уста червленые, руки, мышцы, бедра толстые, как немчин.
24) Как свинью на убой кормит.
25) Развяжи меня. Развязал бы мне руки.
26) Широк ты здесь.
27) Раки перешепчутся — поснут.
28) Рыба иссиделась в садках, досиделась, осиделась.
29) Запалом порох выходит.
30) О жену цепинку сломал.
31) Как ветошка стал. Париться пошел, так кости торчат, промеж ребер палец пройдет.
32) Куры загребут.
33) Как ты огруз, уж не покидать ли нас хочешь.
34) Куль в 9 пудов на плечи вздымал.
35) Полуименем не назовет, а по имени да по отчеству.
36) В косы увяз руками, насилу отняла.
37) В чем душа велась.
38) С мужем не жила, свежая ходила.
39) Размахается, расшатается, до печи не дойдет, упанет, и я за ним.
40) Два года нога прела. Только полынь завел.
41) Сосцы голые, на головах нет ничего — простоволосая.
42) Тоскованья перед смертью не было.
1881
81. 17 апреля. [Ясная Поляна. ] Разговор с Сережей о непротивлении злу.
Странник Полтавской губ., родом из Тобольской. Высокий, длинноволосый, красивый старик. Все с ним есть: ножик, ножницы, крючки, иглы, чай березовый, кирпичный. Рассказы о том, как ходил с мелким товаром. По 6 пудов 100 верст носил. 16 душ похоронил. Секли за сына, 60 розог. Ему 62 года. До 57 лет можно сечь. В конторе по 3 р. за розгу, в деревне по 5. Правды нет. Каторжным в сенях молоко, пирог, харч. Зимой в баню.
18 апреля. Уничтожить университеты, т. е. все свежее, правдивое и образованное.
Собаки заели овцу. Одна издохла, ягнята пали. Эту заели — плачет.
Константина родила жена девчонку. Крестить в церкви дешевле. Дьякона не поить. Об богоносах. В грязь вымазался. Смешлив, держится и фыркает. Кормил скотину, в Кочаки набирает, доволен. Хлеб дошел. Не тужу. Лошадь дали, доволен, счастлив.
Александр Козлов. В Самару ехать. Главное дело полегче работу. Дома еще ничего, а в людях поневоле трудно. Мать соборовали. Похороны вперед рассчитывает на 8р.
Матвей Егоров. Как заговорит о сыне, плачет. Внучек похужал. Кто хорош? Кто мил? Кто хозяин? И перестал говорить я. Сноха сбивает второго сына. Я в кухарках, ты в кучерах.
Щекинский мужик. Чахотка. Чох с кровью, пот. Уже 20 лет кровь бросает. Гречиху косил, тянулся за мужиками. Родники. Рубаха мокрая. Пьет, что из носу потечет.
Над женой подшучено. Порчь. Кричит. Облокотами на печку, зимой. Сестре надо пахать. Пашу, борозд 5 пройду, отдыхаю. Кошу. Кабы бог прибрал, и к стороне.
А не верит, что умрет.
Егора безрукого сноха. Приходила на лошадь просить. Ваша рука легкая. Старшина 20 к., лавочник солонины дал.
После обеда Онисим. В мешочке борода. Что делать? Простить? Как вы скажете. Ссора вышла из-за воды. Иван прорыл канаву, спускал на двор к Онисиму. Потом в сарай пустил. Яшуткин малый внук стал перечить. Лопату сломал. Старик вышел: «Тебя-то мне и надо». Скуло болит, всю неделю хлеба не ел.
19 апреля. Приходили бабуринские — на подати, — у меня нет денег, отказал.
Два странника — солдаты.
Все пропащие люди — солдаты или калеки.
Щекинский мужик, жестокий, робкий, откровенный, низенький, просил денег — отказал.
Бабуринский мужик с мальчиком. Пьяный мужик затесывал вязок, разрубил нос. Лечили в больнице 22 дня, залежал 5 р. 50 к. Не мог отдать. «Пойдем в полицейское управление». Пошел, ввели в комнату, заперли: «Когда принесешь, тогда выпустим». Хлебушка оставил. Саламасовский Никита, просил вообще на бедность, дал 3 р.
20 [апреля]. Смоленский солдат. Два тульских солдата. Щекинский и дальний.
Иван Емельянов щекинский на лошадь, очень беден. Избу купил.
Синявинский мужик по подозрению в воровстве пшеницы сидел в остроге, дожидаясь суда 4 месяца. Просил на овес. Отец с сыном украли пшеницы 17 мер (за неустойку камня), посажены еще на 6 месяцев.
Мальчик колпенский, 12 лет. Старший, меньшим 9 и 6. Отец и мать умерли. Бабушка ходила, хлебы ставила. Теперь хлеб доели. Дядя взял землю. Старшина говорит: куда-нибудь вас пристроим. Богородицкого уезда — солдат с сыном.
22 апреля. Из Бабурина мужик, отдал сына в больницу от глаз. Просил 20 к.
Солдат из Щекина в лихорадке. Мальчик.
Богоявленского исключили из университета.
Харинский — лошадь — 9 рублей, 5 душ кормит. Погорелый Иван Колчанов. Головенский — лошадь. Солдат Черниговской губернии.
23 апреля. Ходил на деревню. Лохмачева недуг портит, как иголками. Баба кроет* с Дмитрием Макарычем и Иваном. Никто не пошел. «По своей бедности, знаю». В кабаке солдат просит милостыню. Василий вынес пол-ломтя. «Никто не покупает».
У Матвея Егорова попы в избе. На задворках у ворот воют в шесть голосов. Хозяин мальчик сидит на нарах. Ситники на сдвинутых, накрытых столах.
Сергей: «Поспели к жатве — волосы седые».
Солдат Козлов просит места на заводе: хлуд обрастет — оборыш обрастет. — Снял шапку, не сговоришь.
Баба из Судакова. Погорели. Выскочила, как была. Сын в огонь лезет. Мне все одно пропадать. Лошади нет. Лошадь взяли судейские. За то, что он вел чужую.
Мужик крыльцовский. Маленький, жалкий. Издохла лошадь. Не дал.
Осип Наумыч. Урядник велел вынести пчел из огорода, а они облетались. У Карпа тоже.
Три солдата — просили милостыню. […]
25 [апреля]. Вчера разговоры с Сережей и Урусовым. Нынче нищая казначеевская, пьяная. Грумантская вдова. Мальчик будет пахать. Лошадь просила. Не дал.
Головенский кривой старик, скатан кафтан через плечо. На лошадь 7 р. Плачет. Не обижать людей, бога помнить. Понял. Помилуй, господи.
Константин прислал записку с девочкой. Крепко уморился, пахал, нет куска хлеба. Дети дали. Три странницы.
26 апреля. Мясоедовская женщина, маленькая. Издалека стала на колени, «ручку». Тотчас же ушла.
Щекинская баба старуха. За двумя мужьями была. Все примерли. Ходит, побирается. Шутит. «Вот я стара, уж меня не откормишь».
Побирушка пьяная — дворянка с дочерью.
Городенский чахоточный с сыном, шел целый день до меня.
Посеять овсяную десятину. На коленях елозал. От декогу справил.
Щекинский шальной, о мельнице, «скажем» — не понял, что нужно.
Прошение крыльцовской бабы о выручке солдата из службы.
27 апреля. Вологодский юноша, больной, с образками и просвиркой. Предлагает купить.
Солдат тверской, новоторжский, слышал про Шевалино, что народ милостивый. Старуха оборванная, одоевская. Старуха мясоедовская.
Вчера Маша сама дала 20 к., никто не видел.
Без меня погорелый — жена сгорела. Старуха колпенская. Я укорил, у сына восемь человек детей, хлеба нет. Заплакала.
Ходил на Деготну. На кладбище старик солдат оправлял могилку старухи. Вот год ходит, ищет пособия. «Не смотрели бы мои глаза, как в деревню входить». Святую ходил с образами. Ночевали. Старухи всю ночь богу молятся, свечи горят. — Как секли Пармена. Крал деньги, ситника и пива покупать в кабаке. — Ходит год — ищет пособия. Свидетельство дали, но на шесть лет ошиблись в годах. «Не я один, много ходят». Один бросил, другой помер нынче зимой, ходючи.
28 апреля. Судаковский погорелый, здоровый, умный мужик.
Щекинская больная с девочкой три дня шла до меня (3×2½).
Городенский Карп Пузанов, маленький, худой. У Гиля работал, тяжко стало. Ходы дальние. Лошади нет, семенов нету.
Старуха переволокская. Сын помер. Двоюродный племянник согнал. Ходит, побирается. Была богата.
Пять странников. Потерял билет.
Соловьев удавился оттого, что много долгов. Набожный старик. Когда Базунов оставил ему наследство, ему завидовали. Кого он убегал? Что поправлял?
Газета, в Тунисе — беременным не выпускать кишки*.
29 апреля. 15-летний мальчик бьет камень. Школа Петра Васильевича. Маленький Хохлов читает и рассказывает. Вдова Якова Матвеева. Марка 60 к.
Два семирновских мужика просить денег на посев. Один сладко улыбающийся, другой — новый, бледный, дикий — как волк. Дмитрий Федорович на крестины — 3 р. […]
6 мая. Старик рудаковский. Улыбающиеся глаза и беззубый, милый рот. Поговорили о богатстве. Недаром пословица — деньги — ад. Ходил спаситель с учениками. «Идите по дороге, придут кресты, налево не ходите — там ад». Посмотрим, какой ад. Пошли. Куча золота лежит. «Вот сказал — ад, а мы нашли клад». На себе не унесешь. Пошли добывать подводу. Разошлись и думают: делить надо. Один нож отточил, другой пышку с ядом спек. Сошлись, один пырнул ножом, убил, у него пышка выскочила — он съел. Оба пропали. […]
8 мая. Погорелая женщина, мещанка, с ребенком, «мальчик сгорел, муж обгорел». Певучим голосом — причитает, чисто одета, босиком. С лица чиста. […]
9 мая. Рабочие-новосильцы 28 человек. Пришли выпить, поют песню. Подрядчик нанял постом. Из 700 дворов 100 едят свой хлеб. Земли ½ десятины на душу. Грамотных два. […]
11 мая. Две бабы. Одна солдатка. Демонская, другая пировская — острожная вдова. Молодая, тусклая, нечистая солдатка. Осталась одна с ребенком, потому что некого кормить. Золовка с ребенком. Муж плачет в остроге. […]
12 мая. Два солдата. Женщина из Переволок. Ищет наследство по муже. Другая из Кучина, вдова в синем, нечистая, плачет, две девочки, сын незаконный — землю отняли. Сын нигде не приписан.
Щекинская вдова с двумя детьми, жалкая, оборванная, мутноглазая. Мальчик, подслеповатый, косовский. Он женат, был в работниках, сошел. Отец выпивал и побирался. Как запомнит, не было скотины. Мать померла на пасху (5 р. стало), отец плел плетень, закололо в боку, на пятый день, вчера, помер. Ничего нет, нечем похоронить.
Был в Туле. В остроге второй месяц сидят 16 человек калужских мужиков за бесписьменность. Их бы надо переслать в Калугу и по местам. Второй месяц не посылают под предлогом, что в Калужском замке завозно. […]
15 мая. Вчера Сухотин и Свечин. Сухотин засох. Свечин еще жив. Поехали в Тулу. Шатилов доказывает несправедливость мужиков, судьи и всех. Он при освобождении оттянул у мужиков 120 десятин. Отдавал их по 4 р. с тем, чтобы они выкупали подворно, — обиделся на них после 20 лет и дал другим. Они ночью вспахали. Взрыв в Туле, солдаты ходят, патронами играют, дети. Острог*. Пашет один весело. Смотритель на своей земле. Партию готовят. Бритые в кандалах.
Воробьевский муж распутной жены. Старик 67 лет, злобно, «за поджог», больной, чуть живой. Хромой мальчик. За бесписьменность 114 человек. «Костюм плох, и высылают». Есть по три месяца. Есть развращенные, есть простые, милые. Старик слабый вышел из больницы. Огромная вошь на щеке. Ссылаемые обществами*. Ни в чем не судимы, два — ссылаются. Один по жалобе жены — на 1500 руб. именья. Маленьким был в сумасшедшем доме, кривой, в припадках. При нас упал и стал биться. Высокий солдат сидит шестой год. Год судился, 1½ года присужден, 1 год 3 месяца набавка за то, что сказался мастеровым. Общество отказалось, и с тех пор ожидает партии 2 года. Каторжных двое за драку, не убийство. «Ни за что пропадаем», плачет. Доброе лицо.
Вонь ужасная.
На возвратном пути старушка беззубая. У нее трынка* да у меня. Я говорю: и у меня. Она: вам и надо много. А наше дело привычное — к бедности.
Вечером Писарев и Самарин. Самарин с улыбочкой: надо их вешать. Хотел смолчать и не знать его, хотел вытолкать в шею. Высказал. Государство. «Да мне все равно, в какие игрушки вы играете, только чтобы из-за игры зла не было»*. […]
16 мая. Костюшкина жена пришла, ела один щавель, брюхо болит. Головеньский старик погорелый. 20 дворов сгорело. 2-й раз в 2 года.
Городенская Михайловна. Гиль [?] дал 4 четверти ржи, 4 овса, 2 десятины убрать и 30 дней — росту. «Вяжутся женихи». «Льготно».
Иван Иванович Рычагов. Боцманмант. 76 лет. Просят ведро вина мир, чтобы дать приговор. «Одному так-то дали, а он не поставил. Дай вперед».
Мещанин 67 лет, трясется от холода.
Почетный гражданин в пальто, с мешочком.
Григорий Болхин. Парень в острог ездит. В 24-й камере сидит Костомаров солдат. Обещал лошадь показать. «Заушил» лошадь.
Никифор Печников телятинский просил на иструб.
17 мая. Бабы городенские о переселении. Федотова жена о корове.
Солдатка из Воробьевки. Сынишка в поносе кровавом. Молока нет. Хлеб и квас.
Мужик глухой, жалкий из Головенок, погорелый.
18 мая. Чурюкина старуха, приемыш. Слезы капают на пыль.
Александр Петрович. У Дмитрия Федоровича пища. «Не пышный стол».
Вечером у Василия Ивановича. Маликов и Соколов. Разговор с Соколовым. Он хотел бы, чтобы на земле было царство небесное. Горячий, честный малый. Домой пришел. Утром Сережа вывел меня из себя, и Соня напала непонятно и жестоко. Сережа говорит: учение Христа все известно, но трудно. Я говорю: нельзя сказать «трудно» бежать из горящей комнаты в единственную дверь. «Трудно».
Вечером рассказал, что Маликов делает больше для правительства, чем округ жандармов. С пеной у рта начали ругать Маликова — подлыми приемами, я замолчал. Начали разговор. Вешать — надо, сечь — надо, бить по зубам без свидетелей и слабых — надо, народ как бы не взбунтовался — страшно. Но жидов бить — не худо. Потом вперемешку разговор о блуде — с удовольствием. Кто-нибудь сумасшедший — они или я. […]
21 мая. Два головенские погорелые. У одного брат больной, вынесли, помер на другой день. Телятинская, большак сын попался в четвертый раз. Отнял мешки у знакомого мужика. Хоть бы сослали его с женой. У ней сын 15 лет незаконный. Странник-писец в синем, рыжий, беззубый. Кормится. Мужик из Иконок пьяненький. Нажил по откупам 30 десятин. Не хочу греха таить. Николаю помогал.
Спор — Таня, Сережа, Иван Михайлович: «Добро условно». То есть нет добра. Одни инстинкты.
22 мая. Продолжение разговора об условности добра. Добро, про которое я говорю, есть то, которое считает хорошим для себя и для всех.
Григорий Болхин, оборванная немецкая поддевка. Руки отваливаются от работы. Хлеба нет. Картошек нет. Девять душ семьи. Десять лет бьюсь хлебом. Пудов 90 купляю. Исполу посеял овес. Колеса не возвращают, все забывает становой. Статистические сведения.
Баба из Скуратова. Муж за порубку четыре месяца в остроге. Четверо детей — ни хлеба, ни картофеля.
(Вчера) подвез пьяненький бывший старшина, моложавый мужик, умный, гребенщик. Едут с ярманки. Гордится своим барином и знанием порядков.
Вдова с Груманта просила лошади посеять огород. Картошек нет.
23 мая. Монах-шатун. Александр Копылов — хворосту. Крестник шестипалый — слег. Пошел гулять. На пашне — бороны, хомуты, у края спят ничком мужик и мальчик. Собака черная в кусте. На дороге крыльцовская баба идет в Тулу — «хлеба нет, сын обещал сбиться на пудик мучицы». Рассказ о Сергее телятинском, как он ехал телега на телеге, встретил мужика пьяного с мукой, завернул лошадь, вынул мешки и потянул кафтан, разбудил. Тот проснулся, замахнулся напарником и скребанул по телеге — метку сделал. По телеге на телеге и метке и мешки нашли.
На мосту, бритый, в усах, рыжий, красный солдат. «Откуда?» — «Из Федоровки». — «Куда?» — «Камень бить». — «Какой волости?» — «Федоровской». — «Такой нет. Ты в беде?» — «В большой беде». Не доверял, потом сел со мной. Был унтер-офицер в карауле. Солдаты были в Плоцке, подкопали дверь, ушли. Судили и отдали в Мценск под присмотр полиции. Идет повидаться с родными. Они дадут билет на проход назад. Здесь десятник спросит, я скажу есть. Мало говорил, жалко. Но очень радостно. Человек — больше, чем Самарин. […]
25 мая. Зять Михайловны, сапожник. Глаза болят. Лошади нет, а взялся работать у Гиля. Таких три.
Лапотковская баба с теткой. Нельзя ли спасти? Платье сняли с мужика и оставили у станового, тот отдал пострадавшему. Не могут добиться толку. Послал к Ушакову*.
Пошел гулять. На горке сидят бабы, старики и ребята с лопатами. Человек 100. Выгнали чинить дорогу. Молодой мужик с бородой бурой с рыжиной, как ордынская овца. На мой вопрос: Зачем? «Нельзя, начальству повиноваться надо. Нынче не праздник. И так бога забыли, в церковь не ходят». Враждебно. И два принципа — начальству повиноваться, в церковь ходить. И он страшен.
Мостовский молодой мужик, отец отпихнул без раздела, остался с средним братом.
27 мая. Щекинский просил на лошадь. Улыбка зубастая. «Сказывали, что в мае выдавать будут». Продал корову, купил лошадь.
Телятинская Елисеева, плачет, просит хворосту. Сын в Крапивне в замке.
Вахтер просится в Самару. Смотритель не выдает деньги вахтерам. Не держит комплекта, ему остаются деньги. Держит свиней. Огород.
Христинья поправила руку Урусову.
Статья К. Аксакова*. Земля, сироты и государство — правительство. Земля отдает власть — Рюрик. Можно сказать, что этого желает народ. Но если этого желает, то и не делает величия государства и отдаст также охотно туркам. Правительство-то кто такие? Нехристи. И как отделить правителей от земцев — ноздри рвать?
В Старой Колпне на пожаре старуха бросилась за холстами в чулан, не попала в чулан и сгорела. Вытащили после.
28 мая. Мужик из Спасского посоветоваться о брате. Целый день Фет.
29 мая. Дочь молочной сестры, умильная, маленькая. Ни хлеба, ни избы.
[…] Разговор с Фетом и женой. Христианское учение неисполнимо. Так оно глупости? Нет, но неисполнимо. Да вы пробовали ли исполнять? Нет, но неисполнимо. […]
31 мая. Мать лапотковского, что в Сибирь ссылают. Плачет. Малый хорош. То жалко. Если сошлют, куда же нам идти.
Разговор с Таней о Василии Ивановиче*. Мирские не понимают божиих. Нравственность будущей жизни Лизы и безнравственность жизни Тани*.
3 июня. Кучер Хомякова, отец, сын и мать. Идут в Москву. Две погорелые старухи, головенские (коротко подоткнуты). Бибиков с Сережей и Кривцовым едут к царю с иконой в 700 р.* Сережа читал дело о земле. Надо выписать. «Слушали, признав: земле — справка; приказали».
Ходил гулять, беседа с Иваном Андреичем.
4 июня. Солдат в поддевке с медалями, кривой, просит дочь выдать замуж. В ноги.
Анисья Морозова — лошадь обезножела.
Жаров. Злой, нахрапом лезет.
Дмитрий Федорович. Ошибся: Зорину. Тоже нет хлеба.
И у самого нет хлеба.
Мостовский остаток человека — старик, получил приговор о бедности. Идет в Крапивну. Александр Петрович написал ему прошение.
5 июня. Вчера уныл и гадок я был. Злился на Жарова и Одоевского.
Баба городенская. Муж больной. Она вышла за вдовца первого. От того два мальчика. Потом за другого. Пасынок отделился. Сына записали. Кормится кусочками и сама по миру ходит. Желтая, запухшая. Сбилась совсем.
8 [июня]. Кочетков из острога просит о том, что его переводят в полуроту Архангельской губернии.
Копылова мать. Давно уже не пекли хлеба. Кусочки не продают.
Из Бабурина на деревяшке, лугов просил.
Странник, разбитый параличом, еле говорит. Тамбовский, рассказывает, сколько раз причащался.
Две погорелые бабы из Головенек. Одна с ребенком.
Ходил гулять. Плотники одоевские. Рассказ о переселении из именья Красовского Бабошино. Не хотели брать по 60 р. на двор. Согнали с четырех волостей 700 мужиков с топорами, ломами, вилами, велели ломать. «Грех». — «Что же делать, велят. Не станешь, прибьют», — «Пускай прибьют, на них, а не на тебе грех будет. Бог велел терпеть», — «Оно так. Я, положим, не ломал». Расставили по слободам, принялись — ломать. Кто крышу роет, стропила. Косяки, окна косят. Печи ломают. Мужики, человек сорок, ушли на гору, смотрят. Старшина сам перевез. Другие, как начали ломать, сами взялись, чтобы не дуром ломали. В одном доме баба только в ночь родила, да еще двойню. Оставили дом. Начальство было: 1) член, 2) исправник, 3) становой, 4) урядники. Пуще всех урядники, так и снуют — ломай. И старшины.
9 июня. Вчера встретил мужика молодого новосильского из острога за подгребание муки. Пухлый, сладострастный, с красными пятнами, вшивый. Просидел три месяца. Расслаб.
Константин — хлеба нет. Картофель посадил. Дочь прислал.
Дворовый с женой, противный. Дурачок из Пирова. Жену ищет.
Из Щекина погорелый солдат с дочерью.
17 июня. [В дороге. ]* Деревни Кучинки Чернопятовой. Анна Максимова — мальчик Алексей Макаров. Хозяин избил и оклеветал в покраже меди и железа. […]
22 июня. Соня сердится, я снес легко. Урусов мил. Разговор о том, что книга действует, потому что это один чистый дух.
«Отечественные записки». Статьи о сектантах*. Шалопуты и странники.
23 июня. Михайловна городенская плачет, вспоминая, как она призрела детей. Мужик рыжий, вдовый. Старшая девочка 15-й год. Проработает два дня, принесет ковригу хлеба. Отец бросил. Дети одни. Девочке 9, мальчику 7-й. Михайловнин сын возил навоз, привез мальчишку, четыре дня не ел. Дала хлебца, теста, уж он отощал, не ест, сердечный. Сестренка взяла на руки, и он спит. Научили походить по деревне. […]
25 июня. Десять человек странников. Старик 68 лет, слепой, со старухой. Высокий, тонкий, живой. Похож на слепого Болхина. Жалуется на мужиков — отняли землю, дом (чтобы похоронить его) и долю в проданном лесе. Рассказы про хохлов. От деревни до деревни 40, 30 и 20 верст обыкновенно. Через улицу кричат. Заходи ночевать. Напоят, накормят и постелют. И на дорогу дадут. Продавать кусочки некому. Наши набрали слепые, да раздвинули коноплю и бросили. У нас нищеты страсть. Некому подавать. Я не продаю — сирот кормлю, не в похвалу сказать. Даром отдавать — жалко. Продай. Не продаю, вчера не ели, и нынче дело к ужину. Плачет. Давай безмен! Денег не взял. Рассказ про хохла. Узнал, что я темный, снял Пантелеймона. На колени, сам плачет. Целуй в глаза.
Два из Сибири. Один слесарем был, тяпнул. Идет откапывать деньги. Другой у купца 16 лет выжил по 100 р. на год.
Кузминский удивлен, что не одобряют Муравьева*. «Он делал это по убеждению». Он грабит на дороге по убежденью.
[27 июня. ] 26, 27. Очень много бедного народа. Я больнешенек. Не спал и не ел сухого шесть суток. Старался чувствовать себя счастливым. Трудно, но можно. Познал движение к этому.
[28 июня. ] 28. С Сережей разговор, продолжение вчерашнего о боге. Он и они думают, что сказать: я не знаю этого, это нельзя доказать, это мне не нужно, что это признак ума и образованья. Тогда как это-то признак невежества. «Я не знаю никаких планет, ни оси, на которой вертится земля, ни экликтик каких-то непонятных, и не хочу это брать на веру, а вижу, ходит солнце и звезды как-то ходят». Да ведь доказать вращение земли и путь ее, и мутацию, и предварение равноденствий очень трудно, и остается еще много неясного и, главное, трудно вообразимого, но преимущество то, что все сведено к единству. Так же в области нравственной и духовной — свести к единству вопросы: что делать, что знать, чего надеяться? Над сведением их к единству бьется все человечество. И вдруг разъединить все, сведенное к единству, представляется людям заслугой, которой они хвастают. — Кто виноват? — Учим их старательно обрядам и закону божию, зная вперед, что это не выдержит зрелости, и учим множеству знаний, ничем не связанных. И остаются все без единства, с разрозненными знаниями и думают, что это приобретение.
Сережа признал, что он любит плотскую жизнь и верит в нее. Я рад ясной постановке вопроса.
Пошел к Константину. Он неделю болен, бок, кашель. Теперь разлилась желчь. Курносенков был в желчи. Кондратий умер желчью. Бедняки умирают желчью! «От скуки» умирают.
У бабы грудница есть, три девочки есть, а хлеба нет. В 4-м часу еще не ели. Девочки пошли за ягодами, поели. Печь топлена, чтоб не пусто было и грудная не икала. Константин повез последнюю овцу.
Дома ждет городенский косой больной мужик. Его довез сосед. Стоит на пришпекте.
У нас обед огромный с шампанским. Тани наряжены. Пояса пятирублевые на всех детях. Обедают, а уже телега едет на пикник промежду мужицких телег, везущих измученный работой народ. […]
29 июня. Старичок, кроткий, зажиточный (плачет сейчас), просит строиться. Вперед готов заплатить штраф мировому. Странники. Побирушка из Городны пришла на балкон и легла в ноги в середине двери.
Разговор с Юрьевым, ему не нравится, что землю хотят мужикам, а во всем либерален.
3 июля. Я с болезни не могу справиться. Слабость, лень и грусть. Необходима деятельность, цель — просвещение, исправление и соединение. Просвещение я могу направлять на других. Исправление — на себя. Соединение с просвещенными и исправляющимися. […]
6 июля. Немец в падучей, голый. Сергей просил ему блузу.
Надежда Константинова пришла с грудницей, страшно жалкая.
Разговор с Кузминским, Василием Ивановичем и Иваном Михайловичем. Революция экономическая не то, что может быть. А не может не быть. Удивительно, что ее нет.
[10 июля. Спасское-Лутовиново. ] 9, 10 июля. У Тургенева. Милый Полонский, спокойно занятый живописью и писаньем, неосуждающий и — бедный — спокойный. Тургенев боится имени бога, а признает его. Но тоже наивно спокойный, в роскоши и праздности жизни.
Дорогой, в военном кителе старик помещик с бородой. «Переселенье». — «Нет, отобрать землю». — «Опять будет неровно». Дочь помещика: опять переделить. Только и сказала.
11 июля. [Ясная Поляна. ] Приехал домой: дворянин белесый, пальто без пуговиц.
Две бабы — солдатки деменские. Одна весело просит на хлеб пяти детям и хворосту.
Соня в припадке. Я перенес лучше, но еще плохо. Надо понимать, что ей дурно, и жалеть, но нельзя не отворачиваться от зла.
С Таней разговор о воспитанье занял до утра. Они не люди. […]
13 июля. [По дороге в Самарское имение. ] Выехали*. Жалко Соню. Миташа. Его отдали под суд за то, что он добрый и тщеславный*. Сидел с нами в 3-м классе хорошо и пошел в царские вагоны к Николаю Николаевичу младшему*.
На всех станциях и в народе волнение — царек едет. Ура кричат.
В Скопине толпа давит. Народ на крышах. То же в Ряжске. […]
15 июля. Оренбургская дорога. Солдат с артелью идет кирпич бить, 57 лет. Один с женой кормится. До 60 лет добью, способно получать стану. Как кормиться. Корсунского уезда. За 70 верст пришли, до парохода, проехали до Самары. Старики подбивали идти пеши, чтобы проездные деньги остались. Был спор об 38 копейках. Настаивали, чтобы лишних 30 верст пройти за 38 копеек. […]
Самарский хутор. Приехали домой.
16 июля. Ходил и ездил смотреть лошадей. Несносная забота. Праздность. Стыд.
22 [июля]. Мужики антоновские, побыли на четырех десятинах, 220 р. Не сговорились. Молокане. Я читал свое*. Горячо слушают. Толкование 6 главы прекрасно. Чудо Хананеянки, беснующаяся, заблудшая. Истиной исцелял. […]
[8 августа. ] Пропустил до 8 августа.
Переселения по маршруту, по указу. Драка с самовольной Ивановкой за покосы, на другую сторону пошли. Убил из ружья. Только хутора молоканские. Кантонные начальники — богачи из башкир и из русских потом.
Приехали, сели на землю в повозках. […]
13 [августа. По дороге в Ясную Поляну]. Выехал домой. У Власовых молотилка. Зависть племянника к дяде. Начальник станции: «Как на скотном дворе».
14 [августа]. В Самаре. Пругавин. Слезы Василия Ивановича.
15 [августа]. В Моршанске рабочие-татары. Больной. Записка. «Получено сполна — вези, куда им надо». Высадили, двойной платеж.
16 [августа]. В Ряжске: убит машиной. Каждый месяц — человек. Все машины к черту, если человек. (Добрый семьянин и милый Громов.)
17 [августа]. Ясная Поляна. Дома. Инженер делает мне честь в 3-м классе. Старик приказчик Михаила Юрьевича. Артельщик. Узнал Оболенского: они меня отдали, за чужую волость. (Как легко сделать зло.)
Поправил либеральный рассказ о въезде государя в Москву. Менгдены. Полон дом. Лихо за свои гроши. Дрожишь за Таню.
22 [августа]. Тургенев, Самарин. Самарин тронул. Антипатия — дурное воспитание. Тургенев cancan*. Грустно.
Встреча народа на дороге радостная.
23 [августа]. Кузминский говорил. Я редко был так тронут. Он стал другой человек.
[27 августа. ] 24, 25, 26, 27. Ничего не помню. Соня в Москве. Покупки. Делать то, что не нужно, — грех. Разбранить человека за портрет государя навыворот и гостиную купить одинаково безумно и ведет к злу.
28 [августа]. Не мог удержаться от грусти, что никто не вспомнил*.
29 [августа]. Морозова просит, чтобы отсрочили — дочь выдать, а потом в замок на 2 месяца. Об этом не толкую, а 60 р. Зайцева со свахой приезжали. «Надо пожалеть». «Нет, я мужа утопила: зачем худо делает. Мировой судья добрый, но не знает греха».
30 [августа]. Пытаюсь работать сначала — тяжело*. Нездоров.
31 [августа. Пирогово]. В Тулу. Деньги Сереже. Он вечно в том состоянии, в которое я приходил на мгновение в Самаре.
Гагарин наивно высказывает, что он гнет мужика, потому что может.
2 [сентября]. Вернулся из Пирогова. Умереть часто хочется. Работа не забирает.
3 сентября. Ходил на сходку об Александре*. Резуновы кричат. Из окна волоком высунулась старшинская бывшая. «Острожная. Каторжная». Нелюбви много в народе. […]
1881, 5 октября. [Москва. ] Прошел месяц — самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву*. Всё устраиваются. Когда же начнут жить? Все не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные! И нет жизни.
Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное. Мужики на это ловчее. Бабы дома, мужики трут полы и тела в банях, возят извозчиками.
Николай Федорыч — святой*. Каморка. Исполнять! Это само собой разумеется. Не хочет жалованья. Нет белья, нет постели.
Соловьев бедный, не разобрав христианство, осудил его и хочет выдумать лучше. Болтовня, болтовня без конца*.
Был в Торжке у Сютаева, утешенье*.
[1881.]* Жить в Ясной. Самарский доход* отдать на бедных и школы в Самаре по распоряжению и наблюдению самих плательщиков. Никольский доход* (передав землю мужикам) точно так же. Себе, то есть нам с женой и малыми детьми, оставить пока доход Ясной Поляны, от 2-х до 3-х тысяч. (Оставить на время, но с единственным желанием отдать и его весь другим, а самим удовлетворять самим себе, то есть ограничить как можно свои потребности и больше давать, чем брать, к чему и направлять все силы и в чем видеть цель и радость жизни.) Взрослым троим предоставить на волю: брать себе от бедных следующую часть самарских или Никольских денег, или, живя там, содействовать тому, чтобы деньги эти шли на добро, или, живя с нами, помогать нам. Меньших воспитывать так, чтобы они привыкали меньше требовать от жизни. Учить их тому, к чему у них охота, но не одним наукам, а наукам и работе. Прислуги держать только столько, сколько нужно, чтобы помочь нам переделать и научить нас и то на время, приучаясь обходиться без них. Жить всем вместе: мужчинам в одной, женщинам и девочкам в другой комнате. Комната, чтоб была библиотека для умственных занятий, и комната рабочая, общая. По баловству нашему и комната отдельная для слабых. Кроме кормления себя и детей и учения, работа, хозяйство, помощь хлебом, лечением, учением. По воскресениям обеды для нищих и бедных и чтение и беседы. Жизнь, пища, одежда все самое простое. Все лишнее: фортепьяно, мебель, экипажи — продать, раздать. Наукой и искусством заниматься только такими, которыми бы можно делиться со всеми. Обращение со всеми, от губернатора до нищего, одинаковое. Цель одна — счастье, свое и семьи — зная, что счастье это в том, чтобы довольствоваться малым и делать добро другим.
Записки христианина
Знаю, что за это заглавие меня осудят. Одни — большая часть — скажут: пора уж эти глупости оставить. Нынче все понимают, что христианская вера — одна из религий. А все религии — суеверия, то самое зло, которое больше всех мешает развитию человечества. Другие скажут: как христианина? Кто может сказать про себя: я христианин? Настоящий христианин прежде всего смиренен и не дерзает называть себя и печатно объявлять христианином. Пускай судят, я все-таки выставляю это заглавие. Я не боюсь осуждения в отсталости потому, что не только не считаю религию суеверием, но напротив, [считаю], что религиозная истина есть единственная истина, доступная человеку, христианское же учение считаю такой истиной, которая — хотят или не хотят признавать это люди — лежит в основе всех людских знаний, и не боюсь осуждения в гордости названия себя христианином, потому что я понимаю слова: я христианин — иначе, чем они обычно понимаются.
Слова: я христианин — обыкновенно понимаются или так: я крещен, следовательно, я христианин, или если тот, кто крещен, говорит, я христианин, то слова эти понимают так, что он как будто говорит то, что он, кроме крещенья, чем-то особенно христианин, и будто хвастается, что он исполнил учение, и действительно, говорит или бессвязные, или безумно-гордые слова. Но я понимаю слова: я христианин — иначе. Я был крещен и прожил жизнь язычником и потому не считаю христианином того, кто крещен, и говоря: я христианин, я не говорю ни то, что я исполнил учение, ни то, что я лучше других, я говорю только то, что смысл человеческой жизни есть учение Христа, радость жизни есть стремление к исполнению этого учения, и потому все, что согласно с учением, мне любезно и радостно, все, что противно, мне гадко и больно.
И я пишу это заглавие, потому что оно вполне выражает смысл моих записок.
Я прожил на свете 52 года и за исключением 14-ти, 15-ти детских, почти бессознательных, 35 лет я прожил ни христианином, ни магометанином, ни буддистом, а нигилистом в самом прямом и настоящем значении этого слова, то есть без всякой веры.
Два года тому назад я стал христианином. И вот с тех пор все, что я слышу, вижу, испытываю, все представляется мне в таком новом свете, что мне кажется, этот новый взгляд мой на жизнь, происходящий оттого, что я стал христианином, должен быть занимателен, а может быть, и поучителен, и потому я пишу эти записки. О том, как я сделался из нигилиста христианином, я написал длинную книгу*. В книге этой я подробно описал то, как я больше 30 лет прожил, пользуясь всеобщим уважением, даже похвалами за мои сочинения, совершеннейшим нигилистом. Слово нигилист у нас принято теперь употреблять в смысле социал-революционера; но я употребляю его в его настоящем значении — неверия ни во что, кроме мамона. Там, в этой книге, я описываю, как я таким нигилистом прожил 35 лет, как я написал в поучение русских людей 11-ть томов сочинений, за которые, кроме всякого рода восхвалений, получил тысяч полтораста денег, как я убедился, что не только ничему не могу учить людей, но решительно сам не имею ни малейшего понятия о том, что я такое, что хорошо, что дурно. И как, убедившись в своем незнании, не видя из него выхода, я пришел в отчаяние и чуть было не повесился, и как потом различными мучительными и сложными путями пришел к вере в христианское учение, и как я понял это учение. Книги этой, как мне говорили, напечатать нельзя. Если я хочу описывать, как дама одна полюбила одного офицера*, это я могу; если я хочу писать о величии России и воспевать войны*, я очень могу; если я хочу доказывать необходимость народности, православия и самодержавия, я очень и очень могу. Если хочу доказывать то, что человек есть животное и что, кроме того, что он ощущает, в жизни ничего нет, я могу; если хочу говорить о духе, начале, основах, об объекте и субъекте, о синтезе, о силе и материи, и, в особенности, так, чтобы никто ничего не мог понять, я могу. Но этой книги, в которой я рассказывал, что я пережил и передумал, я никак не могу и думать печатать в России, как мне сказал один опытный и умный старый редактор журнала. Он прочел начало моей книги, ему понравилось. Так как он просил моего сотрудничества, я сказал: «Так вот, напечатайте». Он поднял руки и воскликнул: «Батюшка! Да за это и журнал мой сожгут, да и меня с ним». Так я и не печатаю*.
Я знаю, что мысль, если она настоящая, не пропадет, и потому книгу я отложил: и знаю, что если там есть настоящая мысль, то правда со дна моря выплывает; и труд мой, если в нем правда, не пропадет.
Но пока это будет, мне кажется, что, сообщивши столько дребедени — и боюсь, что вредной и соблазнительной дребедени, — русским читателям, мне следует сообщить им и тот мой новый взгляд на мир, который дали мне мои христианские убеждения; тем более, что взгляд этот, мне кажется по тем беседам, какие мне случалось вести в эти два, три года, не очень распространен и небесполезен другим.
Записки мои будут именно записки, почти дневник тех событий, которые совершаются в моей уединенной деревенской жизни. Я буду писать только то, что было, ничего не прибавляя и не придумывая, буду писать так, как будто ожидаю, что все, что я пишу, будет проверяться и исследоваться. Время, место, имена, лица — все будет настоящее. Не буду выбирать событий и дней, а буду писать подряд то, что случается, по мере того как я буду успевать записывать.
8 апреля. Это я написал утром, не зная, что я буду писать под этим днем, и вот нынче, 9-го апреля, я описываю то, что было вчера. Вчера я, по обыкновению, после моих занятий в 5-м часу вышел на крыльцо. В 5-м часу те, кому нужно, знают, что я свободен, и ждут меня.
Так было и вчера. Выходя, я увидал мальчика старшего Ларивонова, он сидел на столбике ворот и, очевидно, ждал меня. И еще за дверью кто-то стоял. Видна была тень от палки, на которую опирался кто-то. Ларивонов мальчик — это старший из пяти сирот, оставшихся после мужика-солдата, кучера, нынче осенью умершего в остроге. Он ждал, чтобы попросить у меня 10 коп. на лапти.
Ларивон и его сироты вот что, 20 лет тому назад я был посредником. Не помню, как и через кого попал ко мне кучером только что вышедший в бессрочные артиллерист Ларивон, из деревни Троены, за восемь верст от меня. Тогда я воображал, что освобождение крестьян есть очень важное дело, и я весь был поглощен им, и Ларивон, которого я подолгу во время наших переездов видал перед собой на козлах, мало занимал меня. Помню, молодцеватый высокий парень-щеголь. Он завел себе шляпу с павлиньими перьями, красную рубаху и безрукавку. И помню, едем мы раз, встречаем баб, и они что-то сказали. Ларивон обернулся ко мне и, улыбаясь, говорит: «Вишь, говорят, не на барина смотреть, а на кучера». Помню я его тщеславную добродушную улыбку, помню всегдашнюю расторопность, исправность, веселость и, хоть и привычную нам, но в Ларивоне поражавшую смелость. Была пристяжная кавказская, гнедая, злая лошадь. Завизжит, бывало, и бьет нарочно в человека, когда попадает постромка за ногу или вожжа под хвост. Ларивон подходил к заду и, как с теленком, обращался с ней. Так он и отслужил у меня, пока я не уехал. И осталось у меня воспоминание славного, доброго, веселого и хорошего парня. Такой он и был.
В нынешнем году осенью пришла Тита Борискина (наш мужик) баба. Старушка старого завета, тихая, кроткая, ласковая, иссохшая в щепку, все желтое лицо в морщинках, морщинах и буграх между морщинами. «Что скажешь?» — «Да об своей горькой вдове — Ларивоновой. Дочь она мне, за Ларивоном была, кучером жил у вас».
Я вспомнил с трудом Ларивона.
— Умер он.
— Давно ли? Отчего помер?
— Бог его знает, сказывали, чахотка со скуки напала.
— Какая же скука, отчего?
— Как же, второй год в замке.
— За что? Ведь он, кажется, хороший был малый.
— Малый такой, что на редкость, одно — выпивал, — оно, вино, и сгубило. А теперь дочь осталась, а ее деверь гонит, дочь мою. А куда она сама пята пойдет? Самой двоих еще прокормить, а пятерых где ж прокормить. А наше дело тоже бедное.
Я стал расспрашивать, и вот что мне рассказала старуха. Ларивон после меня женился на ее дочери, завелся хозяйством с братом и жил хорошо. Но человек, уже оторванный от своей прежней жизни, изломанный солдатством, он дома уже был не жилец, и его опять тянуло в должность, чисто ходить, сытней есть, чай пить. Брат отпустил его, и он поступил в кучера к очень хорошему человеку, мировому судье. Опять, как со мной, он стал ездить, щеголять в безрукавке. И мировой судья был им доволен. Случилось раз, отправил мировой судья лошадей домой и велел покормить дорогой на постоялом. Ларивон покормил, но на четверку овса показал, а не скормил и выпил на эти деньги. Узнал это мировой судья. Как поучить человека, чтоб он таких дел не делал? Прежде были розги, теперь суд. Мировой судья подал товарищу прошение. Мировой судья надел цепь, вызвал свидетелей, привел к присяге кого следует, предоставил право защите, встал и по указу его императорского величества приговорил к меньшей мере наказания, пожалел человека, на два месяца в острог в г. Крапивну.
Я был в этом остроге и знаю его. Знаю запах этого острога, знаю пухлые, бледные лица, вшивые оборванные рубахи, параши в палатах, знаю, что такое для рабочих людей праздность взаперти день, два, три, каждый день с 24 часами, четыре, 5 — сотни дней, которые просиживают там несчастные, только думая о том и слушая о том, как отомстить тем, которые им отомстили. Туда попал Ларивон и снял поддевку, красную рубаху, надел вшивую рубаху и халат и попал в рабство к смотрителю. Зная тщеславие, самолюбие Ларивона, я могу догадываться, что с ним сделалось. Теща его говорила, что он и прежде пивал, но с тех пор ослаб. Несмотря на то, что он ослаб, мировой судья взял его опять к себе, и он продолжал жить у него, но стал больше пить и меньше подавать домой брату. Случилось ему отпроситься на престольный праздник. Он напился. Подрались мужики и одного прибили больно. Опять пошло дело к мировому судье. Опять цепь, опять присяга, опять по указу его императорского величества. И Ларивона посадили на 1 год и 2 месяца. После этого он вышел, уже вовсе ослабел. Стал пить. Прежде и выпьет — разума не теряет, а теперь стакан выпьет и пьян — не стали его уж и держать в кучерах. От работы отбился. Работал с братом через пень колоду. И только и норовил, чтобы где выпить.
Старуха рассказывала, как в последнее она видела его на воле.
— Пришла я к дочери. У них свадьба была у соседа. Пришли со свадьбы, легли. Ларивон просил 20 копеек на выпивку, ему не дали. Лег он на лавке. — Старуха рассказывала. — Только стал свет брезжиться, слышу, Ларивон встал, заскрипели половицы, пошел в дверь. Я еще окликнула его: куда, мол. Голоса не отдал и ушел. Только мы полежали, поднялась я. Слышу, на улице крик — вышла. Идет Ларивон и на спине борону несет, а вдовая дьячиха за ним гонит, кричит караул, замок в клети сломал, борону украл. А уж белый свет. Собрался народ, староста, взяли, связали, отправили в стан. Потом уж и дьячиха тужила, не знала, что будет за борону. Не взяла бы, говорит, греха на душу.
Повели Ларивона в острог. Суда дожидался шесть месяцев, вшей кормил, потом опять присяга, свидетели, права — и по указу его императорского величества посадили Ларивона в арестантские роты на 3 года. Там он не дожил трех лет, помер чахоткой.
Я вышел. Костентин*. Костентин — невысокий, скуластый мужик лет 35, с маленькой рыжеватой бородкой, большими глазами, ноздрями и губами. Костентин в нашей деревне хоть не самый бедный, есть беднее, но, на мой взгляд, самый жалкий мужик. Но жалок он только на мой взгляд. Сам же он никогда не признавал себя жалким. Только нынешний год в первый раз нужда сломила его. И он, всегда бодрый, чудной шутник, ослабел и нынче зимой, когда я, перебивая его шутки, допрашивал его подробнее об его положении, я видел на его круглых, больших, чудацких глазах — слезы. Но это было только раз. Он и теперь шутит.
— Что, Констентин?
— Да лошадь ободрал.
И он пытливо смотрит на меня, понимаю ли я его, понимаю ли, что для него возможны только два отношения к этому делу: зубоскалить, — это он готов, или дело — дать ему денег сейчас же, завтра на базаре, в чистый четверг, пока еще не запахали мужики, купить лошадь.
— Да вот, принес вам жизнь свою, на гулянках списал, — и он из кармана полушубка достал свернутую в трубку исписанную бумагу. Я просил его написать мне свою жизнь.
Вот это описание его жизни.
Жизнь диривенского мужика адинокава Кастюшки бедняка
Жил я с младости и ни видал себе радости. Прожил я, Кастюша, тридцать пять лет, и пиринес нужды, и нидостатков, и бет. Конца нет. Атец у меня прапал, как славна в глыбокою озира на дно упал, тичение таму времю прашло двадцать пять лет. Абнем ни писим и ни слуху никакова нет. А остался я с дедушкой жить.
Ну, дедушка мой так был крепка сирдит, что с ним никаким манерам нельзя было жить. Я ему хачю как нибудь угодить. А он меня схватить за волоса и давай мене как собаку калатить. Ну, тем больше я бегством спасался летнию парой у роще начевать, по дви ночи бросался: после етава дамой приду. Ежели брань начюю, то и еще начюю.
вот задумал мой дедушка мене Атделить, девить чистей сибе Аставил. А дисятую часть, панамарскую мне Атдал и совсем мене и здому прогнал, и ската дал лошадь и карову. А издених Хоть-ба один грош паганай на дорогу, у нас дених было многа. А и спастройки ни избы и ни двора и ни Аднаво кола, дедушка мне Атказал и слова ни сказал.
Я, Кастюша, подумал себя: дело моее дрянь, и гдежа Я буду жить? Ну всетаки, я. Кастюша, придумал, надо мне волосное правление к старшине ходить на своево дедушку попрасить, что-ба сваи Абиды придоставить. А мене без последствия ни оставить, ну старшина в скарам время в деревню явился и к маму дедушки и под явился, все права придоставил, чтобы мне дедушка избу с двором поставил. Ну-ть построит, ни посреди диревни. А на самом краю. Тольки я, Кастюша, и знаю летом чужую скатину отганяю. А зимой каждый день снег отгребаю, савсем занесло, что никак в избу не пралезишь. А вот прашло мне двадцать лет — стала мать камне приставать. Кастюшка тебе надомна женица. А Я матири говорю. На что мне женица, чтобы совсем разорица. Ну всё таки на том мать настояла. Жинился, жену себе узял нивиличка А круглоличка, толькя ужасна едовита, и ктомужа плодовита: каждый гот ражая, ну за то никаво ни Абижая. А остались дитей у нас только двоя, ну она и по етих каждый день воя, что галодная судьба на нас настала, что у нас хлеба куска ни достала вот те-та года. Я, Кастюша, проживал нужды и горя крепка нивидая. А — теперя Абносился кажный день. А буваю лапти разбиты, А галавашки полны снегом набиты, кажнию ночь тирпеть мне насила вмочь: кашляю — перхаю. А у ног своих угману ни знаю: так ломють, что ноги мои крепка простужены. Живу так богата, что ни дай бог никому: босаты имею и нагаты навешаны полны шосты. А холоду и голоду полны А-нбары, ну буду помнить осмидесятый год: даже нечевапаложить в рот, чють нисчиво проглядишь, то день и два ни емши сидишь. А исче у стале хлеба ни чюишь, то ни ужинамши начюешь.
Так он шутит всегда. И так он бедствует всегда. Мы давно с ним знакомы. Еще в 61 году он ходил в мою школу. Он был старше всех ребят, знал грамоте по-церковному, и потому с презрением относился к нашему учению, и ходил редко, и скоро совсем бросил. Это было в то самое время, когда дед его с матерью отпихнул от себя и не выделил ему части. Отец его правда что пропал. Отец его, Николай, тоже мне хорошо известный мужик, был старшим сыном деда Костюшки Осипа Наумыча. Это был здоровенный, ухватистый и смиренный мужик. Он в доме отца ворочал больше всех. Вздорный старик всячески терзал его и любил меньшого сына Петра. Когда Петр подрос, Николай рад был уйти на заработки. И жил в Москве и Питере лет 10, подавая все отцу, и изредка приходил домой. Николай был смирный, сильный, честный работник, и хозяева наперерыв звали его к себе и набавляли цены. Он в те времена, за 30 лет, присылал отцу по 70 р. В последнее служил он в царском саду в Гатчине, дорожки делал. Потом на весну видели его на кораблях. Он грузил пароходы и по рублю в день обгонял и высылал отцу. И потом пропал. Говорили, что помер, говорили, что в Америку уехал. Так вот лет 5 после того, как пропал Николай, старик дед отпихнул от себя сноху с сыном и не дал им никакой части из скотины и из денег. Во времена моей школы Костентин, 16–17 лет, обзаводился домом. И с тех пор жил так, как он описал в своей жизни.
После того, как я его часто видал в школе и говорил с ним, я лет через 15 в первый раз поговорил с ним — лет 5 тому назад. Я ездил верхом на лошади, чтобы не запотеть и не устать, купать свое тело в реке, в нарочно устроенной для этого купальне и возвращался домой. По дороге лесом я объезжал воза с сеном. Мужики везли на мое гумно скошенное, высушенное и собранное ими сено. И им не только не казалось странно отвезти ко мне и уложить хорошо мне в стога половину того сена, которое вырастил бог и за которым они с своими бабами и с недоедающими детьми от зари до зари потели дней 15; но они даже с особенной радостью везли это сено, зная, что после этого им можно будет свезти и свое. И, судя по выражению их лиц и по тому, как они здоровались со мной, видно было, что им нисколько не противно смотреть на мою гладкую, сытую лошадь и на мое толстое брюхо, но что они даже с удовольствием встречают меня. И мне тогда было это не стыдно, а от их добродушных приветов стало весело. Лошадь моя пожалась от кустов и надавила на воз и на мужика, прижавшегося к возу.
— Здравствуй, Лев Николаич.
— А, Константин!
Рыжая бородка, усики, слабо растущие, как всегда у недоедающих людей, мало изменили его лицо. Те же чудные, играющие глаза, тот же широкий рот и толстый мослак скул, колен, локтей, лопаток, и развалистая походка.
— Давно мы не видались. Как поживаешь, Костснтин?
— Ничего, живем, хлеб жуем.
— Что же, дети у тебя?
— Как же, трое.
Я знал, что он одинокий, и мне хотелось узнать, подросли ли уже помощники. Лошадь уже проходила мимо воза. Чтоб спросить скорее, я сказал: что ж, подсобляют? Я уже объезжал его лошадь, так что только он мог успеть дать только один короткий ответ.
— Оба пола краюшки подсобляют, — крикнул он мне своим чудным, громким голосом.
У него были три девочки: 8, 6 и 3 лет. Так он шутил и до сих пор шутит. Но последнее время шутка осталась та же, но к шутке примешалась горечь.
В нынешний год он шутит так же, но видно, что нужда подъела его, что только ухватка держит его. Он трещит. Он знает, что он слаб, и боится, как бы не ослабеть.
— Ну что, как ты живешь? — спросил я, когда вышел на крыльцо.
— Да плохо, Лев Николаич.
Я нынче зимою часто видал Костентина и знал, что он доел свой хлеб до рожества и пробивался кусочками, которые он скупал, когда были деньги, у нищих, знал, что и корм скотине от дождей осенних и от мышей, переевших у нас всю солому, дошел у него на второй неделе, и он бился из корму, занимая и покупая, чтобы прокормить корову, лошадь и двух овчонок, знал и то, что ему, как и многим одиноким мужикам, в нынешнюю зиму было хуже всего то, что пешей работы не было. Лошадь без корма еле жива, не возит, а пешей работы не было. Если и есть какая, то надо далеко от дома уйти, а дома некому скотину кормить, снег отгребать. Я знал это и на днях видел, что на шоссе бьют камень. Одного из таких же одиноких бедняков, Чирюкина, я вчера видел на камне. Он тоже безлошадный, зиму сидел без дела, и как только открылась работа, взялся за нее. Я вчера видел его, как он сумерками уже по воде шел домой с камня. Он шел веселый. Все-таки кончилась скука — сидеть без дела. Обгоняет он на камне, смотря какой попадет камень, от 30 до 40 копеек, работая без отдыха с утра до вечера. Дома у него с старухой пять душ. Своего хлеба давно нет. Картошек нет. Коровы нет. Последнее молоко, то, которое было в грудях жены Чирюкина, увезли в Харьков в кормилицы сыну товарища прокурора судебной палаты*. Благодаря тому, что продали это молоко товарищу прокурора судебной палаты и променяли на хлеб, семья еще жива. А то, если бы пяти душам дать вволю хлеба, то они съедят 12½ фунтов. 12½ фунтов стоят 40 копеек. Стало быть, теперь он не заработает на хлеб; что ж бы было, когда не было работы? Но он все-таки идет домой веселый, все-таки делает все, что можно делать, чтоб кормиться. Я спрашивал у мужиков вчера: весь ли роздан камень. Мне сказали, что выкрещенный жид, который занимается этим делом от земства, не весь еще роздал. И потому вчера еще я подумал о Костентине и, по старой нигилистической привычке мысли, в душе попрекнул Костентина, что он не работает на камне. И теперь, когда он сказал, что плохо, подумал, что дело в недостатке хлеба, и сказал ему: а что, я узнал, камень не весь роздан, что ты не пойдешь?
— Куда я пойду? Мне уж не то от скотины, от бабы нельзя отойти. С часу на час ходит. Да и вдобавок того ослепла.
— Как ослепла?
— А бог ее знает. Вовсе не видит. На двор вывожу.
Я молчал.
— Вдобавок того лошадь последняя околела.
— Что ты, когда?
— Да вот третьего дня ободрал. — Он шутливо перекосил рот. Но с тех пор, как он раз при мне упустил слезы, я уж знал, что значит эта шутка — надо шутить. Если не шутить, то надо или красть, или повеситься, или раскиснуть и реветь, как баба, говорил его взгляд, — а тошно.
— Что ж, плохо твое дело.
— Да уж так плохо, что и не знаю, что делать, добро бы с осени, я бы и говорить не стал. А то зиму кормил. У себя, у детей урывал, посыпал. — И он начал рассказывать, как у ней кострец сшиблен, болел, и как до нутра пропрела, так и корм перестала есть, повалилась, и пар вон.
Хотя после разговора с Константином еще были другие события, которые нужно описать, а я только вечером пошел к Константину, я теперь же расскажу все относящееся к Константину, чтобы уже покончить с ним.
Вечером, часов в 7, я пошел к Константину. Он живет на самом конце деревни. Деревня улицей. Он живет на той стороне деревни, которая дальше выдалась в поле, так что против него никого нет. Рядом с ним избушка без двора. В ней живет слепой Резунов с дурочкой-женой и двумя сиротами Шинтяковыми. Мальчик водит слепого. Девочка печку топит, печет, варит. Соседи нищие, но они-то вызволяют чаще всего Костюшку. За ними дворовые, тоже 9 человек: один старик ланей на 9 р. жалования кормит, да сын, самоварщик, больной, второй год в больнице — ноги болят. Третий двор Курносенкова, 12 душ, 2 работника, редко печеный хлеб едят, а то все из сумы. Четвертый двор Шинтякова. Стоит разломанный и пустой. За этими идут мужики исправные: Бочаровы. Осип Наумыч, Матвей Егоров. Но тут с края подряд пять дворов бедноты и на самом краю Костюшка. Во всех дворах был свет, только темно было в заброшенном Шинтяковском да в Костюшкином. Что в Костюшкиной избе не было огня, меня не удивило. Это всегда так было, почти всю зиму, и я знал отчего.
Избу дед ему поставил старую. Теперь прошло 20 лет, она сопрела на отделку. Нынче по зиме из дверной стены выпрело в углах берно* и вывалилось. И всю стену отозвало в сени, и потолочина завалилась, чуть не убило. Костюшка забил дыры досками. И прежде изба не держала тепла, а после этого уж вовсе выстывать стала. Они всю зиму по два раза топили. И света не жгли. Как вечер, уберутся, так на печь под кафтаны и шубы. Так было и нынче. Хоть в избе и тепло было, потому что на дворе тепло; но уж они так привыкли. Да и керосин незачем жечь, прясть, ткать нечего. Я осмотрел и ощупал палкой дорожку через осевшие сугробы и подошел к окну. В избе говорил что-то женский голос. Что-то об бабушке какой-то. Я не разобрал и постучал в окно. От снега и звезд было светло. Кто-то из них поглядел в окно и, видно, узнал меня. Сейчас. Я подошел к двери и ждал. Ждал я долго, пока они не зажгли огонь. Потом вышел Константин, босиком, в рубахе, и впустил меня. Я вошел, поздоровался и сел к лицевой стене между окон, об угол стола. Костюшка сел к дверной стене у торца стола. На столе, чисто сметенном и соскребенном, горела лампочка без стекла. Направо передо мной две девочки лежали ничком на печи, облокотившись головенками на руки, глядя на меня. Надежда, Костюшкина жена, стояла налево от меня в отворенной двери чулана у устья печи.
Надежда — женщина мелкая, складная и миловидная, когда она порожня. Несмотря на то, что всегда я видал ее в грязной черной рубахе и в одной и той же отрепанной кубовой куртушечке, она, когда порожня, не жалка, а баба как баба, но на брюхатую на нее жалко смотреть. Брюхо у нее большое, и видно, что она самка хорошая. Она ходит легко, бережет свое брюхо. Все питанье, все силы организма идут, очевидно, туда, в брюхо, зато уж все остальное платится за это. Особенно лицо. Лицо худое, вытянутое, с морщинами продольными около рта и желтое, как мокрый песок. В губах тоже что-то необыкновенное, как будто губы усохли, а зубы выросли, как у белки, длинные, острые, узкие. Что-то смертно-страшное и жалкое было и прежде. Но теперь и глаз нет. Глаза мутны, глядят и не видят. Я так долго ждал, вероятно, потому что она надевала свою ту же синюю куртушку и платок на голову.
И когда она стояла вдалеке, то казалась баба как баба. Она в то время стояла в чулане и только после, когда разговор наш оживился, вышла, ощупывая косяк двери и печку, к хорам и стала поближе к нам у печки, под детьми. Константин с своей обычной развихляйной развязностью сидел у стола, положив на него оба локтя, и то почесывал руками в голове, то делал обычные жесты.
Сперва мы завели разговор о лошади.
— Кабы с осени издохла, и знал бы не кормил, а теперь что будешь делать? Работать не на чем. Люди поедут пахать, что станешь делать?
— Да она стара была?
Года небольшие. Я ее выменил, только окраинки вырезала. Вдобавок лошадь хороша. Это у меня девятая лошадь с тех пор, как меня дед отделил. И против нее не было ни одной. И возить, и пахать, и ухватка, и мягка, и вдобавок смирна. Девчонку пошлешь, и та, бывало, обротает, приведет. А это по нашему делу дорогого стоит. Что станешь делать? Кабы было с чего потянуть? А то весь тут. Как сшибешься, уж не выдерешься. Спасибо деду, отделил. Вон хоромы какие построил. Скопил таракана да жуковицы, а посуды крест да пуговицы. Кажется, помрет, и понесут, и не остановлю перед двором. Бог с ними. Одному сыну 700 рублей в банку положил, а мне ничего. Бог с ним. Псалтырь позовут читать над ним — не пойду. Разве мой отец не наживал? Больше всех ворочал. Вот и наградил.
Надежда вступилась.
— Обидно. Терпишь, терпишь, да и согрешишь. Только господь не велел зло помнить, а то правду что помянуть не стоит. Бог с ним, не разжился деньгами-то. Дядя Петр и так говорит: пора издыхать давно.
— Не может быть.
— До двух раз мне говорил. Тоже житье и старику нехорошее, — заговорила Надежда. — Намедни пришел хлеба просить. Что же, дедушка, или дома не кормят? — Не кормят, друг. Что же, садись, дедушка, хлебушка есть, съел кусочек такой-то с солью. Их не разберешь.
Я переменил разговор и спросил Надежду об ее глазах:
— Что же это с тобой сделалось?
— Глазушки потеряла, свету не вижу. Вот хоть палкой в глаз ткни — не вижу.
1882
1882. Декабря 22*. Опять в Москве*. Опять пережил муки душевные ужасные*. Больше месяца. Но не бесплодные.
Если любишь бога, добро (кажется, я начинаю любить его), любишь, то есть живешь им — счастье в нем, жизнь в нем видишь, то видишь и то, что тело мешает добру истинному — не добру самому, но тому, чтобы видеть его, плоды его. Станешь смотреть на плоды добра — перестанешь его делать, мало того — тем, что смотришь, портишь его, тщеславишься, унываешь. Только тогда то, что ты сделал, будет истинным добром, когда тебя не будет, чтобы портить его. Но заготовляй его больше. Сей, сей, зная, что не ты, человек, пожнешь. Один сеет, другой жнет. Ты, человек, Лев Николаевич, не сожнешь. Если станешь не только жать, но полоть — испортишь пшеницу. Сей, сей. И если сеешь божье, то не может быть сомненья, что оно вырастет. То, что прежде казалось жестоким, то, что мне не дано видеть плодов, теперь ясно, что не только не жестоко, но благо и разумно. Как бы я узнал истинное благо — божие — от неистинного, если б я, человек плотский, мог пользоваться его плодами?
Теперь же ясно: то, что ты делаешь, не видя награды, и делаешь любя, то наверно божие. Сей и сей, и бог возрастит, и пожнешь не ты, человек, — а то, что в тебе сеет*.
1883
1883. 1 января*. [Москва. ] Когда только проснусь, часто мне приходят мысли, уяснения того, что прежде было запутано, так что я радуюсь — чувствую, что продвинулось.
Так на днях — собственность. Я все не мог себе уяснить, что она. Собственность, как она теперь — зло. А собственность сама по себе — радость на то, что тем, что я сделал, добро. И мне стало ясно. Не было ложки, было полено, — я выдумал, потрудился и вырезал ложку. Какое же сомненье, что она моя? Как гнездо этой птицы ее гнездо. Она хочет им пользоваться как хочет. Но собственность, ограждаемая насилием — городовым с пистолетом, — это зло. Сделай ложку и ешь ею, но пока она другому не нужна. Это ясно. Вопрос трудный в том, что я сделал костыль для моего хромого, а пьяница берет костыль, чтобы ломать им двери. Просить пьяницу оставить костыль. Одно. Чем больше будет людей, которые будут просить, тем вернее костыль останется у того, кому нужнее.
Нынче. Гудович умерла. Умерла совсем, — а я и мы все умерли на год, на день, на час. Мы живем, значит, мы умираем. Хорошо жить, значит, хорошо умирать. Новый год! Желаю себе и всем хорошо умереть.
1884
[Март. Москва. ] Мужик вышел вечером за двор и видит: вспыхнул огонек под застрехой. Он крикнул. Человек побежал прочь от застрехи. Мужик узнал своего соседа-врага и побежал за ним. Пока он бегал — крыша занялась, и двор и деревня сгорели*.
[…] Я сейчас перечел среднюю и новую историю по краткому учебнику.
Есть ли в мире более ужасное чтение? Есть ли книга, которая могла бы быть вреднее для чтения юношей? И ее-то учат. Я прочел и долго не мог очнуться от тоски. Убийства, мучения, обманы, грабежи, прелюбодеяния, и больше ничего.
Говорят — нужно, чтобы человек знал, откуда он вышел. Да разве каждый из нас вышел оттуда? То, откуда я и каждый из нас вышел с своим миросозерцанием, того нет в этой истории. И учить тому меня нечего.
Так же как я ношу в себе все физические черты всех моих предков, так я ношу в себе всю ту работу мысли (настоящую историю) всех моих предков. Я и каждый из нас всегда знает ее. Она вся во мне, через газ, телеграф, газету, спички, разговор, вид города и деревни. В сознание привести это знание? — да, но для этого нужна история мысли — независимая совсем от той истории. Та история есть грубое отражение настоящей. Реформация есть грубое, случайное отражение работы мысли, освобождающей человечество от мрака. Лютер со всеми войнами и Варфоломеевскими ночами не имеют никакого места между Эразмами, Boétie, Rousseau и т. п.
[6 марта. Москва. ] Переводил Лаоцы*. Не выходит то, что я думал. Был Озмидов. Он бодро и бедно живет в деревне с семьей. Делал по деревне складчину для бедняка в параличе с семьей.
Не спал ночь. Лег перед обедом. После пошел походить и к Усову. Здоровый, простой и сильный человек. Пятна на нем есть, а не в нем. Он поддержал мое отвращение к обществу формальному, к которому приглашает письмо Щепкина*. Потом ходил по переулку. Приехали Фортунатовы, Юрьев, Лопатины. Бесполезно и недостойно провел вечер. Вечер читал Сальяс о Кудрявцеве — прекрасно*. Грехи: праздно и сластолюбиво весь проведенный день. Антипатия к Ф.*. Письма: от Щепкина — неясно и нехорошо по мотивам. От дамы, имевшей видения. От Ковалевского, харьковского психиатра.
[9 марта. ] Проспал до 12-го. Пришел Гуревич, эмигрант. Еврей. Хочет найти общее соединительное евреев и русских. Оно давно найдено. Иногда я грущу, что дрова не горят. Точно если бы они загорелись при мне, это бы не было явным признаком, что горят не дрова, а поджожки, и они не занялись. Почитал о Китае и поехал верхом по городу. Все работают, кроме меня. Вечер слабость. Сапожник не пришел*, был в бане и читал Лаоцы. Перевести можно, но цельного нет. […]
[10 марта. ] Встал рано, убрал комнату. Андрюша пролил чернила. Я стал упрекать. И, верно, у меня было злое лицо. […]
Читал Эразма*. Что за глупое явление реформация Лютера. Вот торжество ограниченности и глупости. Спасение от первородного греха верою и тщета добрых дел стоят всех суеверий католичества. Учение (ужасное по нелености) об отношениях церкви и государства могло только вытечь из глупости. Так оно и вытекло из лютеранства. […]
[11 марта. ] Встал рано, убрал комнату. Дети сами прибежали. Читал Эразма, кончил. […]
Учение середины Конфуция — удивительно*. Все то же, что и Лаоцы, — исполнение законов природы — это мудрость, это сила, это жизнь. И исполнение этого закона не имеет звука и запаха. Оно тогда — оно, когда оно просто, незаметно, без усилия, и тогда оно могущественно. Не знаю, что будет из этого моего занятия, но мне оно сделало много добра. Признак его есть искренность — единство, не двойственность. Он говорит: небо всегда действует искренно. […]
[12 марта. ] Встал поздно. Комната не убрана. Мы с детьми убрали. Уже не совестно выносить. […] Споры Тургенева с Урусовым и Михайловского с Чертковым, в которых последние без усилия, с состраданием оставались победителями*. После обеда (воздержного) пошел за колодками и товаром. Начал шить один, пришел Усов и просидел до 3½ часов. Я очень устал. Знания, ум огромные, но как ложно направлены. Точно злой дух отчертил от него всю плодотворную область мысли и запретил ее. […]
15 марта. Проснулся в 8, хотел заснуть и заснул до 11. Книжка Голохвастова против Энгельгарта. Кое-что хорошо, но как ужасна полемическая злость. Это урок для меня, и мне противна злость моей последней*. Надо бы написать тоже понятно и кротко. Мое хорошее нравственно состояние я приписываю тоже чтению Конфуция и, главное, Лаоцы. Надо себе составить круг чтения: Эпиктет, Марк Аврелий, Лаоцы, Будда, Паскаль, Евангелие. Это и для всех бы нужно*. […]
[16 марта. ] Встал поздно. […] После обеда сходил к сапожнику. Как светло и нравственно изящно в его грязном, темном угле. Он с мальчиком работает, жена кормит. Пошел к Сереже, брату. Там не дослушал Костеньку, раздражил его. (1)*. С Таней шел домой и молчал. Тяжело мне было молчание. Так далека она от меня. И говорить я еще не умею. Да, за обедом Сережа грубо, сердито заговорил, и сказал ему с иронией (2). Вечер начал шить, пришел сапожник, потом пришли Маликов и Орфано. Я бы мог быть лучше. Надо было молчать. Как это просто и трудно. Пришел Сережа, брат. С ним хорошо говорили. Письмо прекрасное от Черткова. Да, в разговоре с Орфано я сказал: вы не знаете моего бога, а я знаю вашего, это оскорбило (3).
[17 марта. ] Уборка становится приятной и привычной. Пришел Александр Петрович*. Я был очень рад, и хорошо. Он говорит, что перенес много нужды в самое тяжелое время зимой, и что же? Он бодр, здоров и узнал, общаясь с ними, добрых людей, узнал самое важное, то, что есть добро в людях. Читал Агасфера*. Плохо. На мысль хорошую, но не новую нанизан поэтический набор. Поехал верхом. Очень не в духе был за обедом, но держался. Стал шить, все сломал, и пришел Орлов. Рассказ его о смерти Ишутина и Успенского. Ишутина приговорили к смерти. Надели мешок, петлю, и потом он очнулся (он говорит) у Христа в объятиях. Христос снял с него петлю и взял его к себе. Он прожил 20 лет на каторге (все раздавая другим) и все жил с Христом и умер. Он говорил, умирая: я переменю платье*. […]
[19 марта. ] Поздно встал. Читал Конфуция и записывал. Религиозное — разумное объяснение власти и учение о нем китайское было для меня откровением. Если богу угодно, я буду полезен людям, исполнив это. Во мне все больше и больше уясняется то в этом, что было неясно. Власть может быть не насилие, когда она признается как нравственно и разумно высшее. Власть как насилие возникает только тогда, когда мы признаем высшим то, что не есть высшее но требованиям нашего сердца и разума. Как только человек подчинился тому — будь то отец, или царь, или законодательное собрание, — что он не уважает вполне, так явилось насилие. […]
20 марта. Поехал верхом к Мансурову. Обедали одни. Лег. Пришла Дмоховская. Она очень возбуждена. Принесла статью о центральной тюрьме*. Потом Карнович. Купчиха-болтунья. Пережила весь обман жизни. И не видит нужды в этом. Потом Анна Михайловна с дочерью*. Хорошо беседовал с ними. Я говорил о значении обхождения: уважения к хорошему и презрения к дурному, в самом широком смысле. И сам уяснил себе обязанность исполнения этого больше, чем прежде. Главное без компромиссов. […]
[21 марта. ] Поздно читал Конфуция по переводу Ледж. Почти все важно и глубоко. Вышел поздно купить парусину и зашел к Фету. Хорошее стихотворение о смерти*. Соловьева статья только отрицает народничество*. Я слаб. Согрешил, не взяв статью Соловьева. Заснул после обеда. Очень дурно себя чувствовал; читал английскую шутку, скучную, на 350 страницах. Сережа, брат, сидел, горячился, я не ошибся. Поехал за Таней. Не взошел к Капнистам, ходил по набережной. Кучера стоят по пять часов и ругают, а они от скуки смеются над драмой и поэзией. Не досадовал. Это хорошо. Но желал похвастаться и чтоб меня ругали. Это (2). Писем нет. Не спал ночь.
[23 марта. ] Утро как всегда. Сел за перевод Урусова*. Неровен. Часто очень нехорошо. Не знаю что, текст или перевод? Вероятнее, текст. Надо писать, т. е. выражать мысли так, чтобы было хорошо на всех языках. […]
[24 марта. ] Утро как всегда. Поправлял перевод. Чтение подняло меня. Мне нужно читать и это, свое. И еще нужнее из этого выбрать существенное для себя и для всех, как и говорит Чертков. Приехал Ге. Едет в Петербург выручать племянницу*. Он ушел еще дальше на добром пути. Прекрасный человек. Сын его интересен. […]
[26 марта. ] Как всегда. С старшими детьми говорил за кофе. Еле, еле хорошо. Докончил перевод. Иду отнести книги. Чувствую необходимость большей последовательности и освобождения от лжи — юродство — да. В библиотеке Николай Федорович* как будто чего-то хочет от меня. Мне спокойно с ним. Зашел к Дмоховской.
[…] Пришли Златовратский и Маракуев. Златовратский программу народничества. Надменность, путаница и плачевность мысли поразительна. Я сказал довольно правдиво свое мнение, но не совсем (2). Потом о его сочинениях просто солгал, что читал (3). Вечером набрел на девушку 15 лет, пьяную, распутную. И не знал, что делать (4). Читал Кривенко: «Физический труд»*. Превосходно.
Был у Урусовых. Не ясны совсем, но хороши.
[27 марта. ] Утро, как всегда. Александр Петрович рассказал про умершую у них женщину с голода. Приехал Юрьев. Надо еще решительнее избегать болтовни (1). Пошел в полицию. Сказали, что девки часто моложе 15 лет. Колокола звонят, и палят из ружей, учатся убивать людей, а опять солнце греет, светит, ручьи текут, земля отходит, опять бог говорит: живите счастливо. Оттуда пошел в Ржанов дом к мертвой, был смущен, не знал, что сказать (2). Встретил Бугаева и позвал к себе. Тщеславие — чтобы он понял меня. А выйдет праздная, полусумасшедшая болтовня (3). Был раздражен и навязывал непричастным людям свое отчаяние (4). Надо самому делать, а не плакаться. Нездоровится, лихорадка и зубы. Заснул после обеда. Приехали мертвецы Шидловские. Надо уходить (5). Написал письма Страхову, Урусову, Черткову. От него хорошее письмо.
[28 марта. ] Всю ночь напролет не спал, встал в 6-м утра. Убрал комнату, не неприятно все-таки. Шил сапоги, ходил к Лопатину и на почту. Дремал, читал Кривенко. (Как русским дороги основы нравственности, без сделок.) И Дюма болтовню. Письмо от Черткова, и написал ему. Фет пришел заказывать сапоги*. Я слушал его и прекращал попытки своего разговора. Была минута, что мне его жалко было, как больного. Вот кабы чаще. Несмотря на бессонницу и зубную боль, безвредно спал. Сколько в голове и сердце, но повеления бога определенного не слышу.
[29 марта. ] Встал в 7. Пошел к школьникам. Пил кофе. Читал «Похождения Ярославца»*. Неправда, чтобы книги в народе Пресновых и др. были дурны. Они лучше тех, которые им делают. Поехал верхом. Дома не дружелюбно; и то радость. Читал Конфуция. Все глубже и лучше. Без него и Лаоцы Евангелие не полно. И он ничего без Евангелия. Пошел в школу и на Никольскую, купил книг. Побеседовал с Маковскими.
[…] Две вещи мне вчера стали ясны: одна неважная, другая важная. Неважная: я боялся говорить и думать, что все 99/100 сумасшедшие. Но не только бояться нечего, но нельзя не говорить и не думать этого. Если люди действуют безумно (жизнь в городе, воспитание, роскошь, праздность), то наверно они будут говорить безумное. Так и ходишь между сумасшедшими, стараясь не раздражать их и вылечить, если можно. 2) Важная: Если точно я живу (отчасти) по воле бога, то безумный, больной мир не может одобрять меня за это. И если бы они одобрили, я перестал бы жить по воле бога, а стал бы жить по воле мира, я перестал бы видеть и искать волю бога. Таково было твое благоволение. Чертков огорчил меня, но ненадолго (1).
[30 марта. ] Лег в 11 и встал опять рано. Ходил на чулочную фабрику. Свистки значат то, что в 5 мальчик становится за станок и стоит до 8. В 8 пьет чай и становится до 12, в час становится и до 4. В 4½ становится и до 8. И так каждый день. Вот что значат свистки, которые мы слышим в постели.
[…] Пришли в голову «Записки несумасшедшего»*. Как живо я их пережил — что будет? Г-жа Бер прислала свой перевод — прекрасный, — читал*. Тщеславно, сказал Леониду, что был болен от смерти женщины (2). Как удивительно, что гнева — нет за месяц почти.
[31 марта. ] Не спал до 2-го, но встал в 7. Пошел в слесарную школу. Лучшее заведение в России. Если бы не вмешательство правительства и церкви. Читал «Отечественные записки». Болтовня Щедрина*. Статья о сумасшествии героев*. Инерция — психологический закон. Всякое нововведение больно. Вывод ясен. Два закона: инерции и движения. Сумасшествие, то есть ненормальность, есть одно из двух — равноденствующая из двух его нормальность.
Лишнее говорил о преподавании математики директору школы (1). Читал немецкий перевод. Очень хорош. Пошел к Леониду. Там Дьяков с дочерью. Мне очень грустно. Дома обед с Костенькой очень тяжелый. Лег, заснул. Пришел Стахович. Шил башмак. Чай пить. Остался один с ней. Разговор. Я имел несчастье и жестокость затронуть ее самолюбие, и началось. Я не замолчал. Оказалось, что я раздражил ее еще третьего дня утром, когда она приходила мешать мне. Она очень тяжело душевно больна. И пункт это беременность (2). И большой, большой грех и позор. Почитал Конфуция и ложусь поздно. […]
2 апреля. Встал поздно. Комната уже была убрана. Говорил с Урусовым до 4. Она еще мягче — болезненная и смирная. Пошел к Вольфу. Обедал. Пришел Сережа — сначала раздраженный, потом мягкий и добрый. Шил сапоги. За чаем поговорили тихо и лег в 12½. Дурно то, что ничего не делал. Она забыла про свою злость и рада была, что я простил. И то лучше. Безумная жизнь страшно жалка.
[3 апреля. ] Встал в 10. Читал «Архив психиатрии». Молитва — обычное сумасшествие*. История богатого воспитанника пажеского корпуса. Coit‘us, 13 лет разврат. Милая, нежная натура и ее падение и погибель.
Пришел Озмидов. Глаза у него болят. Он немного ослабел. Не знаю, хорошо ли, что слишком откровенно говорил ему о своем положении.
[…] Дома Репин. С ним очень хорошо говорил, за работой*. Пришел Сережа из бани. Не дал спать, но хорошо, мягко говорил. Не оскорблялся.
[4 апреля. ] Встал поздно. Зубы болят и лихорадка. Не могу работать головой. И не надо. Почитал и стал шить. В 3-м поехал в музей. Стороженко встретил, он помнит работу. На Кузнецкий мост. Жандармы ограждают покупателей. Оттуда на Дмитровку. Репина картина не там*. Дома лежал. Зубы и лихорадка. Вечер работал до второго часа сапоги.
Очень тяжело в семье. Тяжело, что не могу сочувствовать им. Все их радости, экзамен, успехи света, музыка, обстановка, покупки, все это считаю несчастьем и злом для них и не могу этого сказать им. Я могу, я и говорю, но мои слова не захватывают никого. Они как будто знают не смысл моих слов, а то, что я имею дурную привычку это говорить. В слабые минуты — теперь такая — я удивляюсь их безжалостности. Как они не видят, что я не то что страдаю, а лишен жизни вот уже три года. Мне придана роль ворчливого старика, и я не могу в их глазах выйти из нее: прими я участие в их жизни — я отрекаюсь от истины, и они первые будут тыкать мне в глаза этим отречением. Смотри я, как теперь, грустно на их безумство — я ворчливый старик, как все старики.
Из разговора с Олсуфьевым вышел следующий остаток: если верить в то, что цель и обязанность человека есть служение ближнему, то надо и доходить до того, как служить ближнему, — надо выработать правила, как нам, в нашем положении, служить? А чтобы нам, в нашем положении, служить, надо прежде всего перестать требовать службы от ближних. Странно кажется, но первое, что нам надо делать, — это прежде всего служить себе. Топить печи, приносить воду, варить обед, мыть посуду и т. п. Мы этим начнем служить другим.
[5 апреля. ] Встал поздно — вял. Та же грусть. Теперь особенно, при виде всех дома. Полотеры чистят, мы пачкали. Я опустился и стал менее строг к себе. Не замечаю своих грехов. Подбодрись. Вчера письмо от Черткова. Репин говорил, что и Крамской назвал его сумасшедшим. Читал «Психиатрию», о помещике Я., жившем с своей дворней. Письма от Мирского и стихи*. Поразительно. Он христианин. Стихи прекрасны по содержанию и 13-тилетнего мальчика по форме. Пришел Страхов. Он похудел. Та же узость и мертвенность. А мог бы проснуться. Пошел погулять. Обед. Целый обед, кроме покупок и недовольства теми, которые нам служат, — ничего. Все тяжелее и тяжелее. Слепота их удивительна. После обеда, пришел Ронжев — скучно. Чертков. Еще тверже и глубже запахал. Он ест с людьми, но люди у него служащие. Потом пришел Страхов и пришла Таня — отвратительно. С Страховым разговор о том, что нельзя следовать правилу, — то есть нет правил. Вмешательство безумное, бестолковое в разговор, и нельзя даже показать этого безумия. Если показать, гнев и обвинение в личной злобе. Если не показывать, то уверенность, что так и надо, и падение все глубже и глубже. Жду выхода.
[7 апреля. ] Поздно. Лихорадка. Читал драму Северной*. Прекрасное знание народа и языка и углубление в самую жизнь, но психологически слабо. Иду на выставку*. Прекрасно Крамского*. Репина — не вышло*. Говорил с Третьяковым порядочно. Дома. Страхов. Пошел к Дмоховской. Высказал, что надо. Толпы бегут к заутрене. Да, когда будут бегать хоть не так, но в 1/100 к делу жизни! Тогда не могу представить жизни. Переставлять это — задача — радостное дело жизни. Страшно трудно — невозможно, и одно только возможно. С Страховым разговор о дарвинизме. Мне скучно и совестно. Он — бедный — серьезно, разумно опровергает — бред сумасшедших. Напрасно и бесконечная работа. Напрасно потому, что они безумны тем, что не верит разумным доводам, и бесконечная работа потому, что сумасшествиям нет конца. […]
[9 апреля. ] Поздно читал Страхова статью*. Праздно, на все глупости не надоказываешься. А анализировать приемы науки не нужно, кто любит науку, тот их знает, как знает законы равновесия человек, который ходит. Начал Менгце*. Очень важно и хорошо. «Менгце учил, как recover[86], найти потерянное сердце». Прелесть.
Очень важно. Стал выговаривать Тане, и злость. И как раз Миша стоял в больших дверях и вопросительно смотрел на меня. Кабы он всегда был передо мной! Большая вина, вторая за месяц. Все ходил около Тани, желая попросить прощения, и не решился. Не знаю, хорошо или дурно.
Пошел к Фету. Прекрасно говорили. Я высказал ему все, что говорю про него, и дружно провели вечер. Вечером Адам Васильевич*. Играли в винт. Глупо. Опять захватывает поганая, праздная жизнь.
Письмо от Черткова — прекрасное*.
[10 апреля. ] Поздно. Даже не помню утра, — так оно неважно. Да, утром зашел узнать адрес. За обедом Кислинский. После обеда ушел к Армфельд*. На Петровке почувствовал страшную слабость. Это смерть, и дурная. Вспомнил. Я писал письмо Черткову, и пришел Третьяков. Он спрашивал о значении искусства, о милостыне, о свободе женщин. Ему трудно понимать. Все у него узко, но честно. Я спрашивал его о многом, но не спорил о главном, о его вере. Она все определила бы. У нас катали яйца, пошел за адресом к Дмоховской. Обедали, потом к Армфельд. У ней сидел, как шальной, от слабости. Дома Анна Михайловна, Страхов, Кислинский. Разговор Страхова интересный. Я его понял. Читал до 4 процесс Армфельд*.
[11 апреля. ] Поздно. Читал переписку Натальи Армфельд. Высокого строя. Тип легкомысленный, честный, веселый, даровитый и добрый. Нельзя запрещать людям высказывать друг другу свои мысли о том, как лучше устроиться. А это одно, до бомб, делали наши революционеры. Мы так одурели, что это выражение своих мыслей нам кажется преступлением. Утром же ходил к Страхову. Хорошо говорил с ним и Фетом. Пришел Соловьев. Мне он не нужен, и тяжел, и жалок. За обедом два шурина*. Петя противен, Саша сноснее. Ушел к Сереже. Опять слабость смертная. Дома шил сапоги. Но вышел пить чай и присел к столу, и до 2 часов. Стыдно, гадко. Страшное уныние. Весь полон слабости. Надо как во сне беречь себя, чтобы во сне не испортить нужного наяву. Затягивает и затягивает меня илом, и бесполезны мои содрогания. Только бы не без протеста меня затянуло. Злобы не было. Тщеславия тоже мало, или не было. Но слабости, смертной слабости полны эти дни. Хочется смерти настоящей. Отчаяния нет. Но хотелось бы жить, а не караулить свою жизнь.
[12 апреля. ] Поздно. Та же слабость, и тот же победоносный ил затягивает и затягивает. Почитал Mencius’a и записал за два дня. Бродят опять мысли о «Записках несумасшедшего». […]
[14апреля. ] Не спал ночь. Орлов «подмахнул» без меня комнату, другие вычистили. С детьми играли. Орлов говорит: неужели не может быть счастливой жизни? Я ставлю? Я не знаю. Надо в несчастной быть счастливым. Надо это несчастье сделать целью своей. И я могу это, когда я силен духом. Надо быть сильным или спать. Пришел Алчевский. Потом я пошел к Вольфу. Приказчик обижается, что я не снимаю шапки. А у меня зубы болят. Я не извинился (1). Пошел к Алчевской. Умная, дельная баба*. Зачем бархат и на птицу похожа? Я напрасно умилился (2). Дома тяжело. Заснул после обеда. Пошел к Армфельд. У нее Орлов В. И. и учительница. Живые люди, хорошо говорили. К Машеньке трифоновской*. Ее надо лечить от душевной болезни. Дома упреки. Но я промолчал. Бессонница. Да еще С. И. сообщила приятное.
Только бы люди перестали бороться силой. Смешно и трогательно, что революционеры наши (кроме бомб), борющиеся законным вечным оружием света истины, сами на себя наклепывают, что они хотят бороться палкой. А они и не могут этого по своим убеждениям.
[15 апреля. ] Встал поздно, убрал. С детьми. Миша рассказал. Это художник. Почитал книгу Алчевской*. Прекрасно. Леонид зашел. Нынче назвались профессора и А. М.*. Иду к Ге, Мамонтову и Пряничникову. Не застал Ге. С Пряничниковым хорошо беседовал. Сказал ему неприятную правду. Дома обедал — тихо. Пошел на балаганы. Хороводы, горелки. Жалкий фабричный народ — заморыши. Научи меня, боже, как служить им. Я не вижу другого, как нести свет без всяких соображений. Пришли Усов, Сухотин, Хомяков. Усов говорил интересное до 3-го часа. Таня больна, значит, не лучше.
[16 апреля. ] Поздно. Все нездоровится. Ничего не могу делать. Написал Урусову. […] Дома Сережа — сердитый. Они меня с Соней называли сумасшедшим, и я чуть было не рассердился. Пошел в баню. Сидел за чаем — тяжело. Лег спать раньше. Попытки не курить — глупы. Бороться не надо. Надо очищать, освящать ум. Все бродит мысль о программе жизни. Не для загадывания будущего, которого нет и не может быть, а для того, чтобы показать, что возможна и человеческая жизнь. […]
[17 апреля. ] Раньше встал, написал письмо Толстой*. Прошение с высочайшими священными особами, отношения с высочествами уже невозможны для меня. Просить священную особу, чтобы она перестала мучить женщину!
[…] Дома, пришла Дмоховская. Принесла кучу матерьяла*. Я поехал верхом, читал рукописи Дмоховской. Стихотворения Бардиной тронули до слез*. Все это мне становится ясно. […]
[18 апреля. ] Поздно. Перечитывал рукописи, потом свою рукопись о переписи*. Хочу ее напечатать в пользу несчастных. Я сомневался, нужно ли помогать политическим заключенным. Мне не хотелось, но теперь я понял, что я не имею права отказывать. Рука протянута ко мне. «И в темнице посети»*.
[…] Обедал мирно, заснул. Пошел ходить. Львов рассказывал о Блавацкой, переселении душ, силах духа, белом слоне, присяге новой вере. Как не сойти с ума при таких впечатлениях? Шил сапоги, напился чаю, пошел к Сереже до 2-х часов. Незначительная, но мирная и грязная беседа. Письмо от Черткова, и ответил ему на правдивое признание*.
Я ослабел в прямоте — признак, что я ослабел в нравственной жизни.
[21 апреля. ] Поздно. Нашел статью (была черновая). Немного поправил. И понес в типографию*. Я сам не верю в эту статью. Встретил Самарина. Был холоден, но недостаточно (1). Дурная привычка — ценить в шляпах и колясках дороже. Самарин для меня тоже меньше, чем Петр-лакей. Петра-лакея я не знаю, а Петра Самарина уже знаю. Тоже и с Захарьиным, я доехал с ним до Тверского бульвара (2). Дома обед. Ужасно то, что веселость их, особенно Тани — веселость, наступающая не после труда — его нет, — а после злости, веселость незаконная, — это мне больно. Пришел Фет и слабо болтал до ½ 9. Поехал к Армфельд. Дочь писала, что просьбы за нее оскорбляют ее. Это так и должно быть. Там Успенская. Об «Отечественных записках», что хорошо*.[…]
[22 апреля. ] Поздно. Выспался. И как будто проснулся. Я спал больше месяца. Опять все ясно и твердо. Вспоминаю, не сделал ли дурного во сне? Немного. Взялся за статью. Поправил немного, но дальше описания дома не идет. Надо перескочить к выводу. Все не верю в эту работу. А казалось бы, хорошо. Веселье детей — жалко. Иду ходить без цели. Тянет к Ржановке. […]
[23 апреля. ] Очень поздно. Живо убрался. Читал газету. Потом сел за работу — не идет. Пошел к Урусовым. Племянница — интеллигентная консерваторка. Как не противиться злу? Все то же. Хочется знать истину и осуждать других, но делать ее не хочется. Дома обед. Решительно нельзя говорить с моими. Не слушают. Им неинтересно. Они все знают. Книга араба от Сухотина. С большим усилием прочел ее. Кое-что выписал — против троицы*. Пошел к Дмоховской, к колодочнику и Сухотину. У колодочника трое на одной постели. Как далеко нам до них. От Черткова телеграмма — отец умер. Шил сапоги весь вечер. Дмоховские решительно хотят революционировать меня. Как жалко, поздно, 3-й час, ложусь спать.
[24 апреля. ] Поздно. Письмо от Энгельмана очень хорошее. Попробовал писать. Не могу. Поехал верхом к Юрьеву. Он очень свеж. Мне внушал мое учение о Христе, но прекрасно. Говорит: надо пойти проповедовать Христа. Мне пришла в голову мысль об издании «Нагорной проповеди»*. Оттуда на Николаевский вокзал. Чертков, Писарев, Голицын. Чертков так же тверд и спокоен. Сказал, что он мало огорчен. Говорили хорошо. Писарев близок (боюсь, что заблуждаюсь), но как бы я желал! Приехал, дома все в сборе, веселы. Шил сапоги. Лег поздно. […]
[27 апреля. ] Раньше. Пытался продолжать статью. Не идет. Должно быть, фальшиво. Хочу начать и кончить новое. Либо смерть судьи*, либо «Записки несумасшедшего». […]
[29 апреля. ] Поздно. Не могу писать. С Орловым говорил. Пришел Александр Петрович. Я выговаривал ему без сердца*. Все до обеда ходил около Ржанова дома. Совсем не жалко. Заходил в квартиры. Моют бабы ужасные и ругаются. Сидят на бревнах оборвыши. […]
30 апреля. Утром барышня от Ге принесла письмо молодого Николая к брату. Письмо удивительное. Это счастье большое для меня*. Пробовал писать — нейдет. «Смерть Ивана Ильича» достал — хорошо и скорее могу.
[…] Вечер хотел шить, пришла Дмоховская и потом Полонский. Вот дитя бедное и старое, безнадежное. Ему надо верить, что подбирать рифмы — серьезное дело. Как много таких.
[1 мая. ] Раньше. Стал поправлять «Ивана Ильича» и хорошо работал. Вероятно, мне нужен отдых от той работы, и эта, художественная, такая. […]
[3 мая. ] Встал тяжело. Почитал вздор, то есть проснувшись спал. Искал письмо Памятки и нашел письмо жены. Бедная, как она ненавидит меня. Господи, помоги мне. Крест бы, так крест, чтобы давил, раздавил меня. А это дерганье души — ужасно, не только тяжело, больно, но трудно. Помоги же мне! Попытки тщетные писать. То ту, то другую статью. О переписи важно, но не готово в душе. Пошел в музей. Николай Федорович добр и мил. Походил с ним, потом купил табаку (1) и к Урусовым. У них был обыск. Дома тихо. Один шил. За чаем дети, Кислинский, разговор о брезгливости. Злоба. Ушел к Усову. Хороший разговор о городе и деревне. Можно говорить о выгодах города, как выгоды, но как только поставить вопрос, что нравственнее, так все кончено. […]
[4 мая. ] Взялся за работу. И опять с одной статьи перескакивал на другую. И бросил. Пошел к Давыдову и Захарьину. Прокурорство Давыдова невыносимо — отвратительно мне. Я вижу, что в этих компромиссах все зло. Я не сказал ему (1). Он рассказывал невероятные гадости и глупости их службы и отношения с губернатором. […]
[5 мая. ] Во сне видел, что жена меня любит. Как мне легко, ясно все стало! Ничего похожего наяву. И это-то губит мою жизнь. И не пытаюсь писать. Хорошо умереть. […]
[6 мая. ] Поздно. Неожиданно уяснилась статья о переписи, и работал утро. Потом пошел к Олсуфьевым. Рассказ о Поливанове, сидящем в дыре и получающем хлеб сверху*. Христиане! Платят в Сибири 50 рублей за живого и 25 рублей за мертвого беглого. Христиане! […]
[7 мая. ] Поздно. Сел за работу. Медленно подвигалось. Пришел Чупров. Тоже очень хорошее впечатление. Пробежался до обеда. После обеда поехал верхом. Встретил Барановского. Как мне трудно мое положение известного писателя. Только с мужиками я вполне простой, то есть настоящий человек. […]
[8 мая. ] Очень поздно. Письмо от Озмидова с Наумом. Ему нечем мать похоронить. Сначала было неприятно. Напомнило ясенскую раздачу денег. Что-то не то. Хотел собирать. Но тут случились Олсуфьев и Морозова, дали по 5, Seuron рубль, няня 20 копеек, и собрали 18 рублей. Я сказал, что надо отдать бедным. Очень хорошо. Может быть, так надо. Мои все ухом не повели. Точно моя жизнь на счет их. Чем я живее, тем они мертвее. Илья как будто прислушивается. Хоть бы один человек в семье воскрес! Александр Петрович стал рассказывать. Они обедают в кухне, пришел нищий. Говорит, вши заели. Лиза не верит. Лукьян встал и дал рубаху. Александр Петрович заплакал, говоря это. Вот и чудо! Живу в семье, и ближе всех мне золоторотец Александр Петрович и Лукьян-кучер. Пошел к Усову за книгой. Ключ к Усову: тщеславие и большой, здоровый ум. Он похож на Тургенева. Менее изящен, но гораздо умнее. Оттуда к Лазареву. Добрый, нежный старичок. Очень любовен. Был рад мне. Дома все то же — ничего. Пошел к Сереже, — Костенька, Машенька, Элен. Оттуда странствие по необыкновенному дождю. Читал о Кравкове в «Историческом вестнике»*. Важно.
[12 мая. Ясная Поляна. ] Рано. Пытался не курить. Подвигаюсь. Но хорошо видеть свою дрянность. Ехал спокойно. Я ни с кем не говорил. Читал Михайловского о себе в «Отечественных записках» 75 года*.
Очень испортил меня город. Тщеславие стало опять поднимать голову. Хорошо в Ясной — тихо, но, слава богу, нет желания наслаждаться, а требованье от себя.
Эмерсон хорош*. Довольно тихо прошла дорога.
[13 мая. ] В 10-м комната убрана. Я сказал, чтобы не убирали. Стал поправлять статью. Нейдет. Читал Эмерсона. Глубок, смел, но часто капризен и спутан. Все попытки сердиться.
Не говорить, не курить, не разжигаться.
Пришла вдова Анна крыльцовская, сама пята. День не емши, а два дня так. Среди разбиранья наших вещей она стояла перед крыльцом с мальчиком. Есть нечего. Надо поехать к ней и помочь.
Пошел ходить. И хожу, гуляю скверно. Зашел в деревню. Беседовал с Евдокимом и Сергеем Резуновым. Я пытался предложить общую работу с тем, чтобы излишек шел на бедных. Как слово «бедных» и «для бога», так презрение и равнодушие. […]
[18 мая. ] Очень поздно. Нужно вставать к детскому кофе. Работа нейдет. Но я не могу отстать от нее. Духом — плотью спокоен. Ездил с Таней верхом. Письмо от переводчицы на немецкий. Ходил к Павлу сапожнику. Читаю Hypatia*. Бездарно. Интересно, как он решает религиозный вопрос. Завтра приезжает Татьяна.
[19 мая. ] […] Нечем помянуть — месяц. Ничего не сделал. Попытки и начало работы тогда только можно счесть за дело, когда кончу. Одно, что дурного — знаю — не было. Если было к семье, то и то меньше, и еще то, что мысль Бугаева зашла мне в голову и придает мне силы*. Я становлюсь надежен. Еще сознание того, что надо только делать добро около себя, радовать людей вокруг себя — без всякой цели, и это великая цель.
[20 мая. ] Опять волнение души. Страдаю я ужасно. Тупость, мертвенность Души, это можно переносить, но при этом дерзость, самоуверенность. Надо и это уметь снести, если не с любовью, то с жалостью. И раздражителен, мрачен с утра. Я плох. Встал раньше. Пил кофе с детьми. Читал «Hypatia». Получил письмо Черткова. Луч света в мрак, еще сгустившийся с приездом Тани*. Просители: Кубышкин плачет. Лошадь его продали за 1½ рубля. Он плачет. Нет правов. Баба-вдова, сама пята, отбирают землю. Тарас и Константин подрались с Осином. Старшина их хочет сечь. Михеев жалуется, что его обделили. И Николай Ермишкин на сходке кулаки сучит — пьяный. Няня говорит, что сколько ни помогай родным, под старость никто добра не вспомнит — выгонят. Попадья говорит, что нынче не возьмут замуж без денег. Кузминские говорят про моды и деньги, которые для этого нужны. Как тут жить, как прорывать этот засыпающийся песок? Буду рыть. Курил и неприятным тоном заговорил за чаем (2).
[21 мая. ] Раньше. С детьми кофе. Читал «Hypatia». Пропасть просителей. Обделенные землею вдовы, нищие. Как это мне тяжело, потому что ложно. Я ничего не могу им делать. Я их не знаю. И их слишком много. И стена между мной и ими. Разговор за чаем с женою, опять злоба. Попытался писать, — нейдет. Поехал в Тулу. Дорогой мать с дочерью. Ее зять, каменщик, повез мужика за Сергиевское. Его соблазнило богатство мужика (он хвастал, что берет 2000 за невестой), и он в долу стал убивать его взятым с собою топором. Тот вырвал топор. Этот просил прощенья. Тот выдал его в деревне. Ведь это ужасно! Резунова старуха приносила выдранную Тарасом косу в платочке. Как помочь этому? Как светить светом, когда еще сам полон слабостей, преодолеть которые не в силах? В Туле, не слезая с лошади, все сделал. Вернулся в 6. Почитал и шил сапоги. Долго говорил с Таней. Говорить нельзя. Они не понимают. И молчать нельзя. Курил и невоздержан (2).
[22мая. ] Поздно. Говорил с детьми, как жить — самим себе служить. Верочка говорит: Ну хорошо неделю, но ведь так нельзя жить. И мы доводим до этого детей! Пробовал писать — тщетно. Слабость и праздность. Пойду ходить.
Хорошо думал, гуляя, о своей жизни — как все дурное в себе, т. е. там, откуда его можно вынуть. О хозяйстве — лошадях заботился и распорядился. Пришел домой, стоит в кусту раздетый золоторотец ярославец из учительской семинарии. Я хорошо с ним поговорил по душе, но дал мало и не оставил его у себя (1). В воспоминании о нем раскаяние. После обеда поехал верхом — праздно (2). Дома был мрачен, потом сидел с своими и шил сапоги. Не знаю, долбит ли моя капля, а невольно капля все падает. Нынче думал: родись духом одна из наших женщин — Соня или Таня, что бы это была за сила. Это вспыхнул бы огонь, который теплился. Решил на гулянье, что главная причина моего дурного: невоздержание — пищи, плотское, куренье.
[23 мая. ] Встал поздно, бодро. Проситель, щекинский мужик, очевидно, только выпросить что-нибудь, и учитель буржуазно-глупый — боится, что у него авторский талант, а он зароет его. Мягко, но ясно сказал ему, чтобы он бросил. Сажусь писать. Ничего не вышло. Пошел ходить, как шальной, в Чепыж. Оттуда в Засеку. Много думал о жене. Надо любить, а не сердиться, надо ее заставить любить себя. Так и сделаю. Почти не курил. Вечер ездил с Машей и шил сапоги весело.
[24 мая. ] Рано. Голова болит. И не пытался писать. Покосил. Пошел на пчельник. День прелестный. В такие дни сидят по городам и невольные мученики в крепостях. Отравляет. Нынче телятинская баба. Сама пята. Мужа мировой судья посадил на 8 месяцев. Читал Августина*. Есть хорошее.
[25 мая. ] Раньше. Покосил. Просители. Опять бабы посаженных мужьев. Четыре — таких. Две телятинские за воровство, две щекинские за сопротивление власти. Ходил с девочками, собирали цветы. После обеда — тоска. Пошли было на Козловку. Муж ушел от Маши. Она, бедная, расплакалась. Вечером немного ожил. Не мог быть любовен, как хотел. Очень я плох. Письма от Озмидова — нужда. Он не свободен. И от переводчицы. Да, забыл — утром пошел было, вернулся и писал.
[26 мая. ] Я ужасно плох. Две крайности — порывы духа и власть плоти. Миша Кузминский какой неиспорченный еще мальчик. И его будут искусственно портить во имя нас. Ходил по Заказу. Мучительная борьба. И я не владею собой. Ищу причины: табак, невоздержание, отсутствие работы воображения. Все пустяки. Причина одна — отсутствие любимой и любящей жены. Началось с той поры, 14 лет, как лопнула струна и я сознал свое одиночество. Это все не резон. Надо найти жену в ней же. И должно, и можно, и я найду. Господи, помоги мне.
Ездил верхом в Ясенки. Разговор с Таней, дочерью, хороший.
[27 мая. ] Раньше. Читаю Августина. Ходил по шоссе. Вдруг совершенно спокоен.
[…] Два дня хорошо. После обеда поехал навстречу Кузминскому. У них ненависть. Потом я пошел один на Козловку к мальчикам. Чудная ночь. Мне так было ясно, что жизнь наша есть исполнение возложенного на нас долга. И все сделано для того, чтобы исполнение это было радостно. Все залито радостью. Страдания, потери, смерть — все это добро. Страданья производят счастье и радость, как труд, отдых, боль, сознание здоровья, смерть близких — сознание долга, потому что это одно утешение. Своя смерть — успокоение. Но обратного нельзя сказать; отдых не производит усталости, здоровье боли, сознание долга — смерти. Все радость, как только сознание долга. Жизнь человека, известная нам — волна, одетая вся блеском и радостью.
Кузминский тяжел. Очень мертв. Дети, Илья и Леля, приехали — полны жизни и соблазнов, против которых я почти ничего не могу.
[28мая. ] Рано. Нездоровится, желчь, дурно спал, и все-таки хорошо. Неужели это так и пойдет? Кузминские ссорятся. Я ей говорил. Милой няне говорил. Покосил. Перечел свою статью — хорошо может быть*. Вчера письмо от Урусова — очень хорошее. Прекрасно его сомнение о словах. Поднялось было тщеславно о печатании своей книги и, слава богу, пало. Только бы быть в исполнении своей обязанности. Как бы был счастлив.
Написал кучу, писал Толстой, Армфельд, Озмидову, Урусову, Бахметеву. Пытаюсь быть ясен и счастлив, но очень, очень тяжело. Все, что я делаю, дурно, и я страдаю от этого дурного ужасно. Точно я один не сумасшедший живу в доме сумасшедших, управляемом сумасшедшими.
[29 мая. ] Рано. Все нездоровится. Читаю, даже не пытаюсь писать. Кошу. После обеда пошел с девочками гулять к Бибикову. Там дети увязались за нами. Очень весело с детьми. Ужасно то, что все зло — роскошь, разврат жизни, в которых я живу, я сам сделал. И сам испорчен и не могу поправиться. Могу сказать, что поправляюсь, но так медленно. Не могу бросить куренье, не могу найти обращенья с женой, такого, чтобы не оскорблять ее и не потакать ей. Ищу. Стараюсь. Приехал Сережа. Тоже нехорош я с ним. Точно так же, как с женой. Они не видят и не знают моих страданий.
[30 мая. ] Рано. Все так же нездоровится. Читал роман Вендрих. Новые требования жизни прекрасно описаны. Жить не для себя, а для других, для идеи. Прекрасно. Косил. Слаб. Просители. Судятся. Надо прямо отсылать таких. Вчера славные два золоторотца. Я накормил их. И кик было хорошо!
Отчуждение с женой все растет. И она не видит и не хочет видеть. Поеду в Телятинки по делу посаженных
ЗЗ5
в острог. Ездил в Телятинки и Ясенки, письмо Урусову. Два старика: кривой староста и печник. Оба мохом обрастают. Дома попытки разговора — бесполезные.
[31 мая. ] Рано. Не помню. Знаю, что не работал. Кажется, просмотрел написанное. Дальше не могу идти. А доволен. И очень сильно и «к делу» дальнейшее. Ничего не помню. Только дурного не было. Ездил к мировому. Его сын юрист. — Зачем сажают в острог? — «Для нравственного исправления», а сам смеется. А отец сажает. Он разрешил выпустить. Дома играют в винт. Неприятно. Вечером она говорит: голова свежа. Я счел себя обязанным говорить. Сказал, и все тот же бессмысленный, тупой отпор. Не спал всю ночь.
[3 июня. ] Рано. Ночь не спал, и отвратительно. Попытался писать. Пошел на суд*. Заведение для порчи народа. И очень испорчен. Расчесывают болячки — вот суд. Молчал. Баба, жена убитого — бедная, добрая. Обед. Она нехорошо кричала. Больно, что не знаю, что надо делать. Молчал. Пошел к Резуновым, читал Евангелие. Дома чай и беседа с Сережей и Кузминским — хорошо. Сережа говорит: тщетно делать. Кузминский говорит: скептицизм.
[4 июня. ] Поздно. Esprit de l’escalier[87]. Думал о вчерашнем разговоре, и как раз утром Кузминский и Сережа одни сошлись со мной за кофе. Я сказал Саше, что скептицизм ведет к несчастью, если человек живет в разладе с своими идеалами: чем дальше он пойдет по этому пути, тем тяжелее ему будет. И для него надо желать, чтобы жизнь его была хуже. Чем хуже, тем лучше. Он согласился. Сереже я сказал, что всем надо везти тяжесть, и все его рассуждения, как и многих других, — отвиливания: «Повезу, когда другие». «Повезу, когда оно тронется». «Оно само пойдет». Только бы не везти. Тогда он сказал: я не вижу, чтоб кто-нибудь вез. И про меня, что я не везу. Я только говорю. Это оскорбило больно меня. Такой же, как мать, злой и нечувствующий. Очень больно было. Хотелось сейчас уйти. Но все это слабость. Не для людей, а для бога. Делай, как знаешь, для себя, а не для того, чтобы доказать. Но ужасно больно. Разумеется, я виноват, если мне больно. Борюсь, тушу поднявшийся огонь, но чувствую, что это сильно погнуло весы. И в самом деле, на что я им нужен? На что все мои мученья? И как бы ни были тяжелы (да они легки) условия бродяги, там не может быть ничего, подобного этой боли сердца.
Переписанный отрывок прочел и чуть подправил. Пойду косить и шить. С завтрашнего дня встаю в 5. Но не курить и не берусь еще.
Косил долго. Обедали. Сейчас же пошел шить и шил до позднего вечера. Не курил. Вокруг меня идет то же дармоедство.
[5 июня. ] Встал в 5. Разбудил мальчиков. Прошел к Павлу* и сел работать. Работал довольно тяжело. Не курил. В 12 пошел завтракать и встретил все ту же злобу и несправедливость. Вчера Сережа покачнул весы, нынче она. Только бы мне быть уверенным в себе, а я не могу продолжать эту дикую жизнь. Даже для них это будет польза. Они одумаются, если у них есть что-нибудь похожее на сердце.
Косил. Шил сапоги. Не помню. Девочки меня любят. Маша цепка. Письмо Черткова и офицера.
[7 июня. ] В 5. Шил две упряжки, третью косил. Пришел Штанге — революционер. Четвертую с ним ходил, и девочки выехали за мной. Хорошо, но устал.
[10 июня. ] Проснулся в 8, усталый. Походил, обдумывая. Читал «Отечественные записки». Русский рабочий на фабрике в пять раз получает менее, и праздников меньше*. Обдумывал свою статью. Кажется, ложно начато. Надо бросить.
[11 июня. ] Встал с усилием в 6. Построчил, поехал в Тулу на почту. Устал. Ничего не мог делать. Пошел купаться. Я спокойнее, сильнее духом. Вечером жестокий разговор о самарских деньгах*. Стараюсь сделать, как бы я сделал перед богом, и не могу избежать злобы. Это должно кончиться.
Думал о своих неудачных попытках романа из народного быта*. Что за нелепость?! Задаться мыслью написать сочинение, в котором первое место бы занимала любовь, а действующие лица были бы мужики, то есть люди, у которых любовь занимает не только не первое место, но у которых и нет той похотливой любви, о которой требуется писать. Хочется писать, и много есть работы; но теперь перемена образа жизни лишает ясности мысли.
[13 июня. ] Рано. Сходил к Федоту. Страшная нищета. Как мы выработали в себе приемы жестокости. Ведь, собственно, надо было остаться там и не уйти, пока не сравнял его с собою.
[…] После обеда пошел в Ясенки. Бьют камень — мальчик шестнадцати лет, взрослый и старик шестидесяти лет. Выбивают на харчи. Камень крепок. Работа каторжная с раннего утра до позднего вечера. Петр Осипов выразил сочувствие революционерам. Говорит: «И прислуга-то ваша замолена у бога. Я думаю, говорит, им уж так много заслужили предки».
[14 июня. ] Рано. Скосил. За кофе говорил с Марьей Ивановной*, Алсидом* и Lake о работниках на камне. Говорил хорошо, но слушали скверно. Продолжал статью — чуть двигается.
[…] Главное несчастье наше — это то, что мы потребляем больше, чем работаем, и потому путаемся в жизни. Работать больше, чем потреблять, не может быть вредно. Это высший закон.
[18 июня. ] Позже, в 7. Убрался, после кофе я шлялся без причалу — елку срубил, с Митрофаном о садах. Позволил оставить задаток. Все это гадко*. Пошел к Штанге. Встретил детей. Девочку — простая, ясная. Она дочь прислуги — ведется, как все. У них мальчики. Пришли крестьянские, они как с гостем, не учтиво только, но естественно, добро. Штанге пошел провожать меня. Рассказывал свою логику. Очень хорошо. Он хороший человек. Дома все отобедали. Приехал брат Сережа. И две бабы — жены острожных, и две вдовы-солдатки. Ждали. Я устал и засуетился с ними, и Штанге, и Сережей. Тяжелое, суетливое состояние. Скверно наскоро пообедали. Пишу все это к тому, чтобы объяснить последующее.
Вечером покосил у дома, пришел мужик об усадьбе. Пошел купаться. Вернулся бодрый, веселый, и вдруг начались со стороны жены бессмысленные упреки за лошадей, которых мне не нужно и от которых я только хочу избавиться. Я ничего не сказал, но мне стало ужасно тяжело. Я ушел и хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу. Дома играют в винт бородатые мужики — молодые мои два сына. «Она на крокете, ты не видал», — говорит Таня, сестра. «И не хочу видеть». И пошел к себе, спать на диване; но не мог от горя. Ах, как тяжело! Все-таки мне жалко ее. И все-таки не могу поверить тому, что она совсем деревянная. Только что заснул в 3-м часу, она пришла, разбудила меня: «Прости меня, я рожаю, может быть, умру». Пошли наверх. Начались роды*,— то, что есть самого радостного, счастливого в семье, прошло как что-то ненужное и тяжелое. Кормилица приставлена кормить.
Если кто управляет делами нашей жизни, то мне хочется упрекнуть его. Это слишком трудно и безжалостно. Безжалостно относительно ее. Я вижу, что она с усиливающейся быстротой идет к погибели и к страданиям душевным ужасным. Заснул в 8. В 12 проснулся. Сколько помнится, сел писать. Когда приехал из Тулы брат, я в первый раз в жизни сказал ему всю тяжесть своего положения. Не помню, как прошел вечер. Купался. Опять винт, и я невольно засиделся с ними, смотря в карты.
[Июнь. Повторение. ] Переделывал свои привычки. Вставал рано. Работал физически больше. И невольно говорил и говорил всем окружающим. Разрыв с женою уже нельзя сказать, что больше, но полный.
Вина совсем не пью, чай вприкуску и мяса не ем. Курю еще, но меньше.
[19 июня. ] Встал в 8-м. Убрал комнату при Сереже.
[…] Мужик Григорий Болхин, Кастер-мастер* и Павел, сапожник, косят сад. Я около 11 часов ввязался в их работу и прокосил с ними до вечера. Дети — Илья и Леля и Алсид — косили же. Очень было радостно. Вечером пошли купаться.
Опять винт.
[20 июня. ] В 7-м, не убирая комнаты, пошел к косцам и натощак до обеда тянулся за ними и вытянул. Приходил один Леля. Позавтракал и заснул на полчаса. Теперь пишу это. Вечер хочу съездить в Ясенки.
Был в Ясенках. Лошадь наступила на ногу.
[21 июня. ] Бабы работали, мои — нет. Я работал с мужиками весь день, кроме последних копен. Вечером у Маши в комнате заговорили о том, как каждый провел день. Это не игрушка. Я бы ввел этот обычай. Разумеется, не нужно принуждать. Кто хочет, рассказывает.
[23 июня. ] В 7, не дожидаясь народа, работал с Блохиным. Он говорит: «Это будет очень затруднительно. Крестьяне это все должны исправить. Для развлечения времени — можно». Шел по саду, и ему понравилось в аллеях, захохотал. «Нда! Прекрасно для разгулки». Без всяких шуток, чем он более сумасшедший, чем все наши семейные. Вызывал Таню. Она возила с граблями. Она мягка тоже, но очень уж испорчена. А хорошая, очень хорошая бы могла быть женщина. Я не переставая работал и очень устал. Не мог спать — руки ныли, но очень хорошо и телесно, и душевно. Мне дали копну, то есть воз большой. Не ждал я, что на старости можно так учиться и исправляться. Тяжела возка и уборка. Жена очень спокойна и довольна и не видит всего разрыва. Стараюсь сделать, как надо. А как надо, не знаю. Надо сделать — как надо, всякую минуту, и выйдет, как надо все.
[24 июня. ] Встал не так рано, усталый. Пошел на Козловку. Письмо Урусова. Мечтал о том, как бы я поехал во Францию — везде можно одинаково хорошо жить. Теоретически можно. Попробовал продолжать писанье — не мог. После обеда с Таней ездили в Ясенки. Она напугала нас на Султане. Больше ничего не помню. Многого я очень требую от моих близких. В них шевелится совесть, в лучших, и то хорошо. Александр Михайлович очень таков [?]
Перечитывал дневник тех дней, когда отыскивал причину соблазнов. Все вздор, одна — отсутствие физической напряженной работы. Я недостаточно ценю счастье свободы от соблазнов после работы. Это счастье дешево купить усталостью и болью мускулов.
[25 июня. ] Встал рано. Опоздал против мужиков на пять рядов, но выставил свое. Работал весь день. Не обедал. Приходила тульская нищая. Я ничего не мог, а больно отказывать. И из Каменки Акулина. Чуть было и к ней не отнесся недоброжелательно. Послал Таню узнать и дать деньги. На покосе были Алсид и Илья, но скоро бросили и еще хуже. Вечером из Тулы письмо Черткова. Ему страшно отказаться от собственности. Он не знает, как достаются 20 тысяч*. Напрасно. Я знаю — насилием над замученными работой людьми. Надо написать ему. В комнате жены собрались рассказывать день. И я первый Маше* сказал обидно. Потому что мне вся их жизнь жалка, а она сказала свой первый образчик.
[26 июня. ] Встал измученный и больной в 7 и пошел на работу: косил целый день без перерыва. Пришла с кофеем Таня. Приятно. Сережа косил. Он невозможен своей самоуверенностью и эгоизмом. Приходили мужики — покупатели мясоедовского именья. Им надо купить, чтоб избавиться от злодея-соседа и иметь землю, но они зарываются. Беседовали с мужиками о Турции и земле там. Как много они знают, и как поучительна беседа с ними, особенно в сравнении с бедностью наших интересов. […]
[28 июня. ] Рано. Нездоровилось, но пошел после завтрака. Они много скосили, но я догонял. Нет, они трясли и гребли. Я начал работать с ними. Помешал дождь. Вечер косили. Дома праздность, обжорство и злость.
[29 июня. ] Петров день. Встал рано. И косил один. Все то же.
[30 июня. ] Косил с ними, только опоздал, с утра до 7. Был дождь. Я утром не ел до обеда и очень ослабел. […] Саша Кузминский положительно добр и хорош. Вечером он пришел и пошел купаться, принес мне белье. Так просто, добро. Разговор с ним о честолюбии. Честолюбие и вообще vanite[88] занимает пустое место, не занятое — миросозерцанием. Полнеет содержание миросозерцания, уничтожается vanite. Читал Эмерсона Наполеона — представитель жадного буржуа-эгоиста — прекрасно*. […]
[3 июля. ] Встал в 6. Они уже по четыре ряда прошли. Я косил с страшным напряжением. Маша принесла кофе и ушла. Рано пошел обедать. Заснул. Соня все привередничает и говорит о себе. Это ужасное ее мученье.
Пошел на покос. Косили, и копнили, и опять косили. Очень устал. «Тимофей, голубчик, загони мою корову: у меня ребенок». Он — пустой, недобрый малый — уморился и все-таки бежит. Вот условия нравственные. «Анютка, беги, милая, загони овец». И семилетняя девочка летит босиком по скошенной траве. Вот условия. «Мальчик, принеси кружку напиться». Летит пятилетний и в минуту приносит. И понял, и сделал. Пришел страшно измученный. Маша принесла мне бульон и снесла Федоту. Вчера с Сашей говорили обо мне, нынче с братом.
Вот именно: чем все это кончится.
[4 июля. ] Спал крепко. Встал в семь. Пошел к брату Сергею. Он едет занимать деньги. Он все решил и меня осудил. И я сдуру натощак разговорился с ним. И было ужасно мучительно. Легче страшный физический труд. Дмитрий Федорович принес переписанное. Я прочел — хорошо. Работа моя на покосе отстала — совестно.
Пришел с купанья. Сидит на крокете. Илюша все слышал и рассказал Тане. Констанция тут же. Меня задирают. Я начал говорить. И они как будто взволнованы, и им что-то нужно. Пошел на покос. Илья пошел косить. Скоро бросил. Я работал много. Вечером усталый сидел, хотел идти спать. Да, еще прежде жена стала говорить. И как будто хорошо. Хотя трудно сдерживалось раздражение. Говорит: надо жить в деревне, но как только разговор о жизни, так элюдируют[89]. Потом уже вечером, когда я хотел идти спать, начался разговор. Таня как будто поддерживала меня. Сережа брат сочувственно молчал. До двух часов говорили. Я измучился страшно и чувствовал, что праздно. (Так и вышло.)
[6 июля. ] Дурной день. Встал в 8-м, убрался, хотел идти в Тулу, но почувствовал себя столь слабым, что поехал верхом. Перед отъездом приехал Артемов об земле. Я ему грубо и зло сказал: завидущие глаза. И поехал убитый. В Туле духота. В банках чистенькие, щелкают счетами и, моча о губку, считают, постукивая, бумажки; а по дороге бабы навивают, мужики косят, скородят. Нищие и странники слабые, голодные идут. Приехал растертый и измученный, послал деньги на почту. Дорогой я ехал и мечтал о том, что, устроив правильно жизнь, то есть отдавая другим хоть какую-нибудь долю, я должен прежде всего взяться за хозяйство. Я надеюсь, что мог бы теперь делать, не увлекаясь и всегда зная, что отношения с человеком дороже всего. В Туле Урусов. Очень много разговора. Дома попытки отношений — как будто мы все разрешили и, вместе с тем, ничего изменять не надо.
[7 июля. ] Встал в 7. Напился кофе, поговорил с m-me Seuron. Она рассказала, что Таня прибила Устюшу. Пошел к Артемову просить прощения. Но, к счастью или несчастью, — не застал его. Вернулся домой и имел несчастье сказать о неугасаемом чае. Сцена. Я ушел. Она начинает плотски соблазнить меня. Я хотел бы удержаться, но чувствую, что не удержусь в настоящих условиях. А сожитие с чужой по духу женщиной, то есть с ней — ужасно гадко.
[…] Только что я написал это, она пришла ко мне и начала истерическую сцену, — смысл тот, что ничего переменить нельзя, и она несчастна, и ей надо куда-то убежать. Мне было жалко ее; но вместе с тем я сознавал, что безнадежно. Она до моей смерти останется жерновом на шее моей и детей. Должно быть, так надо. Выучиться не тонуть с жерновом на шее. Но дети? Это, видно, должно быть. И мне больно только потому, что я близорук. Я успокоил, как больную. Приехали Урусов и Обамелик. Урусов очень слаб. Обамелик — дикий человек, научившийся всей внешности цивилизации. Не мог пойти работать.
[12 июля. ] Встаю все-таки не позже 8. Читаю Meadows* и по-еврейски Евангелие*. Все нездоров и слаб, слаб во всех отношениях. Целый день прошел без событий. Разговоры и интерес к ним затихли. Объявил, что пойду в Киев*. Ночью вошел наверх. Объяснение. Не понимаю, как избавить себя от страданий, а ее от погибели, в которую она с стремительностью летит. […]
[14 июля. ] Пропустил несколько дней и записывал на память в середу. Кажется, что в этот день я звал жену, и она, с холодной злостью и желанием сделать больно, отказала. Я не спал всю ночь. И ночью собрался уехать, уложился и пошел разбудить ее. Не знаю, что со мной было: желчь, похоть, нравственная измученность, но я страдал ужасно. Она встала, я все ей высказал, высказал, что она перестала быть женой. Помощница мужу? Она уже давно не помогает, а мешает. Мать детей? Она не хочет ею быть. Кормилица? Она не хочет. Подруга ночей. И из этого она делает заманку и игрушку. Ужасно тяжело было, и я чувствовал, что праздно и слабо. Напрасно я не уехал. Кажется, этого не миную. Хотя ужасно жаль детей. Я все больше и больше люблю и жалею их.
[15 июля. ] Проснулся в десять. Разговор с Сережей. Он без причины сделал грубость. Я огорчился и выговорил ему все. И буржуазность, и тупость, и злость, и самодовольство. Он вдруг заговорил о том, что его не любят, и заплакал. Боже, как мне больно стало. Целый день ходил и после обеда поймал Сережу и сказал ему: «Мне совестно…» Он вдруг зарыдал, стал целовать и говорить: «Прости, прости меня». Давно я не испытывал ничего подобного. Вот счастье.
[17 июля. ] Встал поздно. Но кофе с детьми. Все поправляю по утрам немецкий перевод* и читаю с удивлением о том, как не трогает это людей. Вечером пошел с детьми за грибами и остался с бабуринскими косцами косить. Они пьяные. Мне хорошо было с ними. Дома отношения опять натягиваются и натягиваются только с женою. Те все любят меня.
[18 июля. ] Встал в восемь. Утро работал над переводом с m-me Seuron. После завтрака пошел с Андрюшей за грибами. Он очень мил. Какие бы вышли люди, если бы их не портили! Целый день хочу спать. Письмо от Ге. Книги от Черткова. Теперь поеду к Леониду и в Никольское. Как будто еще натянутое.
[24 июля. ] Первый день выспался. Приехал Ге. Письма прекрасные от Черткова. Написал ему длиннейшее письмо.
Ге очень хорош, ощущение, что слишком уже мы понимаем друг друга.
[25 июля. ] С Ге пошел в Тулу к Урусову. Там Борисов. Тип жуира, окрасившегося социализмом 70-х годов. Вернулись домой с Ге. Прелестное, чистое существо. […]
[27 июля. ] Нынче встал поздно, свежо. Говорил наверху о Ге. О том, что у нравственного человека семейные отношения сложны, у безнравственного все гладко.
[…] Еще думал о книге для народа, опять в форме признания* — хорошо. Покосил немного. Пошел потом к Павлу и учителю. Поздно приехали Любовь Александровна с Вячеславом*.
6 августа. Опять три дня прошло, и не помню. Нынче поздно встал. Лихорадочное состояние. И тревога, и заботы о переводе, и о лошадях, и даже о прогулке за грибами. Желаю умереть, и когда физически плохо, и еще больше, когда в душе сумбур. Перечел опять статью о переписи. Все не хочется бросить, поправил кое-что. Странно, что невольно выступает то, что неожиданно я нашел их лучше себя. Должно быть, так. Утром разговор с Таней. И я себе уяснил, что в числе ряда дел, наполняющих жизнь, есть дела настоящие и пустые. Знать настоящие и пустые — в этом все знание жизни. Вечером глупая шарада и потом почтовый ящик*. Стихи Сони тронули Таню*. Они втроем — две Маши и она — заплакали. Сознание своего ложного положения проникает в детей. Вячеслав спорил с Сережей, и Сережа говорил моими словами.
[9 августа. ] Утром начали разговор и горячо, но хорошо. Я сказал, что должно. Приехал Армфельд*. Я целый день болтался и болтал с ним. Произведения науки, как учреждение вроде церкви, пустая важность. И умен, и знающ, но пуст. Пришел домой, Соня помирилась. Как я был рад. Именно, если бы она взялась быть хорошей, она была бы очень хороша.
[17 августа. ] Верочка Кузминская решила, что ходить без mademoiselle в гимназию нельзя, потому что все засмеют. И я понял в первый раз всю страшную силу влияния среды. Все можно сделать в школе, и потому как же строго надо относиться к тому, что делаешь в школе.
[21 августа. ] Грибы и готовящееся нездоровье. Перечел статью, и вдруг вся выяснилась. Я лгал, выставляя себя. Только перестать лгать, и все выйдет. […]
[22августа. ] Именины жены. Почтовый ящик. Шаховской. Я написал о больных Яснополянского госпиталя*. Хорошо было. Что-то трогает как-то их. Я не знаю как.
[25 августа. ] Приехал Сережа, Шаховской, Ге. Много народа, не помню подробно. Слушаю: спорят за картами: «Я видел туза». — «Нет, вы не могли видеть» и т. д. Им тяжело и другим тяжело, зачем они это делают? Я думаю, что скоро выучатся этого не делать, то есть не настаивать на том, что я прав.
Не помню, нынче или вчера говорил с Шаховским и весь дрожал, показывая ему правду: что, делая дела дьявола — войну, суд, присягу, нельзя говорить о Христе. Уже нездоровится.
[28 августа. ] Мне 2×28 лет. Наши уехали в Тулу провожать Веру Шидловскую. Я рад, что один, читал о древних персах Michelet. Хорошие мысли. Нездоровится. Приятно, дружно с женой. Говорил ей истины неприятные, и она не сердилась. Вечером читал Maupassant. Забирает мастерство красок; но нечего ему, бедному, писать.
[29 августа. ] Две недели пропустил. Последнюю неделю я всю нездоров.
[…] Встал поздно, ночью жар. Соня убрала мою комнату, а потом гадко кричала на Власа. Я приучаюсь не негодовать и видеть в этом нравственный горб, который надо признать фактом и действовать при его существовании. Ходил по солнцу. Пропасть мыслей, просящихся на бумагу.
[31 августа. ] Читал Michelet немного; проводил жену. Ходил за грибами. Хорошо думалось: умереть? Ну что ж. Износить свою личность так, что она не нужна, т. е. неразумна. Мне противно неразумно, стало быть — противна моя жизнь. Мне нужно и радостно разумное, стало быть, нужна и радостна смерть. […]
[1 сентября. ] Встал поздно, почитал Michelet. Геркулес — обоготворение труда, подвига. Разговор с Таней о том, что женщины никогда или редко любят — т. е. отдают свое миросозерцание любимому человеку. Они всегда холодны. Она истинно сконфузилась, что я подсмотрел их truc[90].
Пошел за грибами и целый день ходил. Рыжики — пахнут еловым молоком — нежные. Пришел поздно — князь. Я шил сапоги и засиделся. Приезжали просить кольев три воза от Марьи Ивановны, и я отказал. Я стараюсь объяснить, что я хорошо сделал; но, судя по тому, как это отозвалось во мне, я сделал дурно.
[2 сентября. ] Встал пораньше. Я здоров. Убрал все, походил и пил со всеми чай.
Разговор: сила женщин — лесть — что они любят. Мы так уверены, что мы стоим любви, что мы верим. Напрасно я свожу это на Соню. Мысль общая и очень для меня новая и важная. Приятно прошел день. Говорил с Таней очень хорошо. Она согласилась, что надо жить хорошо.
[3 сентября. ] Ходил за грибами. Тосковал. Шил. Читаю Michelet.
[4 сентября. ] Целый день шил и работал муштуки и липы рубил. Был в бане и ждал Соню. Она приехала. Я устал.
[5 сентября. ] Утром разговор и неожиданная злость. Потом сошла ко мне и пилила до тех пор, пока вывела из себя. Я ничего не сказал, не сделал, но мне было тяжело. Она убежала в истерике. Я бегал за ней. Измучен страшно.
[8 сентября. ] Кажется, немного поработал.
[9 сентября. ] Был Урусов. Я хотел писать и не мог.
[10 сентября. ] Буддизм и еврейское. Очень много читал. Писать не мог. И ездил в Колпенку к бедному. Проехал всеми полями. Очень хорошо. Слушал чтение — пустяков.
[12 сентября. ] Читал буддизм — учение. Удивительно. Все то же учение. Ошибка только в том, чтобы спастись от жизни — совсем. Будда не спасается, а спасает людей. Это он забыл. Если бы некого было спасать — не было бы жизни. Учение о том, что вопросы о вечности не даны, — прелестны. Сравнение с раненным стрелою, который не хочет лечиться прежде, чем не узнал, кто его ранил.
Рубил. Гулял с Соней по лесу. После обеда гулял со всеми, шил сапоги — плохо. Читал с детьми, вместо дрянного «Пасынкова» — «Полесье»*. И успех.
[13 сентября. ] Опять прошло больше недели, и я не писал. Нынче был эксес… Мне стыдно. Утром девочки пришли делать задачи. Было очень весело. Потом читал Некрасова, чтоб читать детям. Пошел гулять со всем народом. Зашел к Федоту. Он — умирающий изнурительной болезнью — ест огурцы и грибы. Нельзя так жить.
Заснул после обеда. Читал с детьми Некрасова, Щедрина и Тургенева «Полесье». Все прекрасно. Приехал Леля, веселый. Письмо от Черткова и Маликова.
1885
1885. Кажется, 5 апреля*. Все занятие моей жизни есть (к сожалению моему, потому что это скользкий обманчивый путь жизни) сознание и выражение истины. Часто мне приходят ясно выраженные мысли, радостные и полезные для меня, но, не найдя им места, я забываю их. Буду записывать. Кому-нибудь пригодятся.
Нынче. Думал о своем несчастном семействе: жене, сыновьях, дочери, которые живут рядом со мной и старательно ставят между мной и собой ширмы, чтобы не видать истины и блага, которое обличит ложь их жизни, но и избавит их от страданий.
Хоть бы они-то поняли, что их праздная, трудами других поддерживаемая жизнь, только одно может иметь оправдание: то, что употребить свой досуг на то, чтобы одуматься, чтоб думать. Они же старательно наполняют этот досуг суетой, так что им еще меньше времени одуматься, чем задавленным работой.
Еще думал: об Усове, о профессорах: отчего они, такие умные и иногда хорошие люди, так глупо и дурно живут? От власти на них женщин. Они отдаются течению жизни, потому что этого хотят их жены или любовницы. Все дело решается ночью. Виноваты они только в том, что подчиняют свое сознание своей слабости.
Еще думал: творить волю пославшего меня — это моя пища. Какое глубокое и простое значение. Спокойным, всегда удовлетворенным можно быть только, когда целью своей ставишь не что-либо внешнее, но исполнение воли пославшего. Я не хочу печатать своего портрета в сочинениях*,— мне противно, неприятно. Но если я буду делать свою волю, я не соглашусь, оскорблю, огорчу. Если же я исполню не свою волю, я попрошу не делать этого. А если сделают, буду спокоен, потому что исполнил волю пославшего.
Еще какое ясное выражение: это — моя пища. Большинство людей делают для себя только то, что нужно для тела: пищу, и половое, и забавы, а то все для людей. Так вот про всю ту область, которую люди делают не для себя, а для славы людской, Христос говорит, что в ней надо работать, исполняя волю пославшего — не для людей. И про эту-то деятельность он говорит, что она для него, как пища, также необходима и не зависима от мнения людского. Творить волю пославшего так же, как есть и нить, не для людей, а для своего удовлетворения. Вот это-то и нужно, и это-то и можно, и это-то единственный путь жизни, дающий благо всегда, везде.
1886
1886. 19 июня.
Мир живет. В мире жизнь. Жизнь — тайна для всех людей. Одни называют ее бог, другие — сила. Все равно — она тайна. Жизнь разлита во всем. Все живет вместе, и все живет — отдельно: живет человек, живет червь. (Эту отдельную жизнь наука называет организмами.) Это глупое слово — неясное. То, что они называют организмом, есть сила жизни, обособленная местом и временем и неразумно заявляющая требования жизни общей для своей обособленности. Это обособление жизни само в себе носит противоречие. Оно исключает все другое. Все другое исключает его. Оно, кроме того, исключает самого себя. Своим стремлением к жизни оно уничтожает себя: всякий шаг, всякий акт жизни есть умирание.
Противоречие это было бы неразрешимо, если бы в мире не было разума. Но разум есть в человеке. Он-то и уничтожает это противоречие. Один человек съел бы другого, если бы у него не было разума, показывающего ему, что его благо: ему лучше быть в любви с этим другим человеком и вместе с ним убивать зверей для пищи. Этот же разум показал ему, что ему лучше не убивать зверей, а быть в любви с ними и питаться их произведениями. Этот же разум покажет и дальше в этом направлении и уничтожит противоречие эгоизма. […]
Задача человека в этой жизни отречься от всего противоречивого в самом себе, т. е. личного, эгоистического, для возможности служения разуму, для уничтожения внутреннего противоречия жизни, в чем одном он находит полное удовлетворение, безопасность, бесстрашие и спокойствие перед смертью. Если он не исполняет этой задачи, он остается в внутреннем противоречии личной жизни и уничтожает себя, как уничтожает себя всякое противоречие. […]
1886. 28 августа. Главное заблуждение жизни людей то, что каждому отдельно кажется, что руководитель его жизни есть стремление к наслаждениям и отвращение от страданий. И человек один, без руководства, отдается этому руководителю, — он ищет наслаждений и избегает страданий и в этом полагает цель и смысл жизни. Но человек никогда не может жить, наслаждаясь, и не может избежать страданий. Стало быть, не в этом цель жизни. А если бы была, то — что за нелепость: цель — наслаждения, и их нет и не может быть. А если бы они и были, — конец жизни, смерть, всегда сопряженная с страданием. Если бы моряк решил бы, что цель его — миновать подъемы волн, — куда бы он заехал? Цель жизни вне наслаждений и страданий. Она достигается, проходя через них.
Наслаждения, страдания это дыхание жизни: вдыхание и выдыхание, пища и отдача ее. Положить свою цель в наслаждении и избежании страданий — это значит потерять путь, пересекающий их.
Цель жизни общая или духовная. Единение*. Только.
Не знаю дальше, устал.
1887
1887. Февраля 3-го*. Человек употребляет свой разум на то, чтобы спрашивать: зачем и отчего? — прилагая эти вопросы к жизни своей и жизни мира. И разум же показывает ему, что ответов нет. Делается что-то вроде дурноты, головокружения при этих вопросах. Индейцы на вопрос отчего? говорят: Майа соблазнила Брама*, существовавшего в себе, чтобы он сотворил мир, а на вопрос зачем? не придумывают даже и такого глупого ответа. Никакая религия не придумала, да и ум человека не может придумать ответов на эти вопросы. Что ж это значит?
А то, что разум человеку не дан на то, чтобы отвечать на эти вопросы, что самое задание таких вопросов означает заблуждение разума. Разум решает только основной вопрос как. И для того, чтобы знать как, он решает в пределах конечности вопросы отчего и зачем?
Что же как? Как жить? Как же жить? Блаженно.
Этого нужно всему живущему и мне. И возможность этого дана всему живущему и мне. И это решение исключает вопросы отчего и зачем.
Но отчего и зачем не сразу находится блаженство? Опять ошибка разума. Блаженство есть делание своего блаженства, другого нет.
1888
23 ноября 1888. Москва. На днях была девушка, спрашивая (такой знакомый фальшивый вопрос!), что мне делать, чтоб быть полезной? И, разговорившись с ней, я сам себе уяснил: великое горе, от которого страдают миллионы, это не столько то, что люди живут дурно, а то, что люди живут не по совести, не по своей совести. Люди возьмут себе за совесть чью-нибудь другую, высшую против своей, совесть (например, Христову — самое обыкновенное) и, очевидно, не в силах будучи жить по чужой совести, живут не по ней и не по своей, и живут без совести. Я барышню эту убеждал, чтобы она жила не по моей, чего она хотела, а по своей совести. А она, бедняжка, и не знает, есть ли у нее какая-нибудь своя совесть. Это великое зло. И самое нужное людям — это выработать, выяснить себе свою совесть, а потом и жить по ней, а не так, как все — выбрать себе за совесть совсем чужую, недоступную и потом жить без совести и лгать, лгать, лгать, чтобы иметь вид живущего по избранной чужой совести. Потому-то я, истинно, предпочитаю кутилу-весельчака, не рассуждающего и отталкивающего всякие рассуждения, умствователю, живущему по чужой совести, то есть без нее. У первого может выработаться совесть, у второго никогда, до тех пор пока не вернется к состоянию первого.
Все не пишу — нет потребности такой, которая притиснула бы к столу, а нарочно не могу. Состояние спокойствия — того, что не делаю против совести, — дает тихую радость и готовность к смерти, то есть жизнь всю. Вчера вечером сидел Евгений Попов, ему 24 года, и он в том же состоянии, как и я. С женой тяжелые отношения, распутать которые может только смиренная жизнь, как узел только покорное следование всем клубком за ниткой.
24 ноября. Начал писать письма Ге и Семенову — не мог. Читал, ходил на Софийку. Да, утром хотел писать «Номер газеты». Уже давно эта мысль приходит мне: написать обзор одного номера с определением значения каждой статьи. Это было бы нечто ужасающее*. Прошел пассажем — страшно, как посещение сифилитической больницы. Устал, после обода задремал, читал St. Beuve, потом шил сапоги; пришел Дарго. Это один из тех людей, которые только занимают место и проходят во времени, но которых нет; по крайней мере, для меня, хотя я и пытаюсь найти долженствующего быть человека. Да, письмо длинное от «христианки» об «О жизни». Редко встречал такую терпимость истинную, только два раза — у англичанина из Австралии и у ней. Вечером сидели со мною дети. С Левой поговорил. И рад.
Думал: жизнь не моя, но жизнь мира с тем renouveau[91] христианства со всех сторон выступающая, как весна, и в деревьях, и в траве, и в воде, становится до невозможности интересна. В этом одном весь интерес и моей жизни; а вместе с тем моя жизнь земная кончилась. Точно читал, читал книгу, которая становилась все интереснее и интереснее, и вдруг на самом интересном месте кончилась книга, и оказывается, что это только первый том неизвестно сколь многотомного сочинения и достать продолжения здесь нельзя. Только за границей на иностранном языке можно будет прочесть его. А наверно прочтешь.
Сейчас учитель Андрюши, кандидат, только что кончивший филолог, рассказывал, что Андрюша плохо учится, потому что не умеет словами объяснить, написать арифметическую задачу. Я сказал, что требования объяснения есть требования бессмысленного заучивания, — мальчик понял, но слов не умеет еще находить. Он согласился и сказал: да, мы, учителя, обязаны формы даже давать заучивать. Например, мы учим тому, что рассуждение о задаче должно начинаться со слов: если. Если бы мне сказали, что так учили в Японии 1000 лет тому назад, я бы с трудом поверил, а это делается у нас свежими плодами университета.
25 Nоября. Нездоровилось. Дурно спал. Приехала Hapgood. Hapgood: Отчего не пишете? [Я: ] Пустое занятие. Hapgood. Отчего? [Я: ] Книг слишком много, и теперь какие бы книги ни написали, мир пойдет все так же. Если бы Христос пришел и отдал в печать Евангелия, дамы постарались бы получить его автографы, и больше ничего. Нам надо перестать писать, читать, говорить, надо делать. «Century» читал: траписты в Америке*. Ведь каждый из этих 200 братий, пошедший на молчание и труд, в 1000 раз больше философ, чем, не говорю уж Гроты и Лесевичи, а чем Канты, Шопенгауэры и Cousin’ы! Суждения о русском правительстве Kennan’a* поучительны: Мне стыдно бы было быть царем в таком государстве, где для моей безопасности нет другого средства, как ссылать в Сибирь тысячи, и в том числе 16-летних девушек. […]
26 ноября. Утро до 12 уж прошло, только думаю. Читал «Century». Отметил, что выписать. Если бы делать выписки, составились бы те книги, которые нужны. Был Покровский, привез свою статью*. Очень уж дурно написано, и опять тот же общий недостаток всех научных знаний, обращенных к массам: или ничего не говорить (вода — мокрая), или не может говорить, потому что на разных языках говорим, разной жизнью живем. Пошел к Сытину.
[…] Читал остальной вечер Лескова «На краю света».
27 ноября. Мало спал. Желчь поднялась, надо ее успокоить духовным орудием. Илья приехал, я поговорил с ним. Тезисы Грота*. Зачем это? Читал. Пришел Джунковский, пошел с ним и Машей к Сытину. Заперто. Он не может устроить свою жизнь. Все это от желания жить не по своей совести; от желания делать перед людьми, а не перед богом. Письмо от Черткова, о том же, о деньгах: о том, как быть с ними. У одного их нет, у другого лишние. Джунковский хочет служить и копить, чтобы купить землю, дом и кормиться с земли. Какой очевидный самообман. (Он не ужился на земле с Хилковым.) Ведь нужны ему не деньги, и земля, и дом, а ему нужно самому быть земледельцем и по любви и по привычкам. Если он в себе устроит земледельца, то он попадет на землю, а если нет, то никакие приспособления не сделают его им. Задача всех нас одна: из своего положения богатства, больших требований и отсутствия полезного труда для людей, выучиться жить с меньшими требованиями и не желать больших и выучиться делу наверно полезному людям. И к этому надо спускаться понемногу, то есть но мере достижения того и другого. Вечер говорил с Джунковским и больше ничего.
28 ноября. Дурно спал, с дурными мыслями. Поздно встал, кончил чтение Покровского. Очень плохо, научно наивно и бестактно. Очень слаб, апатичен. Отче! помоги мне творить волю твою. […]
29-го ноября. Та же апатия, письмо от Бутурлиной, иду к ней. А все-таки хорошо. Если готов умереть, то хорошо, а я хочу быть готов.
[…] Посидел у Левы, поговорили, пошел в вечернюю школу, не решился войти, два часа ходил, в 11-м зашел и познакомился с учителями;* пойду в четверг. Утром и потом стала все чаще и чаще просветляться одна точка в писанин. Может быть, нынче начну, что — сам не знаю, но о чем — знаю*. Да, получил еще прекрасное письмо от Blake.
30 ноября. Встал рано, Лева все так же нездоров, затопил печку и вот сбираюсь писать. Ничего не писал, кроме письма Лисицину и выписки того, что у меня начато. Я все гадаю по картам (пасьянсам), что писать. […] Так все утро гадал, спрашивал себя, что прежде писать, и решил кончать начатое, оказалось всего десять штук*. Пошел гулять. Обедал Грот и Костенька. Книга Столыпина «Две философии» и его премии. Это поразительно по своей неясности, бессмысленности и претензии. И, в сущности, от Грота до него только градации. Вечером только сходил к сапожнику спросить о калошах.
1 декабря. Чтение газет и романов есть нечто вроде табаку — средство забвения. Тоже и разговор праздный. Стоит не делать этого, чтобы вместо этого: сидеть смирно и думать, или играть с ребенком, утешая его, или говорить по душе с человеком, помогая ему, или главное — работать руками. Утром приехал Стахович-старший и Флеров — оба алкоголиконикотинцы; жалкие. Очень холодно везде. Постараюсь не читать и не гадать. Чтобы не читать, главное не надо бояться оставаться без дела, если нет настоящего дела, следуя правилу — лучше ничего не делать, чем делать ничего. Тогда лучше труд, настоящий труд и отдых, а не всегдашнее ни то ни се нашего мира. […]
1 декабря, продолжение. […] Вечером был в школе. Поразила глупость и вялость, и дисциплина механического ученья, и тусклые без света глаза учеников: фабрика, табак, бессонница, вино. А нынче мальчики раздетые, из которых два ехали на конке, а два бежали за нею, без шапки. От заведенья слесарного, у Арбатских ворот, они бежали в полпивную на Плющиху. Все курят. Получил письмо от Броневского — раскаивается, но зато письмо ясно*. Помоги ему бог.
3 декабря. Встал рано, сходил, купил колун, наколол и затопил печи, иду завтракать. Читал, был Шенбель, умный старик. Привез статью о дешевом хлебе. […] Прошелся. И во время обеда пришел Аркадий Егорыч Алехин. В мужицком платье. Начал с своей истории. История страшная по грубости, дикости среды — и наша не лучше — но главное то, что во время рассказа он так освещал свою историю, такое тщеславие, эгоизм, самоуверенность, что пока он досказал ее, я потерял к ней интерес. […]
4 декабря 88. Встал поздно, скоро пошел к Алехину, застал его у брата читающим. Брат очень трогательный ученый. Пошел ходить к Орфано. Дорогой раздражился. Он говорит: отчего вы раздражаетесь, и мне стало стыдно. Говорить с ним нельзя, от болезненного самолюбия, но много хорошего. Дорогой, расставшись, думал: как бы приучить себя, встречаясь с людьми, ожидать и желать от них (для испытания себя, для уничтожения своей поганой личности), желать от них унижения, оскорбления и превратного о тебе мнения (юродство). Дома обедал, шил калоши. Приехали Сережа брат, милый, и потом Олсуфьев.
5 декабря. Преступно спал. Встал поздно, пошел купить подметки Сереже брату. Встретил доктора, и неприятно. А надо, чтоб приятно было. Утро шил калоши. Ходил без цели гулять. После обеда Шенбель, сидел весь вечер. Он преимущественно из экономических, по его словам, видов не отдавал детей в гимназию и приучил их работать; теперь у него четыре сына работают и четыре дочери. Боюсь, что он крутой самовольный человек, но умен, т. е. есть свои мысли. Его мысль о дешевом хлебе, о том, что не надо ничего делать свыше — т. е. от правительства — для установления правильных отношений между людьми, а только не мешать ходу вещей, — гораздо значительнее, чем его статья. Он говорит, что дешевый хлеб сделает то, что люди откажутся от земельной собственности и ею спекулировать нельзя будет, а можно будет только ею кормиться, — то, что сделал Иосиф, то разделается. Оно и разделывается сейчас. Дешевый хлеб и множество потребностей богачей отпускает один винт. Только уничтожь подати, и полная свобода.
6 декабря 88. Так же поздно. Приехал брат Марьи Александровны. Ничего не достал в Петербурге. Говорил с Сережей, с ним. Потом колол дрова, топил печку, шил, ходил без цели. Машенька, Сережа. Немного помогает мне правило: желать, сходясь с людьми, чтобы они тебя унизили, оскорбили, поставили в неловкое положение, а ты бы был добр к ним. Только один раз вышло.
7 декабря 88. Поздно. Миша заболел. Соня послала еще за другим доктором. Когда это поймут ту простую вещь, что если бы доктора десятирублевые спасали, то каково же бы было положение бедных. И как бы тогда обвинять тех, которые бы убили старика, чтобы, ограбив на десять рублей, нанять доктора и спасти молодого сына. Вчера думал: служить людям? но как, чем служить? Не деньгами, не услугами телесными даже: расчистить каток, сшить сапоги, вымыть белье, посидеть ночь за больным. Все это и хорошо, может быть, и лучше, чем делать это для себя, но, может быть, и дурно и, в сущности, бесполезно. Одно полезно, одно нужно — это научить его жить добро. А как это сделать? Одно средство: самому жить хорошо.
[…] Всё не уживаются люди: Джунковский с Хилковым, Чертков с Озмидовым и Залюбовским, Спенглеры муж с женой, Марья Александровна с Чертковым, Новоселов с Первовым. Одна причина, что все преграды приличий, законов, которые облегчали сожитие, устранены, но этого мало; утешаться можно этим, но это неправда. Это ужасное доказательство того, что люди, считающие себя столь лучшими других (из которых первый я), оказываются, когда дело доходит до поверки, до экзамена, ни на волос не лучше. «Я с ним не могу жить». «А с ним не можешь жить, так и не живи вовсе — тебе именно с ним и надо жить». «Я хочу пахать, только не это поле» (то первое, которое довелось пахать). «Похоже, что ты только хвалился, а не хочешь пахать». (Так было у меня со многими и многими и, особенно, с Сергеем Сытиным.) «Я не могу с ним жить, разойдусь, тогда будет лучше». Да что же может быть лучше, когда сделал хуже всего, что только можно сделать. Все, бедность жизни, воздержание, труд, смирение даже, все это нужно только для того, чтобы уметь жить с людьми, жить, то есть любить их. А коли нет любви, так и это все ничего не стоит. Вся пахота нужна, чтоб посев взошел, а коли топчешь посев, незачем было и пахать.
Был Кольчугин, попечитель училища — хочет советоваться с училищным советом*. Что будет.
9 декабря 88. Преступно спал. Утром дошивал, походил и сейчас сажусь обедать. Письмо вчера от Ге. Странное дело: жизнь, точно, как будто пустая; а я спокоен совершенно. Все дурное только во мне, в недостатке любви. Но поправляется, и оттого не тяжело, а радостно. Заснул. Встал, американки — две сестры, одна через Атлантический, другая через Тихий океан и съехались и опять едут, все видели, и меня видели, но не поумнели. Она спросила: странно вам, что они так ездят? Я попытался сказать, что надо жить так, чтобы быть useful[92] другим; она сказала, что она так и ожидала, что я это скажу, но о том: правда ли это, или нет, она уже не может думать. Все ушли спать. Я сидел один тихо. И хорошо.
11 декабря 88. Москва. Наколол дров, привез воды, 20 градусов мороза. Читал, походил, приехал Стахович. Он рассказывал об обществе поощрения борзых собак с Николаем Николаевичем — младшим*, и по этому случаю напиваются. Вечером Теличеев с женою и гж. Корниловой, прогнанной мужем. М. В. Теличеева редкое религиозное существо. Она мне сказала, что мне лучше теперь при жизни ничего не печатать. Как я ей благодарен за поддержку.
12 декабря. Наколол дров, топлю печку. Все дни живу бесцветно, но прозрачно, всех люблю естественно, без усилия. Читал. Пошел ходить. Женщина, припадающая на одну ногу, но сильная. Дома братья Берсы и их родные. Мне и с ними было хорошо. Маша приходила прощаться; скучает. Атмосфера дома дурная, тяжелая, надо тем больше держаться. А Таня, бедная, хочет замуж во что бы то ни стало, выбор все-таки лучше, чем мог бы быть. Маша сказала, что и Марья Александровна то же сказала, что и Теличеева. А я так плох, что в душе не согласен*. Да, это настоящее дело. Как легко сказать и как трудно чувствовать так, чтобы делать то, что говоришь.
Да, вчера или третьего дня был у Фета. Он рассказывал о споре с Страховым. Он, Фет, говорит, что безнравственно воздерживаться в чем-нибудь, что доставляет удовольствие. И рад, что он сказал это. Зачем? Тут же пришел Грот и недоволен диссертацией Гилярова. Тоже зачем? Зачем Гилярову защищать себялюбие? Зачем Гроту защищать любовь?
Да, еще вчера с женой чуть не начал спор о том, почему я не учу своих детей. Я не вспомнил в то время, что хорошо быть униженным. Да: есть совесть. Люди живут либо свыше совести, либо ниже совести. Первое мучительно для себя, второе противно. Лучше то, чтобы жить по растущей совести всегда немного выше ее, так, чтобы она дорастала то, что взято выше ее. Я живу выше, выше совести, и она не догоняет: и в том, что оскорбляюсь и все чувствен и тщеславен, что не хочется не печатать до смерти.
13 декабря 88. Москва. Наколол дров, убрал, затопил, записал 12 и иду завтракать. Читал, ничего не делая. Пошел ходить. Думал: мы в жизни замерзшие, закупоренные сосудчики, задача которых в том, чтобы откупориться и разлиться, установить сообщение с прошедшим и будущим, сделаться каналом и участником жизни общей. Смерть плотская не делает этого. Она как бы только вновь переливает и опять в закупоренные сосуды. Был у Сытина. Он купил журнал «Сотрудник». Прошли сутки, и я все в сомнении, что делать. Можно ли принять участие*. […]
15 декабря 88. Москва. Утром думал о журнале — возможно. Надо старое с выбором по всем отраслям. О Грегорианском и Юлианском календаре. О соске*. Вчера читал о смертности детей статью Португалова*. Наколол дров, истопил, сейчас иду за дровами и к Богоявленскому. […]
16 декабря 88. Москва. Спал дурно. Поколол дров, истопил и ничего не делал до 3. Иду гулять. Получил письмо хорошее от Вл. Ф. Орлова. О соске надо. Не писал. Пошел гулять. Дома Эртель — дитя, Тихомирова, Матильда. […]
18 декабря 88. [Москва. ] Девочки уехали в Тулу. Что-то уж очень глупо (спал дурно), колол дрова, убрал, иду завтракать. […] Читал Forum — очень плохо, пошел к Hapgood и с ними к Сытину. Дома после обеда Богоявленский, такой милый! И Полушин в журнале. Боюсь, что ничего не выйдет. Письмо от Поши ко мне и Маше. [Вымарано почти две строки. ] Нет радости при этом, и от этого мне кажется, что это не хорошо. А это неправда. Радость только бывает при ложном добре. А это как роды, как рост. Это не радость, а добро.
Да еще был Грот, долго сидел, рассказывал свою философию. Поразительно! обо всем житейском он говорит и думает, как антифилософ, а о теории мысли, чувства он философ. Строит карточные, мысленные домики. И даже некрасивые и неоригинальные, а так, только похоже на философию. Да еще девочки уехали и не простившись. Я буду плакать, как прадедушка.
19 декабря. Москва. 88. Рано встал. Колол дрова, топлю, иду завтракать. Думал: правительства защищают интересы людей и взыскивают деньги, блюдут за исполнением контрактов денежных. Почему они (правительства) не блюдут за исполнением условий, хоть бы семейных, а главное, условий трудовых. Трудовыми условиями я называю вот что: мы согласились — ты Б. мне носи дрова и хлеб, а я буду тебя учить. Нельзя правительствам — они окажутся виноваты. Но мы можем и должны позвать их к ответу на основании того самого принципа, который они выставили и который поддерживают. Ходил к Hapgood и к Сытину. Опоздал. Насморк. Вечер читал. Статья Чернышевского о Дарвине* прекрасна. Сила и ясность. […]
20 декабря 88. Москва. Встал, наколол, топлю, иду завтракать. Мысли ярче мелькают. Прекрасное письмо Тане от американки. Да, надо записывать две вещи: 1) весь ужас настоящего, 2) признаки сознания этого ужаса. И брать отовсюду. Впрочем, дела пропасть, и журнал, начатое, и нет желанья, и я не каюсь. Читал Эпиктета*. Превосходно. Еще статью Д. Ж. в «Неделе»*. Ходил к Гр. Колокольцеву за книгами и Костеньке за почтой. Озяб и насморк. Вечер читал.
22 декабря 88. Москва. Всю ночь не спал от боли печени. Недаром апатия умственная. Встал в 11. Читаю Лескова «Колыванский муж», хорошо. А «При детях»* прекрасно. Целый день боли, и всю ночь не спал. Приехали девочки, привыкаю к мысли*.
26 декабря. 88. [Москва. ] Письмо от Хилкова, как и всегда, замечательное. Днем читал. Обедали Лизанька и дети. Вечером Мамоновы и др. Тоска началась, раскаянье в своей дурной жизни. Только вечером разговор с Левой, Таней и Машами о жизни — о гордости — отсутствии смирения.
27 декабря. 88. [Москва. ] Встал раньше. Читал статью о календарях*. Неужели я вышел весь — не пишется. Походил по Арбату, заснул до обеда. Потом гости Дьяков, Фет, потом Алехин Васильич. Этот лучше. Мы хорошо говорили. Иду спать.
28 декабря. 88. [Москва. ] Приехал Поша. Он мне объявил, что они поцеловались. Все больше и больше привыкаю. Как им хорошо: стоять на прямом пути и, по всем вероятиям, столько впереди. Как далеко они могут и должны уйти. Хотел писать о соске, но заснул, и целый день слабость. Немного походил. После обеда Дунаев, какие-то барышни. [Вымарана одна строка. ] Одни люди себя строго судят и других прощают. Другие себя прощают и других судят.
29 декабря. 88. [Москва. ] Очень поздно встал, нездоровилось ночью. Письмо от Джунковского с женой — очень хорошее. Надо писать им. Написал им. Походил. Дома читал и ходил в баню. Хорошо с Левой. Сережа, как волк, как виноватый. Почти жалко его. Но не недоброжелателен. Был Богоявленский. Хорошо с ним беседовал. Письмо Черткова, вызывающее на изложение веры. Отвечу*.
30 декабря 88. Москва. Ужасно дурно спал. Начал писать письмо Хилкову. Мысли бродят, хочется писать. Думал: простая любовь ко всем — это площадка на спуске. Отдых. А еще. Все добрые дела обо….. То есть злые дела прикрыты добрыми именами. Чтоб начать добрые дела, нельзя взять куклы добрых дел и из них переделать настоящие, нельзя из вех переделать живые деревья, а надо выкинуть вехи и посадить живое, и вместо дерева семечко, надо все начинать сначала. Целый день дома, в упадке духа. К обеду приехал Стахович, сконфуженный — та же грубая шутка, но мне словно жалко было его, и я его полюбил. Был еще Грот. Я с ним разговорился о происхождении государства и о том, что нельзя оставить старого, а надо все сначала.
Вечером Соня напала на Бирюкова с Машей и как-то они договорились. Но мне грустно. Потом пришел Немолодышев. […] Он живет в постоянном ужасе смерти. На нем поразительно ясно то, что с ним, с Сережей и с кучей людей. В университете товарищеская самая либеральная нравственность — фрондировать, никому не кланяться, уважать науку (ну, целый кодекс), нравственность чужая, наклейная. И с ней живется не дурно сначала и как будто подъем. Но проходит время, приложений ее нет, напротив, а самомнение остается то же, и погибель. Немолодышев страдает тем, что у него нет сознанья своих вин. И все они так же снисходительны к себе, и строгость к другим.
1889
1 января 89. Москва. Вчера был у Богоявленского, не застал. Все слабость и уныние. Вечером пришли два врача земские — Рожественский и Долгополов. Революционеры прежние, и та же самоуверенная ограниченность, но очень добрые. Я было погорячился, потом хорошо беседовали. Тимковский — очень маленький. Еще Страхов с Клопским. Ужинали, дружно, любовно. Встал поздно, дописал письмо Хилкову, пойду погулять. Ходил с Пошей к Гольцеву. Добродушный и честный человек. Обед, как всегда, тяжелый. Хотел, писать о соске, но не удалось. Начали читать лесковского «Златокузнеца»* при светских барышнях: Мамонова, Самарина. Только эстетические суждения, только эту сторону считают важной. Подумал: ну, пусть соберется вся сила изящных искусств, какую только я могу вообразить, и выразит жизненную нравственную истину такую, которая обязывает, не такую, на которую можно только смотреть или слушать, а такую, которая осуждает жизнь прежнюю и требует нового. Пусть будет такое произведение, оно не шевельнет даже Мамоновых, Самариных и им подобных. Неужели им не мучительно скучно? Как они не перевешаются — не понимаю. Приехали ряженые — ото были Пряничников (умный) и Философовы. Еще скучнее стало. И все надеясь, что это поправится, сидел до 3-го часа. Голова болит, нервы расстроены.
2 января 89. Москва. Уныло начал новый год. Читал «Robert Elsmere»* — хорошо, тонко. Маша с Пошей расстроены*. Трудно становится. И просвета нет. Чаще манит смерть. […]
4 января 89. Москва. Поздно встал, читал «Advance Thought» и думал. Кажется, уяснил себе, что должен, я написать «пришествие царствия» и, если потянет, то могу писать начатое и другое. Привез воды и поколол дров. Гулял. Обед, Миша Олсуфьев. Купцы, фабрикант Каверин, дикий православный и Федор Федорович, освободившийся. Потом Машенька, сестра, Леонид Оболенский, Маша Колокольцева, читали Лескова. Много лишнего, так что не от всей души.
5 января 89. Москва. Очень поздно. Миша болен, стонет. С Пошей объяснился. Все больше и больше люблю его. Письмо от Черткова хорошее. Читал о Рёскине. Неважно. Да, вчера был у Янжула, он дал и сообщил много хороших книг, Кеннана, об анархистах и социализме.
Поздно прошелся к Готье. Дома читал Кеннана и страшное негодование и ужас при чтении о Петропавловской крепости. Будь в деревне, чувство это родило бы плод; здесь в городе пришел Грот с Зверевым и еще Лопатиным: папиросы, юбилеи, сборники, обеды с вином и при этом по призванию философская болтовня. Зверев ужасен своим сумасшествием. Homo homini lupus[93], бога нет, нравственных принципов нет — одно теченье. Страшные лицемеры, книжники и вредные.
7-го января 89. Москва. Тяжелое что-то, нездоровье готовилось. Вечером Янжул, Стороженко, Грот, Лопатин, Мачтет. Стороженко и Янжул лучше всех — без запросов. Но тяжело. Дьяков обедал и читал Чехова*.
9 января 89. Москва. Писал с утра статью*, потом пошел к Гольцеву. У него встретил Муромцеву. Вечером были Шарапов и Александров, мешали. Полушин. Элен и Маша работают хорошо.
10 января. Москва. 89. Встал рано и до завтрака продолжал писать статью «12 января». Пришел Гольцев. Прочел ему, он одобрил. Докончил и пошел в редакцию (Философовы довезли). Великолепие необычайное. Книжники — лицемеры. После обеда написал Поше, погулял и, вернувшись, застал редактора. Потом Дунаев. Переправил статью, потом с Левой и Дунаевым пошли гулять в типографию.
11 января. Москва. 89. Встал позднее; ночью заболел Ваня, и Соня напугалась, и я. Утром Фомич одобрил статью. […] Сейчас пообедал и хочу записать пропущенные дни. Записал кое-как. Читал и «Мормонскую библию»* и «Жизнь Смита»* и ужасался. Да, религия, собственно религия, есть произведение обмана. Лжи для доброй цели. Иллюстрация этого очевидная, крайняя в обмане: «Жизнь Смита»; но и другие религии (собственно религии) тоже, только в разных степенях. В прошедшие дни, кажется вчера, написал Поше. Вчера от него было хорошее, доброе, чистое письмо Маше. Ходил гулять к Янжулу и Фету с Андрюшей.
12 января. Москва. 89. Поздно. Письма сочувственные и посещения. Ершов с книгой*. Читал и вчера и нынче книгу об американском социализме: о двух партиях: интернациональной и социалистической*. Анархисты совсем правы, только не в насилии. Удивительное затмение. Впрочем, об этом предмете мне думается, как думалось, бывало, о вопросах религии, то есть представляется необходимым и возможным решить, но решения еще нет. […]
13 января. Москва. 89. Поздно. Был Воейков, все ясное его проект — возможен*. Хочется писать. […] Читал мормонов, понял всю историю. Да, тут с очевидностью выступает тот умышленный обман, который составляет частью всякую религию. Даже, думается — не есть ли исключительный признак того, что называется религией, именно этот элемент — сознательной выдумки — не холодной, но поэтической, восторженной полуверы в нее, — выдумки? Выдумка эта есть в Магомете и Павле. Ее нет у Христа. На него наклепали ее. Да из него и не сделалось бы религии, если бы не выдумка воскресения, а главный выдумщик Павел.
14 января. Москва. 89. Раньше. Истопил, читал, записал и хочу писать предисловие Ершову. Писал очень усердно. Но слабо. И не выйдет так. Колол дрова, ходил, встретил Николая Федоровича* и с ним беседовал. У него, вроде как у Урусова, в жизни и книгах не то, что есть, а то, что ему хочется. И интонации уверенности удивительные. Всегда эти интонации в обратном отношении с истиною. […] Потом жалкий Фет с своим юбилеем*. Это ужасно! Дитя, но глупое и злое. […]
17 января. Москва. 89. Раньше, привез воды, поколол, истопил и, не садясь за работу, пошел к Златовратскому; там видел Никифорова, поручил ему работу и зашел к Мамоновым. Устал, нездоровится. […]
18 января. 89. Москва. Рано, колол дрова. Пришел молоканин из Богородского. Читал наверху, пришел Теличеев с другим господином просить ходатайства за высылаемую гувернантку. Скверно себя вел с ними. Без любви к ним и с нетерпением и болтовней. До этого еще прочел в «Русской мысли» в статье Шелгунова о себе* и позорно печалился. Да, да, да, необходимо бросить всякие затеи писать и что-то для себя делать, а блюсти одно: готовность к оскорблению и унижению — смирение и заботу одну о возможности добра другим. […]
21 января… 89. [Москва. ] Раньше, поработал, читал Марка Подвижника — много хорошего, пошел к Покровскому. Разговор с нею о спиритизме, вере и о ее несчастье — потере сына. Встретил Самарину — она хрипит и говорит грустно: c’est le commencement de la fin[94]. Дома хорошо. Давыдов обедал. Он добрый — прокурор, но нравственно неожиданно движется. Потом Семенов. Очень мил — растет. Ясен, спокоен и тверд. Потом Хабаров, массажист. Как будто интересуется вопросами жизни. Потом Анненкова милая с двумя девицами, потом Брашнин, потом Алехин. Лева все сидит с нами — он растет.
22 января. 89. [Москва. ] Получил издание о всемирном мире. Messia’s Kingdom — хорошо и кстати. Приходила трогательная женщина с четырьмя детьми и матерью — муж университетского образования, алкоголик, бьет, выгоняет, спрашивала, что с ним делать? Да, одно из двух: принять в семью и губить детей, или выгнать в шею. Одного же, что нужно, — лечения с любовью — нету. Да и то не знаю, так ли? Да, кажется, по-божью надо принять его. Все ничего не делаю. Ванечка хворает очень. Пошел к Алехину и Самарину. С обоими был плох. С Алехиным ненужные разговоры, а с Самариным и ненужные и раздраженные, о правительстве и Менгден. В разговоре с Алехиным уяснилась следующая притча. Поручил помещик именье приказчику; приказчик пригласил всех своих родственников, кроме того старосту и выборных, и составил сложное управление на образец лутовиновского (И. Тургенев). 1) Управляющий (2000), 2) Помощник его (1000), 3) Бухгалтер, 4) Управляющий конторой, 5) Его помощник, 6) Врач телесный, 7) Врач духовный, 8) Цензор, 9) Умиритель, 10) Соединитель и т. п. Все с именья шло на них. Неужели найдутся такие люди, которые скажут, что для улучшения именья нужно внушить управителям добросовестность в исполнении их обязанностей. Такие найдутся только из участников управления. Свежему же человеку ясно, что надо прежде всего всех уничтожить, а потом установить уж только [?] тех, которые окажутся нужны.
После обеда пошел к Машеньке, там тихо посидел до 11-го и пришел домой. Дома хорошо, только болезни.
24 января. Москва. 89. Очень поздно проспал. Пришла бедная измученная Соня и сказала мне больное — я сумел принять хорошо. Да, вчера все вспоминал о Денисенко и страдал*. Начинаю привыкать. Да, надо, чтобы ничто не могло нарушить радостно любовного состояния.
В чистоте и с любовью исполнять свое призвание служения.
Вчера вечером был Морокин. Я слишком горячо спорил с ним о войне, но кончилось дружелюбно. Сейчас пришел Страхов. Что будет?
С Страховым говорил хорошо. Он разочарован в Клобском и лучше с матерью. Пошел за портретом, но не дошел. Встретил Орлова. Он рассказывал про смерть отца, генерала. Он впал в детство, то есть остался для него только «я». Перед этим был Покровский. По признакам, у Ванечки туберкулы и смерть. Очень жаль Соню. К нему странное чувство «ай» благоговейного ужаса перед этой душой, зародышем чистейшей души в этом крошечном больном теле. Обмакнулась только душа в плоть. Мне скорее кажется, что умрет.
Со мной стало делаться недавно странное и очень радостное — я стал чувствовать возможность всегдашней радости любви. Прежде я так был завален, задушен злом, окружающим и наполняющим меня, что я только рассуждал о любви, воображал ее, но теперь я стал чувствовать благость ее. Как будто из-под наваленных сырых дров изредка стали проскакивать струйки света и тепла; и я верю, знаю, чувствую любовь и благость ее. Чувствую то, что мешает, затемняет ее. Теперь я совсем по-новому сознаю свое недоброжелательство к кому-нибудь — к Тане было вчера, — я пугаюсь, чувствуя, что заслоняю себе тепло и свет. Кроме того, часто чувствую такую теплоту, что чувствую то, что, любя, жалея, не может прерваться состояние тихой радости жизни истинной. […]
25 января. 89. Москва. Проснулся рано. Думал, не только думал, но чувствовал, что могу любить и люблю заблудших, так называемых злых людей.
[…] Были доктора. Старались сделать ясным и определенным то, что неясно и неопределенно. Почти приговорили*. Я пошел с Левой к Олсуфьевым. После обеда читал «Elsmere» и полученные письма и журналы. Пришел Дунаев, потом Семенов и Анненкова. Какая религиозная женщина! Спал у детей. Ваня как будто лучше.
Да, письмо от Черткова о допросе жандармами Макара и прославление имени бога*.
26 января. 89. [Москва. ] Рано проснулся, работал, топил. Потом читал. Пришел Дьяков, задушевный разговор, о том, что ему жить нечем, незачем, неизбежное впадение в детство. А хорошо говорил. Ванечке лучше. С Таней далеки стали. Мне больно.
Пошел за дровами. После обеда читал письма: одно бестолково враждебное, «зачем я говорю, отдай именье, а не отдаю». Все-таки было неприятно, но не столько неприятность, сколько путаница. Ванечке как будто лучше, но я чувствую, что плохо. Был Тимковский. Статья о Лондоне — не дурно*. Сухотин. Вел себя порядочно — помнил, что они люди.
Лег рано. Письма из Америки о трезвости.
27 января. Москва. 89. Встал рано, наколол, затопил и, лежа в постели, думал. Да, вся беда в преждевременности, в уверенности в том, что сделал то, чего не сделал. Это с христианством вообще, это, в частности, с рабством. Уничтожили рабов — бумаги на владение рабами, но все-таки не только меняли каждый день белье, делали ванны, ездили в экипажах, обедали пять кушаний, живем в десяти комнатах и т. п., — все вещи, которых нельзя делать без рабов. Удивительно ясно, а никто не видит. […]
28 января. Москва. 89. Рано. Поработал. Маша и Леночка работали веселые. Потом венок 30 рублей*. Лошадь. Видеть не могу без грусти. […]
29 января. Москва. 89. Встал рано, нездоровится. Убрал, пошел к Фету. Все глупости людские ясны только до тех пор, пока сам не вступил в них. А как вступил, так кажется, что иначе и быть не может. […]
30 января. Москва. 89. Встал очень рано. Вода не вожена, я был рад поработать больше. Теперь 11-й час. Пойду завтракать. Что-то хорошо думал, проснувшись, забыл. Одно думал это то, что Соня так страстно болезненно любит своих детей оттого, что это одно настоящее у нее в жизни. От любви, ухода, жертвы для ребенка она прямо переходит к юбилею Фета, балу не только пустому, но дурному. Бирюков брат был. Вот он — никто бы слова не сказал за платье и чин [?].
Заснул и пошел ходить. После обеда Попов-стихотворец, юноша. Удивил его, сказав, что это самое подлое занятие. Пошел к Фету. Там обед. Ужасно все глупы. Наелись, напились и поют. Даже гадко. И думать нечего прошибить. А может быть, дурно, что поддаешься. Это respect humain[95]. […]
1 февраля. Москва. 89. Встал в 8. Много работал, записал, иду завтракать. Сейчас после завтрака заболел живот. Очень болел, но прожил не хуже здоровых дней. Читал «Задига»* — много хорошего. Да, прогресс в увеличении света, а свет все тот же есть. Не выходил. Заснул, потом вечером пришли Дунаев и Семенов. Ох, болтовни много! Потом англичанин, кавалерийский офицер, охотник до horseflesh[96]. Дикий вполне англичанин. На все у него готовы évasiv’ные шутки и слова. Лига мира? — «The friends of peace fight between themselves»[97]*. Насчет веры: все лицемеры, а я люблю Библию, и мои верования для меня, а говорить про них незачем. Потом люблю мотать деньги, а потом I will rough it[98]* в Австралии. Красота тела есть душа. Whitman[99]* ему сказал это. Это его поэт. Да, написал вчера утром четыре письма: Василию Ивановичу, Суворину, Попову и Ге. Машу травили за вегетарианство. Удивительно! Да был еще вчера юноша Шашалов, кажется, купчик. Хочет жить по-божьи, принес Евангелие и хочет списать.
3 февраля. 89. [Москва. ] Встал рано, пошел неохотно работать, и напрасно. Все ноет под ложечкой. Записал два дня и иду чай пить. Целое утро поправлял Покровского* до пяти. После обеда пришел Семенов и Теличеева. Получил от Черткова повести Семенова и его, Черткова, о воспитании. Все — недурно. Тяжело было. Но не обидел, кажется, никого. Поздно лег. Нездоров.
4 февраля. Москва. 89. Встал очень рано. Очень много работал. И потом кончил Покровского, хорошо. И теперь иду к Сытину. Подъем большой сил физических и умственных. Приятно скромно, безлично работать. Приходила женщина просить помочь больным скарлатиной детям. Не помню, куда ходил утром. После обеда. Обедал Фет и Писаренко. Фету противны стихи со смыслом. […]
7 февраля. 89. [Москва. ] Опять рано, работал, записал, иду завтракать. Александр Петрович запил и погиб. Жалко. Надо помочь. Собрали 160; но он не ушел. Ничего не делал, уныл и слаб. Пошел ходить, в музей. Николай Федорович, Корш. Мне легче с ними. […] Дома Маша уехала. Вечером хотел повозить воду, а потом заняться с Леночкой. Не успел заняться, пришел Попов, потом офицер Алмазов. Сын литератора, желает быть знаком с литераторами и беседах об умных предметах, до которых дела нет. Я говорил от души. Страшно легко и охотно говориться, когда собеседник не принимает к сердцу. Пробовал писать предисловие — не пошло*. Читаю Ben Hur*. Плохо.
8 февраля. 89. [Москва. ] Встал позднее. Дурно. Работал много, убрал, запивал, иду завтракать. После завтрака приехал Бедекер с Щербининым. Проповедник кальвинист Пашковский. Он сказал, что следит за мной, говорил с пафосом и слезами. Но холодно и неправдиво. А добрый человек. Его погубило проповедничество. Он прямо сказал, что всякий — миссионер, и настаивал и приводил тексты в подтверждение того, что надо проповедовать, и что недостаточно «светить» добрыми делами перед людьми. Я все время трогался до слез. Отчего, не знаю. Пошел к Свербеевой, умная, добрая. Я глупо говорил (из эгоизма) об общем дурном мнении о ее брате, которое я не разделяю.
После обеда переводил с Леночкой, за исключением времени, проведенного с учительницей Абрамовой и другими, и с Касаткиным, милым, чистым художником. Да, Александр Петрович ушел. Я виноват, что не занялся им. Все хочется умереть. Да, мне кажется, что я дожил до того, что, думая о будущем, отыскивая впереди цели, к которым стремишься в будущем, я знаю и вижу одну крайнюю цель в этой жизни — выход из нее, и стремлюсь к ней почти радостно, по крайней мере, уже наверно без противления. Благодарен за это. Хорошо.
9 февраля. Москва. 89. Спал дурно. Встал поздно, опять усиленно работал. Все утро читал и задремал, иду гулять.
Да, становится ясно, что «с словом надо обращаться честно», то есть что если говорить, то надо говорить так ясно, как только можешь, а не с хитростями, умолчанием и подразумеванием, с которыми пишут все, и я писал. Постараюсь этого не делать. […]
70 февраля. Москва. 89. Встал позднее, но все-таки до сильного пота поработал. […] Написал предисловие — начерно. Пошел ходить. После обеда переводил усердно. Пришли О. А. Мамонова, Дунаев. Читал «Le sens de la vie»*. Там страницы о войне и государстве поразительные. Надо, надо писать и воззвание и роман*, то есть высказывать свои мысли, отдаваясь течению жизни.
11 февраля. Москва. 89. Рано. До сильного пота работал и вот записал, иду завтракать. Читал прелестного Rod. Есть места: о войне, о дилетантизме, удивительные.
Пытался писать, не шло. Пошел в метель ходить. Был у Готье. После обеда начал переводить, как пришла учащаяся на акушерских курсах, нервная, измученная, дочь помещика. «Зачем вы сюда приехали? Ведь бабки не учатся и принимают у 9/10 рожающих женщин». Жалкая. Потом Попов, потом три студента, потом Архангельский, потом Тулинов, потом милый Касаткин. Студенты ужасны. Молодое сумасшествие еще бродящее. Фразы, слова, отсутствие живого чувства, ложь на лжи — ужасно. Я волновался, а надо было жалеть. Прошел за Таней.
13 февраля. Москва. 89. Позднее, много работал, пришла Цветкова, принесла книгу («Что читать народу?»). Записал и иду завтракать. […]
20 февраля. Москва. 89. Спал дурно. Позднее встал, работал, читал Mathew Arnold*. Предисловие. Удивительно тожественно. Только он забрал в свой круг того, что он возвышает, и Ветхий завет. И это давит и тянет к земле.
Утром приходил Васильев и заведующий библейской лавкой. У них посадили книгоношу Казанского за статью «О деньгах»*. Наивность вопроса заведующего, почему можно отрицать правительственные распоряжения, поразительна. Я хорошо, сильно отвечал ему. И после него была почти потребность писать и начальные слова были. Но я забыл их. Что-то подобное этому: не могу больше молчать. Я должен сказать то, что знаю, то, что жжет мое сердце. А то я стар и нынче и завтра умру, не сказав того, что вложено в меня богом. Я знаю, что богом вложено. […]
[26 февраля. ] 23, 24, 25, 26 февраля. Москва. 89. Утром 23 встал от боли раньше, пошел работать, но все хуже и хуже и целый день провел тяжелый, с сильными болями. Не мог быть радостен, не мог найти того расположения, при котором все хорошо. Но к смерти был готов, только было нетерпение от страданий, хотелось, чтобы поскорее. […]
25. Почти то же. Утром лучше. Читал того же Arnold’a и «Revue», Princesse Arabe*. Думал: у нас царство разврата и женщин. Женщины движут всем. И это ложь, и оттого такое раздраженное отстаивание. Попробуйте коснуться этого. Нет предмета, который бы озлобил более людей. А поддерживайте это, и вам все простится. Принес некто статью, о чем, трудно сказать; сочувствует моему осуждению науки, осуждает договор Римского права, но отстаивает дарвинизм и тут же царскую власть. Кажется, Добровольского. Как быть с путаными головами? Письмо Лебединского. Надо выработать отношение. Да, отношение то, чтобы не скорбеть о мнении, которое о тебе составят. Как говорит Эпиктет: если ты не решаешься прослыть за дурака, ты далек от (философии) мудрости. Читал Вольтера с Варенькой, хохотали.
26. Еще лучше. Но очевидно воспаление, жар и боль. Утром были Всеволожская и еще кто-то. Читал об Америке «Duc de Noailles»*. Взгляды самые дикие, но в связи с статьею Добровольского описание несправедливостей демократии заставило думать: ну, хорошо, ну, не будет договора, не будет правительство поддерживать прав, что ж будет? Люди или по привычке будут стремиться к установлению этих прав насилием, или просто будут делать то, что они делают и делали, отстаивать насилием свои выгоды, продолжительность исключительного владения (собственность) и будут придумывать для нее оправдания. Будет хуже. Правда. Но эта неправда правительственная, состоящая в том, чтобы утверждать обязанности по отношению земли одной десятой из десяти тысяч владельцев так же строго, как обязанность исполнить обещанную работу и т. п., не сделается правдой. Договор и собственность есть ложь. Но как освободиться от нее? Постепенными шагами, подоходным налогом, уничтожением наследства и т. п. Пожалуй, но сознавая, что это не то, что должно, а только приближенно. Самая беда это компромисс, принимаемый за принцип. А вот это-то всегда в правительственных делах.
Политического изменения социального строя не может быть. Изменение только одно нравственное, внутреннее человека. Но каким путем пойдет это изменение? Никто не может знать для всех, для себя мы все знаем. И как раз все озабочены в нашем мире этим изменением для всех, а только не для себя.
Вечером были Марья Александровна и Ольга Алексеевна, а потом пришел Фет. Я не сумел в радость перенести его. А можно бы. Радость ведь не в том, что Фет, а что я делаю волю бога по отношению к Фету.
27 февраля. 89. Москва. Рано встал, все болит. Вчера написал два письма Лебединскому и Файнерману. Нынче еще два Шихматову и Анненковой. Боль есть, но голова давно не была так свежа. Очень благодарен за эту болезнь. Теперь 12. Читал Leroi Bolieu, Fonctions de l’état*, и думал две вещи:
1) о том, как бы найти критериум не истины, но того состояния умов, при котором их общение может быть плодотворно, или скорее — такое состояние и отношение умов, при котором общение плодотворное невозможно. Как бы найти те условия, при которых винт может держать, и те, при которых он не держит. Дело, главное, в том, чтобы найти признаки праздной болтовни, баловства словом, которые ужасны для меня, как и для всех искренних работников слова. Как же — я из глубины души достаю с болью и страшным трудом мысль, и вдруг эта мысль замешивается [?] в миллионы таких же мыслей и среди этой массы теряет свое значение. Мысли же эти не мысли, а подобие их и добываются совсем не из глубины и совсем иначе и очень легко. Вот найти признак их. Об этом допишу после.
2-е думал: о том, что есть компромисс, напишу об этом Черткову. Еще о издании своих сочинений только после смерти. Была Марья Александровна. Она едет на Кавказ с своей бывшей начальницей. Рассказывала о Черткове. Все бы хорошо, кабы только они (женщины) были на своем месте, т. е. смиренны. Стахович отец. Тяжело. Потом Свешникова милая. Потом Дунаев, хорошо поговорил с ним. [Вымарано 3–4 слова. ] Держусь изо всех сил. Можно, коли помнить. [Вымарано 3–4 слова.]
28 февраля. Москва. 89. Встал рано, убрал комнату, записал, иду кофе пить. Объелся кофеем. Читал Leroi Bolieu. […] Вчера думал: многописание есть бедствие. Чтобы избавиться его, надо установить обычай, чтобы позорно было печататься при жизни — только после смерти. Сколько бы осадку село и какая бы пошла чистая вода! […]
1 марта. 89. Москва. Встал рано разбитый, слабый. Долго так сидел, с усилием записал. […] Был Гольцев. Я ему продиктовал теорию искусства. Был Альсид. Ужасно трудно во взрослые годы понимать степень ребячества молодых людей. Лег в 12.
3 марта. 89. Москва. Встал в 8, убрался.
[…] Поправлял об искусстве — вышло лучше. Начал было писать о Фрее* — не пошло. Снес Гольцеву и зашел к Вере Александровне. […]
4 марта. Москва. 89. Встал позднее, записал, работать нечего, пойду пройдусь. Читал М. Arnold*. Слабо. Софизмы о церкви, которая ему зачем-то нужна. Спал. Пошел в библейскую лавку, заперто. Дома много народа своего. Хорошо все было до приезда Сережи и его все одних и тех же разговоров, осуждающих все, отчаянных и оправдывающих себя. Я более горячо говорил, чем надо. Лева огорчает меня своей папиросочной плохостью. Ел лишнее, живот ноет. Потом пришел Касаткин, Архангельский, Янжул и Трирогова. Хорошо говорили. Письма два из Америки. Одно Панина, лекция обо мне*, другое известие о свободо-земельном движении в Колорадо. Лег очень поздно.
7 марта. 89. Москва. Встал рано. С Сережей хорошо говорил, возил воду, записал и иду завтракать. От Ге вчера письмо хорошее. [Вымарано около 4 строк.]
Пришел художник лепить для группы*, потом пришел Касаткин с книжкой «В чем моя вера», взволнованный, раздраженный, с слезами на глазах и, как я понял, с соболезнованием к себе и раздражением ко мне: за что нарушил мое спокойствие, указал то, что должен делать и не могу делать. «Ты не делаешь». «Ты обманщик». Так он и сказал мне: «Это обман». Я не стану описывать. Я понимаю это раздражение, оно благородно-эгоистическое, любующееся на себя. Я вел себя хорошо: не стесняясь Клодтом, старался смягчить. […]
11 марта. Москва. 89. Вчера писал предисловие, порядочно. Пришел Штанге, я с ним пошел ходить. […] Потом Фет. Тщеславие, роскошь, поэзия, все это обворожительно, когда полно энергии молодости, но без молодости и энергии, а с скукой старости, просвечивающей сквозь все, — гадко. Потом пришла Оболенская. Я не помог ей, обошелся не по-божьи. Потом Богоявленский, Бибиков и Еропкин. Сказал то, что думаю об общинах, что для освобождения себя от пользования правом чужого труда неразумно и опасно собирать себе деньги (орудие угнетения) и на эти деньги покупать несправедливейшую собственность — земельную. Он согласился. Мы хорошо говорили. Орфано все хочет опровергать. Я рад, что мне точно стало жалко его. Какая тревога и страх. Лег поздно. Спал, думая. Проснулся на том, что кому-то говорил: не говорите о нужде бедных материально и о помощи им. Нужда и страдания не от материальных причин. Если помогать, то только духовными дарами, нужными одинаково и бедным и богатым. Посмотрите на жизнь среднего сословия. Мужья с отвращением, напряжением, тоской наживают деньги противными для них самих средствами, а жены неизбежно с недовольством, с завистью к другим, с тоскою проживают все, и им мало, и в воображении утешаются надеждой на выигрыш билета, если не в 200, то в 50 тысяч; читал «Учении XII Апостолов» Соловьева*. Как праздны рассуждения ученые.
Думал: в науке неправильно одно значение, которое ей придается. Они, ученые (профессора), делают некоторое определенное дело и нужное, они собирают, сличают, компилируют все однородное. Они, каждый из них, справочная контора, а их труды справочные книги. Например, в Διδακη[100] собрано все касающееся этого, и это полезно, но выводы не полезны и глупы. То же у Янжула, у математика, у Стороженко. Catalogue raisonné[101] и экстракты из книг — полезны, но их воображение, что этими компиляциями, собраниями, каталогами они увеличивают знание, в этом комическое заблуждение. Как только они выходят из области компиляций, они всегда врут и путают добрых людей.
Все утро читал Рёскина. Об искусстве хорошо. Наука, говорит, знает, искусство творит. Наука — утверждает факт, искусство — проявления. Это наоборот. Искусство имеет дело с фактами, наука — с внешними законами. Искусство говорит: солнце, свет, тепло, жизнь; наука говорит: солнце в 111 раз больше земли. Иду обедать. […]
14 марта. 89. Москва. Встал рано. Работал, читал о Китае прекрасную книгу*. […]
Переправил еще об искусстве. Прочел вчера свое предисловие Суворину. Оно совсем не хорошо. Пошел к Третьякову. Хорошая картина Ярошенко «Голуби»*.
Хорошая, но и она, и особенно все эти 1000 рам и полотен, с такой важностью развешанные. Зачем это? Стоит искреннему человеку пройти по залам, чтобы наверно сказать, что тут какая-то грубая ошибка и что это совсем не то и не нужно. Дома после обеда только что хотел идти с Александром Петровичем, как пришла Ольга Алексеевна с Озерецкой (какая симпатичная женщина), а потом Шихаев. С ним пошел в трактиры Ржановки, одевать Александра Петровича. Часовщик спившийся: «Я гений!» Дитя курящее. Пьяные женщины. Половые пьют. Половой говорит, что тут нельзя быть не выпивши. Шихаев еще тщеславно добродетелен, но думаю, что искренний. Просил его свезти Александра Петровича. А ко мне пришли Философовы, Пряничников и Коровин. Пустое болтанье. Тяжело. Очень поздно лег.
15 марта 1889. Москва. Встал так же рано, работал много. Читал Quental’a*.
Хорошо. Он говорит, что узнал, что, несмотря ни на какие неопровержимые доказательства (детерминизма) зависимости жизни от внешних причин, свобода есть — но она есть только для святого. Для святого мир перестает быть тюрьмой. Напротив, он (святой) становится господином мира, потому что он высший истолкователь его. «Только через него и знает мир, зачем он существует. Только он осуществляет цель мира». Хорошо. Засну.
Заболел живот, провалялся до обеда. Почти не обедал. К Тане пришла куча барышень и Дунаев. Я читаю хорошенькие вещицы Чехова*. Он любит детей и женщин, но этого мало. Не выходил.
17 марта. 89. Москва. Встал рано, колол дрова. С просителем обошелся вполне хорошо. Соня добрее. Помоги, господи. Читал Чехова. Нехорошо — ничтожно*. Прочел Элснера о Пене. Пошино об астрономии и Черткова о Будде*. Все хорошо, особенно о Пене и Будде. Очень хорошо. Теперь обед, а я не выходил. Весь вечер сидел один, читал Чехова. Способность любить до художественного прозрения, но пока незачем. Потом М. Стахович. Я рад, что дружелюбно [?]. Поздно лег. Дурно.
[18 марта.] 17 марта. Москва. 89. Рано встал, много работал, дочитал Чехова, иду за Диксоном* и узнать о дороге*. Очень низкий уровень духовной жизни. Встретил Соловьева. С ним посидел: он признает церковь только как зачаток. Но почему известная ему римская, или какая бы ни было другая, есть этот зачаток? Поехал до Грота. […]
[20 марта.] 19 марта. Москва. 89. Встал рано, только убрал, поправил хорошую статью Dol’a и поправлял об искусстве.
[…] Да, еще читал «De la vie»* по-французски. Очень показалось плохо — искусственно, хотя и не лживо.
20 марта. Москва. 1889. У меня, кажется, пропал день. Нынче 21. Встал очень рано, не выспавшись. Спал хорошо. Но оказывается, я этим оскорбляю. Господи, научи и настави меня. Встал и, не одеваясь, сел за поправку об искусстве и сидел три часа, перемарал все и не знаю, стоит ли работы. Кажется, нет*.
Сейчас сказал Соне то, что давно хотел, что не могу ей сочувствовать в издании. Она очень рассердилась и сказала: ты меня всячески ненавидишь. Она страдает и болит мне, как зуб, и как помочь ей, не знаю, но ищу. Помоги…
Сидела христианка. Я устал резать эту воду. После обеда точно такой же разговор с книгопродавцем из библейской лавки. Устал. Потом Андреев. Пошел к Гроту. Что за каша в голове. Даже нет понятия о различии между ясными и неясными мыслями. Мне стыдно, что я говорил. Дома Рахманов, Хохлов, Бутурлин. Хохлов покидает техническое училище, дом и идет в деревню. Жутко, знаю, что не выйдет то, чего он жаждет, но стремление к чистоте, отречение — хороши и должны принести плоды. Бутурлин путается в своей личной жизни. Спал дурно.
23 марта. Спасское у Урусова. Спал прекрасно, встал в 9, поговорил с Урусовым, записал и пойду гулять до обеда. Писать не могу.
Все то же печальное запустение, та же фарисейская внешность, даже не внешность, а описание внешности, не имеющее ничего общего с действительностью, и потому заброшенная совсем действительность. 1-е, приходско-церковная школа. Ребята в деревне, пропасть ребят, все ребята без дела и грамоты. К попу не ходят — заставляет дрова пилить и плохо учит. 2-е. Девки на фабрике. «А замуж?» — «Ну ее — хомут-то натер шею». 3-е. Идут гуськом одиннадцать мужиков. «Куда ходили?» — «Гоняли к старшине об оброке, теперь гонят к становому». 4-е. Трактир великолепный. Подразумевается, что есть школы, народ платит подати. Соблюдаются браки и искореняется пьянство. Урусов губит себя объедением, вином и табаком. Поша уехал. Я спал, готовилась боль.
25 марта. Спасское. 89. Встал в 9, убрал, погулял, нищий собирает на табак и водку. Устал я, и не хочется писать. И не надо.
[…] Ходил в деревню Лычево: семья нераздельная, три брата, старуха вдова, не пьет водки. Поговорили о войне и еще в караулке у церкви. Начал поправлять «Исхитрилась»*. Вечер говорил с Урусовым. Рано — в 11-м часу заснул и спал хорошо.
27 марта. Спасское. 89. Не спал до 5 часов. Бессонница. Спокоен был, молился. Встал в 9. Пошел ходить в Зубцево, оттуда в Лычево и домой. Встретил Степана. Он согласен в Общество трезвости, и еще покупатель сена. Я объяснял Степану о фабрике. Миткаль обходится дешево, потому что не считают людей, сколько портится и до веку не доживают. Если бы на почтовых станциях не считать, сколько лошадей попортится, тоже дешева бы была езда. А положи людей в цену, хоть в лошадиную, и тогда увидишь, во что выйдет аршин миткалю. Дело в том, что люди свою жизнь задешево, не по стоимости продают. Работают пятнадцать часов. И выходит из-за станка — глаза помутивши, как шальной; и это каждый день. […]
28 марта. Спасское. 89. Проснулся в 8. Иду кофе пить. Занимался, писал комедию (плохо!). После обеда пошел в Новенькой завод с 3000 рабочих женщин, за десять верст*. […] Пьяный дикий народ в трактире, 3000 женщин, вставая в 4 и сходя с работы в 8, и развращаясь, и сокращая жизнь, и уродуя свое поколение, бедствуют (среди соблазнов) в этом заводе для того, чтобы никому не нужный миткаль был дешев и Кноп имел бы еще деньги, когда он озабочен тем, что не знает, куда деть те, которые есть. Устраивают управление, улучшают его. Для чего? Для того, чтобы эта гибель людей, и гибель в других видах, могли бы успешно и беспрепятственно продолжаться. Удивительно! […]
[30 марта. Спасское. ] Ночью разбудил Урусов с телеграммой о приезде трех американцев. Долго не мог заснуть. Встал в обычное время. Написал конец 3-го действия. Все очень плохо. Сели обедать, приехали американцы. Два пастора, один literary man[102]. Они бы издержали только доллар на покупку моих книг «What to do» и «Life»[103], и только два дня на прочтение их и узнали бы меня, то есть то, что есть во мне, много лучше.
[…] Целый вечер поправлял статейку об искусстве, очень не понравилась мне при чтении Урусову. И не послал.
1 апреля. Спасское. 89. Также рано. Написал 4-й акт очень плохо. […] Вечером читал Урусову комедию, он хохотал, и мне показалось сносно. Лег поздно и спал долго.
3 апреля. Спасское. 89. Хотел писать новое, но перечел только все начала и остановился на «Крейцеровой сонате». На тэму не могу писать*. […]
Если жив буду 4 апреля. Спасское. 89. Встал рано. Начал «Крейцерову сонату» поправлять. После обеда пошел на шоссе. Далеко. Все робею один в новом месте. Возвращаясь, остановился на мосту и долго смотрел. Дурно. С Урусовым приятно. Читал Щедрина. И хорошо, да старо, нового нет*. Мне точно жалко его, жалко пропавшую силу.
5 апреля. Спасское. 89. Встал в семь. Очень много и не дурно писал «Крейцерову сонату». Пошел в Владимирскую губ. через лес, через овраги по кладкам, и жутко было, но не так, как прежде. Та же земля и тот же бог в лесу и в постели, а жутко. В Новоселках милая грамотная девочка и мальчики читали. Испорченный вином мужик с перехватом. Потом Швейцария. Мамачиха мельница, заробел идти по кладкам. Потом славная семья в Охотине и мальчик милый. Потом снег и поход в Еремино и оттуда опять с мальчиками через огромный лес в Ратово и усталый пришел домой в восемь. Поел и вот у постели. Второй день не ем сахара, масла и белого хлеба. И очень хорошо.
6 апреля. […] Да, Урусов прекрасно объяснил свое понятие о любви. Любовь не чувство, а лицо. Это лицо берет за руки меня, «я» и ближнего и связывает меня с ним. […] Встал рано. Долго не писалось, а потом опять писал «Крейцерову сонату». После обеда читал ее Урусову. Немного нога болит. Урусову очень нравится. Да и правда, что ново и сильно. Не выходил никуда. Герасим болен. Мне хорошо очень. Получил письма от Сони, и Тани, и Мики, и Поши, все хорошие. Не удастся идти, надо ехать*.
[8апреля. Москва. ] Жив, в Москве, но не совсем. Встал очень рано, уложился, простился с Урусовым и поехал. На станции и дорогой пропагандировал общество трезвости.
9 апреля. Москва. 89. Встал в 6. Немного слаб нервами, приводил в порядок письма и читал их. Читал эпизод о защите казненного солдата*.
Написано дурно, но эпизод ужасен в простоте описания — контраста развращенных полковника и офицеров, командующих и завязывающих глаза, и баб и народа, служащего панифиды и кладущего деньги. […]
11 апреля. Москва. 89. Встал в 7. Убрался и сел за статью об искусстве*. Хотя и дурно расположен был, все ясно и кое-что сделал: уяснил и расположил. Письма от Элпидина, от священника с проповедями. Пошел к Озмидову. Унылость. Он умственно больной, но хороший. Самолюбие еще не тронулось в нем, как лед на реке. Дома оргия на двадцать пять человек. Еда, питье. Дьяков милый, кроткий и Фет жалкий, безнадежно заблудший. Я немножко погорячился с ним, когда он уверял, что не знает, что значит безнравственно. У государя ручку целует, Полонский с лентой. Гадко. Пророки с ключом и лентой целуют без надобности ручку*. Вечером ничего не делал. Рано лег. С Соней хорошо, тихо.
13 апреля. Москва. 89. Встал в семь. Опять бился над статьей об искусстве. Хотя не запутался, но и не кончил. Не выспался и слаб. Главное же, переел. Читал шекеров*. Все думаю, и вопрос остается вопросом. Иду завтракать. Получил брошюру, проповедь Dol’a. Ничто, как такие хорошие, но пресные книги, не указывает на тщету писаний, рассуждений, построений. Тоже прочел Лопатина реферат о свободе воли. Да, лаконизм, если не молчание.
Собрался идти, пришел Брашнин. Прошелся с ним. Он прямо ищет наставления, как жить. Поговорил, посоветовал о книгах против пьянства, чайную и проще и ближе быть. Потом подле музея выставки Семирадского встретил Богданова. Они хвалят картину*. Потом в библейскую лавку. Хорошо поговорил с Никольсоном? (кажется). Я попросил простить. И о пьянстве. Потом к Маракуеву, не застал и домой. Дома Голохвастов, Грот и Дунаев. Потом Овсянников, о статье (защита солдата). «Ваше сиятельство». Как тут быть? Потом Касиров и Александров. Письмо от Аристова и Леонтьева. Ужасен этот зуд, заставляющий их писать. Не слушать, как токующий тетерев, а токовать. Потом, вместо молчания и лаконизма, с Касировым, задирающим о вере, говорил много лишнего. Столько же лишнего говорил и с Гротом о свободе воли. […]
15 апреля. 89. Москва. Встал в 7. Не писалось. Читал роман Роёу* — даже задремал, записал вчерашний день. Иду завтракать.
Пришел Шаховской. Сделался казенным либералом: свободу ему нужно как-то «делать». Я ходил с ним до Маракуева и говорил с добротой, стараясь быть ему полезным. Трудно. Обедала Лиза. И с ней хорошо. Жалко ее стало. Она лечится у Рика, по 40 рублей за сеанс, и слуга Философовой рассказывал чудеса про барыню. Читаю роман Роёу: страшна сознанная деморализация. Не страшно, но созрело очень сознание: должно разрешиться. Картина Репина невозможна — все выдумано. Ге хорош очень*.
18 апреля. 89. Москва. Встал в 9-м. Начал поправлять об искусстве очень хорошо, но надобно ехать навстречу Толстой*. Поехал с Таней. Очень хорошо с ней было. Потом к Юнге. И там было очень хорошо. Потом Таню проводил и вот к 5 часам вернулся домой. Куча писем, которые буду читать после обеда.
Помешал Танеев. Читал ему об искусстве. Он совершенно невежественный человек, усвоивший бывшее новым тридцать лет тому назад эстетическое воззрение и воображающий, что он находятся в обладании последнего слова человеческой мудрости. Например: чувственность — это хорошо. Христианство — это католические догмы и обряды и потому глупость. Греческое миросозерцание — это высшее и т. п. Приехал Горбунов.
И я не мог с ним поговорить. Танеев надоел. Лег поздно.
19 апреля. Москва. 89. Встал поздно, в 9-м. Побеседовал с Горбуновым, проводил его и, после напрасных попыток писать об искусстве, пошел сначала с Рахмановым к его студенческой матери*, а потом в детскую больницу. […] Прочел прелестное сказание об Ормузде и Аримане (вымышленное)*. После обеда начал читать. […] Читал «World Advance Thought» и «Universal Republic». Созревает в мире новое миросозерцание и движение, и как будто от меня требуется участие, провозглашение его. Точно я только для этого нарочно сделан тем, что я есмь с моей репутацией — сделан колоколам. […]
20 апреля. Москва. 1889. Встал в 8. Пытался писать об искусстве и убедился, что даром трачу время. Надо оставить, тем более, что и Оболенский пишет, что готов ждать. Не пишется оттого, что неясно. Когда будет ясно, напишу сразу. Я себя обманывал, что ясно. Я как будто в пику писал, а не для дела. Теперь 3. Приехал Соловьев*.
Поговорил с ним ничтожно, пошел к Нелидовой. Отвратительная дама, затянутая, обтянутая, жирная, точно голая. Писательница. Вел себя порядочно. Ушел. После обеда тотчас же ушел, снес рукопись Губкиной и «Неделю» Дмоховской. Встретил Озмидова. Он шел ко мне с четырьмя пунктами: 1) что если хочешь дурное, то надо его делать, иначе — фарисейство. Непостижимый вздор, если не знать, что эта теория нужна ему, чтобы оправдывать свое курение, револьвер, то есть делая дурное, думать, что я делаю, что должно, 2) что я несправедливо сказал, что если человеку нужны деньги, то это не значит, что ему нужны деньги, а значит, что нужно исправление того ложного положения, в котором он находится. Непостижимое непонимание, если не знать, что не понимать этого ему необходимо для того, чтобы не считать свое положение неправильным, 3) что неверно я сказал, что разрешение экономических затруднений для отдельного человека состоит в том, чтобы быть нужным, тоже непостижимое несогласие, если не знать, что он считает себя нужным людям, несмотря на то, что люди не понимают своей нужды. Наконец, 4-е) тоже записанное в книжечке; на этом четвертом я так ясно убедился, что все эти якобы разъяснения недоразумений суть не что иное, как умственные хитрости для оправдания своего положения (для довольства собой, исключающего движение вперед), что я перестал возражать и мне истинно стало жалко его. Думаю, что это мое молчание более полезно могло подействовать на него, чем возражение. 4-е состояло в том, что человек может убить себя. Может ли человек убить себя? спросил он. Думаю, что нет, отвечал я. А как же, когда я, защищая другого, подставлю себя? Да, разумеется, сказал я, удивляясь, к чему эта высота самоотвержения. «А стало быть, и морфин хорошо?» Я понял, что морфин, который он вспрыскивает и который есть слабость, он объясняет тем, что он делает это для того, чтобы быть в состоянии работать и потом кормить семью, следовательно, убивает себя для других. Никогда так ясно не было мне искривление суждений людских для оправдания себя, для избавления себя от покаяния и потому от движения вперед. Это нравственный морфин. Таковы все изуверы, все теоретики. Да, вот что нужно записать на ногте: не спорить с такими. Спор с такими — страшный обман, это драться обнаженному с покрытым латами (нехорошо сравненье). Лег в 12-м.
22 апреля. Москва. 89. Проснулся в 6, встал в 8. Читал Ноеса об общинах*. Читая шекеров, приходишь в ужас от однообразия мертвенного и суеверий: пляски и невидимые посетители и подарки — очки, фрукты и т. п. Думал: удаление в общину, образование общины, поддержание ее в чистоте — все это грех — ошибка. Нельзя очиститься одному или одним; чиститься, так вместе; отделить себя, чтобы не грязниться, есть величайшая нечистота, вроде дамской чистоты, добываемой трудами других. Это все равно, как чистить или копать с края, где уж чисто. Нет, кто хочет работать, тот залезет в самую середину, где грязь, если не залезет, то, по крайней мере, не уйдет из середины, если попал туда. […]
23 апреля. Москва. 89. Встал очень рано. Усталый. И не пытался писать. Читал сен-симонизм, фурьеризм и общины и никуда не выходил. Думал: страшно подумать, как заброшен мир, как парализована в нем деятельность лучших представителей человечества организациями церкви, государства, педагогической науки, искусства, прессы, монастырей, общин: все силы, которые могли бы служить человечеству примером и прямым делом, становятся в исключительное положение, такое, при котором простое житье, воздержание от пороков, слабостей, глупостей, роскоши становится необязательным, простительным, даже нужным (нельзя же архиерею, министру, ученому не иметь прислуги, удобоваримого обеда, рюмки вина), и не остается никого для делания простого, прямого дела жизни. Еще хорошо, что церковь, государство, наука, литература, искусство не чисто выбирают, а остаются люди рядовые. Но все-таки это отступление лучших по силам людей от дела жизни — губительно. St. Simon говорит: что, если бы уничтожить 3000 лучших ученых? Он думает, что все погибло бы. Я думаю — нет. Важнее уничтожение, изъятие лучших нравственно людей. Это и делается. И все-таки мир не погибает. Но хорошо бы уяснить это.
После обеда, во время которого был молчалив от дурного расположения духа, пошел к Дмоховской. Зашел к Златовратскому. Там фабричный сочиняющий. Убеждал его бросить и сочинительство и вино; первое вреднее. Болело под ложечкой. Приехала бедная Таня. Жалка она мне очень.
25 апреля. Москва. 89. Встал поздно. Писал об искусстве недурно. Приехал Поша. Я говорил ему, что надо ждать*. Он огорчился; но с христианином всегда ясно и хорошо. Снес книги Янжулу и в музей. Дома ждут своих. Толки о Сережиной свадьбе. Все глупо, ничтожно и недоброжелательно.
[…] Приехала Маша. Большая у меня нежность к ней. К ней одной. Она как бы выкупает остальных. Потом приехал Илья с Соней, потом Сережа с Александром Михайловичем. Я устал очень и лег поздно.
27 апреля. Москва. 89. Рано встал, нездоровится. Написал только письмо юноше. Об искусстве ясно на словах, а не выписывается. Надо, кажется, отложить. 2-й час, пойду к Илье.
У него Бобринский, Философов. Незачем сходиться. Возвращаясь, встретил Голованова и пригласил его с собой ходить. Он тонкий и чуткий. Рассказывал о впечатлении, произведенном мною на него. Поучительно. Дома крестьянин, наивный и слабый стихотворец*. Говорил с ним по душе. Конаков пришел, жаловался на В. Ф. Орлова и на хозяина бывшего. Нехорошее впечатление, как и сначала. Это человек, не вышедший из первобытного эгоизма. Пошел к Дьякову. На Смоленском играл в шашки и мне заперли 13. Смешно, что было неприятно. У Дьякова посидел. Дома толпа праздная, жрущая и притворяющаяся. И все хорошие люди. И всем мучительно. Как разрушить? Кто разрушит? […]
28 апреля. Москва. 89. Встал в 8. Сел у Тани писать об искусстве сначала, потом пришел Грот. Прочел ему. Так недурно. Читал Грота «О чувстве»*. Страшная дребедень: ни содержанья, ни ясности, ни искренности. […]
29 апреля. Москва. 89. Встал позднее. Решил не переделывать вперед, а писать сразу. Это можно, но надо выработать приемы, которых еще нет: именно обдумать яснее тезисы рассуждений и потом уж распространять.
Попробовал так писать об искусстве и не мог. Опять запутался. […]
30 апреля. Москва. 89. Встал в 8. Ничего не писал, только просмотрел вчерашнее. Пошел к солдатам*. […] Думал: вот семь пунктов обвинительного акта против правительства: 1) Церковь, обман суеверия, траты. 2) Войско, разврат, жестокость, траты. 3) Наказание, развращение, жестокость, зараза. 4) Землевладение крупное, ненависть бедноты города. 5) Фабрики — убийство жизни. 6) Пьянство. 7) Проституция.
Когда подходил к войскам, попы с образами пошли на меня. Я, чтоб не снимать шапки, пошел прочь от них. И совестно было убегать, а идти на них робел и стыдно стало. Вернулся домой, читал и записал это. Решил об искусстве написать тезисы, то есть кратко положения. […]
2 мая. Москва. 89. Встал в 6, убрался в дорогу скоро и весело, но не добро. В 10 пришел Попов, и мы выехали за заставу. Шли до Сырова, четыре версты не доходя Подольска, где и ночевали*. Дорогой пили чай. Муж пьет, женщина работает, восьмилетняя девочка моет полы и делает папиросы на один рубль в неделю. Двадцать копеек за стекло отдали при мне. С Поповым идти хорошо и легко.
5 мая 89, в дороге. [Село Богучарово?] Везде бедствие вино: читали «Винокура»*. Баба воронежская покупала книжку, от мужа-пьяницы. Холод страшный. Зябли, и даже заробел. Отдыхали против станового, не входя, и потом в трактире. У отца девочки. Я дал книжки. Пришли ночевать в Богородицк, 34 версты от Тулы. Много народа: старый и молодой солдат, бабы, ребята-слесаря. Я говорил о войне. Поняли. Спал хорошо. Выходим дальше.
6 мая 89. В дороге. Шли бодро без останову 16 перст. Обедали в трактире Серюковки, где я очень уговаривал о пьянстве. Добрый старик трактирщик, жена и сын. Писарь при церкви ухарь, пил и читал и дал мне 5 копеек за книгу «Пора опомниться». Бывший старшина, в упадок пришедший, шел с нами. Дошли до Тулы. И зашли к Свербееву. Немного стеснительно, но он добродушен вполне. Пошел к Раевским, встретил юношей из Академии художеств. Кажется, хорошие. […]
10 мая. Ясная Поляна. 89. Проснулся поздно, тоже слабость. Начал писать об искусстве, не пошло. Пошел в леса с записной книжкой. Пробовал выразить тезисами — не мог ясно формулировать. […]
[13 мая. Протасово. ] Еще жив. Встал в 4, собрался, простился с Поповым и поехал на Козловку, где ждал около часа.
[…] Пошел в самый жар и разморился. Пришел, выбежала милая Маша, готовая на все доброе, и такая же с нею готовая славная мать Соня. Илья ниже ее гораздо, как мужчина. Он зарывается в мелочах, и, кроме, того, роскошь и отсутствие духовной жизни. Он добрый, но очень слабый человек. Поел, отдохнул, напился чая. Походил по лесу и вот записываю. 6-й час. Вечер посидели, легли рано. Мне нездоровится.
14 мая. 89. Протасово [и Ясная Поляна]. Встал очень рано, пошел ходить по лесу. Записал мысли об Илюше*. Хотелось обличить, молясь за него, и целый день искал случая и не нашел. Сказал урывками, было тяжело. И, главное, он не хочет слушать и не послушает. Все читал Успенского. Одно: «При своем деле» — сносно, остальное невозможно плохо*.
Потом на лугу читал «Чем люди живы» сидоровским ребятам. Это было лучшее. Поехали в 6. Дорогой пробовал говорить*. Главное, он несчастлив совсем. Как для паука уж дождь, когда только начинается сырость, так для меня он уже несчастлив так, как он будет через двадцать лет. В вагоне дочь священника, узнавшая меня, рассказывала о заводе Мальцовском, ставшем на артельном начале, и Песочном, затевающем то же. Маша дорогого стоит, серьезна, умна, добра. Упрек ей делают, что она не имеет привязанностей исключительных. А это-то и показывает ее истинную любовь. Она любит всех и заставляет всех себя любить — не так же, но больше, чем любящие исключительно своих. Приехали в 12. Все наши уж приехали. Долго возились.
16 мая. Ясная Поляна. Спал дурно. Встал в 8. Опять кружусь в колесе об искусстве. Должно быть, слишком важный таинственный это предмет…
Приехали вещи, раскладывали, суета. Читал о Lamenais статью Janet*. Много хорошего. […]
17 мая 89. Ясная Поляна. Встал рано. Утро перечитывал и поправлял «Крейцерову сонату». Никуда не ходил, теперь 5-й час. После обеда хотел ехать верхом с Таней, гроза помешала. Пришел Буткевич Анатолий с невестой. Говорил с ним хорошо. […]
18 мая 89. Ясная Поляна. Встал позднее. Горбунов здесь. Я был рад его видеть. Потом писал «Крейцерову сонату» о целомудрии — недурно. Пришли мужики с Козловки за книжечками. Они уже выпили, 2-й час. Пришли на Козловку с Горбуновым. Он слишком согласен. Он молод очень душою. Тяжело дома. Упадок нравственный во всех большой. Усталость и признанье своей неправды. Лег поздно.
20 мая. Ясная Поляна. 89. Рано. Письма, от Левы доброе и от Черткова хорошее. Сел за работы, но нейдет пока. Вчера говорил об искусстве, и опять поднялись дрожжи. Ходил с Горбуновым и говорил об искусстве, и записывал, и, кажется, уяснил себе кое-что. Очень чувствую себя слабым. Читал Лекки об эстетическом развитии искусства…* Да, искусство, чтобы быть уважаемым, должно производить доброе. А чтобы знать доброе, надо иметь миросозерцание, веру. Доброе есть признак истинного искусства. Признак искусства вообще, — новое, ясное и искреннее. Признак истинного искусства — новое, ясное и искреннее доброе. […]
21 мая. Ясная Поляна. 89. Встал в шесть. Ходил гулять. После кофе пописал немного «Крейцерову сонату». Иду завтракать. Читал проповедь в американской газете о невинных страданиях, увеличивающих сострадание. Неверно. Безвестные страдания. Связь есть, но она не видна нам.
Пришел Мотовилов юноша из лицея, живущий в поденной работе у Гиля. Образованный, умный, но очень легкомысленный. Ходил по засеке, записал мысли об искусстве и к «Крейцеровой сонате». […]
23 мая. Ясная Поляна. 89. Вчера было очень тяжело слушать жалобы Сони на труды с именьями. Накупила, бедная, сама не знает зачем и не знает, что делать*. Встал очень поздно и пошел рубить слеги ясенецкому мужику. Очень было приятно. […]
25 мая. Ясная Поляна. 89. […] Во сне видел, что я взят в солдаты и подчиняюсь одежде, вставанию и т. п., но чувствую, что сейчас потребуют присяги и я откажусь, и тут же думаю, что должен отказаться и от учения. И внутренняя борьба. И борьба, в которой верх взяла совесть.
С утра взялся писать в книжечке воззвание*. Чувствую, что жить недолго, а сказать еще, кажется, многое нужно. […]
27 мая. Ясная Поляна. 89. Встал рано. Все еще болит под ложечкой. Читал «Русскую мысль». Budget*. Всякий вздор. Ходил на деревню. Семен Резунов сказал чудную пословицу по случаю моего уговора не ругаться и не пить: «Ослабеет человек, слабей воды; окрепнет, крепче камня». И угрожающая и поощряющая пословица. Обедал, теперь 8-й час. Все нездоровится, болит. Что-то хорошее было записать. Все забыл.
Вечером скучная довольно Толстая*. Но разговорился о целомудрии хорошо. Лег поздно.
28 мая. Ясная Поляна. 89. Здоровье хуже. Ходил утром. Читал о Жан Поле Рихтере. Чистота его нравов и платонизм поразительны. Прекрасные тоже изречения. Это хорошего сорта писатель. Рядом с эгоистом Гете. Хороша сказка об отце, воспитавшем детей под землей. Им надо умереть, чтобы выйти на свет. И они страшно желали умереть. Надо исследовать, почитав Жан Поля. […]
29 мая. Ясная Поляна. 89. Встал рано, походил. Ребята за книжками. Письмо от Поши, с письмом Сони. Все хорошо. И Маша приняла хорошо*. 12-й час. Все так же нездоров. Ходил по лесу, встретил Таню и Машу Кузминскую. Утром говорил с Толстою о вере: странно кажется, но нельзя иначе сказать, как то, что греко-русская вера есть одна из самых суеверных и вредных ересей. Еще ходя по лесу, где я преследовал и без жалости добивал раненого зайца, подумал о том, как невинны должны быть убийцы. Они думают о другом и убивают без борьбы. Но стоит опомниться. Как хороша могла бы быть история об убийце, раскаявшемся на незащищавшейся женщине*. Столько хочется и нужно писать, и нет сил. […]
30 мая. Ясная Поляна. 89. Вчера болело вечером и непреодолимая мрачность. Лег поздно. Приехал А. Берс и Илюша. Встал в восемь не выспавшись. Также нездоров. Ходил на Козловку, и думалось много. Думал: по случаю Ильи, который опять занят постройкой. Люди, не воскресшие к жизни, заняты всегда и все только приготовлениями к жизни, а жизни нет. Заняты едой, сном, ученьем, отдыхом, продолжением рода, воспитаньем. Одного нет — жизни, роста своей жизни. Да, дело наше, как дело няньки — возрастить порученное нам — нашу жизнь. И пусть не говорят столь любимую пошлость, что растить свою жизнь — эгоизм. […]
31 мая. Ясная Поляна. 89. Встал рано, ходил на Козловку.
[…] Страхов привез «Сеть веры»* и говорил еще о Готлибе Арнольде. История ереси, в которой он истинную струю признает в ересях. С Ильей не мог поговорить. Надо бы написать. К вечеру стало немного лучше. Спал дурно.
3 июня. Ясная Поляна. 89. Встал поздно. Видел во сне: Вопрос. Вы признаете, что любовь радостное чувство? Ответ. Да. Вопрос. Признаете, что могут быть условия, увеличивающие и уменьшающие ее? Ответ. Да. Вопрос. Какое действие на возможность любви производит забота о себе? Ответ. Уменьшающее. Вопрос. А обратное, самоотречение? Ответ. Увеличивающее. — Давайте так и делать. Но, может быть, заботы о себе дают больше радости, чем любовь? Надо взвесить. Вспомнил заботу Сони о Леве, о всех детях, заботу внешнюю, но такую, какую одну она может понять, и полюбил ее. Как бы вызывать перед себя все хорошие черты человека, когда имеешь дело с ним. 12 часов. Ходил читал.
После обеда ходил гулять с Страховым и девочками. Меньше, чем прежде, устаю от Страхова. Мне очень приятно с ним. Лег поздно.
[6 июня. ] Пришли монашек и актер просить, дал им денег и книжечек — жалкие. Потом юноша, студент киевский. Говорит, что расстроен нервами и хочет жить по Христу. Вроде Броневского. Говорил с ним по душе.
Вчера, обдумывая воззвание, нашел форму обращения к ближнему, сестре или брату. Кто бы ты ни был, брат мой, вот наше положение и вот что мы знаем и можем знать… и т. д.
Человек не бывает лучше другого, как не бывает место одной реки глубже или чище места другой реки. Человек течет, как река. И человек между 15 и 16 годами, и другой между 25, 30, и третий между 40, 50, и четвертый между 4 и 5-м часом на последнем году своей жизни и т. д. — все несоизмеримые величины. И нельзя сказать: этот лучше или хуже. […]
7 июня. Ясная Поляна. 89. Читал «New Christianity»*. Удивительные мысли — радующие, возбуждающие, о том, что близко, при дверях. Надо выписывать и собирать все, что поражает в двух направлениях. 1) Обвинительный акт и 2) наступление царства божия. […]
10 июня. Ясная Поляна. 89. Получил известие о критике Über das Leben. Приятно. […] Писал «Крейцерову сонату» и рубил колья, с Страховым приятно. Был у Евдокима Володкина. Страхов мне жалок. 5 часов. Иду обедать.
После обеда ходил рубить колья. И лежал. Очень слаб. Грешен — хочется смерти. Лег поздно.
12 июня. Ясная Поляна. 89. Все то же. Не работается ни руками, ни головой. Читал De Quincey*, говорил с Страховым. Все то же.
13 июня. Ясная Поляна. 89. То же утро. Получил письмо от Хилкова о Любиче и ездил в Тулу. Не нашел. У нас Давыдов и куча девочек. Всем им бестолково. И я не помогаю, не умею. Страхов рассказывал воскресенье Вагнера оперы: Вотан, Валгала, Валкирия, Сигмунд, Сигфрид и т. п. Ужасно слушать, до какого полного безумия дошли люди. Надо писать об искусстве. […]
14 июня. Ясная Поляна. 89. Встал поздно, мало походил. Хорошо говорил за завтраком, записал много. Хочу писать. Теперь 2-й час.
Ничего не писал. Беседовал с Страховым. Играли в лапту — стыдно мне. Страхов говорил о плане своего сочинения о пределах познания*. Познание бывает только формальное, но есть еще постижение содержания. Это область нравственности, любви и искусства. Он неясен. Читал критику на него Тимирязева* и ужаснулся. «Дурак, ты сам дурак». В области той, которая избрана перед всеми другими по своей достоверности, область, в которой все основывается на столь любимых фактах, оказывается столь сомнительной, что можно утверждать два противуположные мнения. Поздно лег спать и спал дурно.
15 июня. Ясная Поляна. 89. Все то же. Те же тщетные попытки писать. Впрочем, перестаю пытаться. […] Страшный пример тщеты науки и искусства — это споры о дарвинизме (да и многом другом) и вагнеровщина. А ведь жрецы-то науки и искусства не дожидают решенья, а давно решили, что черный народ должен им служить. А кауфер театральный купил именье, и ему в ноги падают мужики.
[…] Нынче читал прекрасную переделку из «L’homme qui rit»* и подумал: описывается все, как жизнь отдают герои другим, но все это вздор. Надо от места отказаться, как семеновский дворник, или еще труднее, от каши, когда голоден.
В писании своем за это время как будто уяснил кое-что. Надо обдумать теперь и не поправлять потом. Так я обдумал теперь «Об искусстве». И «Крейцерову сонату» и о «Вине»*. Теперь 4. […]
20 июня. Ясная Поляна. 89. Встал в шесть и пошел пахать. Очень приятно. Торопился, чтобы вернуться вовремя и к завтраку, и к обеду, но не миновал злобы. О, господи, помоги мне [вымарана одна строка] любить, обличать любя и молясь. Читал Ad in Ballou Non-résistance*. Дал Леве переводить. Превосходно. Вечером лег рано.
21 июня. Ясная Поляна. 89. Встал в шесть. Пошел пахать в 8 и в 10 вернулся. [Вымарано две с половиной строки. ] Да еще вчера мальчики пришли в 6. Поразительно неразвиты. Как исправить грех.
Вечер пахал весело. […]
23 июня. Ясная Поляна. 89. Встал в семь. Писал письма целый день, кроме отдыха днем. […] За обедом обиделся на Соню за приставанье об еде. Спасибо, что тотчас же после обеда пошел извиниться. Образец женских рассуждений:
Я: Какие чудные статьи о Non-résistance[104]. Она: Да, только разговоры. Все знают, и никто не делает, потому что невыгодно. Я: Да оттого, что не внушают. Она: Сколько ни внушай, не будут делать. Я: Отчего ж, если бы внушали, хоть так, как внушается святость причастия. Ведь никто не выплюнет причастия, хотя бы под угрозой казни это велели. Она: Да, это-то пустяки, легко, это всякий сделает, а того нет. Я (озадаченный): Да ведь я говорю, что несмотря на то, что это пустяки, и не сделают. Ты не понимаешь. Она: Что ж тут понимать? Я и дальше-то все поняла. Это ты только все одно и то же размазываешь.
24 июня. Ясная Поляна. 89. Встал рано, погулял, почитал статью Тимирязева о Страхове. Он не прав, но все-таки ужасно и жалко пропустить, не воспользовавшись. Потом писал «Крейцерову сонату». Подвинулся немного. Заснул. Теперь 3. Буду писать дальше.
Писал. Довольно подвинул. После обеда ослабел, полежал и потом ходил на Козловку. Лег поздно.
25 июня. Ясная Поляна. 89. Встал поздно, убрался, выпил воду и пошел ходить по лесу. Прежде всего увидал — Миша покупает у жамошницы карамельки. Андрюша кричит: валя папильон! Грустно. За что портятся дети. А между тем подумал: привитая оспа избавляет ли от настоящей — неизвестно, но привитые соблазны не то что спасают наверное, но необходимы, чтобы избавиться от них. И легче отстать от соблазна, привитого в детстве, чем от привитого после, например, роскошь, прислуга, сладкая еда. […] Потом думал о повести о человеке, всю жизнь искавшего доброй жизни и в науке, и в семье, и в монастыре, и в труде, и в юродстве и умирающего с сознанием погубленной, пустой, неудавшейся жизни. Он-то святой*. […]
30 июня. Ясная Поляна. 89. Встал в 7. Спал лучше. Нанял за себя на покос и начинаю бродить. Теперь час. Кое-что надо было записать. Забыл.
Целый день читал всякий вздор и еще «Looking backward»*. Очень замечательная вещь; надо бы перевести.
2 июля. Ясная Поляна. 89. Немного лучше. Гапгуды уехали*. Я ходил на деревню и на покос. Все не ладится. Все ссорятся. Писал «Крейцерову сонату». Недурно. Кончил все. Но надо все теперь сначала поправить. Запрещение рожать надо сделать центральным местом. Она без детей доведена до необходимости пасть. Еще про эгоизм матери. Самопожертвование матери ни хорошо, ни дурно, так же как труд. И то и другое хорошо только, когда разумно любовно. А труд для себя и самопожертвование для своих исключительно детей — дурно. Лег рано.
4 июля. Ясная Поляна. 89. Встал в 6. Косил, теперь ½12, устал. Утром и вчера вечером много и ясно думал о «Крейцеровой сонате». Соня переписывает, ее волнует, и она вчера ночью говорит о разочаровании молодой женщины, о чувственности мужчин, сначала чуждой, о несочувствии к детям. Она несправедлива, потому что хочет оправдываться, а чтобы понять и сказать истину, надо каяться. Вся драма повести, все время не выходившая у меня, теперь ясна в голове. Он воспитал ее чувственность. Доктора запретили рожать. Она напитана, наряжена, и все соблазны искусства. Как же ей не пасть. Он должен чувствовать, что он сам довел ее до этого, что он убил ее прежде, когда возненавидел, что он искал предлога и рад был ему. […]
6 июля. Ясная Поляна. 1889. Встал очень рано, пошел на Прудище. Там косил с Фомичом и Андреем. К завтраку пришел домой. Опять косил. Дома все нездоровье Вани. Лег спать. Разбудил Илья с Трескиным. Разговор за завтраком о том, кто говорит и не делает. Какая тут путаница! Человек, как Соня, говорит; другие говорят, но не делают. А я не говорю и не делаю. Это честнее. Что за вздор! Да ты знаешь ли, что нужно делать? Знаю. Ну, так уж лучше говорить. Говоренье хоть что-нибудь — обязывает. К обеду приехал Свербеев. Я поспорил с ним об обществе трезвости. Очень устал, копнил сено.
Но, несмотря на усталость, нынче 7 июля. Ясная Поляна. 89 встал в 6-м и косил, и вот теперь 7, записываю, пришел завтракать. Письмо от Поши. Маша больна. Косил и целый день. Маша вышла работать. Приезжал лесничий Булыгина. По рассказам, они живут все так же хорошо. Идет та же внутренняя работа. Он хочет подать в суд на брагинских*.
Думал: к «Крейцеровой сонате». 1) Различие настроений жены — две женщины. 2) Соблазнитель-музыкант своим долгом считает соблазнить. Притом же: не в бордель же мне ездить, еще можно заразиться. Еще поразила меня, не помню все, деликатность Прокофия*, подумал: ум, дарованья даны не всякому и неравномерно, но понимание чувств людей, улыбки, нахмуренья дано всем, и малоумным, и детям, больше чем другим.
8 июля. Ясная Поляна. 89. Встал в 6. Косил. Вернувшись, застал Ругина. Очень мил. Рассказал много хорошего. С ним косил. Потом приехал Обомелик и Гапгуды с Левой. Я немного горячо доказывал Обомелику глупость вспрыскиванья в кровь ессенции сушеных яиц свинок Браун Секара. Поразительна глупость. Многое хочется писать. Думал к комедии*. Один из мужиков остряк. 8 часов, иду пить чай и спать. Думал дурно. […]
11 июля. Не встал рано от дождя. Пошел в 7. Уже косят. Отбил косу Ругину и целый день косил очень напряженно. Скосил все. Было весело. Дьяков приехал, а прежде его Урусов. Урусов все делает свои вычисления. Это возможно только при табаке. Очевидно, ему ничего не нужно, кроме упражнения своих сил. А приложение их правильное потеряно. Полудновали, я предложил кончившему есть и перекрестившемуся Степану картофеля с маслом. Он отказался, сказав, что сыт, и что через силу есть — грех. Кабы все знали это?! Лег в 11, и нынче 12 июля. Ясная Поляна. 1889. Встал в 8-м, проводил Дьякова. От Файнермана письмо, которое прочла Соня и которое очень огорчило ее. Он пишет о моем кресте, предвидя мои мучения в том, что я живу в таких условиях, которые мне противны и которые я хочу и колеблюсь изломать. Противны да, но колебаний в том, чтоб изломать, нет, потому что я знаю, что это как болезнь, старость, смерть, благие условия жизни моей, а потому и противность не болезненная, а крест, значение которого он не понимает. Крест значит неприятное, больное, тяжелое, несомое как неизбежное, необходимое, от бога посланное и потому уж не неприятное, не больное, не тяжелое, а такое, без которого бы было неприятно, неловко и неестественно. Это то же, что получить на спину неожиданную, непризнаваемую необходимой тяжесть, скажем, в пуд (ведь это мука) или несение мешка с пудом муки для пищи своей и детей. 12-й час. Хотел пахать, но едва ли пойду.
Не пахал. Не помню, как провел вечер.
15 июля. Ясная Поляна. 1889. Встал в 7-м, проводил гостей, свез их на Козловку.
[…] Затеяли вечный, один и тот же разговор о хозяйстве — унывая, отчаиваясь, осуждая друг друга и всех людей. Я попытался сказать им, что все дело не за морями, а тут под носом, что надо потрудиться узнать, испытать и тогда судить. Лева начал спорить. Началось с яблочного сада. С упорством и дерзостью спорили, говоря: с тобой говорить нельзя, ты сейчас сердишься и т. п. Мне было очень больно. Разумеется, Соня тотчас же набросилась на меня, терзая измученное сердце. Было очень больно. Сидел до часа, пошел спать больной.
16 июля. Ясная Поляна. 89. Еще вчера вечером Лева, сознав, что нехорошо, хотел просить прощенья; но нынче поговорил о том, что он виноват, с большой развязностью. Кто кается, тот любит униженье, а не боится его. Я очень болел сердцем все утро. Ходил купаться. Взялся было за работу, «Крейцерову сонату», не идет. Спать тоже не мог: все думал. Как бы надо поступить? И все не то. […]
Думал: какое удивительное дело — неуважение детей к родителям и старшим во всех сословиях, повальное! Это важный признак времени; уважение и повиновение из-за страха кончилось, отжило, выступила свобода. И на свободе должно вырасти любовное отношение, включающее в себя все то, что давал страх, но без страха. Так у меня с одной Машей. Боюсь говорить и писать это. Чтобы не сглазить, т. е. не разочароваться. Теперь 3-й час, пойду гулять. С Урусовым хорошо беседуем с глазу на глаз. […]
18 июля. Ясная Поляна. 89. Встал поздно. Читал варианты об искусстве и прочел то, что начато. Начал поправлять, потом начал «Крейцерову сонату». И не мог продолжать ни того, ни другого. Получил письма и выписку из газет: The World has of Tolstoi, as much as it can digest[105]. Лестно. То-то и скверно, что прислушиваешься к этому. Урусов очень мил, украшает жизнь. Просила Катерина косить. Пойду в обед.
Косил целый день, приходил обедать. Очень устал. Маша жала и выезжала за мной.
20 июля. Ясная Поляна. 89. Ильин день. Я рад отдохнуть. Ездил купаться. Сейчас в 11-м часу неприятно говорил с Таней. Она промолчала. Ходил на деревню, устроить поправку плотины. Читал Brunetier’a о Discipl’e*. Смешной страх, как бы они не сказали того, что я готовлюсь сказать. О! Только бы сказали! И сказали бы лучше моего, затмив меня, но возбудив сердца! Разумеется, да.
Шел мимо всегдашнего покоса Тита покойника и подумал ясно, что тело его в земле и жизни его здесь нет больше, то самое, что вот-вот со мной будет, и тут злиться, гордиться, печалиться, беречь что бы то ни было, кроме своей души. В Америке казнят — не публично и без боли (электричеством). Если же не для угрозы и не для страданий, то зачем же? Изъять из жизни. Да кто же взял на себя решенье вопроса о том, кто подлежит изъятию из жизни? Иду завтракать.
После завтрака читал. Обедал тяжело. Ходил на Козловку. Хотел ехать к Булыгину. Ужасно слаб и уныл. Ночь плохо спал.
21 июля. 89. Ясная Поляна. […] Читал Revue и лежал. Пробовал писать — не мог. После обеда Соня объяснялась, что она была верна и что она одинока. Я сказал: надо всегда быть тихим, кротким, внимательным. Больше ничего не мог сказать. И жалею. Теперь 8-й и ждут Стаховичей. Лева приехал, мне все тяжело с ним.
Приехали чуждые и тяжелые Стаховичи.
22 июля. Ясная Поляна. 1889. Встал поздно.
Утро болтовня бесполезная — не дали заниматься. После завтрака пошел косить. Все уже убрано, только слепого полоска. Я скосил до обеда. Обед у Кузминских, обжорство грустное и гнусное. Как жалки. Я не могу им помочь. Впрочем, ходи я по миру, я еще меньше бы мог помочь им, чем теперь. Соня заперла Бульку, которая кусала собак, и из этого вышла неразрешимая путаница: выпустить? Оставить взаперти? Убить? Le non agir[106]. Лаотцы. Вечер в лапту и скука.
24 июля. 89. Ясная Поляна. Встал в 9. Получил от Страхова книги Арнольда 1720 года история церкви настоящая*. Сколько, сколько ученой умственной работы. Хоть бы одной компиляции всего правдивого истинного, и никто не делает. Стаховичи вернулись и помешали мне заниматься. Я начал «Крейцерову сонату».
Думал: 1) Я пишу «Крейцерову сонату» и даже «Об искусстве», и то и другое отрицательное, злое, а хочется писать доброе, а 2-е то, что в древности у греков был один идеал красоты. Христианство же, выставив идеал добра, устранило, сдвинуло этот идеал и сделало из него условие добра. Истина? Я чувствую, что в сопоставлении, замене одного из этих идеалов другим вся история эстетики, но как это? не могу обдумать. Мешает мне и образ нашей жизни, и нездоровье думать. Что ж делать — только бы растить свою душу в чистоте, смирении и любви. Не было ни того, ни другого, ни третьего. Помоги мне, господи.
Спал днем. Поработал над «Крейцеровой сонатой». Кончил начерно. Понял, как всю надо преобразовать, внеся любовь и сострадание к ней. Ходил купаться. Стаховичи, Урусов. Много лишнего. Низкого уровня мысли. Праздность. Слабость большая телесная в спине и ногах. Лег в 12.
27 июля. Ясная Поляна. 1889. Встал в 8-м, пошел купаться, хорошо думал, именно: для Маши было большое счастье то, что мать не любила ее. Таня не только не имела тех побудительных причин искать блага на указываемом мною пути, но ее прямо соблазняли любовью и баловством.
[…] Земледелие, заменяющее кочевое состояние, которое я выжил в Самаре, есть первый шаг богатства, насилий, роскоши, разврата, страданий. На первом шаге видно. Надо сознательно вернуться к простоте вкусов того времени. Это невинность мира детская. История самарского переселения — хорошо бы*. Немного пописал «Крейцерову сонату». Пошел за грибами, вернулся поздно. После обеда читал газеты. Требования социалистов о вмешательстве государственной власти в часы работы с возвышенной платой, в работу женщин и детей и т. п., то есть требуются привилегии рабочему классу и вроде майоратов стеснения. И не думают о том, что власть не может помешать людям продавать себя. Нужно, чтоб люди поняли, что нельзя покупать и продавать людей. А для этого нужно — свобода от вмешательства правительства и, главное, свобода, даваемая воздержанием. О ней-то никто не говорит. Урусов страшно ест. Ужасный пример. Лег поздно, спал дурно.
28 июля. Ясная Поляна. 89. Встал в 8-м, ходил купаться, писал до завтрака «Крейцерову сонату», теперь сон клонит, хочется работать хорошо. Ходил за грибами. Какая-то тихая радость. Так хорошо. Чувство счастия. Только немного чего-то недостает. Вечером играл в шахматы с Таней. Ночь всю плохо спал, видел во сне, чувствовал, думал во сне о том, что надо соблюсти любовность к людям: всё разные положения видел во сне, в которых отступал от любовности и поправлял себя. Это очень радостно: значит, я это точно чувствую и начинаю вводить в жизнь. Так я и жил.
30 июля. 1889. Ясная Поляна. Встал позднее. Ходил купаться.
[…] Еще подумал об Урусове: что бы было с ним, если б его лишили средств жизни, если бы была установлена справедливость? — он и Костенька* и подобные им погибли бы ужасно. Надо, чтоб они сами выучились жить не паразитами. А пока они паразиты, есть и питающие этих паразитов. Христиане не могли бы кормить, поить их, поставлять им табак, вино и т. п. Все делается с двух сторон: уничтожается и возможность и способность.
Лева сказал, на меня глядя: грибы — это та же охота. Тоже жалко грибков маленьких, как и дупелей, только маленькая разница. Я промолчал, а потом думал: да, маленькая разница; но как Брюллов говорил, на то, что вот он, поправляя, чуть-чуть изменил, а все стало другое, что искусство только тогда, когда дело в «чуть-чуть», так и еще с большей справедливостью можно сказать, что добрая жизнь начинается там, где чуть-чуть.
Писал лучше всех дней «Крейцерову сонату». Потом пошел косить к Осипу. Косил до 5. Обедал, заснул. И сейчас 9, проснулся, пишу. Соня разбудила меня. Я неохотно говорил с ней. Нашло сомненье, зачем Маша ездит второй день на Грумы. Надо сказать ей. Если буду жив завтра. 31 июля. Ясная Поляна. 89.
[31 июля. ] Жив. Дурно спал. Встал рано, не выспался и слаб. Ходил купаться. Дома читал Keats, английского поэта*. […]
1 августа. Ясная Поляна. 89. Встал поздно, ходил купаться. Записал кое-что к «Крейцеровой сонате». Дома взялся было за комедию, но противно и совестно. Нездоровится. Дождь. Почти не выходил. Не успел оглянуться, как попался на праздное занятие шахматами — задачи и игра. Все думаю об искусстве и читаю о нем. […]
Еще получил письмо от Алехина с известием о том, что у них был обыск и отобрали все мои писанья и их письма.
9 августа. Ясная Поляна. 89. Проводили Урусова и Леву. Я очень ослаб. Постыдное невоздержание в пище. Читал Платона об искусстве и думал об искусстве. Платон соединяет красоту и добро — неправильно. В «Республике» говорит о без- или ненравственности поэтов и потому отрицает их. В то время, как и теперь, поэты стояли ниже уровня Платона и были потеха. Чувствую, что чего-то недостает в моих мыслях об искусстве и что я найду недостающее.
Ходил за грибами и купаться и ничего не делал. Теперь 8-й час. Вечер как обыкновенно.
10 августа. 89. Ясная Поляна. Утро читал. В обед поехал пахать и пахал до поздней ночи. Очень устал.
11 августа. 89. Ясная Поляна. Читал о страдании и антисептическом методе для перевязочных пунктов и родильных домов. Устроят сражения и родильные дома, а потом средства, чтобы сделать их безвредными. Целый день ничего не делал. Ходил за грибами и думал о «Крейцеровой сонате» и об искусстве. «Крейцерова соната» — надо сделать брод умирающей, просящей прощение и не верящей тому, что убил он. Приехала целая куча юношей. И пришли ко мне Золотарев и Хохлов. Чудные ребята.
14 августа. 89. Ясная Поляна. Встал раньше, пошел купаться. Думал: 1) Как в организме боль указывает на нарушение закона — предупреждает, так и в обществе людском страдание от враждебности указывает на нарушение закона единения, предупреждает. Если, делая дело, которое считаешь добрым, испытываешь страдание враждебности или заставляешь других испытывать враждебность к себе, тотчас остановись: значит, ты не умеешь еще делать то дело, за которое взялся.
[…] Вчера получил письмо Дунаева, плохое, ненатуральное, и прекрасное Черткова. Читал эстетику Шопенгауэра*: что за легкомысленность и неясность. Мне же, ходя за грибами (я проводил своих гостей к Булыгину и сам целое утро ходил за грибами), пришло в голову, что искусство есть одно из орудий выражения (через не подражание таких же чувств, как зевотой) нового содержания. Пустое же искусство нашего времени есть вызывание таких же чувств, как и испытываемые художником, не для того, чтобы выразить что-нибудь, а просто так: как Петрушка читал книгу для процесса чтения. […]
16 августа. 89. Ясная Поляна. Целый день ничего не делал, если не считать чтение Шопенгауэра об искусстве. Что за легкомыслие и дребедень. Но правду сказал мне кто-то, что царствующая эстетическая теория — его.
Ходил за грибами, обедали вместе. Я очень опустился. Дурного не делал.
18 августа. Ясная Поляна. 89. Думал о военной службе, я обязан писать об этом. […]
19 августа. Съездил посмотреть посев, и после завтрака пошли с Золотаревым подсевать. Очень устал.
[…] Думал к «Крейцеровой сонате». Блудник есть не ругательство, но состояние (думаю, то же и блудница), состояние беспокойства, любопытства и потребности новизны, происходящее от общения ради удовольствия не с одной, а с многими. Как пьяница. Можно воздерживаться, но пьяница — пьяница и блудник — блудник, при первом послаблении внимания — падет. Я блудник.
22 августа. Ясная Поляна. 89. Встал в 9-м. После кофе сел писать, пришел Дужкин-еврей. Очень умный и хороший, но мне помешали, может быть. Думал: я жалею, что не дописываю, а может быть, это-то и нужно, только бы все силы уходили на служение. Подошел к окну Маши. Николай Николаевич* с девочками разговаривает о Леве — грустно.
Да: об искусстве. 1) Труды людей, занятия, приписывающие себе важность под знаменем деятельностей научной нехудожественной, загромождают мир. Требования к людям предъявляются огромные, и деятельность граничит часто с безумием и развратом: (по науке) классицизм, реализм, дарвинизм, гипнотизм, бактерии, (по искусству) развратные картины, статуи, театры, балеты, романсы, песни и др. Оперы Вагнера. Необходимо разобраться и проверить справедливость требований уважения к себе людей, занятых этими деятельностями.
Какое объяснение этих деятельностей? Наука движет вперед человечество, содействует его благу. Искусство приводит в сознание человечества его самого. Такое обычное всеобщее. Найти его можно не в писаниях эстетиков, а в общественном мнении. Это совершенно несправедливо по отношению к науке теперешней: благо матерьяльное — опытом, а не теорией, благо же духовной жизни — почти отрицается. Приведение же в сознание совсем не нужно. Что ж, неужели все это вздор и обман? Сравнение с церковью. Молебен казанской божьей матери в христианской церкви. Неужели все христианство от этого вздор? Нет, но дегенерация, отклонение, извращение. Точно то же и с наукой и искусством. Посмотрим же, что это. Это передача людьми друг другу своего внутреннего содержания. Передача внутреннего содержания для единения есть самое важное и святое. В передаче важно передача доброго — признак ведущего к единению. Разделения на науку и искусство в действительности нет, есть два рода передачи.
Характер первого рода есть логический довод, второго рода есть воздействие на свойство подражания (зевота).
Теперь передача тем или другим способом нужного для единения есть важное дело, и передача эта совершается только при соблюдении 3-х условий, чтобы было ново, было хорошо ясно и было правдиво. Так оно всегда и было и будет. Всегда это было делом религии; но всем злоупотребляют, и вот является передача не важного и нужного, а только нового, красивого и правдивого, и вот являются псевдонаука и псевдоискусство, в области которых является и прямо ложная наука и ложное искусство, не соблюдающее даже 3-х условий. Не ново, или не ясно (красиво), или не правдиво. Но бывают и соблюдающие все три, но не передающие важного — софисты в науке и софисты, или скорее эстеты в искусстве, является в избыточествующих классах забава псевдонаукой и псевдоискусством. Наука для науки, искусство для искусства. Чтение Петрушки Гоголя для процесса чтения. И догмат о том, что всякое открытие науки на что-нибудь да пригодится и всякое проявление художества что-то производит хорошее. Подстраиваются теории. Теория Шопенгауэра и Конта для наук.
Как же должно быть? Передавать важно и тем и другим способом только то, что содействует истинному благу, ведет к единению, и то важно. Баловать же, как Петрушка книгой для процесса чтения, и знаниями, не зная зачем, а также искусством — вредно и гадко. Dixi[107]. […]
27 августа. 89. Ясная Поляна. Спал дурно. Виноват сам. Читал вчера присланную американскую газету «Dawn» и «Nationalist», обе газеты христианского социализма. Программа: национализация промышленности и установление братства человечества. Программа «Nationalists». Замена принципа борьбы, соревнования и индивидуализма артельностью и установление сыновности богу и братства людей — программа (вкратце) «Dawn’a». Все это прекрасно. Но средства, предлагаемые ими для этого, неопределенны, неясны и не могут быть иными. Они предлагают проповедь всех родов и приложение к торговым делам и к жизни принципа братства, а не борьбы соревнования. Но как прилагать эти принципы в мире борьбы? Если жизнь каждого основана теперь на борьбе с другими, то борьба эта ведется до конца со всеми, как мы и видим, — борьба с ребенком, женщиной, заставляя их работать сверх сил. Как только нет этого, нет обеспеченности. Другой поборет меня, и я погибну. Как же прилагать в этом мире? Одно средство — отдавать себя и всю жизнь свою. Не противиться злу, а гибнуть самому во имя истины. Вот это-то не договаривается. Хотелось бы написать это им. Вечер провел все так же, как и все дни.
28 августа. 89. Ясная Поляна. Встал рано и сейчас же сел за работу и часа четыре писал «Крейцерову сонату». Кончил. Казалось, что хорошо, но пошел за грибами и опять недоволен — не то. […]
29 августа. 89. Ясная Поляна. Встал рано, не выспавшись. Немного поправил до завтрака.
[…] 3) Думал о том, что я вожусь с своим писаньем «Крейцеровой сонаты» из-за тщеславия; не хочется перед публикой явиться не вполне отделанным, нескладным, даже плохим. И это скверно. Если что есть полезного, нужного людям, люди возьмут это из плохого. В совершенстве отделанная повесть не сделает доводы мои убедительнее. Надо быть юродивым и в писании. […]
31 августа. Ясная Поляна. 89. Встал очень поздно, вялость мысли — читал Эртеля*. Очень недурно. Но старо и ненужно. Взялся за сапоги после обеда. Ездил на Козловку. Вечером читал всем «Крейцерову сонату». Подняло всех. Это очень нужно. Решил печатать в «Неделе». Лева слушал, и ему нужно.
Нынче 1 сентября. Ясная Поляна. 89. Проснулся рано, несмотря на то, что поздно лег, рано проснулся и думал о Леве, о том, что я грешу, не говоря ему, мое или, скорее, их несчастие, что они все тугоузды, а я напротив, и мои движения они не чувствуют, а дергать не могу. […]
Не помню, что делал днем. Вечером читал Николаю Николаевичу и Леве, который уезжает завтра, «Крейцерову сонату». На всех и больше всего на меня произвело большое впечатление: все это очень важно и нужно. Расстроил себя. Очень взволновало, лег в 2. […]
2 сентября, 1889. Ясная Поляна. Встал поздно, писал в книжечку манифест*, и написал кое-что, но нельзя начинать с общего, а надо с частного случая. Хоть начать с необходимости вина на войне. Попытаюсь. […]
[4 сентября. Ясная Поляна. ] В это же утро, как я и ожидал, я стал говорить Сереже о том, что он раздражителен, что я, кроме любви, ничего к нему не имею, и он огорчает меня, и все это говорил я дурно, с слезами в голосе и жалея себя, следовательно, без истинной доброты. Поехали. Дорогой они все смотрели на копны в поле. Это и пшеница поразительно. Он купил дурную пшеницу и посеял, а хорошую отказал. Теперь он занят (это занимает его время) тем, чтобы доказывать себе, особенно в присутствии других, что он не ошибся. То же делается беспрестанно ошибающимися — церковники. Дома Соня бранит Ге за то, что она была с ним нехороша. Письмо от Черткова хорошее. Она очень больна. Поздно лег.
7 сентября. Ясная Поляна. 89. Встал рано. Убрался. Хотел писать об искусстве, только обдумал.
[…] Вчера Соня читала вслух «Крейцерову сонату», и Таня сделала верные замечания: 1) что ее не жалко, 2) что она не будет раскаиваться и просить о прощенье. Ее грех так мал в сравнении с казнью. […]
11 сентября. Ясная Поляна. 89. Все еще нездоров. С утра писал вступление об искусстве* — нехорошо. В ночь была страшная буря. Ходил смотреть бурелом. Вечером не помню. Одно помню радостно, это то, что сознание жизни в возвращении таланта сделалось моим. И беспрестанно вспоминаю это. И всякий раз радостно разрешается всякое затруднение. Как будто зацепит, растопырившись, и тотчас же опять примет настоящий размер и проходит везде не цепляясь. Соня все поговаривает о переезде в Москву, чего ей страшно хочется — нужно. Опять станет обидно, жалко потерять уединение, жалко детей — зацепит: вспомнишь о том, что мое дело — моя душа, и все ясно и опять расцепилось и прошло. Занятие моей душой не значит, что я соглашусь ехать — нисколько, — очень может быть, что это, напротив, заставит не ехать; но интерес переносится с того, что не в моей власти (по Эпиктету) и мне не нужно и не важно (по христианскому учению), на то, что мне нужно и важно, и потому в моей власти.
12 сентября. Ясная Поляна. 89. […] Писал немного об искусстве — отступил немного от правила, — поправлял из кокетства авторского. Зато писал только до тех пор, пока писалось. Приехала Соня и Рачинская [?]. Я пилил лес в источке*, Севастьян, Семен и Прокофий. Было хорошо. Вечером отдыхал, читал и проводил Таню. Приехал Лева. Лег поздно.
15 сентября: Ясная Поляна. 89. Поздно встал. Опять об искусстве. Опять мало и плохо. Пошел ходить. Читал о калмыках, о том, что им мало нужно и они не мучают себя работой, как европейцы, приучившие себя к тысячам прихотей и потом отдающие всю жизнь на удовлетворение их. Думал: Радоваться! Радоваться! Дело жизни, назначение ее — радость. Радуйся на небо, на солнце, на звезды, на траву, на деревья, на животных, на людей. И блюди за тем, чтобы радость эта ничем не нарушалась. Нарушается эта радость, значит, ты ошибся где-нибудь — ищи эту ошибку и исправляй. Нарушается эта радость чаще всего корыстью, честолюбием, и то и другое удовлетворяется трудом. Избегай труда для себя, мучительного, тяжелого труда. Деятельность для другого не есть труд. Будьте как дети — радуйтесь всегда. Какое страшное заблуждение нашего мира, по которому работа, труд есть добродетель. Ни то, ни другое, но скорее уж порок. Христос не трудился. Это надо разъяснить. Ходил в баню с И. А.*. Он рассказывал свою историю. Он очень добрый.
21 сентября. Ясная Поляна. 89. Поздно. Ночью кошмар: сумасшедшая, беснующаяся, которую держат сзади. Читал и писал немного. Окончательно решил переделать, не надо убийства*. Пошел пилить с В. и мужиком грумантским. Маша хороша. Одна радует. Приехал Бестужев и Раевский. Зачем я им? После обеда, при них опять мучительный разговор о том, что «у меня» печать*. И опять я не могу жалеть слепого, а сержусь на него. Уехали Бестужев и Раевский. Записал и посижу, читая.
[21 сентября. ] Да, хочется умереть, виноват. Я был в упадке духа, главное, от того, что как будто забыл свое дело жизни: спасти, блюсти душу.
Сегодня, 21, думал: славянофильство это любовь к народу, признание истины в его формах жизни. У нас это произошло оттого, что благодаря Петру русское высшее сословие усвоило себе все, что сделал Запад, стало на тот путь, где видно, что идти дальше некуда, стало на эту точку зрения тогда, когда народ еще не вышел из старого республиканского склада жизни. И вот это высшее сословие видит, что не надо идти за ними, а надо попытаться удержать старые справедливые формы — сознательно.
23 сентября. Был жив и 22. Встал бодр и весел. Даже ночью один сам с собой улыбался. Не брался за работу до отъезда Тани. Поработал, проводил и только что хотел сесть за работу, как пришел Пастухов и Шамраевский. Пастухов поступил в учителя. Тоже и Долнер. Буткевич Андрей едет в Москву. Получил хорошее письмо от Черткова. Я посадил их читать, а сам стал заниматься «Крейцеровой сонатой», которая уж совсем не «Крейцерова соната». Все клонит к тому, чтобы убийство было просто из-за ссоры. Прочел историю убившегося мужа и жены, убившей детей, и это еще больше подтвердило. Потом пилил с молодыми людьми, обедал и пошел провожать их к Туле. Приятно прошелся, встретил двух Маш, и с ними весело приехали домой. Статьи шекеров прекрасные две*.
24 сентября. Ясная Поляна. 89. Встал рано. Не помню почему не писал. Да, вчера получил посылки из Тулы и в том числе письма Аполлова — замечательные. Он бросает священство. Он пишет: я не приставал к вам, боялся, что Толстой оставляет что-нибудь из ненавистной мне богословской системы. Теперь я присоединяюсь, чтоб посвятить жизнь на борьбу с этим обманом. И разные резкие сильные выражения. Хороша его сказка, задуманная, об уловке Мары, чтоб бороться против света Будды. В самом деле, как же бороться с христианством, как не прикинувшись учеником? Превосходная книга из Тихона Задонского*. Не может же все это не произвести последствий. Мне кажется иногда, что я присутствую при зажигании поджожек. Они загорелись, так что неверно загорится все. Дрова еще совсем холодны и нетронуты, но они несомненно загорятся все. Приехали дети и Илья. После завтрака читал «Тихона» и потом пошел в лес пилить. После обеда написал письма незнакомым. За обедом Соня говорила о том, как ей, глядя на подходящий поезд, хотелось броситься под него. И она очень жалка мне стала. Главное, я знаю, как я виноват. […]
28 сентября. Ясная Поляна. 89. Дурно спал. Был спокоен, а потом ослабел. Читал роман Эртеля, очень хорошо. Немного пописал, шил сапоги. Пилы не было, и потому пошел по лесу.
[…] Лег поздно, зачитался «Гардениными». Прекрасно, широко, верно, благородно. Приехал Лева.
[2 октября. ] Теперь 2-го вспоминаю, что было 30-го, и не могу вспомнить, чувствую, что ничего не было, «а blank»[108]. Вспоминаю, что это были Феты. Он, на мои грешные глаза, непохороненный труп. И неправда. В нем есть жизнь. Бьется эта жилка где-то в глубине. […]
6 октября. Ясная Поляна. 89. Утром писал новый вариант «Крейцеровой сонаты». Не дурно, но лениво. Делаю для людей, и потому так трудно. […]
9 октября. 89. Ясная Поляна. Встал рано, постыдно шипел на Фомича и говорил ему неприятности. Много поправил, неясно.
[…] Пошел попилил с Рахмановым и Данилой, потом шил и читали «Обломова». Хорош идеал его.
10 октября. 89. Ясная Поляна. Встал позднее. Понемногу лучше. Пересматривал и поправлял все сначала. Испытываю отвращение от всего этого сочинения*. Упадок духа большой. Работал до 4 и спал. После обеда шил и опять «Обломова». История любви и описание прелестей Ольги невозможно пошло. Лег поздно.
16 октября. Ясная Поляна. 89. Унылость, грусть, раскаяние, только бы не вредить себе и другим. Много писал, поправляя «Крейцерову сонату». Давно не испытывал такого подавленного состояния.
17 октября. Ясная Поляна. 89. То же самое. Только стал выходить. Соня уехала. Я с ней дружен, добр естественно. Писал письма Спенглер, Майнову и еще кому-то.
18 октября. Ясная Поляна. 89. Все так же, поправлял, и не без пользы, «Крейцерову сонату». Ездил в Ясенки, получил 6 писем, все пустые и требующие ответов. […]
19 октября. Ясная Поляна. 89. Вчера поздно ночью приехал Попов. Я рад ему. Лег поздно, встал рано. Приехала барыня из Орла: «Хочу жить лучше, иметь занятия, хочу в деревню. Я думала, что вы можете меня устроить. Ну, я ошиблась». Все это с злостью, с эгоизмом. И жалкая до невозможности. И теперь сидит в кабинете. Кое-как многократными попытками добился того, что она сказала, что у ней нет денег и она хотела убиться. И умиротворилась, поела и поехала.
Я занимался под сводами, услыхал голоса. Это И. Горбунов и Чистяков от Черткова, не очень был им рад. Много вдруг. Да и Горбунов почему-то мне каким-то подниманием плеч, походкой неприятен, хотя все в нем хорошо. Чистяков мелкий, но ясный, умный, простой. Ходил с ним. Обедал. Я не в духе. Учительницу отвезли, привезли Жебунева. Я еще не спал.
20 октября. Ясная Поляна. 89. Все нездоровится и уныние. Машу Кузминскую проводил. Я ей говорил, чтоб она не слишком возлагала надежды. Написал напрасно письмо Соне о том, что мне тяжелы посетители. Разговор с Жебуневым. Я сначала задирал, он не задирается, я вызвал-таки на спор, стал «иронизировать», как он выразился, и сделал ему больно. Вечером, опять говоря с ним, узнал, что он в ссылке, в тюрьме был, измучен нравственно так, что в ссылке отвык читать и теперь не читает и страдает апатией. Кроме того, говорил с любовью большой о Буланже, показывая тем, что он сам добр. Он добрый, больной, страдающий, измученный, искалеченный; а я-то с хвастовством, с ухарством наскакиваю на него и перед галереей показываю, какой я молодец. Так стыдно стало и жалко, что я заплакал, прощаясь с ним.
21 октября. Ясная Поляна. 89. Разговор с Чистяковым о его женитьбе. Что-то ненатурально в роли учителя и советчика, которую они заставляют меня играть. Разговор спорный, тоже с иронией, с Новиковым. Только что осрамился, пристыдился, опять делаю то же. Что, если бы я то же говорил с любовью. Как далеко мне до этого.
Чистяков и Горбунов уехали. Я очень усердно до 5 часов поправлял последнюю часть «Крейцеровой сонаты». Недурно. Обедали. Вечером опять разговор с Новиковым, опять без жалости и любви. Надо достигать. Все время чувствую усталость жизни.
27 октября. Ясная Поляна. 89. Встал раньше, хотел дурно спать. Гадко. Приехал Ругин, худой, больной. Рассказывал про то, что Лесков, Оболенский, все находят, что определилось в правительстве и обществе отношение к нам: отношение утверждения хоть православия в отпор разрушительному анархическому учению, они говорят, Толстого, а надо говорить Христа. О дай-то бог! Это не худо, не хорошо, но это рост. Это большая определенность. Дитрихс рассказывал и показывал донос архиерея Воронежского о Черткове*. […] 2) Читал опять присланного мне Walt Whitman’a*. Много напыщенного, пустого; но кое-что уже я нашел хорошего, например, «Биография писателя». Биограф знает писателя и описывает его! Да я сам не знаю себя, понятия не имею. Во всю длинную жизнь свою только изредка, изредка кое-что из меня виднелось мне. 3) Вспоминал, как я молодым человеком жил во имя идеалов прошедшего, быть похожим на отца, на деда, жить так, как они жили. Мои дети, Миша мой живет инстинктами моими 40-х годов. Не подражает же он теперешнему мне, которого он видит, а мне прошедшему, 40-х годов. Что это такое? Не происходит ли это оттого, что я думал прежде, что ребенок живет не весь тут, а часть его еще там, откуда он пришел, в низшей ступени развития; я же уж живу там, куда я иду, в высшей ступени развития; но там я теперь отсталый, ребенок. Очень это наивно. Но никак не могу сделать, чтобы не признавать этого. […]
28 октября. Ясная Поляна. 89. Пришел одеваться, в дверь идет Алехин. Силен, здоров и тверд.
[…] Думал: 1) К роману или драме: «Духовное рождение». Ему открылась ложь его жизни и истина истинной, и он избирает первый попавшийся путь: отдавать нищим, ходить за больными, учредить общину, проповедовать — и ошибается. И вот все в восторге нападают на него и на истину*. […]
31 октября. Ясная Поляна. 89. Встал рано. Грустно. Да, вчера не записал того, что рассердился на Фомича за то, что он выпил кофе, который мне хотелось, и язвил его и, еще хуже, желал, чтобы Алехин не слыхал этого. Какая мелочность и гадость, надо помнить ее. Да, вчера получил длинное письмо от Черткова. Он критикует «Крейцерову сонату» очень верно, желал бы последовать его совету, да нет охоты. Апатия, грусть, уныние. Но недурно мне. Впереди смерть, то есть жизнь, как же не радоваться? По этому самому, потому, что чувствую уменьшение интереса, не говорю уже к своей личности, к своим радостям (это, слава богу, отпето и похоронено), а к благу людей: к благу народа, чтобы образовались, не пили, не бедствовали, охлаждение даже к благу всеобщему, к установлению царства божия на земле, по случаю этого охлаждения думал:
Человек переживает три фазиса, и я переживаю из них теперь третий. Первый фазис: человек живет только для своих страстей, еда, питье, веселье, охота, женщины, тщеславие, гордость и жизнь полна. Так у меня было лет до тридцати, до седых волос (у многих это раньше гораздо), потом начался интерес блага людей, всех людей, человечества (началось это резко с деятельности школ, хотя стремление это проявлялось, кое-где вплетаясь в жизнь личную, и прежде). Интерес этот затих было в первое время семейной жизни, но потом опять возник с новой и страшной силой при сознании тщеты личной жизни. Все религиозное сознание мое сосредоточивалось в стремлении к благу людей, в деятельности для осуществления царства божия. И стремление это было так же сильно, так же наполняло всю жизнь, как и стремление к личному благу. Теперь же я чувствую ослабление этого стремления: оно не наполняет мою жизнь, оно не влечет меня непосредственно; я должен рассудить, что это деятельность хорошая, деятельность помощи людям матерьяльной, борьбы с пьянством, с суевериями правительства и церкви. Во мне, я чувствую, вырастает новая основа жизни, — не вырастает, а выделяется, высвобаживается из своих покровов, новая основа, которая заменит, включив в себя стремление к благу людей, так же как стремление к благу людей включило в себя стремление к благу личному. Эта основа есть служение богу, исполнение его воли по отношению к той его сущности, которая поручена мне. […]
1 ноября. Ясная Поляна. 89. Встаю поздно, хожу, думаю. Писал письма Поше, Василию Ивановичу, Майнову, Леве. […] Читал Disciple*. Какая гадость! […]
2 ноября. Ясная Поляна. 89. Встал поздно и застал в кабинете посланного от литографа Пашкова с глупым письмом, я ответил и поговорил с юношей. Написал еще два письма и пошел на Козловку. […] Получил письмо от Тани, сестры, о чтении «Крейцеровой сонаты». Производит впечатление. Хорошо, и мне радостно.
Читал журнал Грота. И грешил, сердился на Трубецкого*. Философия, имеющая целью доказать иверскую. Решение уравнений со многими х, у, z, когда придано произвольно х самое нарочно нелепое решение. Ведь сколько труда! Да и весь журнал — подбор статей без мысли и ясности выражения. […]
5 ноября. Ясная Поляна. 89. Спал лучше, но все с сновиденьями. Все утро читал роман «Revue des deux Mondes». […] Хочу начать в новой тетради писать статьи без поправок. Беспапиросочная тетрадь. Хотел еще написать к Татьяниному дню статью о том, чтобы празднующие отпраздновали бы учреждением общества трезвости с забранием в свои руки кабаков и трактиров, как в Швеции*. Теперь 3.
Ходил на Козловку. Вечер дома, нездоровилось.
7 ноября. Ясная Поляна. 89. Получил письмо от Черткова, что они хотят жить в Туле. Очень рад. Ездил на Козловку, а после завтрака в Тулу. Приятно проехался, но все это какое-то увеселение себя жалкое. Дочел «Обломова». Как бедно! Получаю известия, что «Крейцерова соната» действует, и радуюсь. Это нехорошо.
Нынче в Туле, глядя на всю суету и глупость и гадость жизни, думал: не надо, как я прежде, бывало, негодовать на глупость жизни, отчаиваться. Все это признаки неверия. Теперь у меня больше веры. Я знаю, что все это кипит в котле и варится или закисает и сварится и закиснет. Так чего же я хочу? Чтоб не двигалось? Чтобы люди не ошибались и не страдали? Да ведь это одно средство познания своих ошибок и исправления пути. Одни сами себя исправляют, другие других, третьи… Все делают дело божье, хотят или нет. И как хорошо хотеть. Пишу так, и на меня находит сомненье — нет ли тут преувеличения, сентиментальничанья, философски христианского — cant’a[109] нет ли. Опасаюсь этого. Нет ничего ужаснее, как пересолить хорошее, пережарить. Вот где именно «чуть-чуть» брюлловское. Теперь 9, иду наверх.
Наверху говорил с Алексеем Митрофановичем. Он возражает мне о том, что наука может указать нравственный закон, что электричество как-то указывает на необходимость взаимности. Он читает все это время «О жизни». Читает это и не видит, что он говорит то самое (только дурно), что я высказал хорошо и старательно опроверг в этой книге, именно, чтобы, отвернувшись от предмета, по тени, бросаемой им, изучать его. Да, невозможно ничего доказывать людям, то есть невозможно собственно опровергать заблуждения людей: у каждого из заблуждающихся есть свое особенное заблуждение. И когда ты хочешь опровергнуть их, ты собираешь в одно типическое заблуждение все, но у каждого свое, и потому, что у него свое особенное заблуждение, он считает, что ты не опроверг его. Ему кажется, что ты о другом. Да и в самом деле, как поспеть за всеми! И потому опровергать, полемизировать<> никогда не надо. Художественно только можно действовать на тех, которые заблуждаются, делать то, что хочешь делать полемикой. Художеством его, заблуждающегося, захватишь совсем с потрохами и увлечешь куда надо. Излагать новые выводы мысли, рассуждая логически — можно, но спорить, опровергать нельзя, надо увлекать. […]
8 ноября. Ясная Поляна. 89. Встал поздно. Пытался писать об искусстве, не идет. Делаю пасьянсы — вроде сумасшествия. Читал. Думал по случаю разговора с детьми о прислуге и письма Левы и всей нашей жизни: нам кажется естественной наша жизнь с закабаленными рабочими для наших удобств, с прислугой… Нам даже кажется, как дети сказали: ведь его никто не заставляет, он сам пошел в лакеи, и как учитель сказал: что если человек не чувствует унижения выносить за мной, то я не унижаю его, нам кажется, что мы совсем либеральны и правы. А между тем все это положение есть нечто столь противное человеческому свойству, что нельзя бы было не только устроить, но и вообразить такое положение, если бы оно не было последствием очень определенного нам известного зла, которое мы все знаем и которое, мы уверяем себя, уже давно прошло. Не было бы рабства, ничего подобного нельзя бы было выдумать. Все это есть не только последствие рабства, но само оно, только в иной форме. Источник этого есть убийство. И не может быть иначе. Лег поздно. Все те же болезни. И та же тревога, и та же моя апатия.
9 ноября. Ясная Поляна. 89. Встал раньше. То же. Ходил на Козловку. Письма от Лебединского, Дунаева, Анненковой хорошее. […]
За чаем много говорили с Holzapfele о религии. Он добрый. Хорошо говорил, смягчился я. Теперь 12-й час, ложусь спать.
[10 ноября. ] Жив еще; но плох, плох до низости. Опять злюсь, опять желаю. Утром рубил акацию и до завтрака и перед обедом.
После обеда неожиданно стал писать историю Фредерикса*. […]
14 ноября. Ясная Поляна. 89. Письмо прекрасное от Марьи Александровны и Ольги Алексеевны и Озерецкой.
[…] Все ходит и тревожит мысль о том, что рабство, стоящее за нами, губит нашу жизнь, извращает наше сознание жизни. Писал довольно много. Пошел работать и зашиб глаз. Ходил к Домашке больной. Думал: ищешь, как лучше обойтись с человеком (прибавлю), как обойти трудность? Прикидываешь и так и этак, и все не выходит. А есть одно средство: быть готовым на униженье ради бога и с любовью к этому человеку или вообще к людям… Еще думал: людям необходимо чувствовать себя правыми перед самими собой; без этого им нельзя жить, и потому, если жизнь их дурна, они не могут мыслить правильно (вот где губит нашу мысль инерция рабства), и от этого та путаница в головах. Главное правило для жизни — это натягивать ровно с обоих концов постромку совершенствования (движение вперед), и мысленного совершенствования и жизненного, чтоб одно не отставало от другого и не перегоняло. Как у нас впереди идеалы высокие, а жизнь подлая, и у народа жизнь высокая, а идеалы подлые.
[19 ноября. ] Жив и очень даже. Целое утро писал, кончил кое-как Фридрихса. Вечером читал «Комедию любви» Ибзена. Как плохо! Немецкое мудроостроумие — скверно.
Не записал, вчера Соня обиделась, что ее не подождали читать. Оказалось, что это у ней накипевшее оскорбление от Тани, ушедшей от ее музыки. Она говорит: я одинока совсем в семье. Может быть, я виноват. Очень жалко, любя жалко стало ее. Как хорошо, что я не обиделся, а сказал ей, что было правда, что у меня заболело сердце. И она смягчилась и меня пожалела. Ходил гулял утром и думал о ней, о том, чтобы письмо ей написать, которое бы она прочла после моей смерти. Сказать ей хочу, что ей надо искать, искать веры, основы духовной жизни, а нельзя жить, как она, инстинктами (которые у ней все [дурны], нет, не все, материнские хорошие) и тем, что другие делают. Другие сами не знают, потому что то, на чем они стоят, проваливается.
20 ноября. Ясная Поляна. 89. Встал поздно, порубил, потом сначала переделывал, поправлял Фридрихса. Очень хорошо работалось. Ездил в Дворики, и дорогой еще больше уяснилось: 1) характер тещи vulgar[110], лгунья, дарит и говорит про дареное и 2) его второй долг, который бы мог утаить, платит и что-нибудь либеральное по отношению мужиков.
Соня уехала в Тулу, не ворочалась. 5 часов. Иду обедать.
Нынче утром читал газету о том, как император германский Мольтке юбилей pour le mérite[111] праздновал, так живо представилось: сопоставить — отказ от воинской службы замарашки Хохлова, которого признают сумасшедшим, и праздник артиллерии*, речь императора, маневры и т. д. Когда я в самоуверенном духе, то думается, что мои темы писаний, как бутылки с кефиром, одна пьется — пишется, а другие закисают. Дай-то бог, чтоб эти две темы — о прислуге и рабстве и о войне и отказе созрели и чтоб я написал их*. Как будто закисают.
22 ноября. Ясная Поляна. 89. Прочел «Latude», прелестный психологический этюд — правда. И главное: статья Вогюе о выставке и о войне — надо выписать: оставим, мол, болтунов толковать о том, что блага человечество достигнет наукой, трудом, общением и наступит золотой век, который если бы наступил, то был бы мерзостью. Нужна кровь и т. д. Очень хотелось писать об этом*. […]
[26 ноября. ] День пропустил. Нынче 26. Встал рано, пошел рубить. Потом заснул, а потом писал о науке и искусстве. Проснувшись, очень ясно думал об этом. Писал недурно. Письмо от Суворина. Читал Лескова. Фальшиво. Дурно*. […]
28 ноября. Ясная Поляна. 89. Сейчас утро, после работы и кофею сидел и думал за пасьянсом: нынче пришел странник, я дал ему 15 копеек, он стал просить панталоны, я отказал, а у меня были. Думал о том, что вчера читал в книге Эванса*, что жизнь есть любовь, и когда жизнь любовь, то она радость, благо. Да, стало быть, все, что нужно, одно, что нужно, — это любить, уметь, привыкнуть любить всех всегда, отвыкнуть не любить кого бы то ни было в глаза и за глаза. Думал: ведь я знаю это, ведь я писал об этом, ведь я как будто верю в это. Отчего ж я не делаю этого? не живу только этим? Вся та жизнь, которую я веду, ведь только tâtonnement[112], a надо твердо поставить всю жизнь на это: искать, желать, делать одно — доброе людям — любить и увеличивать в них любовь, уменьшать в них нелюбовь.
Доброе людям? Что доброе? Одно: любовь. Я это по себе знаю и потому одного этого желаю людям, для одного этого работаю. Не нащупывая, а смело жить этим значит то, чтобы забыть то, что ты русский, что ты барин, что ты мужик, что ты женат, отец и т. п., а помнить одно: вот пред тобой живой человек, пока ты жив, ты можешь сделать то, что даст тебе и ему благо и исполнит волю бога, того, кто послал тебя в мир, можешь связать себя с ним любовью. То, что в сказочке я писал, только лучше.
Думал так очень ясно и взошел наверх с мыслью там приложить это. Постоял в столовой — дети, случая нет, вошел в гостиную: Таня лежит, и Новиков читает ей вслух, неловко, нехорошо мне показалось, и вместо приложения я повернулся и ушел. Но я не отчаиваюсь, я здесь внизу в себе работаю, чтобы понять и жалеть и любить их. Да, это, это одно нужно. Теперь 1-й час. Едва ли буду писать.
[1 декабря. ] Так и не писал. Не помню точно, что делал, не только это 28, но и 29 и 30. Нынче 1-е декабря 89. Ясная Поляна. Да, третьего дня, на другой день после того, что я писал, дьявол напал на меня — напал на меня прежде всего в виде самолюбивого задора, желания того, чтобы все сейчас разделяли мои взгляды, стал 29-го вечером спорить с Новиковым опять о науке, о прислуге, спорил с злостью. На другой день утром, 30, спал дурно. Так мерзко было, как после преступления. […] Все это после того, что записано 28-го. Вижу, разумом вижу, что это так, что нет другой жизни, кроме любви, но не могу вызвать ее в себе. Не могу ее вызвать, но зато ненависть, нелюбовь могу вырывать из сердца, даже не вырывать, а сметать с сердца по мере того, как она налетает на него и хочет загрязнить его. Хорошо пока хоть и это, помоги мне, господи.
Получил хорошее письмо от Бирюкова. Читал прекрасно написанный роман Мопассана, хотя и грязная тема*. Нынче утром подумал о Домашке: что же, мы лечим ее тело, а не думаем о ее душе, просто не утешаем ее, сколько можем. И стал думать. Вот тут-то являются утешения Армии спасения, утешения, состоящие в том, чтобы, действуя на нервы пением, торжественной речью и тоном, поднять дух, вызвать загробную надежду. Я понимаю, как они успевают и как это им самим кажется важным, когда умирающий подбадривается и проводит в экстазе свои последние минуты. Но хорошо ли это? Мне чувствуется, что нехорошо. Я не мог бы это делать. Сделавши это, я умер бы от стыда. Но ведь оттого, что я не верю. Они же верят. Этого я не могу делать; но что-то я могу и должен делать — делать то, что я желал бы, чтобы мне делали; желал бы, чтобы не оставили меня умирать, как собаку, одного, с моим горем покидания света, а чтобы приняли участие в моем горе, объяснили мне, что знают об этом моем положении. Так мне и надо делать. И я пошел к ней. Она сидит, опухла — жалка и просто — говорит. Мать ткет, отец возится с девочкой, одевая ее. Я долго сидел, не зная как начать, наконец спросил, боится ли она смерти, не хочет ли? Она сказала просто: да. Мать стала, смеясь, говорить, что девочка двенадцати лет, сестра, говорит, что поставит семитную свечку, когда Домашка умрет. Отчего? Наряды, говорит, мне останутся. А я говорю, я тебя работой замучаю, ты за нее работай. Я, говорит, что хочешь буду работать, только бы наряды мне остались. Я стал говорить, что тебе там хорошо будет, что не надо бояться смерти, что бог худого не сделает нам ни в жизни, ни в смерти. Говорил дурно, холодно, а лгать и напускать пафос нельзя. Тут сидит мать, ткет, и отец слушает. А сам я знаю, сейчас только сердился за то, что вид сада, который я не считаю своим, для меня испортили.
После обеда играл в шахматы, стыдно и скучно, потом пошел шить сапоги. Пришли мальчики. С ними хорошо было, потом пришла Маша. С ней еще лучше. Серьезная, умная, тихая, добрая. Потом пошел наверх, пил чай. Все бы хорошо, но Соня получила письмо от Менгден с просьбой от Вогюе перевести «Крейцерову сонату». Я сказал, что не надо. Она стала говорить, что ее подозревают в корыстолюбии, а она напротив. Я что-то сказал. Она стала язвить, и я рассердился опять, забыл, что она по-своему права, что ей надо быть правой, и сказал, что пойду спать вниз. Она совсем готова была на страшную сцену, и яд, и все. Я опомнился, вернулся, просил успокоиться, она не успокоилась, и я пошел ходить по саду.
Ходил и думал: как ужасно то, что я забываю, именно забываю главное, то, что если не смотреть на свою жизнь, как на послание, то нет жизни, а ад. Я это давно знаю, давно писал в дневнике и в письмах (нынче прочел это в письмах у Маши), и могу забывать, а забыв, страдаю и грешу, как нынче. […]
4 декабря. Приехали Эртель, Чистяков и Переплетчиков. Я много говорил и горячо об искусстве. Теперь 12. Пойду наверх, помня.
Пошел после завтрака работать — пилить с Чистяковым и Переплетчиковым и до обеда. Вечером говорили. Вяло. Переплетчиков свежий человек. Начал было писать воззвание*, но не пошло. […]
5 декабря. Ясная Поляна. 89. Немного лучше. Погулял. Был у Домашки, ей, бедняжке, лучше. Потом сел за «Крейцерову сонату» и не разгибаясь писал, т. е. поправлял до обеда. После обеда тоже. Только немножко занялся сапогами. Я решил отдать в Юрьевский сборник, и Соня довольна. Она с Таней ездили в Тулу. Спал очень мало.
6 декабря. Ясная Поляна. 89. Встал в 7 и тотчас за работу, прошелся перед завтраком и опять за работу и до самого обеда. Просмотрел, вычеркнул, поправил, прибавил «Крейцерову сонату» всю. Она страшно надоела мне. Главное тем, что художественно неправильно, фальшиво. Мысли о коневском рассказе* все ярче и ярче приходят в голову. Вообще нахожусь в состоянии вдохновения второй день. Что выйдет — не знаю. Да, кроме того, завтра, вероятно, кончится, как всегда бывало после бессонницы. Читал Лесевича и Гольцева*. Что за жалкая скудоумная чепуха! […]
10 декабря. Ясная Поляна. 89. Вчера получил письмо от Эртеля и Гайдебурова о том, что «Крейцерову сонату» не пропустят. Только приятно. Еще переводы Ганзена* и «Paris illustré» с статьей о Бондареве. Заставила думать: вкривь и вкось толкуют. Надо бы коротко и ясно изложить, что я думаю; именно: неучастие в насилии правительственном, военном, судейском, 2) Половое воздержание, 3) Воздержание дурманов, алкоголя, табаку, 4) Работа. Все без красноречия, а коротко и ясно. Еще письмо от Черткова. И письмо Аполлова, который, бедняга, от всего отрекся*. Вот будет страдать! Теперь 2 часа — болит живот.
Провел дурной день, то есть мало умственно работал.
12 декабря. Ясная Поляна. 89. Все та же боль. Читаю новый журнал американский и борюсь с болью — успешно. Был Булыгин и Бибиков. Очень слаб еще Булыгин. Вчера Алексей Митрофанович восхищался моей комедией*. Мне неприятно даже вспомнить. 12-й час, иду наверх.
13, 14, 15, 16, 17 декабря. Ясная Поляна. 89. Пять дней ничего не писал и не делал. Только читал и терпел боль. Пробовал поправлять комедию, остановился на середине 1-го акта. Читал «Revue des deux Mondes» и Слепцова*. В «Revue» очень замечательный роман «Chante-pleure», замечательный описанием бедности и унижения бедности по деревням. Эйфелева башня и это. […] Получил письмо приятное от Суворина о «Крейцеровой сонате» и тяжелое от Хохлова, отца, с упреками о погибели сыновей через меня. Смутно набираются данные для изложения учения и для коневской повести. Хочется часто писать, и с радостью думаю об этом. Письмо от Черткова и Эртеля. Нынче 17, мне лучше. Утром хотел писать, но не очень и потому шил сапоги. К обеду приехали Давыдов, Раевский. Лева приехал еще третьего дня. Мне больно было видеть, как он, придя с охоты, велел с себя снимать сапоги и еще бранил малого, что не так снимает. […]
[19? декабря. ] Читал Слепцова «Трудное время». Да, требования были другие в 60-х годах. И оттого, что с требованиями этими связалось убийство 1-го марта*, люди вообразили, что требования эти неправильны. Напрасно. Они будут до тех пор, пока не будут исполнены.
[22 декабря. ] Жив. Нынче 22 вечер. Все три дня поправлял комедию. Кончил. Плохо. Приехало много народу, ставят сцену*. Мне это иногда тяжело и стыдно, но мысль о том, чтобы не мешать проявлению в себе божественного, помогает. […]
[27 декабря. ] Жив. Не писал с 22 по 27. Нынче 27, вечером. Дети все уехали в Тулу репетировать. Я хотел по дороге с ними, вернулся, посидел с Соней и теперь 12-й час, записываю. Нынче 27. Писал немного коневскую повесть. Тяжело от лжи жизни, окружающей меня, и того, что я не могу найти приема, указать им, не оскорбив, их заблужденья. Играют мою пьесу, и, право, мне кажется, что она действует на них и что в глубине души им всем совестно и оттого скучно. Мне же все время стыдно, стыдно за эту безумную трату среди нищеты.
Нынче, гуляя, думал: те, которые утверждают, что здешний мир юдоль плача, место испытания и т. п., а тот мир есть мир блаженства, как будто утверждают, что весь бесконечный мир божий прекрасен или во всем мире божьем жизнь прекрасна, кроме как только в одном месте и времени, а именно в том, в котором мы живем. Странная бы была случайность!
Вчера 26. Утром неожиданно стал писать коневскую повесть и, кажется, недурно. Вчера была репетиция, пропасть народа, всем тяжело. Вера разревелась, и я пошел утешать ее и, утешая ее, говорил: мне понравилось оттого, что очень просто и понятно. А именно: жить для себя одного нельзя. Это смерть. Жизнь только тогда, когда живешь для других или хоть готовишь себя к тому, чтобы быть способным жить для других. Но как? Другим я не нужен, не нужна. В том-то и дело, что когда живешь для себя, то ищешь общения с людьми, которые тебе могут быть полезны — это все люди богатые, сильные, довольные, и потому, когда живешь для себя, оглянешься вдруг, отыскивая, кому бы я мог быть полезен, кажется, что никому я не могу быть нужен. Но если понял, что жизнь в служении другим, то будешь искать общения с бедными, больными, недовольными, и тогда не поспеешь служить всем, кому будет хотеться служить.
Третьего дня 25. Писал письма Черткову, Буланже, Анненковой, Семенову, Машеньке, Алексееву и еще кому-то. Мне стало вдруг стыдно и гадко, что я усвоил тон поучений в письмах. Это надо прекратить.
24. Тоже писал письма, может быть, и сделал поправки к комедии и читал.
То, что думал еще 23 и что показалось мне очень важным, вот что: грубая философская ошибка — это признание трех духовных начал: 1) истина, 2) добро, 3) красота. Таких никаких начал нет. Есть только то, что если деятельность человека освящена истиной, то последствия такой деятельности добро (добро и себе и другим); проявление же добра всегда прекрасно. Так что добро есть последствие истины, красота же — последствие добра. Истина, не имеющая последствием добро, как, например, теория чисел, воображаемая геометрия, туманные пятна при нахождении мира и т. п., так же как добро, не имеющее в основе своей истину, как, например, милостыня набранными, скопленными деньгами и т. п. Также красота, не имеющая в основании своем добро, как, например, красота цветов, форм, женщины не суть ни истина, ни добро, ни красота, но только подобие их.
Да, монашеская жизнь имеет много хорошего: главное то, что устранены соблазны и занято время безвредными молитвами. Это прекрасно, но отчего бы не занять время трудом прокормления себя и других, свойственным человеку. […]
29, 30, 31 декабря. Ясная Поляна. 89. В эти дни пробовал писать коневскую повесть. Немного поправил, но вперед не пошел. Все время были репетиции, спектакль, суета, бездна народа, и все время мне стыдно. Пьеса, может быть, недурна, но все-таки стыдно. Получил письмо еще от Черткова. Главное же впечатление этих дней: 1) Таню жалко. Она кокетничает даже с Цингером, и она несчастна. 2) «Крейцерову сонату» читали третьего дня, и я слушал. Да, страшное впечатление. Стахович ничего не понимает. А Илья понимает. 3) Чтение книги Минского*. Замечательно сильно начало, отрицание, но положительное ужасно. Это даже не бред, а сумасшествие. Нужно найти смысл жизни, и вдруг вместо этого неопределенный экстаз перед меонами. Нынче болела голова; читал и спал. Теперь 8-й час вечера; хочу написать письмо и, если успею, поправлять комедию.
1890
Нынче 3 января 1890. Ясная Поляна. Первого целый день поправлял комедию, недурно. В этот же день приехали тульские и танцевали. Второго. Целый день был не свой, потому что не спал накануне. Пришел Пастухов с евреем Пропиным, кажется. А вечером Раевский с сыном. Дети пели и играли. Читал превосходно написанную книгу Минского с ужасным плохим концом.
[…] Пророк, настоящий пророк, или, еще лучше, поэт ποητα (делающий), это человек, который вперед думает и понимает, что люди и сам он будет чувствовать. Я сам для себя такой пророк. Я всегда думаю то, что еще не чувствую, например, несправедливость жизни богатых, потребность труда и т. п., и потом очень скоро начинаю чувствовать это самое. […]
[10 января. ] Прошло и 5, и 6, и 7, и 8, и 9. Заболел живот, и потом очень сильная головная боль. Это было 6 и 7. Тут же приезжали Дунаев с Алмазовым. Оставили хорошее впечатление. Особенно Дунаев. После них два дня возился с комедией — все вписывал то, что приходило в голову. Странно художественным увлечен. Вчера получил письма от Ругина, Черткова и письмо революционеров о избиении их. Непохоже на правду. А если правда, то лживо выражена. […]
[15 января. ] 10, 11, 12, 13, 14, 15 января. Ясная Поляна. 1890. Шесть дней не писал, и трудно вспомнить. Вчера 14. Были Янжул, Стороженко, Самарины, Давыдов, Раевская. Я им читал комедию. И ничего не делал. Разговоры с Янжулом о христианском социализме. Многое можно сказать и говорил; но не знаю так его. Странное равнодушие у меня стало последнее время к высказыванью истины о жизни — неудобопринимаема она. 13. Были мальчики Раевские, и меня сердила Таня. Я поправлял комедию. 12 тоже были мальчики Раевские, я ходил в школу топить*. 11-го. Опять комедию и школа.
[…] Думал: по тому случаю, как некоторые люди относятся к «Крейцеровой сонате»: Самарин, Стороженко и много других, Лопатин. Им кажется, что это нечто особенный человек, а во мне, мол, нет ничего подобного. Неужели ничего не могут найти? Нет раскаяния — потому что нет движения вперед, или нет движения вперед, потому что нет раскаяния. Раскаяние это как пролом яйца или зерна, вследствие которого зародыш и начинает расти и подвергается воздействию воздуха и света, или это последствие роста, от которого пробивается яйцо. Да, тоже важное и самое существенное деление людей: люди с раскаянием и люди без него.
18 января. Ясная Поляна. 1890. Дурно спал. Вчера переписывал комедию, а нынче взялся опять исправлять. Она плоха. Работу перервал Буткевич, приехавший из деревни. Говорил с ним. Он рассказывал, что многие ненавидят «Крейцерову сонату», говоря, что это описание полового маньяка. Меня это в первую минуту огорчило, но потом приятно, что, во всяком случае, это разворочало то, что нужно. Разумеется, можно бы лучше; но как умел. От Черткова телеграмма. Все угрожает живот, но держусь, воздерживаясь от пищи.
21 января. Ясная Поляна. 90. Поправлял комедию, читал. Катался с ребятами на скамейках. Соня очень все взволнована, суетлива.
Странное дело эта забота о совершенстве формы. Недаром она. Но недаром тогда, когда содержание доброе. Напиши Гоголь свою комедию грубо, слабо, ее бы не читали и одна миллионная тех, которые читали ее теперь. Надо заострить художественное произведение, чтобы оно проникло. Заострить и значит сделать ее совершенной художественно — тогда она пройдет через равнодушие и повторением возьмет свое. […]
22 января. Ясная Поляна. 90. Встал рано, поправлял все утро комедию. Надеюсь, что кончил. Ходил в школу. Маша хворает, написала хорошее письмо Поше. Таня хороша, проста, бодра, добра. Читал прежде еще книгу изречений индийской мудрости*. Много хорошего и общего. Очень я, благодаря комедии и игре «Власти тьмы» в Петербурге и Берлине*, стал поддаваться удовольствию похвал. Хотел ехать к Сереже. Не успею. Теперь 10 часов.
[27 января. ] Нынче 27 января. Вчера 26 января. Уезжал Лесков*, и я, чувствуя, что не в состоянии буду работать, проводил его — поехал сам кучером в Тулу.
Сделал поручение с Чертковым, и потом у Давыдова обедали. Много говорили. Девочки нас встретили.
Третьего дня 25. Утром поговорил с Чертковым и Лесковым, гуляя. Зашел в школу. Потом я поправлял, сколько помнится, комедию, 4-ый акт. Вечер разговаривали, и я прочел комедию. Всё тщеславие. Чертков так же, еще более близок мне. Четвертого дня 24. Утро поправлял комедию всю сначала. До самого обеда не кончил. Поехал в Тулу за Чертковым и Лесковым и разъехался с ними. Вечером провожал Соню в Москву. 23-го — не помню, что утром делал. Кажется, пытался коневскую повесть, но ничего не написал.
Итак, нынче 27-е. Встал поздно. Поговорил с Чертковым очень хорошо об искусстве и смерти и пошел гулять. Об искусстве то, что: все, что мы имеем духовно, есть последствие передачи; но из всей массы передаваемого выделяется то, что мы называем наукой и искусством. Что это? Это-то не то, чего нельзя не знать, что само собой передается, — искусство ходить, говорить, одеваться и т. п., и это не то, чего можно не знать, специальное дело — кузнечное, сапожное; а то, что должно знать всякому человеку.
28 января. Ясная Поляна. 90. Приехал Ге-старший, привез рисунок картины — очень хорошо*. Все время проходит в беседах с Чертковым. Он рассказывал про свое душевное состояние. Как страшно.
29, 30 января. Ясная Поляна. 90. Вчера то же. Приехала Соня. В самом хорошем духе. Нынче проводил, свез Черткова с Ге в Тулу. Было очень хорошо, если бы не страх за возбужденное состояние Черткова. Нынче утром почувствовал, что мне не хочется передавать ему мои мысли именно потому, что он их принимает так жадно. Боязно. Я-то плох. Мне самому нужно питаться ими. Все эти дни тщетно пытался писать послесловие к «Крейцеровой сонате». Теперь 12-й час — болит живот.
1 февраля. Ясная Поляна. 90. Встал бодро, пошел ходить, вернулся с намерением заняться — Никифоров с студентом. Ничего не делал — читал. Досадовал на студента, на то, что он глуп — стыдно. Получил письмо от Воробьева, о бале*.
2 февраля. Ясная Поляна. 90. Написал ответ. И еще письма. Приехал Долгов о токологии, написал предисловие*. И поехали с Таней в Пирогово. Хорошо доехали, Сережи и Веры нет. Вечером скучно было.
3 февраля. Пирогово. 90. Встал рано, пришла ясная мысль о послесловии, но не написалось. Пошел в школу — нету. У кабака побеседовал. Теперь 11 часов, хочу писать, но слаб, спать хочется.
Заснул на часок. Писал послесловие. Мысли верные, но нет энергии писать. Хохотал с добродушной Марьей Михайловной и рассказывал ей историю жития и музыкальной учительницы*. Хорошо бы написать. Купеческая дочь больная — соблазнительна своей болезнью — и преступлением — убивает. Духовник Ел. Серг. грубый мужик. От нас все к тебе ездят. Она все собиралась. А она, как ты святой был, была святее тебя. Все не то делаю.
Ходил в Царево. Пьяный роет, бабы пьяные надо мной смеялись и кнутом ударили.
4 февраля. Пирогово. 90. Проснулся позднее. Много хорошего думалось к послесловию. Записал в книжечке. Пил кофе, лег и думал много хорошего, но забыл.
[…] Поехали домой. Прекрасно доехали. Люблю детей; но я одинок уже.
5 февраля. Ясная Поляна. 90. Хотел дурно спать; все утро бился с послесловием. Начал с того, что колол дрова и был у Тани в школе. После кофе задремал. Надо попробовать писать утром натощак. После обеда читал и думал, хочется писать, но нет энергии. Думал к драме о жизни:* отчаяние человека, увидевшего свет, вносящего этот свет в мрак жизни с надеждой, уверенность освещения этого мрака; и вдруг мрак еще темнее. […]
11 февраля. Ясная Поляна. 90. Странно — сладострастный сон. Мало сплю. Слабость. А писать хочется, но нет силы. Нынче думал: к письму, которое я начал писать Колечке* о том, что главный соблазн в моем положении тот, что жизнь в ненормальных условиях роскоши, допущенная сначала из того, чтоб не нарушить любви, потом захватывает своим соблазном, и не знаешь, живешь так из страха нарушить любовь или из подчинения соблазну. Признак того, что первое, то есть что допускаешь соблазн только из страха нарушить любовь — тот, что не только не ослабляются прежние требования совести, но появляются новые.
Еще думал о том, что послесловие «Крейцеровой сонаты» писать не нужно. Не нужно потому, что убедить рассуждениями людей, думающих иначе, нельзя. Надо прежде сдвинуть их чувство, предоставив им рассуждать о том, что они правы. Они будут чувствовать себя неправыми, а все-таки будут рассуждать, что правы. Это не то, что нужно людям, а без этого не могут жить люди. Рассудок — фонарь, привешенный к груди каждого человека. Человек не может идти — жить иначе как при свете этого фонаря. Фонарь всегда освещает ему вперед его дорогу — путь, по которому он идет. И рассуждения о том, что освещает мне мой фонарь на моем пути, когда путь мой другой (хотя бы путь мой был истинный, а его ложный), никак не может заставить его видеть другое или не видать того, что он видит по тому пути, по которому идет. Нужно сдвинуть его с дороги. А это дело не рассуждения, а чувства. Даже сдвинувшись с ложной дороги и уж идя по истинному направлению, он долго будет видеть то, что освещает его фонарь на ложном пути.
Гуляя, очень много думал о коневской повести. Ясно все и прекрасно. 1) Он не хотел обладать ею, но сделал это потому, что так надо — ему кажется. Она прелестна в его воображении. Он улыбается, и ему хочется плакать. 2) Поездка в церковь, темнота, белое платье, поцелуй. 3) Старая горничная берет деньги, но смотрит грустно. 4) Старая горничная фаталистка, Катюша одинока. 5) Она, увидав его при проезде, хочет под поезд, но садится и слышит ребенка в чреве. 6) Он спрашивает у тетки, где она. У помещика в горничных. Дурно живет, в связи с лакеем. И ей нельзя не быть в связи: в ней разбужена чувственность. 7) Он в волнении и спрашивает: и вы прогнали? И очень она плакала? И я виноват? и т. д. 8) Пробовал ambition[113] — скверно, не по характеру, заграницу — Париж — разврат — скверно. Остались чтение, изящество, охота, карты, примеры. Волоса седеют — тоска.
16 февраля. Ясная Поляна. 90. […] Я рад, что в самые дурные минуты я не падаю до озлобления на людей и до сомнения в истинной жизни. Только поползновение к этому.
[…] Писал коневскую повесть недурно. Получил замечательную книгу английский магазинчик «Rising Star». Статья Elder Evans о столетии американской республики, замечательная*.
18 февраля. Прочел о Кублинской в Варшаве. И писал обвинительный акт: правительству, церкви и общественному мнению* — нехорошо. Приехал Буткевич с братом. (Все это было 17.) Я их проводил и пришел больной. Целый день болел животом.
19 февраля. Ясная Поляна. 90. Дурно спал. Все болит. Был в школе, читал «Исторический вестник» о декабристах*. Приезжал Давыдов. Лень умственная. Слава богу, нет зла. […]
25 февраля. Ясная Поляна. 90. Встал рано, и, после вчерашней бури и метели, прекрасная погода. Разбудил девочек — Таня, Маша, Вера. Собрались и поехали в 10*. Хорошо, весело и приятно ехали. Покормили в Крапивне и в 7 приехали в Одоев. Ночуем на прекрасном постоялом дворе. Я это записываю. Нет работы мысли. Получил письмо от Ге.
27 февраля. 90. Оптина. Приехали рано. […] В Оптиной Машенька только и говорила про Амвросия, и все, что говорит, ужасно. Подтверждается то, что я видел в Киеве — молодые послушники — святые, с ними бог, старцы не то, с ними дьявол. Вчера был у Амвросия, говорил о разных верах. Я говорю: где мы в боге, то есть в истине, там все вместе, где в дьяволе, то есть лжи, там все врозь. Борис умилил меня*. Амвросий, напротив — жалок, жалок своими соблазнами до невозможности. По затылку бьет, учит, что не надо огорчаться о том, что она зла с прислугой, и не видит, что ей нужно. По ней видно, что монастырь духовное сибаритство. Борис говорил, что цель мира и человечества пополнение ангелов.
28 февраля. 90. Оптина. Во сне видел, что говорю с священником о пьянстве, о терпимости и о чем-то еще, что забыл. О терпимости: не презирать ни жида, ни татарина, любить. А мне: православного. Мне кажется, я достиг этого в этот приезд третий в Оптину. Помоги мне бог. Горе их, что они живут чужим трудом. Это святые, воспитанные рабством. Теперь 10 часов, пойду к Леонтьеву*.
Был у Леонтьева. Прекрасно беседовали. Он сказал: вы безнадежны. Я сказал ему: а вы надежны. Это выражает вполне наше отношение к вере. Потом поехали. Весело ехали до Мишнева, сорок верст от Оптиной. Ночевали в избе. […]
1 марта. Ясная Поляна. 90. Рано встал, ехали целый день. Замучились лошади, приехали в 2-м часу. Соня радостно, весело встретила.
2 марта. Ясная Поляна. 90. Дурно спал, встал поздно. Ге и Губкина. С обоими приятно. Ге рассказывал про храм в память Александра II. Как все украли*. Неприятно слушать. Губкина говорила о Евангелии. Письмо от Маши. Нынче ответил. Интересно письмо девицы. Пишет: кто взялся меня готовить, устроить, и потом вышло, что это насмешка.
9 марта. […] Читаю все Лескова*. Нехорошо, потому что неправдиво. Думал еще за эти дни. 4 марта. Сережа говорит: надо быть занятым. Это ничего не говорит. Надо знать, чем быть заняту. А чтобы знать это, одно средство: делать то, что тебе нужно, то, что ты сам потребляешь, или то, к чему влечет неудержимо призвание. […]
Нынче думал: самое ужасное страдание: знать, что я страдаю и лишаюсь не от завала горы, не от бактерии, а от людей, от братьев, которые должны бы любить и которые, вот, ненавидят меня, если заставляют страдать. Это вот когда вели на казнь декабристов, это заключенные — несчастные в Каре и др. Ужасно!
Вчера 8 марта. Слабость, боль, желтуха. Читал Лескова, письма. Много о «Крейцеровой сонате». Спрашивают: что же следует? Надо послесловие, а не могу. […]
10 марта. Ясная Поляна. 90. Все нездоров — слабость и лихорадка и желтуха. Не мешает думать, а главное, хорошо жить. Все думаю о любви и прилагаю. Всегда везде можно extirper[114] из души все недоброжелательное, слушая разговор, читая, думая. Приезжал Давыдов. Комедия опять, кажется, нравится людям. Удивительно! Раевские тут, Бергеры. Несколько раз поднималось беспокойство — следовательно, недобр…, подавлял. Читаю Лескова. Жалко, что неправдив. Как сказать это.
11 марта. Ясная Поляна. 90. Немного лучше. Получил статью Янжула, читал*. Главное, по-ихнему, надо не изменять жизни, не трогать учреждений, но поправлять жизнь. Жизнь не плоха от дурных учреждений. Хотелось бы написать про это в связи с «Christian business»*. Думал о послесловии в форме ответа на письмо Прохорова*. […]
[15 марта. ] 13, 14, 15. Ничего не делал и медленно поправлялся. Приехал Василий Иванович — милый и Файнерман. Хорошо с Файнерманом, и то, что он говорит об общинниках, хорошо; но об общинах плохо. Начинают чувствовать неправду. Пропасть писем о «Крейцеровой сонате». Всё недоумения и вопросы.
[15 марта. ] 16 марта. Ясная Поляна. 90. Проснулся и прочел покаянное письмо Сережи и ревел от радости. Утром попытался писать предисловие, не пошло. Вечером написал письма Дужкину, Черткову, Соловьеву, Хилкову, бугурусланскому инспектору и Сереже. С Соней был разговор нелюбовный, сейчас же перешел в умиление. Да, можно победить мир любовью. Много мыслей не выписано из книжечки.
17 марта. Жив, и даже два дня, потому что, означив 17, ошибся на день. Вчера было 16. Все так же провел день. Спал очень дурно, ничего не мог писать, ни работать. Говорил с Василием Ивановичем и думал. С вечера заболело, но не сильно. Нынче выспался хорошо, но все-таки слаб умом. За это время не записано следующее:
Два типа: один критически относится не только к поступкам, но и к положению — например, не может взять место чиновника правительства, не может собирать и держать деньги, брать проценты и т. п., и вследствие этого всегда в нужде, в бедности, не может прокормить ни семью, ни даже себя и по своей слабости становится в унизительное для себя и тяжелое для других положение — просить; другой же относится критически только к своим поступкам, но положения принимает, не критикуя, и, поставив себя раз в положение чиновника, богатого человека, с избытком кормит себя, семью и помогает другим и никому не в тягость (незаметно, по крайней мере). — Кто лучше? — Оба. Но никак не последний. […]
18 марта. Ясная Поляна. 90. Вчера приехал Илья. Запылился, заскоруз и состарился без употребления. Ничего не делал. Все болит печень. Должно быть, смертная болезнь. Мне это ни страшно, ни неприятно. Только не привык. Все хочется по-старому работать. Ездил в Ясенки. Заболело дорогой. Пытался писать. Не идет. Вечером читал Сенкевича*. Очень блестящ. Соня пришла и стала говорить о продаже сочинений новых, и мне стало досадно. Стыдно мне.
19 марта. Ясная Поляна. 90. Встал рано, походил. Напился кофею, заболело. Писать не могу, хотя кажутся ясными мысли, пока думаю: нет памяти, бойкости. Приехал инспектор. Я не принял его, напрасно. Инспектор был что-то вроде жандарма, допрашивал. Маша насилу отделывалась. Закроют школу, и мне жалко за девочек. Илья тут, и я все не могу поговорить с ним. Очень хотелось, но не умел подступиться, тем более, что он удаляется. Он весь, его разговоры, шуточки это точно приправа к кушанью, которого нет. Это часто бывает, что жизнь, деятельность, разговоры, в особенности, веселье и шутки, — это приправы к тому существенному, чего нет.
Нынче 25 [марта]. Утром написал письмо Вагнеру, огорчившемуся на «Плоды просвещения»*, и потом докончил «Послесловие». Кажется, слабо. Вчера 24-го получил письма: от Вагнера. Утром писал мало. Вечер ездил верхом в Ясенки и Козловку. Третьего дня 23. Соня вернулась. Я много спал. Ничего не делал. Мы читали «Некуда»*, и я один читал. Хуже стало. Приехал Лева. Хорош. Хочет продолжать на филологическом. Я поговорил с ним. […]
28 марта. Ясная Поляна. 90. Все болит во время обеда живот. Спал, потом поправлял послесловие. Сейчас получил о том же письмо Оболенского*. […] Начал писать ответ Оболенскому. Вероятно, не напишу ему.
29 марта. Если буду жив.
Нынче 7 апреля. Жив еще. Пойду назад. Вчера 6 апреля. Утром дописывал, поправлял послесловие. Только что расписался и вполне уяснил себе. Проводил Ганзена. Вечером хорошо ходил, молился. С Сережей легче. Слава богу, служение любви успокаивает, радует, украшает жизнь. Письмо от Колечки, все то же, задорное. Грустно. […]
8 апреля. Спал дурно. Нездоровится. Не мог писать. А много нужно. Письмо от Черткова. Написал несколько плохих писем. Читая Левино сочинение*, пришло в голову: воспитанье детей, то есть губленье их, эгоизм родителей и лицемерие. Повесть вроде «Ивана Ильича»*. Да, думал: нехорошо прийти и накурить людям. Но разве лучше прийти к веселым, счастливым людям с мрачным лицом и испортить им удовольствие.
10 апреля. Ходил гулял, много думал, вчера и нынче, а именно:
1) Одно из самых дерзких неповиновений Христу это богослужение, общая молитва в храмах и название отцами духовенство, тогда как Мф. III, 5-15, Иоанна IV, 20, 21 и Мф. XXIII, 8.
2) Выразить словом то, что понимаешь, так, чтобы другой понял тебя, как ты сам — дело самое трудное; и всегда чувствуешь, что далеко, далеко не достиг того, что должно и можно. И тут взять и задать себе еще задачу ставить слова в известном порядке размера и окончаний. Разве это не сумасшествие. Но они готовы уверять, что слова сами собой складываются в «волнует кровь… и любовь». A d’autres![115]
3) Социалисты говорят: не нам, пользующимся благами цивилизации и культуры, надо лишаться этих благ и спускаться к грубой толпе, а людей, обделенных благами земными, надо поднять до нас и сделать их участниками благ цивилизации и культуры. Средство для этого наука. Она научает нас побеждать природу, она до бесконечности может увеличить производительность, она может заставить работать электричеством Ниагарский водопад, реки, ветра. Солнце будет работать. И всего всем будет довольно.
Теперь только малая часть, часть людей, имеющая власть, пользуется благами цивилизации, а большая лишена этих благ. Увеличить блага, и тогда всем достанет. Но дело в том, что люди, имеющие власть, уже давно пользуются не тем, что им нужно, а тем, что им не нужно, всем, чем могут. И потому как бы ни увеличились блага, те, которые стоят наверху, употребят их все для себя. Употребить нужного нельзя больше известного количества, но для роскоши нет пределов. Можно тысячи четвертей хлеба скормить лошадям, собакам, миллионы десятин превратить в парки и т. п. Как оно и делается. Так что никакое увеличение производительности и богатств ни на волос не увеличит блага низших классов до тех пор, [пока] высшие имеют и власть и охоту потреблять на роскошь избыток богатств. Даже напротив, увеличение производства, большее и большее овладевание силами природы дает большую силу высшим классам, тем, которые во власти, силу удерживать все блага и ту власть над низшими рабочими классами. И всякое поползновение со стороны низших классов заставить богатых поделиться с собой (революции, стачки) вызывают борьбу; борьба же — бесполезную трату богатств. «Никому пускай не достается, коли не мне», — говорят борющиеся.
Покорение природы и увеличение производства благ земных для того, чтобы переполнить благами мир, так, чтобы всем достало, такое же неразумное действие, как то, чтобы увеличивать количество дров и кидание их в печи для того, чтобы увеличить тепло в доме, в котором печи не закрываются. Сколько ни топи, холодный воздух будет нагреваться и подниматься вверх, а новый холодный тотчас же заступать место поднявшегося, и равномерного распределения тепла, а потому и самого тепла не будет. До тех пор будет доступ холодному воздуху и выход теплому, имеющему свойство подниматься вверх. Будет так до тех пор, пока тяга будет снизу вверх.
До сих пор против этого придумано три средства, из которых трудно решить, которое глупее: так они глупы все три. Одно, первое, средство революционеров, состоит в том, чтобы уничтожить то высшее сословие, через которое уходят все богатства. Это вроде того, что бы сделал человек, если бы сломал дымовую трубу, через которую уходит тепло, полагая, что, когда не будет трубы, тепло не будет уходить. Но тепло будет уходить в дыру так же, как и в трубу, если тяга будет та же, точно так же, как богатства все будут уходить опять к тем людям, которые будут иметь власть, до тех пор, пока будет власть.
Другое средство состоит в том, чтобы делать то, что делает теперь Вильгельм II. Не изменяя существующего порядка, от высших сословий, имеющих богатство и власть, отбирать маленькую долю этих богатств и бросать их в бездонную пропасть нищеты. Устроить вверху вытягивающей тепло трубы, там, где проходит тепло, — опахала и этими опахалами махать на тепло, гоня его книзу, в холодные слои. Занятие, очевидно, праздное и бесполезное, потому что, когда тяга идет снизу вверх, то как бы много ни нагоняли тепла вниз (а много нагнать невозможно), оно все тотчас же уйдет, и труды пропадут даром.
И, наконец, третье средство, которое с особенной силой проповедуется теперь в Америке. Средство состоит в том, чтобы заменить соревновательное, индивидуалистическое начало экономической жизни началом общинным, артельным, кооперативным. Средство, как это и высказано в «Down» и «Nationalist», то, чтобы проповедовать и словом и делом кооперацию — внушить, растолковать людям, что соревнование, индивидуализм, борьба губит много сил и потому богатств, а что гораздо выгоднее кооперативное начало, то есть каждому работать для общей пользы, получая потом свою долю общего богатства. Что так выгоднее будет для всех. Все это прекрасно, но горе в том, что, во-первых, никто не знает, какая порция достанется на каждого, если всем будет поровну. Главное же то, что какая бы ни была эта порция, она покажется недостаточна людям, живущим, как они теперь живут, для своего блага. «Всем будет хорошо, и тебе будет, как всем». Да я не хочу жить, как все, а лучше. Я жил всегда лучше, чем могут жить все, и привык так. А я жил долго хуже, чем все могут жить, и хочу жить, как жили другие. Средство это глупее всех, потому что оно предполагает, что при существующей тяге снизу вверх, то есть при мотиве стремления к наилучшему, можно уговорить частицы воздуха не подниматься выше по мере нагревания.
Средство одно — показать людям их истинное благо и то, что богатство не только не есть благо, но отвлекает их, скрывая от них их истинное.
Одно средство: заткнуть дыру мирских желаний. Только это одно даст равномерное тепло. И это-то и есть самое противоположное тому, что говорят и делают социалисты, стараясь увеличить производительность и потому общую массу богатств.
Теперь 2 часа. Здесь Стахович. Я с ним неласков был. Напрасно.
11, 12, 13 апреля. 90. Ясная Поляна. Третьего дня писал опять о наркотиках*. Недурно. Вчера. Прекрасно думал утром и записал в книжке, но писать не мог. Пошел после обеда в Тулу и был на репетиции*. Очень скучно, комедия плоха — дребедень. Третьего дня, говоря с Стаховичем, ругал царя за то, что возобновилась смертная казнь. Нынче поздно встал, не мог писать, дошил сапоги. Вечером гулял. Лева грустен. Таня мила. Теперь 1-й час. Думал:
[…] 2) Говорят: благодаря роскоши жизни высших классов, их досугу, происходящему от неравенства состояний, являются выдающиеся люди — равнодушные к благам мира, с одними духовными интересами. Это все равно, что сказать, что на поле, вытоптанном скотиной, оставшиеся колосья особенно хороши. Ведь это неизбежное вознаграждение, которое есть во всяком зле, а потому нельзя этим оправдывать делание зла.
3) Орлов да и многие говорят: я верю, как мужик. Но то, что он говорит это, показывает, что он верит не как мужик. Мужик говорит: я верю, как ученые господа, как архиерей.
[18 апреля. ] Жив и здоров и прожил с тех пор 4 дня. Нынче 18 апреля. Встал поздно, выспался, сел за работу послесловия. Думал много, написал мало. Сережа уехал, Лева и Стахович в Оптину. Ходил после обеда на Грумант с Новиковым. Письмо хорошее от шекера Holister’a. Думал в ответ на письмо Кудрявцева, в котором он пишет, что половой союз есть священный акт, так как продолжает род, думал, что как человек вместе со всеми животными подчиняется закону борьбы за существование, так он подчиняется как животное и закону полового размножения, но человек как человек находит в себе другой закон, противный борьбе — закон любви, и противный половому общению для размножения — закон целомудрия.
Думал для будущей драмы*, как мужики притворяются, что верят, для господ, а господа притворяются для мужиков.
Вчера 17-го. Письмо прекрасное от Черткова и от Кудрявцева глупое, хотя и печатное. Ходил провожать Рахманова. Были Зиновьевы, и суета. 3-го дня. Был Давыдов. Тяжело с ним. Рахманов был и получил письмо от своих, где про меня сказано: «получил письмо от Толстого. Он пишет о собственности, но Михаил не будет отвечать, так как Толстой все равно не поймет». Это мне очень здорово. Кажется, не разлюбил их. 15. Я провожал всех в театр. Пришел Рахманов. Есть гордость и не то. Но еще больше не того в наших. Очень тяжел праздный сумбур. Все время писал послесловие. Теперь 12.
[24 апреля. ] Опять прошло пять дней. Вчера 23 вечером был Грот и чех-профессор*. Я был нехорош, нелюбовен. Утром много поправлял «Послесловие». Гостит Горбунов. Он хотел ехать 22. Вечером я сеял. 22. Воскресенье. Вечером пахал. Утром писал «Послесловие». 21. Суббота, после обеда пахал. Утро писал. Горбунов. 20. Пахал и писал. Много писем.
[30апреля. ] 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля. Ясная Поляна. 90. Нынче пришел Золотарев. Очень милый, серьезный и даровитый человек. Он написал замечательную статью о «Крейцеровой сонате».
[…] Думал за это время: 1) к повести Фридрихса. Перед самоубийством — раздвоение: хочу я или не хочу? Не хочу, вижу весь ужас, и вдруг она в красной паневе, и все забыто. Кто хочет, кто не хочет? Где я? Страдание в раздвоении, и от этого отчаяние и самоубийство.
[…] К послесловию. Если же пал или пала, то знать, что искупления этого греха нет иного, как 1) освободиться вместе от соблазна похоти и 2) воспитать детей слуг богу.
[5 мая. Пирогово. ] Писал письма, сеял и пахал. 2-го. Писал статью о пьянстве и кончил. Очень устал, вечером пахал, очень устал, лихорадочное состояние. 3-го поправил статью и поехал с Машей в Пирогово. Поздно приехали. Опять лихорадка. 4-го. Дурно спал и ничего не делал. Вечером ходил до Ржавы и назад. Очень нездоровится. […]
9-го мая 1890 г. Пирогово. Все болен. Идет не лучше. Нынче думал:
1) Многие из тех мыслей, которые я высказывал последнее время, принадлежат не мне, а людям, чувствующим родство со мною и обращающимся ко мне с своими вопросами, недоумениями, мыслями, планами. Так, основная мысль, скорее сказать, чувство «Крейцеровой сонаты» принадлежит одной женщине, славянке, писавшей мне комическое по языку письмо, но замечательное по содержанию об угнетении женщин половыми требованиями. Потом она была у меня и оставила сильное впечатление. Мысль о том, что стих Матфея: если взглянешь на женщину с вожделением и т. д. — относится не только к чужим женам, но и к своей, передана мне англичанином, писавшим это. И так много других. […]
11 мая. Пирогово. 90. Если буду жив. Было время, что я начал думать: не умираю ли? и никакого страха, слава богу. Только страх: как бы не умереть дурно. Диета строгая нужна всем. Об еде — книга нужна*.
18-го мая. Ясная Поляна. 90. За это время поправил корректуры начала комедии*, написал письмо Страхову и начал поправлять предисловие о пьянстве.
[…] 10) Мы пишем наши романы, хотя и не так грубо, как бывало: злодей — только злодей и Добротворов — добротворов, но все-таки ужасно грубо, одноцветно. Люди ведь все точно такие же, как я, то есть пегие — дурные и хорошие вместе, а не такие хорошие, как я хочу, чтоб меня считали, не такие дурные, какими мне кажутся люди, на которых я сержусь или которые меня обидели. […]
[20 мая. ] Думал одно: мы едим соусы, мясо, сахар, конфеты — объедаемся, и нам кажется ничего. В голову даже не приходит, что это дурно. А вот катар желудка повальная болезнь нашего быта. Разве не то же самое сладкая эстетическая пища — поэмы, романы, сонаты, оперы, романсы, картины, статуи. Тот же катар мозга. Неспособность переваривать и даже принимать здоровую пищу, и смерть. […]
[25 мая. ] Нынче 25. Все так же медленно поправляюсь. Нынче ходил, гулял, немного поправлял о дурмане и начал письмо ответ еврею. Был Руднев. Вчера 24. Вечером был Давыдов. Днем ничего не делал. 23. Был Чистяков. Написал письмо Черткову и немного предисловие. 22. Та же слабость. Предисловие. Приехал Чистяков. Все о дневниках. Он, Чертков, боится, что я умру и дневники пропадут. Не может пропасть ничего. А нельзя послать — обидеть*. Маша списала то, что я отметил. Есть порядочное. […]
26 мая. Ясная Поляна. 90, если буду жив.
[26 мая. ] Жив. Утром нашел Н. Ге старшего. Он едет в Петербург о своей картине*. Говорил с ним, читал, дописал письмо Гецу. Слаб. Письма от Рахманова и Поши.
27 мая. Ясная Поляна. 90. Все то же. Ходил подальше. Вернувшись, застал Попова. Поговорил с ним. Он жалуется на периоды упадка духа. Теперь 5-й час. Ничего не писал, и не хочется.
28 мая. Ясная Поляна. 90. Лучше себя чувствую. Поправлял статью о пьянстве. Не помню. Ге уехал. Неприятное столкновение с Соней, но, слава богу, сейчас же стало ее жалко.
29 мая. Ясная Поляна. 90. Ходил далеко. Встретил Машу. Телеграмма от Чичерина. Немного пописал. Очень слаб. Приехал Чичерин. Алкоголик. Неподвижный, озлобленный, самодовольный. Что-то я очень от всех удалился.
30 мая. Ясная Поляна. 90. Опять Чичерин. Он уехал. Я сел писать, пришел Пастухов. Мне хотелось кончать, но потом пришел из Риги латыш-семинарист. Физически поправляюсь, но умственно сплю. Теперь 9-й час. Нынче письмо от Геца и протест*.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 июня. Ясная Поляна. 90. Прошла целая неделя. В очень дурном, мрачном духе. Нынче приехал Ге. Я немного поправлял уж поправленное и начал пить кумыс. Вчера 7. Была Анненкова и уехала. Рано утром приехала Соня. […] Начал «Отца Сергия» и вдумался в него. Весь интерес — психологические стадии, которые он проходит. […]
9, 10, 11, 12 июнь. Ясная Поляна. 90. Опять три дня пропустил. Вчера 11. Я писал письма: Третьякову, Поше, Черткову, Горбунову, и приехал Страхов. Лучше живу, но очень праздно физически. 10. Воскресенье был милый Дунаев и Стахович немилый. Лева уехал, кроткий, читал статью* и понял. Вчера прекрасное письмо от Буткевича. Я поправлял. 10. Много поправлял. Картина Ге прекрасна*. 9. Не помню. Ничего не записал.
[…] Маша писала Бирюкову и одобрила мое письмо ему*. Поразительно грустно было нынче то, что сказал Андрюша. Я сказал ему, что дурно пить кофе крепкий. Он с тем знакомым мне презрением детей ко мне отвернулся. Ге стал говорить ему, что это для его пользы. Он сказал: не о кофе, а обо всем, да разве можно делать все то, что говорит папа. Он сказал все то, что думают все дети. Ужасно жалко их. Я ослабляю для них то, что говорит их мать. Мать ослабляет то, что говорю я. Чей грех? Мой. Теперь 11 часов утра, хочу писать коневскую.
Попробовал писать, не пошло. Ходил и пил кумыс с вторым Николаем Николаевичем. Папиросочник Николай Николаевич тяжел. Если бы он не объедался и не курил, он был бы сила*. Дурно спал.
14 июня. Ясная Поляна. 90. Немного пописал коневскую. Она не притягивает меня. Поправил корректуры комедии. Здоров. Поработал, рубил и пилил.
[17 июня. ] Чуть-чуть писал*. Понадобились материалы и обдумать. Неумеренно пил кумыс. Говорил с Страховым. Он пьяный почти всегда*. Много и часто думаю эти дни, молясь о том, что думал сотни, тысячи раз, но иначе, именно: что мне хочется так-то именно, распространением его истины не словом, но делом, жертвой, примером жертвы служить богу; и не выходит. Он не велит. Вместо этого я живу, пришитый к юбкам жены, подчиняясь ей и ведя сам и со всеми детьми грязную подлую жизнь, которую лживо оправдываю тем, что я не могу нарушить любви. Вместо жертвы, примера победительного, скверная, подлая, фарисейская, отталкивающая от учения Христа жизнь. […]
[18 июня. ] Обдумал на работе то, что надо коневскую начать с сессии суда; а на другой день еще прибавил то, что надо тут же высказать всю бессмыслицу суда. Здоровье лучше. Приехал Дьяков.
18 июня. Ясная Поляна. 90. Дурно спал. И не пытался писать. Косил. Приехал Олсуфьев Митя. Очень беден умственно. От Сережи письмо с просьбой денег. Соню одолевают просьбами денег сыновья. Будет еще хуже. Разве не лучше бы было, если бы она отказалась хоть от собственности литературной. Как бы покойно ей, и как бы нравственно здорово сыновьям, и как мне радостно, и людям на пользу и богу угодно. Страхов.
22 июня. Ясная Поляна. 90. Прошло много дней, пять, кажется. Кажется, ничего не писал за это время. Постараюсь вспомнить. Вчера, 21, никого не было. Уехал Олсуфьев. Косил с Севастьяном. 20. Уехали дети и Сикорский. Косил много. И разговоры с Сикорским. Его поразительное легкомыслие. Как ученый измерял трату кислорода днем и замену ночью и как через неделю все вышло. И потому надо воскресенье отдыхать. И что это было наука, но забыта. И еще о том, что образуются в зародыше центры в разные периоды. И если мать больна в эти периоды, то отсутствие этих центров и сумасшествие. И будто то же количество сумасшедших теперь и прежде. А добрый, но — испорченный.
19. Он приехал вечером, и куча народа. Языкова, Офросимова с балалайкой и Олсуфьев. Я косил с потлётом.
18. Тоже косил. Страхов, и я тяготился им. Я очень опустился. Не в умственном смысле — это ничего — не опущение, а в сердечном, любовном. Я не в духе и злюсь. Сижу и злюсь и на присутствующих и на отсутствующих. Всякое слово, мысль вызывает не проникновение и сочувствие тому, кто ее высказывает, а желание заявить свою правду перед ним. Скверно. Очень скверно.
[…] На работе, покосе, уяснил себе внешнюю форму коневского рассказа. Надо начать с заседания. И тут же юридическая ложь и потребность его правдивости. А еще: о государстве: рассказ переселенцев.
Опять много работал, косил. Получил прекрасное письмо Wilson’a к Черткову и Черткова письмо. Еще письма менее интересные. Вечером приехал верхом американец Stevens, объехавший мир на велосипеде и бывший в Африке за Станлеем*. В соблюдении любви помнил и провел день хорошо.
24 июня. Ясная Поляна. Работал. Не писал. Приехал Бестужев, потом Зюсерман. Гости — бедствие нашей жизни. Косил. Сдерживался с Страховым. Зла меньше.
Вчера читал «Без догмата»*. Очень тонко описана любовь к женщине — нежно, гораздо тоньше, чем у французов, где чувственно, у англичан, где фарисейно, и у немцев — напыщенно, и думал: написать роман любви целомудренной, влюбленной, как к Сонечке Калошиной, такой, для которой невозможен переход в чувственность, которая служит лучшим защитником от чувственности. Да не это ли единственное спасение от чувственности? Да, да, оно и есть. Затем и сотворен человек мужчиной и женщиной. Только с женщиной можно потерять целомудрие, только с нею и можно соблюсти его. Нецеломудрие начинается при перемене. Хорошо написать это. […]
25 июня. Ясная Поляна. 90. Еще думал: надо бы написать книгу «Жранье»*. Валтасаров пир, архиереи, цари, трактиры. Свиданья, прощанья, юбилеи. Люди думают, что заняты разными важными делами, они заняты только жраньем. А то, что за кулисами делается? Как готовятся к этому?
Вчера уехал Голцапфель. Дети вскочили раньше обыкновенного, и Андрюша пошел на деревню, я спрашиваю зачем. Яйца покупать. Зачем? Мама велела. И я подумал: воспитание их ведется кем? Женщиной без убеждений, слабой, доброй, но journalière[116], переменчивой и измученной взятыми на себя ненужными заботами. Она мучается, и они на моих глазах портятся, наживают страдания, жернова на шеи. Прав ли я, допуская это, не вступая в борьбу? […]
[26? июня. ] Думал еще: одно из обычных заблуждений людей то, что они делают то, что делается само собою, что они везут то, на чем сами едут. Государь правит государством, министр министерством, хозяйка домом и т. п. Они делают только то, что им велит делать предание и окружающие, и участвуют в общем движении.
Еще думал, Лежа в лесу и глядя на дальний лес и небо: не нужна мне, бесполезна мне красота природы, как и красота искусства, гораздо низшая. Другое нужно и радует. А это только развлекает, отвлекает. Но зачем же это? Зачем? Да, пчеле надо любить все это, чтобы был мед, перга, летва; пчеле, липе надо любить землю, воздух, влагу, чтобы была липа; всем животным, всему нужно это, чтобы размножаться, как и мне нужно это было для низшей животной жизни. Теперь нужно нечто другое, не имеющее выражения в материальном мире и ищущее этого выражения вне его, там, за гробом. Я могу себе представить существа, которым те проявления добра, которые влекут меня к себе, так же не нужны станут, как мне проявления красоты.
Косил и работал много. Вечером приехал Оболенский и Раевский с Цингером. У меня сделалось головокружение, и я испугался. И стал думать о смерти. И я увидал, как я уж испортился, отошел далеко назад к плотской мерзости от того состояния, в котором я был во время болезни. Очень дурно спал.
26 июня. Встал поздно. И вот написал это. Теперь 1-й час. Косил вечером, очень устал.
1-го июля. Ясная Поляна. 90. Опять писал письма Балу, Анненковой, Горбунову, Черткову. Плохо.
[…] Думал еще: Катерина умирает во время покоса. Событие ничтожное с точки зрения покосников. Покос убрали прекрасно. Какой важности это событие с точки зрения умирающей и умершей Катерины.
Еще думал: хорошо бы написать историю человека доброго, нежного, кроткого, милого, образованного, умного, но живущего по-господски, то есть жрущего и с……и потому требующего, чтоб для него резали цыплят, не спали кучера, рабочие и чистили нужники. Нельзя быть добрым человеку, неправильно живущему.
[2 июля. ] Приехала Гельбиг с дочерью. У ней тот недостаток, про который я пишу Анненковой, желание быть выдающейся, прекрасной. Она все говорит, что ей ничего не нужно. Этого не надо говорить, а надо делать.
3 июля. Ясная Поляна. 90. Ушел спать вниз. Встал поздно. Тяжело, скучно, праздность, жир, тщета разговоров. Точно жиром заплыли, засорены зубья колес и не цепляются. То не идут колеса от недостатка мази, а то не идут от набитого в них сала. Писать для этих людей? Зачем? Странная неохота писать. […]
4 июля. Ясная Поляна. 90. Встал поздно. Пью лишний кумыс. Ничего не писал. Косил целый день. Одно спасенье. Статьи и письма все о «Послесловии» и «Крейцеровой сонате». Поразительно, какое пренебрежение к слову, какое злоупотребление им!
[…] Страдаю оттого, что окружен такими людьми с искривленными мозгами, такими самоуверенными, с такими готовыми теориями, что для них писать что-либо тщетно: их ничем не проберешь. […]
5 июля. Ясная Поляна. 90. Встал бодро, хотя мало спал. Застал m-me Гельбиг с Страховым в разговоре о том, можно ли очистить все любовью, не изменяя своей жизни. Я вступился и горячо говорил, тем более, что пришла молодежь. Но, разумеется, никого не убедил. Слишком больно то место, в которое я мечу, и потому они старательно и поспешно и своевременно защищают его, как глаз веком.
Думал: «Räuber’ы»[117] Шиллера оттого мне так нравились, что они глубоко истинны и верны. Человек, отнимающий, как вор или разбойник, труд другого, знает, что он делает дурно; а тот, кто отнимает этот труд признаваемыми обществом законными способами, не признает своей жизни дурной, и потому этот честный гражданин несравненно нравственно хуже, ниже разбойника. Теперь 2-й час. Писать не могу — пойду косить. […]
6 июля. Ясная Поляна. 90. Ходил смотреть уборку ржи. Вечером пойду косить рожь. Утром опять спорил с Гельбиг об искусстве. Кое-что сам себе уяснил в этом споре.
1) Искусство — одно из средств различения доброго от злого — одно из средств узнавания хорошего.
2) Это одно из духовных отправлений человечества, как кормление, пути сообщения и т. п. суть физические отправления.
3) Как же может быть, чтобы это отправление надо было отыскивать назад за 5000 и за 500 лет, а у нас бы его не было.
4) Очевидно, это происходит от тупости судящих, не могущих видеть около себя новое проявление, а видящих только трупы старого. […]
11 июля. Ясная Поляна. 90. Встал поздно. Обижаю Страхова.
[…] Чувствовал себя очень слабым, лежал. Вяземский — путешественник, математик, микрокефал, но серьезный. После обеда ходил купаться. Вечером с Страховым спор о русском. «Одно из двух: славянофильство или Евангелие». Мы переживаем то ужасное время, о котором говорил Герцен. Чингис-хан уже не с телеграфами, а с телефонами и бездымным порохом*. Конституция, известные формы свободы печати, собраний, исповеданий, все это тормоза на увеличение власти вследствие телефонов и т. п. Без этого происходит нечто ужасное и то, что есть только в России. Спал лучше.
13 июля. Ясная Поляна. 90. Хорошо выспался. После кофе писал «Отца Сергия». Недурно. Но не то. Надо начать с поездки блудницы. Потом шил сапоги. Пошел ходить и купаться. Вечером опять шил. Корректуры статьи от Гольцева. Надо прибавить. Думал: надо написать об отговорке — добывать хлеб не прямо, косвенным путем — то, что всякое добывание есть поедание людей или подличанье и прислуживанье людям, поедающим людей.
14 июля. Ясная Поляна. 90. Встал позднее. Сны всю ночь. Выпил кумысу, походил. Сажусь за статью. Хочется и начать «Отца Сергия» сначала. […]
Нынче 24-е. Приехал Лёвенфельд, пишет биографию*. Неприятная щекотка. Ходил, гулял и думал и молился.
Вчера 23. Вечером Стаховичи — тяжело. Косил с Осипом. До обеда писал немного о церкви*. Все расширяется.
22. Машины Кузминской именины. Фейерверк. Алексей Митрофанович осуждает. Мне неприятно это. Косил поздно овес. Обед у Кузминских.
До обеда писал о церкви.
21-го. Дурно спал, писал письма. И косил.
Теперь 4-й час, иду к Стаховичам и Лёвенфельду.
[…] Думал о своих дневниках старых, о том, как я гадок в них представляюсь, и о том, как не хочется, чтобы их знали, то есть забочусь о славе людской и после смерти. Как страшно трудно отрешиться от славы людской, не заботиться совсем о ней. Не страдать о том, чтобы прослыть за негодяя. Трудно, но как хорошо! Как радостно, когда отбросишь заботу о славе людской, как сразу попадаешь в руки богу, и как легко и твердо. Вроде как тот мальчик, который попал в колодезь и висел на руках, страдая, а стоило только перестать держаться, и он стал бы на материк, который тут же, под ногами, попал бы в руки богу. […]
28 июля. Ясная Поляна. 90. Встал поздно. Ходил купаться с Пастуховым. Поправил перевод Гарисона и Балу и написал краткое предисловие*, так, чтобы в таком виде можно было передать людям. […]
3 августа. Ясная Поляна. 90. Встал рано. Утро как всегда, хорошо думал и молился. Никого не было. Только перед обедом зашел уходящий от Булыгина Виктор Николаевич. Писал немного «Отца Сергия». Ясно обдумывалось.
[…] Думал еще: как грубо я ошибаюсь, вступая в разговоры о христианстве с православным, или говорю о христианстве по случаю деятельности священников, монахов, синода и т. п. Православие и христианство имеют общего только название. Если церковники — христиане, то я не христианин, и наоборот.
Теперь 8 часов, пойду, как вчера, гулять до ½ 10-го.
4 августа. 90. Ясная Поляна. Если буду жив.
[4 августа. ] Жив. Встал рано, купался. Молился. Думал хорошо об «Отце Сергии», записал и потерял записную книжку. Читал статью Урусова*, переводил с Таней, чинил сапоги, поехали на пожар в Колпну. Вечером заснул, ездил на Козловку. […]
[5 августа. ] Утро чувствовал себя больным, лежал и читал роман датский, «Sin»*. Плохо. Пошел купаться, за обедом увидали пожар в Ясной. Сгорели пять дворов. Удалось работать недурно. Только и было до поздней ночи.
6 августа. Ясная Поляна. 90. Пошел купаться, оттуда на пожар: приехали с мельницы. Я стал утешать Андриана, утешая, подошел к Морозову и сам раскис. Соня там с деньгами. Очень радостно было.
Думал: чем люди безнравственнее, тем выше предъявляемые ими требования. Помню, редактор журнала говорил о том, что, хотя и трудно и бесславно жить городской барской жизнью, надо нести это. Что за высота! Не могу даже представить себе исполнения этого; а он просто требует.
Еще думал: чтобы победить заботу о людской славе, надо заботиться о худой славе — не минуешь юродства. Я хотел сделать это нынче утром, сказать, что мне дела нет до погорелых; но не выдержал и сделал напротив — расхвастался.
Нашел записную книжку.
Было записано к «Отцу Сергию». Она объясняет свой приезд, говорит чепуху, и он верит потому, что она — красота. Она в охоте.
Он не видит подвига, а напротив, ему стыдно, что он поддался. Уже после она идет в монастырь. Он не красавец, а просто лицо, щиплет себе бороду, но глаза… и это-то разжигает ее.
Вчера вечером приехала Калмыкова. Теперь 2 часа. Хочу писать. Получил письма, пять — от Зонова, Вяземского, Воронова, Мотовиловой и Долгова. Все надо отвечать.
Поправил корректуру «Одурманиваться». Заснул в поле. После обеда пошли гулять по Засеке. Калмыкова малоинтересна.
7 августа. Ясная Поляна. 90. Встал поздно, вчера засиделись. Все то же. Письмо от Ге и Марьи Александровны. Она живет прекрасно. Он рад, что картина куплена и уехала*. Вчера погорелые обедали у Кузминских. Нынче был у них. Надо строиться. Вечером рубил колья. Мне целый день грустно, тяжело от дурной праздной жизни своей и всех окружающих. Молюсь много раз в день. И хорошо.
10 августа. Ясная Поляна. 90. Утро с Страховым и Стаховичем. Проводил их и стал писать предисловие.
[…] К «Отцу Сергию». Описать новое состояние счастья — свободы, твердости человека, потерявшего все и не могущего упереться ни на что, кроме бога. Он узнает впервые твердость этой опоры.
[11 августа. ] Жив. Встал рано. Тяжелое, мучительное чувство от присутствия гостей. Им тяжело, и мне мучительно. Я поговорил с Ругиным. Они хотят уходить к Булыгину и вот сидят; хотя 11 часов. А я вместо того, чтобы сказать, злюсь. Ходил купаться, не купался. Думал.
К «Отцу Сергию». Он предался гордости святости в монастыре — и пал с генералом и игумном. В затворе он кается и высок в то время, как приезжает блудница. […]
[13 августа. ] 14 августа. Ясная Поляна. 90. Встал особенно рано, ходил очень много по Засеке, купался, вернулся в 12.
[…] К «Отцу Сергию». Когда он падает, он видит рожи. Пухлые рожи, и ему думается, что это черти. […]
[15 августа. ] Я жив и записал вчера лишнее число. То, что написано 14-го, было 13. 14 же было следующее: я встал очень поздно. Сходил купаться. Молился и думал. Пил кофе и говорил с Соней едва ли не в первый раз после многих лет по душе. Она говорила о молитве искренно и умно. Именно о том, что молитва должна быть в делах, а не так, как говорят: господи, господи. И вспомнила о Ругине. Очень было радостно. Утром же во время гулянья было еще более радостно, когда я почувствовал возможность забыть себя настолько, чтобы не думать о будущей своей жизни, а только делать дело божие, участвовать в нем.
[…] Начал поправлять заключение к непротивлению, и казалось, что сделал хорошо, но вышло нехорошо. После обеда с детьми пошел рубить. Приехали Философовы Николай Алексеевич и Наташа. Очень милы. Вечером вернулись наши, ездившие смотреть дом старый яснополянский*, потом приехала Вера и Варя и Лева, и засиделись до 2-го часа. Ссора Кузминских. Соня добра.
15 августа. Ясная Поляна. 90. Да, вчера статья о «Крейцеровой сонате». Скандал в Америке* и ругательства Никанора*. Мне было не неприятно. Встал поздно. Юноша, епифанский мещанин, с стихами и просьбой о помощи. Потом Золотарев милый, тихий, вдумчивый. Ходил с ним купаться. С трудом молился. Разговор о картине Ге. Надо бы много мягче и предоставить думать, что я вру. Начал писать, не мог, съездил в Колпну на новый, пятый пожар. Дома обедал, вздремнул, порубил дрова и вот записал. 10-й час. Иду пить чай и спать.
[17 августа. ] Думал: отчего мы так рады обвинять и так злобно несправедливо обвиняем? Оттого, что обвинение других снимает с нас ответственность. Нам кажется, что нам дурно не оттого, что мы дурны, а оттого, что другие виноваты.
[…] Вчера, то есть 16, получил письмо о смерти дорогого Ballou и 17, нынче письмо от Чичерина — ужасное. Для сообщения мне сведений о том, как утонченные тамбовцы относились к крепостным, он пишет мне свою речь мужикам на празднике с водкой, на котором опился один мужик до смерти. Это ужасно. Это такая пучина холодного эгоизма и подлой тупости, возможности существования которой я уже переставал верить.
[18 августа. ] Жив. Утро по обыкновению. Очень сонный.
К «Отцу Сергию». Подробность, долженствующая дать уровень реальности. Адвокат на морозе втягивает сопли. И от него пахнет духами, табаком и ртом.
Все глубже и глубже забирает эта история. Соблазн славы людской и прославления, — то есть обман, чтоб скрыть веру.
Начал разбирать письма, да бросил. Вечером приехал Эрдели, проводил Золотарева. Сам свез — тоже прекрасное чувство к нему — спокойно дружелюбное. Дурно спал.
20 августа. 90. Пирогово. Встал поздно, слаб, читал Ибсена «Wilde Ente»*. Нехорошо. Сережа волнуется убытками. Уехал верхом в 6. Прекрасно ехал. Радостно молился. Думаю, что укрепляет меня. […]
21 августа. Ясная Поляна. 90. Встал рано, убрал, купался, поправил заключение. Читал Ибсена «Росмер»…* Недурно пока. Теперь 3-й час, пойду отдохнуть.
После обеда рубил один. Тоскую очень о несообразности жизни.
22 августа. Ясная Поляна. 90. Рано, все то же. Молитва утешает. Письмо от Чертковых хорошее. Ругин пришел. Очень хорошо поговорили с ним. Соня проснулась и было приняла хладнокровно, но потом Илья расстроил ее, сказал, что не может есть при нем. Соня прекрасно вела себя. Сделала не то, что нужно, но с любовью стремилась сделать наилучшее. И как мне дорого это. И как радостно. Мне было тяжело. Она сказала ему. Он хорошо, по крестьянски-христиански принял и ушел. Эгоизм и распущенность жизни нашей, всех наших с гостями ужасают. Мне кажется, все идет, усиливаясь. Должен быть скоро конец. Вечером приехали Стаховичи и Зиновьевы.
Думал самое простое: накануне вечером хорошо разговаривал с Алексеем Митрофановичем. Он рассказал мне таблицу Менделеева. А я ему говорил, что он очень осуждает. По этому случаю думал самое простое: судить о других совсем не нужно, если это не нужно для дела божия.
23 августа. Ясная Поляна. 90. Все та же томительная жара. Молитва все не оставляет меня. И мне так радостно это. Вчера написал три письма пустые — Чертковым, Ге и еще кому-то. Суета все та же, та же жестокость жизни, та же тупость. Соблазн ужасный, огромный, опутавший их. Я думал, что он разрешится чем-нибудь. Так нельзя.
26 августа. Ясная Поляна. 90. Дурно спал. Поздно встал. Пошел купаться, думал:
1) Осуждение остроумное, это под соусом труп. Без соуса отвратился бы, а под соусом не заметишь, как проглотишь.
2) Любить это переноситься в душу другого, жить его желаниями. Я не могу этого. Учись. Ты не мог и сыграть чижика, а теперь читаешь ноты presto[118]. Как же ты хочешь без упражнения. Бывает врожденное, так же как и музыка: один в деле любви деликатен, чует за другого от природы, и в деле музыки слышит, помнит, находит, а другой не чует и не слышит. Но и тому и другому надо учиться. Надо учиться, упражняться любить, т. е. чувствовать за другого, а мы не только не учимся, но часто учимся противному; учимся не чувствовать за другого, тушить в себе эту чуткость: в делах, в игре, на охоте, на войне. […]
27 августа. Ясная Поляна. 90. Встал поздно. Первое впечатление — мужики из Кутьмы. На мировом съезде утвердили решение судьи о заключении двух женщин в острог за подол травы. Ужасно сильно меня тронуло. Это шайка разбойников — судьи, министры, цари, чтоб получать деньги, губят людей. И без совести. Тут же получил 20 «Century», анархистский журнал — прекрасно. Надо что-то сделать. Помоги, господи. С молитвой, которая не оставляет меня. Ходил рубить с стариком. Приехали Стаховичи с рассказами об Амвросии и Оптиной пустыни. Теперь 5 часов. Иду обедать. Надо держаться всеми силами. Это экзамен. Любить их, переноситься в них, но любить и блюсти истину выше всего. Приехал Лева. Письма: одно — переписаны слова обо мне Зосей, другое из Америки, вроде Оболенского упрек за «Крейцерову сонату».
Весь вечер с Стаховичами. Не только скучно, но совестно — так они далеки от меня; но зато, слава богу, не сорвался ни разу, несмотря на чепуху М. Стаховича и других. Лева приехал, рассказывал про назревающее столкновение Сережи и Ильи. Матерьялизм. Вот именно восьмидесятники.
28 августа. Ясная Поляна. 90. 63-й год мне. И совестно, что то, что 1890: 63 = 30, и что 28 лет моей женитьбе, что эти цифры представлялись мне чем-то значительным, и я ждал этого года как знаменательного. Встал поздно. Первое впечатление тяжелое — бабы, пришедшей за лошадью, которую опять отняли у нее для кумыса. Но я несправедлив был, зол. Вчера сказали, что сгорел Булыгин. Я поехал к нему. Дорогой молился и отчасти смирился. Молитва укрепляет и имеет все время неослабляющееся значение. Булыгин не сгорел, но четырнадцать дворов в Хатунке. Вернулся. И не могу очистить себя от зла на детей. Все было во мне. А между мною и ими точно что случилось. Почитал Биернсона* — хорошо, очень трагично. Заснул. Теперь 5 часов, иду обедать.
Думал: Маша рассказывала, как Лева с Стаховичем говорили о том, что не надо смешивать благотворительность с хозяйством: в «хозяйстве справедливость, а благотворительность — совсем другое». Так говорят с уверенностью, что это умно и мило, а в сущности, это не что иное, как отмежевание себе произвольной области, в которой вперед уж освобождаешь себя от всякого человеческого чувства, в которой разрешаешь себе быть жестоким. Так говорят про службу, дисциплину, государство. Какое прекрасное художественное произведение возможно на эту тему. И как нужно! И как мне хочется!
Еще думал: большинство добрых чувств, мыслей — не чувства, мысли. А то, что тебя взволнует что-либо доброе: сострадание ли, сознание ли неправды и желание помочь уяснить, и это доброе стремление переходит или в негодование, злобу, осуждение, или в тщеславное перед людьми выставляемое рассуждение — болтовню, и сила его уходит, ничего не сделав. Надо не выпускать, запереть это чувство, как пар, как воду, и пускать его уж только в поршень и на колесо.
Кто-то едет. Помоги, отец!..
Это была коляска с письмами из Тулы. Письмо ругательное из Америки. Зачем я написал это, браня докторов? Невесело мне с старшими детьми. Заботы о деньгах, об устройстве, и самоуверенность и довольство собой полное. Мало во мне любви к ним. И не могу вызвать больше. Ходили гулять на Козловку. Соня жаловалась на сыновей.
[31 августа. ] Теперь 1-й час. Вечером проводил Анненкову. Я поправил заключение*. Читал Слепцова.
[3 сентября. ] Пропущено три дня. 1, 2, 3 сентября. Ясная Поляна. 90. Начну с нынешнего 3 сентября. Встал поздно, ходил. Не пью кумыс. Недоброе чувство к Сереже. Не могу заглушить. Надо бы говорить. Да что говорить. Только могу осуждать, а он самодоволен до последней степени. […]
Нынче думал: я сержусь на нравственную тупость детей кроме Маши. Но кто же они? Мои дети, мое произведение со всех сторон, с плотской и духовной. Я их сделал, какими они есть. Это мои грехи — всегда передо мной. И мне уходить от них некуда и нельзя. Надо их просвещать, а я этого не умею, я сам плох.
Я часто говорил себе: если бы не жена, дети, я бы жил святой жизнью, я упрекал их в том, что они мешают мне, а ведь они — моя цель, как говорят мужики. Во многом мы поступаем так: наделаем худого; худое это стоит перед нами, мешает нам, а мы говорим себе, что я хорош, я бы все сделал хорошо, да вот передо мной помеха. А помеха-то я сам.
Сел писать заключение. Ничего не мог. Оно все разрастается. […]
6 сентября. Ясная Поляна. 90. Все то же. Болит под ложечкой — апатия. Сплю. И дурные мысли. Но держусь и молюсь. Рубил, гулял поздно, снес письмо Соне* на Козловку. Теперь 11-й час, иду чай пить. Вчера читал «Emil’a» Руссо. Да, дурно я повел свою семейную жизнь. И грех этот на мне и вокруг меня. Утром позвали на сходку. Я ходил и старался мирить. Похоже, что не напрасно. […]
13 сентября. Ясная Поляна. 90. Встал рано, пошел пилить и рубить с Машей. Очень устал. Дома сел было и тотчас же опять сознал свое бессилие. Грустно, и грустно, что грустно. Если бы помнил: смирение, покорность и любовь, не было бы грустно. Болело под ложечкой все утро. Читал Coleridg’a*. Очень симпатичный мне писатель — точный, ясный, но, к сожалению, робкий — англичанин — англиканская церковь и искупление. Не может.
[…] Вчера думал: иду по деревне и смотрю — копают разные мужики. Каждый для себя картофельную яму, и каждый для себя кроет, и многое другое подобное. Сколько лишней работы! Что, если бы все это делать вместе и делить. Казалось бы, не трудно: пчелы и муравьи, бобры делают же это. А очень трудно. Очень далеко до этого человеку, именно потому, что он разумное, сознательное существо. Человеку приходится делать сознательно то, что животные делают бессознательно. Человеку прежде еще общины пчелиной и муравьиной надо сознательно дойти до скота; от которого он еще так далек: не драться (воевать) из-за вздоров, не обжираться, не блудить, а потом уж придется сознательно доходить до пчел и муравьев, как это начинают в общинах. Сначала семья, потом община, потом государство, потом человечество, потом все живое, потом весь мир, как бог. […]
[14 сентября. ] Жив. Все то же тяжелое настроение. Не мог работать. Павел Борискин с Алексеем накладывали черемуху. Я немного подсобил им. Читал Coleridg’a. Много прекрасного. Но у него английская болезнь. Ясно, что он может ясно, свободно и сильно думать; но, как только он касается того, что уважается в Англии, так он, сам не замечая того, делается софистом. Читал девочкам. Ходил после обеда. Приехал Сережа. Вечером было почему-то ужасно грустно.
15 сентября. Ясная Поляна. 90. Все то же. Не брался писать. Утром сказали, что Павел умер. Лег в клети у Алексея на прелую солому и умер. Хорошо. Пасьянс. Хочется писать с эпиграфом: «Я пришел огонь свести на землю и как желал бы, чтоб он возгорелся». Теперь 8 часов, иду наверх.
19 сентября. Ясная Поляна. 90. Нездоровится. Читал. Рубил. Ругин пришел. Я ходил к нему. Как недоступны учению истины мужики. Так полны они своими интересами и привычками. Кто же доступен? Тот, кого привлечет отец — тайна. Читал Precensé*. Какое ничтожество! Ничего.
[…] Теперь 12 часов. Хочется по вечерам писать роман longue haleine[119].
[22 сентября. ] Жив. Спал мало, но встал с ясной головой. Ге приехал. После прогулки и разговора с ним и сестрой Таней сел за работу. Поправил сначала декларацию и Балу. И хочу оставить старое заключение. А о том, что церковники не христиане, писать отдельно.
[…] Думал все о тех же двух кладовых и мастерской. Одна горница кладовая, где матерьял, другая — мастерская, куда беру из матерьяльной кладовой и над ней работаю, и третья кладовая, куда складываю отделанную работу. Дорого не набирать слишком много, не по силам матерьялу, который портится, пылится, вянет, но не работается; потом важно то, чтобы работать над тем, что взято в мастерскую, и, наконец, важно не тратить время на любованье работой оконченной, считая это делом. […]
Различие людей в различном их отношении к этим делам и еще важное различие, за которое чаще всего люди осуждают друг друга, это то, что у каждого человека разные вещи взяты на верстак — в рабочую. Обвиняешь, зачем он не делает того, что ему надо бы, а не замечаешь того, что у него взято в мастерскую, на верстак, другое, и он не может оторваться, не кончив. […]
23 сентября. Ясная Поляна. 90. Если буду жив.
[4 октября. ] Могло бы случиться, что угадал. 23-го не помню, но 24 в ночь заболел и проболел сильно с разными переменами до нынешнего дня. 4 октября. Все то же: при страдании, в умирании невозможна деятельность мысли. Еле-еле можешь лениво молиться, проводя мысль по пробитой колее.
От неосторожности ли, что поел сухарей, или так должно было быть, но остановившаяся боль возвратилась с новой силой.
Нынче 4 октября. Ясная Поляна. 1890. Лучше, но твердого не ем и слаб. Здесь Мамоновы, Л. И. Менгден и Миша Олсуфьев. Танино рожденье. За это время читал статью отца Мамонова о славянофилах* — прекрасно. Потом привезенную Левой книгу Broglie о Константине*, очень полезна — ряд выписок сейчас сделаю, потом книгу Иванцова о ересях и расколах*. Научная болтовня. Потом полученную книгу Биорнсона «In God’s way»*. Серьезно, with a purpose[120], талантливо очень местами и нескладно, много излишнего и не сшитого. Не умею, как сказать. […]
6 октября. Ясная Поляна. 90. Проснулся рано, и радостно думать о необходимости написать всю трезвую правду о том, что считается верой, о том безумии, которое признается и повторяется: искупление, творение, таинства, церковь и т. п. Очень ясно представляется, но нет формы. Разумеется, художественная сильнее бы всего. Читал «Revue», хотел писать — не мог. Понемногу лучше. […]
[8 октября. ] 7-го и 8-го октября. 90. Ясная Поляна. Вчера с утра было оживление мысли, и кое-что записал в carnet[121], но работать не мог. Ходил гулять. Очень слаб.
[…] Думал: 1) Обычное рассуждение о том, что рабочие классы свободны работать или нет, образовываться и подняться в высшие слои общества, напоминает мне вопрос той барыни, которая говорила, что у мужиков нет хлеба, так отчего они не едят пирожки? Такое же непонимание не только действительности, но того, о чем и в чем речь. […]
14 октября. Ясная Поляна. 90. Шесть дней не записывал и не восстановляю, да и не стоит. Все время был слаб и ничего не записывал в carnet и не писал, хотя и пытался, кроме двух, даже трех, последних дней. Вчера писал заключение к Балу и нынче в первый раз с увлечением. Похоже, что теперь напишется. Третьего дня был доктор Богомолец, и я с ним переводил статью «Диана» о половом вопросе очень хорошую*. Вчера ее изложил и нынче поправил во время сеанса с Ге*. Вчера приехала девушка добрая. Сознает пустоты жизни, а не знает того, что без веры жить нельзя. Маша ее устраивает на время здесь, на деревне. Доброе письмо от Новоселова. Много надо ответить писем.
15 октября. 90. Ясная Поляна. Если б. ж.
Вчера был Давыдов, как всегда тревожный и неясный.
Страшно сказать — 23 октября. Восемь дней. Занятий в эти дни было только — изложение «Дианы», поправка статьи об охоте* и рассказ Ги Мопассана — чудный, который перевел Алексей Митрофанович*. Вчера писал «Сергия». Немного подвинулся. Вялость мысли. Нынче только записал на память. Ге все лепит. Соня уехала нынче к сыновьям. Нравственно низок. Писал письма Черткову, Дунаеву, Анненковой и Василию Ивановичу. О его женитьбе. Хочу ехать слушать дело в суде*. Здоровье чуть держится при большом внимании. Скоро умру. […]
24 октября. […] Утром поправил и записал рассказы Ги Мопассана*, позируя для Ге. Потом не мог писать. Вечером читал с девочками историю церкви. Не помню, записал ли:
Мы не можем ничего знать о том, что есть, а можем знать верно только о том, что должно быть. Много знаний разных, но одно важнее и достовернее всех — знание того, как жить. И это-то знание пренебрегается и считается и неважным, и недостоверным.
12 часов. Иду спать. Мне грустно. Радостно одно, что к Соне испытываю самую хорошую любовь. Характер ее только теперь уясняется мне.
26 октября. Ясная Поляна. 90. Рано встал. Опять поправлял Мопассана, и ничего не пришлось написать. Напрасно я похвалил третьего дня. Такое беспокойство, тревога, суета, что тяжело. Вообще в унылом духе я. С Левой радостно. Он борется с похотью и как будто готов сдаваться. Вечером читал драму Писемского «Горькая судьбина». Нехорошо.
Да, хорошо бы выразить учение жизни Христа, как я его понимаю теперь.
Три дня не писал. Сегодня 31 октября. Ясная Поляна. 90. Сегодня встал рано — раньше 7, как и все дни, ходил гулять. Молитва продолжает укреплять и двигать меня. Прибавляется, усложняется и уясняется. Потом писал — так как тетради заключенья были у Маши, то стал писать «Сергия», сначала. Кое-что поправил, но, главное, уяснил себе. Надо рассказать все, что было у него в душе: зачем и как он пошел в монахи. Большое самолюбие (Кузминский и Урусов), честолюбие и потребность безукоризненности. Заснул. Ходил гулять, опять молился. Продиктовал Тане письмо, читал «Trinksitten»*, и теперь 8 часов.
Вчера 30 октября. Ясная Поляна. 90. Встал рано, поспешно прошелся и сел писать. Много и хорошо писал «Заключенье» и поехал в Тулу. Давыдова нет. Суд пропустил. Сходил на почту и вернулся к обеду.
[…] Письмо от Черткова и Гайдебурова. Статья «Дианы» напечатана*. Мне как-то жутко за нее. И это скверно. Доказательство, что я не вполне для других делал. […]
7 ноября. 90. Ясная Поляна. Встал рано, ходил. Сильный мороз. Писал все так же плохо*. Иногда думаю, что я лишился силы и способности выражать свои мысли так, как я их выражал прежде, и потому недоволен теперешним слабым выраженьем. И надо кончить. Это ничего. Мне не жалко. И очень хорошо так, как есть. (Молитва окрепляет и очищает, радует меня.) Но беспокоит сомненье: может быть, я должен писать. И потому я пытаюсь и буду пытаться служить этим, так как другим ничем не умею так же полезно служить. […]
[12 ноября. ] Опять прошло три дня, нынче 12-е. Нынче встал, как всегда, рано, здоровее прежних дней, ходил по глубокому снегу, радостно молился. Дома писал: сначала поправлял и пересматривал: очень медленно подвигаюсь, если подвигаюсь, но в голове ясно. Заснул до обеда. Статьи «Вопросов психологии». Скверно льстит тщеславию*. У нас Софья Алексеевна и Наташа, и чужая Кудрявцева, которая нынче простилась.
Вчера 11. То же, что нынче. Так же гулял, молился и писал. Решил о церкви писать отдельно — в примечании. Утром заходил к Элпидифоровне. Она живет напряженно. Получил письма от Лескова, неприятно льстивое, и от Ге. Вечером Раевский.
10-го. То же. Ходил навстречу Философовым. Мало пишу. Чувствовал себя нехорошо.
9-го. То же. Таня принесла письма и от Гайдебурова с ругательными статьями, которые подействовали на меня*. Как я далек еще от того, чтобы радоваться, как сказано в Евангелии, когда бранят вас. […] Думал за это время:
[…] 3) О Vogué и его фразах о войне*. Он, бедный, думает, что он глубокомысленен, и не догадывается о том, что даже тот закон эволюции и подбора, который он приводит, исполнится только тогда, когда он, Vogué, и каждый из нас будет жить свойственно своей природе. Если бы все существующее не исполняло свойственное ему по закону природы, то как же бы совершался этот закон природы. А человеку свойственно искать блага соответственно указаниям своего разума. […]
[16 ноября. ] Три дня пропустил. Нынче 16. Рано встал, ходил. Сильный мороз. Так же молюсь. Писал нынче сначала. Начал с своих впечатлений вследствие издания «В чем моя вера». До сих пор идет складно.
[…] Вчера 15 ноября. Совершенно все то же самое. Только писанье шло хуже. Я писал дальше об угнетении. Думал:
К статье о противлении. Низшие рабочие классы всегда ненавидят и только ждут возможности выместить все накипевшее, но верх теперь правящих классов. Они лежат на рабочих и не могут выпустить: если выпустят, им конец. Все остальное игра и комедия; сущность дела — это борьба на жизнь и смерть. Они, как разбойники, караулят добычу и защищают добычу от других. […]
[18 ноября. ] Это было вчера. Писал сначала о непротивлении злу. Кажется, что теперь форма найдена. Хотя и не очень хорошая, но такая, в которую можно уложить много хорошего. Постараюсь не изменить и не отступать. Писал порядочно; заболела голова. Спал очень дурно. И было ужасно тяжело. Ходил на Козловку. Письмо от Емельяна. Вечером читал Гомера девочкам*.
[…] Думал о разврате газет: читаю в «Неделе» отчет о моей повести в «Fortnightly Review»*, где говорится, что юноша пошел с нею, и тем кончается, и что вся повесть написана на тему брачной жизни. Ведь это я знаю, что вранье, но ведь 0,99 известий, сообщений такое же вранье, которое никто не поправляет — некогда: завтра новые новости, а надо поспеть к сроку — месячному, недельному или суточному. Мыслить к сроку. Ведь это удивительно, как силен дьявол, то есть ретроградная сила. Мысль только тогда мысль и плодотворна, когда она ничем не связана: в этом ее сила в сравнении с другими плотскими делами. Так нет же. Взяли ее и заковали в условия времени, чтоб обессилить, обезличить ее. И именно эта-то форма обессиленная стремится поглотить все. Философы, мудрецы свои думы высказывают к 1-му числу месяца, и прореки тоже.
19 ноября. Ясная Поляна. 90. Е. б. ж. К 18-му. Думаю с большой живостью о статье о непротивлении. Все яснеет. Хочется тоже свободное художественное. Но не позволяю себе, пока не кончу этого.
Сегодня 21 ноября. Ясная Поляна. 90. Сейчас 12-й час ночи, Соня уехала в Москву. Я читал «Одиссею» с девочками. Перед этим писал письма: 1) Гецу, 2) Солодовниковой, 3) Емельяну, 4) Грибовскому, 5) Черткову, 6) Диллону.
Перед обедом заснул, ходил по шоссе, писал довольно много о религиозных критиках*. Вчера 20. Вечером читал, валенки подшивал и очень устал. Утро гулял в контору, писал о светских критиках довольно много. 19 ноября, воскресенье, писал много, и голова заболела. […]
22 ноября. Ясная Поляна. 90. Если б. жив.
Да, к статье: светские критики — нравственные кастраты, у которых вынут нравственный нерв, сознание творимости жизни своей силой.
И еще то, что церковь — это завеса, скрывшая дверь спасенья, открытую Христом. Люди, не видя ее, мечутся, как отчаянные.
23 ноября. Ясная Поляна. 90. Вчера и нынче, как заведенные часы, жил, и писал, и молился. Писал много. Перешел к церкви* и подвигаюсь хорошо. Но вечером усталость мысли полная. […]
Нынче 28. Встал поздно. Ге приехал вчера. Я утром свиделся с ним. Все хорошо рассказывает — немного осудителен. И тяжело. […]
[…] Вчера 27 в Крапивне. Встал очень рано, пошел ходить, к полиции и потом — в острог. Опять убеждал подсудимых быть единогласными; напились кофе, и пошел в суд. Жара и стыдная комедия. Но я записывал то, что нужно было для натуры*. Потом поехали ночью. Метель, и было жутко. Доехали хорошо. […]
Нынче 15 декабря. 11 дней не писал. Жил приблизительно так же: так же гулял и молился, так же медленно подвигался в писании своей статьи. Были 1) Русанов с Буланже. Очень радостное оставили впечатление. Потом Буткевич Анатолий и Андрей. Известие о том, что жандарм собирался ко мне по случаю отсылки Буткевичем гектографированных статей. Потом Анатолий Буткевич с женою. Очень хорошие, радостные. Перед ними еще старый человек, самарский каретник Панов, отрицатель православия, вольнодумный самобытный христианин. Слишком занят отрицанием. Потом Диллон. Нынче только уехал. Мне было тяжело отчасти потому, что я чувствовал, что я для него матерьял для писания. Но умный и как будто с возникнувшим религиозным интересом. Сейчас проводил Булыгина. Надо помогать ему духовно, и я старался, как умел.
Нынче утром вышел, и меня встретил Илья Болхин с просьбой простить: их приговорили на шесть недель в острог. Очень стало тяжело, и целый день сжимает сердце*. Молился и еще буду молиться и молюсь, чтобы бог помог мне не нарушить любви. Надо уйти. Забыл записать славного милого гостя — Пошу. Он очень хорош, ясен, открыт, правдив, чист, и такова же Маша, и мне радостно. За это время думал:
[…] 2) Благодаря цензуре вся наша литературная деятельность — праздное занятие. Единое что нужно, что оправдывает это занятие (литературой), вырезается, откидывается [цензурой]. Вроде того, как если бы позволяли столяру строгать только так, чтоб не было стружек. И напрасно думают писатели, что они обманут правительственную цензуру. Обмануть ее нельзя, как нельзя обмануть человека, которому бы потихоньку, без ведома его, хотели бы поставить горчичник. Как только начнет действовать, он сорвет его.
[…] Писал нынче — немного, но как будто подвигаясь. Начал вчера коневскую сначала. Очень весело ее писать*. Теперь 10. Иду наверх. Помоги, отец, перед тобою, живя для твоей любви, развязать зло.
16 декабря. Ясная Поляна. 90. Если буду жив.
[16 декабря. ] И точно, если буду жив. Вчера лег и не мог спать. Сердце сжималось, и, главное, мерзкая жалость к себе и злоба к ней. Удивительное состояние! При этом нервный подъем, ясность мысли. Я бы мог написать этими усилиями прекрасную вещь. Встал с постели в 2, пошел в залу ходить. Вышла она, и говорили до 5-го часа. То же, что бывало. Немного мягче с моей стороны. Кое-что высказал ей. Я думаю, что надо заявить правительству, что я не признаю собственности и прав, и предоставить им делать, как они хотят. […]
[21 декабря. ] Встал очень рано. Разбудила телеграмма. Соня родила сына*. Писал — все о церкви, и все медленно движется вперед. Приехали Илья и Философова и Таня. Все после обеда ничего не делал. Вялость мысли.
[25 декабря. ] Нынче 25. Вечер, восемь часов. Сейчас делали елку. Я сидел внизу и читал Ренана. Замечательно умно. Перед обедом гулял, спал и у Левы просил прощения за то, что огорчил его. Начался во время чая при Дунаеве разговор об образе жизни, времени repas;[122] он упрекал мать; а я сказал, что он с ней вместе. Он сказал, что они все говорят (и необыкновенно это), что нет никакой разницы между Машей, Чертковым и им, а я сказал, что он не понимает даже, в чем дело, сказал, что он не знает ни смирения, ни любви, принимает гигиенические заботы за нравственные. Он встал с слезами в глазах и ушел. Мне было очень больно и жалко его, и стыдно. И я полюбил его. Поговорил, но жалко, что было. Так что ничего не писал. Ночь плохо спал.
Вчера вечером приехал Дунаев. Утром я писал немного. С Сережей неловко и чуждо. Третьего дня приехала Маша Кузминская с Эрдели. Жаль их. Нехорошо. Все эти дни получал письма ругательные. Яснополянский тартюф. И больно и потом хорошо. Письма от шекеров хорошие. […]
26 декабря. Встал рано. Просил Васю убрать комнату. И когда после кофе пришел и не убрано, позорно оскорбился, рассердился. Гордость! Гадость. Писал все то же о церкви. Как будто подвинулся. Но мало.
С утра записал: церковь, научая людей знать истину и не делать, атрофировала в людях нравственный нерв.
Читал о пари Паскаля S. Prudhomme*. Теперь 12, ложусь спать. Хочется писать художественное. Лева скучен и серьезен, или мне кажется.
[27 декабря. ] Писал немного, плохо. Вечером пляски. Дунаев уехал. Мне хорошо с ним. Неперестающий упадок духа.
28 декабря. Ясная Поляна. 90. Нынче дурно спал, болело под ложечкой. Был Раевский. Читал вечером «Церковь и государство»*. Все там сказано. Писал немного. Теперь 11, иду наверх и потом спать.
[31 декабря. ] Нынче 31. Вечер. 11 часов. Утром встал рано. Писал много. Пересматривал назади, три главы почти готовы, и все дело принимает вид. Ходил далеко гулять. Вечером прочли прекрасную статью Лескова*. Письмо от Черткова и статьи об искусстве*. Написал письма ему и Лескову.
Вчера 30. То же. Были Буткевич и Пастухов. Я им читал. Я очень нравственно и умственно опустился. Вчера ужасная тоска.
29. То же. Были Зиновьевы и Джульани. Мне очень тяжело с Зиновьевым.
Ну-с. 1891. Январь 1. Если буду жив. Все ждал, что что-то случится в период, когда мне 63, содержащиеся 30 раз в 1890. Ничего не случилось. Точно я не знаю, что все, что может случиться извне, ничто в сравнении с тем, что может сделаться внутри.
1891
1 января. Ясная Поляна. Приехал Колечка*. Все такой же. Еще лучше. Ничего не писал в этот день.
[5 января. ] Вчера 4-е, писал довольно много. Подвигаюсь медленно. Вечером начал было писать об искусстве, но не запутался, а слишком глубоко запахал. Попробую еще. Говорил радостно с Колечкой. Целый день метель.
6-го января. Ничего особенного. Писал об искусстве. Остановился. Сил мало. Приехал Булыгин. Хорошо.
Нынче 15 января. Ясная Поляна. 91. Все эти дни, за исключением одного, писал. Подвинулся несколько. Клобский был. Он хорош. Я мог, должен бы быть лучше. Много думал об искусстве. В мыслях подвинулось, но не на бумаге. Думал: думать, что внешними условиями можно изменить свою жизнь, все равно, что думать, как я, бывало, маленький, что, севши на палку и взяв ее за концы, я могу поднять себя. […]
Нынче 25 января 91. Ясная Поляна. Девять дней не писал. Все это время писал понемногу свою статью. Подвинулся. Шесть глав, могу сказать, кончены*. Два раза брался за науку и искусство, и все перемарал, вновь написал и опять перемарал, и не могу сказать, чтобы подвинулся. Два дня, вчера и нынче, ничего не писал. Читал за это время журналы, а главное Renan’a*. Самоуверенность ученого непогрешимого поразительна. […]
Писал письма кое-кому, между прочим Хилкову и Колечке. Был в Туле. Посетителей никого заметных не было. Сережа и Илюша. С Сережей все так же тяжело. Он все более и более удаляется с своей службой, которая представляется ему делом. Илья, которого я отвозил, сказал мне: за что ты так Сережу преследуешь? И эти слова его звучат мне беспрестанно укором, и я чувствую себя виноватым. […] Все это последнее время нравственно отупел. Думал:
Кухаркин сын Кузька, ровесник Ванечки, пришел к нему. Ванечка так обрадовался, что стал целовать его руки. Так естественно радоваться всякому человеку при виде другого; естественно, увидав швейцара, отворившего дверь, так быть радым ему, чтобы целовать его руку.
Нынче, гуляя и думая о ворах, ясно представил себе, как вор, дожидаясь того, кого он хочет ограбить, и узнав, что он не поехал в этот день или поехал другой дорогой, сердится на него, считает себя им обиженным и с чувством сознания своей справедливости собирается за это отомстить ему. И, живо представив себе это, я стал думать о том, как бы я написал это*, а потом стал думать, как бы хорошо писать роман de longue haleine[123], освещая его теперешним взглядом на вещи. И подумал, что я бы мог соединить в нем все свои замыслы, о неисполнении которых я жалею, все, за исключением Александра I и солдата:* и разбойника*, и коневскую, и «Отца Сергия», и даже переселенцев и «Крейцерову сонату», воспитание*. И Миташу*, и «Записки сумасшедшего», и нигилистов*. И так мне весело, бодро стало. Но пришел домой, взялся за науку и искусство, помарал и запнулся. И целый день ничего не делал. Теперь 8-й час, иду наверх.
26 января. Ясная Поляна. 91. Ес. б. ж. Как бы я был счастлив, если бы записал завтра, что начал большую художественную работу. Да, начать теперь и написать роман имело бы такой смысл. Первые, прежние мои романы были бессознательное творчество. С «Анны Карениной», кажется, больше 10 лет, я расчленял, разделял, анализировал; теперь я знаю чтó чтó и могу все смешать опять и работать в этом смешанном. Помоги, отец.
[11 февраля. ] Опять прошло 5 дней. Нынче 11. Вчера писал о науке и искусстве. Мало подвинулся; но все ясно. Нет энергии. За эти дни были всё статьи в газетах ругательные. О «Послесловии» — Суворина*. О «Плодах просвещения» в Берлине, что я враг науки*. То же у Бекетова*. И вчера coup de grâce[124] — тем более, что я был не в духе (и как я рад этому!) в «Open Court» статья о Бутсе и обо мне, как об образцах фарисейства — говорить одно, а делать другое, — говорить, что отдать все нищим, а самому увеличивать именье продажей этой самой проповеди. И ссылаться на жену. Как Адам — жена дала мне, и я ел. Очень больно было, и теперь больно, когда пишу. Но не следует, чтоб было больно, и могу стать в то положение, чтоб не было больно; но очень трудно.
Я фарисей: но не в том, в чем они упрекают меня. В этом я чист. И это-то учит меня. Но в том, что я, думая и утверждая, что я живу перед богом, для добра, потому что добро — добро, живу славой людской, до такой степени засорил душу славой людской, что не могу добраться до бога. Я читаю газеты, журналы, отыскивая свое имя, я слышу разговор, жду, когда обо мне. Так засорил душу, что не могу докопаться до бога, до жизни добра для добра. А надо. Я говорю каждый день: не хочу жить для похоти личной теперь, для славы людской здесь, а хочу жить для любви всегда и везде; а живу для похоти теперь и для славы здесь. Буду чистить душу. Чистил и докопал до материка — чую возможность жить для добра, без славы людской. Помоги мне, отец. Отец, помоги. Я знаю, что нет лица отца. Но эта форма свойственна выражению страстного желания.
Опять неделя. Нынче 14 февраля. Ясная Поляна. 91. Кажется, в тот самый день, когда я писал последний дневник, опять стал читать дневник, который переписывает Соня*. И стало больно. И я стал говорить ей раздражительно и заразил ее злобой. И она рассердилась и говорила жестокие вещи. Продолжалось не более часа. Я перестал считаться, стал думать о ней и любовно примирился. «Нагрешили мы». Таня и Маша больны. Таня истерична — мила и жалка.
[…] Сейчас думаю про критиков:
Дело критики — толковать творения больших писателей, главное — выделять, из большого количества написанной всеми нами дребедени выделять — лучшее. И вместо этого что ж они делают? Вымучат из себя, а то большей частью из плохого, но популярного писателя выудят плоскую мыслишку и начинают на эту мыслишку, коверкая, извращая писателей, нанизывать их мысли. Так что под их руками большие писатели делаются маленькими, глубокие — мелкими и мудрые — глупыми. Это называется критика. И отчасти это отвечает требованию массы — ограниченной массы — она рада, что хоть чем-нибудь, хоть глупостью, пришпилен большой писатель, и заметен, памятен ей; но это не есть критика, то есть уяснение писателя, а это затемнение его. […]
Читаю «Our destiny» Gronlund’a*. Много хорошего; например, он говорит, что если бы люди были свободны волею совершенно, то это было бы величайшее бедствие. Человек не может украсть так же, как не может полететь. Хорошо тоже, что равенство, он говорит, должно быть экономическое в пользовании, но не равенство в производстве. А при теперешнем порядке, напротив, устанавливается равенство в производстве — гениальный музыкант или поэт ткет на фабрике; а экономически два совершенно равные ничтожества разделены пучиной — один на верху роскоши, другой на низу нищеты.
Хорошо тоже то, что я, кажется, давно уже где-то записал, что нелепо говорить об одинаковой обязательности условия, в котором на одной стороне выдача 0,00001 состояния (положим, поденная плата), с другой — целый весь день четырнадцатичасового труда, то есть вся жизнь дня. Я писал и говорил, что правительство, которое требует о обеих сторон одинакого исполнения и казнит одинаково за неисполнение, прямо нарушает истинную справедливость, соблюдая внешнюю. […]
[16 февраля. ] Все та же усталость и равнодушие. Начал шить сапоги. Разговор с Павлом напомнил мне настоящую жизнь: его мальчик с мастером, выстоявший шесть пар сапог в неделю, для чего работает шесть дней по восемнадцати часов от 6 до 12. И это правда. А мы носим эти сапоги.
Сейчас, нынче 16 февраля. Ясная Поляна. 91, зашел к Василью — с разбитыми зубами, нечистота и рубах, и воздуха и холод — главное, вонь — поразили меня, хотя я знаю это давно. Да, на слова либерала, который скажет, что наука, свобода, культура исправит все это, можно отвечать только одно: «Устраивайте, а пока не устроено, мне тяжелее жить с теми, которые живут с избытком, чем с теми, которые живут лишениями. Устраивайте, да поскорее, я буду дожидаться внизу». Ох, ох! Ложь-то, ложь как въелась. Ведь что нужно, чтобы устроить это? Они думают — чтоб всего было много, и хлеба, и табаку, и школ. Но ведь этого мало. Серега, грамотный, украл деньги, чтобы съездить в Москву. Он б……, отец бьет. Константин ленится. Чтоб устроить, мало матерьяльно все переменить, увеличить, надо душу людей переделать, сделать их добрыми, нравственными. А это не скоро устроите, увеличивая матерьяльные блага. Устройство одно — сделать всех добрыми. А чтоб хоть не сделать это, а содействовать этому, едва ли не лучшее средство — уйти от празднующих и живущих пóтом и кровью братьев и пойти к тем замученным братьям? Не едва ли, а наверно.
Вчера думал:
[…] 2) Читал «Review of Reviews» (отвратительно), но там статья против стачек;* доказывается, что в Австралии капиталисты победили, стакнувшись. И в самом деле, как ясно, что против стачек стачки, и капиталисты, то есть те, кого защищает власть, сила, всегда будут сильнее. […]
17 февраля. Ясная Поляна. 91. Собрался вчера было ехать в Пирогово, да раздумал. Читал Montaigne* и Эртеля*. Первое старо, второе — плохо. Очень не в духе, но хорошо беседовал и с детьми и с Соней, несмотря на то, что она очень беспокойна. Сегодня приехал Ге с женой и картиной. Картина хороша*. Что за необыкновенная вещь это раздражение — потребность противоречить жене. Теперь 12-й час. Не начинал еще писать. Хочу писать, не поправляя, до конца. С тем, чтобы потом все поправлять сначала. Едва ли выйдет. В «Русских ведомостях» статья Михайловского о вине и табаке*. Удивительно, что им нужно. Но еще удивительнее, что меня в этом трогает и занимает. Помоги, отец, служить только тебе и ценить только твой суд.
26 февраля. Ясная Поляна. 91. Теперь 10 утра. Думал ночью и сейчас разговаривал с Горбуновым о науке и искусстве.
[…] Вчера прочел место Diderot о том, что люди будут счастливы только тогда, когда у них не будет царей, начальств, законов, моего и твоего*. Теперь 11-й час.
[1 марта. ] 27, 28 февраля — 1-е марта 91. Ясная Поляна. Третьего дня ездил верхом в Тулу за лекарством и вечером за Левой, Таней и Мамоновой. Утром мало писал; но как будто уяснилось.
[…] Нынче — с утра, после дурной ночи, много и ясно писал о непротивлении злу. Подвигаюсь. Вечером спал и читал Ибсена и Гейне. […]
5 марта. Ясная Поляна. 91. Встал рано, написал прошение Курзику. Ходил. Молюсь. Очень тяжело мне было нынче. Соня говорит о печатании*, не понимая, как мне это тяжело. Да, это я особенно больно чувствую, потому что мне на душе тяжело. Тяжела дурная барская жизнь, в которой я участвую. Ничего не писал. И не принимался. Читаю Gronlund’a. Недурно, но старо, пошло.
Думал: я читал статью Козлова против меня*, и мне не было нисколько больно. И думаю, это оттого, что последнее время много мне было уроков, уколов в это место: притупилось, замозолилось, или, скорее, я немного исправился, стал менее тщеславен. И думаю, как же благодетельна не только физическая, но нравственная боль! Только она и учит. Всякая боль: раскаянье дурного дела — как нужно; если не мне уж самому, то другим, кому я скажу. Так это со мной. Все страдания нравственные я хочу и могу сказать людям. Думал о себе, что для того, чтобы выйти из своего тяжелого положения участия в скверной жизни, самое лучшее и естественное написать то, что я пишу и хочу, и издать. Хочется пострадать. Помоги, отец. Теперь 11. Иду наверх и спать.
Нынче 9 марта. Ясная Поляна. 91. Все три дня писал, хотя немного, но толково, и подвигаюсь. Кажется, кончаю четвертую главу. Лева был, уехал вчера. Накануне его отъезда был разговор о наследственности. Он настаивал, что она есть. Для меня признание того, что люди не равны в leur valeur intrinsèque[125], все равно, что для математика признать, что единицы не равны. Уничтожается вся наука о жизни. Все время грустно, уныло, стыдно.
[…] 2) Бросил щепку в водоворот ручья и смотрю, как она крутится. Пароход — только побольше немного — такая же щепка, земля — пылинка, 1000 лет, минута — все ничто, все материальное ничто*, одно реальное, несомненное, закон, по которому все совершается, и малое и большое — воля божия. […]
3) Читал прелестное определение Henry James (senior) того, что есть истинный прогресс*. Прогресс есть процесс, подобный образованию, высеканию статуи из мрамора, élimination[126] всего лишнего. Мрамор, материал — ничто. Важно высекание, отделение лишнего.
[…] 6). Нынче думал о том, что все художественные произведения наши все-таки языческие (буду говорить о поэзии) — все герои, героини красивы, физически привлекательны. Красота впереди всего. Это могло бы служить основой целому большому художественному произведению.
Я нынче утром сказал Соне с трудом, с волнением, что я объявлю о праве всех печатать мои писанья. Она, я видел, огорчилась. Потом, когда я пришел, она, вся красная, раздраженная, стала говорить, что она напечатает… вообще что-то мне в пику. Я старался успокоить ее, хотя плохо, сам волновался и ушел. После обеда она подошла ко мне, стала целовать, говоря, что ничего не сделает против меня, и заплакала. Очень, очень было радостно. Помоги, отец. Забыл что-то важное. Теперь 9-й час вечера, иду наверх.
[13 марта. ] Нынче 13, ночь. Сейчас уехала Соня в Москву с Давыдовым. Нынче утром уехал американец Creelman, от которого я очень устал. Поверхностный, умственно способный человек, республиканец, американский аристократ. Он приехал третьего дня. И поглотил оба дня. В эти дни был еще Никифоров, с которым было очень хорошо. И Вячеслав, приехавший 10-го. В этот день я немного работал и ездил в Тулу к Давыдову узнать о деле мужиков*. Можно устроить. С Соней очень хорошо. Нынче, смотрю, она разложила карточки всех детей, кроме Ванечки, и гордится и любуется. Трогательно. Нынче пересматривал писанье, поправлял. Все более и более уясняется. Думал многое и забыл. Одно записано:
Люди мало знают, оттого что они или думают о том, что не дано их пониманию, недоступно им: бог, вечность, дух и т. п., или о том, о чем не стоит думать: о том, как мерзнет вода, о теории чисел, о том, какие бактерии в какой болезни и т. п. То перехватят, то недохватят. Один узкий путь знаний, как и добра. Знать нужно только то, как жить.
Получил Diderot*. Много хорошего. Что-то напечатано в «Review of Reviews». «Come to your senses, oh men!»*. He знаю что.
Нынче 17 марта 91. Ясная Поляна. Напечатанное в «Review of Reviews» это «H. Палкин». Все эти дни все в том же упадке духа. Ничего не писал. Только пересматривал. Соня была в Москве, нынче вернулась. Получил письмо и «Arena» с перепиской Ballou. Очень хорошая*.
[18марта. ] Встал очень рано. Заснул. Не сказать, чтобы писал, а только перечитывал, поправляя. Поразительная слабость мысли — апатия. Искушение, как говорят монахи. Надо покориться мысли, что моя писательская карьера кончена: и быть радостным и без нее. Одно, что без нее жизнь моя в роскоши до того ненавистна мне, что не перестаю мучиться. Читал «Autobiography of a shaker»*. Много прекрасного. Потом в «Arena» Abbot’a «What is Christianity»*,— прекрасно. Отчасти то, что я хотел сказать. Вот сейчас думаю взяться за писанье и неохота, апатия. А сколько хороших художественных задач.
Вчера получил от Черткова его статью* — очень хорошо. Надо писать ему. Молюсь, но ни умственного, ни художественного, ни духовного движения — нет. […]
Нынче 24 марта. Ясная Поляна. 91. Работал за это время, уяснил себе 3, 4 и 5-ю главу и дал переписывать. И взялся за 6-ю, которая тоже ясна в голове, но еще не написал. За это время думал:
[…] 2) Во сне видел тип неясности, слабости: ходит, спустивши кисти рук, мотает ими, как кисточками.
[…] 6) Вчера, ехавши в Тулу, думал и сам не знаю, грех ли то, что думал, — думал, что я несу тяжелую жизнь. Живу я в условиях, обстановке жизни чувственной — похоти, тщеславия, и не живу в этой жизни, тягощусь всем этим: не ем, не пью, не роскошествую, не тщеславлюсь — или хотя ненавижу все это, и эта ненужная, чуждая мне обстановка лишает меня того, что составляет смысл и красоту жизни: общение с нищими, обмен душевный с ними. Не знаю и не знаю, хорошо ли делаю, покоряясь этому, портя детей. Не могу, боюсь зла. Помоги, отец.
7) Как легко мы говорим, что простили обиды. 3-го дня Ванечка ударил Кузьку. Я сказал, что он дурной мальчик. Он обиделся и был не в духе и стал избегать меня и говорить, что он не будет ходить со мной, не пустит меня в свою комнату. И что ж! Я оскорбился, во мне поднялось недоброе чувство к нему, желание сломить его. Я с видом игнорирования его нарочно прошел в его комнату, в которую он не пускал.
Нет, трудно нам, порченым гордецам, прощать обиду, забывать ее, любить врагов, даже таких, как милый 3-хлетний сын Ванечка.
8) Читаю письмо нынче еврея о своих гонениях, и он пишет: «Пора» оставить и т. д. Какой прекрасный, искренний оборот. Но стоит его высказать, и сейчас его подхватят и начнут употреблять неискренно, и пропала сила выражения. Прекрасно говорит Шопенгауэр: новое редко бывает хорошо, потому что хорошее недолго остается новым.
[…] 10) Путешествия, чтения, знакомства, приобретения впечатлений нужны до тех пор, пока эти впечатления перерабатываются жизнью, когда они отпечатываются на более или менее чистой поверхности; но как скоро их так много, что одни не переварились, как получаются другие, то они вредны: делается безнадежное состояние поноса душевного — все, всякие впечатления проскакивают насквозь, не оставляя никакого следа. Таких я видал туристов-англичан, да и всяких. Таковы герцоги разные, короли, богачи.
[…] 12) Вчера читал Diderot о науках, о математике и естественных, физических, как он называет, науках, и о пределах их, определяемых только полезностью, — прекрасно*. […]
25 марта. Ясная Поляна. 1891. Дурно спал. Надо кончить. Встал очень рано. Ходил гулять и очень, как редко, живо представил — воспитание художественное. Лопухину. Мать. Вопрос матери. «Записки матери»*. Много хорошего художественно лезло и лезет в голову. Потом писал 6-ю главу и кое-как кончил; отнес определение жизнепонимания в 7-ю. Очень ясно все представляется. Теперь 12, иду завтракать. Наши все едут в Тулу.
Писал, гулял, спал. Вечером написал кучу писем: Страхову, Цертелеву, Гольцеву, Гроту.
26 марта. Ясная Поляна. 1891. Заснул поздно, встал рано, и не было охоты писать; только написал еще три письма Попову, Поше и Файнерману. Но зато уяснилось заключение статьи о том, что отрицать войну, то есть признавать закон неубийства, могут только признающие закон половой чистоты.
Мальчики приехали*. Теперь 1-й час, иду завтракать. Приехала Соня с Ильей. И все вздорили из-за денег. Мне было очень грустно. Разговоры о лошадях, колясках, о деньгах, о продаже сочинений, XIII томе и еще неприятное. Я был уныл и жалел себя: скверно. По крайней мере, не осуждал других и уж видел свою вину.
27 марта. Ясная Поляна. 91. Писал немного. Подвигаюсь, уясняется; но очень медленно. Вчера Соня с Ильей помирились. Маша нездорова. Теперь скоро 3. Я все читал свои маленькие записки 70-х годов — картины природы. Очень хорошо. Утром, гуляя, думал о «Записках матери». Все яснеет. Не знаю, что будет. Газеты и журналы раздражают меня. Хочу не читать их вовсе. Записывал для статьи о непротивлении злу насилием.
Нынче 9 апреля. Ясная Поляна. 91. Ничего особенного. Соня все в Петербурге, меня иногда огорчает ее поездка*, но нынче ночью проснулся, стал думать и досадовать, но сказал себе: это хорошо, мне хорошо, испытание. И сейчас же легче стало, исчезло лицо, а осталось дело — испытанье. И совсем легко стало, так легко, что заснул.
Вчера был Миташа с Исаковым, типа самоуверенного, высшего светского борова, распущенного, расслабленного и добродушного. Я был с ним нехорош, не достаточно помнил его пользу. Нынче приехал Попов. Письмо нынче хорошее от Исаака и от Анненковой женское. За это время был Лева. Очень приятен — растет. И было подряд два раздражающие и расслабляющие дела: статьи Рода* и Страхова*. Еще ругательства немцев*. Это здорово, всегда здорово. Читал Diderot и кончил. Начал Guiyot. Плохо — неясность молодости*. Записано ничего не было, кроме того, что к статье.
Вчера начал писать «Записки матери». Написал много, но годится только для того, чтобы убедиться, что так не нужно писать. Слишком бедно; надо писать от себя*. Нынче целый день болит под ложечкой. Теперь 10 часов вечера.
Кажется, 18 апреля, 1891. Ясная Поляна. Соня приехала дня три тому назад. Было неприятно ее заискиванья у государя и рассказ ему о том, что у меня похищают рукописи*. И я было не удержался, неприязненно говорил, но потом обошлось, тем более, что я из дурного чувства был рад ее приезду. Она стихийна, но добродушна ко мне, и если бы только помнил всегда, что это препятствие — оно, но не она, и что сердиться и желать, чтобы было иначе, нельзя «Записки матери» писал другой раз, на другой день, но с тех пор оставил. Очень занят своей статьей, но, к не счастью, все опять переправляю, опять 3-ю и 4-ю главу. Приехали Илья с Цуриковым и Нарышкиным и Сережа и Лева, и они делились*. Мне приходится отступить от прежнего намерения — не признавать свое право на собственность, приходится дать дарственную. Маша отказывается, разумеется, и ей неприятно, что ее отказ не принимают серьезно. Я ей говорю: им надо решить: хорошо или дурно иметь собственность, владеть землей от меня? Хорошо или дурно отказаться? И они знают, что хорошо. А если хорошо, то надо так поступить самим. Этого рассуждения они не делают. А на вопрос о том, хорошо или дурно отказаться? не отвечают, а говорят: «Она отказывается на словах, потому что молода и не понимает». Как мне тяготиться жизнью, когда у меня есть Маша! Лева и Таня тоже милы, но они лишены нравственно религиозного рычага, того, который ворочает. Алексей Митрофанович показывал мне дифференциальное счисление. Я понял, очень хорошо. Писем особенных нет. Все просят прислать запрещенные сочинения.
Записано: 1) Труд для других не тот, которым воспользуются другие, а только тот, цель которого служение другим. Только этот труд плодотворен, служит истинной жизни людей, тот, про который люди знают, что он по любви делается для них.
[…] 3) Лихтенберг говорит: люди — ученики, природа — учитель; ученики в состоянии понимать учителя, но они, вместо того чтобы слушать учителя, сдирают друг у друга, уродуя сдираемое ошибками. Прекрасно.
4) Разговаривал с Цуриковым о вере. Он повторяет ужасную фразу о том, что разуму нельзя доверять. Не верить разуму — все равно, что не верить обонянию и вкусу для пищи. Тот, кто, преподавая учение, говорит: принимайте его, не доверяя разуму, — делает то же, что говорит баба, подавая гнилой квас, говоря: не раскушивайте, т. е. не внюхивайтесь, не поверяйте вкусом. Разум, нужный на все, на проверку всех житейских дел, и который мы старательно употребляем для проверки качества, количества покупаемого, продаваемого, самых неважных вещей, вдруг оставить, когда дело идет о всей жизни — по их понятиям даже и вечной жизни! Требование не доверять разуму может быть заявлено только теми, которые предлагают что-либо дурное, долженствующее быть отвергнуто разумом; так же как только квас гнилой баба советует не раскушивать.
5) Разум церковниками употребляется не на то, чтобы познавать истину, а чтобы то, что хочется считать истиной, выдать за таковую.
Теперь 11 час, иду наверх. На Козловку поехали за Дунаевым. Сейчас был в Бабурине у пьяного мужика и больной жены. Как не нужны деньги. […]
Не писал десять дней. Нынче 2 мая. Ясная Поляна. 91. Все время писал. Кажется, все дни, кроме сегодняшнего. И только кончил 3-ю и 4-ю главу, которые соединил из 5-й и 6-й. Становится яснее. Лева хочет выходить из университета, мне жалко его. Таня уехала в Москву. Здесь Илья. Грустно, как холодно с ним. Вчера был Давыдов с смотрителем приюта и Львовым. Тут же сходка и приезд господина Костерева, от Орлова. Господин, которому я не нужен и который мне не нужен. Тяжело, что не можешь обойтись любовно. Соня больна. Я молюсь. Читаю «Ethics of diet», прекрасно*, и читал Платона «Les lois»*. Письма от Митрофана, хорошие, надо ответить, от Никифорова и Диллона. Надо ответить Рахманову. О постниках статьи вместе с «Ethics of diet», очень занимает об нашем обжорстве. Записано:
1) Тип самодовольный, искренно считающий себя нравственным — развратник, потому что соблюдает семейные обряды, декорум.
[…] 4) Разговаривал вчера о воспитанье. Зачем родители отдают от себя в гимназию? Мне вдруг ясно стало. Если бы родители держали его дома, они бы видели последствия своей безнравственной жизни на своих детях. Они видели бы себя, как в зеркале, в детях. Отец пьет вино за обедом с друзьями, а сын в кабаке. Отец на бале, а сын на вечеринке. Отец ничего не делает, и сын тоже. А отдай в гимназию, и завешено зеркало, в котором себя видят родители. 5) Иду по жесткой дороге, в стороне с бойкой песней идут с работы пестрые бабы. Промежуток между напевом, и слышен мерный стук моих ног о дорогу, и опять поднимается песня, и опять затихла и стук шагов. Хорошо. В молодости, бывало, без песни баб, внутри что-то всегда или часто пело. И все — и звук шагов, и свет солнца, и колебание висячих ветвей березы, и все, все как будто совершалось под песню.
Теперь 10-й час, иду наверх к Илюше. Александр Петрович уходит. Он очень мил.
Нынче 10 мая. Ясная Поляна. 1891. Подвигался, хотя и медленно, в работе за это время. Два дня, вчера и нынче, совсем пропали — грипп сильнейший. За это время были Урусовы — мать с двумя дочерьми. Мэри играет на фортепьяно прекрасно. Но совсем затуманенная искусством девушка. С нею сделано то самое, чего боялся ее отец. Она не замечает, что она, потратив столько жизни на искусстве, должна себя подстегивать, чтобы считать искусство чем-то возвышающим, небесным. И чем лучше, тем хуже — все заслонено. «Education dès le berceau» — книга Урусовой;* в ней главное — развивать эстетическое чувство. Она, Мэри, машина для произведения щекочущих звуков. Иллюзия в том, что, так как ее хвалят, она уверена, что то, что она делает, хорошо. Певцы. Мазини.
Вчера был сельский учитель из Калужского уезда — наивный и разумный. Ничего не читал, но понимает, что критики обманывают. Хорошее было письмо от Черткова, который осуждает за резкость в статье. Вчера отвечал ему и написал Митрофану и Рахманову.
Думал: 1) Когда человек умирает, то сознание отделяется от него и, как созревшее, отпавшее семя, ищет зацепиться за что, прижиться к чему-нибудь, к нужной ей почве, чтобы начать жить снова. Если бы зерно, засыхая и отпадая, чувствовало бы, оно чувствовало бы прекращение жизни. Разве не то же самое чувствует человек, умирая?
2) Верить в то, что человеку, а потому и человечеству, как собранию людей, стоит только захотеть, чтобы с корнем вырвать из себя зло.
3) Главная забота людей и главное занятие людей, это не кормиться — кормиться не требует много труда, — а обжорство. Люди говорят о своих интересах, возвышенных целях, женщины о высоких чувствах, а об еде не говорят; но главная деятельность их направлена на еду. У богатых устроено так, чтобы это имело вид, что мы не заботимся, а это делается само собой. Все вообще, в среднем, едят, я думаю, по количеству втрое того, что нужно, и по ценности, по труду приобретения — в 10 раз больше того, что нужно. Это одна из главных перемен, которые предстоят людям. […]
Нынче 22 мая. Ясная Поляна. 1891. Одиннадцать дней не писал. С тех пор вернулась из Москвы Соня с детьми, кажется, 13-го. Потом. У меня сделалось воспаление века. Три дня не выходил. Диктовал Тане начало «Записок матери». Много, но нехорошо. Надо писать от себя. А то стеснительно. 16 приехали Кузминские и Эрдели. Незаметно. […]
Думал: […] 8) Запутавшийся юноша жил у приятеля: денег нет, места нет, приятеля утруждать совестно. «Я несчастный!» Зачем жить. Продал пальто, пошел в баню, взял номер с ванной и отворил себе вены бритвой. Пришли, он без чувств. Перевязали раны, стали лечить. Остался жив, но слепой и без владения рук и ног. Теперь дрожит за свою жизнь, и все силы его посвящены на поддержание здоровья. Если бы человек убивал себя не сразу, а ступенями, ступенями десятью, и так, чтобы на каждой ступени, то есть отбавив жизни на известную долю, он мог бы спросить себя: продолжаешь ли хотеть умереть, то, я думаю, чем больше бы отбавлял себе человек жизни, тем больше дорожил бы остатком и в каких-то огромных степенях, так что человек никогда бы не убил себя. (Это неясно.)
9) К художественному: Я не то что ем или пью, а я занимаюсь искусством, играю на фортепьяно, рисую, пишу, читаю, учусь, а тут приходят бедные, оборванные, погорелые, вдовы, сироты, и нельзя в их присутствии продолжать, — совестно. Что их нелегкая носит, держались бы своего места, — не мешали.
Такое явление среди еды, lown tennis[127] и занятий искусством и наукой доказывает больше всяких рассуждений.
Забыл записать, что один из этих последних дней я писал «Отца Сергия». Решил кончить все начатое. Написал дурно, но пригодится. От Давыдова получил очень хорошее дело для коневского рассказа*. Теперь 11-й час, иду пить кофе.
2 июня. Ясная Поляна. 1891. Мало работал за это время; хотя подвинулся. Начинаю сомневаться в значении того, что пишу. Гостей было пропасть: Раевские, Фесенко, Анненкова, ее муж и Нелюбов, Самарин, Бестужев. За все это время ничего не записано. Нынче утром что-то всплыло ясное и нужное — не к статье, но близкое, и забыл. Ходил в Тулу, был на бойне, но не видал убийства*. В Туле же видел женщину; глаза близко и прямые брови, как будто готова плакать, но пухлая, миловидная, жалкая и возбуждающая чувственность. Такая должна быть купчиха, соблазнившая отца Сергия. […]
Очень тяжело мне от Сони. Все эти заботы о деньгах, именьи и это полное непонимание. Сейчас разговор о том, может ли человек пожертвовать жизнью скорее, чем сделать поступок, не вредящий никому, но противный богу. Она возражала, я ей нужное [?] — ругательства. У меня были скверные мысли уйти. Не надо. Надо терпеть. […]
6 июня. Ясная Поляна. 91. Всё в очень дурном духе и мало писал. Почти ничего не делал — слабость. Завтра хочу идти в Тулу на бойню и к Симонсон в острог* — получил о ней письмо от Дудченко. Было письмо от Поши хорошее. Отвечал длинное письмо Буткевичу о деньгах. Получил от Черткова и Джунковского с ответом Хилкова, который до сих пор не прочел. Очень неясно мне мое писание. Думал:
1) Женщина не верит разуму, не понимает, что нужно отвергнуться себя, что в этом жизнь; но когда надо отвергнуться себя — броситься в воду за утопающим, сделает это скорее мужчина.
2) Я скучаю, огорчен тем, что не пишется, что не произвожу ничего. Новое подтверждение того, что все, что огорчает, все, все на пользу. Неспособность писать исправляет заблуждение, что жизнь есть писание. […]
[7 июня. ] Вчера вечером вернулись Лева с Андрюшей. Приезжают все сыновья — раздел. Очень тяжело и будет неприятно.
[…] Встал рано, поехал в Тулу с Петей Раевским по поезду. Был на бойне. Тащат за рога, винтят хвост, так что хрустят хрящи, не попадают сразу, а когда попадают, он бьется, а они режут горло, выпуская кровь в тазы, потом сдирают кожу с головы. Голова, обнаженная от кожи, с закушенным языком, обращена кверху, а живот и ноги бьются. Мясники сердятся на них, что они не скоро умирают. Прасола-мясники снуют около с озабоченными лицами, занятые своими расчетами.
Был в остроге — великолепные с резными украшениями дома смотрителя, контора; великолепные столы, чиновники, главный сам — пахнет вином изо рта. У Раевских был, на почте и у Щукиных. Не разберешь, в чем их интересы: кажется, ни в чем, кроме материального. Приехал домой. Машенька*. Прочел корректуры Лёвенфельда — вспомнил*. У Миши Кузминского боятся дифтерита. Ходил купаться. Домашние Сони неприятны.
8 июня. Ясная Поляна. 91. Е. б. ж.
[…] Приехали сыновья, и вечером разговор о дележе. «Завтрак у предводителя»*. И нехороши были. Не ссорились, но приписывают важность столь пустому. Читал книгу душеспасительную Машенькину*. Недурно. Допускает, требует борьбы, говорит: когда уж возобладала страсть, все-таки не сдавайся.
[10 июня. ] 9, 10 июня. Ясная Поляна. 91. Совсем лето. Иван-да-Марья, запах гнилого меда от ромашки, васильки, и в лесу тишина, только в макушках дерев не переставая гудят пчелы, насекомые. Нынче косил. Хорошо. Работа письменная плохо идет. Толкусь на месте. А много художественных впечатлений. Нынче письмо от Черткова с записками мыслей — есть очень хорошие.
1) Есть два средства не чувствовать материальной нужды: одно — умерять свои потребности, другое — увеличивать доход. Первое само по себе всегда нравственно, второе само по себе всегда безнравственно: от трудов праведных не наживешь палат каменных.
2) К коневскому рассказу. Играют в горелки с Катюшей и за кустом целуются.
И к тому же рассказу: первая часть — поэзия материальной любви, вторая — поэзия, красота настоящей.
[…] 5) К «Отцу Сергию». Он узнал, что значит полагаться на бога, только тогда, когда совсем безвозвратно погиб в глазах людей. Только тогда он узнал твердость, полную жизни. Явилось полное равнодушие к людям и их действиям. Его берут, судят, допрашивают, спасают — ему все равно. Два состояния: первое — славы людской — тревога, второе — преданность воле божьей, полное спокойствие.
Теперь 12 часов ночи. Зиновьевы дамы тут. Иду спать.
[17 июня. ] Нынче 18 июня. Ясная Поляна. 91. Вчера, 17, я вернулся из путешествия к Буткевичу. Вчера же я вышел от него рано утром с Хохловым и Рощиным, которые провожали меня*.
[…] В Крыльцове зашел в кабак. Кабачник, шурин его, жена и псаломщик пьют наливку и едят варенье с чаем. Они начинают только то, что мы кончаем. Телятинская баба, босиком, ходила раздобыться хлеба. Нет два дни, ребята просят.
Дома невесело — раздел. Вера побранилась с матерью, Таня с Машей поссорились, Марья Федоровна мешает. Не весело. […]
[14 июня. ] 16 июня. Ясная Поляна. 91. Хатунка. Утро провел один, думал писать, но не думалось. Потом пошли, блудили, устали; но хорошо. Лугом хороша дорога.
[13 июня. ] 15 июня. 91. Ясная Поляна. Писал хорошо последнюю главу и решил идти с Алехиным и Хохловым. И пошли, и дошли весело до Булыгина. Булыгин читал «Сон смешного человека» Достоевского. Хорошо задумано, дурно исполнено.
[12 июня. ] 14 июня. Ясная Поляна. 91. Беседовал с Алексеем Алехиным и Хохловым, читал им 4-ю главу*.
[11 июня. ] 13 июня. Ясная Поляна. 91. Вернулся с купанья, застал Алексея Алехина и Хохлова. Алексей Алехин очень хороший. Машенька здесь. 12 и 11. Особенного не помню. Думал:
1) Дети иногда дают бедным хлеб, сахар, деньги и сами довольны собой, умиляются на себя, думая, что они делают нечто доброе. Дети не знают и не могут знать, откуда хлеб, деньги. Но большим надо бы знать это и понимать то, что не может быть ничего доброго в том, чтобы отнять у одного и дать другому. Но многие большие не понимают этого, особенно женщины.
2) К «Отцу Сергию». После того как он убил, сидит в темноте и вдруг видит, что заря занимается, светлеет и будет день — свет. Ужас. […]
[…] 4) В числе новостей, с которыми меня встретили дома, было то, что садовница опять родила, опять приехала старуха и увезла ребенка неизвестно куда. Все страшно возмущены. Употребление средств для нерождения — ничего, а за это нет достаточно осудительных слов. Нынче узналось, что бабка вернулась и привезла назад ребенка. Дорогой бабка съехалась с другими, везшими таких же детей. Из этих детей одному дали слишком глубоко в рот рожок. Он втянул его в себя и задохся. В один день привезли в Москву двадцать пять детей. Из этих двадцати пяти девятерых не приняли, потому что законные или больные. Таня Андреевна ходила утром усовещевать садовницу. Садовница, горячо выгораживая своего мужа, говорила, что при их бедности и неопределенности жизни ей нельзя иметь детей. И грудь не берет. Одним словом, ей это неудобно. Перед самым же этим я на качелях качал трех детей заброшенных, и встретился мне еще мальчик, Васин племянник. Вообще кишит детвора. Родятся, растут, чтоб сделаться пьяницами, сифилитиками, дикарями. При этом толкуют о спасении жизни людей и детей и об уничтожении их. Да зачем плодить дикарей? Что тут хорошего? Не убивать их, не перестать плодить их надо, а надо все силы употреблять на то, чтобы из дикарей делать людей. Только это одно доброе дело. И дело это делается не одними словами, но примером жизни. Теперь 2-й час. Все, томясь скукой, уехали к Зиновьевым.
25 июня. Ясная Поляна. 91. 6 дней не писал дневник. Нынче рано утром уехал И. И. Горбунов. Мне очень хорошо с ним было. Вчера мы много говорили с ним, и я прочел ему начало 6-й главы, а предшествующие он сам читал. Вчера же был Илья. Все та же борьба с матерью. Я не возмущаюсь на их тупость. Как, живя в такой близости, не заразиться хоть немного. Ничего не писал.
23 июня. С утра началась суета. Странницы с чаем, потом гимназист с кондитером, потом Романов. Вечером Языковы — очень чуждые — и почтовый ящик. Интересные разговоры с Романовым. Ему кажется, что надо отдать бедным — нищим, землю мужикам, а не отстраняться только, самому освободиться от собственности. […]
22 [июня]. Писал, привел в порядок начало 6-й главы. Утром приехала Рачинская, вечером гимназист 18 лет, Громан, идет в лаптях изучать народ, чтоб служить ему. Открытый, прямолинейный юноша, только что познавший красоту добра. Мы много говорили с ним. Я и Горбунов. Сошедшийся с ним в саду кондитер с костоедом в руке, скептик, но добрый и искренний, я дал им адресы до Ге.
21 [июня]. Писал утро. Вечером приехал Горбунов.
20-го. Тоже писал и, кажется, ездил в Тулу. Не добился Ростовцева, но виделся с Лопухиным и просил о делах. Хочется писать коневскую. Очень ясна в голове.
Нынче 25 [июня]. Встал в 8. Дождь, ливень. Один пил кофе. Все слабость — хотя нынче немного лучше. Еще ночью думал о предисловии к вегетарианской книге, то есть о воздержании, и все утро писал недурно. Потом ходил гулять, купаться. Теперь 5 часов. Все слабость. Я дурно сплю. И я гадок себе до невозможности. Вот дьявол, которого наслал на меня бог, как говорил Павел. За эти дни читал Бьернсона. Бестолково, но много хорошего. Хорошо, как он пробежал мимо загипнотизированной им девушки, гонясь за ней, и она увидала его страшно зверское лицо*. Montaigne. Думал:
[…] 3) Все говорят о голоде, все заботятся о голодающих, хотят помогать им, спасать их. И как это противно! Люди, не думавшие о других, о народе, вдруг почему-то возгораются желанием служить ему. Тут или тщеславие — высказаться, или страх; но добра нет.
[…] 4) Нельзя начать по известному случаю делать добро нынче, если не делал его вчера. Добро делают, но не потому, что голод, а потому, что хорошо его делать.
27 июня. Ясная Поляна. 91. Встал поздно. Хорошо выспался. Говорил много с Вяземским и хорошо. Таня уехала. От 1 до 3 писал хорошо об обжорстве*. Выясняется хорошо. После обеда грустно, гадко на нашу жизнь, стыдно. Кругом голодные, дикие, а мы… стыдно, виноват мучительно. Отче, помоги мне делать волю твою. После обеда прочел древнюю историю. Думал: 1) Ошибка о возможности христианской добродетели без воздержания происходит от представления о возможности любви без самоотречения. Теперь 11 час. Иду на террасу. Помоги мне любить.
[13 июля. ] Нынче 13. Шестнадцать дней не писал. Приехал Репин и Гинзбург. За это время они меня лепят и пишут, а я написал статью об обжорстве и много подвинулся в большой статье. Лева уехал. Была Александра Андреевна. Соня уезжала в Москву и нынче приезжает. Теперь 12-й час, иду на террасу. Завтра запишу то, что записано. Пробовал работать, косить, но очень слаб. […]
14 июля. Ясная Поляна. 91 г. Е. б. ж. Сейчас еще 13 число, разговор с женой, все о том же, о том, чтобы отказаться от права собственности на сочинения; опять то же непонимание меня: «Я обязана для детей…» Не понимает она, и не понимают дети, расходуя деньги, что каждый рубль, проживаемый ими и наживаемый книгами, есть страдание, позор мой. Позор пускай, но за что ослабление того действия, которое могла бы иметь проповедь истины. Видно, так надо. И без меня истина сделает свое дело.
1) Картина конца июня. Стрижи кружат после полдника, запах липы, пчела валит валом.
[…] 5) К будущей драме*. Спор с православными: «Не могу верить», и с либералами: «Не могу не верить».
6) Отчего успех Родстока в большом свете? Оттого, что не требуется изменения своей жизни, признания ее не правой, не требуется отречения от власти, собственности, князя мира сего.
7) К «Александру I»*. Солдата убили вместо него, он тогда опомнился.
8) Вор не тот, кто взял необходимое себе, а тот, кто держит, не отдавая другим, ненужное себе, но необходимое другим.
Нынче 22 июля. Ясная Поляна. 91. За все это время развлекало меня присутствие Репина и Гинзбурга. Вчера уехал Гинзбург, и вчера же уехали Гельбиги. И вчера же был разговор с женой о напечатании письма в газетах об отказе от права авторской собственности. Трудно вспомнить, а главное, описать все, что тут было.
[Вымарано 19 строк.]
Начал же я разговор, потому что она сказала как-то вечером, когда мы уже засыпать собирались, что она согласна. Мне ее жалко. Злобы нет. Говорю себе, что это мне крест, который надо нести, а не тащить. И когда подумаю, что я могу обратить это в благо и поучение себе, — «Радуйтесь, когда поносят вас», — то мне хорошо.
За это время пришла девушка Бооль от Дунаева, и в то же время приехал Файнерман с другой, старой и очень милой девушкой Жаковской, которая хочет жить, как и Бооль, для успокоения своей совести, трудясь низким трудом и живя бедно. Уехали 3-го дня на юг, одна к Марье Александровне, другая в Полтаву. Я был дома, и мне было грустно, тяжело. Я думал, что таково мое отчасти физическое, отчасти душевное состояние; но я пришел к Жаковской у Игната, поговорил с ним, увидал эту нужду, труд, усталость, увидал нравственные побуждения этих женщин и не успел оглянуться, как мне стало бодро, весело. Хочется жаловаться на тяжесть креста. Разумеется, вздор — по силам и нужен мне. Тяжесть креста увеличивается еще тем, что Таня возненавидела Машу. Кажется, теперь проходит. Я говорил с ними про это.
Последнее время работаю все над статьей довольно успешно. Приближаюсь к концу. Вчера написал еще 6 или 7 писем, все плохих, был не в духе, как и теперь. Большая слабость.
Записано за это время много к статье, что уже и вписал, а еще записано только 3.
1. К «Отцу Сергию». Когда он пал с купеческой дочерью и мучается, ему приходит мысль о том, что если падать, то лучше бы ему пасть тогда с красавицей А., а не с этой гадостью. И опять гадость захватывает его. […]
Нынче 31 июля. Ясная Поляна. 91. Только неделю не писал, а кажется, очень давно. За это время была Мамонова, мы ее встретили, идя в Тулу. Потом Страхов, который и теперь тут. С эгоизмом я ждал его осуждения о моем писании — он не осудил. […] Записано за это время:
1) Сюжет — впечатления и история человека, бывшего в золотой роте и попавшего в сад караульщиком около господского дома, в котором он видит близко господскую жизнь и даже принимает в ней участие*.
2) Говорил с Хохловым: анархия и социализм, то есть отрицание собственности, это — христианство, но только с удержанием существующего порядка. Христианство есть отчасти социализм и анархия, но без насилия и с готовностью жертвы.
3) Очень важно: свобода воли есть сознание своей жизни. Свободен тот, кто сознает себя живущим. Сознавать же себя живущим — значит сознавать закон своей жизни, значит стремиться к исполнению закона своей жизни.
Теперь 10-й час, иду наверх. Боюсь себя за нынешнюю ночь. Отче, помоги.
Нынче 12 августа. Ясная Поляна. 91. Особенно важного ничего не было. Никого интересных посетителей: Штанге, Минин, американец Burton.
Писал все время по утрам, кроме двух дней, нынче и еще один день. Теперь остановился на 8-й главе и, кажется, обдумал ее сегодня. Вчера Соня ездила в концерт, мы прекрасно говорили с тетей Таней и девочками. За это время я опять написал было письмо в редакцию* и опять встретил такое недоброжелательство, что оставил до времени.
27 августа. Ясная Поляна. 91 г. Две недели не писал. За эти две недели были два главные события: моя поездка к Сереже, брату — я прожил там неделю, и свадьба Маши Кузминской третьего дня. И то и другое было очень хорошо. 22-го я заболел и теперь еще не совсем поправился; голод мучает и едва держусь. Приехал Поша три дня тому назад. Очень хорошо с ним. Я два дня поправлял статью об обжорстве — порядочно; но придется еще поправить. […]
Был жив, жив и нынче 13-го сентября. За это время писал довольно много. Подвинулся так, что близок к концу. Пишу VIII главу, которой и окончится. Были за это время все очень приятные посетители. Прежде Ваня Горбунов с Батерсби, поразившим меня чрезвычайно приятно. Совершенно свободный, религиозный, в жизни религиозный человек. Потом был Новоселов с Гастевым, тоже оба оставили очень приятное впечатление. В это же время уехали Соня с мальчиками в Москву и потом Лева. Уехала она, кажется, 3-го. Писал я ей вчера письмо, прося ее послать в редакцию мое письмо об отказе от прав авторских. Не знаю, что будет. Здоровье чуть держится. Все хочется физически работать и все не начинаю. Вчера читали милую вещицу с итальянского: «Красавица»*. За это время думал:
1) Еще человек и еще, и еще. И все новые, особенные, все кажется, что этот-то вот и будет новый, особенный, знающий того, чего не знают другие живущие, лучше, чем другие. И все то же, все те же слабости, все тот же низкий уровень мысли.
2) Неужели люди, теперь живущие на шее других, не поймут сами, что этого не должно, и не слезут добровольно, а дождутся того, что их скинут и раздавят.
[…] 5) Есть огромное преимущество в изложении мыслей вне всякого цельного сочинения. В сочинении мысль должна часто сжаться с одной стороны, выдаться с другой, как виноград, зреющий в плотной кисти; отдельно же выраженная, ее центр на месте, и она равномерно развивается во все стороны.
[…] 9) Мольтке уверяет, что теперь народы хотят воевать, а не правительства. Раздразнили петухов, воспитали к тому, а потом говорят: это они сами. […]
[18 сентября. Пирогово. ] 15, 16, 17, 18. Вернулась Соня. Были накануне Бобринские. Мало интересного. Соня вернулась хорошо. Я мучился ее молчанием о письме: но оказалось, что она согласна. Письмо 16-го послал*.
Был Львов, говорил о голоде. Ночь дурно спал и не спал до 4 часов, все думал о голоде. Кажется, что нужно предпринять столовые. И с этой целью поехал в Пирогово. В этот же день с Соней был разговор нехороший. Она начала, из желания, чтоб я не ехал, говорить совсем другое. Я разгорячился. А нынче с Сережей разгорячился. Он раздражен был вчера.
Из столовых до сих пор ничего не выходит. Боюсь, что я ошибся. Не надо искать, а только отвечать на требования. О деньгах думал. Можно так сказать: употребление денег — грех, когда нет несомненно нужды в употреблении их. Что же определит несомненность нужды? Во-первых, то, что в употреблении нет произвола, нет выбора, то, что деньги могут быть употреблены только на одно дело; во-вторых (забыл). Хочу сказать — то, что неупотребление денег в данном случае будет мучить совесть, но это неопределенно. Теперь 12 час. Я в Пирогове. И мне нехорошо и телом и духом.
[25 сентября. Клекотки. ] 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Прошла целая неделя. 19-го поехал с Таней и Верой верхом в Успенское. Очень добродушный Бибиков, уложил спать и на другой день повез в глубь уезда. Осматривали деревню Огаревку. Умный староста — перечислил все дворы. Бедность не так велика, потому что есть картофель. Я было успокоился. Но там стало хуже. Вложу листки из дневника о поездке по Богородицкому и Ефремовскому уездам. […] 23-го решил ехать в Епифань. Таня проводила меня. В Оболенском захватил Машу. Писарев прекрасный тип земца — находящий смысл в служении людям. И жена милая, кроткая. 24-го ходили в деревню Мещерки. Опущенность народа страшная: разваленные дома — был пожар прошлого года, — ничего нет, и еще пьют. Как дети, попавшие в беду, смеются, так и они. К вечеру приехали Богоявленский и Раевский. Решил поселиться у Раевского. Хорошо бы, если Соня не воспротивится. Я даже оставил 90 р. на закупку картофеля и свеклы.
Нынче 8 октября. Ясная Поляна. 11 дней не писал. Попробую, идя назад, вспомнить. Нынче пытался вновь писать статью о голоде. Ничего не вышло. Вечером написал 8 писем и свез на Козловку. Только что писал Золотареву рецепт о том, как установить любовь к людям, с которыми живешь, и, взойдя наверх, поддался поддразниванию Софьи Андреевны, утверждавшей, что люди, пытающиеся жить нравственно, утеряли простоту. И рассердился, сдержался.
Вчера 7-го. То же писал утром, и не шло. Уехали Эрдели и Таня в Москву. 6-го и 5-го поправлял первые главы статьи о воинской повинности. 4-го и 3-го писал 8-ю главу и хорошо кончил*, 3-го и 2-го и 1-го писал статью о голоде*. Все это время работал, засыпал завалину. Были за это время Стаховичи, Полякова, Зиновьев и Давыдов с дочерьми. Особенно выдающихся писем не было. Нет, были: письма Хохлова и англичанина пастора, сочувственное. Отослал за это время, исправив ее, «Первую ступень».
Думал только две вещи:
1) То, что быть в нужде по отношению к пище и одежде и помещению есть наивыгоднейшее положение человека — не переесть, не перегреться, не перепокоиться. Особенно первое: есть надо так, как будто не достанет на всех, и всегда оставлять другим.
2) То, что когда трудно, как мне теперь, безвыходно, кажется [1 перечеркнутое и неразобранное], надо думать, что это отличие мне. Мне задается урок трудный, потому что в меня верят, надеются на меня и любят меня. Надо быть благодарным. Теперь 12 ч. ночи.
Читал. Нынче 24 октября 1891. Ясная Поляна. Прошло пятнадцать дней. И много пережито. Вчера, 23, был нездоров, вроде инфлюэнцы, был Миташа Оболенский и Булыгин. Утром писал 4-ю главу. Вечером послал Гроту дополнение статьи о голоде. 22-го уехала Соня. Я уж нездоров. Перед отъездом она поговорила со мной так радостно, хорошо, что нельзя верить, чтоб это был тот же человек. Писал о голоде целый день, был Грот, и я устал очень головой. Вечером уехал Грот. 21. Поправлял по корректурам статью. Она мне нравится. Надо было глубже взять вопрос. Вечером читал и кончил «Долой оружие»*. Хорошо собрано. Видно горячее убеждение, но бездарно. […]
[…] 3) Говорила Соня, что Соня-сноха нехорошая мать. Вот, говорит, она не делает того, что ты осуждаешь в «Крейцеровой сонате». Она не отравляет жизнь мужа детьми. А если любить детей и ходить за ними, то будешь неприятна. И мне подумалось: какая необходимая приправа ко всему доброта. Самые лучшие добродетели без доброты ничего не стоят; и самые худшие пороки с ней прощаются. Какой бы хороший художественный тип слабого, порочного человека и доброго… Кажется, уже бывали такие, но я такого по-новому чувствую.
4) Приходила баба просить защиты: за корчемство приговорили к 50 р. штрафа или к острогу на три месяца, а она вдова, у нее нет земли и четверо детей. Подумал, что делает тот, кто сажает ее. Наказывают эту нищую и ее детей за то, что она захотела участвовать в барышах казны на 25 р.
Попов еще здесь. Мы совсем собираемся ехать. Денег еще нет. Что будем делать, не знаю*. Но, кажется, побуждение недурное. Уж примешивается проклятая слава людская. Но буду стараться делать для бога. Нынче, кажется, кончил 4-ю главу. И пересмотрел окончательно 6-ю и до половины 7-ю. Как бы хотелось кончить. Теперь 11 часов. Жду писем с Козловки.
Сегодня 1 ноября 91 г. Бегичевка, у Раевского. Мы здесь уже пятый день. Живем хорошо. Есть дело. Написал статью: «Хватит ли хлеба?»*. Много есть, что записать, но теперь поздно. Лягу спать. Завтра постараюсь записать. Нынче что-то очень хорошее думал и забыл.
Сегодня 6-е, утро ноября. Бегичевка. 91. Устроены наши три столовые. Я написал в газету о том, есть ли хлеб, и начал рассказ: «Кто прав?»*. Девочки хорошо заняты. Поправил еще 7-ю и 8-ю главы. Здоров. Письмо из Англии с предложением быть посредником помощи*. Два письма от Сони. Мне не перестает быть грустно за нее и от нее.
[…] Вчера поправил присланную Гротом корректуру о голоде. Нынче думал к «Сергию».
Надо, чтобы он боролся с гордостью, чтоб попал в тот ложный круг, при котором смирение оказывается гордостью; чувствовал бы безвыходность своей гордости и только после падения и позора почувствовал бы, что он вырвался из этого ложного круга и может быть точно смиренен. И счастье вырваться из рук дьявола и почувствовать себя в объятиях бога.
Нынче 17 ноября. Бегичевка. 1891. Прошло двенадцать дней, полных событий, практической жизни, но как будто пустых в смысле духовной жизни. Ничего не записано в книжечке, кроме имен крестьян, просящихся в столовые, и т. п. Постараюсь восстановить приблизительно прошедшие дни. Впрочем, одно оказалось записанным, именно:
1) Все науки, искусства, все просвещение хорошо, только бы для приобретения плодов его не нужно было задавить, не дать жить, лишить блага, огорчить ни одного человека. А оно, все наше просвещение, построено на трупах задавленных людей.
Нынче 17. Встали рано, провожали Леву и Раевских в Москву. Потом писал статью маленькую в газету. Не кончил и не послал*. Проводил Владимирова. Ходил в Гаи и к Мордвинову, тщетно ждал почту, читал Башкирцеву*. Теперь 10-й час. […]
13-го ездил в Грязновку с Машей.
12-го. Приезд Чистякова. 11-го писал статью о столовых. 11. Приезд Дубровина. 10-го. Приезд мальчиков Раевских с Бергером. 9-го. У Мордвиновых. Не помню остального. Здоров. Нет духовной жизни.
Большие пожертвования — более 10 тысяч. Дело идет равномерно. Но нет удовлетворения. Нет и стыда и раскаяния. Еще день полный был посвящен устройству столовых в Никитском и Пашкове, еще день в Горках. — Завтра, е. б. ж.
18 ноября. Бегичевка. 1891. Жив. Утром пробовал писать 8-ю главу. Ничего не шло. Тем более, что получены были письма, из которых вижу, что Соня очень страдает, и мне очень, очень ее жалко. Чувствую, что я не виноват перед нею, но она считает меня виноватым, и мне очень, очень жалко ее. Очень дурная погода, опять много денег, 3 300. Я спал после обеда, потом ходил по стеклянной террасе, потом писал статью о столовых. Мужики заявили желание отсылать лошадей. Это очень трогает меня. Теперь 12.
[24 ноября. ] Прошло пять дней. Нынче 24 ноября 91. Бегичевка. Нынче писал 8-ю главу недурно. После обеда поехал верхом в Пашково и по четырем столовым, очень радостное впечатление. Мальчика-нищего пригласили ужинать. Ребята бегут. «Мы ужинать. Я тоже — вот и ложка». […]
25 ноября. Бегичевка. 91. Ивану Ивановичу все хуже и хуже*. Приехала Элена Павловна. Я немного писал статью о воинской повинности.
Нынче 26 ноября. Бегичевка. 91. Он умер в 3 часа, мне очень жаль его. Я очень полюбил его.
Нынче 18 — даже 19 декабря. Бегичевка 1891. Почти месяц не писал. За это время был в Москве. Радость отношения с Соней. Никогда не были так сердечны. Благодарю тебя, отец. Я просил об этом. Все, все, о чем я просил, — дано мне. Благодарю тебя. Дай мне ближе сливаться с волею твоей. Ничего не хочу, кроме того, что ты хочешь. Здесь работа идет большая. Загорается и в других местах России. Хороших людей много. Благодарю тебя. С нами Новоселов, Гастев. Был Грот, Коншин, Келер. Статью все пишу и не могу кончить. Вполне здоров.
19 декабря 1891. Бегичевка. Как и все это время, с утра суета, народ. Потом приехали Усов и Рубцов. Я с ними ходил по столовым. Заснул. Немного болит живот, потом приехал Писарев. Мне с ним неловко. Положение мужика, у которого круг его кольца разорван, и он не мужик, не житель, а бобыль. Больше нечего делать — только пить. Надо с терпением выслушивать.
Нынче 23 декабря 1891. Бегичевка. Писал после, рано утром, статью. Все не кончил. Очень суеты много.
Вчера приехали Раевские, Петя и Гриша. Нынче уехали Новоселов, Гастев и Черняева. Вчера же была Вагнер. Поехала в Казань. Читал вслух письмо Сони при Богоявленском, и там нехорошие отзывы от Грота о Новоселове. От Сони письма хуже.
Нынче приехали два г-на: Протопопов и Обольянинов. Едут в Самару и Тамбов. Спорил сейчас с ними. Еще пришел Леонтьев. Вчера ездили с ним в Барятино открывать столовые. Много мыслей было, но все забыл. Неспокойно, мало радостно на душе. Написал нынче письмо Леве и Трегубову. Жизнь как шаги ребенка, которого мать выпустила из объятий и опять примет. Завтра.
24 декабря. Бегичевка. 1891. Если буду ж.
27 декабря. Бегичевка. 1891. Не писал. Нынче встал рано, записал, что делать без нас. Потом приехал Лебедев. Потом поехал верхом в Барятино. Леонтьева нет дома, поехал в Хованщину и Хованские хутора. Приехал домой, заснул, написал Ване инструкции и ложусь спать.
Вчера утром суета. Потом ездил в Пеньки, Прудки и Александровку. Метель, было жутко. Вечер один с Эленой Павловной и Михайловной и Алексеем Митрофановичем. Третьего дня ездил к Новоселову. У них хорошо. Страшная нищета в Козлове. 4-го дня, кажется, был дома. Не помню?
28 декабря. Бегичевка. 1891. Если б. ж.
1892
[Бегичевка. ] Жив. Прошел месяц. Нынче 30 января 1892. Вспоминать день за днем — невозможно. Был в Москве, где пробыл три недели, и вот неделя, как опять тут. Главные черты и события этого месяца: недовольство на Леву и тяжелое чувство нелюбви к нему. Суета, праздность и роскошь, и тщеславие, и чувственность московской жизни. Был в театре. «Плоды просвещения»*. Писал все 8-ю главу. И все не кончил*. Виделся с Соловьевым, с Алехиным, с Орловым, с этими тяжело — и радостно с Чертковым, Горбуновым, Трегубовым. Вернувшись сюда, нашел беспорядок, неясность. Раздача вещей и дров вызвала жадность. Почти все время мне нездоровится — желудком и чувствую ослабление общее. Все чаще и чаще думаю о смерти и больше и больше освобождаюсь от славы людской. Но еще очень далеко от полного освобождения. Хотел выписать записанное в книжки — потерял, и вял и грустен и не хочется ни думать, ни делать. Отче, помоги мне всегда любить.
3 февраля 92. Бегичевка. Нынче уехала Соня*. Мне жаль ее. Отношения к народу очень дурные. Я нынче понял, что это-то попрошайничество, зависть, обман, недовольство и стоящая за всем этим нужда и есть показатель особенности положения и того, что мы стоим в середине его. Утром был очень слаб. Спал днем. Пытался писать, не идет. Получил от Алехина письмо нехорошее. Все хочет сделать что-то необыкновенное, когда признак настоящего труда есть «обыкновенное». Не козелкать, а тянуть.
Носил, носил записочку с мыслями и потерял. Помню только, что записано было: 1) то, что когда видишь много людей новых, таких, каких никогда не видал, хоть где-нибудь в Африке, в Японии: человек, другой, третий, еще, еще, и конца нет, все новые, новые, такие, каких я никогда мог не видать, никогда не увижу, а они живут такой же эгоистичной своей отдельной жизнью, как и я, то приходишь в ужас, недоумение, что это значит, зачем столько? Какое мое отношение к ним? Неужели я не видал их и они мне чужие? Не может быть. И один ответ: они и я одно. Одно и те, которые живут, и жили, и будут жить, одно со мною, и я живу ими, и они живут мною. […]
Сегодня 24 февраля. Бегичевка. 1892. Нынче Таня уехала нездоровая в Москву*. И нынче же уехали сбиравшиеся воскресные: Гастев, Алехин, Новоселов, Страхов, Поша с ними*. И приехал Тулинов, Богоявленский очень болен. Был Репин, уехал нынче*. Я два дня сряду ездил в Рожню и не мог доехать. Мы ездили на масленице в Богородицк, и я был у Сережи*. Очень хорошо. Здесь работы много и тяжести. Что дальше жить, то мне труднее. Но труд этот не может не быть, и я не могу расстаться с ним.
Нынче 29 февраля 92. Бегичевка. Была страшная метель все эти дни. Вчера ездил опять в Рожню, опять не доехал. Был в Колодезях и Катараеве, о дровах и приютах*. Приехали к нам 1) Бобринский, 2) швед Стадлин, 3) Высоцкий и четыре темных. Мне тяжело от них*. Я очень устал. Днем было нехорошо. Теперь лучше, — совсем хорошо. Все пишу и не могу кончить.
Третьего дня было поразительное: выхожу утром с горшком на крыльцо, большой, здоровый, легкий мужик, лет под 50, с 12-летним мальчиком, с красивыми, вьющимися, отворачивающимися кончиками русых волос. «Откуда?» — «Из Затворного». Это село, в котором крестьяне живут профессией нищенства. «Что ты?» — Как всегда, скучное: «К вашей милости». — «Что?» — «Да не дайте помереть голодной смертью. Все проели». — «Ты побираешься?» — «Да, довелось. Все проели, куска хлеба нет. Не ели два дня». Мне тяжело. Все знакомые слова и все заученные. Сейчас. И иду, чтобы вынести пятак и отделаться. Мужик продолжает говорить, описывая свое положение. Ни топки, ни хлеба. Ходили по миру, не подают. На дворе метель, холод. Иду, чтоб отделаться. Оглядываюсь на мальчика. Прекрасные глаза полны слез, и из одного уже стекают светлые, крупные слезы.
Да, огрубеваешь от этого проклятого начальства и денег.
[3 апреля. Москва. ] Нынче 3 апреля. Больше месяца не писал. Я в Москве*. Приехали сюда, кажется, 14-го. Все время стараюсь кончить 8-ую главу и все дальше от конца. Отношение к своему занятию проводника пожертвований — страшно противно мне. Хочется написать всю перечувствованную правду, как перед богом.
Событий особенных — никаких. На душе — зла мало, любви к людям больше. Главное — чувствую радостный переворот — жизни своей личной не почти, а совсем нет. […]
Нынче 26 мая 1892. Ясная Поляна. Третьего дня приехал из Бегичевки. Там время прошло, как день. Все то же. Тяжелое больше, чем когда-нибудь, отношение с темными, с Алехиным, Новоселовым, Скороходовым. Ребячество и тщеславие христианства и мало искренности. Дело все то же. Так же тяжело и так же нельзя уйти. Только начал там жить свободно, как приехал Евдоким и привез 8-ю главу, которая была в безобразном виде. Начал переделывать и месяц работал каждый день, переделывал и теперь еще переделываю. Кажется, что подвинулся к концу.
Явился швед Абрагам. Моя тень. Те же мысли, то же настроение, минус чуткость. Много хорошего говорит и пишет. Нынче поехал к нему с Таней, а он идет. […]
Нынче 5 июля 92. Ясная Поляна. Полтора месяца почти не писал. Был в это время в Бегичевке и опять вернулся и теперь опять больше двух недель в Ясной. Остаюсь еще для раздела*. Тяжело, мучительно ужасно. Молюсь, чтоб бог избавил меня. Как? Не как я хочу, а как хочет он. Только бы затушил он во мне нелюбовь. Вчера поразительный разговор детей. Таня и Лева внушают Маше, что она делает подлость, отказываясь от имения. Ее поступок заставляет их чувствовать неправду своего, а им надо быть правыми, и вот они стараются придумывать, почему поступок нехорош и подлость. Ужасно. Не могу, писать. Уж я плакал, и опять плакать хочется. Они говорят: мы сами бы хотели это сделать, да это было бы дурно. Жена говорит им: оставьте у меня. Они молчат. Ужасно! Никогда не видал такой очевидности лжи и мотивов ее. Грустно, грустно, тяжело мучительно.
Здесь Поша и Страхов. Я было кончил, но на днях — верно, был в дурном духе — стал переделывать и опять далек от конца, теперь 9-10-я главы.
Уезжая из Бегичевки, меня поразила, как теперь часто поражают картины природы. Утра 5 часов. Туман, на реке моют. Все в тумане. Мокрые листья блестят вблизи.
За это время думал:
[…] 2) Когда проживешь долго — как я 45 лет сознательной жизни, то понимаешь, как ложны, невозможны всякие приспособления себя к жизни. Нет ничего stable[128] в жизни. Все равно как приспособляться к текущей воде. Все — личности, семьи, общества, все изменяется, тает и переформировывается, как облака. И не успеешь привыкнуть к одному состоянию общества, как уже его нет и оно перешло в другое. […]
[6 августа. ] Страшно думать: месяц прошел. Нынче 6-е августа. Опять был в Бегичевке. Там покончил дела. Буду продолжать отсюда. Апатия, слабость большая. 8-я глава кончена, но над 9-й и 10-й все вожусь. И начинаю думать, что толкусь на месте. Раздел кончен. Выписал Попова*. Он живет у нас, переписывает и ждет. Страхов опять приехал. Я очень опустился нравственно. От сочинения, от мысли, что я делаю важное дело — писанье, хоть не освобождающее от обязанностей жизни, а такое, которое важнее других.
[…] Думал: 1) Только и помню теперь, что я сижу в бане, и мальчик-пастух вошел в сени. Я спросил: Кто там? — Я. — Кто я? — Да я. — Кто ты? — Да я же. Ему, одному живущему на свете, так непонятно, чтобы кто-нибудь мог не знать того, что одно есть. И так всякий. Вспомню и напишу после другое.
[9 августа. ] Были письма от Файнермана и Алехина о том, чтобы собраться, — собор*. Какое ребячество! Написал им ответы. Забыл написать. Они хотят того, что есть последствия того, что дает единение, то есть чтобы мы делали бы дело божие и были бы все вместе, без того, что это производит — одинокой работы перед богом.
Нынче 9 августа. Ясная Поляна. 92. Вчера писал немного лучше. Собой так же недоволен: нет любви ни к чему. Правда, что меньше всего к себе, но все-таки — нет ее. Вчера за обедом маленький эпизод о грибах, запрещение собирать их, больно огорчил меня. И это мне должно быть стыдно. Много думал, но ничего не записал и не помню. Вчера читал Боборыкина «Труп», очень хорошо*. Лева приехал. С ним ничего. Нынче писал лучше, но мало. Ходил с Сашей за грибами. Очень приятно. Вчера написал письмо Диллону, по случаю письма Лескова*. Пришли Попов и Буткевич. Вечером приехала Таня и еще куча народа. Теперь играют наверху со скрипкой. Прочел повесть какой-то барыни — плохая. […]
Нынче 21 августа. Ясная Поляна. 92. Все так же вяло живу, весь поглощенный только своей статьей, которую все не кончаю.
[…] Я как будто подвигаюсь тем, что более ясна связь и, главное, что выкидываю красноречие. За это время думал:
1) О воспитании был разговор. Соня говорит, что она видит, что дурно воспитывает, что гибнут физически и нравственно. Но что же делать? Как будто говорят все: там, что хорошо или дурно — это все равно, а вот у меня есть одна жизнь, и у детей одна жизнь. И вот я эту одну жизнь погублю, уже не преминую.
[…] 5) Это не мысль, но 13 августа я записал, что мне не в минуту раздражения, а в самую тихую минуту, ясно стало, что можно — едва ли не должно уйти.
6) Говорил о музыке. Я опять говорю, что это наслаждение только немного выше сортом кушанья. Я не обидеть хочу музыку, а хочу ясности. И не могу признать того, что с такой неясностью и неопределенностью толкуют люди, что музыка как-то возвышает душу. Дело в том, что она не нравственное дело. Не безнравственная, как и еда, безразличное, но не нравственное. Я за это стою. А если она не нравственное дело, то совсем и другое к ней отношение.
Если б. ж. 22 августа. Ясная Поляна. 92. Был Поша, уехал в Бегичевку. Я все не могу осилить написать отчет.
Нынче 15 сентября 92. Ясная Поляна. Два дня, как я вернулся из Бегичевки, где пробыл три дня хорошо. Написал начерно отчет и заключение*. Мучительно тяжелое впечатление произвел поезд администрации и войск, ехавших для усмирения*. Все то время, что не писал в дневнике, жил так же. Сколько было сил, работал над 8, 9 и 10 главами и первые две кончил. Но 10-ю только смазал. Все нет настоящего заключения. Кажется, выясняется. […]
За это время записано (много пропущено):
1) Говорил о музыке. Это наслаждение чувства, как чувства, как (sens[129]) вкуса, зрения, слуха. Я согласен, что оно выше, т. е. менее похотливо, чем вкус, еда, но я стою на том, что в нем нет ничего нравственного, как стараются нас уверить.
2) Соблазны не случайные явления, приключения, что живешь, живешь спокойно, и вдруг соблазн, а постоянно сопутствующее нравственной жизни условие. Идти в жизни всегда приходится среди соблазнов, по соблазнам, как по болоту, утопая в них и постоянно выдираясь.
3) Условия жизни, одежда, привычки, остающиеся на человеке — после того как он изменил жизнь, все равно как одежда на актере, когда он, среди спектакля, от пожара выбежал на улицу в костюме и румянах.
4) Мы постоянно гипнотизируем самих себя. Предписываем себе в будущем, не спрашивая уже дальнейших приказаний при известных условиях, в известное время сделать то-то и то-то; и делаем.
[22 сентября. ] Жена вчера уехала в Москву с мальчиками. 18-го она возвратилась и в воскресенье 20-го опять уехала. Жизнь моя все та же. Все не могу кончить 11-ю главу и заключение. […]
1 октября. Ясная Поляна. 92. Все то же: то же упорство труда, то же медленное движение и то же недовольство собой. Впрочем, немного лучше. Нынче ездил на Козловку, думал в первый раз: как ни страшно это думать и сказать: цель жизни есть так же мало воспроизведение себе подобных, продолжение рода, как и служение людям, так же мало и служение богу. Воспроизводить себе подобных. Зачем? Служить людям. А тем, кому мы будем служить, тем что делать? Служить богу? Разве он не может без нас сделать, что ему нужно. Да ему не может быть ничего нужно. Если он и велит нам служить себе, то только для нашего блага. Жизнь не может иметь другой цели, как благо, как радость. Только эта цель — радость — вполне достойна жизни. Отречение, крест, отдать жизнь, все это для радости. И радость есть и может быть ничем ненарушимая и постоянная. И смерть переходит к новой, неизведанной, совсем новой, другой, большей радости. И есть источники радости, никогда не иссякающие: красота природы, животных, людей, никогда не отсутствующая. В тюрьме — красота луча, мухи, звуков. И главный источник: любовь — моя к людям и людей ко мне. Как бы хорошо было, если бы это была правда. Неужели мне открывается новое. Красота, радость, только как радость, независимо от добра, отвратительная. Я узнал это и бросил. Добро без красоты мучительно. Только соединение двух и не соединение, а красота, как венец добра. Кажется, что это похоже на правду. Читаю Amiel’a*, недурно.
Нынче 7 октября. Ясная Поляна. 1892. Все то же. То же упорство труда и медленное движение. За это время были старшие сыновья. Хорошо, добро с ними. Но они очень слабы. С Левой разговор. Он ближе других. Главное, он добр и любит добро (бога). Amiel очень хорош.
1) Нынче, рубя дрова, вдруг живо вспомнил какое-то прошедшее состояние, очень незначительное, малое, ничтожное, вроде того, что ловил рыбу и был беззаботен, и это прошедшее показалось таким значительным, важным, радостным, что как будто такого уже никогда не может быть, и вместе с тем это только жизнь. Так что все мое стремление к жизни есть только стремление к этому. Так что моя жизнь, цепкость к жизни, не есть ли это смутное сознание того, что пережито мною в прежней, скрытой от меня за рождением жизни… Это кажется неясным, но je m’entends[130]. Я стремлюсь к такому же счастью в теперешней и будущей жизни, какое я знал в предшествующей.
2) К Amiel’y хотел бы написать предисловие*, в котором бы высказать то, что он во многих местах говорит о том, что должно сложиться новое христианство, что в будущем должна быть религия. А между тем сам, частью стоицизмом, частью буддизмом, частью, главное, христианством, как он понимает его, он живет и с этим умирает. Он как bourgeois gentilhomme fait de la religion sans le savoir*. Едва ли это не самая лучшая. Он не имеет соблазна любоваться на нее.
3) Если бы мне дали выбирать: населить землю такими святыми, каких я только могу вообразить себе, но только чтобы не было детей, или такими людьми, как теперь, но с постоянно прибывающими свежими от бога детьми, я бы выбрал последнее.
4) Тургеневское «Довольно» и «Гамлет и Дон-Кихот» — это отрицание жизни мирской и утверждение жизни христианской. Хорошую можно составить статью*.
Получил от Черткова письмо и был очень рад. Получил письмо Митрофана Алехина и Бодянского. Пишу им. Они в остроге*.
Почти месяц не писал. Сегодня 6 ноября. Все то же. Так же живет Попов, переписывает, а я по утрам пишу, выпускаю весь заряд и потом уж чуть брежусь. Иногда пишу письмо. За это время были письма от Хилкова. Работа идет над заключением. Приближаюсь к концу, но не конец.
Соня в Москве с детьми. Бывают дурные периоды. Один я пережил недели три тому назад, один недавно по отношению Попова. Возненавидел его. Но поборол, кажется. Его надо, должно любить, а я ненавижу. Лева в Петербурге. Я его все больше люблю. Девочек тоже. Отчет кончил. Думал за это время кое-что хорошее, которое забыл. Записано следующее:
1) Верочка подошла к шкапу, понюхала и говорит: как пахнет детством. Маша подошла: да, совершенно детство, и радостно улыбается. Я подошел, понюхал — а у меня очень тонкое чутье — ничем не пахнет. Они чувствуют чуть заметный запах, потому что этот запах соединился с сильным сознанием радости жизни. Если бы этот запах был еще слабее, если бы он был доведен до бесконечно малого, но совпадал бы с сильным чувством жизни, он был бы слышен. Все то, что пленяет нас к этой жизни, красота, это то, что соединилось с сильным сознанием жизни до рождения. Некоторое — потому, что оно нужно вперед, некоторое — потому, что оно прежде было. Впрочем, в истинной жизни нет ни прежде, ни после. Только то, что сильно чувствуешь, это какой-нибудь момент жизни. (Неясно.)
2) Что такое я (организм)? Я какой-то центр, в котором обменивается материя. Быстрота, энергия этого обмена материи совпадает с радостью жизни. Энергия эта все ослабевает, обмен все замедляется, замедляется и наконец прекращается, и центр переходит в другое место.
3) Если презирать человека, не будешь вполне добр к нему. Если ж очень уважать человека, тоже будешь слишком много требовать и не будешь вполне добр к человеку.
Для доброго отношения к человеку нужно презирать его, как слабое человеческое существо, и уважать его, как NN.
4) Злой человек! Негодяй, мерзавец, злодей! Преступник. Страшный! Люди слишком слабы и жалки, для того чтобы они могли быть злы. Все они хотят быть добры, только не умеют, не могут. Это неумение быть добрым и есть то, что мы называем злым.
От Страхова письмо о декадентах*. Ведь это опять искусство для искусства. Опять узкие носки и панталоны после широких, но с оттенком нового времени. Нынешние декаденты, Baudelaire, говорят, что для поэзии нужны крайности добра и крайности зла. Что без этого нет поэзии. Что стремление к одному добру уничтожает контрасты и потому поэзию. Напрасно они беспокоятся. Зло так сильно — это весь фон — что оно всегда тут для контраста. Если же признавать его, то оно все затянет, будет одно зло, и не будет контраста. Даже и зла не будет — будет ничего. Для того, чтобы был контраст и чтобы было зло, надо всеми силами стремиться к добру.
За это время был студент медицинской академии Соболевский, приехавший поправлять меня и внушить мне, что понятие о боге есть остаток варварства. Я постыдно горячился на его глупость и наговорил ему грубостей и огорчил его.
Если б. ж. 7 ноября. Ясная Поляна. 1892. Вчера был Поша из Бегичевки. Нужда там велика.
1893
[5 мая. Ясная Поляна. ] Страшно подумать, не писал с 6 ноября 1892, то есть полгода без дня. Все это время был напряженно занят своей книгой: последней главой*, и то еще не совсем кончил.
1893 г. Вчера 4 мая приехали в Ясную из Москвы, где жил с перерывом всю зиму. Благодаря напряженной работе (кажется, я ни одного дня не пропустил), я как будто опустился в своей физической жизни: именно в физической работе. Во многом же, в особенности в требованиях относительно неучастия в зле мира, утвердился. Много уяснилось за это время в продолжение работы: вопрос свободы воли: человек свободен в духовном, в том, что движет физическим.
Были за это время в Бегичевке. Равнодушие к пошлому делу помощи и отвращение к лицемерию. Сочувствие, выраженное моей деятельности, было радость перехода осудителя лицемерия в участники его.
События за это время: возвращение Левы из Петербурга и его болезнь. Отношения мои к остальным членам семьи те же. Два мальчика, Андрюша и Миша, в особенности Андрюша, в самом дурном и далеком от меня настроении. Маша увлеклась и опомнилась*. Теперь здесь Булыгин. Над ним и Раевым был суд, и они борются*. Вообще мне кажется, что борьба христианства и язычества у нас начинается, éclate[131]. Надо и знать и быть готовым. Нынче первый день, что я не пишу свою книгу. Что буду писать, еще не знаю. Много было мыслей за это время, которые пропадали. Вспоминаю:
1) Произведение драматического искусства, очевиднее всего показывающего сущность всякого искусства, состоит в том, чтобы представить самых разнообразных по характерам и положениям людей и выдвинуть перед ними, поставить их всех в необходимость решения жизненного, не решенного еще людьми вопроса и заставить их действовать, посмотреть, чтобы узнать, как решится этот вопрос. Это опыт в лаборатории. Это мне хотелось бы сделать в предстоящей драме*.
Теперь час дня. Иду обедать. Завтра писать.
14 мая. Ясная Поляна. 93. Пропустил неделю. Не видал, как прошла. Вчера отослал совсем*. Плохо, так плохо. Я заболел, и это меня особенно побудило кончить: я свободен. Перечитываю начатое. Не знаю еще, за что возьмусь. Очень я нехорош все это время. Недоволен своим положением, мучаюсь. Хочу перемены внешней. А этого не надо.
15 мая и 16, кажется. Ясная Поляна. 93. Написал вчера письмо Bellows, Бодянскому. Нынче Хилкову и [в] Екатеринослав Кондратьеву. Нездоровится, дурно сплю. Перечитал написанное. Детский рассказ забрал меня за живое. Хочется кончить*.
Думал: поразительно ограбление земли у нас в Херсонской, Самарской губернии и др.*. И великолепие Москвы, арки для встречи государя и иллюминация*. Или в Чикаго выставка* и обезлесение, омерщвление земли. И все это нам поправит наука искусственным дождем, производимым электричеством. Ужасно! Истребят 98% и восстановят 2.[…]
23 мая. 93. Бегичевка*. За это время пробовал писать «Дети», не шло. Не совсем поправился. Писал письма: Черткову, Попову, Янжулу и двум французам: Dumas и Schröder.
Нынче написал Рыбакову о том, что есть, то разумно, по его мнению. Трогательно наивно. Был страшно не в духе дома. Приезжали Сопоцько и Линденберг. Решил с Таней ехать 21. Поехали. Дорогой разговор с менонитами*. Вчера был в Татищеве. Бедность ужасна. Ужасен контраст. Ходил по тифозным и, к стыду — жутко.
У Вани естественнонаучные книги о почве, о пределах естествознания, о механическом анализе. Поразительно глупо то, что они говорят: например, Дюбуа Раймон*говорит, что естествознанию недоступно только значение силы, материи и сознания. А узнать все причины образования всего существующего, сводя это к движению атомов, — можно. Только забыл, что все происходит в бесконечном пространстве и времени. Или Докучаев. Называет почву организмом*. Или немец Mohl* говорит о трех фазисах земли, забывая, что переход из первого во второй зависел от появления органических тел, а мы не знаем, как они появились. Стало быть, и не имеем права говорить о первом фазисе. Не говоря уже о разногласии постоянном по всем вопросам. А какое страшное орудие затемнения нравственных требований. Я вижу это по Раевским. Чувствительные весы; анализ и т. п. Все это так важно, так же важно, как и евхаристия. Как надо написать про эту ложь. Думал за это время.
[…] 4) Только пробился лист на березах, и от теплого ветра пошла по ним веселая рябь. Вечер, смеркается после грозы. Лошади только пущены, жадно сгрызают траву, помахивая хвостами.
5) Вспоминал: что мне дал брак? Страшно сказать. Едва ли не всем то же.
6) Две условности одинаково сильны: для мужчины — снести пощечину без дуэли, для женщины — брак без церкви.
7) Не делайте вид, что меня судите, прощаете, смягчаете, угрожаете. Вы разбойники. Я в вашей власти, как Людовик XVI был во власти сапожников. Но с той разницей, что все, чем вы угрожаете мне, есть то самое, что мне желательно. Я живу только для исполнения воли бога, установления его царства: для установления его царства нужно гонение невинных. Чем больше гонения, тем очевиднее его истина. И потому все, что вы мне сделаете дурного — до пыток и казни, полезно для дела божьего я радостно для меня.
Теперь 12 часов. Хочу ехать в Козловку. Буду писать завтра, если буду жив.
[27 мая. Ясная Поляна. ] Не писал ни 25, ни 26. Пробыл там. Приехал Поша. Я был в Козловке, в Софьинке, в Бароновке и 28 приехал.
5 июня 93. Ясная Поляна. Все пытался писать послесловие*, связав его с определением жизни, как движение от неразумного к разумному, но не подвинулся, от физических ли, умственных ли причин, не знаю. За это время пытался работать: колья рубить, ходил к Булыгину.
[…] Иду сейчас в Тулу. За это время думал:
1) Поразила меня мысль о том, что одна из главных причин враждебного чувства мужей и жен — это соперничество их в деле ведения семьи.
Жене нужно не признавать мужа разумным и практичным, потому что, если бы она признавала его таковым, ей бы надо было делать его волю, и наоборот. Если бы я теперь писал «Крейцерову сонату», я бы выдвинул это.
[…] 3) Выставка Чикаго, как и все выставки, есть поразительный образчик дерзости и лицемерия: все делается для наживы и потехи: от скуки, а приписываются благие любвенародные цели. Оргии лучше.
[…] 6) Читал о статье Макса Нордау. Прекрасно говорит о том, что наша беллетристика должна сделаться скоро забавой женщин и детей, как танцы*.
7) Все это искусство, музыка, хорошо, но очевидно занимает неподобающее ей место.
[…] 10) Иду домой от Булыгина, пройдя двадцать верст, устал. Идут навстречу с песнями бабы. — Откуда? — Из Крыльцова. — Где были? — У поручика (за 10 верст) работали. — Зачем так далеко? — Да мы разве бы пошли, за лошадей по два дня отрабатывали. Попались лошади в Засеке. Они прошли десять верст туда, идут десять верст назад, там целый день работали. — Что ж, я чай, поругали поручика? — За что ж его ругать. Ха-ха. — И запели песни.
Всем ровно. Как нельзя в озере поднять в одном месте воду выше, чем в других, или спустить, так нельзя ни увеличить, ни уменьшить благо материальными средствами. (Сейчас еду в Тулу.)
10 июня. Ясная Поляна. 1893. Все это время ничего определенного не делал. Начинал послесловие, потом статьи о науке и искусстве*, теперь о письме Зола и Дюма*. Попов уехал, приехал Поша. Отношения с людьми все те же. За это время думал:
1) Люди признают, что наказания жестоки, но они говорят: это необходимо для поддержания существующего порядка. Но порядок-то существующий хорош ли? Нет, он дурен. Невозможен. Так что же его поддерживать?
2) Мой друг детства*, потерянный человек, пьяный, обжора, несчастный, ленивый, лживый, всегда, когда речь идет о детях, о воспитанье, приводит в пример свое детство и свое воспитание, как бы подразумевая бесспорно то, что результат, который дало его воспитание, служит доказательством его успешности. И он делает это невольно и не видит комичности этого. Так сильна любовь, предилекция к себе всех людей.
3) Думал к статье о науке. Чтобы понять то, что есть наука, надо исследовать, что она дает тем, которые получают ее, и что она для тех, которые творят ее (плохо).
4) Решить вопрос о том, хорошо ли, добро ли то, что мы признаем наукой и искусством, не шутка. Все воспитание молодых поколений основывается на том, что мы признаем наукой и искусством. […]
21 июня 1893. Ясная Поляна. Третьего дня отослал с Кузминским статью о письмах Зола и Дюма в «Revue de famille»*. Все это время развлекался мыслями между «Об искусстве», «Послесловием» и этой статьей. Пытался работать — слаб стал. Маша приехала. Я ей очень рад. Вчера — чего давно не было — был неприятный разговор с Соней. Они, бедные, страдают. Надо жалеть, а ты горячишься. Впрочем, даже так было тихо, что никому не заметно. Мне только больно очень. Думал за это время.
1) У всех детей и отцов зубы портятся исключительно в одних условиях. Что же? Вы думаете, причину, или когда им укажут эту причину, устранят ее? Нет, несмотря на то, что они страшно дорожат зубами, они будут продолжать жить так же, пломбируя себе зубы за большие деньги платиной и золотом. Сифилис и больницы, преступления и наказания, война и красный крест и мн. др.
2) Всего меньше мы понимаем поступки друг друга те, которые вытекают из тщеславия: не угадаешь, чем и перед кем он тщеславится, […]
[25 июня. ] Вчера 24 июня 93. Ясная Поляна. Думал:
1) Представил себе людей, для полноты мужчину и женщину — мужа [и] жену, брата [и] сестру, отца [и] дочь, мать [и] сына — богатого класса, которые живо поняли грех жизни роскошной и праздной среди нищеты и задавленности трудом народа и ушли из города, отдали кому-нибудь, так или иначе избавились от своего излишка, оставили себе в бумагах, скажем, 150 р. в год на двоих, даже ничего не оставили, а зарабатывают это каким-либо мастерством — положим, рисованием на фарфоре, переводы хороших книг, и живут в деревне, в середине русской деревни, наняв или купив себе избу и своими руками обрабатывая свой огород, сад, ходят за пчелами, и вместе с тем подавая помощь сельчанам медицинскую, насколько они знают, и образовательную — учат детей, пишут письма, прошения и т. п. Казалось бы, чего лучше такой жизни. Но жизнь эта будет адом и сделается адом, если люди эти не будут лицемерить, лгать, если они будут искренни.
Ведь если люди эти отказались от тех выгод и радостей, украшений жизни, которые им давали и город и деньги, то сделали они это только потому, что они признают людей братьями, равными перед отцом — неравными по способностям, достоинствам, если хотите, но равными в своих правах на жизнь и все то, что она может дать им. Если возможно сомненье о равенстве людей, когда мы их рассматриваем взрослыми, с отдельным прошедшим каждого, то сомненья этого уже не может быть, когда мы видим детей. Почему этот ребенок будет иметь все заботы, всю помощь знания для своего физического и умственного развития, а этот прелестный ребенок, с теми же и еще лучшими задатками, сделается рахитиком, вырожденным, полукарликом от недостатка молока и останется безграмотным, диким, связанным суевериями человеком, только грубой рабочей силой? Ведь если люди эти уехали из города и поселились жить так, как они живут в деревне, то только потому, что они не на словах, но на деле верят в братство людей и хотят если не осуществить, то осуществлять его в своей жизни. И эта-то попытка осуществления должна, если только они искренни, должна привести их в ужасное, безвыходное положение. С своими с детства приобретенными привычками порядка, удобства, главное, чистоты, они, переехав в деревню и наняв или купив избу, очистили ее от насекомых, может быть, даже сами оклеили ее бумажками, привезли остатки мебели, не роскошной, а нужной: железную кровать, шкаф, письменный столик. И вот они живут. Сначала народ дичится их: ожидает, как и от всех богатых, насилием ограждения своих преимуществ, и потому не приступает к ним с просьбами и требованиями. Но вот понемногу настроение новых жителей уясняется: сами они вызываются служить безвозмездно, и самые смелые, назойливые люди из народа опытом узнают, что новые люди эти не отказываются и можно поживиться около них. И вот начинаются заявления всякого рода требований, которых становится все больше и больше. Начинается как бы рассыпание и разравнивание возвышающегося над общим уровнем зерна до тех пор, пока не будет возвышения. Начинаются не только выпрашивания, но и естественные требования поделиться тем, что есть лишнего против других. И не только требования, но сами поселившиеся в деревне люди, войдя в близкое общение с народом, чувствуют неизбежную необходимость отдавать свои излишки там, где есть крайняя нужда. Но мало того, что они чувствуют необходимость отдавать свой излишек до тех пор, пока у них останется то, что должно быть у всех, то есть у среднего — определения этого среднего, того, что должно быть у всех, нет никакого, — и они не могут остановиться, потому что всегда вокруг них есть вопиющая нужда, а у них излишек против этой нужды.
Казалось бы, нужно удержать себе стакан молока, но у Матрены двое детей, грудной, не находящий молока в груди матери, и двухлетний, начинающий сохнуть. Казалось, подушки и одеяло можно бы удержать, чтобы заснуть в привычных условиях после трудового дня, но больной лежит на вшивом кафтане и зябнет ночью, покрываясь дерюжкой. Казалось, можно бы удержать чай, пищу, но ее пришлось отдать странникам, ослабевшим и старым. Казалось, можно бы удержать хоть чистоту в доме. Но пришли нищие мальчики, и их оставили ночевать, и они напустили вшей, которых они только что с трудом вычесали, придя от больного.
Нельзя остановиться, и где остановиться? Только те, которые не знают совсем того чувства сознания братства людей, вследствие которого эти люди приехали в деревню, или которые так привыкли лгать, что и не замечают разницу лжи от истины, скажут, что есть предел, на котором можно и должно остановиться. В том-то и дело, что предела этого нет, что то чувство, во имя которого делается это дело, таково, что предела ему нет, что если есть ему предел, то это значит только то, что этого чувства совсем не было, а было одно лицемерие.
Продолжаю себе представлять этих людей. Они целый день работали, вернулись домой. Кровати у них уже нет, подушки нет, они спят на соломе, которую достали, и вот, поев хлеба, легли спать. Осень, идет дождь с снегом. К ним стучатся. Могут ли не отпереть? Входит человек, мокрый и в жару. Что делать? Пустить ли его на сухую солому? Сухой больше нет. И вот приходится или прогнать больного и положить его мокрого на полу, или отдать свою солому и самому, потому что надо где-нибудь спать, лечь с ним. Но и этого мало: приходит человек, которого вы знаете за пьяницу и развратника, которому вы несколько раз помогали и который всякий раз пропивал то, что вы ему давали, приходит теперь с дрожащими челюстями и просит дать ему 3 р., которые он украл и пропил и которые, если он не отдаст, его посадят в тюрьму. Вы говорите, что у вас только и есть 4 р. и они необходимы вам завтра для уплаты. Тогда пришедший говорит: «Да, это, значит, все только разговоры, а когда дело до дела, то вы такие же, как и все: пускай погибает тот, кого мы на словах считали братом, только бы мы были целы».
Как тут поступить? Что сделать? Положить лихорадочного больного на сыром полу, а самим лечь на сухое, еще хуже не заснешь. Положить его на свою постель и лечь с ним: заразиться и вшами и тифом. Дать просящему последние 3 рубля — значит остаться завтра без хлеба. Не дать, значит, как он и говорит: отречься от того, во имя чего живешь. Если можно остановиться здесь, то почему не остановиться было раньше. Почему было помогать людям? Зачем отдавать состояние, уходить из города? Где предел? Если есть предел тому делу, которое ты делаешь, то все дело не имеет смысла, или имеет только один ужасный смысл лицемерия.
Как тут быть? Что делать? Не остановиться, значит, погубить свою жизнь, завшиветь, зачахнуть, умереть, и без пользы как будто. Остановиться, значит, отречься от всего того, во имя чего делаешь то, что делаешь, во имя чего делал что-либо доброе. И отречься нельзя, потому что ведь это не выдумано мною или Христом, что мы братья и должны служить друг другу: ведь это так. И нельзя вырвать этого сознания из сердца человека, когда оно вошло в него. Как же быть? Нет ли еще какого выхода? И вот представим себе, что люди эти, испугавшись того положения, в которое их ставила их необходимость жертвы, приводящей к неизбежной смерти, решили, что их положение происходит оттого, что средства, с которыми они пришли на помощь народу, слишком малы и что этого не было бы и они принесли бы большую пользу, если бы у них было много денег.
И вот представим себе, что люди эти нашли источники помощи, собрали большие, огромные суммы денег и стали помогать. И не прошло бы недели, как случилось бы то же самое. Очень скоро все средства, как велики бы они ни были, разлились бы в углубления, которые образовала бедность, и положение осталось бы то же.
Но, может быть, есть еще третий выход. И есть люди, которые говорят, что он есть и состоит в том, чтобы содействовать просвещению людей, и тогда уничтожится это неравенство. Но выход этот слишком очевидно лицемерный. Нельзя просвещать население, которое всякую минуту находится на краю погибели от голода, а главное, неискренность людей, проповедующих этот выход, видна уже потому, что не может человек, стремящийся к установлению равенства хотя бы через науку, поддерживать это неравенство всей своей жизнью. Но есть еще четвертый выход, тот, чтобы содействовать уничтожению тех причин, которые производят неравенство, содействовать уничтожению насилия, производящему его. И выход этот не может не прийти в голову тем искренним людям, которые будут пытаться в жизни своей осуществлять свое сознание братства людей.
«Если мы не можем жить здесь, среди этих людей, в деревне, — должны будут сказать себе те люди, которых я представляю себе, — если мы поставлены в то ужасное положение, что мы неизбежно должны зачахнуть, завшиветь и умереть медленной смертью или отказаться от единственной нравственной основы нашей жизни, то это происходит оттого, что у одних скопление богатств, у других нищета; неравенство же это происходит от насилия, и потому, так как основа всего — это насилие, то надо бороться против него». Только уничтожение этого насилия и вытекающего из него рабства может сделать возможным такое служение людям, при котором не было бы неизбежности жертвы всей своей жизнью.
Но как уничтожить это насилие? Где оно? Оно в солдате, в полицейском, в старосте, в замке, которым запирают мою дверь. Как же мне бороться с ним? Где, в чем? И вот тут-то есть люди, все живущие насилием, и борющиеся с насилием, и насилием же борющиеся с ним. Но для человека искреннего это невозможно. Насилием бороться с насилием, значит, ставить новое насилие на место старого. Помогать просвещению, основанному на насилии, значит, делать то же самое. Собрать деньги, приобретенные насилием, и употреблять их на помощь людей, обделенных насилием, значит, насилием лечить раны, произведенные насилием. Даже в том случае, который я представлял себе: не пустить больного к себе и на свою постель и не дать 3 рубля, потому что я силою могу удержать их, есть тоже насилие. И потому борьба с насилием не исключает необходимости в нашем обществе человеку, желающему жить по-братски, отдать свою жизнь, завшиветь и умереть, но при этом борясь с насилием: борясь проповедью ненасилия, обличением насилия и, главное, примером ненасилия и жертвы.
Как ни страшно и ни трудно положение человека, живущего христианской жизнью среди жизни насилия, ему нет другого выхода, как борьба и жертва — жертва до конца. Надо видеть ту пучину, которая разделяет завшивевших, заморенных миллионы людей с перекормленными, в кружевах, другими людьми, и, чтобы заполнить ее, нужны жертвы, а не то лицемерие, которым мы теперь стараемся скрыть от себя глубину этой пропасти.
Человек может не найти в себе сил броситься в эту пропасть, но миновать ее нельзя ни одному человеку, ищущему жизни. Можно не идти в нее, но так и знать и говорить, а не обманывать себя, не лицемерить.
Да и нет, совсем не так страшна эта пучина. И если страшна, то страшнее те ужасы, которые предстоят нам на пути мирской жизни.
На днях были известия, справедливые ли, нет (в этих случаях любят выдумывать), что адмирал Тройон для соблюдения чести (честь флота, предназначенного на убийство), чести флота, отказался спастись и, как герой (скорее, как дурак), умер с своим кораблем*. Ведь умереть от вшей, заразы, нужды, помогая людям и отдавая последнее, меньше шансов, чем умереть на маневрах, на войне.
Ведь эти вши, и черный хлеб, и нужда кажутся так страшны. Ведь дно нужды не глубоко, и мы часто, как тот мальчик, который с ужасом провисел целую ночь на руках в колодце, в который он упал, боимся воображаемой глубины и воды: под мальчиком на пол-аршина ниже было сухое дно.
Но не надо надеяться на это дно, надо идти на смерть. Только та любовь, для которой нет конца жертвам до самой смерти.
Нынче 18 июля. Бегичевка. 1893. Ужасно давно не писал. За это время писал статью о письмах Зола и Дюма, Все еще не отослал. Поехал в Бегичевку 10-го. И хорошо здесь прожили. Заканчивал дело*. Думал очень много и хорошего и забывал. Запишу кое-что.
[…] 4) Если бы кто сомневался в неразделимости мудрости и самоотречения, тот пусть посмотрит, как на другом конце всегда сходятся глупость и эгоизм.
5) Форма романа не только не вечна, но она проходит. Совестно писать неправду, что было то, чего не было. Если хочешь что сказать, скажи прямо. […]
19 июля. Продолжаю:
7) Есть две улыбки: одна радости, это хорошая, другая насмешливости: а) над другими, б) над собой, почти стыда; обе дурные.
[…] 11) Искусство, говорят, не терпит посредственности. Оно еще не терпит сознательности. Я певец, напомадился, надел фрак и галстуки и буду, стоя на эстраде, петь вам. И я весь похолодел, и мне противно. А кормилица с нянькой идут по саду и тихим голосом одна напевает, другая вторит народную песню. Кроме того, громко петь хорошо страшно трудно.
Нынче 16 августа 1898. Ясная Поляна. Почти месяц. И очень много пережил. Во-первых, кончил дело голодающих. Во-вторых, были Чертков, Поша. Кончил и отослал статью «Неделание» и по-французски и по-русски*, и в-третьих, главное, появилась за границей выписка из этой книги об орловском деле, и началась суета, и воздействия, и ложные понимания, и клевета*. Вчера Соня и Кузминские читали и указали мне на неточности: 1) то, что вешают в деревне, 2) что всегда секут, 3) обиды Зиновьеву. (Зиновьев прочел в Стокгольме и очень обижен, огорчен, озлоблен*.) Нынче послали телеграммы, прося приостановить печатание всеми переводчиками*. Кажется, поздно. Нынче ночью проснулся и стал мучительно думать. Так же мучительно думал и с вечера. И все хуже, хуже и был на границе нервного расстройства.
[…] Думал: 1) Бывает, что человек вдруг с раздражением начинает защищать положение самое, на ваш взгляд, неважное. Вам кажется: это кирпич, и вся цена ему 3 к. Но для него этот кирпич есть замок свода, на котором построена вся его жизнь.
[…] 4) Не только всякое сумасшествие есть дошедший до последнего предела эгоизм, самодовольство, самовозвеличение (мания величия), но всякое ослабление духовной силы выражается увеличивающимся эгоизмом, самодовольством и самовозвеличением, исключительностью заботы о себе.
5) Разговор с социал-демократами (юноши и девицы). Они говорят: «Капиталистическое устройство перейдет в руки рабочих, и тогда не будет уже угнетания рабочих и неправильного распределения заработка». «Да кто же будет учреждать работы, управлять ими?» — спрашиваю я. «Само собой будет идти, сами рабочие будут распоряжаться». — «Да ведь капиталистическое устройство установилось только потому, что нужны для всякого практического дела распорядители с властью. Будет дело, будет руководство, будут распорядители с властью. А будет власть, будет злоупотребление ею, то самое, с чем вы теперь боретесь».
6) Что лучше мужчине и женщине: кокетничая, сходиться на бале или над постелью тифозного больного? Первое лучше.
7) Никак нельзя сказать, не только полезна или бесполезна жизнь, которую ведет человек; но нельзя даже сказать, радостна она или нет. Это узнается только впоследствии, когда она вся видна будет. То же, что в работе. Спросите пахаря во время работы, радостна ли его жизнь. Он не знает и скорее думает, что радостна жизнь праздная богача, а спросите, когда он старик и вспоминает о своей жизни.
8) Августа 11, утро. Голубая дымка, роса как пришита на траве, на кустах и деревьях на сажень высоты. Яблони развисли от тяжести. Из шалаша пахучий дымок свежего хвороста. А там, в ярко-желтом поле, уже высыхает роса на мелком овсяном жнивье и работа, вяжут, возят, косят, и на лиловом поле пашут. Везде по дорогам и на сучках деревьев зацепившиеся выдернутые, сломанные колосья. В росистом цветнике пестрые девочки, тихо напевая, полют, лакеи хлопочут в фартуках. Комнатная собака греется на солнце. Господа еще не вставали. […]
23 августа 1893. Ясная Поляна. Пропустил пять дней. Был Страхов и Salomon. Беспокойство мое затихло. Но праздность не прекращается. Пытаюсь писать о религии*, но не идет. Нынче был посланный от Кудрявцева за статьей*. Я написал ему. Написал Дунаеву, Черткову, Лёвенфельду. С Страховым был неприятный разговор. Он говорит, что не видит необходимой связи между богатством богатых и нищетой бедных. Это удивительно. Нынче был в Овсянникове. Нет охоты писать, нет напряжения. А казалось бы, как много нужно и как много готово. Думал за это время:
[…] 3) Представлял себе, как прокурор или жандарм будет требовать от меня подписки не писать или чего подобного, говоря, что у меня на это высочайшее повеление. Не может быть высочайшее, потому что у меня высочайшее — защищать братьев своих и обличать их гонителей. Есть только два средства заставить замолчать меня: или то, чтобы перестать делать то, что я обличаю, или убить меня, или запереть навек; действительно только первое, и потому скажите тем, кто вас послал, чтобы они перестали делать то, что делают.
[…] 5) Противники христианства в жизни говорят: вы хотите уродства, разрушения всего. Посмотрите, как правильно и красиво идет наша жизнь. А послушаться вас, и будет разгром. Это все равно, что те люди, которые подштукатурят и подкрасят заваливающийся дом и, указывая на вырытые ямы для фундамента нового, скажут: вот, чего вы хотите.
6) С Страховым разговор: он хочет во всем находить хорошее и, по крайней мере, не пропускать его там, где оно есть. Но дело в том, что, как ни опасно пропустить хорошее, не оценив его, еще опаснее признать хорошим и удерживать то, что мы призваны всей нашей жизнью уничтожать и заменять. На ноже ходить.
7) Другой разговор с Страховым о том, что, как дошли люди теперь до обеспеченья каждого человека от насилия, грабежа, убийства, от диких зверей, так теперь пора дойти до обеспеченья каждого человека от голодной смерти. Это теперь предполагается только, но этого нет. Как скоро правительство берет в свое ведение человека, оно его кормит.
Теперь 9 часов вечера. Я устал очень, дурно спал. Нездоровится.
Страшно взглянуть на последнее число, записанное в дневнике, так давно я не писал: ровно месяц. Нынче 5 октября. Ясная Поляна. 93. Что было за это время? Лева все не поправляется*. Борьба с Машей. Я написал Зандеру, он написал мне. Маша написала ему нехорошо. Это очень огорчило меня. Надо не мешать им жить, не мешать им ошибаться, не мешать им страдать и каяться и идти этим вперед*. Таня уехала в Москву на смену Соне. Теперь Соня едет. Попов здесь. Мы с ним по немецкому Штраусу переводили Лаотзи. Как хорошо! Надо составить из него книжку*. Все время писал статью о религии. Как будто кончил. Написал еще начерно статью о Мопассане*. Вот и все. Мало думал и мало записывал. Вот что:
1) Наука — тюрьмоведение.
2) Есть два рода умов: один ум логический, эгоистический, узкий, длинный, и другой — чуткий, сочувствующий, широкий, короткий.
3) Есть два способа познавания внешнего мира: один самый грубый и неизбежный способ познавания пятью чувствами. Из этого способа познания не сложился бы в нас тот мир, который мы знаем, а был бы хаос, дающий нам различные ощущения. Другой способ состоит в том, чтобы, познав любовью к себе себя, познать потом любовью к другим существам эти существа; перенестись мыслью в другого человека, животное, растение, камень даже. Этим способом познаешь изнутри и образуешь весь мир, как мы знаем его. Этот способ есть то, что называют поэтическим даром, это же есть любовь. Это есть восстановление нарушенного как будто единения между существами, Выходишь из себя и входишь в другого. И можешь войти во все. Всё — слиться с богом, со Всем.
[…] 8) Говорят, одна ласточка не делает весны; но неужели оттого, что одна ласточка не делает весны, не лететь той ласточке, которая уже чувствует весну, а дожидаться. Так дожидаться надо тогда и всякой почке и травке, и весны не будет.
9) Да, добро только тогда, когда не знаешь, что его делаешь. Как только оглянулся, как в сказке о добывании живой воды, поющего дерева, так и пропало то, что добыл. Чтоб левая не знала, что делает правая — не предписание, а утверждение того, что когда левая знает, то это уже не добро.
[..] 15) Мужья ненавидят именно своих жен, как Лессинг сказал: была одна дурная женщина, и та моя жена*. В этом виноваты сами женщины своей лживостью и комедиантством. Они все играют комедию перед другими, но не могут продолжать играть ее за кулисами перед мужем, и потому муж знает всех женщин разумными, добрыми, одну только свою знает не такой.
Вот и все. События были еще то, что «Revue des Revues» напечатала скверный перевод «Неделания», и это меня огорчило, и еще то, что я уже недели три совсем бросил чай, кофе, сахар и, главное, молоко и чувствую себя только бодрее. Вечер 10 ч.
Почти месяц не писал. Нынче 3 ноября 1893. Ясная Поляна. Мы живем одни с Машей уже вторую или третью неделю. Очень хорошо. Она совсем успокоилась. Лева едет за границу. Ему не лучше. «Le salut est en vous» вышло*. Я кончил о религии. Написал «Тулон»* и не посылаю. За это время мало думал, и если и думал, то не записал. Записано только следующее:
[…] 4) Жить до вечера и до веку. Жить так, как будто доживаешь последний час и можешь успеть сделать только самое важное. И вместе с тем так, как будто то дело, которое ты делаешь, ты будешь продолжать делать бесконечно.
5) Не думай никогда, что ты не любишь или что тебя не любят. Это только нарушена чем-то всегда существовавшая и существующая любовь между тобой и людьми, и тебе надо только постараться устранить то, что нарушает эту вечно связывающую между собой людей любовь — которая всегда есть.
Нынче 22 декабря 1893. И я уже более месяца в Москве*. И ни разу не писал. Мне тяжело, гадко. Не могу преодолеть себя. Хочется подвига. Хочется остаток жизни отдать на служение богу. Но он не хочет меня. Или не туда, куда я хочу. И я ропщу. Эта роскошь. Эта продажа книг*. Эта грязь нравственная. Эта суета. Не могу преодолеть тоски. Главное, хочу страдать, хочу кричать истину, которая жжет меня.
За это время многое было. Первое то, что меня перетащили сюда. Соня так страдала, томилась, так видно это было по ее письмам, что я приехал. Другое, это то, что написал предисловие к Амиелю*. Третье — это тяжелая, некончающаяся работа над «Тулоном», которую я не могу бросить. Написал еще притчи — не кончил*. От Левы хорошие письма. Вот новая радость. Девочки ни то ни се. Маша медицина — Таня живопись*. На днях был тут музыкант Шор. Мы с ним говорили о музыке, и мне в первый раз уяснилось истинное значение искусства, даже драматического. Это будет первое из того, что я думал за это время.
События были за это время еще: книга Sabbatier о Франциске*. Подняло во мне воспоминания о прежней страстности добра, полного, на деле, жизнью исполнения истины, потом Amiel, которого я перечитывал, и теперь новая книга Williams’a «True son of liberty»*. Прекрасно. Вызвало желание писать драму. Думаю иногда, что я вышел уже и не в силах писать. И мне грустно, точно как будто я и умирая буду писать и после смерти тоже. Недаром я записал в своей книжечке, скоро после приезда в Москву, что я забыл бога. Как страшно это забыть бога. А это делается незаметно. Дела для бога подмениваются делами для людей, для славы, а потом для себя, для своего скверного себя. И когда ткнешься об эту скверность, хочется опять подняться.
1) Неясность определения искусств, музыки, например, происходит оттого, что мы хотим приписать им значение, соответственное тому несвойственному им высокому положению, в которое мы их поставили. Значение их: 1) помощь для передачи своих чувств и мыслей словом; вызывание настроения, соответствующего тому, что передается, я 2) безвредное и даже полезное, в сравнении со всеми другими, следовательно, полезнейшее из всех других удовольствий.
2) По свежезамерзшему льду можно пройти напросте, но если надо нести тяжесть, надо проломать лед до старого. Или, чтобы строить дом, надо выкопать. Не выходит эта притча.
[…] 7) Либералы у нас точно раскольники-старообрядцы. Все это кристаллизировало, окаменило их принципы. И они понимают только свое отношение к правительству; спор о перстах и т. п. Иное же отношение к тому, с чем они борются, кажется им не только чуждым, но враждебным. […]
1894
Гриневка. Опять месяц и два дня, что не писал. Нынче 24 января 1894 года. Гриневка. У Илюши. Он за границей. Тяжело прожил этот месяц. Писал все только «Тулон». Немного подвинулся. Но вообще плохо. События за это время: 1) то, что недели три тому назад написал письмо государю о Хилкове и его детях*. Ждал какого-нибудь ответа и радовался своей свободе. Письмо нехорошо. Больше сознания своей независимости, чем любви. 2) То, что, работая — воду возить — перенатужился в мороз, и что-то сделалось в груди. И с тех пор слабость и близость смерти стала гораздо ощутительнее. 3) Глупое положение на съезде натуралистов, которое было мне очень неприятно*. 4) Тяжесть от пустой, роскошной, лживой московской жизни и от тяжелых или, скорее, отсутствующих каких-либо отношений с женой особенно давила меня. Она не могла, потом не захотела понять, и этот грех ее мучает ее и меня, главное, ее. Девочки хороши. От них и от Левы радость. Последнее письмо от Левы. Он сердится на меня за то, что я допускаю эту безобразную жизнь, портящую подрастающих детей. Я чувствую, что я виноват. Но виноват был прежде. Теперь же уже ничего не могу сделать. Соня-сноха* осталась одна, и мы решили ехать к ней. Опять то же дерганье, мучительство.
Господи, помоги мне. Научи меня, как нести этот крест. Я все готовлюсь к тому кресту, который знаю, к тюрьме, виселице, а тут совсем другой — новый, и про который я не знаю, как его нести. Главная особенность и новизна его та, что я поставлен в положение невольного, принужденного юродства, что я должен своей жизнью губить то, для чего одного я живу, должен этой жизнью отталкивать людей от той истины, уяснение которой дороже мне жизни. Должно быть, что я дрянь. Я не могу разорвать всех этих скверных паутин, которые сковали меня. И не оттого, что нет сил, а оттого, что нравственно не могу, мне жалко тех пауков, которые ткали эти нити. Нет, главное, я дурен: нет истинной веры и любви к богу — к истине. А между тем, что же я люблю, если не бога — истину?
Познакомился с женой Хилкова. Та же женщина без нравственного двигателя. Еще с Волкенштейном и Меньшиковым: оба внешние, хорошие, добрые, умные последователи — особенно Меньшиков.
За это время думал:
1) Никак не отделаешься от иллюзии, что знакомство с новыми людьми дает новые знания, что чем больше людей, тем больше ума, доброты, как чем больше вместе углей горящих, тем больше тепла. С людьми ничего подобного: всё те же, везде те же. И прежние и теперешние, и в деревне и в городе, и свои и чужие, и русские, и исландцы, и китайцы. А чем больше их вместе, тем скорее тухнут эти уголья, тем меньше в них ума, доброты.
2) В книге Чичерина доказывается философски, что сущность христианства есть вочеловечение, искупление, воскресение*. Нечто подобное же доказывается философски же в статье Александра Введенского*. Это доказывает только то, что на философском жаргоне можно доказывать, что хотите, и потому ничего нельзя доказать.
[…] 5) Приехали к Илюше. С утра вижу, по метели ходят, ездят в лаптях мужики, возят Илюшиным лошадям, коровам корм, в дом дрова. В доме старик повар, ребенок-девочка работают на него и его семейство. И так ясно и ужасно мне стало это всеобщее обращение в рабство этого несчастного народа. И здесь, и у Илюши — недавно бывший ребенок, мальчик — и у него те же люди, обращенные в рабов, работают на него. Как разбить эти оковы. Господи! помоги мне, если ты открыл мне это так ясно и так нудишь меня. […]
[9 февраля. Ясная Поляна. ] Уехали от Сони Толстой 1-го. Мне было очень хорошо там. Я полюбил ее. Приехав сюда, узнал, что тут Хохлов, и стало очень неприятно. Надо было бороться. Все эти дни здесь были посетители. Сначала Поша, который только радостен, потом M. H. Чистяков с Тарабариным, мужиком рационалистом. Он был только день, и было только приятно; потом Емельян. Этот очень понравился всем нам. А мне был особенно интересен тем, что уяснил мне смысл сектантства. Он старший был и отказался. Все молокане, штундисты одинаково организованы и заимствуют свою организацию друг у друга. Та же внешняя обрядность и подчиненность власти, как и у православных, и потому то же подобие благочестия, т. е. лицемерие. Потом вчера приехал Ге старший. Он увлекается искусством.
Нынче 9 февраля 1894. Ясная Поляна. Все та же во мне слабость физическая и умственная. Работа «Тулона» идет все так же плохо. Много есть концов средних, но нет настоящего сильного. Может быть, оттого, что начало легкомысленно. Мне продолжает быть серьезно и значительно. Дрожжин умер, замученный правительством*. От государя никакого ответа, и неизвестно, читал ли он*. Чертков был нездоров, теперь поправился и пишет, но не приезжает уже. Думал за это время с ужасной силой о значении своей жизни, но высказать не могу и 1/100 того, что чувствовал! Думал:
[…] 3) Ясно пришла в голову мысль повести, в которой выставить бы двух человек: одного — распутного, запутавшегося, павшего до презрения только от доброты, другого — внешне чистого, почтенного, уважаемого от холодности, не любви*.
Очень вял и слаб.
[23 марта. Москва. ] И я жив. Почти 1½ месяца не писал в эту тетрадь. За все это время писал «Тулон» и дней пять тому назад кончил и решил не переводить и не печатать. И это облегчило меня*. Поша вернулся. Была Хилкова. Письмо не имело никакого действия — скорее, вредное.
Событие и важное и тяжелое — это установившиеся у Тани отношения с —*. Самые чистые, хорошие дружеские отношения, но исключительные. Это было скрытое влюбление. Она мне сказала, и я говорил с ним. Они решили откинуть все излишнее, исключительное. Он уехал. Во мне это возбуждает мучительное и скверное чувство — унижение за нее. Таня ездила к Леве в Париж, и вот с неделю как они приехали. Он хорош, нравственен, но болезнь все гнетет его. С Соней отношения хороши, но… Я собираюсь ехать к Черткову. Занимаюсь опять теорией искусства, по случаю предисловия к Мопассану*. Предисловие тоже не выходит. Многое хочется писать, но как будто сил нет. Надо попробовать чисто художественное. Думал за это время:
[…] 2) Художественное произведение есть то, которое заражает людей, приводит их всех к одному настроению. Нет равного по силе воздействия и по подчинению всех людей к одному и тому же настроению, как дело жизни и, под конец, целая жизнь человеческая. Если бы столько людей понимали все значение и всю силу этого художественного произведения своей жизни! Если бы только они так же заботливо лелеяли ее, прилагали все силы на то, чтобы не испортить его чем-нибудь и произвести его во всей возможной красоте. А то мы лелеем отражение жизни, а самой жизнью пренебрегаем. А хотим ли мы, или не хотим того, она есть художественное произведение, потому что действует на других людей, созерцается ими.
3) Терять людей?! Мы говорим: я потерял жену, мужа, отца, когда они умерли. Но ведь часто и очень часто бывает, что мы теряем людей, которые не умирают: так расходимся с ними, что они хуже, чем умерли. А напротив, часто, когда люди умирают, мы тогда-то и находим их, сближаемся с ними.
[…] 5) Красотой мы называем теперь только то, что нравится нам. Для греков же это было нечто таинственное, божественное, только что открывавшееся.
[…] 7) Часто за это последнее время, ходя по городу и иногда слушая ужасные, жестокие и нелепые разговоры, приходишь в недоумение, не понимаешь, чего они хотят, что они делают, и спрашиваешь себя: где я? Очевидно, дом мой не здесь. […]
21 апреля 1894. Москва. Почти месяц не писал. За это время были у Черткова с Машей. Прекрасная поездка. И у Чертковых и у Русановых*. Отравило поездку распутывание Таниного тяжелого дела. Как они, бедные, слабы! (Так же, как и мы.) Читал их дневники. Мучительно было и хорошо. Это сблизило меня с Таней еще больше. Она мне импонировала своей привлекательностью и грацией. А она такая маленькая, шаткая, слабая, но милая девочка. Они обе как-то опустились. Впрочем, так же, как и все мы. Мне все кажется, что мы все уяснили себе, свое положение, свое призвание, и приготовились к делу, к борьбе, к жертве, а борьбы и жертвы и усилий нет, и нам скучно. Правда, мы и сами виноваты тем, что не умели освободиться, не нарушая любви, от соблазнов, а от этого нам нет дела. Но мы или виноваты, или нет, дело в том, что нам нет дела, кроме желания распространения. А это не дело — это делается само собою. Надо ждать твердо, будучи готовым к тому часу, когда призовешься к действию. Полюбил и оценил Галю. Очень полюбил Русанову и ее детей.
Лева поправляется. С ним так же близки, но почему-то не так, иначе, чем с девочками. Был Сережа. С ним был разговор тяжелый очень. У него озлобление на меня и за девочек, за то, что они движутся, а он нет. Самоуверенный, с несоизмеримым знаменателем*. Но зато какая бы радость, если бы он опомнился! Илюша — дитя, но старательно поддерживающий — к несчастью, до сих пор есть на это средства — в себе ошаление. С Соней хорошо. Вчера думал: наблюдая ее отношение к Андрюше и Мише. Какая это удивительная мать и жена в известном смысле. Пожалуй, что Фет прав, что у каждого та самая жена, какая нужна ему. Андрюша весел и добр, но глуп, подражателен и тщеславен. Миша был очень неприятен мне за эгоизм, теперь лучше.
За все это время писал предисловие к Мопассану, кажется, уяснилось вполне, и еще катехизис*, который напрасно затеял, не окончив начатого. А тут еще статья об искусстве, которую мне дал Чертков и которую я одобрил, но теперь опять стал поправлять. «Тулон» решил послать переводчикам. Все одобряют.
За это время думал:
[…] 2) Ужасно смотреть на то, что богатые-люди делают с своими детьми. Когда он молод, и глуп, и страстен, его втянут в жизнь, которая ведется на шее других людей, приучат к этой жизни, а потом, когда он связан по рукам и по ногам соблазнами — не может жить иначе, как требуя для себя труда других, — тогда откроют ему глаза (сами собой откроются глаза). И выбирайся, как знаешь: или стань мучеником, отказавшись от того, к чему привык и без чего не можешь жить, или будь лгуном. […]
[3 мая, Ясная Поляна. ] Читал вчера поразительную по своей наивности статью профессора Казанского университета Капустина о вкусовых веществах*. Он хочет показать, что все, что люди употребляют: сахар, вино, табак, опиум даже, — необходимо в физиологическом отношении. Эта глупая, наивная статья была мне в высшей степени полезна; она ясно показала мне, в чем лицемеры науки полагают дело науки. Не в том, в чем она должна быть: определении того, что должно быть, а в описании того, что есть. Совершенное извращение науки совершилось именно со времени экспериментальной опытной науки, то есть науки, которая описывает то, что есть, и потому не наука, потому что то, что есть, мы все так или иначе знаем и описание этого никому не нужно. Люди пьют вино, курят табак, и наука ставит себе задачей физиологически оправдать употребление вина и табаку. Люди убивают друг друга, наука ставит себе задачей оправдать это исторически. Люди обманывают друг друга, отнимают для малого числа землю или орудия труда у всех, и наука экономически оправдывает это. Люди верят в нелепицы, и теологическая наука оправдывает это.
Задачей науки должно быть познание того, что должно быть, а не того, что есть. Теперешняя же наука, напротив, ставит себе главной задачей отвлечь внимание людей от того, что должно быть, и привлечь его к тому, что есть и что поэтому никому знать не нужно.
Сегодня 3 мая 1894. Ясная Поляна. Приехали сюда с Машей. Провожали нас Соловьев и Ярошенко, с которым приятно сблизился. Я почувствовал себя нездоровым с первого дня. Маша на другой день слегла. Теперь ей лучше. Вчера приехали Таня, Вера и Ге. Я был непокоен о Тане. Все время ничего не мог писать. Нынче утром делал пасьянсы и думал. Все думал о катехизисе. Это гораздо — как всегда бывает — серьезнее, и важнее, и труднее, чем я думал. […]
Нынче 15 мая. Ясная Поляна. 94. Целую неделю и больше нездоров. Началось это, мне кажется, с того дня, как меня расстроила печальная выходка Сони о Черткове*. Все это понятно, но было очень тяжело. Тем более, что я отвык от этого и так радовался восстановившемуся — даже вновь установившемуся — доброму, твердому, любовному чувству к ней. Я боялся, что оно разрушится. Но нет, оно прошло, и то же чувство восстановилось. Ее нет. Она приезжает послезавтра. Тут Таня, Лева, Маша, Саша, Ванечка. Все очень милы и радостны. Был американец Crosby. He знаю, как определить его. Хороши книги Kenworthy. Написал ему глупое письмо* и еще много писем. Прекрасная статья Адлера о четырех страданиях, которые все учительны и могут быть приняты, как благо: нужда, болезнь, горе и грех*.
Ничего не писал. Слаб. Катехизис мало подвинулся, но, кажется, выйдет. Начал поправлять Лаотцы*. Нынче художественное поэтично думал. За это время записано только одно:
1) Благо матерьяльное себе приобретается только в ущерб другим. Благо духовное — всегда через благо других.
Нынче 2 июня 1894. Ясная Поляна. Сейчас получил телеграмму о смерти Ге*. Не пишутся слова: смерть Ге. Как все-таки мы слепы и видим только то, что нам кажется. Так, нам кажется, нужен был он с своими проектами и планами. Но нет. Я его очень — не хочу говорить: любил, очень люблю, но все-таки мне казалось, что он, хотя далеко не кончил в смысле художественном, далеко не кончил в смысле христианского развития движения. Страшно писать это. Но это казалось мне. Мне ужасно жалко его. Это был прелестный, гениальный старый ребенок. […]
13 июня 1894. Ясная Поляна. Мне казалось, что прошло два дня, а прошло больше десяти дней. За это время ездил к Булыгину*. Он очень силен. Ему прислала жена гостинцев. Он отослал назад, прося прислать только того, что можно поделить со всеми. Приехала Машенька, сестра, Вера, был Сережа. Самое важное событие — смерть Ге. Я никогда не думал, что я так сильно любил его. Работа моя не идет. Чувствовал себя очень дурно. Нынче получше. Написал все письма. […]
14 июня 1894. Ясная Поляна. Писал изложение проекта Генри Джорджа*. Не писал катехизиса, не идет. Чертков вчера был очень возбужден. Нынче к нему ездила Соня. Его не было дома. У Булыгина. Утром ходил за грибами, купался. Решил прекратить писание. Перечел все свои художественные начала. Все плохо. Если писать, все надо сначала, более правдиво, без выдумки. После обеда пошел к Марье Александровне*. Встретил калеку, 40-летнюю женщину, была прачкой, простудилась и идет раздетая, разутая, убогая, голодная, без денег. У Марьи Александровны рассказал про Бекетова, который говорит, что так жить, работая на себя весь день (стирая), нельзя. Так кто же будет стирать? Та прачка. От Колечки непонятное письмо. Десять лет его жизни была ошибка. Десять лет жизни без упрека в грехе, образовании этих прачек, поедании чужих жизней, ошибка! Удивительно. Думал по этому случаю:
1) Мы переживаем теперь тот неизбежный момент во всяком процессе отрезвления. Пена должка осесться, дым рассеяться, размах прекратиться для того, чтобы началось — настоящий твердый, неудержимый рост. Будут и есть уже охлаждения, отпадения, отречения и даже предательства. Тем лучше. Прожигается все то, что может сгореть.
2) Смотрел, подходя к Овсянникову, на прелестный солнечный закат. В нагроможденных облаках просвет, и там, как красный неправильный уголь, солнце. Все это над лесом, рожью. Радостно. И подумал: нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем.
Нынче 25 июня 1894. Ясная Поляна. 11 дней не писал. За это время нового и поразительного только известие об обысках у Попова и Поши в Костроме. Боюсь, что мы слишком радуемся началу и подобию гонений и желаем их. Они оба очень просто и твердо держали себя. Но — рады. Страшно за них. Как бы не почувствовали страдание, когда их запрут и будут мучить. Совестно и обидно самому быть на воле. Стараюсь не желать и не искать.
[…] Тяжелое за это время: развращенность мальчишек, Андрюши и Миши, главное, Андрюши. Миша еще по годам цел; но при том баловстве и отсутствии нравственного авторитета будет то же. С неделю тому назад он (Андрюша) пропадал до часу на хороводах, я сказал ему, что он будет Бибиков, и лучше ему уйти из дома и жить на деревне; вчера, без всяких хороводов, было то же самое: он ушел на деревню, и его до часа не было дома. Я очень мучился о нем; но победил личную досаду и, когда он пришел, вышел и сказал ему, чтобы он не думал, что мы спали, а знал бы, что мы ждали и мучились. Хочется кротко поговорить с ним. Положение наших детей очень дурно: нравственного авторитета нет никакого. Соня разрушает старательно мой, а на место его ставит свои комические требования приличия, выше которых им легко стать. Жалко и их и ее. Ее мне особенно жалко стало последнее время. Она видит, что все, что она делала, было не то и не привело ни к чему хорошему. Сознаться же в том, что она виновата в том, что не пошла за мной, ей невозможно почти. Это слишком ужасно бы было раскаяние.
Продолжаю думать об изложении учения, и мне кажется совершенно ясно, но все еще не пишется. За это время думал:
[…] 2) Говорят: искусство естественно, птица поет. На то она птица. А человек — человек — имеет высшие требования. Да и если он поет, как птица, то он прекрасно делает, но если он собирает сотни музыкантов, изуродованных людей, в своих консерваториях, которые в белых галстуках играют непонятную симфонию, то он не может уже отговариваться птицей: он тратит разум, данный ему для высших целей, на подражание — и неудачное — птице.
26 июня 1894. Ясная Поляна. Писал день тому назад. Все слаб физически и умственно. А, напротив, духовно тверд, и потому радостно.
[…] Вчера Соня заболела и Ваня нынче. Теперь им лучше. Приехал Вячеслав с женой и Лиза с Сашей*. Теперь 4-й час дня, иду пройтись до обеда. Пошел на песочные ямы. Там мужики, влезая в яму, работают с опасностью для жизни. За обедом сказал, что надо сделать карьер. Соня сначала говорит, что она не даст денег. Была минута раздраженья. Хочешь подставлять другую, когда ударят по одной, а когда представляется настоящий случай, как теперь, то хочешь не подставить, а отдать. После обеда пошел с Вячеславом, решил сделать карьер. Приехал Сережа. Мне тяжело, но я думаю, что я мало виноват. Пошел с Чертковым, говорил ему о его недоброте к Марье Александровне и Озмидову. Потом к рабочим. Слава богу, не забываю «единого на потребу». Вечером разговор с Левой. Он упрекает, что я мало верю в его болезнь. Можно было мягче и добрее быть с ним.
Нынче 27 июня 1894. Ясная Поляна. Утро встал с дурными мыслями, ничего не писал. Читал Шопенгауэра*. […] Разговор с Владимиром Федоровичем* о критике. Вспомнил знаменитое Колечкино изречение, что критика — это когда глупые говорят об умных. Пробовал писать изложение учения — не могу, нет охоты. Все слабость, боль спины. Только бы, не переставая, делать дело божие — в себе. Помоги, господи, 12-й час дня.
29 июня 1894. Ясная Поляна. Утро. За эти два дня ничего интересного. Был Цингер Иван. Поползновения изменить жизнь, не глубокие. Девочки Толстых. Я вчера усердно косил. Пробовал писать. Не идет. […]
Вернулись вчера Таня и Миша. Были два офицера: один старый, закурившийся, нервный, другой юноша. Оба ничего не читали. Едва ли не одно любопытство. Потерял странно часы. Все чаще и чаще и живее думаю о смерти, смерти только плотской. Той, которая ужасала меня прежде, уж не вижу теперь. Отчего бы не дожить до страстного любопытства? Но нет, нельзя, не дано. Лучше в этом отношении только готовность.
Читаю Шопенгауэра Parerga. У него странная ошибка: характер не изменен, всякая борьба бесполезна, а между тем характер есть последствие предшествующей жизни. Отчего же он стал таким, а не иным? Он изменился. Вот эти-то изменения и составляют задачу нашей жизни. Производятся они не рассуждением, не борьбой, но опытом, не средой, но любовью, но всем этим вместе. Отрицать что-либо из этого значит отрицать жизнь, одну из сторон жизни.
1 июля 94. Ясная Поляна. Утро. Оба дня довольно много для моих сил работал на покосе. Маша в большой артели. Вчера мне помогала Таня. Вчера утром встал очень свеж, и пришли ряд мыслей о слепоте людей, борющихся с анархизмом уничтожением анархистов, а не исправлением порядка жизни того самого, во имя безобразия которого борются анархисты.
Был прекрасный порыв мысли с ясностью и яркостью, сжатой последовательностью. Не стал писать прежде окончания начатого; а начатое было письмо Kenworthy и катехизис. Писал письмо Kenworthy. Порядочно. Шел на покос, ясно представилось и краткое исповедание веры, но забыл теперь. Вечером приехал Чертков, а потом Давыдов. Дурно спал. Записать нечего.
6 июля. Ясная Поляна. 94. Все эти дни работал на покосе. Здоров. Вчера только от жары заболела печень. Приехал Петр Ге. Рассказывал об отце и о брате. Было и письмо от Колечки. Не понимаю его. Сейчас хочу писать ему. Письмо было от Великанова. Неприятно превозносит меня. Лева возбуждает во мне тяжелое чувство. Барство, проникающее его всего. Вчера был Озмидов. Жалок своей изуродованной жизнью. Я написал письмо Kenworthy. Вчера прибавил к нему. M-ss Welsh переводит*. «Тулон» вышел по-английски*.
Думал:
[…] 2) Июль 3. До обеда. Яркий, жаркий день. Около дома, в тени забора, мухи, не переставая, жужжат над навозом, а там в степи на солнце дрожит, блестит раскаленный воздух.
3) Вспомнил свою изломанность, испорченность. Я испорчен и ранней развращенностью, и роскошью, обжорством и праздностью. Если бы этого всего не было, я бы теперь, в 65 лет, был свеж и молод. Но разве эта испорченность пропала даром. Все мои нравственные требования выросли из этой испорченности. Теперь утро. Мне хочется спать. Не могу писать. Вечером был у Черткова, он болен.
8 июля. […] Был на покосе, распорядился. Утром разговоры с Страховым и Лазурским.
[…] За эти дни думал много, но не записывал и перезабыл. Помню следующее:
[…] 2) По случаю мерзкой книги Prévost*, который тоже в предисловии рассуждает о нравственности, думал (давно известно): что художник поучает не тому, чему хочет, а тому, чему может. То, что он победил в себе, что стало überwundener Standpunkt[132], то он может обличить, то, что он не только считает хорошим, но то, что он страстно любит, то только он может заставить полюбить. А не то, что ему вздумается. Это лучше всего доказывает то, что художник действует не доводом, а мимичностью, вызывая подражательность.
3) Целей искусства две: одна — животная игра, плясать, как теленок, петь, как птица поет, развлекать сказками, как развлекали сказочники, и другая, человеческая — двигаться вперед и этим содействовать движению людей к установлению царства божия. И потому есть две точки зрения на искусство, которые обыкновенно смешиваются: животная и человеческая, и с животной точки зрения можно судить только про животное искусство, а с человеческой можно судить про то и другое. И с человеческой животное хорошо только тогда, когда оно содействует требованиям человека. Когда же оно не содействует, но и не противоречит, оно безразлично, когда же противодействует, оно дурно.
Из этого смешения происходят все недоразумения об искусстве; человек с животной точки зрения судит об искусстве человеческом или об искусстве, противодействующем человеческим целям, и т. п. в разных перемещениях. […]
13 июля 94. Ясная Поляна. Пропустил вчерашний день. Третьего дня читал. Были Марья Александровна и Люстиг, вечером поехал к Черткову. Он в жару говорит с Страховым. Он передал мне выписки из моего дневника*— очень хорошие. Мне неприятно, что он так хвалит. Здоровье лучше, но слаб. Вчера дурно спал, но здоровье лучше. Утром не мог работать, даже писать писем. Страхов читал мне свою статью. Недостаток ее тот, что она никому ни на что не нужна*. Приехал Ваня Раевский. Я с ним не поговорил. Вечером поехал к Черткову, застал там Кунов. Все бесцветно, бесполезно. Ничего не вписал в книжку. Здоровье поправляется. Нынче тихо, приятно. Хочу писать письма, теперь 11 часов.
Нынче, кажется, 17 июля 94. Ясная Поляна. Вчера, 16, целый день ничего не делал, кроме чтения. Был вечером у Черткова. Он все болен.
15. Вечером диктовал Маше драму — «Петра Мытаря»*. Утром писал письмо Третьякову. 14. Утром много писал. Опять дурно спал, чувствовал себя очень слабым.
19 июля 1894. Ясная Поляна. Вчера 18. Не писал. Все та же слабость. Нынче еще хуже. И спина болит. Вчера с утра просители, потом дама Пржевальская — совсем бесполезная. Ни я ей, ни она мне не нужна. Утром немного пописал. Дидерихсы тяжелые. Все помню, что живу перед богом, но очень слаба жизнь. Чуть сочится. Только бы сочилась чистая. Ничего не записал. Теперь скоро 12. Пропустил один день. Ездил утром с Касаткиным на Гилевские заводы*. Мало интересного. Очень устал. Вечером ездил к Черткову. Вчера ходил купаться. Очень слаб. Страхов читал мои начала и поощряет меня к продолжению. Ездил с Соней к Черткову. Дорогой говорил немного о смысле жизни. Немного лучше говорим с нею. Вечером Андрюша опять пропадал на деревне. Тяжелый разговор с Соней. Он, Андрюша, ей рассказывал, что мужики на покосе рассказывали, что будто Тимофей мой сын*. Жалко детей. Нет у них авторитета, под прикрытием которого они бы росли и окрепли. Вчера написал довольно много. Но плохо.
Вот никак бы не думал, что две недели не писал. Сегодня 9 августа 94. Ясная Поляна. Вечером, 10-й час. Ничего не случилось за это время. Нет, случилось. Лева уехал в Москву с Таней. Очень жаль его — жаль за его духовную слабость. Третьего дня уехала и Маша, чтобы отпустить Таню. Тут был Евгений Иванович. Я виделся с ним хорошо, но нет истинного сближения. Все время часто вижусь с Чертковым. Он физически болен; но духовно тверд. Писем гора, которые я все еще не уменьшал. Все время, за исключением редких дней, как нынешний, пишу свой катехизис. Как будто все уясняется, но нет еще той формы, которая удовлетворила бы меня.
Была за это время Маккаган с сыном и привезла книги, от Генри Джорджа. Прочел вновь «Perplexed philosopher»*. Прекрасная. Очень живо сознал вновь грех владения землей. Удивительно, как не видят его. Как нужно бы писать об этом — написать новый «Uncle Tom’s Cabin»*. Вчера получил статью от Сергеева* и статью из «Gegen den Storm»*. Сколько правды говорится со всех сторон, и как она не слышится людьми. Нужно что-то еще, что-то другое.
За это время думал: 1) неважное, то, что для согласия супругов надо, чтобы во взгляде на мир и жизнь, если они не совпадают, тот, кто менее думал, покорился бы тому, кто думал более. Как бы я счастлив был покориться Соне, да ведь это так же невозможно, как гусю влезть в свое яйцо. Надо бы ей, а она не хочет — нет разума, нет смирения и нет любви.
Сегодня 18 августа 94. Ясная Поляна. Вечер, 10 часов. Нынче утром писал письма: 1) Ждан, 2) Шмиту, 3) Алехину, 4) Кашкину, 5) Сергееву. Потом поехал к Булыгину. Колечки там не было. […] О науке думал: мы говорим: наука, что бы она ни исследовала — спектр, Млечный Путь, года Марциана*, бацилл и т. п., непременно будет полезна. А надо говорить так: то, что нужно на пользу людям, только такие знания мы можем назвать наукой.
Об анархистах: огромным всесторонним трудом мысли и слова разумение распространяется между людьми, усваивается ими в самых разнообразных формах, и, пользуясь самыми странными средствами, оно <начинает> захватывать людей: кто из моды, кто из хвастовства, под видом либерализма, науки, философии, религии, оно становится свойственным людям. Люди верят, что они братья, что нельзя угнетать братьев, что надо помогать прогрессу, образованию, бороться с суевериями; оно становится общественным мнением, и вдруг… террор, французская революция, 1-е марта, убийство Карно*, и все труды пропадают даром. Точно набранная по капле плотиной вода одним ударом лопаты уходит и без пользы размывает поля и луга. Как могут не видеть вреда насилия анархисты? Как бы хотелось написать им об этом*. Все так, все верно — то, что они рассуждают и делают, распространяя понятия о бесполезности, вреде государственного насилия. Только одно надо им заменить: насилие — убийство — не участием в насилиях и убийствах.
Ужасна та духовная стена, которая вырастает между людьми — иногда десятки лет живущими вместе и как будто близкими. Хочешь пробить ее и, как муха за стеклом или птичка, бьешься во все места стекла, и нигде нет прохода и возможности соединения. Думаешь иногда: может быть, и я такой же, представляю такую же стену для других. Но нет, я знаю, что я открыт, и зову, и ищу сближения, и радостно принимаю всякое обращение, всякий вызов откровенности. […]
Вот уже никак не думал, что пропустил пять дней. Нынче 27 августа 94. Ясная Поляна. Уехал Маковицкий. Приехала Таня. Я написал несколько писем. Приехал Илья — ребенок — испорченный. Я как будто добрее.
[…] Вчера Таня ездила в Овсянниково делать условие с мужиками. Мне это было больно. Я молчал. Она грустна. Я спросил, она сказала, что Овсянниково, и заплакала. Говорит: делать гадости, которые никому не нужны. Вот и радость. Подарок к рождению*.
28 августа 94. Ясная Поляна. Вот и 66 лет. Вот и тот срок, который казался мне столь отдаленным; а работа катехизиса далеко не окончена, и никакой новой не начато. Оба дня, вчера и нынче, мне было очень грустно по вечерам. Вчера написал об этом письмо Леве и Маше. Нынче утром поработал над катехизисом. Казалось, что подвинулся, что увидал все целое. Но едва ли.
Говорил с Таней. Она только желает отделаться от собственности. Постараюсь наилучшим образом устроить ей это. […]
Нынче 30 августа 1894. Ясная Поляна. Вчера не записал ничего. С утра выговаривал мальчикам за их распущенность. Мало, почти ничего не писал. Все верчусь на одном. Рубил лес с колпенским мужиком. Вечером ездил в Овсянниково, но ничего не говорил с мужиками. Пьяны.
[…] Романы кончаются тем, что герой и героиня женились. Надо начинать с этого, а кончать тем, что они разженились, то есть освободились. А то описывать жизнь людей так, чтобы обрывать описание на женитьбе, это все равно, что, описывая путешествие человека, оборвать описание на том месте, где путешественник попал к разбойникам.
1 сентября 1894. Ясная Поляна. Пропустил один день. Записывать нечего, ни в внешнем мире, ни во внутреннем. Тут Великанов. Очень умен и согласен, но неприятен. Тут же Михаил Максимыч. Табачная держава. Много говорит хорошего. Утром вчера много писал, казалось хорошо. Составил конспект весь. Но нынче стал перечитывать, все осудил и начал сначала и ничего почти не сделал. Слабость умственная. Ничего не записал, хотя было что. Получил вчера кучу писем.
6 сентября. Никак не ожидал, что пропустил четыре дня. Нынче 6 сентября 94. Ясная Поляна. Теперь 5-й час дня. Утром работал над катехизисом. Боюсь сказать, что подвигаюсь, потому что так незаметно, а между тем нет неудовлетворенности, и каждый день новое, и все уясняется. Утром в постели, после дурной ночи, продумал очень живой художественный рассказ о хозяине и работнике*. После завтрака пилил с Андрияном дубы.
Вчера, пятого, вечером был в Овсянникове и прекрасно покончил с мужиками. Будут платить по 425 р. на общественные потребности. Разъяснил им весь смысл дела. […]
[8 сентября. ] Пропустил один день. 8 сентября. 94. Ясная Поляна. Вечер. Вчера очень мало писал, но много думал. Все начал с начала. После завтрака рубил с Давыдовым, вечером читал. Приехала Маша. Все хорошо, но она скучная. Нынче утро все только читал и не садился за стол, ездил с девочками верхом в Овсянниково, утром с мужиками писал условие — кое-как. Я мало спал и потому ничего не писал. Вечером хорошо, ясно думал о том, что жить можно только дурно — похотями, и хорошо — только одним: добротой, желанием, усилием быть добрее и добрее.
Думал еще: то, что только с сильными, идеальными стремлениями люди могут низко падать нравственно. Только птица с крыльями может стремглав броситься вниз с дерева или крыши. Сознание силы подъема духовного — крыльев.
Пропустил. Нынче 10 сентября 94. Ясная Поляна. Вчера писал порядочно. Потом ездил в Тулу к нотариусу* и Рудакову. У нотариуса было желание сделать известным поступок Тани. Это скверно. Встретил Евдокимова. Он живет с проституткой. Я старался внушить ему, что это дело и большое: оживить ее. Рудаков пришел к пессимизму в теории и к семейности в жизни. Устал вчера, и желудок неладен. И оттого нынче вял. Утром приехал Горбунов и Якубовский. Якубовский не нравится мне. Разумеется, оттого, что я гадок. Вчера утром, проснувшись, думал об ответе об анархизме, как быть без правительства, англичанину*.
Читал прекрасную книжечку Guyard*. У него есть: цель жизни — благо, средство к совершенствованию, орудие — любовь. Думал: На вопрос: как быть без государства, без судов, войска и т. п. Ответ не может быть дан на вопрос, потому что он дурно поставлен. Вопрос не в том — устроить государство: по-нынешнему или по-новому. Я и никто из нас не приставлен к решению этого вопроса. А решению нашему подлежит, и не произвольно, а неизбежно, вопрос о том, как мне поступить в постоянно становящейся передо мною дилемме: подчинить ли свою совесть делам, совершающимся вокруг меня, признать ли себя солидарным с правительством, которое вешает заблудших людей, гонит на убийство солдат, развращает опиумом и водкой народ и т. п., или подчинить свои дела совести, то есть не участвовать в правительстве, дела которого противны моему сознанию? А что из этого выйдет, какое будет государство, этого я ничего не знаю, и не то, что не хочу, но не могу знать. Знаю только то, что из того, что я буду следовать вложенному в меня высшему моему свойству разума и любви или разумной любви, ничего дурного выйти не может. Как не может выйти ничего дурного из того, что пчела будет следовать вложенному ей высшему инстинкту, будет вылетать с роем из своего дома, казалось бы, на погибель. Но повторяю, я об этом судить не хочу и не могу. […]
[14 сентября. ] Я пропустил день и ошибся днем. Сегодня 14 сентября. Ясная Поляна, 94. Третьего дня ездил в Кожуховку к погорелым. Был хороший день. Вечером хотел писать, но надо было проводить гостей. Вчера утром немного работал, потом поехал в Овсянниково решить вопрос о лесе и саде. Все очень хорошо устроилось. Вечером сел писать и написал рассказ о метели*. Нехорошо. Писал до 12. Сегодня утром встал нездоровый, бок болит, и целое утро делал пасьянсы. Ничего не написал. Теперь завтракать. Надо не выходить.
Вчера был юноша технолог, читал критику на «Царство божие» и желал прочесть все. Не знаю, нужно ли ему. Как будто он слаб.
Нынче 16 сентября. 94. Ясная Поляна. Вчера писал немного, но хорошо обдумал и составил конспект до конца. Потом пошел рубить. Много работал. Чувствую себя вполне здоровым. Вечер читал письма и статьи с почты. Ничего особенно интересного. От Лебедевой. О бабистах*. Третьего дня вечером измучил меня студент харьковский, просивший дать ему на дорогу 10 р. Нынче так же хорошо писалось, но не кончил и даже запутался. Неясен вопрос о боге. Бог-творец, бог-личность совершенно излишнее и произвольное представление. Записал только сравнение равнодушия лошади, идущей под ветками, и неравнодушия и страдания даже верхового на ней, которого по лицу бьют ветки, с равнодушием толпы, идущей навстречу известным, обычным для них условиям жизни, и неравнодушия о страданиях людей, которые выше многими головами толпы, не могут быть равнодушны от этих явлений и страдают от них.
Дети очень милы. И все хорошо очень, а мне грустно.
17 сентября. 94. Ясная Поляна. Е.б.ж.
[20 сентября. ] Три дня не писал; сегодня 20. Вчера еще я ездил в Козловку, третьего дня много рубил и 4-го дня ходил с детьми в Ясенки. По утрам все дни писал. Нынче с утра или вчера с вечера начался очень сильный насморк и кашель. Надо употребить это нездоровье на пользу; не осуждать других, а самому перенести так, чтобы никого не беспокоить, никому не быть неприятным и, главное, продолжать служить.
В писании вышли две версии. Последняя (параллельная), кажется, лучше. Надо только ввести понятие желания блага, которое, не освещенное разумом, является себялюбием, и освещенное или освобожденное разумом, является любовью, более или менее истинной, по мере степени освещения разумом. […]
23 сентября. Свадебный день, 32 года. Е.б.ж.
[24 сентября. ] Вчера не записал. Утром очень хорошо писал. Подвигаюсь, Маша уехала в Москву. Я ездил в Овсянниково. Вечером отвозил Марью Александровну. Читал.
24 сентября 94. Ясная Поляна. Нынче тоже утром хорошо работалось. Таня мне все переписала. Странное дело, как только вспомню об Овсянникове, о том, что Таня отдала его мужикам, мне неприятно, неловко. Во 2-ом часу ходил с лопатой на Козловку и там чинил дорогу. Очень устал. Вернулся, ждали Соню, но она не приехала, будет завтра. Я с особенным нетерпением ее жду. Как бы удержать при ней то же доброе чувство, которое я имею к ней без нее.
Думал много о том, что я писал Цецилии Владимировне*. Говорил про это с Марьей Александровной. Вот где настоящая эмансипация женщин: не считать никакого дела бабьим делом, таким, к которому совестно притронуться, и всеми силами, именно потому, что они физически слабей, помогать им, брать от них всю ту работу, которую можно взять на себя. Точно так же и в воспитании, именно в виду того, что, вероятно, придется родить и потому меньше будет досуга, именно в виду этого устраивать для них школы не хуже, но лучше мужских, чтобы они вперед набрали сил и знаний. А они на это способны. Вспоминал свое грубое в этом отношении эгоистическое отношение к жене. Я делал, как все, то есть делал скверно, жестоко. Предоставлял ей весь труд, так называемый бабий, а сам ездил на охоту. Мне радостно было сознать свою вину.
Еще думал: увидал Ваксу, собаку, изуродованного, безногого, и хотел прогнать его, но потом стыдно стало. Он болен, некрасив, уродлив, за это его гнать. Но красота влечет к себе, уродство отталкивает. Что же это значит? Значит ли то, что надо искать красоту и избегать уродства? Нет. Это значит то, что надо искать того, что дает своим последствием красоту, и избегать того, что дает своим последствием уродство: искать добра, помощи, служения существам и людям, избегать того, что делает зло существам и людям. А последствие будет красота. Если все будут добры, все будет красиво. Уродство есть указание греха, красота — указание безгрешности — природа, дети. От этого в искусстве поставление целью его красоты — ложно.
Маша недобра уехала. Неужели ревнует к Тане, с овсянниковской историей, избави бог. Надо написать ей.
Нынче 4 октября 94. Ясная Поляна. Иду назад. Сейчас 12-й час ночи. Сидел наверху с Сережей сыном, и — какая радость — ни малейшего прежнего недоброго чувства к нему, а, напротив, теплится — любовь. Благодарю тебя, отец любви — любовь. Нынче рождение Тани. Ей 30 лет. Она грустна, тиха и, кажется, неспокойна сердцем. Помоги ей бог. Днем спал, утро писал. Перевязывал ногу. Вчера вечер сидел с Legras. Тоже и днем, утром писал. Нога болела: Третьего дня, 3-го, приехал из Пирогова с больной ногой. Застал Соню очень бодрою и доброю. Все становится лучше и лучше. Утром выехал из Пирогова, где очень дружелюбно провел 2-е и 1-е, 1-го ехал на Вятчике и так уморил его, что он стал. Написал письмо Маше и Трегубову. Много думал дорогой и за эти дни и многое забыл. Все об изложении веры. […]
Нынче 8 октября. Ясная Поляна. 1894. Нынче приехал Поша и Страхов*. У Страхова был обыск, и ему объяснили, что Толстой теперь другой и опасен. Мне как будто не захотелось гонения. И стыдно стало за это на себя. Уж очень хорошо было дома с Соней. Нынче же целый день и вечером она постаралась опять сделать мне радостным гонение. Целый день: то яблони украденные и острог бабе, то осуждения того, что мне дорого, то радость, что Новоселов перешел в православие, то толки о деньгах за «Плоды просвещения»*. Я ослабел, и мой светик любви, который так радостно освещал мою жизнь, начал затемняться. Не надо забывать, что не в делах этого мира жизнь, а только в этом свете. И я как будто вспомнил. […]
9 октября. Болезнь и, вероятно, скорая смерть государя очень трогает меня. Очень жалко*. Утром пришел Рудаков. Я стал работать, но уперся перед соблазнами. Подразделение и самое определение произвольны и нет точности. Обдумывал, но ни на что не решился. Ездил в Дёменку, возил бандаж старику. Окунулся в нищету деревни. Как дурно, что давно уже не вступаю в нее. Жалеешь своего времени, хочется все сказать, что имею сказать, а сил нет. И если сближаться с деревней, то нет ровного настроения, которое кажется, нужно для работы. Я говорю, кажется, нужно, потому что не уверен в том, что должно. Если бы работа в деревне, общение с народом шло ровно, естественно, без борьбы, а то, кроме чистой искусственности отношений, еще борьба в семье и — тяжело, не по силам.
Страхов очень приятен, он уехал в Москву. Соня нехороша, беспрестанно цепляет.
Сегодня 13 октября. 94. Ясная Поляна. Сегодня писал утром. Все движется, уясняется внутри, но излагается еще плохо.
[…] Вчера приехала утром Маша с Верой Северцевой. Маша хороша, спокойна. Лева возбуждает жалость, он и государь. Рубил дрова с Пошей. Вечером дочитывал: дружба Гете с Шиллером. Много думалось при чтении и об эстетике, и о своей драме. Хочется писать*. Может быть, и велит бог.
Третьего дня тоже писал, уехал Страхов, я рубил деревья с мужиком. 10-го приехал Поша с Страховым. Оба были мне очень приятны. Завтра Соня уезжает. Думал за это время:
1) Теперь люди носятся с теорией искусства — ставя идеалом его одни — красоту, другие — полезность, третьи — игру. Вся путаница происходит оттого, что люди хотят продолжать считать идеалом то, что уже пережито и перестало быть им. Таковы — полезность и красота. Искусство есть умение изображать то, что должно быть, то, к чему должны стремиться все люди, то, что дает людям наибольшее благо. Изобразить это можно только образами. Таких идеалов человечество пережило два и теперь живет для третьего. Прежде всего — полезность: и все полезное было произведением искусства, так оно и считалось; потом прекрасное и теперь доброе, хорошее, нравственное. Путаница происходит оттого, что хотят пережитое поставить опять идеалом, как бы взрослых заставить играть в куклы или лошадки. Надо бы сказать это ясно и кратко. […]
Больше недели не писал. Нынче 21 октября. Ясная Поляна. 94. Соня уехала, Таня приехала. Ее состояние лучше. За это время все та же работа, и так же, еще медленнее подвигается. Нынче решил вновь писать народным, понятным всем языком. Здоровье не совсем хорошо. Нет энергии. Но душевное состояние прекрасное.
Дня три тому назад перечитывал свои дневники 84 года, и противно было на себя за свою недоброту и жестокость отзывов о Соне и Сереже. Пусть они знают, что я отрекаюсь от всего того недоброго, что я писал о них. Соню я все больше и больше ценю и люблю. Сережу понимаю и не имею к нему никакого иного чувства, кроме любви. […]
[26 октября. ] Нынче 26, три дня не писал. За это время событие было то, что я написал Попову, прося его прекратить переписку с Таней. Она покорилась. Она очень хороша. Нынче лежит, у нее кашель и насморк. Вчера ездил в Ясенки, утром писал письма к Розен и англичанину, а нынче тоже. Третьего дня тоже работа, проводил Илюшу с Цуриковым. И испытал большую радость — не только не осуждал Илюшу, но жалел и любил его. Такой он слабый и добрый.
Читаю «Morticoles»*, и думается, что и моего тут капля меду есть. Очень полезная и знаменательная книга. Нынче умер Павел*, сапожник. Все спрашивал жену: Не заходили за мной? И все прислушивался к окнам. А ночью вскрикнул: Идут. Сейчас. И умер. Только старикам, как мне, заметна эта краткость, временность жизни. Это так ясно, когда один за другим вокруг тебя исчезают люди. Только удивляешься, что сам все еще держишься. И стоит ли того (хоть только с этой точки зрения), появившись на такой короткий промежуток времени, в этот короткий промежуток наврать, напутать и наделать глупости. Точно, как актер, у которого только одна короткая сцена, который долго готовился к этой сцене, одет, гримирован, и вдруг выйдет и соврет, осрамится сам и испортит всю пьесу.
Думал за это время две казавшиеся мне важными вещи:
1) То, что всякий человек, как бы он ни был порочен, преступен, неучен, неумен, какие бы он ни делал гадости и глупости, непременно считает себя совершенно правым. И сердиться на него за это нельзя и не надо: ему нельзя не считать себя правым. Если бы он не считал себя правым, он не мог бы жить так, как он живет.
Человек одаренный (праведный) и обремененный (грешный) разумом не может жить противно рассуждению. И потому, если он хочет жить противно разуму, он и придумывает такие рассуждения, которые не только оправдывают его, но доказывают ему, что именно так, а не иначе он и должен поступать.
Чтобы не считать себя правым — ему надо перестать жить, как он жил.
Человек может только двояко судить о себе: считать себя совсем правым или совсем виноватым. Считает себя совсем правым тот, кто не хочет изменять своей жизни и разум свой употребляет на оправдание того, что было, и считает себя совсем виноватым тот, кто хочет совершенствоваться и разум свой употребляет на познание того, что должно быть. […]
Пропустил один день. Сегодня 30 октября 94. Ясная Поляна. Все эти дни чувствую себя очень слабым умственно. Вчера еще проработал немного и вечером поправил письма, но нынче и не открывал тетради. И грустно, уныло все время, хотя ничто не тревожит, напротив, все очень хорошо. Девочки спокойны и милы. Письма хорошие. Вчера было письмо от Левы, которое тронуло меня.
Думал: 1) О присяге, о которой мы говорили вчера с Петром Цыганком*. Велено присягать 12-летним. Неужели они думают связать этим детей? Разве не очевидно это самое требование показывает их вину и сознание ее. Хотят удержать и спасти тонущее самодержавие и посылают на выручку ему православие, но самодержавие утопит православие и само потонет еще скорее. […]
Пропустил несколько дней. Нынче 2 ноября. Ясная Поляна. 94. Время летит с ускоряющейся быстротой, особенно заметной при той праздности, в которой я живу. Проходит осень, лучшее время года. А я ничего еще не сделал.
[…] Теперь 10 часов вечера. Завтра едем в Пирогово.
Нынче 4 ноября. Ясная Поляна. 94. В Пирогово не поехали. Девочки нашли в Козловке письмо от Сони, в котором она отчаивается. Вчера же вечером получил письмо, из которого видно, что все прошло. Я оба дня не брался за писанье. Не хочется писать и думать. Хочется работать руками, ездить. Нынче приехал Сережа. Мне с ним хорошо. Опять он чувствует, что я иду ему навстречу, и он приближается. Письмо от Гуревич, справедливо возмущенное всем бешенством подлости и дурачества*, и от Соловьева очень ласковое*. Теперь 10-й час.
Ничего уже не придется делать. Таня жалуется, что жизнь прошла — ее 30 лет — без пользы и что напортила себе. Это хорошо, что она так думает. Машу посылают за границу. Завтра.
Пять дней не писал. Сегодня 10 ноября. 94. Москва. Особенного во внешней жизни за это время ничего не случилось. Переехали в Москву, был у нас Булыгин, те же безумие и подлость по случаю смерти старого и восшествия нового царя. В Москве тяжело от множества людей. Внутренне то, что работа как будто подвигается и уясняется это хорошее, а нехорошее то, что нет уже той свежести сознания присутствия бога и нет той любовности, которая была прежде. Это чувствую в отношениях с Соней и Левой.
Думал за это время все о своем писанье и, что думал, то вписал или впишу туда. Было записано на листе, и потерял. Помню только то, что шествие через Москву с гробом было очевидным лицедейством, которое должны были производить цари. Такое лицедейство они производят всю жизнь: в этом проходит вся их жизнь. А люди еще завидуют им.
Было трогательное письмо от какого-то молодого человека из Петербурга, спрашивает: зачем жить? Я вчера написал ему*.
Нынче 20 ноября. 1894. Москва. Как будто услышал мою молитву, и я чувствую — особенно нынче — во время прогулки чувствовал радость жизни. Нынче писал довольно успешно. Остальное время поправлял биографию Дрожжина*. Вчера ночью было тяжелое столкновение. Слава богу, я все время помнил о боге, и все стало во благо. Вчера вечером набралась толпа гостей. Прежде всех приехал Богоявленский и Сопоцько. Я начал читать Богоявленскому катехизис и прочел начало. Мне было интересно слушать. Все-таки лучше, чем я ожидал. Днем был у Страхова, ходил с Евгением Ивановичем*. Все хорошо, писалось порядочно. Только один день был слаб. За это время написал предисловие к сказочке «Карма» и послал*. Думал много за это время. Многого не записал и забыл, а вот что помню.
[…] 2) Иду по Кремлю мимо стен кремлевских и бойниц и думаю: было время, когда это было нужно; нужны были и пыточные приспособления, и орудия казни, и цензуры, а пришло время, и уже некоторые из этих предметов и для некоторых людей уже представляют только памятники древности. Так же придет время, когда так будут показывать пушки, сабли, крепости, мундиры, ордена. […]
Нынче 25 декабря, вечер. Больше месяца не писал. Было за это время из событий то, что приходили студенты, я им написал письма в Петербург*. Еще с Левой грустное столкновение. На днях радостный для меня приезд Чертковых. Писал учение блага*. Я недавно, дней десять, оставил и сначала писал «Сон молодого царя»*, а потом «Хозяин и работник». И, кажется, кончу*. Катехизис все так же люблю и думаю о нем беспрестанно. […]
Нынче 31 декабря. Прошло пять дней. Все это время писал рассказ «Хозяин и работник». Не знаю, хорошо ли. Довольно ничтожно. Был здесь Чертков. Вышло очень неприятное столкновение из-за портрета. Как всегда, Соня поступила ре’шительно, но необдуманно и нехорошо*. Прекрасная книга Lachman’a «Weder Dogma, noch Glaubensbekenntnis, sondern Religion», надо написать ему*. Приятная беседа с Еропкиным, — добрая.
1) Видел Веру Величкину, ее брата, приятеля и его сестру*. Всех их продержали 1½ месяца в доме предварительного заключения, и все четверо без исключения с радостью вспоминали о своем пребывании там. Я нарочно спрашивал подробно, не было ли жутко там хоть первое время. Оказывается, что Вера Величкина поправилась, окрепла нервами, отдохнула. Обращение мягкое. Уединение и беззаботное спокойствие.
2) Лева говорил, что они долго беседовали с Ваней Раевским о том, что молодые люди нашего времени чахнут и нервно болеют оттого, что нет поприща деятельности, и много другого, очень хитроумного говорили они между собой. А сводится все к религии горшка, как говорил дедушка, к тому, чтобы не заставлять других служить себе в самых первых простых вещах. Ведь вся христианская мораль в практическом ее приложении сводится к тому, чтобы считать всех братьями, со всеми быть равными — это сознание было главным переворотом в моей жизни, а для того, чтобы исполнить это, надо прежде всего перестать заставлять других работать на себя, а при нашем устройстве мира — пользоваться как можно меньше работой, произведениями других, тем, что приобретается за деньги, как можно меньше тратить денег, жить как можно проще. А они — самые добрые из них, желающие быть согласными со мною, обходят это требование, называя его односторонностью, преувеличением, и нарушая первое, главное правило нравственности, хотят жить нравственно. Понятно, что у них ничего не выходит при этом. И они тоскуют и гибнут. […]
Комментарии
В тома 21 и 22 настоящего Собрания сочинений включены избранные записи из Дневников Толстого (1847–1894), относящиеся к важнейшим моментам его жизни — отношениям с родными и близкими, встречам, беседам и переписке с писателями, деятелями науки, искусства, лицами, игравшими заметную роль в общественно-политической жизни того времени.
Помимо отдельных дневниковых записей в настоящие тома включены: «Правила» (1853–1854), «Дневник помещика» (1856), «Отрывок дневника 1857 года», записи народных слов и выражений (1879), «Записки христианина» (1881), «Диалог» (1898), «Тайный дневник» (1908) и «Дневник для одного себя» (1910). В целом отобранные записи составляют по объему примерно две трети всех Дневников Толстого, опубликованных в Полном собрании сочинений Толстого (т. 46–58). В настоящем Собрании сочинений тексты Дневников печатаются по этому изданию, с проверкой по автографам в сомнительных случаях и с исправлением ошибок, на которые указывалось в печати.
Сделанные для данного издания сокращения внутри записей, а также пропуски неудобных для печати слов обозначены отточиями в квадратных скобках. Пропуски целых дней не отмечаются. Недописанные слова дополняются. Пропущенные, но необходимые по смыслу слова даются в квадратных скобках.
В дневниковых записях везде сохраняется авторская датировка. В случаях ошибочности датировок или неточности в датах старого и нового стиля перед авторской датой указывается курсивом в квадратных скобках верная дата.
Нумерация примечаний дана в пределах каждого года. Примечания Толстого оговариваются.
Статья-послесловие и алфавитный указатель имен к т. 21 и 22 — см. в томе 22.
В примечаниях приняты следующие условные сокращения:
Бдч — журнал «Библиотека для чтения»
Булгаков — Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1957
ГМТ — Государственный музей Л. Н. Толстого
523
Гольденвейзер — Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1959; т. II — М., 1923
ДСТ — Толстая С. А. Дневники в 2-х томах. М., 1978
ЛН — Литературное наследство
Некрасов — Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 1948-1953
ОЗ— журнал «Отечественные записки»
Переписка, т. 1, 2 — Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями в 2-х томах. М., 1978
ПСС — Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в 90-та томах. М. 1928-1958
С — журнал «Современник»
ЯЗ — Mаковицкий Д. П. У Толстого. Яснополянские записки. — Литературное наследство, т. 90, кн. 1–4. М., 1979
Дневник помещика
Весной 1856 г. Толстой задумал освободить своих крестьян, не дожидаясь решения крестьянского вопроса правительством. Он написал «Предложение крепостным мужикам и дворовым сельца Ясной Поляны Тульской губернии Крапивенского уезда» (см. об этом примеч. 12 к Дн. 1856 г.). Записи в «Дневнике помещика» отражают историю этой, кончившейся, неудачей, попытки Толстого облегчить участь своих крестьян.
Отрывок дневника 1857 года
Летом 1857 г. Толстой пешком совершил поход по горам и селениям Швейцарии. Вернувшись, он описал впечатления первых двух дней путешествия.
Записки христианина
«Записки христианина» были задуманы Толстым в 1881 г. как серия записей, в которых должны были отразиться события одного дня его яснополянской жизни. Они были начаты 8–9 апреля 1881 г. и вскоре оставлены. В ноябре того же года Толстой вернулся к ним, но они не были завершены.
Примечания
1
воздушных замков (фр.).
(обратно)2
расстановка пальцев (фр.).
(обратно)3
барственности (фр.).
(обратно)4
ложного стыда (фр.).
(обратно)5
плохому настроению (фр.).
(обратно)6
достоинства (фр.).
(обратно)7
К чему говорить о мелочах, когда еще остается сказать о многих важных истинах (фр.).
(обратно)8
А потом эта ужасная необходимость выражать в словах и выводить каракулями горячие, живые и подвижные мысли, подобные лучам солнца, озаряющим воздушные облака — куда бежать от ремесла! Великий боже! (фр.).
(обратно)9
с листа (фр.).
(обратно)10
Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать (фр.).
(обратно)11
беллетриста (фр.).
(обратно)12
Теперь мне стало лень думать и убеждать себя в чем-нибудь. Однако я не меньше, чем прежде, ни верю, ни сомневаюсь. Во всем равновесие. Мне стало лень убеждаться, зато я также устал и разуверяться и храню с заботливостью те верования, которые хлопотливый ум мой оставил в покое, и боюсь разочароваться в них, даже думать о них. (Примеч. Л. Н. Толстого.)
(обратно)13
ставить на свое место (фр.).
(обратно)14
во что бы то ни стало (фр.).
(обратно)15
всерьез (фр.).
(обратно)16
в прежнем положении (лат.).
(обратно)17
Не для доказательства, а для рассказа (лат.).
(обратно)18
плохо (нем.).
(обратно)19
пушечное мясо (фр.).
(обратно)20
необходимое условие (лат.).
(обратно)21
невестка, свояченица (фр.).
(обратно)22
достоинства (нем.).
(обратно)23
уклончивый (фр.).
(обратно)24
и проч. (фр.).
(обратно)25
Здесь в смысле: аристократизм, светскость (фр.).
(обратно)26
престиж (фр.).
(обратно)27
Расстройство желудка (фр.).
(обратно)28
Вандомская колонна (фр.).
(обратно)29
ухаживать (фр.).
(обратно)30
частный дом (нем.).
(обратно)31
Страстное желание, тоска (нем.).
(обратно)32
плохо написано (фр.).
(обратно)33
альпийская палка (нем.).
(обратно)34
прогулку (фр.).
(обратно)35
Добрый вечер, господин (фр.).
(обратно)36
кто там? (фр.)
(обратно)37
местном наречии (фр.).
(обратно)38
вот вам (фр.).
(обратно)39
Гостиница Медведь: доверьтесь (фр.).
(обратно)40
дружески (фр.).
(обратно)41
Сердце мое весьма опечалено, я плачу настоящими слезами (фр.).
(обратно)42
Приди и поцелуй меня (нем.).
(обратно)43
Дом сей построен имяреком, но он есть ничто в сравнении с тем жилищем, которое уготовил нам господь. О, смертный! тень моя проходит поспешно, и конец мой близится стремительно! (фр.).
(обратно)44
О, смертный (фр.).
(обратно)45
О, не в этом дело (фр.).
(обратно)46
Садитесь и вы (фр.).
(обратно)47
О нет! это меня стесняет (фр.).
(обратно)48
чемодан для одежды (фр.).
(обратно)49
буржуа (фр.).
(обратно)50
раз господин не хочет ехать со мною (фр.).
(обратно)51
почтовая контора (фр.).
(обратно)52
Вы говорите, что это кассир был таков? (фр.).
(обратно)53
Что вы хотите, мосье, — они республиканцы, они все таковы. Да кроме того, ведь он кассир, он этим и гордится (фр.).
(обратно)54
Мелко, князь (фр.).
(обратно)55
Расширение вен (лат.).
(обратно)56
напряжение (нем.).
(обратно)57
Звуковой метод (нем.).
(обратно)58
Слуга (нем.).
(обратно)59
Этнография (нем.).
(обратно)60
Посредник (фр.).
(обратно)61
в приютах (фр.).
(обратно)62
Заколдованный круг (фр.).
(обратно)63
Малое дитя, вы ошибаетесь (нем.).
(обратно)64
Земляк (нем.).
(обратно)65
Учительская семинария (нем.).
(обратно)66
Счет (нем.).
(обратно)67
детский сад (нем.).
(обратно)68
Луч света мне блеснул (нем.).
(обратно)69
необязывающем наслаждении (нем.).
(обратно)70
Помни (лат.).
(обратно)71
Мое прекрасное сердце (нем.).
(обратно)72
Задняя мысль (фр.).
(обратно)73
В глубине (фр.).
(обратно)74
мой милый (фр.).
(обратно)75
В наше время народы слишком просвещенны, чтобы можно было создать что-нибудь великое (фр.).
(обратно)76
реляции (фр.).
(обратно)77
достигнут обманом (фр.).
(обратно)78
благоприятные условия (фр.).
(обратно)79
разделить ложе с дочерью цезарей (фр.).
(обратно)80
Расплывчатость, многословность (англ.).
(обратно)81
наслаждение (фр.).
(обратно)82
лезть из кожи вон (фр.).
(обратно)83
«Собственность — кража» (фр.).
(обратно)84
опровержение (фр.).
(обратно)85
Монтень. Острота в соусе (фр.).
(обратно)86
снова обрести (англ.).
(обратно)87
Задним умом крепок (фр.).
(обратно)88
тщеславно (фр.).
(обратно)89
уклоняются (от фр. éluder).
(обратно)90
уловку (фр.).
(обратно)91
пробуждением (фр.).
(обратно)92
полезным (англ.).
(обратно)93
Человек человеку волк (лат.).
(обратно)94
это — начало конца (фр.).
(обратно)95
уважение к человеку (фр.).
(обратно)96
конины (англ.).
(обратно)97
уклончивые (фр.).
(обратно)98
«Друзья мира сражаются между собой» (англ.).
(обратно)99
Я буду обходиться без удобств (англ.).
(обратно)100
Учении (греч.).
(обратно)101
Толковый указатель (фр.).
(обратно)102
ученый (англ.).
(обратно)103
«Так что же нам делать?» и «О жизни» (англ.).
(обратно)104
непротивление (фр.).
(обратно)105
Мир имеет от Толстого столько, сколько он может переварить (англ.).
(обратно)106
Неделание (фр.).
(обратно)107
Я сказал (лат.).
(обратно)108
пусто (англ.).
(обратно)109
лицемерия (англ.).
(обратно)110
вульгарный (англ.).
(обратно)111
за заслугу (фр.).
(обратно)112
нащупывание (фр.).
(обратно)113
честолюбие (фр.).
(обратно)114
искоренить (фр.).
(обратно)115
Другим! (фр.).
(обратно)116
непостоянной (фр.).
(обратно)117
«Разбойники» (нем.).
(обратно)118
очень быстро (ит.).
(обратно)119
большого дыхания (фр.).
(обратно)120
с тенденцией (англ.).
(обратно)121
записную книжку (фр.).
(обратно)122
Принятие пищи (фр.).
(обратно)123
объемный, буквально: большого дыхания (фр.).
(обратно)124
последний удар (фр.).
(обратно)125
своей внутренней ценности (фр.).
(обратно)126
исключение (фр.).
(обратно)127
Лаун-теннис (англ.).
(обратно)128
устойчивого (англ.).
(обратно)129
ощущения (фр.).
(обратно)130
я понимаю, что хочу сказать (фр.).
(обратно)131
разражается (фр.).
(обратно)132
преодоленной точкой зрения (нем.).
(обратно)Комментарии
1
Осенью 1841 г. дети Толстые переехали из Ясной Поляны в Казань, где жила их опекунша — тетка П. И. Юшкова. В марте 1847 г. Толстой учился на втором курсе юридического факультета Казанского университета.
(обратно)2
«Наказ», составленный Екатериной II в 1766 г. для «Комиссии о сочинении проекта нового уложения», содержал многие положения, высказанные Ш.-Л. Монтескье в его книге «О духе законов» («Esprit des lois») (1748). По заданию проф. гражданского права Д. И. Мейера Толстой занимался сопоставлением «Наказа» с сочинением Монтескье.
(обратно)3
В имение Юшковых Паново, в тридцати верстах от Казани.
(обратно)4
«Векфильдский священник» — роман Оливера Голдсмита (1766).
(обратно)5
Институции — первая часть свода законов византийского императора Юстиниана I («Кодификация Юстиниана», VI в.).
(обратно)6
С бурятским ламой Толстой познакомился в 1847 г. в Казанском госпитале.
(обратно)7
12 апреля Толстой подал прошение об увольнении из университета и 23 апреля выехал в Ясную Поляну.
(обратно)8
Толстой находился в Москве с 5 декабря 1850 г.
(обратно)9
Пожар в деревне Ясная Поляна произошел в октябре 1850 г.
(обратно)10
Содержание повестит неизвестно. Рукопись не сохранилась.
(обратно)11
В Московском опекунском совете были заложены имения Толстых.
(обратно)12
Место для верховой езды.
(обратно)13
Возможно, начало «Четырех эпох развития», написанное в форме писем (см. ПСС, т. 1).
(обратно)14
Толстой собирался совместно с П. А. Щербатовым снять в аренду почтовую станцию Ясенки, но вскоре отказался от этого намерения.
(обратно)15
С братом H. H. Толстым, который приехал из армии в отпуск.
(обратно)16
Крестины сына М. Н. Толстой — Николая.
(обратно)17
Первое упоминание о работе над повестью «Детство». В ПСС неверно расшифровано: «историю моего детства».
(обратно)18
Рукописный курс лекций по энциклопедии права, читанный в Казанском университете проф. А. Г. Станиславским.
(обратно)19
К. А. Неволин. «Энциклопедия законоведения» в 2-х томах (Киев, 1839–1840).
(обратно)20
То есть по образцу дневника американского ученого Б. Франклина, в котором он ежедневно отмечал свои отступления от намеченных «правил».
(обратно)21
В этой и последующих записях речь идет о первой редакции повести «Детство» («Четыре эпохи развития»).
(обратно)22
Выписки из книги А. де Ламартина «История жирондистов» (1847), его романа «Женевьева» и поэмы «Жоселен» (1836).
(обратно)23
Т. А. Ергольская — троюродная тетка Толстого. После смерти его матери она принимала ближайшее участие в воспитании детей Толстых. Намерение написать о ней книгу не было осуществлено Толстым.
(обратно)24
Один из ранних опытов Толстого, названный им «История вчерашнего дня» (см. т. 1 наст. изд.).
(обратно)25
В чем заключалась история с тульским офицером Гельке, не установлено.
(обратно)26
Замысел нашел отражение в нескольких главах повести «Детство».
(обратно)27
То есть выйти в отставку со службы в Тульском губернском правлении, где Толстой числился канцелярским служащим.
(обратно)28
Принадлежавшая Толстому дер. Воротынка в Богородицком уезде Тульской губ. была им продана.
(обратно)29
29 апреля 1851 г. Толстой отправился с братом на Северный Кавказ в станицу Старогладковскую, где служил H. H. Толстой.
(обратно)30
Несомненная описка, вместо 30 мая.
(обратно)31
Н. П. Алексеев, командир батарейной № 4 батареи 20-й артиллерийской бригады, в которой служили Н. Н. и Л. Н. Толстые.
(обратно)32
Капитан Хилковский, прототип капитана Хлопова в рассказе «Набег».
(обратно)33
Настоящей записью (без даты) начинается тетрадь, названная Толстым — тетрадь «Г». За выписками из книг и размышлениями по поводу прочитанного следуют, начиная со 2 июня, обычные дневниковые записи.
(обратно)34
Слова Н. В. Гоголя из его «Завещания» («Выбранные места из переписки с друзьями»).
(обратно)35
«Антон-Горемыка» — повесть Д. В. Григоровича (1847).
(обратно)36
Цитата из романа Ж. Санд «Орас» (1842).
(обратно)37
З. M. Молоствова — знакомая Толстого, с которой он встречался, живя в Казани. По пути на Кавказ он виделся с нею.
(обратно)38
Толстой переводил «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» Л. Стерна (1768).
(обратно)39
В конце июня 1851 г. Толстой добровольцем принял участие в военных действиях против горцев.
(обратно)40
Роман «Четыре эпохи развития» — так должна была называться задуманная Толстым тетралогия «Детство», «Отрочество», «Юность» и «Молодость». Последняя часть осталась ненаписанной. Замысел осуществлен в повестях «Утро помещика» и «Казаки».
(обратно)41
То есть кумыкский язык.
(обратно)42
Два Пушкина — вероятно, братья Алексей Иванович и Александр Иванович Мусины-Пушкины, дальние родственники Толстого.
(обратно)43
Эту мысль Платон высказал в диалоге «Политик».
(обратно)44
17 и 18 февраля на реке Мичике происходили бои с горцами, в которых участвовал Толстой. В одном из боев Толстой едва не был убит: снаряд ударил в колесо пушки, которую он наводил.
(обратно)45
Первую часть романа «Четыре эпохи развития» — «Детство» (вторая редакция).
(обратно)46
Первое упоминание об эпизодах, нашедших впоследствии отражение в повести «Хаджи-Мурат» (1896–1904).
(обратно)47
Адольф Тьер. «История французской революции» (Париж, 1823–1827).
(обратно)48
Третью редакцию «Детства».
(обратно)49
Роман Д. В. Григоровича (ОЗ, 1852, № 2 и 3).
(обратно)50
Вторую редакцию «Детства».
(обратно)51
Возможно, речь идет о статье «Путешествие Александра Дюма в Тунис, Марокко и Алжир» (ОЗ, 1852, № 2).
(обратно)52
«Второй день» в повести «Детство» (пребывание Николеньки Иртеньева в Москве).
(обратно)53
Рассказа на этот сюжет Толстой не написал. В черновой редакции рассказа «Набег» упоминается горец Джеми, который, защищая свой аул, способен «очертя голову броситься на штыки русских» (ПСС, т. 3, с. 235).
(обратно)54
В 12-ю главу «Детства» вошло описание вечерней молитвы странника Гриши.
(обратно)55
«Первый день» в повести «Детство» (пребывание Николеньки Иртеньева в деревне).
(обратно)56
Первое упоминание о замысле рассказа «Набег».
(обратно)57
«Несколько слов о Бюффоне» (Бдч, 1852, № 1).
(обратно)58
Последние части исторического романа В. Р. Зотова (ОЗ, 1851, № 4 и 5).
(обратно)59
Роман Л. Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии».
(обратно)60
«История Англии» Давида Юма (1753–1762).
(обратно)61
«Вечный Жид» — роман Эжена Сю (1844–1845).
(обратно)62
Возможно, статью «Ермак, или Краткий очерк завоевания Сибири» («Журнал для чтения воспитанников военно-учебных заведений», 1846, т, 63).
(обратно)63
Лубочная книжка «Предание о том, как солдат спас Петра Великого от смерти». М., 1849.
(обратно)64
«Ивины» — XX глава третьей редакции «Детства».
(обратно)65
То есть экономическим превосходством богатых армянских селений в этом районе.
(обратно)66
Первое упоминание о «Романе русского помещика».
(обратно)67
Первоначальное название рассказа «Набег».
(обратно)68
Диалог Платона «Пир».
(обратно)69
«Горе» — XXVII глава III редакции «Детства».
(обратно)70
То есть письмо к управляющему А. И. Соболеву о ведении хозяйства в Ясной Поляне.
(обратно)71
Третью редакцию повести.
(обратно)72
«Часы благоговения» — многотомный труд швейцарского поэта и историка Иоганна Генриха Цшокке. Русский перевод в 7-ми томах вышел в Петербурге в 1834–1845 гг.
(обратно)73
Глава о Карле I в «Истории Англии» Д. Юма.
(обратно)74
Описание страды в главе «Охота» («Детство»).
(обратно)75
Повесть опубликована в С, 1852, № 5. Распуколка — нераспустившийся цветок.
(обратно)76
«Исповедание веры савойского викария» — четвертая книга романа Жан-Жака Руссо «Эмиль» (1762).
(обратно)77
«Новая Элоиза» — роман Жан-Жака Руссо (1761).
(обратно)78
Письмо редактору «Современника» Н. А. Некрасову. 3 июля Толстой отослал его вместе с рукописью «Детства». См. т. 18 наст. изд., № 23.
(обратно)79
Толстой пытался создать новую конструкцию зарядного ящика для артиллерии.
(обратно)80
«Роман русского помещика». «Цель» его состояла в том, чтобы показать «невозможность жизни правильной помещика образованного нашего века с рабством» (см. запись от 2 августа 1855 г.).
(обратно)81
«Политик» — диалог Платона.
(обратно)82
«Об общественном договоре» Жан-Жака Руссо (1762).
(обратно)83
Письмо от Н. А. Некрасова от середины августа 1852 г. с одобрительным отзывом о «Детстве» (Переписка, т. 1, № 2).
(обратно)84
Роман Ч. Диккенса. Русский перевод печатался в С, 1851, № 1–9.
(обратно)85
Письмо от 15 сентября 1852 г. См. т. 18 наст. изд., № 24.
(обратно)86
«Описание войны 1813 г.» А. И. Михайловского-Данилевского, в 2-х томах. СПб., 1840.
(обратно)87
Повесть П. А. Кулиша «История Ульяны Терентьевны» (С, 1852. № 8) за подписью: Николай М.
(обратно)88
Письмо от 5 сентября 1852 г. (Переписка, т. 1, № 3).
(обратно)89
То есть начерно написал вторую главу «Романа русского помещика», в которой изображен кулак и плут Шкалик.
(обратно)90
Точнее, «сафагельдин» — татарское приветствие, означающее «добро пожаловать».
(обратно)91
Запись относится к «Роману русского помещика». Сухонин — персонаж романа.
(обратно)92
Возможно, история казачки Соломаниды. Этот и другие названные очерки не были написаны.
(обратно)93
Рассказы Епишки вошли в повесть «Казаки».
(обратно)94
Очерк Н. Н. Толстого «Охота на Кавказе» (опубл. — С, 1857, № 1).
(обратно)95
Повесть «Детство» была напечатана за подписью «Л. Н.» в С, 1852, № 9 с редакторскими поправками и купюрами, сделанными по требованию цензуры.
(обратно)96
Это письмо Некрасову с выражением возмущения по поводу исправлений в повести «Детство» неизвестно.
(обратно)97
Неотправленное письмо к Н. А. Некрасову от 18 ноября 1852 г. См. т. 18 наст. изд., № 25.
(обратно)98
Хвалебная статья С. С. Дудышкина в № 10 ОЗ. Он писал: «Если это первое произведение г. Л. Н., то нельзя не поздравить русскую литературу с появлением нового замечательного таланта».
(обратно)99
Рассказ «Набег».
(обратно)100
То есть «Роман русского помещика».
(обратно)101
См. примеч. 26 к Дн. 1851 г.
(обратно)102
Рассказ «Набег» (опубл. — С, 1853, № 3 за подписью «Л. Н.»).
(обратно)103
Толстой участвовал в походе против войск Шамиля.
(обратно)104
Замысел рассказа «Святочная ночь» (см. т. 1 наст. изд.).
(обратно)105
За участие в бою Толстой был представлен к производству в прапорщики.
(обратно)106
Георгиевский крест Толстой заслужил еще в зимний поход 1852 г., но не получил из-за того, что его бумаги об увольнении с гражданской службы прибыли с опозданием.
(обратно)107
Толстой был посажен на гауптвахту (пикет) за то, что отсутствовал при осмотре батареи бригадным командиром Левиным.
(обратно)108
Рассказ «Набег», сильно пострадавший от цензуры (С, 1853, №. 3).
(обратно)109
Письмо Некрасова от 6 апреля 1853 г. о цензурных искажениях в «Набеге» (Переписка, т. 1, № 9); письмо С. Н. Толстого от 12 апреля с положительным отзывом о «Набеге» (см. ПСС, т. 59, с. 227–230). Письмо M. Н. Толстой неизвестно.
(обратно)110
«Святочная ночь».
(обратно)111
Гл. VIII–X «Отрочества».
(обратно)112
Обри — герой романа Самуэля Уоррена «Десять тысяч в год» (1839). В романе он произносит слова Нестора из пьесы Шекспира «Троил и Кресида».
(обратно)113
Первоначальное название рассказа «Рубка леса».
(обратно)114
Первоначальное название повести «Казаки».
(обратно)115
«Исповедание веры савойского викария» Ж.-Ж. Руссо.
(обратно)116
«Клод Ге» («Claude Gueux») — роман Виктора Гюго. Париж, 1834.
(обратно)117
Главы из повести «Отрочество».
(обратно)118
«Роман русского помещика».
(обратно)119
То есть «Рубку леса» и другие рассказы на кавказские темы.
(обратно)120
Повесть «Беглец» («Казаки»).
(обратно)121
Стихи неизвестны.
(обратно)122
23-я глава «Отрочества».
(обратно)123
Очерки Бенджамина Дизраэли «Литературный характер, или История гения, заимствованная из его собственных чувств и признаний» — из жизни выдающихся людей (С, 1853, № 5-11).
(обратно)124
То есть о переводе в Дунайскую армию.
(обратно)125
Опубл. — в С, 1853, № 8.
(обратно)126
Рецензия А. П. Карцова на IV и V тома труда Д. А. Милютина «История войны России с Францией в царствование имп. Павла I в 1799 г.» (С, 1853, № 6).
(обратно)127
Книга Каролины Вольцоген «Шиллер и его переписка с друзьями» (С, 1853, № 8, 9, 10, 12).
(обратно)128
«История государства Российского» H. M. Карамзина в 12-ти томах (СПб., 1816–1824). В предисловии определялись цель и задачи истории как науки.
(обратно)129
Предполагавшаяся глава «Отрочества».
(обратно)130
Замысел не осуществлен.
(обратно)131
Первоначальное название рассказа «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный».
(обратно)132
Одно из первоначальных названий рассказа «Рубка леса».
(обратно)133
Сослуживец Толстого А. В. Пистолькорс изображен в «Набеге» под именем поручика Розенкранца.
(обратно)134
В объявлении о планах «Современника» Толстой был назван среди известных русских писателей, сотрудничающих в журнале.
(обратно)135
«Русская история» Н. Г. Устрялова.
(обратно)136
Журнал «Утренний свет» издавался Н. И. Новиковым (1777–1780). Ему же принадлежало предисловие.
(обратно)137
П. А. Александров. «Обозрение выставки мануфактурных изделий, бывшей в Москве…» (С, 1853, № 9, 10).
(обратно)138
Военная газета «Русский инвалид» (1813–1917).
(обратно)139
III глава первой редакции «Романа русского помещика».
(обратно)140
Воейков — персонаж чернового наброска «Романа русского помещика» (см. ПСС, т. 4).
(обратно)141
Эпизод использован в рассказе «Рубка леса» (гл. II).
(обратно)142
Толстой был по его просьбе переведен в Дунайскую армию и назначен в батарейную № 4 батарею 12-й артиллерийской бригады, входившей в состав отряда генерал-лейтенанта П. П. Липранди, осаждавшего турецкое укрепление Калафат.
(обратно)143
Первоначальное название глав VIII–X «Отрочества» («История Карла Ивановича»).
(обратно)144
Большинство намеченных переделок было осуществлено.
(обратно)145
Рассказ «Метель» был написан только в феврале 1856 г.
(обратно)146
Явная описка.
(обратно)147
За отличие в боях Толстой был 9 января 1854 г. произведен в прапорщики.
(обратно)148
Перед отъездом в Дунайскую армию Толстой поехал в Покровское погостить у сестры Марии Николаевны.
(обратно)149
Завещание было написано в связи с отъездом на войну. Оно не сохранилось.
(обратно)150
В письме от 6 февраля 1854 г. Некрасов писал, что «рассказ вышел груб, и лучшие вещи в нем пропали» (Переписка, т. 1, с. 60).
(обратно)151
12 марта Толстой прибыл в Бухарест, в штаб Дунайской армии, чтобы получить назначение на новое место службы.
(обратно)152
После кратковременной службы в 11-й и 12-й артиллерийских бригадах Толстой был прикомандирован к штабу начальника артиллерии Дунайской армии генерала А. О. Сержпутовского.
(обратно)153
Роман Эжена Сю «Gilbert et Gilberte» (1853).
(обратно)154
Возможно, франклиновский журнал (см. примеч. 6 к Дн. 1851 г.).
(обратно)155
Альфонс Kapp — французский романист. Kapp упоминается в «Детстве», «Отрочестве» и в рассказе «После бала».
(обратно)156
Александр Дюма. «История политической и частной жизни Луи-Филиппа» (Париж, 1852).
(обратно)157
Рапорт о переводе в Крымскую армию.
(обратно)158
Толстого тревожила судьба рукописей «Отрочества» и «Записок маркера», отправленных из Бухареста в «Современник».
(обратно)159
«Маскарад».
(обратно)160
Размышления относятся к рассказу «Рубка леса».
(обратно)161
«Заговор Фиеско» — драма Шиллера (1782).
(обратно)162
Баллада Шиллера «Граф Габсбургский».
(обратно)163
Вторично поданный рапорт о переводе в Севастополь, где уже шли военные действия.
(обратно)164
Комедия А. Н. Островского («Москвитянин», 1850, кн. 6).
(обратно)165
Комедия А. Н. Островского («Москвитянин», 1854, кн. 1).
(обратно)166
Некрасов писал Толстому 10 июля 1854 г.: «Такие вещи, как описание летней дороги и грозы, или сидение в каземате, и многое, многое дадут этому рассказу долгую жизнь в вашей литературе» (Переписка, т. 1, с. 62).
(обратно)167
Высадка англо-франко-турецких войск произошла 2 сентября 1854 г. в Крыму, близ Евпатории.
(обратно)168
Группа передовых офицеров штаба артиллерии Южной армии задумала создать Общество для содействия просвещению солдат. Толстой составил проект устава этого Общества.
(обратно)169
Не надеясь получить разрешение деятельности Общества, несколько офицеров намеревались издавать общедоступный журнал под заглавием «Солдатский вестник» или «Военный листок». Толстой согласился стать одним из его редакторов и написал статью в пробный номер (не сохранился). Однако издание журнала было запрещено.
(обратно)170
То есть сыновья Николая I, великие князья Николай и Михаил, посланные в действующую армию «для поднятия духа» войска.
(обратно)171
Толстой выехал из Кишинева в конце октября и через Одессу, Николаев и Перекоп направился в Севастополь.
(обратно)172
Здесь и в следующей записи ошибки в датах.
(обратно)173
Фурштаты — солдаты из военно-обозных частей.
(обратно)174
К 3-й легкой батарее 14-й артиллерийской бригады.
(обратно)175
Толстой составлял проект создания специальных батальонов, оснащенных нарезным оружием, и докладную записку к нему.
(обратно)176
Перевод не сохранился.
(обратно)177
См. отрывок «Характеры и лица» (ПСС, т. 4).
(обратно)178
Так называемый «Проект о переформировании армии» — резко обличительная записка о пороках николаевской армии и причинах ее поражений. См. т. 16 наст. изд.
(обратно)179
Суть замысла неизвестна.
(обратно)180
В письме к Н. А. Некрасову от 11 января 1855 г. (т. 18 наст. изд., № 38) Толстой предложил печатать в «Современнике» те статьи и очерки, которые предназначались для запрещенного солдатского журнала. Не имея обещанных материалов, он решил сам написать серию очерков. Так началась работа над Севастопольскими рассказами.
(обратно)181
Письмо не сохранилось. Знакомство состоялось 24 октября 1854 г.
(обратно)182
То есть сослуживцев по Дунайской армии.
(обратно)183
Замысел был осуществлен в рассказах «Севастополь в декабре месяце» и «Севастополь в мае».
(обратно)184
30 марта Толстой прибыл со своей батареей в Севастополь и был назначен на один из опаснейших участков обороны — 4-й бастион, где находился до 15 мая.
(обратно)185
Рассказ не был написан. Эпизод воспроизведен в рассказе «Севастополь в декабре месяце».
(обратно)186
Докладная записка главнокомандующему относительно написанного офицером А. А. Бакуниным проекта патриотического воззвания к защитникам Севастополя (см. ПСС, т. 4).
(обратно)187
Толстой решительно пресек обкрадывание солдат своей батареи. См. об этом воспоминания Ю. И. Одаховского («Исторический вестник», 1908, № 1).
(обратно)188
Письмо от И. И. Панаева от 31 мая 1855 г. (Переписка, т. 1, № 65) и июньская книжка «Современника» с рассказом «Севастополь в декабре месяце».
(обратно)189
И. И. Панаев писал: «Статья эта с жадностию прочлась здесь всеми, от нее все в восторге — и между прочим Плетнев, который отдельный ее оттиск имел счастие представить государю императору на сих днях» (Переписка, т. 1, с. 122).
(обратно)190
Рассказ «Рубка леса»; окончен только 18 июня.
(обратно)191
Сокращенная фамилия героя романа Теккерея «История Пенденниса» (1850).
(обратно)192
Начало работы над рассказом «Севастополь в мае».
(обратно)193
Одно из первоначальных названий рассказа «Севастополь в мае».
(обратно)194
Толстой был приглашен сотрудничать в официозной русской газете на французском языке «Le Nord», о чем начальник штаба артиллерии Н. А. Крыжановский не сообщил ему.
(обратно)195
Роман «Лилия в долине» (1835).
(обратно)196
Речь идет о рассказе «Рубка леса».
(обратно)197
То есть переделывать «Юность» по новому плану.
(обратно)198
Запись к «Роману русского помещика». Дер. Хабаровка упоминается в «Утре помещика» и в «Юности».
(обратно)199
28 августа русские войска оставили Севастополь. Толстому в этот день исполнилось 27 лет.
(обратно)200
По поручению командования Толстой составлял донесение о последней бомбардировке и штурме Севастополя (см. ПСС, т. 4).
(обратно)201
Рассказ «Севастополь в мае». О цензурных искажениях рассказа Толстому сообщил в письме от 28 августа И. И. Панаев (Переписка, т. 1, № 71).
(обратно)202
Под «синими» Толстой подразумевал царских жандармов; они носили мундиры и фуражки синего (голубого) цвета.
(обратно)203
На стороне русской армии сражался батальон из местных греков-добровольцев. Толстой обещал им огневую поддержку своей батареей.
(обратно)204
19 ноября Толстой прибыл в Петербург, куда был командирован с донесением о действиях артиллерии в день штурма Севастополя. Он остановился у Тургенева.
(обратно)205
Маша — сожительница Д. Н. Толстого.
(обратно)206
Т. А. Ергольская.
(обратно)207
Д. Н. Толстой скончался 21 января 1856 г.
(обратно)208
См. Дн. от 3 июля 1854 г.
(обратно)209
Ссора произошла 6 февраля за обедом у Некрасова из-за грубого отзыва Толстого о Жорж Санд.
(обратно)210
В июне Толстой начал работать над оставшимися незавершенным комедиями «Дворянское семейство» и «Практический человек» (см. ПСС, т. 7).
(обратно)211
Мирный договор, закончивший Восточную войну, был подписан в Париже только 18 (30) марта 1856 г.
(обратно)212
Первое упоминание о повести «Два гусара».
(обратно)213
Толстой случайно прочел письмо сотрудника «Современника» М. Н. Лонгинова Н. А. Некрасову, в котором он оскорбительно отозвался о Толстом. По настоянию Некрасова дуэль не состоялась.
(обратно)214
Сохранились три наброска статьи о военных наказаниях в русском военно-уголовном законодательстве (см. ПСС, т. 5).
(обратно)215
К. Д. Кавелин — автор записки о крестьянском вопросе (1855), в которой предлагал наделить крестьян помещичьей землей, а помещикам выплатить «вознаграждение».
(обратно)216
Наброски проектов освобождения яснополянских крестьян. Толстой предполагал освободить их от всех повинностей, передать им землю, примерно по четыре с половиной десятины на семью, за что крестьяне будут платить по 5 р. с десятины в продолжение тридцати лет. По истечении срока земля станет собственностью крестьян (см. ПСС, т. 5).
(обратно)217
Речь идет о докладной записке Толстого, адресованной одному из деятелей Комитета по крестьянскому вопросу А. И. Левшину, об условиях освобождения яснополянских крестьян (см. ПСС, т. 5).
(обратно)218
Вероятно, И. С. Аксаковым. Толстой в это время часто бывал у Аксаковых, интересуясь взглядами славянофилов на крестьянский вопрос.
(обратно)219
Живописец и график В. Ф. Тимм, готовя к изданию свои зарисовки военных эпизодов, просил Толстого написать к ним текст. Толстой этого не сделал.
(обратно)220
Возмущение Толстого было вызвано статьей М. П. Погодина «Московские празднества в честь севастопольских моряков» в майском номере «Морского сборника».
(обратно)221
Тургеневы — А. М. Тургенев и его семья. Толстой читал в их доме свои «Военные рассказы».
(обратно)222
Толстой имеет в виду болезнь Некрасова. В письме к Тургеневу от 24 мая того же года Некрасов писал о Толстом: «…я заметил в нем весьма скрытое, но несомненное участие ко мне» (Некрасов, т. 10, с. 275).
(обратно)223
Имеется в виду Турбин-сын в повести «Два гусара».
(обратно)224
Получив отпуск, Толстой 17 мая выехал в Москву.
(обратно)225
«Дневник лишнего человека» И. С. Тургенева (сб. «Для легкого чтения», 1856, кн. 1).
(обратно)226
С К. С. Аксаковым.
(обратно)227
4-й отрывок «Семейной хроники» С. Т. Аксакова — «Молодые в Багрове» («Русская беседа», 1856, № 2).
(обратно)228
Семья дяди писателя — H. H. Тургенева, управлявшего его имением.
(обратно)229
Первое упоминание о замысле рассказа «Холстомер».
(обратно)230
Драма «Каменный гость».
(обратно)231
В коронацию Александра II, намеченную на 26 августа.
(обратно)232
См. в наст. томе с. 169–178.
(обратно)233
То есть «Беглый казак», раннее название повести «Казаки».
(обратно)234
«Практический человек» или «Дворянское семейство».
(обратно)235
«Материалы для биографии А. С. Пушкина» П. В. Анненкова.
(обратно)236
См. «Дневник помещика», с. 175–177 наст. тома.
(обратно)237
«Охота на Кавказе», очерки гр. H. H. Толстого (С, 1857, № 1).
(обратно)238
«Казаки» Толстой начал в конце 1852 г. в стихах. Позднее один из вариантов был написан ритмической прозой.
(обратно)239
«Ньюкомы» — роман В. Теккерея (1853–1855).
(обратно)240
Мужик утонул в яснополянском пруду.
(обратно)241
Письмо к Н. А. Некрасову от 2 июля 1856 г. с резким отзывом о Чернышевском (см. т. 18 наст. изд., № 57).
(обратно)242
В Покровское к M. H. Толстой.
(обратно)243
Валерия Арсеньева собиралась ехать в Москву на торжества по поводу коронации Александра II.
(обратно)244
Сохранилось начало «фантастического рассказа» (см. ПСС, т. 5).
(обратно)245
Рассказ «Отъезжее поле» остался неоконченным (см. ПСС, т. 5).
(обратно)246
См. рассуждение «о понимании» в гл. XXIX «Юности».
(обратно)247
Статья Н. В. Берга «Из крымских заметок…» (С, 1856, № 8). Буквы «р.л.» в ПСС расшифрованы как «русский литератор» (т. 47, с. 91).
(обратно)248
Рукопись «Юности» была послана А. В. Дружинину с просьбой высказать мнение о ней.
(обратно)249
В. В. Арсеньева увлеклась в Москве пианистом Мортье, у которого она брала уроки музыки.
(обратно)250
«Страдания молодого Вертера» Гете (1774).
(обратно)251
Е. П. Ковалевскому Толстой писал: «Я с этой же почтой посылаю Константинову рапорт об отставке» (см. т. 18 наст. изд., № 59).
(обратно)252
Комедия «Дядюшкино благословение». Сохранился конспект пьесы и перечень действующих лиц (см. ПСС, т. 7).
(обратно)253
«Мещанин во дворянстве» — комедия Мольера (1670).
(обратно)254
«Дядюшкино благословение». Оленька — О. В. Арсеньева; дядюшка — родственник Арсеньевой Н. В. Киреевский.
(обратно)255
H. H. Тургенев, пользуясь отсутствием И. С. Тургенева, управлял его имением небрежно и расточительно.
(обратно)256
В письмах к В. В. Арсеньевой Толстой называл себя г-ном Храповицким, а ее — г-жой Дембицкой.
(обратно)257
К этому времени вышли в свет два номера журнала «Полярная звезда», издававшегося А. И. Герценом в Лондоне.
(обратно)258
В 1855 г. в Севастополе Толстой сочинил сатирическую песню «Как четвертого числа», в которой высмеивались бездарные царские генералы. К. И. Константинов сообщил Толстому, что великий князь Михаил Николаевич разгневан тем, что Толстой якобы учил этой песне солдат.
(обратно)259
Толстой ездил к генерал-лейтенанту А. А. Якимаху объясняться по поводу своей песни.
(обратно)260
Рецензия С. С. Дудышкина на отдельное издание «Детства и Отрочества» и «Военных рассказов» (ОЗ, 1856, № 11).
(обратно)261
«Свободная любовь». Комедия осталась незаконченной (см. ПСС, т. 7).
(обратно)262
Книгопродавцу А. И. Давыдову, возможно — с целью издать «Юность» отдельной книгой.
(обратно)263
Трагедия Шекспира «Король Генрих IV» (1598).
(обратно)264
А. А. Краевскому для напечатания в журнале «Отечественные записки».
(обратно)265
«Кармен» — повесть Проспера Мериме (1845).
(обратно)266
«Дворянское семейство» или «Практический человек».
(обратно)267
«Обыкновенная история» (1844–1846) — роман И. А. Гончарова.
(обратно)268
«Бедная невеста» — комедия А. Н. Островского (1851).
(обратно)269
Статья А. В. Дружинина «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения», направленная против эстетических взглядов Чернышевского (Бдч, 1856, № 12).
(обратно)270
«Король Лир», трагедия Шекспира. Толстой прочел ее в переводе А. В. Дружинина (С, 1856, № 12).
(обратно)271
Здесь и далее речь идет о корректурах «Юности».
(обратно)272
Статья В. П. Боткина о стихотворениях А. А. Фета (позднее напечатана в С, 1857, № 1).
(обратно)273
«Лиром» Толстой назвал старика А. М. Тургенева.
(обратно)274
К архимандриту Иоанну Соколову по поводу изъятий, сделанные духовной цензурой в корректурах «Юности».
(обратно)275
Об отставке.
(обратно)276
П. А. Вяземский, ведавший делами цензуры, запретил вторую часть предпоследней главы «Юности» («Зухин и Семенов»).
(обратно)277
Н. X. Морсочников — владелец имения Телятинки, вблизи Ясной Поляны. Своих крестьян он довел до полного разорения.
(обратно)278
Текст договора см. ПСС, т. 5, с. 248–249.
(обратно)279
Докладная записка Толстого товарищу министра внутренних дел А. И. Левшину (см. ПСС, т. 5).
(обратно)280
Имеется в виду обращение Александра II к депутации московскою дворянства в марте 1856 г.: «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собою начнет отменяться снизу» (цит. по Энциклопедическому словарю Рус. библиогр. ин-та «Бр. Гранат и K°», т. 1, с. 140).
(обратно)281
Письмо от 16/28 декабря 1856 г. (Переписка, т. 1, с. 150–152).
(обратно)282
См. т. 18 наст. изд., № 76.
(обратно)283
Письмо неизвестно.
(обратно)284
«Новое платье короля».
(обратно)285
Письмо неизвестно.
(обратно)286
Проект устава Литературного фонда «для пособия нуждающимся лицам ученого и литературного круга».
(обратно)287
Толстой читал статьи В. Г. Белинского о Пушкине (опубл. — ОЗ, 1843–1846).
(обратно)288
To есть в спектакле в пользу Литературного фонда.
(обратно)289
Пятая статья Белинского о Пушкине (ОЗ, 1844, № 2).
(обратно)290
Письмо неизвестно.
(обратно)291
Слухи об «освобождении» были вызваны учреждением 3 января 1857 г. «Негласного комитета» по крестьянскому вопросу.
(обратно)292
Кизеветтер Георг — скрипач. Толстой задумал произведение из его жизни, которое позднее было озаглавлено «Альберт» (первоначальное название «Пропащий»).
(обратно)293
Замысел не был осуществлен.
(обратно)294
Запись относится к комедии «Практический человек».
(обратно)295
Вероятно, повесть «Столичные родственники» (Бдч, 1857, № 1, 2).
(обратно)296
П. И. Юшкова.
(обратно)297
Спор был вызван статьей В. В. Григорьева «Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве» («Русская беседа», 1856, кн. 3, 4). В статье развенчивался Т. Н. Грановский, которому Толстой симпатизировал.
(обратно)298
«Детские годы Багрова-внука».
(обратно)299
Более подробный отзыв Толстого см. в письме к А. Н. Островскому от 29? января 1857 г. (т. 18 наст. изд., № 83).
(обратно)300
29 января Толстой выехал за границу.
(обратно)301
Речь идет, вероятно, о материалах для Герцена, которые Д. Я. или Е. Я. Колбасин хотел передать через И. Касаткина ехавшему за границу Толстому.
(обратно)302
Здесь и в некоторых последующих записях заграничного Дневника двойные даты (по старому и новому стилю) у Толстого не точны. В прямых скобках даются точные даты.
(обратно)303
То есть перешел на новую квартиру.
(обратно)304
Речь Наполеона III, в которой он превозносил успехи Франции, достигнутые при его правлении.
(обратно)305
Описание поездки из России через Польшу во Францию. Замысел не был осуществлен.
(обратно)306
Толстой смотрел во «Французском театре» комедии Мольера «Смешные жеманницы» и «Скупой».
(обратно)307
«Vers de Vergile» («Стихи Вергилия») — двухактная комедия Мельвиля.
(обратно)308
Рассказ «Пропащий» («Альберт»).
(обратно)309
В соборе Дома инвалидов находится гробница Наполеона I.
(обратно)310
Запись относится к спиритическому сеансу Д. Юма у Н. И. Трубецкого.
(обратно)311
Театр оперетты.
(обратно)312
Театр легкого репертуара (оперетта, пантомима).
(обратно)313
«Чертовы деньги» — пышная феерия в парижском цирке.
(обратно)314
Парижское кладбище, на котором похоронены многие государственные деятели и писатели Франции.
(обратно)315
Роман «Кузина Бетта» (1846).
(обратно)316
«Мирра» — трагедия итальянского поэта Альфиери (1791).
(обратно)317
Публичная казнь на гильотине осужденного за убийство Франсуа Рише.
(обратно)318
Письмо вызвано зрелищем смертной казни (см. т. 18 наст. изд., № 90).
(обратно)319
Бокаж, как и упоминаемые ниже Кларан, Монтрё, Ле-Бассе, Кивасо, Грессоне, Трините, Гриндельвальд, Шафгаузен — местности и населенные пункты на западе Франции и в Швейцарии.
(обратно)320
Произведения, над которыми Толстой намеревался работать: 1) «Отъезжее поле»; 2) «Юность»; 3) «Беглец»; 4) «Погибший»; 5) «Семейное счастие».
(обратно)321
«Человеческая комедия» — название цикла романов Бальзака (1842–1848). Речь идет о предисловии к первому тому издания, в котором Бальзак изложил принципы, на которых основана его эпопея.
(обратно)322
А. Токвиль. «Старый порядок и революция» (1856).
(обратно)323
Эмиль Жирарден. «О свободе прессы и журнализма» (1842).
(обратно)324
Конспект повести «Беглец».
(обратно)325
Роман А. Дюма-сына.
(обратно)326
Имеется в виду интервенция английских войск в Китае. Об этом Толстой с осуждением упоминает в рассказе «Люцерн».
(обратно)327
Ж.-М. Саррю. «Биография современных людей».
(обратно)328
«Отрывок Дневника 1857 года» (стр. 196–216 наст. тома).
(обратно)329
Роман шведской писательницы Ф. Бремер (1837).
(обратно)330
16 июня Толстой заехал в Турин, где в это время находились А. В. Дружинин, В. П. Боткин и его брат Владимир.
(обратно)331
Туринская академия с картинной галереей.
(обратно)332
Стихотворение из цикла «Зезенгеймских песен» (1770).
(обратно)333
Памятник, изображающий льва с обломком копья между ребер (скульптор Торвальдсен).
(обратно)334
Встреча с певцом легла в основу рассказа «Люцерн».
(обратно)335
«Ученические годы Вильгельма Мейстера» Гете (1794).
(обратно)336
«Жизнь Шарлотты Бронте» Е. Гаскел (1857).
(обратно)337
Вероятно, комедия Карла Гуцкова «Лист бумаги» (1843).
(обратно)338
После Дрездена Толстой побывал в Берлине, Штеттине и 27 июля выехал морем в Петербург, куда и прибыл 30 июля.
(обратно)339
Речь идет о сложных отношениях между И. И. Панаевым, Н. А. Некрасовым и А. Я. Панаевой, ставшей гражданской женой Некрасова.
(обратно)340
1 августа Толстой читал «Люцерн» Н. А. Некрасову, И. И. Панаеву и А. Я. Панаевой.
(обратно)341
Толстой читал «Губернские очерки» M. E. Салтыкова-Щедрина (1856–1857).
(обратно)342
Запись отражает тяжелое настроение Толстого после его возвращения из-за границы. 18 августа Толстой писал об этом А. А. Толстой: «В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши то же происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие» (см. т. 18 наст. изд., № 98).
(обратно)343
Начало стихотворения Пушкина «Деревня» (1819).
(обратно)344
Римский император Тит считал потерянным тот день, в который он не сделал доброго дела.
(обратно)345
«Илиада» Гомера в переводе Н. И. Гнедича.
(обратно)346
«Казаки».
(обратно)347
Возможно, «Семейное счастие».
(обратно)348
«Записки мужа» остались незаконченными (см. ПСС, т. 5).
(обратно)349
«Стихотворения А. В. Кольцова», изданные в 1846 г.
(обратно)350
27 августа Толстой поехал в Пирогово на охоту.
(обратно)351
Толстой опасался увлечения M. H. Толстой И. С. Тургеневым.
(обратно)352
H. H. Тургенев с женой и свояченицей.
(обратно)353
Вероятно, «Семейное счастие».
(обратно)354
«Думы» А. В. Кольцова.
(обратно)355
Роман Ф.-В. Гаклендера «Европейская рабская жизнь» (1854).
(обратно)356
Этот запальчивый отзыв относится к тем письмам Гоголя, где он поучает помещиков «строго» обращаться с крестьянами.
(обратно)357
Обзор в «Петербургских ведомостях» от 28 сентября 1857 г. с резким отзывом о «Люцерне».
(обратно)358
16 октября Толстой выехал вместе с сестрой в Москву.
(обратно)359
Л. А. Берс — подруга детских лет Толстого, мать его будущей жены Софьи Андреевны.
(обратно)360
Толстой посетил министра M. H. Муравьева по делу о своем проекте лесонасаждения в Тульской губ.
(обратно)361
Историей о В. А. Перовском, попавшем к французам в плен, Толстой воспользовался при описании плена Пьера Безухова в «Войне и мире».
(обратно)362
Комедия M. E. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)363
«Заволжские очерки» Н. С. Толстого (СПб., 1857).
(обратно)364
«Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера» А. И. Ершова. СПб., 1857.
(обратно)365
«Пускай… плюет на алтарь» — слова из стихотворения Пушкина «Поэту» (1830).
(обратно)366
Возможно, письмо о предстоящем браке В. В. Арсеньевой.
(обратно)367
Комедия А. Красовского.
(обратно)368
А. А. Оболенская, рожд. Дьякова. Об увлечении ею см. набросок: «Он не мог ни уехать, ни оставаться» (ПСС, т. 5).
(обратно)369
А. А. Фет прочел Толстому свой перевод трагедии Шекспира.
(обратно)370
Толстой собирался закончить «Казаки» гибелью и молодого казака и офицера. Позднее он отказался от этого намерения.
(обратно)371
Толстой читал у Аксаковых «Погибшего».
(обратно)372
Описание сна музыканта в повести «Погибший».
(обратно)373
Роман, написанный Н. А. Некрасовым и А. Я. Панаевой.
(обратно)374
О каких стихах Тютчева идет речь, неизвестно.
(обратно)375
Рескрипт Александра II, положивший начало крестьянской реформе.
(обратно)376
«Умной» называлась читальная комната.
(обратно)377
Сухотиным.
(обратно)378
«Надинством» Толстой называл женскую болтовню.
(обратно)379
Торжественный обед в связи с рескриптом о крестьянской реформе.
(обратно)380
Обед состоялся 28 декабря. Речь на нем писателя Н. Ф. Павлова выделялась своей антикрепостнической направленностью.
(обратно)381
Со слов брата Николая Толстой написал отрывок «Сон» (см. ПСС, т. 7).
(обратно)382
М. И. и М. Я. Пущины.
(обратно)383
А. Р. Поливанова.
(обратно)384
Галаховы — семья петербургского обер-полицеймейстера А. П. Галахова.
(обратно)385
П. И. Мещерский с семьей.
(обратно)386
Этот островок воспет Байроном в поэме «Шильонский узник».
(обратно)387
Е. Ф. Тютчева.
(обратно)388
Толстой намеревался основать в Москве музыкальное общество (замысел не был осуществлен).
(обратно)389
В. А. Кокорев выступал на торжественном обеде с речью, в которой доказывалась «большая выгода», которую извлечет купечество из предстоящей реформы. Речь была напечатана в «Русском вестнике» (1857, декабрь, кн. 2).
(обратно)390
У Сушковых, где жила Е. Ф. Тютчева.
(обратно)391
Рассказ «Три смерти».
(обратно)392
С С. С. Громекой для совместной охоты.
(обратно)393
Толстой решал, как закончить рассказ «Три смерти» — смертью мужика или смертью дерева.
(обратно)394
Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин».
(обратно)395
Повесть И. С. Тургенева (С, 1858, № 1).
(обратно)396
Вероятно, рассказ «Три смерти».
(обратно)397
Толстой читал очерк Монтегю «Исповедь ипохондрика», в котором обличалось французское общество («Revue des deux Mondes», 1858, январь).
(обратно)398
Комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь» (Бдч, 1857, № 8).
(обратно)399
Цыганка M. M. Шишкина.
(обратно)400
Статья В. Ф. Корша «Парламентские выборы и парламентские реформы в Англии» («Атеней», 1858, ч. 1).
(обратно)401
Стихотворение «Эпилог ненаписанной поэмы» — первоначальный вариант поэмы «Несчастные» (С, 1858, № 2).
(обратно)402
«О настоящем и будущем положении помещичьих крестьян» («Атеней», 1858, ч. 1).
(обратно)403
В. С. Перфильев — друг молодости Толстого.
(обратно)404
Письмо не сохранилось. В ответном письме Алексеев сообщил, что отправил Толстому записи 10 казацких песен.
(обратно)405
Толстой написал Некрасову о своем решении отказаться от так наз. «обязательного соглашения» 1856 года, по которому он, Григорович, Островский и Тургенев обязались печатать свои произведения только в «Современнике».
(обратно)406
То есть рассказ «Альберт».
(обратно)407
Толстой ошибся. «Блудный сын» — картина Рембрандта.
(обратно)408
Этот отзыв относится ко второму из «Двух отрывков из книги об умирающих» M. E. Салтыкова-Щедрина («Русский вестник», 1858, март, кн. 2).
(обратно)409
«Промышленность и государство в Англии» («Атеней», 1858, ч. 2).
(обратно)410
«Птицы» и «Насекомые» — естественнонаучные труды Жюля Мишле.
(обратно)411
Толстой прочел отчет о судебном процессе доктора Симона Бернара, обвинявшегося в изготовлении бомб для итальянского революционера Феличе Орсини, который 14 января 1858 г. покушался на жизнь Наполеона III.
(обратно)412
Изложение речи Ч. Диккенса, в которой он критиковал деятельность лондонского Общества литературного фонда.
(обратно)413
В журнале «Атеней» были опубликованы рецензии на книги, посвященные осаде английскими войсками в 1857 г. г. Лукнова (Лакхнау) в Индии во время жестокого подавления ими восстания туземных солдат.
(обратно)414
«Путешествие гг. Башамона и Ла-Шапеля» (1680) — шутливое описание путешествия.
(обратно)415
Книга французского маршала Блеза де Монлюка, в которой он хвастливо описывает свои подвиги.
(обратно)416
Рассказ не был закончен (см. ПСС, т. 5).
(обратно)417
Один из вариантов повести «Казаки» (см. ПСС, т. 90).
(обратно)418
Б. Н. Чичерин писал о своем желании сблизиться с Толстым.
(обратно)419
А. В. Дружинин предложил Толстому создать «чисто литературный журнал», противостоящий «Современнику» (Переписка, т. 1, с. 272–274).
(обратно)420
Эпизод на кордоне в «Казаках».
(обратно)421
Первый том «Истории Англии с восшествия на престол Иакова II» Т. Маколея (1849).
(обратно)422
Аксинья Базыкина — яснополянская крестьянка, с которой Толстой был близок.
(обратно)423
После неудачных переговоров со своими крестьянами в 1856 г. (см. «Дневник помещика») Толстой летом 1858 г. попытался вести с ними хозяйство на артельных началах, но снова встретил с их стороны недоверие.
(обратно)424
Вырезка статьи о «Детстве» Толстого.
(обратно)425
Замысел не был полностью осуществлен (см. «Лето в деревне», ПСС, т. 5).
(обратно)426
На тульском губернском дворянском собрании Толстой подписал заявление 105 дворян о необходимости освобождения крестьян с наделением их землей.
(обратно)427
Эта и последующая записи касаются отношений Тургенева и M. H. Толстой, которых Толстой не одобрял.
(обратно)428
Один из эпизодов повести «Казаки».
(обратно)429
Имеется в виду «Лето в деревне».
(обратно)430
См. т. 16 наст. изд.
(обратно)431
Во время охоты в окрестностях Вышнего Волочка медведица поранила Толстому лицо.
(обратно)432
Работа над романом «Семейное счастие».
(обратно)433
То есть в А. В. Львову и ее сестру, жену А. Г. Гагарина.
(обратно)434
Эти дни — с 10 по 20 марта — Толстой провел в постоянном общении с А. А. Толстой.
(обратно)435
Анной в первоначальных вариантах звали героиню «Семейного счастия».
(обратно)436
Книга О. Фёйе «Роман бедного молодого человека» (1858).
(обратно)437
Утин — «прострел», радикулит.
(обратно)438
«Адам Вид» — роман Джордж Элиот (1859).
(обратно)439
Статья Альфреда Мори «Вырождение человеческого рода» («Revue des deux Mondes», 1860, январь).
(обратно)440
В конце октября 1859 г. Толстой начал занятия с крестьянскими детьми.
(обратно)441
Эта работа неизвестна.
(обратно)442
Роман В. Ауэрбаха «Новая жизнь» (1851).
(обратно)443
«Рейнеке-лис» — поэма Гете (1793).
(обратно)444
Записку, содержащую критику нового «Проекта» устава низших и средних школ (см. ПСС, т. 8).
(обратно)445
Дата старого стиля у Толстого ошибочна: надо 21 июля. Такого рода ошибки в датировке встретятся и дальше.
(обратно)446
27 июня Толстой выехал вместе с M. H. Толстой и ее детьми за границу. Его целью было ознакомиться с постановкой школьного дела в Европе. Побывав в Штеттине, Берлине и Лейпциге, он 15/27 июля приехал в баварский курорт Киссинген.
(обратно)447
«История педагогики» Карла Раумера, 4 тома (1843–1851).
(обратно)448
Записи о Френсисе Бэконе вызваны чтением «Истории педагогики» Раумера, где рассматривались философско-педагогические взгляды Бэкона.
(обратно)449
Толстой читал труд Генриха Риля «Естественная история народа, как основа немецкой социальной политики».
(обратно)450
Этот отзыв о Ю. Фребеле, вероятно, вызван его высказыванием о положении в России. Именно об этом шла речь между Толстым и Фребелем.
(обратно)451
Вероятно, сборник статей Герцена «За пять лет». Лондон, 1860.
(обратно)452
Сборник статей В.-Г. Риля «Опыты по истории культуры за три столетия». Штутгарт, 1859.
(обратно)453
Первое упоминание о рассказе «Идиллия». Записи в следующие дни относятся к этому же замыслу.
(обратно)454
Запись относится к повести «Казаки».
(обратно)455
H. H. Толстой скончался 20 сентября 1860 г.
(обратно)456
Замечание относится к Н. И. Тургеневу.
(обратно)457
Толстой противопоставляет школам Марселя, произведшим на него тяжелое впечатление, — музеи, театры, журналы, кафе, которые являются подлинной школой воспитания народа.
(обратно)458
Роман «Декабристы».
(обратно)459
В Гиере, а затем в Брюсселе Толстой сблизился с семьей вице-президента Академии наук М. А. Дондукова-Корсакова. Княгиня — его сестра Е. А. Голицына, рожд. Корсакова; Катенька — племянница Е. А. Голицыной Е. А. Корсакова-Дондукова.
(обратно)460
Рассказ «Идиллия» или его вторая редакция — «Тихон и Маланья».
(обратно)461
В Иене Толстой посетил школу педагога Карла Стоя и ознакомился с его сочинениями.
(обратно)462
Г. Ценкер. «О сущности образования» (Иена, 1859).
(обратно)463
Толстой имеет в виду книгу Ф.-К. Бидермана «Преподавание истории по культурно-историческому методу». Лейпциг, 1860.
(обратно)464
Толстой пригласил молодого педагога Густава Келера на работу в Яснополянскую школу.
(обратно)465
«Волшебная флейта» — опера Моцарта (1791).
(обратно)466
В этот день Толстой познакомился с немецким писателем Б. Ауэрбахом и долго беседовал с ним.
(обратно)467
Цикл народных рассказов Б. Ауэрбаха.
(обратно)468
После поездки по Германии Толстой 10 апреля выехал в Россию.
(обратно)469
Толстой был назначен мировым посредником по 4-му участку Крапивенского уезда Тульской губ. и исполнял эту должность до 26 мая 1862 г.
(обратно)470
Толстой приглашал учителя Тульской гимназии Е. Л. Маркова стать соредактором основанного им педагогического журнала «Ясная Поляна».
(обратно)471
Е. А. Берс — старшая дочь А. Е. Берса. В семье Берсов считали, что Толстой намерен на ней жениться.
(обратно)472
«Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», утвержденное 19 февраля 1861 г.
(обратно)473
Прошение о том, чтобы Яснополянская школа была разрешена властями.
(обратно)474
Ссора произошла в Степановке, имении А. А. Фета. Она чуть не привела к дуэли. См. подробнее письма 144 и 147 в т. 18 наст. изд. и примеч. к ним.
(обратно)475
Программу журнала «Ясная Поляна».
(обратно)476
Письмо не сохранилось. По словам С. А. Толстой, он писал: «Если я оскорбил вас, простите меня, мне невыносимо грустно думать, что я имею врага» (ДСТ, т. 1, с. 510).
(обратно)477
Письмо от 6/18 апреля 1861 г., в котором Толстой писал о невозможности истинной дружбы между ними (см. т. 18 наст. изд., № 140).
(обратно)478
Толстой не был болен чахоткой.
(обратно)479
Не получив вовремя «примирительного» письма Толстого, (см. примеч. 17), Тургенев отправил ему 26 сентября резкое письмо, в котором писал, что по возвращении весной в Россию потребует удовлетворения.
(обратно)480
См. т. 18 наст. изд., № 148.
(обратно)481
«Дневник Яснополянской школы за ноябрь месяц»; позднее переработан в статью «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» (см. ПСС, т. 8).
(обратно)482
Книга П. М. Перевлесского «Предметные уроки по мысли Песталоцци». СПб., 1862.
(обратно)483
В мае 1862 г. Толстой поехал в самарскую степь для лечения кумысом. От Твери он часть пути проехал по Волге на пароходе.
(обратно)484
Статья «Воспитание и образование» (см. т. 16 наст. изд.).
(обратно)485
Здесь и ниже речь идет об отношении к С. А. Берс, будущей жене Толстого.
(обратно)486
Статья «Прогресс и определение образования» (см. т. 16 наст. изд.) — ответ на критическую статью Е. Л. Маркова «Теория и практика Яснополянской школы» («Русский вестник», 1862, № 5).
(обратно)487
Статья «Об общественной деятельности на поприще народного образования» (см. ПСС, т. 8).
(обратно)488
6-7 июля 1862 т. в отсутствие Толстого жандармами был произведен обыск в Ясной Поляне. Толстой написал об этом резкое письмо Александру II.
(обратно)489
Военные маневры в Москве на Ходынском поле, в присутствии Александра II, произвели на Толстого тягостное впечатление.
(обратно)490
Толстой посетил генерал-лейтенанта Н. А. Крыжановского и графа Орлова в связи с письмом, поданным Александру II.
(обратно)491
С. П. Каткова, дочь писателя П. И. Шаликова.
(обратно)492
Соня — С. А. Берс.
(обратно)493
В повести «Наташа» Софья Берс описала «непривлекательной наружности пожившего князя Дублицкого», которому придала некоторые черты Л. Н. Толстого. В последующих дневниковых записях Толстой называет себя Дублицким.
(обратно)494
Журнал «Ясная Поляна», № 6.
(обратно)495
28 августа Толстой написал С. А. Берс начальными буквами слова, по которым она должна была догадаться о его отношении к ней. Этот эпизод воспроизведен в «Анне Карениной» (ч. IV, гл. XIII).
(обратно)496
По-видимому, А. А. Оболенская.
(обратно)497
Очерк Е. А. Берс о Магомете (Книжки «Ясной Поляны», № 7).
(обратно)498
Толстой писал, что он «вообще напутал и сам запутался» в семье Берсов, вследствие чего ему «надо лишить себя лучшего наслаждения» — перестать бывать у них (см. ПСС, т. 83, с. 3–4).
(обратно)499
Письмо к С. А. Берс от 14 сентября, в котором Толстой делает ей предложение (см. ПСС, т. 83, № 2).
(обратно)500
В. Е. Зябрев, староста деревни Ясная Поляна.
(обратно)501
После женитьбы Толстой прекратил свои занятия в Яснополянской школе, а также издание журнала «Ясная Поляна». Вскоре закрылись и школы, созданные им в других деревнях. Студенты-учителя стали разъезжаться.
(обратно)502
«Мадам Лаборд» — так шутя звали дома Т. А. Берс.
(обратно)503
Замысел позднее воплощен в романе «Анна Каренина», в образах Кознышева и Левина.
(обратно)504
Повесть А. В. Дружинина (С, 1847, № 12).
(обратно)505
«Грех да беда на кого не живет» — драма А. Н. Островского. Толстой смотрел ее 21 января в Малом театре.
(обратно)506
«Прогресс и определение образования» (опубл. — «Ясная Поляна», № 12 — см. т. 16 наст. изд.).
(обратно)507
Возможно, «Холстомер» или первые наброски «Войны и мира».
(обратно)508
«Отверженные» — роман В. Гюго (1862).
(обратно)509
Повесть «Холстомер».
(обратно)510
28 июня 1863 г. родился старший сын Толстого — Сергей.
(обратно)511
Т. А. и А. А. Берсы.
(обратно)512
То есть П. Ф. Перфильеву.
(обратно)513
M. H. Толстую.
(обратно)514
С. А. Толстая, из-за своего болезненного состояния, не хотела кормить грудью своих детей. Толстой же был принципиально против того, чтобы детей выхаживали кормилицы.
(обратно)515
Дуться (от фр. bouder).
(обратно)516
Запись на отдельном листе (ПСС, т. 48, с. 342).
(обратно)517
Роман «Тысяча восемьсот пятый год» (первая часть опубл. — «Русский вестник», 1865, № 1–2). Позднее в переработанном виде вошел в роман «Война и мир».
(обратно)518
Возможно, Толстой предполагал вести дневник, посвященный материнским заботам С. А. Толстой, началом которого является запись от 5 августа 1863 г.
(обратно)519
Обе записи относятся к характеристике старого князя Болконского в романе «Тысяча восемьсот пятый год».
(обратно)520
Гл. I–III второй части романа «Тысяча восемьсот пятый год».
(обратно)521
У С. Н. Толстого умер маленький сын — Николай.
(обратно)522
«Мемуары» наполеоновского маршала Огюста Вьес де Мармона, герцога Рагузского, о войне 1805–1812 гг. (Париж, 1856–1857).
(обратно)523
Замысел был осуществлен в романе «Война и мир».
(обратно)524
Статья «Из записок графа Василия Алексеевича Перовского о 1812 годе. Плен у французов» («Русский архив», 1865, № 3).
(обратно)525
Имеется в виду описанный В. Перовским эпизод, когда маршал Даву вначале решил его расстрелять, а затем помиловал. Эпизод использован в «Войне и мире», в сцене допроса Пьера Безухова.
(обратно)526
Статья Е. Л. Маркова о «Казаках» «Народные типы в нашей литературе» (ОЗ, 1865, кн. 1 и 2).
(обратно)527
Сцена переправы через Энский мост в романе «1805 год».
(обратно)528
26 июня Толстые уехали в имение H. H. Толстого Никольское Вяземское и вернулись в Ясную Поляну 12 октября.
(обратно)529
«Консуэло» — роман Жорж Санд.
(обратно)530
Сражение под Шенграбеном — гл. XVII–XXI второй части первого тома «Войны и мира».
(обратно)531
Роман А. Троллопа «Семья Бертрам», 1859.
(обратно)532
Отрывок «О религии» (см. ПСС, т. 7).
(обратно)533
Роман Ч. Диккенса «Наш общий друг». Героиню романа Беллу Толстой сравнивает с Т. А. Берс.
(обратно)534
Жозеф де Местр. «Дипломатическая переписка (1811–1817)» (Париж, 1861).
(обратно)535
Из записной книжки № 2 (ПСС, т. 48, с. 85).
(обратно)536
Из записной книжки № 3 (ПСС, т. 48, с. 104–107).
(обратно)537
Эта и следующие записи 1870 года сделаны на отдельных листах (ПСС, т. 48, с. 343–345), а также в записных книжках № 3 и 4 (с. 111–112, 124–126).
(обратно)538
Толстой, вероятно, имеет в виду статью Н. В. Шелгунова «Философия застоя» («Дело», 1870, № 1) и другие рецензии, в которых резко критикуются философские рассуждения в романе «Война и мир».
(обратно)539
«Ифигения в Тавриде» (1779), «Эгмонт» (1788) — трагедии Гете.
(обратно)540
«Генрих IV», «Кориолан» — трагедии Шекспира.
(обратно)541
Эпиграмма Пушкина на стихотворение В. А. Жуковского «Тленность» приведена с небольшим разночтением.
(обратно)542
Эта мысль Гете взята из его «Изречений в прозе».
(обратно)543
Из записной книжки № 3 (ПСС, т. 48, с. 112–113).
(обратно)544
Художественный фарфор, изготовляемый в г. Севр под Парижем.
(обратно)545
Отзыв Толстого относится к «Опытам» Монтеня.
(обратно)546
Толстой читал своим детям роман Жюля Верна «Путешествие вокруг Луны».
(обратно)547
В диалоге Платона «Федон» тело сравнивается с лирой, а душа — с издаваемой ею гармонией.
(обратно)548
Эта запись следует в дневниковой тетради после записи от 10 апреля 1865 г.
(обратно)549
Материалы, присланные археологом М. А. Веневитиновым. Толстой в это время работал над романом «Декабристы».
(обратно)550
В. И. Алексеев, учитель в доме Толстых. Речь, вероятно, шла о желании Алексеева поселиться на земле, купленной Толстым в Самарской губ.
(обратно)551
«Жизнь и приключения Андрея Болотова» (4 тома, 1871–1873).
(обратно)552
Е. А. Маликовой, женой В. И. Алексеева.
(обратно)553
А. С. Орехов — слуга в доме Толстых.
(обратно)554
«Исповедь» («замечания») H. Д. Фонвизиной, полученные от декабриста П. Н. Свистунова (см. т. 18 наст. изд., письмо 342 и примеч.).
(обратно)555
«Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой земле постриженника Святыя горы Афонския инока Парфения» (4 тома, М., 1855).
(обратно)556
«Моя жизнь» («Первые воспоминания»). Осталось незавершенным. См. т. 10 наст. изд.
(обратно)557
Толстой построил там себе избушку для уединенной работы.
(обратно)558
Из записной книжки № 7 (ПСС, т. 48, с. 195).
(обратно)559
Из записной книжки № 7 (ПСС, т. 48, с. 214–217). Записи народных слов и выражений, слышанных от прохожих, особенно крестьян. По словам H. H. Страхова, Толстой «стал удивительно чувствовать красоту народного языка и каждый день делает открытия новых слов и оборотов» (из письма к Н. Я. Данилевскому от 23 сентября 1879 г. — «Русский вестник», 1901, № 1, с. 138).
(обратно)560
Записи слов и оборотов народной речи, пословиц и поверий, сделанные на отдельных листах (ПСС, т. 48, с. 351–369).
(обратно)561
Жена больного крестьянина Лохмачева крыла избу вместе с соседями.
(обратно)562
Речь идет о зверствах французской карательной экспедиции в Тунисе.
(обратно)563
12 мая 1881 г. Толстой посетил тульскую тюрьму. Последующие записи воспроизводят увиденное им там.
(обратно)564
Арестанты, осужденные по приговору крестьянского «общества», «мира».
(обратно)565
Трынка — народное название копейки серебром.
(обратно)566
П. Ф. Самарин высказался за казнь участников покушения на Александра II, мотивируя это «интересами государства».
(обратно)567
Толстой обратился к тульскому губернатору С. П. Ушакову с просьбой о смягчении наказания сыну крестьянина из села Лапотково.
(обратно)568
«Записка К. С. Аксакова о внутреннем состоянии России, представленная Александру II в 1855 г.» (газ. «Русь», 1881, № 26–27 от 9-16 мая).
(обратно)569
То есть о В. И. Алексееве.
(обратно)570
Имеется в виду дочь А. К. Маликова Елизавета. Толстой противопоставляет ее трудовую жизнь барской жизни своей дочери Татьяны.
(обратно)571
А. Н. Бибиков, С. Н. Толстой и А. Н. Кривцов ездили в Москву для вручения Александру III иконы по случаю его вступления на престол.
(обратно)572
Толстой возвращался из Оптиной пустыни, куда он 10 июня отправился пешком. В записи упоминаются деревни Калужской губ.
(обратно)573
Статья Федосеевца «Программа вопросов для собирания сведений о русском сектантстве» (ОЗ, 1881, № 4, 5).
(обратно)574
Н. В. Муравьев — прокурор на процессе по делу об убийстве Александра II.
(обратно)575
13 июля Толстой с сыном Сергеем выехал в свое имение в Бузулукском уезде Самарской губ.
(обратно)576
Д. Д. Оболенский был в 1878 г. отдан под суд за растрату казенных денег.
(обратно)577
В одном поезде с Толстым ехал великий князь Николай Николаевич.
(обратно)578
К Толстому приехали молокане из села Патровка. Он читал им отрывки из своего «Краткого изложения Евангелия».
(обратно)579
Тургенев, приехавший из Парижа, показал, как там танцуют канкан.
(обратно)580
28 августа — день рождения Толстого.
(обратно)581
Толстой писал легенду «Чем люди живы».
(обратно)582
На сходке решался вопрос об оказании помощи бедняку-крестьянину А. Копылову.
(обратно)583
15 сентября 1881 г. семья Толстых переехала в Москву и временно поселилась в Денежном пер. (ныне Мало-Левшинский пер., д. 3).
(обратно)584
Н. Ф. Федоров, философ, библиотекарь Румянцевского музея; вел крайне аскетический образ жизни.
(обратно)585
Запись вызвана беседой Толстого с философом-идеалистом В. С. Соловьевым в начале октября 1881 г.
(обратно)586
В конце сентября 1881 г. Толстой поехал в дер. Шевелино Тверской губ., где встретился с крестьянином-философом В. К. Сютаевым.
(обратно)587
Отдельная недатированная дневниковая запись.
(обратно)588
То есть доход от имения в Самарской губ.
(обратно)589
То есть доход от имения Никольское-Вяземское в Тульской губ.
(обратно)590
«Исповедь» (1881).
(обратно)591
Имеется в виду роман «Анна Каренина».
(обратно)592
Подразумевается роман «Война и мир».
(обратно)593
Толстой воспроизводит свой разговор с С. А. Юрьевым, редактором журнала «Русская мысль». «Исповедь» увидела свет лишь в 1884 г. в Женеве.
(обратно)594
К. Н. Зябрев.
(обратно)595
Жена Чурюкина, Матрена, была кормилицей сына А. М. и Т. А. Кузминских.
(обратно)596
Берно — местное произношение слова «бревно».
(обратно)597
Единственная дневниковая запись за 1882 год.
(обратно)598
В июле 1882 г. Толстые купили в Москве в Долго-Хамовническом пер. (ныне ул. Льва Толстого, 21) дом и 8 октября переехали туда на постоянное жительство.
(обратно)599
Толстой испытывал страдание от необходимости жить в городе, «от торжествующего самоуверенного безумия окружающей жизни» (см. т. 19 наст. изд., № 10).
(обратно)600
Запись относится к трактату «В чем моя вера?».
(обратно)601
Единственная дневниковая запись за 1883 год.
(обратно)602
Набросок к рассказу «Упустишь огонь — не потушишь» (т. 10 наст. изд.).
(обратно)603
Толстой переводил изречения из «Книги пути и истины» Лао-тзе по французскому изданию, подготовленному Станиславом Жюльеном (Париж, 1841).
(обратно)604
14 февраля 1884 г. Толстой изложил некоторым деятелям народного образования свои соображения об издании литературы для народа. Публицист М. П. Щепкин в письме к нему предложил образовать официальное общество для совместного решения этой проблемы.
(обратно)605
Статья Е. В. Салиас-де-Турнемир (псевд. Евгения Тур) «Профессор П. Н. Кудрявцев. Воспоминания» («Полярная звезда», 1881, № 3).
(обратно)606
Вероятно, профессор А. Ф. Фортунатов.
(обратно)607
Толстой учился сапожному ремеслу.
(обратно)608
Эразм Роттердамский. «Похвальное слово глупости» (1509).
(обратно)609
Толстой читал книги Конфуция «Великое учение» и «Учение о середине» в английском издании Дж. Легга (Лондон, 1875–1876).
(обратно)610
Споры велись на тему о непротивлении злу насилием.
(обратно)611
Д. Д. Голохвастов. «Письма из деревни (О письмах из деревни г-на Энгельгардта». (1884). Моя последняя книга — трактат «В чем моя вера?».
(обратно)612
Первое упоминание о замысле «Круга чтения», который был осуществлен только в 1903 г., когда Толстой составил сборник изречений и афоризмов — «Мысли мудрых людей на каждый день». «Круг чтения» вышел в 1906 г.
(обратно)613
По образцу своих ранних Дневников Толстой цифрами отмечает число своих «грехов» за день.
(обратно)614
А. П. Иванов, переписчик.
(обратно)615
Роман Э. Сю «Агасфер» (1844–1845).
(обратно)616
Речь идет о революционере-народнике Н. А. Ишутине, приговоренном в 1866 г. к смертной казни, замененной затем бессрочной каторгой. Он умер в Сибири душевнобольным.
(обратно)617
А. В. Дмоховская, мать сосланного в Сибирь революционера Л. А. Дмоховского. О какой статье идет речь, неизвестно.
(обратно)618
А. М. и Е. А. Олсуфьевы.
(обратно)619
Возможно, стихотворение «Я в жизни обмирал — и чувство это знаю…», написанное Фетом в 1884 г.
(обратно)620
В. С. Соловьев. «О народности и народных делах в России» («Известия славянского общества», 1884, № 2).
(обратно)621
Перевод книги «В чем моя вера?» на французский язык.
(обратно)622
З. Г. Ге была арестована за участие в революционном кружке.
(обратно)623
Н. Ф. Федоров.
(обратно)624
С. Н. Кривенко. «Физический труд как необходимый элемент образования» (СПб., 1879).
(обратно)625
Сапоги, сшитые Толстым «по заказу» А. А. Фета, с собственноручным «свидетельством» Фета хранятся в доме-усадьбе Л. Н. Толстого в Москве.
(обратно)626
«Лубочная» книжка, выпущенная издательством Пресновых.
(обратно)627
«Записки сумасшедшего». Замысел остался незавершенным (см. т. 12 наст. изд.).
(обратно)628
Перевод трактата «В чем моя вера?» на немецкий язык, сделанный Софией Бер (Лейпциг, 1885).
(обратно)629
Толстой читал «Пошехонские рассказы» M. E. Салтыкова-Щедрина (ОЗ, 1884, № 3).
(обратно)630
Е. П. Леткова. «Психиатро-зоологическая теория массовых движений» (ОЗ, 1884, № 3).
(обратно)631
Толстой читал журнал «Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии», т. III, № 1.
(обратно)632
То есть за сапожной работой.
(обратно)633
Картина Репина «Не ждали», которую Толстой хотел увидеть на выставке передвижников.
(обратно)634
Сослуживец Толстого по Крымской войне Д. И. Святополк-Мирский прислал ему свои стихи.
(обратно)635
M. Северная. «Бабья доля» (ОЗ, 1880, № 7).
(обратно)636
XII выставка передвижников.
(обратно)637
Картина «Безутешное горе».
(обратно)638
Картина «Не ждали».
(обратно)639
Возможно, рукопись антидарвиновской статьи по вопросу о теории происхождения видов (опубл. в «Русском вестнике», 1901, № 3).
(обратно)640
Толстой читал книгу Дж. Легга «Жизнь и труды Мен-цзы» (Лондон, 1875).
(обратно)641
А. В. Олсуфьев.
(обратно)642
В письме от 6 апреля 1884 г. Чертков делился с Толстым впечатлениями от петербургского аристократического общества, пышно праздновавшего пасху за счет «нищих семейств» (см. ПСС, т. 85, с. 47).
(обратно)643
Здесь и ниже речь идет о А. В. Армфельдт, матери революционерки Н. А. Армфельдт, осужденной в 1879 г. на 14 лет каторжных работ. Толстой принимал участие в хлопотах о разрешении А. В. Армфельдт поселиться вблизи места ссылки ее дочери.
(обратно)644
Письма Н. А. Армфельдт о судебном процессе над ней и о тяжкой жизни на каторге.
(обратно)645
А. А. и П. А. Берсы.
(обратно)646
Толстой беседовал с X. Д. Алчевской об издании книг для народного чтения.
(обратно)647
То есть к своей сестре M. H. Толстой, которую лечил врач-гомеопат Д. С. Трифоновский.
(обратно)648
«Что читать народу?». М., 1884.
(обратно)649
А. М. Олсуфьева.
(обратно)650
Письмо к А. А. Толстой с просьбой помочь в деле А. В. Армфельдт. См. т. 19 наст. изд., № 26.
(обратно)651
Материалы о жизни политических заключенных на Каре.
(обратно)652
Стихотворения революционерки С. И. Бардиной, приговоренной в 1877 г. к многолетней ссылке.
(обратно)653
То есть трактат «Так что же нам делать?».
(обратно)654
Цитата из Евангелия.
(обратно)655
См. ПСС, т. 85, с. 50. В письме к Толстому Чертков писал о себе в крайне «покаянных» выражениях.
(обратно)656
Начало трактата «Так что же нам делать?».
(обратно)657
В беседе с революционеркой А. И. Успенской Толстой положительно отозвался о только что запрещенном журнале «Отечественные записки».
(обратно)658
Выписки и их источник неизвестны.
(обратно)659
Толстой набросал два варианта введения к Нагорной проповеди, но вскоре оставил этот замысел.
(обратно)660
Повесть «Смерть Ивана Ильича».
(обратно)661
А. П. Иванов страдал запоями.
(обратно)662
H. H. Ге, сын художника, писал, что он решил «опроститься» и жить физическим трудом.
(обратно)663
Народоволец П. С. Поливанов в Шлиссельбургской крепости был посажен в каменный колодец, куда ему спускали пищу на веревке.
(обратно)664
Очерк Д. Л. Мордовцева «Социалист прошлого века» («Исторический вестник», 1884, № 1, 2) — о Е. М. Кравкове, заточенном по распоряжению Екатерины II в Ревельскую крепость.
(обратно)665
Н. К. Михайловский. «Записки профана» (ОЗ, 1875, № 1–8).
(обратно)666
Сборник статей Р. Эмерсона «Опыты».
(обратно)667
Роман Ч. Кингсли (Лондон, 1853).
(обратно)668
Мысль Н. В. Бугаева о том, что «нравственный закон есть такой же, как физический, только он «im Werden» <в становлении> (см. ПСС, т. 49, с. 94).
(обратно)669
Т. А. Кузминской.
(обратно)670
«Исповедь» Августина Аврелия Блаженного (397–400).
(обратно)671
Трактат «Так что же нам делать?».
(обратно)672
В село Тросну — по делу крестьян, невинно посаженных в острог.
(обратно)673
К П. П. Арбузову, учившему Толстого сапожному ремеслу.
(обратно)674
Толстой прочитал статью «Парламентская комиссия по исследованию рабочего кризиса» (ОЗ, 1884, № 4).
(обратно)675
Толстой предложил раздать доходы с самарского имения нуждающимся крестьянам. Это встретило возражение С. А. Толстой.
(обратно)676
Речь идет о задуманном в 1877 г., но неосуществленном романе о крестьянах-переселенцах.
(обратно)677
М. И. Абрамович, акушерка.
(обратно)678
Альсид Сейрон, сын гувернантки Анны Сейрон.
(обратно)679
Купец M. H. Михайлов арендовал яблоневый сад Толстого.
(обратно)680
У Толстых родилась дочь Александра.
(обратно)681
Крестьянин Т. В. Минкин, прозванный так за свои прибаутки.
(обратно)682
В письме от 18 июня 1884 г. В. Г. Чертков утверждал, что неразумно отказаться от 20 тысяч рублей, получаемых им ежегодно от матери, так как ими можно помогать нуждающимся (см. ПСС, т. 85, с. 74).
(обратно)683
Маша — дочь А. М. и Т. А. Кузминских.
(обратно)684
Р. Эмерсон. «Этюды о выдающихся людях» (Лейпциг, 1856).
(обратно)685
Томас-Тэйлор Мидоус. «Записки о правительстве и народе Китая» (Лондон, 1847) и «Китайцы и их восстания» (Лондон, 1856).
(обратно)686
В 1882 г. Толстой, с помощью московского раввина Минора, изучал древнееврейский язык.
(обратно)687
Это намерение не было осуществлено.
(обратно)688
Перевод статьи «В чем моя вера?», сделанный С. Бер.
(обратно)689
То есть в форме «Исповеди». Замысел не был осуществлен.
(обратно)690
Л. А. и В. А. Берсы.
(обратно)691
«Почтовый ящик» — шуточные заметки, которые сочиняли обитатели яснополянского дома для совместного — по воскресеньям — чтения вслух.
(обратно)692
Стихотворение С. А. Толстой «Ангел» (см.: Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1975, с. 398).
(обратно)693
А. А. Армфельдт приезжал по делу своей сестры Н. А. Армфельдт. См. примеч. 42.
(обратно)694
Для «почтового ящика» Толстой написал «Скорбный лист душевнобольных яснополянского госпиталя» (см. ПСС, т. 25).
(обратно)695
«Яков Пасынков» и «Поездка в Полесье» — рассказы И. С. Тургенева.
(обратно)696
Единственная дневниковая запись за 1885 год.
(обратно)697
Готовя к изданию собрание сочинений Толстого, С. А. Толстая намеревалась поместить в нем его портрет. Против своей воли Толстой согласился на это.
(обратно)698
Эти мысли Толстого легли в основу его трактата «О жизни», который был начат в 1886 г.
(обратно)699
Единственная дневниковая запись за 1887 год.
(обратно)700
Майа — в древнеиндийской философии дух, призрак, символ обманчивости жизни. Брама — высшее божество древнеиндийской религии.
(обратно)701
Замысел был осуществлен в 1909 г. (см. ПСС, т. 38).
(обратно)702
Статья о католическом монашеском ордене — траппистах; члены ордена давали обет молчания.
(обратно)703
Статья Дж. Кеннана «Политические ссыльные и обычные заключенные в Томске» — о жестоком обращении с заключенными в тюрьмах Сибири.
(обратно)704
Врач Е. А. Покровский. Толстой редактировал его рукопись «Об уходе за малыми детьми».
(обратно)705
Брошюра: «Н. Я. Грот. По поводу вопроса «О задачах искусства» (М., 1888).
(обратно)706
Толстой посетил Петровско-Хамовническое мужское городское училище.
(обратно)707
Вероятно, статья «О 1000 верах» (не была написана).
(обратно)708
Толстой составил перечень незавершенных им произведений с указанием очередности работы над ними.
(обратно)709
Г. П. Броневский раскаивался в «диких» взглядах, высказанных им во время пребывания в Ясной Поляне.
(обратно)710
Купец А. Г. Кольчугин, попечитель Петровско-Хамовнического училища. Толстой подал ему заявление о допущении его к преподаванию в этом училище.
(обратно)711
H. H. Романов, двоюродный дядя Николая II.
(обратно)712
Речь идет об отношениях Т. Л. Толстой с Е. И. Поповым.
(обратно)713
Толстой не принял предложения Сытина.
(обратно)714
Толстой задумал статью «О вреде соски». Написанное он вставил в брошюру Е. А. Покровского.
(обратно)715
В. О. Португалов. «Детская смертность» («Неделя», 1888, № 50).
(обратно)716
Статья Н. Г. Чернышевского «Происхождение теории «благотворности» борьбы за жизнь». Напечатана в «Русской мысли», 1888, IX за подписью «Старый трансформист». Толстой сочувствовал критике Чернышевским мальтузианской «теории» борьбы за существование.
(обратно)717
«Римский мудрец Эпиктет. Его жизнь и учение», вышла в «Посреднике» в 1889 г.
(обратно)718
Д. Ж. — псевдоним Н. Л. Озмидова. Его статья — в «Неделе», 1888, № 51.
(обратно)719
Рассказ неизвестного автора («Книжки Недели», 1888, № 12).
(обратно)720
К мысли о предполагаемом браке М. Л. Толстой и П. И. Бирюкова.
(обратно)721
«Календарная реформа» («Неделя», 1888, № 52).
(обратно)722
Ответ Толстого (от 2 января 1889 г.) см.: ПСС, т. 86, № 209.
(обратно)723
Повесть Н. С. Лескова «Зенон-златокузнец» Толстой читал в рукописи.
(обратно)724
Роман X. Уорд «Роберт Элсмер» (опубл. — «Книжки Недели», 1889, № 1-10).
(обратно)725
Брак М. Л. Толстой с П. И. Бирюковым не состоялся (возражала С. А. Толстая).
(обратно)726
Возможно, книгу: А. П. Чехов. «В сумерках. Очерки и рассказы». СПб., 1888.
(обратно)727
«Праздник просвещения 12-го января» (см. ПСС, т. 26).
(обратно)728
Мормоны — религиозная секта в США.
(обратно)729
Биография основателя секты мормонов Д. Смита.
(обратно)730
А. И. Ершов принес свою книгу «Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера». Толстой написал к ней предисловие (см. ПСС, т. 27).
(обратно)731
Эмиль де Лавеле. «Современный социализм» (СПб., 1882).
(обратно)732
Д. И. Воейков предложил свой проект устройства школ для детей дворян, живущих в деревне.
(обратно)733
Н. Ф. Федоров.
(обратно)734
А. А. Фет 28 января 1889 г. отмечал 50-летие своей литературной деятельности.
(обратно)735
Статья Н. В. Шелгунова «Очерки русской жизни», гл. XXXI («Русская мысль», 1889, № 1), в которой критиковался принцип непротивления злу насилием.
(обратно)736
Запись вызвана «озлобленным и ругательным» (по словам Толстого) письмом П. А. Денисенко, издателя журнала «Дневник русского актера».
(обратно)737
Врачи признали положение Ванечки безнадежным.
(обратно)738
Крестьянин Макар Прохорка был арестован за «оскорбление его императорского высочества».
(обратно)739
Джон Лау. «В рабочем квартале» («Книжки Недели», 1888, № 12).
(обратно)740
С. А. Толстая послала Фету венок к его юбилею.
(обратно)741
«Задиг», повесть Вольтера (1748).
(обратно)742
Толстой исправлял статью врача Е. А. Покровского об уходе за малыми детьми.
(обратно)743
Предисловие к «Севастопольским воспоминаниям» А. И. Ершова.
(обратно)744
Повесть американского писателя Люиса Уоллеса (изд. «Недели», 1888 — под названием «Во дни оны»).
(обратно)745
Роман Э. Рода «Смысл жизни» (Париж, 1889).
(обратно)746
«Воззвание» — обличительная статья, оставшаяся незавершенной (см. ПСС, т. 27). «Роман» — возможно, первое упоминание о романе «Воскресение».
(обратно)747
М. Арнольд. «Литература и догма» (Лондон, 1889).
(обратно)748
Книгоноша И. И. Старинин был арестован за хранение рукописного списка главы о деньгах из трактата «Так что же нам делать?».
(обратно)749
Арвед Барин. «Мемуары арабской принцессы».
(обратно)750
Эммануэль де Ноаль. «Столетие конституции. I. Неудачи и успехи политики Соединенных штатов».
(обратно)751
Леруа Болье. «Современное государство и его деятельность».
(обратно)752
Толстой прочел книгу Э.-С. Бизли «Жизнь и смерть Вильяма Фрея» (Лондон, 1888). Статью о Фрее он не написал.
(обратно)753
М. Арнольд. «Св. Павел и протестантизм, с приложением очерка пуританизма в английской церкви» (Лондон, 1873).
(обратно)754
И. Н. Панин. «Лекции о русской литературе» (Нью-Йорк, 1889). Одна лекция была посвящена Толстому.
(обратно)755
К. А. Клодт лепил скульптурный портрет «Толстой на пашне» (находится в ГМТ).
(обратно)756
Вводная статья В. С. Соловьева к переводу М. С. Соловьева «Учения XII апостолов». В статье содержится полемика с Толстым.
(обратно)757
С. М. Георгиевский. «Принципы жизни Китая» (СПб., 1888).
(обратно)758
Н. А. Ярошенко. «Всюду жизнь».
(обратно)759
Стихи португальского поэта Антеру ди Кентала.
(обратно)760
Вероятно, книга: А. П. Чехов. «В сумерках. Очерки и рассказы». СПб., 1888.
(обратно)761
Суждение относится к рассказу Чехова «Агафья».
(обратно)762
Книги, подготовленные для издания в «Посреднике».
(обратно)763
Толстой ходил за книгой Вильяма Гепворта Диксона «Благодетели человечества. Вильям Пенн, основатель Пенсильвании». СПб., 1873.
(обратно)764
Толстой собирался идти пешком к С. С. Урусову, но из-за распутицы выехал к нему по железной дороге.
(обратно)765
Перевод трактата Толстого «О жизни» (Париж, 1889), сделанный С. А. Толстой и П. Э. Тастевен.
(обратно)766
Толстой работал над статьей «Об искусстве» (см. т. 15 наст. изд.).
(обратно)767
Комедия, позднее названная «Плоды просвещения».
(обратно)768
Ситценабивная фабрика Л. Кнопа недалеко от Спасского.
(обратно)769
Повесть «Крейцерова соната» была начата в 1887 г., и тогда же работа над ней была оставлена. «Тэма» — возможно, «Воскресение».
(обратно)770
Последние главы «Пошехонской старины» («Вестник Европы», 1889, № 3).
(обратно)771
То есть не удастся пешеходное путешествие в Москву.
(обратно)772
В 1866 г. Толстой выступал на военном суде защитником солдата Василия Шабунина, ударившего офицера. Шабунин был казнен. Этот эпизод описал бывший юнкер полка Н. П. Овсянников и прислал Толстому свою рукопись. В 1908 г. Толстой сам написал «Воспоминания о суде над солдатом» (см. т. 17 наст. изд.).
(обратно)773
Статья «О том, что есть и что не есть искусство, и о том, когда искусство есть дело важное и когда оно есть дело пустое» (см. ПСС, т. 30).
(обратно)774
А. А. Фет по случаю 50-летия литературной деятельности был «высочайше пожалован» в камергеры двора; камергеры носили мундиры с особым ключом. Я. П. Полонский был «удостоен» ордена Анны 1-й степени, который носили на ленте через плечо.
(обратно)775
Шекеры — религиозная секта в США.
(обратно)776
Картина Г. И. Семирадского «Фрина на празднике Посейдона в Элевзисе» на XVII выставке передвижников.
(обратно)777
Андре Пойи. «Безумие современной любви» (Париж, 1889).
(обратно)778
Картина И. Е. Репина — «Святой Николай избавляет от смерти трех невинно осужденных в гор. Мирах-Ликийских». Картина H. H. Ге — «Выход Христа с учениками в Гефсиманский сад».
(обратно)779
А. А. Толстая проездом останавливалась в Москве.
(обратно)780
С. П. Невзорова, помогавшая бедным студентам.
(обратно)781
Рукопись А. И. Аполлова, предназначавшаяся для издания в «Посреднике».
(обратно)782
Философ В. С. Соловьев.
(обратно)783
Джон Хемфри Ноес. «История американского социализма» (Филадельфия, 1870).
(обратно)784
Речь идет о предполагавшейся женитьбе П. И. Бирюкова на М. Л. Толстой.
(обратно)785
С. Т. Кузин, крестьянин Подольского уезда.
(обратно)786
Н. Я. Грот. «Значение чувства в познании и деятельности человека» (М., 1889).
(обратно)787
Толстой ходил в Хамовнические казармы смотреть церемонию приведения новобранцев к присяге.
(обратно)788
Толстой и Е. И. Попов шли пешком в Ясную Поляну.
(обратно)789
Пьеса Толстого «Первый винокур».
(обратно)790
См. «Обвинительный акт против Ильи и Сони» (ПСС, т. 50).
(обратно)791
Толстой читал «Сочинения Н. В. Успенского» (М., 1883).
(обратно)792
С сыном Ильей, провожавшим Толстого.
(обратно)793
Статья философа Поля Жане о писателе Робере Ламенне.
(обратно)794
Вильям Лекки. «История возникновения и влияния рационализма в Европе» (СПб., 1871).
(обратно)795
В 1888 г. С. А. Толстая купила имения Овсянниково и Гриневку в Тульской губ.
(обратно)796
Статья о несправедливости господствующих отношений. Осталась незавершенной (см. ПСС, т. 27).
(обратно)797
Журнал «Pall Mall budget», выходивший в Лондоне.
(обратно)798
А. А. Толстая, гостившая в Ясной Поляне.
(обратно)799
Письмо С. А. Толстой с требованием, чтобы свадьба П. И. Бирюкова и М. Л. Толстой была отложена на год.
(обратно)800
Замысел частично реализован в повести «Фальшивый купон».
(обратно)801
Сочинение чешского философа Петра Хельчицкого.
(обратно)802
Газета, издававшаяся в Филадельфии.
(обратно)803
Томас Де Куинси. «Исповедь английского морфиниста» (Лондон, 1886).
(обратно)804
H. H. Страхов. «Философское учение о познании и достоверности познаваемого».
(обратно)805
Статья К. А. Тимирязева «Бессильная злоба антидарвиниста. По поводу статьи Страхова «Всегдашняя ошибка дарвинистов» («Русская мысль», 1889, V–VII).
(обратно)806
Роман Виктора Гюго «Человек, который смеется» в сокращении и переводе А. Ю. Бизюкиной (Юрьевой).
(обратно)807
«Для чего люди одурманиваются?» (ПСС, т. 27).
(обратно)808
Адин Баллу. «Катехизис непротивления» (Филадельфия, 1846).
(обратно)809
Замысел частично воплощен в повести «Отец Сергий».
(обратно)810
«Через сто лет» — роман Эдварда Беллами.
(обратно)811
В Ясной Поляне гостила американская писательница Изабелла Хэпгуд (с матерью), переводчица трактата «О жизни» и других произведений.
(обратно)812
Лесничий Л. А. Раюнец намеревался подать в суд на крестьян дер. Бражинка за порубку леса.
(обратно)813
Толстой имеет в виду разговор крестьянина П. В. Власова с французским писателем Полем Деруледом, приехавшим в Россию пропагандировать идею русско-французского военного союза.
(обратно)814
«Исхитрилась» («Плоды просвещения»).
(обратно)815
Ф. Брюнетьер. «Кстати об ученике» (1889) по поводу романа П. Бурже «Ученик».
(обратно)816
Готфрид Арнольд. «Беспристрастная история церквей и ересей от начала нового завета до 1688 г. после рождества Христова» (Франкфурт-на-Майне, 1729).
(обратно)817
См. примеч. 75 к Дн. 1884 г.
(обратно)818
К. А. Иславин.
(обратно)819
Статья Жозефа Тексто «Английский поэт Джон Китс».
(обратно)820
«Эстетика» Шопенгауэра, перевод Д. Цертелева. СПб., 1888.
(обратно)821
Художник H. H. Ге, гостивший в Ясной Поляне.
(обратно)822
А. И. Эртель. «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» («Русская мысль», 1889, кн. 4-10).
(обратно)823
Имеется, в виду «Воззвание». См. примеч. 24.
(обратно)824
Статья «Наука и искусство» (см. ПСС, т. 30).
(обратно)825
Источек — березовый лес в Ясной Поляне.
(обратно)826
И. А. Бергер, управляющий яснополянским имением.
(обратно)827
Запись относится к «Крейцеровой сонате».
(обратно)828
То есть жалоба С. А. Толстой на ее хлопоты с изданием сочинений Толстого.
(обратно)829
Брошюры «Ответ шекера» и «Простые речи», присланные Толстому А. Стикней.
(обратно)830
«Душеспасительные наставления св. Тихона Задонского» (М., 1890).
(обратно)831
Запись относится к «Крейцеровой сонате».
(обратно)832
Донос на Чертковых в связи с их отказом крестить новорожденного сына.
(обратно)833
Книги Уолта Уитмена «Листья травы» и «Сочинения».
(обратно)834
Замысел повести «Отец Сергий».
(обратно)835
Роман Поля Бурже «Ученик» (Париж, 1889).
(обратно)836
Журнал «Вопросы философии и психологии» под ред. Н. Я. Грота. Толстой говорит о статье С. Н. Трубецкого «О природе человеческого сознания» (1889, № 1, ноябрь).
(обратно)837
Статья о Татьянином дне, ежегодном университетском празднике — «Праздник просвещения 12 января».
(обратно)838
Первоначальное название повести «Дьявол».
(обратно)839
8 ноября 1889 г. праздновалось 500-летие русской артиллерии.
(обратно)840
Эти темы нашли воплощение в статьях «Царство божие внутри вас», «Рабство нашего времени» и др.
(обратно)841
Толстой прочел статью Мелькиора де Вогюэ о 9-й всемирной выставке в Париже. Цитату из этой статьи, в которой Вогюэ оправдывает войну, Толстой привел в трактате «Царство божие внутри вас».
(обратно)842
Вероятно, рассказ «Фигура».
(обратно)843
Ф. У. Эванс. «Божественный закон исцеления» (Бостон, 1884)
(обратно)844
Роман «Сильна, как смерть». Париж, 1889.
(обратно)845
«Carthago delenda est» («Карфаген должен быть разрушен»). Воззвание не было завершено (см. ПСС, т. 39).
(обратно)846
Роман «Воскресение», в основу которого легла история, рассказанная А. Ф. Кони.
(обратно)847
Статьи В. В. Лесевича «Что такое научная философия?» и В. А. Гольцева о книге Ж. М. Гюйо «Искусство с социальной точки зрения» («Русская мысль», 1889, № 10).
(обратно)848
Датчанин П. Г. Ганзен прислал переведенные им сочинения Толстого.
(обратно)849
Священник А. И. Аполлов сообщал, что берет назад свое заявление об отказе от сана.
(обратно)850
«Плоды просвещения».
(обратно)851
Роман В. А. Слепцова «Трудное время» (С, 1865, № 4–8).
(обратно)852
1 марта 1881 г. народовольцем И. И. Гриневицким был убит Александр II.
(обратно)853
Пьеса «Исхитрилась» («Плоды просвещения») была впервые сыграна в любительском спектакле в Ясной Поляне 30 декабря 1889 г.
(обратно)854
H. M. Виленкин (псевд. Минский). «При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни» (СПб., 1890).
(обратно)855
Школа для детей яснополянских крестьян. Занятия в ней вели старшие дочери Толстого.
(обратно)856
Книга изречений индийской мудрости «Дхаммапада» (в англ. переводе).
(обратно)857
Драма «Власть тьмы» была впервые поставлена 10 января 1890 г. на домашней сцене у Приселковых в Петербурге и одновременно обществом «Свободная сцена» в Берлине.
(обратно)858
Н. С. Лесков три дня гостил в Ясной Поляне.
(обратно)859
Рисунок с картины «Что есть истина?».
(обратно)860
Е. Н. Воробьев (начальник станции на Донецкой ж/д) в письме укорял Толстого за присутствие на костюмированном вечере в Ясной Поляне («может быть, во фраке и в галстуке»), о чем он прочитал в газете. Ответ Толстого см. т. 65, № 12.
(обратно)861
Предисловие к книге «Токология, или Наука о рождении детей. Книга для женщин доктора медицины Алоизы Стокгэм». М., 1892 (см. ПСС, т. 27).
(обратно)862
М. М. Шишкина — жена С. Н. Толстого. Толстой рассказал ей сюжет задуманной повести «Отец Сергий».
(обратно)863
Возможно, к драме «И свет во тьме светит».
(обратно)864
H. H. Ге-сыну.
(обратно)865
Статья Ф. У. Эванса в журнале «Rising Star».
(обратно)866
В связи с раскрытием в Варшаве преступления — убийства акушеркой Скублинской новорожденных детей Толстой начал статью «По поводу дела Скублинской», но не закончил ее (см. ПСС, т. 27).
(обратно)867
Статья М. В. Головинского «Декабрист князь Е. П. Оболенский» («Исторический вестник», 1890, № 1).
(обратно)868
Толстой с дочерью Марией и В. А. Кузминской поехали в Белев к M. H. Толстой и оттуда в Оптину пустынь.
(обратно)869
Б. В. Шидловский, двоюродный брат С. А. Толстой, в то время монах Оптиной пустыни.
(обратно)870
Речь идет о реакционном писателе, критике и публицисте К. Н. Леонтьеве, поселившемся в Оптиной пустыни.
(обратно)871
H. H. Ге рассказал о расхищении властями средств на постройку храма Воскресения в Петербурге.
(обратно)872
Какое произведение Лескова — неизвестно. В ЯПб. сохранилось «Собрание сочинений» Н. С. Лескова. СПб., 1889–1890.
(обратно)873
И. И. Янжул. «Практическая филантропия в Англии» («Вестник Европы», 1890, кн. 2 и 3).
(обратно)874
Статья «Христианская торговля» в американском журнале «The New Christianity» (Филадельфия, № 1).
(обратно)875
Некий В. П. Прохоров просил разъяснить ему смысл «Крейцеровой сонаты». Толстой начал «Послесловие» к повести в форме ответа Прохорову.
(обратно)876
Генрих Сенкевич. «Без догмата» («Русская мысль», 1890, № 1–3, 5-10).
(обратно)877
Толстой отвечал на письмо Н. П. Вагнера, обижавшегося на то, что Толстой будто бы в образе профессора-спирита в «Плодах просвещения» высмеял его.
(обратно)878
«Некуда» — роман Н. С. Лескова (1864).
(обратно)879
Издатель журнала «Русское богатство» Л. Е. Оболенский утверждал, что «Крейцерова соната» вызывает «негодование» молодежи. Ответ Оболенскому см. ПСС, т. 65, с. 61–62.
(обратно)880
В 1890 г. Л. Л. Толстой написал рассказы «Любовь» и «Монте-Кристо».
(обратно)881
Замысел частично осуществлен в незавершенной повести «Мать». См. т. 12 наст. изд.
(обратно)882
Статья «Для чего люди одурманиваются?».
(обратно)883
На репетиции спектакля «Плоды просвещения», который ставил в Туле Н. В. Давыдов. Спектакль состоялся 15 апреля 1890 г.
(обратно)884
Возможно, к драме «И свет во тьме светит».
(обратно)885
Карл П. Крамарж, теоретик панславизма.
(обратно)886
См. статью «Первая ступень» (ПСС, т. 29).
(обратно)887
Корректуры комедии «Плоды просвещения».
(обратно)888
В. Г. Чертков просил Толстого передать ему все Дневники на хранение. Не желая обидеть Софью Андреевну, Толстой отказался это сделать.
(обратно)889
H. H. Ге заезжал в Ясную Поляну в связи с отправкой его картины «Что есть истина?» за границу.
(обратно)890
Ф. Б. Гец прислал составленный Вл. Соловьевым протест против гонения на евреев. Толстой подписал его первым.
(обратно)891
«Для чего люди одурманиваются?».
(обратно)892
Картина «Что есть истина?» была доставлена в Ясную Поляну специально для того, чтобы Толстой мог ее увидеть.
(обратно)893
Речь идет о взаимоотношениях П. И. Бирюкова и М. Л. Толстой. Письмо Толстого к Бирюкову см. ПСС, т. 65, № 92.
(обратно)894
Речь идет о H. H. Страхове.
(обратно)895
Коневскую повесть («Воскресение»).
(обратно)896
Запись следует понимать в переносном смысле.
(обратно)897
Журналист Т. Стивенс ездил в Африку на розыски английского путешественника Стэнли.
(обратно)898
Роман Г. Сенкевича.
(обратно)899
Замысел частично осуществлен в статье «Первая ступень».
(обратно)900
Это выражение Герцен употребил в 1857 г. в «Письме к императору Александру II. (По поводу книги барона Корфа)» (см.: Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 13. М., 1958).
(обратно)901
Немецкий ученый Р. В. Левенфельд приехал с целью собрать материалы для биографии Толстого. Впоследствии его книга «Гр. Л. Н. Толстой, его жизнь, произведения и миросозерцание» вышла на немецком (Берлин, 1892) и русском языках (М., 1904).
(обратно)902
Написанное вошло впоследствии в трактат «Царство божие внутри вас» (см. ПСС, т. 28).
(обратно)903
Предисловие впоследствии вошло в трактат «Царство божие внутри вас».
(обратно)904
С. С. Урусов. «Неизвестные произведения гр. Л. Н. Толстого» (рукопись).
(обратно)905
Толстой ошибся. Речь идет о романе голландского писателя Маартена Маартенса «Грех Иоста Авелинга. Датская история» (Лейпциг, 1890).
(обратно)906
Картина H. H. Ге «Что есть истина?» была, по совету Толстого, куплена П. М. Третьяковым. Н. Д. Ильин повез ее для показа за границу.
(обратно)907
Старый дом семьи Толстых, проданный в 1854 г. и вывезенный в село Долгое Тульской губ.
(обратно)908
Правительственные органы в США препятствовали распространению «Крейцеровой сонаты». Почт-директор США наложил запрет на ее пересылку по почте.
(обратно)909
Имеется в виду появившаяся в ряде газет погромная «Беседа высокопреосвященного Никанора, архиепископа Херсонского и Одесского, о христианском супружестве, против графа Льва Толстого».
(обратно)910
Драма Ибсена «Дикая утка» (1884).
(обратно)911
Драма Ибсена «Росмерсхольм» (1886).
(обратно)912
Пьеса Б. Бьернсона «Перчатка» (нем. пер. — 1891).
(обратно)913
Заключение к «Катехизису непротивления» А. Баллу.
(обратно)914
С. А. Толстая находилась в Москве.
(обратно)915
С. Т. Кольридж. «Помощь в размышлении для образования мужественного характера на основах благоразумия, нравственности и религии» (Лондон, 1825).
(обратно)916
Э. Прессансе. «История трех первых веков христианской церкви», пять томов (Париж, 1858–1869).
(обратно)917
Статья Э. А. Дмитриева-Мамонова «Славянофилы. Историко-критический очерк (по поводу статьи г-на Пыпина)». — «Русский архив», 1873, № 12. В статье сочувственно излагаются воззрения славянофилов на самобытность русского народа.
(обратно)918
А. де Брогль. «Церковь и Римская империя в IV веке», 6 томов (Париж, 1856–1869). Толстой прочел первую часть — «Царствование Константина».
(обратно)919
«Ереси и расколы первых трех веков христианства. Исследование протоиерея А. М. Иванцова-Платонова», ч. 1 (М., 1877).
(обратно)920
Б. Бьернсон. «По божьему пути. Новеллы» (1890).
(обратно)921
Брошюра «Диана. Психофизиологический опыт о половых отношениях для вступающих в брак мужчин и женщин». Нью-Йорк, 1887.
(обратно)922
Художник H. H. Ге лепил в эти дни бюст Толстого. Скульптура находится в ГМТ.
(обратно)923
Предисловие к статье В. Г. Черткова «Злая забава» (см. ПСС, т. 27).
(обратно)924
А. М. Новиков перевел для издания в «Посреднике» рассказ Мопассана «Порт». Толстой переработал его, написал к нему новый конец. Под заглавием «Франсуаза» рассказ был напечатан в «Новом времени» (см. т. 12 наст. изд.).
(обратно)925
Толстой намеревался присутствовать в тульском суде в связи с работой над «Воскресением», но опоздал.
(обратно)926
Толстой обработал отрывок из очерка Мопассана «На воде» и озаглавил его «Дорого стоит» (см. т. 12 наст. изд.).
(обратно)927
Брошюра А. Фореля «Обычай пьянства, его гигиеническое и общественное значение для учащейся молодежи». Штутгарт, 1891. По предложению Толстого она была издана в «Посреднике» (М., 1893).
(обратно)928
Статья «Об отношениях между полами» была напечатана в газ. «Неделя», 1890, № 43.
(обратно)929
Здесь и в последующих записях речь идет о работе над трактатом «Царство божие внутри вас», который Толстой часто именует статьей о непротивлении.
(обратно)930
В пятом номере журнала «Вопросы философии и психологии» были напечатаны две статьи: А. А. Козлов. «Письма о книге гр. Л. Н. Толстого «О жизни» и А. Л. Волынский. «Нравственная философия гр. Льва Толстого».
(обратно)931
Редактор «Недели» П. А. Гайдебуров прислал вырезки из газет, в которых высмеивалась статья Толстого «Об отношениях между полами».
(обратно)932
См. примеч. 119 к Дн. 1889 г.
(обратно)933
Толстой перечитывал с дочерью Марией и племянницей В. А. Кузминской «Илиаду» и «Одиссею» Гомера.
(обратно)934
Газ. «Неделя» дала краткое изложение повести Толстого «Ходите в свете, пока есть свет» (по английскому переводу Диллона), исказив ее смысл.
(обратно)935
В трактате «Царство божие внутри вас» содержится обзор критических откликов на трактат «В чем моя вера?» (1883).
(обратно)936
То есть к критике казенной церкви. См. «Царство божие внутри вас», гл. III.
(обратно)937
26-27 ноября Толстой присутствовал в Крапивне на суде по делу об убийстве конокрада. Его впечатления отразились в повести «Фальшивый купон».
(обратно)938
По настоянию С. А. Толстой несколько крестьян были осуждены за порубку берез к полутора месяцам ареста. Последующие записи о тяжелых переживаниях Толстого относятся к этому факту.
(обратно)939
Эта новая редакция «коневской повести» была озаглавлена «Воскресение».
(обратно)940
Николай, сын И. Л. и С. Н. Толстых.
(обратно)941
Статья Сюлли-Прюдома «Смысл и значение пари Паскаля». Пари касалось вопроса: есть ли бог?
(обратно)942
Составленная А. П. Ивановым компиляция из черновых набросков трактата Толстого «Исследование догматического богословия».
(обратно)943
Н. С. Лесков. «Под рождество обидели» (1890).
(обратно)944
В. Г. Чертков прислал Толстому черновики его статьи «Об искусстве» для продолжения работы над нею.
(обратно)945
Н. Н. Ге-сын.
(обратно)946
Статья позднее переросла в трактат «Царство божие внутри вас».
(обратно)947
Эрнест Ренан. «Будущее науки. Мысли 1848 г.» (Париж, 1890).
(обратно)948
Замысел не был осуществлен.
(обратно)949
Повесть на эту тему — «Посмертные записки старца Федора Кузмича» — была начата в 1905 г., но не завершена.
(обратно)950
Сюжет позднее был использован в повести «Фальшивый купон».
(обратно)951
См. запись в Дн. от 8 апреля 1890 г.
(обратно)952
Сохранился черновой набросок повести (см. ПСС, т. 26).
(обратно)953
Замысел не был осуществлен.
(обратно)954
Фельетон А. С. Суворина «Маленькое письмо», в котором он критиковал «Послесловие к «Крейцеровой сонате» («Новое время», № 5366 от 5 февраля 1891 г.).
(обратно)955
Отрицательный отзыв газеты «Berliner Tageblatt» о пьесе «Плоды просвещения», поставленной в Берлине.
(обратно)956
Статья А. Н. Бекетова «Нравственность и естествознание» («Вопросы философии и психологии», 1891, кн. 5).
(обратно)957
С. А. Толстая переписывала Дневник Толстого севастопольского периода.
(обратно)958
Книга американского публициста Л. Гронлунда «Наша судьба. Влияние социализма на мораль и религию». Лондон, 1890.
(обратно)959
Заметка о забастовке докеров, жестоко подавленной судовладельцами.
(обратно)960
«Опыты» Мишеля Монтеня (1588).
(обратно)961
Первые главы романа А. И. Эртеля «Смена» («Русская мысль», 1891, № 1–3 и 5–7).
(обратно)962
H. H. Ге, направляясь в Петербург, привез свою картину «Иуда» («Совесть»).
(обратно)963
Статья Н. К. Михайловского «О гр. Льве Толстом и о наркотиках» в «Русских ведомостях» (№ 46, 16 февраля 1891 г.) по поводу английского перевода статьи Толстого «Для чего люди одурманиваются?»
(обратно)964
Толстой читал «Избранные сочинения» Дени Дидро (Париж, 1884).
(обратно)965
То есть о печатании повести «Крейцерова соната» в издаваемой С. А. Толстой 13-й части «Сочинений гр. Л. Н. Толстого».
(обратно)966
Полемическая статья философа-идеалиста А. А. Козлова «Письма о книге гр. Л. Н. Толстого «О жизни» («Вопросы философии и психологии», 1890–1891, кн. 5–8).
(обратно)967
Слова Толстого «все — ничто, все материальное ничто» цитирует В. И. Ленин в статье «Л. Н. Толстой и его эпоха» в доказательство того, что «именно идеологией восточного строя, азиатского строя и является толстовщина в ее реальном историческом содержании» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 102).
(обратно)968
Определение прогресса американским писателем Генри Джемсом-старшим, приведенное в книге Л. Гронлунда. См. примеч. 14.
(обратно)969
См. примеч. 84 к Дн. 1890 г.
(обратно)970
«Избранные сочинения» Дени Дидро.
(обратно)971
В этом журнале был напечатан под названием «Люди, опомнитесь!» перевод статьи Толстого «Николай Палкин».
(обратно)972
В журнале «Arena», № 13 от 1 декабря 1890 г. была напечатана статья Л. Дж. Вильсона «Христианское учение о непротивлении графа Льва Толстого и Адина Баллу. Неизданная переписка».
(обратно)973
Книга Ф. Эванса «Автобиография шекера», 1888.
(обратно)974
Статья Л. Аббота «Что такое христианство».
(обратно)975
Рукопись статьи «Не убий».
(обратно)976
Статья Дидро «Об истолковании природы» в сб. «Избранные сочинения».
(обратно)977
Имеется в виду незавершенный рассказ «Мать», в котором были использованы некоторые обстоятельства из жизни А. П. Лопухиной (см. т. 12 наст. изд.).
(обратно)978
М. Л. и А. Л. Толстые.
(обратно)979
С. А. Толстая уехала в Петербург хлопотать о разрешении включить «Крейцерову сонату» в тринадцатую часть «Сочинений гр. Л. Н. Толстого». Там она добилась приема у Александра III, который разрешил печатать повесть, но не отдельным изданием, а только в Собр. соч.
(обратно)980
Статья Э. Рода «Моральные идеи настоящего времени. Граф Толстой» («Revue Bleue», 1891, № 13). В ней говорится о влиянии Толстого на французскую литературу.
(обратно)981
Статья Н. Н. Страхова «Толки об Л. Н. Толстом. Психологический этюд» («Вопросы философии и психологии», 1891, кн. 9).
(обратно)982
В «Историческом вестнике» (1891, IV) была опубликована заметка, содержавшая критические замечания немецких литераторов о постановке «Плодов просвещения» на берлинской сцене.
(обратно)983
Книга Ж. М. Гюйо «Проблемы современной эстетики». Париж, 1884. Позднее Толстой подверг ее критике в трактате «Что такое искусство?».
(обратно)984
«Записки матери» были начаты в форме дневника героини.
(обратно)985
С. А. Толстая сказала Александру III, что Толстой неповинен в распространении своих запрещенных сочинений: его единомышленники распространяют их помимо его воли.
(обратно)986
Речь идет о затеянном в семье Толстого разделе имущества в связи с его отказом от прав собственности.
(обратно)987
Книга X. Уильямса. Позднее издана под заглавием «Этика пищи, или Нравственные основы безубойного питания для человека» («Посредник», 1893).
(обратно)988
Диалог Платона «Законы».
(обратно)989
Книга М. Урусовой «Молодым женщинам и молодым девушкам. Воспитание с колыбели». Париж, 1889.
(обратно)990
Н. В. Давыдов прислал Толстому одно из судебных дел, послужившее впоследствии для описания суда в «Воскресении».
(обратно)991
Толстой ходил на бойню в связи с работой над статьей «Первая ступень».
(обратно)992
Толстой посетил в тульском остроге политическую ссыльную М. Ф. Симонсон.
(обратно)993
M. H. Толстая, жившая в Шамординском монастыре.
(обратно)994
Корректуры книги Р. Левенфельда на немецком языке «Граф Лев Толстой. Его жизнь, его сочинения, его мировоззрение».
(обратно)995
В связи с разделом в семье Толстой вспоминает комедию И. С. Тургенева — в ней высмеивается дележ имения между братом и сестрой.
(обратно)996
То есть принадлежащую M. H. Толстой книгу. Л. Скуполи, в переработке Никодима Святогорца, «Невидимая брань». М., 1886.
(обратно)997
Здесь и в последующих записях ошибка в датах. Толстой вернулся в Ясную Поляну 16 июня.
(обратно)998
4-ю главу первоначального варианта трактата «Царство божие внутри вас».
(обратно)999
Роман Б. Бьернсона «Новые веяния» («Северный вестник», 1891, № 1–6).
(обратно)1000
Статья «Первая ступень».
(обратно)1001
«И свет во тьме светит».
(обратно)1002
Запись к замыслу «Посмертных записок старца Федора Кузмича».
(обратно)1003
Сюжет реализован в рассказе «Фальшивый купон».
(обратно)1004
Письмо с отказом от авторских прав.
(обратно)1005
Рассказ Марии Торелли-Торриани (псевд. Маркиза Коломба) («Вестник иностранной литературы», 1891, август).
(обратно)1006
Толстой отправил в газеты письмо о том, что он предоставляет всем желающим право безвозмездно издавать все сочинения, написанные им с 1881 г., а также «могущие вновь появиться после нынешнего дня» (т. 19 наст. изд., № 178).
(обратно)1007
Здесь и ниже речь идет о главах трактата «Царство божие внутри вас».
(обратно)1008
Статья «О голоде» предназначалась для журнала «Вопросы философии и психологии», но не была пропущена цензурой.
(обратно)1009
Роман Берты фон Зутнер. В русском переводе — «Против войны. Роман из жизни». СПб., 1891.
(обратно)1010
Речь идет о поездке в Рязанскую губ. для организации помощи голодающим.
(обратно)1011
Статья «Страшный вопрос». Напечатана в «Русских ведомостях», № 306 от 6 ноября 1891 г.
(обратно)1012
Рассказ остался незаконченным. См. т. 12 наст. изд.
(обратно)1013
Английский «Фонд помощи голодающим в России» предложил Толстому быть его доверенным лицом по распределению собранных средств.
(обратно)1014
Статья «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая». Напечатана в сб. «Помощь голодающим». М., 1892.
(обратно)1015
Дневник художницы М. К. Башкирцевой, изданный после ее смерти в Париже в 1887 г.
(обратно)1016
Во время объезда деревень И. И. Раевский тяжело заболел и 26 ноября умер.
(обратно)1017
«Плоды просвещения» в Малом театре 7 января.
(обратно)1018
Речь идет о трактате «Царство божие внутри вас».
(обратно)1019
С. А. Толстая находилась в Бегичевке с 24 января.
(обратно)1020
Т. Л. Толстая находилась в Бегичевке с 28 октября 1891 г.
(обратно)1021
По воскресеньям помощники Толстого собирались из всех деревень в Бегичевку для обсуждения дальнейших действий.
(обратно)1022
И. Е. Репин находился в Бегичевке с 21 по 24 февраля. Он сделал несколько зарисовок Толстого.
(обратно)1023
У С. Н. Толстого в Пирогове.
(обратно)1024
«Приютами» именовались столовые для маленьких детей.
(обратно)1025
«Темными» в семье Толстых иронически называли последователей учения Толстого.
(обратно)1026
12 марта Толстой выехал в Москву, а оттуда в Ясную Поляну. 14 апреля он вернулся в Бегичевку.
(обратно)1027
7 июля состоялось подписание раздельного акта, по которому Толстой отказался от своих прав на недвижимую собственность в пользу жены и детей.
(обратно)1028
Е. И. Попова.
(обратно)1029
И. Б. Файнерман и М. В. Алехин предложили созвать съезд единомышленников Толстого для разрешения наметившихся среди них расхождений. Толстой отклонил это предложение.
(обратно)1030
Рассказ П. Д. Боборыкина «Труп» («Северный вестник», 1892, № 4).
(обратно)1031
Письмо Лескова (оно не сохранилось) касалось недоразумения, возникшего в связи с опубликованием переводчиком Диллоном в английской печати статьи Толстого «О голоде».
(обратно)1032
«Отчет об употреблении пожертвованных денег с 12 апреля по 20 июля 1892 года» (напечатан в «Русских ведомостях», 1892, № 301 от 31 октября — см. ПСС, т. 29).
(обратно)1033
Направляясь в Бегичевку, Толстой 9 сентября увидел на ст. Узловая поезд, в котором везли солдат усмирять крестьян, противодействовавших рубке их леса помещиком графом В. А. Бобринским. Толстой написал об этом в трактате «Царство божие внутри вас», гл. XII.
(обратно)1034
А. Ф. Амиель. «Отрывки из неизданного дневника» в 2-х томах (1883–1884).
(обратно)1035
Предисловие к дневнику Амиеля было написано в декабре 1893 г. (см. ПСС, т. 29).
(обратно)1036
«Мещанин во дворянстве исповедует религию, сам того не зная» (фр.). — Толстой сравнивает Амиеля с персонажем комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» Журденом, который не знал, что он говорит прозой.
(обратно)1037
Такая статья не была написана.
(обратно)1038
М. В. Алехин и А. М. Бодянский были арестованы за агитацию среди крестьян.
(обратно)1039
Письмо неизвестно. Вероятно, H. H. Страхов излагал в нем основные мысли доклада Д. С. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях в современной русской литературе», прочитанного в Русском литературном обществе 26 октября 1892 г.
(обратно)1040
Трактат «Царство божие внутри вас».
(обратно)1041
Имеются в виду отношения М. Л. Толстой и П. И. Раевского.
(обратно)1042
Суд над П. А. Раевым и М. В. Булыгиным состоялся в связи с тем, что они открыли на своем хуторе школу без официального разрешения.
(обратно)1043
«И свет во тьме светит».
(обратно)1044
Рукопись гл. XII «Царства божия внутри вас».
(обратно)1045
Рассказ «Кто прав?». Ниже Толстой называет его «Дети».
(обратно)1046
В Оренбургском крае были расхищены земли, предназначавшиеся для поселенцев-башкир.
(обратно)1047
К приезду Александра III в Москву 12 мая 1893 г.
(обратно)1048
Выставка, приуроченная к 400-летию открытия Америки.
(обратно)1049
21 мая Толстой поехал в Бегичевку. Вернулся в Ясную Поляну 26 мая.
(обратно)1050
Меннониты — религиозная секта, проповедовавшая непротивление злу насилием.
(обратно)1051
Эмиль Дюбуа-Реймон. «О пределах естествознания» (М., 1878).
(обратно)1052
Эту мысль В. В. Докучаев высказал в книгах «Русский чернозем» (М., 1883), «Наши степи прежде и теперь» (М., 1892).
(обратно)1053
Г. Мёль. «Почва и ее значение» (1870).
(обратно)1054
Послесловие к трактату «Царство божие внутри вас».
(обратно)1055
Эту мысль М. Нордау, высказанную в труде «Вырождение», Толстой почерпнул из статьи И. Иванова «Заметки читателя» в «Русских ведомостях» (1893, № 147 от 31 мая).
(обратно)1056
Имеется в виду присланная В. Г. Чертковым компиляция из черновых рукописей Толстого. Это побудило Толстого вернуться к данной теме.
(обратно)1057
Между Э. Золя и А. Дюма (сыном) возникла полемика об идеалах, которым должна следовать молодежь.
(обратно)1058
К. А. Иславин.
(обратно)1059
Статья «Неделание» (не была напечатана в этом журнале).
(обратно)1060
Английский адмирал Д. Трайон, виновник столкновения на маневрах двух броненосцев, отказался покинуть судно и погиб вместе с ним.
(обратно)1061
С 11 по 19 июля Толстой находился в Бегичевке, где завершал дела, связанные с помощью голодающим.
(обратно)1062
Статья «Неделание» была опубликована в «Северном вестнике» (1893, № 9).
(обратно)1063
В заграничных газетах появились выдержки из XII главы трактата «Царство божие внутри вас» с описанием карательной экспедиции, направлявшейся на усмирение крестьян. Это вызвало в русских правительственных кругах озлобление против Толстого.
(обратно)1064
В тексте гл. XII упоминался тульский губернатор Н. А. Зиновьев, возглавлявший карательную экспедицию.
(обратно)1065
По настоянию С. А. Толстой, боявшейся репрессий, были посланы за границу телеграммы о приостановке печатания трактата.
(обратно)1066
Статья «Религия и нравственность» (ПСС, т. 39).
(обратно)1067
То есть за рукописью трактата «Царство божие внутри вас» для гектографирования.
(обратно)1068
Л. Л. Толстой болел неврастенией.
(обратно)1069
Речь идет об увлечении М. Л. Толстой жившим в яснополянском доме в качестве учителя молодым врачом Н. А. Зандером. Из-за возражения С. А. Толстой их брак не состоялся.
(обратно)1070
Вместе с Е. И. Поповым Толстой работал над переводом «Книги пути и истины» Лао-тзе.
(обратно)1071
«Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана» (см. т. 15 наст. изд.).
(обратно)1072
Из эпиграммы Г. Э. Лессинга «Злая жена».
(обратно)1073
Французский перевод трактата «Царство божие внутри вас». Вышел в Париже под заглавием «Спасение в вас».
(обратно)1074
«Тулон» — первоначальное название антимилитаристской статьи «Христианство и патриотизм» (ПСС, т. 39).
(обратно)1075
Толстой приехал в Москву 11 ноября.
(обратно)1076
Продажа С. А. Толстой его сочинений была Толстому особенно неприятна после опубликования им в сентябре 1891 г. письма об отказе от авторских прав.
(обратно)1077
«Предисловие к дневнику Амиеля» (см. ПСС, т. 29).
(обратно)1078
«Три притчи». Завершены в 1895 г. (см. ПСС, т. 31).
(обратно)1079
М. Л. Толстая намеревалась поступить на медицинские курсы. Т. Л. Толстая окончила школу живописи и увлекалась рисованием.
(обратно)1080
Книга Поля Сабатье «Жизнь святого Франциска Ассизского». В 1898 г. издана в «Посреднике».
(обратно)1081
Книга Ф. П. Вильямса «Истинный сын свободы, или Человек, который не захотел быть патриотом». Нью-Йорк, 1893.
(обратно)1082
Резкое письмо к Александру III в связи с тем, что у Д. А. Хилкова и его жены Ц. В. Винер власти насильно отняли детей.
(обратно)1083
11 января Толстой посетил IX Всероссийский съезд естествоиспытателей, где был встречен овацией.
(обратно)1084
С. Н. Толстая.
(обратно)1085
Б. Н. Чичерин. «Наука и религия» (М., 1879).
(обратно)1086
А. И. Введенский. «О видах веры в ее отношениях к знанию» («Вопросы философии и психологии», 1893, кн. 20 и 21).
(обратно)1087
Е. Н. Дрожжин, крестьянин. Умер в тюрьме, куда был заточен за отказ от военной службы по религиозным мотивам.
(обратно)1088
См. примеч. 1.
(обратно)1089
Подобные характеры Толстой позднее создаст в драме «Живой труп»: Федя Протасов и Каренин.
(обратно)1090
В мае Толстой изменил решение. Статья появилась в газетах «Daily Chronicle» и «Journal des Débats».
(обратно)1091
Имеются в виду отношения Т. Л. Толстой и Е. И. Попова.
(обратно)1092
Работа над предисловием к рассказам Гюи де Мопассана (т. 15 наст. изд.) пробудила в Толстом интерес к проблемам искусства, и он стал изучать труды по эстетике.
(обратно)1093
Толстой с дочерью гостили у В. Г. Черткова в его имении Ржевск Воронежской губ. На обратном пути они заезжали в Воронеж к Г. А. Русанову.
(обратно)1094
Любимое утверждение Толстого: человек — это дробь, в которой числитель — его действительные достоинства, а знаменатель — его мнение о себе.
(обратно)1095
В окончательном виде озаглавлено «Христианское учение».
(обратно)1096
М. Я. Капустин. «Вкусовые вещества, их диетическое и моральное значение». В статье содержится полемика со статьей Толстого «Первая ступень».
(обратно)1097
С. А. Толстая, недовольная дружеским характером отношений между Толстым и В. Г. Чертковым, высказала в письме к Черткову неодобрение того, что он снял дачу близ Ясной Поляны.
(обратно)1098
Книги Д. Кенворти «От рабства к братству», 1894, и «Христианское восстание», 1894. Письмо к Кенворти см. ПСС, т. 67, № 136.
(обратно)1099
Статья Ф. Адлера «Четыре формы страдания» в кн. «Религия, основанная на морали. Собрание речей» (Париж, 1891).
(обратно)1100
См. примеч. 31 к Дн. 1893 г.
(обратно)1101
Художник H. H. Ге умер в ночь с 1 на 2 июня.
(обратно)1102
М. В. Булыгин отбывал заключение в Крапивне. Толстой дважды навещал его там.
(обратно)1103
Теорию «единого налога» американского экономиста Генри Джорджа Толстой излагал для Т. М. Бондарева. Письмо Толстого см. ПСС, т. 67, с. 158–159.
(обратно)1104
М. А. Шмидт.
(обратно)1105
В. А. Берс и его жена; Е. В. и А. Л. Оболенские.
(обратно)1106
Толстой читал книгу Шопенгауэра «Parerga und Paralipomena» (Берлин, 1862).
(обратно)1107
В. Ф. Лазурский.
(обратно)1108
А. Л. Уелш переводила письма Толстого к Кенворти (см. ПСС, т. 67).
(обратно)1109
Статья «Христианство и патриотизм» была напечатана в газ. «Daily Chronicle» (1894, май).
(обратно)1110
Роман Марселя Прево «Полудевы» (1894).
(обратно)1111
В. Г. Чертков делал из Дневников Толстого выписки для подготовлявшегося им «Свода мыслей Л. Н. Толстого».
(обратно)1112
Статья H. H. Страхова «Исторические взгляды Г. Рюккерта и Н. Я. Данилевского» («Русский вестник», 1894, № 10).
(обратно)1113
Народная драма «Петр Хлебник» (см. т. 11 наст. изд.).
(обратно)1114
Вместе с художником-передвижником Н. А. Касаткиным Толстой ездил на цементный и кирпичный заводы, принадлежавшие Р. Р. Гилю.
(обратно)1115
Имеется в виду крестьянин Т. Е. Базыкин, сын А. А. Базыкиной, с которой Толстой был близок в конце 50-х годов.
(обратно)1116
Генри Джордж. «Запутавшийся философ» (Нью-Йорк, 1894).
(обратно)1117
«Хижина дяди Тома», роман Г. Бичер-Стоу (1852).
(обратно)1118
О статье сведений не имеется. Ответ Толстого см. ПСС, т. 67, № 197.
(обратно)1119
«Gegen den Storm» («Против течения») — серия брошюр по проблемам культуры, издававшихся в Вене.
(обратно)1120
Вероятно, года Марса, то есть периода обращения планеты Марс вокруг Солнца.
(обратно)1121
1/13 июня 1894 г. президент французской республики Карно был убит анархистом Казерио.
(обратно)1122
Эту мысль Толстой позднее развил в трактате «Рабство нашего времени», в статье «Не убий» и др.
(обратно)1123
Т. Л. Толстая заключила с крестьянами дер. Овсянниково договор о передаче им в аренду 180 десятин принадлежавшей ей земли. Вместо платы они должны были вносить на общественные нужды 425 р. в год.
(обратно)1124
Первое упоминание о замысле рассказа «Хозяин и работник».
(обратно)1125
Толстой ездил к нотариусу оформить договор с крестьянами дер. Овсянниково.
(обратно)1126
Свой ответ на письмо Ч. Н. Фойстера Толстой переделал в статью, озаглавленную «Об отношении к государству», и отослал в газету «Daily Chronicle».
(обратно)1127
О. Гюйар. «Права, обязанности и учреждения с точки зрения назначения человека» (Париж, 1848).
(обратно)1128
Первая редакция рассказа «Хозяин и работник».
(обратно)1129
Бабисты (бабиды) — мусульманская секта, проповедующая религиозное учение бабизма.
(обратно)1130
Толстой послал Ц. В. Винер письмо, в котором осудил несправедливое разделение труда в семье между мужчиной и женщиной (см. ПСС, т. 67, № 222).
(обратно)1131
Ф. А. Страхов.
(обратно)1132
Отказавшись от вознаграждения за все свои сочинения, Толстой сохранил за собой только небольшой гонорар, поступивший от дирекции императорских театров за постановку «Плодов просвещения» (позднее — и за «Власть тьмы»), который он употреблял в благотворительных целях.
(обратно)1133
Александр III умер 20 октября 1894 г. В письме к Н. Я. Гроту Толстой писал, что жалость к царю как человеку не изменяет его мнения о «плачевном итоге его царствования» (ПСС, т. 67, с. 250).
(обратно)1134
Толстой читал статью В. Д. Спасовича «Дружба Шиллера и Гете» («Вестник Европы», 1894, № 2–4). «О своей драме» — «И свет во тьме светит».
(обратно)1135
Сатирический роман Леона Доде «Помощники смерти» (1894).
(обратно)1136
П. П. Арбузов.
(обратно)1137
О присяге вошедшему на престол Николаю II Толстой говорил с плотником П. Д. Новиковым, по прозвищу Цыганок.
(обратно)1138
Письмо Л. Я. Гуревич по поводу «верноподданнических» откликов в печати на смерть Александра III.
(обратно)1139
Письмо философа В. С. Соловьева о его стремлении разрешить все идейные разногласия с Толстым. Ответ Толстого см. ПСС, т. 67, № 283.
(обратно)1140
Письмо от К. Р. Вальронда, командира крейсера «Чесма», от 2 ноября. Ответное письмо Толстого см. ПСС, т. 67, № 281.
(обратно)1141
Толстой исправлял составленную Е. И. Поповым брошюру «Жизнь и смерть Евдокима Никитича Дрожжина».
(обратно)1142
Е. И. Попов.
(обратно)1143
Толстой написал предисловие к переведенной им из журнала «The Open Court» сказке П. Каруса «Карма» и послал в «Северный вестник».
(обратно)1144
К Толстому приходила делегация студентов в связи с увольнением из Московского университета и административной высылкой 53 студентов. Толстой снабдил их письмом к А. Ф. Кони, в котором просил помочь им.
(обратно)1145
Статья «Христианское учение».
(обратно)1146
Замысел возник у Толстого в связи со вступлением на престол Николая II. Рассказ не был окончен. См. т. 12 наст. изд.
(обратно)1147
Рассказ был закончен в январе 1895 г.
(обратно)1148
В конце декабря 1894 г. Толстой сфотографировался вместе с В. Г. Чертковым, П. И. Бирюковым, Е. И. Поповым, И. М. Трегубовым и И. И. Горбуновым-Посадовым. Это вызвало резкое недовольство С. А. Толстой. Она забрала у фотографа снимок и негативы и уничтожила их.
(обратно)1149
Ф. Ф. Лахман. «Не догмат и не вероисповедание, а религия» (Копенгаген, 1894). Письмо Лахману см. ПСС, т. 67, с. 292–293.
(обратно)1150
В. М. Величкина и ее друзья были в 1894 г. арестованы за принадлежность к партии «Народное право».
(обратно)


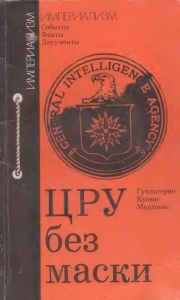
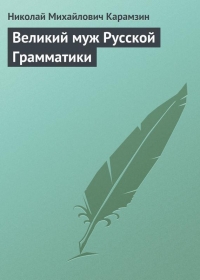

Комментарии к книге «Избранные дневники 1847-1894», Лев Николаевич Толстой
Всего 0 комментариев