Дмитрий Сергеевич Мережковский В ТИХОМ ОМУТЕ
В ОБЕЗЬЯНЬИХ ЛАПАХ (о Леониде Андрееве)
ГЛАВА I
Обезьяна, подглядев, как мать ласкает ребенка, украла его из люльки и заласкала до смерти: есть об этом рассказ в какой-то детской книжке с картинками.
Когда я думаю о судьбе таких русских писателей, как Максим Горький и Леонид Андреев, заласканных, задушенных славою, то мне вспоминается ребенок в обезьяньих лапах.
В самом деле, какая судьба: вчера — «властитель дум», духовный самодержец и первосвященник русской интеллигенции, а сегодня — что он, где он? — этого никто не знает или скоро не будет знать. Холопство — в поклонении, холопство — в унижении. Обезьянья нежность, обезьянья лютость. Объявили «конец Горького» — и выбросили конченого писателя, как выбрасывают выжатый лимон. Поступили с человеком, как с одним из тех резиновых пузырей-куколок, которые надуваются до исполинских размеров, — «человек, это гордо!» — а затем, по мере того как выходит воздух, ежатся, морщатся и, наконец, с последним жалобным писком, совсем сникнув, становятся тряпкою.
Не хочется верить в «конец Горького»; пока жив человек, жив писатель; именно теперь, когда бесчисленные мнимые друзья отвернулись от него, немногие мнимые враги продолжают смотреть на него с надеждой, готовы протянуть ему руку и, конечно, рады будут первые приветствовать возрождение Горького.
А пока что новая жертвочка в обезьяньих лапах — Леонид Андреев. Неужели и с ним то же будет, что с Горьким?
Некогда Горький казался великим художником — и перестал казаться; Андреев кажется — и перестанет казаться. У обоих есть маленькие драгоценные камешки художественного творчества; но не эти камешки, а огромные фальшивые бриллианты пленяли некогда поклонников Горького, сейчас пленяют поклонников Андреева.
Я себя не обманываю, я знаю: сейчас доказывать, что сила обоих писателей вовсе не в художественном творчестве, а в общественном действии, не там, где они исполняют, а там, где они нарушают законы прекрасного, доказывать это — значит толочь воду в ступе: никто не поверит, никто не услышит. О вкусах, конечно, спорят. Что такое вся критика, как не спор о вкусах? Есть, однако, предел, за которым спор прекращается. Нельзя доказать кошке, что валерьяна пахнет хуже фиалки: надо перестать быть кошкой, чтобы это понять.
«Над всею жизнью Василия Фивейского тяготел суровый и загадочный рок. Точно проклятый неведомым проклятьем, он с юности нес тяжелое бремя печалей, болезней и горя, и никогда не заживали на сердце его кровоточащие раны. Казалось, воздух губительный и тлетворный окружал его, как невидимое прозрачное облако».
Перевертываю страницы и нахожу: «сад вечно таинственный и манящий», «острая тоска», «жгучее воспоминание», «молчаливая творческая дума», «огромное, бездонное молчание», «стихийная необъятная дума», «молчаливо-загадочные поля», «неведомая тоска», «необъятная тишина», «чистая творческая дума», «мучительные воспоминания», «неизведанный счастливый простор», «роковая неизбежность», «безвыходное одиночество», «необъятный всевластный мрак», «холодное отчаяние», «музыка, играющая так обаятельно, так задумчиво и нежно», «музыка, обдающая волною горячих звуков», «дикое упоение злобою», «безмерная печаль нежной женской души», «огненная влага в кубке страданий».
Ну, с меня довольно. Для моего человеческого носа тут запах валерьяны слишком чувствителен. И где бы я ни открыл книгу, мелькают все те же цветы красноречия, подобные цветам провинциальных обоев. Не живые сочетания, а мертвая пыль слов, книжный сор. Слова, налитые не огнем и кровью, а типографскими чернилами. Я знаю, что значит: «огурец соленый», «стол круглый»; но что значит: «мучительные воспоминания», «жгучая тоска» — я не то что не знаю, а знать не хочу, как не хочу знать, что опротивевшие обойные цветочки имеют притязание на сходство с полевыми васильками и маками: мало ли чего хотел обойный фабрикант, да моя-то душа этого не хочет.
Существует два рода писателей: одни пользуются словами, как ходячею монетою — стертыми пятиалтынными; другие — чеканят слова, как монету, выбивая на каждом свое лицо, так что сразу видно, чье слово: кесарево — кесарю; для одних слова — условные знаки, как бы сигналы на железнодорожных семафорах; для других — знамения, чудеса, магия, «духовные тела» предметов; для одних слово стало механикой; для других — «слово стало плотью». Андреев если не везде, то больше всего там, где старается быть художником, принадлежит к первому роду писателей.
Мне могут возразить, что все это мелочи; но ведь достаточно опустить палец в воду и попробовать на языке, чтобы узнать, какая вода — пресная или соленая; достаточно сделать химический анализ капли крови, чтобы узнать, какой болезнью заражено тело.
Каковы слова, таковы и мысли.
«К звездам», кажется, единственное произведение Андреева, в котором действующие лица не только вопят и скрежещут зубами, но и беседуют.
«Всякий человек должен быть сильным». «Астрономия — торжество разума». «У американцев — высокая культура». «Вы как будто против науки, Анна Сергеевна?» — «Не против науки, а против ученых, которые уклоняются от общественных обязанностей». «Для революции нужен талант». «Буржуа — звери, они всегда питались человеческой кровью». «У меня под юбкой знамя было — наше знамя, я приколола его английскими булавками, но какое оно тяжелое». «Собаке нужно время, чтобы привыкнуть к потере щенка». «Изменников и предателей нужно казнить смертью». «Можно убивать электричеством, тогда без крови». «Среди нас, евреев, родился Христос и Маркс». «Товарищи, солнце ведь тоже пролетарий».
По этим изречениям я не сужу об уме самого Андреева, только спрашиваю, знает ли он или не знает, что его герои одарены нечаянным и самоубийственным остроумием Козьмы Пруткова.
Иногда говорят они в стихах:
Небо так ясно, солнце прекрасно, Солнце зовет. В веселой работе, чужды заботе, Братья, вперед. Грозы и бури ясной лазури Не победят. Под бури покровом в мраке грозовом Молньи горят.Может быть, этот пролетарский гимн солнцу внушен благородными чувствами, но стихи все-таки прескверные.
Красноречие дурного вкуса особенно тягостно там, где речь идет о самом святом для Андреева и для его читателей.
«Гибнет свобода, бедная невеста в белых цветах, обретшая гибель в час брачного торжества. Но, чу. Слышен топот. Идут. Словно десятки гигантских барабанов отбивают густую тревожную дробь. Трам-трам-трам. Идут предместья. Идут защищать свободу. Разве можно удержать падающую лавину? Кто осмелится сказать землетрясению: досюда земля твоя, а дальше не трогай… Так это народ! И гордость, и чувство силы, и жажда великой, еще не виданной свободы. Свободный народ — какое счастье! Трам-трам-трам… Гремит революционная песня… К оружию, граждане! Собирайтесь в батальоны! Идем, идем!.. Спасена свобода!»
Да ведь это же Кукольник: «Рука Всевышнего отечество спасла» или
Гром победы, раздавайся, Веселися, храбрый Росс!вывернутые наизнанку. Революционная казенщина, которая хуже правительственной. Стиль аракчеевских казарм в стиле «военной диктатуры пролетариата». Стоило начинать революцию, чтобы не найти в ней ничего, кроме «трам-трам-трам». Неужели Андреев не чувствует, что такие молитвы — кощунство.
Как все, кто не владеет языком, он его насилует.
В рассказе «Так было» речь идет о героях французской революции. Они, говорит Андреев, «любимые дети грозных дней — окровавленных голов, которые носят на пиках, как тыквы; мясистых, губчатых сердец, из которых выжимают кровь; могучих титанических речей, где слово острее кинжала и мысль беспощаднее, чем порох. Покорные воле державного народа, они вызвали призрак таинственной власти — сейчас, холодные, как ученые анатомы, как судьи, как палачи, они исследуют его голубое сияние, пугающее невежд и суеверов, разнимут его призрачные члены, найдут черный яд тирании и предадут его последней казни».
Что это значит? «Дети дней — губчатых сердец — исследуют голубое сияние призрака власти и предают казни яд тирании».
«О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу». Не будем забывать, что без русского языка и русской революции не сделаешь. Кто из нас не возмутится, когда бесчестят женщину; отчего же мы не возмущаемся, когда бесчестят язык: ведь и он живой, ведь и он целомудренный. Есть преступления против языка, которые никому не прощаются.
Горько сознаться, что в русской революции дела, достойные титанов, совершаются под песни пигмеев, под такие гимназические вирши, как «Вставай, подымайся, рабочий народ». Неужели наша свобода родилась глухонемою, или это все еще древнее косноязычие рабов?
ГЛАВА II
Не только красота, но и уродство, не только лад мира, космос, но и мировой разлад, хаос могут быть предметом искусства, с тем, однако, условием, чтобы в обеих эстетиках, положительной и отрицательной, в отражении космоса и в отражении хаоса господствовал один закон — художественная мера, категорический императив искусства — воля к прекрасному. Художник может созерцать уродство, но не может хотеть уродства; может быть в хаосе, но не может быть хаосом.
Художественное творчество Андреева мне кажется сомнительным не потому, что он изображает уродство, ужас, хаос, — напротив, подобные изображения требуют высшего художественного творчества, — а потому, что, созерцая уродство, он соглашается на уродство, созерцая хаос, становится хаосом.
У священника Василия Фивейского один сын утонул, другой — родился идиотом и ест живых прусаков, жена с горя пьет запоем. Дочь говорит отцу, что хотела бы убить мать и брата. В пожаре сгорает жена священника, «вместо лица у нее — сплошной белый пузырь». Священник сходит с ума и хочет воскресить мертвого; мертвый не воскресает. Священник со злобой трясет гроб и кричит: «Да говори же ты, проклятое мясо!» В галлюцинации видит то встающего из гроба сына-идиота, то снова труп — «и так безумно двоится гниющая масса». Священник бежит в поле, а за ним из грозовых туч, как из огненного клубящегося хаоса, несутся «громоподобный хохот, и треск, и крики дикого веселья». Он «падает, крутится по земле, окровавленный, страшный, и снова бежит» и, наконец, умирает на большой дороге.
Было ли, бывает ли так в жизни? Для художника вопрос не в том, есть ли в жизни ужас, а есть ли в жизни трагедия. Мало ли ужасов в газетном отделе происшествий: то колесо ломовика раздавило череп Кюри, изобретателя радия, то свинья отъела голову трехлетнему ребенку. Можно, конечно, и по поводу этих происшествий поднять проблему мирового зла; но лучше не поднимать — все равно ничего не выйдет, кроме метафизических общих мест. Все мы, смертные, знаем, что какие угодно ужасы с каждым из нас могут случиться, и мы уж тем, что родились, как бы согласились на них. Тут нет еще трагедии: трагедия начинается там, где есть борьба, а борьба начинается там, где есть надежда преодолеть слепую судьбу — свинью, съедающую, и колесо, давящее нас. У Андреева никакой надежды нет, а следовательно, нет никакой трагедии.
Главный ужас жизни вовсе не в тех эмпирических ужасах, от которых герои Андреева вопят, корчатся и скрежещут зубами.
Разумеется, древние трагики глубже Андреева заглянули в ужас мира; недаром они решили, что «лучше всего человеку не рождаться, а родившись, умереть поскорей»; но они вместе с тем знали, что земная жизнь такова, что о ней нельзя сказать ни того, что она совсем хороша, ни того, что она совсем дурна. Это значит, говоря попросту, — жизнь наша серенькая, ни то ни се, серединка на половинке, и в этой-то серости ее главный ужас. Это в сущности то же, что говорит Гоголь в конце «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «опять поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо… Скушно на этом свете, господа». Эта смерть заживо, эта здешняя скука расширяется до нездешней, метафизической тоски, в которой есть предчувствие небытия, свидригайловской «бани с пауками по углам» — вечной смерти. Если же нет, как для андреевских героев, ни вечной жизни, ни вечной смерти, то временная жизнь и смерть — только «дьяволов водевиль» — жизнь копейка, а судьба индейка, — и «пусть все летит к черту», как горьковские босяки философствуют.
В Барджелло, одном из флорентийских музеев, есть бронзовая голова Данте; лицо спокойное, почти равнодушное, а между тем сразу видно, что это лицо того, кто видел ад. В том же музее восковое изображение чумы с отвратительными подробностями — гниющие трупы, из которых вываливаются внутренности, и в них кишат огромные черви. Поклонники андреевских ужасов напоминают мне тех воскресных зевак, которые скучая проходят мимо головы Данте и толпятся с жадностью у восковой чумы.
Знает ли он, что последний ужас не в огне и буре, а в веянье тихого ветра? Или ему кажется, что слово чем громче, тем сильнее, что удар палкой по голове внушительнее, чем сказанное шепотом или даже вовсе не сказанное. Его герои как будто думают, что можно все высказать, все выкрикнуть, только бы хватило голоса. У них нет недоговоренного, умолчанного. Нет того, что «в существе разумном мы зовем возвышенной стыдливостью страдания». Сразу вываливают все, что есть за душой, — что в печи, на стол мечи. Похожи на тех нищих, которые выставляют язвы напоказ, прося копеечки.
Открываю книгу, и нагромождение ужасов ошеломляет меня, я под ними барахтаюсь, как под внезапно свалившейся лавиною. Но опоминаюсь и мало-помалу догадываюсь, в чем дело. А дело в том, что меня хотят запугать. И во мне пробуждается дух противоречия: так вот же тебе, не боюсь, не так страшен черт, как его малюют. И усмехаюсь, и от этой усмешки измалеванный черт, «Некто в сером», проваливается окончательно. И мне просто весело смотреть, как на сцене «балаганчика» из проломленных голов течет вместо крови клюквенный сок и бушует игрушечный хаос в стакане воды. Сначала весело, а потом скучненько — чересчур долго пустые ужасы катятся и гремят, как пустые бочки. И я закрываю книгу с безмятежною зевотой. Если же снова открою, то уже не для того, чтобы искать в Андрееве художника.
Но тут не кончается, а только начинается вопрос, в чем же сила Андреева. Ведь все-таки по действию на умы читателей среди современных русских писателей нет ему равного. Все они — свечи под спудом, он один — свеча на столе. Они никого не заразили; он заражает всех. Хорошо или дурно, но это так, и нельзя с этим не считаться критике, если критика есть понимание не только того, что пишется о жизни, но и того, что делается в жизни.
Эстеты римского упадка не хотели читать апостола Павла, потому что он плохо писал по-гречески. Проиграл не Павел, а те, кто его не читали: проглядели христианство. Я не сравниваю Андреева с апостолом Павлом, но боюсь, как бы и здесь не проглядеть жизнь.
Те огненные языки, которые знаменуют сошествие Духа, некогда горели над русской литературой; теперь потухли или горят уже не там. Что-то есть в русской жизни, чего уже нет или еще нет в русской литературе, в слове. Жизнь ушла в бессловесную глубь. Теперь то, что пишется, значительнее того, что печатается; то, что говорится, — того, что пишется, и, наконец, то, что умалчивается, — того, что говорится. Теперь что у кого болит, тот о том не говорит: сказать — язык не поворачивается, написать — рука не поднимается, где уж тут печатать.
Недавно заговорили о «зеленой опасности»; в газетах появились дневники и письма гимназистов из «подполья», которые поступают в общество «огарков» и стреляются, потому что не решили мировых вопросов. Это, конечно, не литература — беспомощно, почти безграмотно. Но как подлинник жизни, может быть, значительнее, чем вся современная литература. Предсмертные письма самоубийц редко бывают правдивыми, но в каком-то порядке они все-таки подлиннее стихов Пушкина.
Произведения Андреева напоминают письма самоубийц: под ложью правда, как под пеплом огонь; огня не видать, а дотроньтесь — обожжет.
На сцене «балаганчика» из головы Пьеро течет клюквенный сок; но Пьеро все же не кукла, а человек, и, когда ему надоест быть куклою, он, может быть, уйдет за сцену и пустит себе пулю в лоб; тогда потечет кровь, и балаганчик кончится трагедией.
Я не боюсь того, чем Андреев меня пугает; но боюсь, чтоб он сам не испугался, как дети, которым однажды, во время игры в черта, явился черт.
Андреев не художник, но все же почти гениальный писатель: у него гений всей русской интеллигенции — гений общественности. Есть у Андреева и нечто большее, небывалое в русской интеллигенции: прикосновение общественности к религии. Что из этого выйдет, добро или зло, сейчас трудно решить, но что бы ни вышло, неизмеримо важно, что это случилось. Нужна небольшая религиозная опытность, чтобы предсказать, что для русской общественности прикосновение к религии даром не пройдет; коготок увяз, всей птичке пропасть. Религиозная бессознательность — все равно что половая девственность: потеряв, не вернешь.
О Боге Андреев не первый задумался в русской литературе, которая эти думы, можно сказать, всосала с молоком матери. Мистика Достоевского по сравнению с мистикой Андреева — солнечная система Коперника по сравнению с календарем. Недосягаемые глубины мистического созерцания, перейдя из четвертого измерения во второе, в общедоступную плоскость, как бы неимоверно расплющились. Елевзинские таинства превратились в уличный митинг. Но это не потеря, а только превращение мистической энергии — ее переход из созерцания в действие, из личности в общество, из мысли одного в волю всех.
Великие русские мистики, от Гоголя до Л. Толстого и Достоевского, только и делали, что рвались к общественности, но ведь вот почему-то так не дорвались — остались дневными звездами, которые видимы только в черной воде колодцев. Почему? Не потому ли, что для русских мистиков доныне всегда, сколько бы они этому ни противились, религия кончалась реакцией? Русская интеллигенция зачитывалась ими как художниками, но не жила с ними в своей единственно подлинной жизни — в революционной общественности. Тут они чужие. Андреев — свой брат, типичнейший русский интеллигент. Положение необычайное: «властитель дум», а лицо, как у всех; говорит, чувствует, думает, как все. Заражает, потому что заражен. На нем видно, как мистика, некогда редчайшая болезнь, случай белого ворона, становится эпидемической: все черные вороны вдруг побелели.
По степени религиозного сознания андреевские герои — недоумки, недоросли. Но в России издавна так повелось, что общественность делают не взрослые, а дети, эти вечные русские мальчики в красных рубашках-косоворотках и студенческих тужурках, которые в религиозном сознании ушли немногим дальше Писарева и Чернышевского. С Богом навсегда покончено, так думали они вчера; а сегодня не то чтобы подумали иначе, но зашевелилось у них что-то на дне прежних дум, как большая рыба в мутной воде. Откуда, что, зачем — они еще сами не знают. Со старой дороги не свернули, а только зашли в тупик и уперлись лбом в стену. Конечно, жаль лбов, ну да ничего, пусть поколотятся, и если даже кто-нибудь разобьет себе голову, зато другие поймут наконец, что религия — не пустое место; а может быть, и достучатся до той двери, о которой сказано: стучите, и отворится.
ГЛАВА III
Главная и непоправимая беда священника Василия Фивейского не в бесчисленных и фантастических бедах, а единственно в том, что он глуп; не просто не умен, а именно глуп, потому что истинная глупость заключается не столько в отсутствии ума, сколько в его несоответствии с прочими свойствами души, главным образом — с волей. Слишком большая воля при малом уме приводит к глупости или к сумасшествию, ибо и глупцы, так же как умные, может быть, даже чаще умных, сходят с ума. Во всяком случае, для автора, не желающего принимать на себя ответственность за глупость героев, самый удобный исход — сводить их с ума.
Сказано: не оспаривай глупца. Это верно в частных делах. Но когда глупость становится явлением общественным, как в настоящее время происходит в области религиозной метафизики, то приходится спорить.
Итак, согласимся с Андреевым, что Василий Фивейский не просто глуп, а только недостаточно мудр, кое-чего не знает, что знает за него автор, и вместе с тем беспредельно несчастен, обижен судьбой, людьми и Богом. Пройдя через горнило страданий, он вынес из него ту огненную веру, которая двигает или должна бы, по вере верующих, двигать горами, воскрешать мертвых. И вот в церкви во время отпевания покойника он подходит к гробу, «подымает повелительно правую руку и говорит разлагающемуся трупу:
— Тебе говорю, встань!»
«Но неподвижен мертвец». Тогда о. Василий «понимает все», проклинает Бога, и так как не имеет силы сделаться мудрым без Бога, то сходит с ума.
Это значит: нет веры без чуда; но не может быть чуда и, следовательно, не может быть веры.
Нельзя ли, однако, сказать и обратно: не может быть чуда без веры, а так как нет веры, то нет и чуда?
Весь вопрос в том, верит ли о. Василий. Он думает, что верит, упорно твердит: «Верую, верую, Господи!» — но думать, что веришь, и верить — не одно и то же. Мы о вере о. Василия слышим, но веры его не видим. Мы только можем догадываться, что согласно с тем, что он считает своей верой, Бог посылает верующим все житейские блага и охраняет их от всех житейских бед; пока Бог это делает, есть вера, а перестал — и вере конец.
У моего друга была бабушка, богомольная старушка; когда она заболела раком, то сперва молилась об исцелении, а потом, видя, что молитва не помогает, рассердилась и велела вынести иконы. Может быть, и я так же сделаю, потому что слаб человек и предела слабости своей не знает. Но я все-таки не могу не сознавать, что такая вера не выше безверья или суеверья шамана, который за исполненную молитву мажет своего боженьку сметаной по губам, а за неисполненную бьет по щекам.
Умен или неумен сам о. Василий, от Бога-то он, во всяком случае, требует неумного чуда. В самом деле, что произошло бы, если бы мертвец встал из гроба? Увидев чудо, неверующие поверили бы? Воскресивший Лазаря думал иначе: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.
Одно из двух: или Христос не воскрес; тогда во что же верит о. Василий, и не для того ли воскрешает он мертвого, чтобы поверить в Бога помимо Христа? Или Христос воскрес, и во Христе — мертвые; тогда иное воскресение, не властью Христовой, а властью о. Василия, есть чудо не только помимо, но и против Христа — чудо антихристово.
О. Василий воскресающий вовсе не думает о Христе воскресшем; ему до него дела нет, потому что в лучшем случае по глупости человеческой, в худшем — по гордости бесовской он себя самого ставит на место Христа, на ту страшную высоту, где одним человеком за все человечество решается вопрос, быть или не быть религии; и на этой высоте, как Христа на «крыле храма», искушает о. Василия дьявол: Если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз. Вместо того, чтобы ответить со смирением и мудростью Христовой: Сказано: не искушай Господа Бога твоего, — он бросился и разбился.
Когда он уже «понял все», ему чудится в мертвеце то живой сын-идиот, выходящий из гроба, то снова неподвижный труп; «и так — безумно двоится гниющая масса». Андрееву кажется, что это только бред, галлюцинация; но, может быть, сам Андреев еще не «все понимает», и тут есть нечто большее; может быть, по вере чудо: вера бесовская — и чудо бесовское?
Когда ожидаемое чудо нетления не совершилось над святым старцем Зосимою и, по стыдливому слову монахов, он «упрекал естество», или, по циничному слову нигилиста Ракитина, «старец протух», Алеша Карамазов подходит, хотя и с другой стороны, к тому же вопросу о «тлетворном духе», как Василий Фивейский. «За что? Кто судил? Где же Провидение и перст Его? К чему сокрыло Оно свой перст в самую нужную минуту и само захотело подчинить себя слепым, немым, безжалостным законам естественным?» Ответ — Кана Галилейская:
«Что это? Что это? Почему раздвигается комната? Ах, да это брак, свадьба, вот и гости… Но кто это? Кто встает там из-за большого стола? Как?.. И он здесь? Да ведь он во гробе… Но он и здесь… Да, к нему подошел он, сухенький старичок, с мелкими морщинками на лице, радостный и тихо смеющийся. Гроба уже нет, и он в той же одежде, как и вчера сидел с ними, когда собрались гости. Лицо все открытое, глаза сияют. Как? Это он, стало быть, тоже на пире, тоже званный на брак в Кане Галилейской?»
Для Андреева, как и для нигилиста Ракитина, это, конечно, бред, галлюцинация — «безумно двоится гниющая масса». Но для Алеши тут нечто большее; он знает не внешним, а внутренним знанием, что это не только видeние, а подлинное видение высшей потусторонней реальнейшей реальности. И плоха та критика познания, которая вздумала бы отрицать эту реальность. Не ужасает Алешу, а радует, как совершающееся чудо нетления, то, что тлеющее тело «двоится», что оно одновременно в двух порядках, и в эмпирическом — там в гробу, в «тлетворном духе», и здесь, в трансцендентном, — на пире нетления, со Христом воскресшим. И пусть еще Алеша не знает, как эти два порядка соединить окончательно, — он уже всем существом своим знает, что в единой точке мира, в плоти Христа воскресшего совершилось последнее соединение двух порядков — единое, единственное чудо.
Нет религии, потому что нет чуда? Какой вздор! Вот опыт физики: один из двух подвязанных на ниточке шариков ударяет о другой и приводит его в движение. Легко сказать: приводит в движение. Но что это значит? Мы только видим, что механическая энергия из частиц одного тела передается частицам другого, но как передача совершается — не знаем и даже представить себе не можем; в самом деле, для того чтобы передаться от одного тела к другому, энергия должна быть хоть на мгновение между телами, вне материи — логическое представление, физически непредставимое: тут наша логика расходится с нашей физикой, тут для нашего знания зияющий прерыв. И такими прерывами, провалами, коих края как бы очерчивают облики невидимых чудес, полон мир. Основа всех явлений — тайна, непознаваемое, непредвидимое, то есть отверзтость, готовность к чуду. Для того чтобы все явления выступили из порядка причинности, как звезды из ночного неба, засветились внутренним светом чуда, нужно, чтобы они повернулись к явлению, соединяющему оба порядка, к единому солнцу, к единому чуду, к плоти воскресшей.
А пока нет религии, нет последнего соединения — есть только метафизические сплетения обоих порядков, тончайшая паутинка, в которой дрожат миры и созвездия, как утренние капли росы. В эту-то страшную звездную паутинку, которой и мудрецам не распутать, — в вопрос о чуде, ступил о. Василий, косолапый мужичище своим сапожищем, — ступил и провалился. Ему бы не о чудесах думать, а вбивать сваи да петь дубинушку.
Жаль о. Василия. Но кого же винить? Во всяком случае, не метафизику, не судьбу, не Бога, а разве губернскую консисторию, которая назначает глупых попов. Да, как ни повертывай, а приходится кончить тем, с чего я начал: о. Василий просто глуп.
Но ведь и глупые страдают; у них нет сознания, зато есть боль, и, может быть, даже чем слабее сознание, тем сильнее боль. Об этой боли умные молчат, а глупые вопят. Но когда все религиозные неверующие люди — а таких теперь с каждым днем все больше — поймут, что жизнь без Бога и смерть без воскресения делают не только каждого человека в отдельности, но и все человечество «гниющей массой», когда они это поймут окончательно, то что же останется им всем, равно глупым и умным, как не завопить вместе с Василием Фивейским, потрясая неподвижный труп: «Да говори же ты, проклятое мясо!»
ГЛАВА IV
Тем же религиозным недоумениям или, вернее, той же религиозной боли, которой Андреев коснулся впервые в «Жизни Василия Фивейского», посвящено главнейшее произведение его, едва ли случайно написанное от 1905 до 1907 года, то есть в годы русской революции. Может быть, сам автор не сознавал, но для читателя ясно, что «К звездам», «Савва» и «Жизнь человека» — три части одного целого, одной трилогии.
Как будто испугавшись вопроса о чуде в новой религии, Андреев повернул назад, к старой позитивной религии без чуда.
Нет чуда, нет воскресения, нет личного бессмертия; но есть безличное; все умирают, но все живет; смерть всех — бессмертие всего.
Герой первой части трилогии «К звездам» — великий астроном, Сергей Николаевич, узнав о смерти сына, говорит: «У меня нет детей. Для меня одинаковы все люди… Я думаю обо всем… Я вижу мириады погибших… и тех, кто погибнет; я вижу космос — везде торжествующую безбрежную жизнь, — и я не могу плакать об одном… Жизнь везде… Смерти нет», — «А Николай? А сын твой?» — «Он в тебе, он во мне, он во всех, кто свято хранит благоухание его души. Разве умер Джордано Бруно?»
Базаров говорил спокойно: «Умру — лопух вырастет». А Сергей Николаевич прибавляет восторженно: и в лопухе буду я. Но полно, так ли? Ведь я, да не я; ведь самого драгоценного, единственного, неповторимого, что делает меня мною — Петром, Иваном, Сократом, Гете, — в лопухе уже не будет. Не только человека, но и травяную вошь можно ли насытить таким лопушным бессмертием? И не сообразнее ли с человеческим достоинством вовсе не быть, чем быть в лопухе. Снявши голову, по волосам не плачут; уничтожив личность, не притязают ни на какое реальное бессмертие. Говоря откровенно, мне бы хотелось, чтобы с моим уничтожением все уничтожилось; впрочем, так оно и будет: если нет личного бессмертия, то со мною для меня все уничтожится.
«Разве умер Джордано Бруно?» Еще бы не умер! Издох, как пес, хуже пса, потому что животное не знает, что с ним делается, когда умирает, а Джордано Бруно знал. Знал и то, что «лучше быть живым псом, нежели мертвым львом». Перед несомненной «гниющей массой» что значит сомнительное нетление в славе, в памяти человеческой? Попробуйте-ка фотографическим снимком с детей утешить Рахиль, «плачущую о детях своих, потому что их нет». А ведь по сравнению с реальностью живого человека между этими двумя реальностями умершего — в памяти человеческой и на фотографической пластинке — нет существенной разницы. Утешать таким бессмертием все равно что кормить нарисованным хлебом: пустая риторика или злая шутка.
«Как это бездушно!» — отвечает Маруся, дочь Сергея Николаевича, на все его утешения. Он, впрочем, и сам, кажется, чувствует, что тут что-то неладно, и пытается приставить к ветхой одежде новую заплату, к позитивной религии человечества мистическую идею «сверхчеловека», «человекобога».
«Сын вечности — так когда-нибудь назовется человек… Привет тебе, мой неизвестный и далекий друг… Душа человека — алтарь, на котором совершается служение сыну вечности».
Но со смертью-то как же все-таки быть? Ежели «сын вечности» смертен и лопух из него вырастет, то чем он лучше мертвого пса? А ежели бессмертен, то как его победа над смертью могла совершиться без чуда, чудо без Бога? И почему легче верить в грядущего сына вечности, чем в пришедшего Сына Божиего? Воскресение Христа — воскресение всех; бессмертие «сына вечности» — смерть всех. Все умирают, чтобы он один жил. Человечество — навоз, удобряющий почву, на которой распустится этот единственный цветок бессмертия.
«Как это бездушно!» Не только бездушно, но и возмутительно до скрежета зубовного. Помилуйте, едва перестали мы быть пушечным мясом для Наполеона, как нас приглашают сделаться гниющею падалью для «сына вечности». Не знаю, как другие, а я заранее от этой чести отказываюсь, «почтительнейше билет мой возвращаю». Пропадать так пропадать — пусть уж лучше из меня обыкновенный лопух вырастет. Если вообще кому-нибудь кланяться, то я предпочитаю поклониться доброму старому кесарю, какому угодно самодержцу, тирану, насильнику, только бы не этому гнусному божку, который восседает наверху исполинской горы, сложенной из костей человеческих.
Может быть, впрочем, Сергей Николаевич не столько бездушен, сколько просто глуп, так же как Василий Фивейский, и так же заблудился в двух соснах метафизики. С одной стороны, говорит о «железной силе тяготения, все миры покоряющей», а с другой — о «великом бессмертном духе, надо всеми мирами господствующем». Но что же в конце-то концов — сила тяготения или бессмертный дух, необходимость или свобода? Можно, конечно, совсем отказаться от метафизики, но пройти мимо этой антиномии, даже не заметив ее, нельзя без метафизического мошенничества или невинной глупости.
Единственный выход из отвлеченной религиозно-позитивной путаницы Сергея Николаевича — грубый животный оппортунизм другого героя той же пьесы, некоего американца Трейча:
«Если встретится гора — ее надо срыть. Если встретится пропасть — ее надо перелететь. Если земля будет расступаться под ногами — нужно скрепить ее железом. Если небо станет валиться на головы, надо протянуть руки и отбросить его — так… У-ах!.. Вперед, всегда и вечно!»
В ремарке Андреев сравнивает Трейча с «Атлантом, который поддерживает мир». А Сергей Николаевич однажды в минуту откровенности сравнил человека с «блохой, заблудившейся в склепе». Сравнение довольно странное — откуда бы, кажется, взяться блохе в склепе? Какое же, однако, сравнение вернее?
«Проклятая жизнь! Зачем жить, если лучшие погибают?» — религия богочеловечества, хорошо или дурно, но как-то ответила на этот вопрос; религия человечества без Бога или совсем не слышит вопроса, или отвечает двусмысленным сравнением человека то с Атлантом, то с блохой.
Кажется, впрочем, и сам Андреев почувствовал, что это не ответ; по крайней мере во второй части трилогии, в «Савве», от позитивной религии человечества не остается камня на камне.
Сергей Николаевич — созидатель; Савва — разрушитель. Сергей Николаевич утверждает космос; Савва утверждает хаос. «Человечество идет к звездам», — говорит Сергей Николаевич; «Человечество идет к черту», — говорит Савва. Для первого сверхчеловек есть острие растущей вверх пирамиды, вавилонской башни прогресса; для второго — нижняя точка воронкообразного колодца, как бы пустого опрокинутого конуса, который зазияет под срытою пирамидою.
«Человеку мешает глупость, которой за эти тысячи лет накопилась целая гора. Теперешние умные хотят строить на этой горе — но, конечно, ничего, кроме продолжения горы, не выходит. Нужно срыть ее до основания — до голой земли… Нужно, чтобы теперешний человек голый остался на голой земле. Тогда он устроит новую жизнь. Нужно оголить землю… уничтожить все: старые дома, старые города, старую литературу, старое искусство… Тицианы, Шекспиры, Пушкины, Толстые — из всего этого мы сделаем хорошенький костерчик и польем его керосином… Светопреставление нужно… нельзя иначе… Надо уничтожить все, и мы это сделаем».
С чего же начать? Савва понимает, что отвес, по которому вся пирамида человеческой культуры или человеческой «глупости» строится, есть идея о Боге, что это та невидимая ось, на которой теперешнее человечество держится и движется. Оставить людям Бога значит оставить все; отнять Бога значит отнять все — кинуть «голого человека на голую землю». Для этого всемирного оголения и разрушения надо, по слову Ивана Карамазова, «прежде всего уничтожить в человечестве идею о Боге — вот с чего надо начать». И Савва начинает.
«Бога взорвали!» — кричит он с безумной радостью, когда происходит взрыв адской машины в церкви перед иконой Спасителя. «Динамит сильнее ихнего Бога… Вот они кланяются, вот они молятся, вот они прямо взглянуть не смеют, холопы поганые, а пришел настоящий человек и разрушил. Готово… Кончилось царство ихнего Бога, и наступило царство человека. И сколько их подохнет от ужаса одного, с ума будут сходить, в огонь бросаться. Антихрист, скажут, пришел…»
Предтечею антихриста Савва считает себя.
«Настало время мне прийти — и я пришел, и вот стою я среди вас. Будьте готовы… В огне и громе хочу я перейти мировую грань… А не я, так другой… Я только посланный, пославший же меня бес смертен… Я вижу его… Он идет… Он родится в пламени… Он сам — пламя и разрушение. Конец земле… Он идет…»
Идет свободный, «голый человек», абсолютный босяк, «сын вечности», победивший Сына Божиего. Это обратный Апокалипсис с победой зверя над Богом. Савва постоянно говорит об огне всемирного разрушения. И Апокалипсис говорит о том же: Кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним? Он дал нам огонь с неба. Савва не безбожник, он верит в противоположного бога-дьявола.
Он предлагал свои услуги русским террористам; но «они испугались — слабоваты; ну, я и ушел от них: пусть себе упражняются в добродетели — узкий народ, широты взгляда нет у них».
«Широкий взгляд» на русскую революцию у одного Саввы; он один понял ее подлинный смысл — всемирное разрушение и оголение, отрицание культуры, науки, искусства, религии, торжество хаоса, торжество дьявола. Но если это так, то не праведна ли реакция, и слова, обращенные к Савве: «Тебя нужно убить, раздавить, как гадину», — не следует ли обратить ко всей русской революции, что, конечно, и сделал бы Достоевский, думавший, что в революции — «бесы»? Толпа озверелых погромщиков убивает Савву «во имя Христа, царя и отечества». На чьей же стороне Андреев — на стороне Саввы, предтечи антихриста, или погромщиков, «слуг Христовых»? А если ни на той, ни на другой, то во имя какой истины отрицает он эти две лжи?
Что в русской революции есть, между прочим, и «бесы», в этом нет сомнения. Но одни ли «бесы»? Не происходит ли и в ней, как во всяком всемирно-историческом явлении, борьба Божеского с бесовским? Вопрос не в том, что победит; мы этого не можем знать; но мы можем и должны знать, чему желать победы. Савва желает победы дьяволу. Хочется верить, что Андреев желает иного, что для него «широкий взгляд» Саввы на русскую революцию — безобразная клевета. Но чем мог бы Андреев возразить Савве, я не знаю.
«Ты дальше носа своего не видишь, а тоже говоришь. Глуп ты еще!» — обличает кто-то Савву. Савва, конечно, глуп, но не глупее умного Сергея Николаевича и всех вообще андреевских умных героев.
Тут, впрочем, дело не в уме и не в глупости. Савва не столько глуп, сколько дик какой-то небывалою, не первой, а последней религиозной дикостью; это — новый гунн каких-то новых Аттиловых полчищ, Гога и Магога, идущих из великой пустыни безбожия. Он первая ласточка страшной весны: сегодня он один, а завтра множество таких, как он. И чем от них защититься, если нет Бога, нет Христа?
Выдержит ли человек всемирное разрушение, не погибнет ли «голый, на голой земле» или, хуже того, не вернется ли к старому, не начнет ли сызнова строить разоренный муравейник, вавилонскую башню прогресса? Это все вопросы, не решенные Саввою. Он только решил, что если человек не выдержит, то «совсем надо его уничтожить; мировая, значит, ошибочка произошла… Раз жизнь человеку не удалась, пусть уйдет… И это будет благородно, и тогда можно будет и пожалеть его, великого осквернителя и страдальца земли».
Но кто пожалеет человека, когда самого человека на земле не будет? Не «умный ли и страшный дух небытия», устроитель «мировой ошибочки»? Ведь для него, исконного «человекоубийцы», это, может быть, вовсе и не «ошибочка», а цель; к ней-то, может быть, он все и ведет: от космоса к хаосу, от хаоса к ничтожеству. Бог дает вечную жизнь; дьявол — вечную смерть. Религия Саввы, религия дьявола — религия небытия.
И опять-таки чем бы мог на это возразить Савве Андреев?
Во всяком случае скорее утвердительный, чем отрицательный, ответ на вопрос о «мировой ошибочке» дает последняя часть трилогии — «Жизнь человека».
ГЛАВА V
«В слепом неведении своем человек — покорно совершит круг железного предначертания», — предсказывает «Некто в сером» жизнь человека. Василий Фивейский верил или хотел верить в Бога, Сергей Николаевич — в бессмертный дух, Савва — в сверхчеловека. Но вот оказывается, что ничего этого нет и быть не может, а есть только круг «железного предначертания», от которого человек никогда не освободится: он был, есть и будет или жалким, покорным, или еще более жалким, бунтующим рабом «Некоего в сером», бога-дьявола.
Сначала рабья благодарность: «Боже, благодарю Тебя за то, что ты исполнил мое желание… Я всегда буду верить в тебя и ходить в церковь…»
Потом рабий ужас: «Я в прахе разостлался перед тобой, землю целую — прости меня!..»
И, наконец, рабий бунт: «Ты женщину обидел, негодяй, ты мальчика убил… Я не знаю, кто ты — Бог, дьявол, рок или жизнь, — я проклинаю тебя! Я проклинаю все!..»
«Человек» знать не хочет, с кем имеет дело, с Богом или дьяволом, — и прав: нет никакой разницы между таким Богом и дьяволом; «человек» смешивает их так же естественно, как Василий Фивейский или вогульский шаман, который своего боженьку-чертушку то мажет сметаной по губам, то бьет по щекам. И Андреев полагает, что этим исчерпывается вся религия «человека», вся религия человечества?
Бога проклинает «человек» за то, что у него умер сын. Все люди смертны, это человек знал еще тогда, когда впервые встал с четверенек на две ноги. Но только в 1907 году узнал он, что смертность дает ему право ругать Бога, как пьяный хулиган ругает прохожего.
Смерть сына — большое горе, но вот еще большее: мужик Еремей нечаянно убил сына. «Вот горе мое, видишь какое, — говорит он Савве, — на земле такого не бывает, а призови меня Бог и скажи: „На тебе, Еремей, все царства земные, а горе твое отдай мне“, — не отдам… Слаще оно мне меду липового, крепче оно браги хмельной… Правду я узнал через мое горе… Христа, вот кого… И всегда предо мной лик его чистый, куда ни повернись. „Понимаешь, Господи, страдание мое?“ — „Понимаю, Еремей. Я, брат, все понимаю“. Так мы с ним вдвоем и живем».
Это значит, что человек за страдание может не только проклясть, но и благословить Бога, — и уж, конечно, для благословения нужна бoльшая сила, чем для проклятия.
Снилось ли это андреевскому «человеку»? Да нет, куда ему! «Ты и своего носа-то как следует не видишь, а тоже говоришь. Глуп ты еще». Чтобы страдание было «слаще меда липового, крепче браги хмельной», не за себя одного надо страдать, не себя одного любить. А что «человек» любит, кроме себя? Жену, детей? Но ведь и зверь любит самку, детенышей. Искусство? Но он забыл о нем, когда оно перестало давать ему деньги и славу. «Нет, Савва, ты никого не любишь, ты только себя любишь». Никого «человек» не любил, кроме себя, жил в свое брюхо, как зверь, и умер, как зверь.
Если бы у него была хоть искра человеческого достоинства, он вместо того чтобы проклинать Бога, просто и молча убил бы себя. Но он подло жил и еще подлее умирает.
«Меня пугает бесконечность… Я становлюсь такой маленький, такой жалкий, как, знаете, цыпленок, который во время еврейского погрома спрятался куда-нибудь, сидит и ничего не понимает», — говорит еврей Лунц в драме «К звездам». То же самое мог бы сказать о себе «человек».
Когда в кабаке, среди пьяниц, он «падает на стул и умирает, запрокинув голову», автору кажется, что эта голова — «грозно прекрасная», как у самого титана Прометея. Бедный титан — с головой зачичкавшегося погромного цыпленка!
«Некто в сером» остается победителем. Кто же этот Некто? Бог? Но надо быть не человеком и даже не зверем, а булыжником, чтобы признать такого Бога. Дьявол? Но дьявол умнее. Рок? Но рок правосуднее. Нет, это просто олицетворенная глупость самого человека. Все его отчаянные вопли и проклятья — с «Некоего в сером» как с гуся вода; но, может быть, от одной тихой усмешки Еремея, сыноубийцы: «Понимаешь, Господи, страдание мое?» — это чучело провалилось бы, не оставив после себя ничего, кроме серного запаха, который сопровождает провалы театральных чертей. А если бы у него была хоть капля остроумия, он мог бы, перед тем как провалиться, сказать:
— Я, господа, право же, ни в чем не виноват: я только держал свечку, освещая все глупости, которые делал этот, с позволения сказать, «человек».
Над мертвым телом человека какие-то «пьяные старухи», должно быть, исчадия хаоса, пляшут, «топая ногами, визжа и смеясь диким смехом. Наступает непроглядный черный мрак». И опускается занавес — трилогия кончена.
Выдержит ли человек всемирное разрушение, Савва не знает и хочет сделать опыт. Но после «Жизни человека» опыт не нужен; ясно и так, что «не выдержит», что «голый человек на голой земле» — гниющая падаль, над которой торжествует хаос.
Так вот что значит «кончилось Царство Бога и наступило царство человека». Так вот для чего нужно «взорвать Бога», «уничтожить в человеке идею о Боге». Да здравствует хаос, да здравствует смерть, да здравствует ничто! Богоубийство — самоубийство человечества.
Ежели это не сплошное безумие, не кощунственная клевета на жизнь, на человека, на Бога, то это религия дьявола, религия небытия.
ГЛАВА VI
«Жизнь человека» и жизнь Сына Человеческого — поставил ли Андреев знак равенства между этими двумя жизнями? Проклятие Богу-Отцу есть ли проклятие и Сыну Божиему, Христу? На этот вопрос отвечает «Иуда Искариот», повесть, написанная после трилогии и которая могла бы к ней служить эпилогом.
«— Есть у тебя враги, Савва, ну, такой враг, один, что ли, которого бы ты особенно ненавидел?
— Такой, пожалуй, есть: Бог… Ну тот, кого вы называете вашим Спасителем.
— Ты смеешь так говорить. Ты с ума сошел.
— Ого! В чувствительное место попал?»
Да, это место — «чувствительное» не только для врагов Саввы, но и для него самого. Он понял, что бороться с Богом значит бороться с Христом; но что теперь уже нельзя отрицать только Бога во имя только человечества, а волей-неволей приходится отрицать богочеловечество во имя человекобожества; что атеизм не может не быть антитеизмом и антитеизм не может не быть антихристианством.
«Пока ходил он по земле, был он человек так себе, хороший, думал то да се, то да се; вот человеки, вот поговорю, да вот научу, да устрою. Ну, а как эти самые человеки потащили его на крест, да кнутьями, тут он и прозрел: „Ага, говорит, так вот оно какое дело“. И взмолился: „Не могу я такого страдания вынести. Думал я, что просто это будет распятие, а это что же такое…“ А Отец ему: „Ничего, ничего, потерпи, Сынок, узнай правду-то, какова она“. Вот тут-то он и затосковал, да до сих пор и тоскует».
В этих словах второй, центральной части трилогии — главная мысль ее эпилога, повести об Иуде Искариоте.
Иуда будто бы любит Иисуса, не Христа, не Сына Божиего, а «человека так себе, хорошего», может быть, даже «лучшего из людей», но все-таки бесполезного мечтателя, галилейского пастушка, фарфоровую куколку, «прелестного учителя»; charmant docteur во вкусе Ренана: «Петр, Петр, разве можно слушать его? Разве понимает он что-нибудь в людях, в борьбе?»
Иуда будто бы любит Иисуса и предал его из любви, чтобы поднять народное восстание и насильно сделать этого «царя не от мира сего» сначала царем Иудейским, а потом всего мира. «Вдруг они поймут. Вдруг всею своею грозною массою мужчин, женщин и детей они двинутся вперед, молча, без крика, сотрут солдат, зальют их по уши своею кровью, вырвут из земли проклятый крест и руками оставшихся в живых высоко над теменем земли поднимут свободного Иисуса. Осанна! Осанна!» И долой самодержавие римского кесаря, да здравствует всемирная революция!
Не себя, а всех остальных учеников Христовых считает Иуда «предателями». От них будто бы начнется «порода малодушных и лжецов». Но почему же от учеников, а не от самого Учителя? Ведь они только научились тому, чему он учил. Если они во «лжи», то Христос — «ложь». Во всяком случае, правда Иудина противоположна правде Христовой, и орудием этой своей высшей будто бы правды он хочет сделать Христа, хочет подвиг его исправить.
Христос говорит: «Любите врагов ваших». «Кто любит, — говорит Иуда, — тот душит врага и кости ломает у него». Христос отдал себя в жертву за мир. «Жертва — это страдание для одного и позор для всех», — говорит Иуда. «Предатели, предатели, что сделали вы с землею? Теперь смотрят на нее и сверху, и снизу, и хохочут, и кричат: посмотрите на эту землю, на ней распяли Иисуса. И плюют на нее, как я». Он плюет на жертву Христову — значит, и на самого Христа. Какая же это любовь?
«Я победил мир», — говорит Христос. «Не ты, а я, — отвечает Иуда. — Кто вырвет победу из рук Искариота? Свершилось. Пусть все народы, какие есть на земле, стекутся к Голгофе и возопиют миллионами своих глоток: „Осанна! Осанна!“ — и моря крови и слез прольют к подножию ее — они найдут только позорный крест и мертвого Иисуса». Христос умер и не воскрес, не победил жизнью смерть; Иуда победит смертью жизнь; Иудина победа в том, что смерть сильнее жизни, зло сильнее добра, дьявол сильнее Бога. Умер Иисус, но жив Иуда-предатель, Иуда-спаситель, Иуда — противоположный Христос — антихрист. Он победил мир и вернется на землю с побежденным Христом.
«Я иду к тебе… Мы вместе с тобою, обнявшись, как братья, вернемся на землю… Но, может быть, ты и там не поверишь? И в ад меня пошлешь? Ну, что же. Я пойду в ад. И на огне твоего ада буду ковать железо, ковать железо, и разрушу твое небо. Хорошо? Тогда ты поверишь мне? Тогда пойдешь со мною назад на землю, Иисус?»
Это Иудино железо — не железо ли адской машины, которою Савва хочет «взорвать Бога», не «сила ли железного тяготения», которой покорствуют звезды, не «круг ли железного предначертания», в который «Некто в сером» включил «Жизнь человека» и самого Сына Человеческого? По тому, чем кончилась «Жизнь человека», мы можем судить и о том, чем кончилась жизнь Сына Человеческого. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил Меня?» — «Потерпи, Сынок, узнай правду-то, какова она». А правда такова, что Отец — сыноубийца, человекоубийца, дьявол. Дьявол победит Бога, антихрист победит Христа — и да здравствует смерть, да здравствует ничто!
Все так и не может быть иначе, если Христос не воскрес? Иуда об этом не думает. Почему? Потому ли, что слишком умен, или потому, что «и носа своего как следует не видит»?
Значительно, что всех андреевских умных героев кто-нибудь нет-нет да и обличит в глупости, как будто автор, забегая вперед, спешит предупредить догадку читателя о том, что у всех этих умников — какая-то слепая точка, «темная вода» в глазах.
«Что ж мне говорили об уме Иуды из Кариота? Это просто дурак, очень скучный дурак», — говорит Каиафа. «Разве действительно прав Каиафа?» — спрашивает себя сам Иуда.
Не умом, а сердцем он глуп. У него есть ум человеческий, но нет змеиной мудрости, простоты голубиной. Не понял, что значит: утаил от премудрых и открыл младенцам. Не понял, умный дурак, что тысячу раз легче было ученикам умереть, когда умер Христос, чем, оставшись в живых, поверить, что он воскрес, — что для этого нужна была бoльшая сила любви к Сыну, чем для того, чтобы проклясть Отца. О, конечно, и другие вместе с Иудой предали Господа; разбежались, покинули, думали: умер — и кончено. Не только во дворе Каиафы отрекся Петр, но и после Воскресения; так отяжелел, окаменел сердцем, что все забыл, на все махнул рукой, как будто ничего и не было: «Пойду, говорит, ловить рыбу». И вот, однако, поверил же, увидел воскресшего: «Петр, любишь ли ты Меня?» — «Ты все знаешь, Господи; Ты знаешь, что я Тебя люблю». И Фома Неверный пал к ногам Иисуса: Господь мой и Бог мой!
Поверили, потому что любили. Иуда не верит, потому что не любит.
Или чудес не бывает? А ковать железо в аду и разрушить небо — не чудо? В том-то и дело, что не просто не верит он, а не хочет воскресения; ему нужно, чтоб Христос не воскрес: ведь иначе Иуда погиб, хуже, чем погиб, — в дураках остался.
Сколько неистовых проклятий, сколько молний и громов у Искариота, а вот в предутренних сумерках тихое веяние, тихий зов:
«— Жена! Что ты плачешь? Кого ищешь?
— Господин! Если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его.
— Мария!
— Раввуни!»
И свершилось чудо — единое, единственное чудо любви — Христос воскрес.
И пусть когда-нибудь «все народы, какие есть на земле, стекутся к Голгофе и найдут только позорный крест и мертвого Иисуса», — достаточно тихого зова в предутренних сумерках: «Жена! Что ты плачешь? Кого ищешь?» — чтобы вспыхнул вновь всемирный пожар, в котором истлеет, как соломинка, Иудино железо — «круг железного предначертания», «сила железного тяготения», — и все человечество воскликнет вновь: Христос воскрес!
О революции мечтает Иуда. Вот — «стерли солдат, залили по уши кровью, вырвали из земли крест и высоко над теменем земли подняли свободного Иисуса — Осанна! Осанна!» — царь Иудейский, царь всего мира. Ну и что из того? Кесарь против кесаря. Зверь против зверя, папа против императора: сначала поборются, а потом соединятся церковь с государством, меч духовный с мечом светским, железо ада с железом земли, чтобы окончательно поработить мир. Да ведь это же и произошло во всемирной истории: от Константина равноапостольного до Константина Победоносцева вся государственная церковность и церковная государственность — не что иное, как Иудина церковь, Иудино царство. Если падши поклонишься мне, я дам Тебе все царства земли.
Иуда лжет: не освободить, а поработить мир, не революции, а реакции во имя Христа хочет он, подобно всем государственно-церковным насильникам, «великим инквизиторам»; кует в аду железо, чтобы, разрушив небо свободы Христовой, раздавить землю железным сводом ада, «силой железного тяготения», «кругом железного предначертания».
Пал, пал Вавилон великий — Иудина церковь, Иудино царство: летите, собирайтесь, птицы, на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей. Так совершается Апокалипсис, истинная революция, освобождение мира во имя Христа.
Но можно, конечно, повернуть и обратно, от революции к реакции, можно сказать: да, все было бы так, если бы Христос воскрес; ну, а если не воскрес, тогда что? Тогда прав Иуда, Христа презирающий; прав Савва, Христа ненавидящий; прав Сергей Николаевич, отвергший Сына Божиего во имя «сына вечности»; прав «человек», проклинающий Бога, как дьявола; прав о. Василий Фивейский, трясущий мертвеца невоскресшего: «Да говори же ты, проклятое мясо!» Если Христос не воскрес, то все человечество — «проклятое мясо», гниющая падаль, над которой «пьяные старухи», исчадия хаоса, справляют гнусную тризну дикою пляской и хохотом; а когда отпляшут, отхохочут, то наступит последняя тишина ничтожества, «непроглядный черный мрак», в котором Некто будет плакать над погибшим человечеством.
Я не хочу думать, что Андреев окончательно поверил в это безобразное видение как в религиозную истину. Но если бы поверил, то какой вывод сделал бы для русской общественности, для русской революции?
Христос есть вечное «да» всякому бытию, вечное движение вперед и вперед от космоса к логосу, от логоса, богочеловечества к боговселенной — да будет Бог все во всем. Антихрист есть вечное «нет» всякому бытию, вечное движение назад и назад от космоса к хаосу, от хаоса к последнему ничтожеству — да будет все ничто в дьяволе, в духе небытия. В этом смысле Христос — религиозный предел всякой революции; антихрист — религиозный предел всякой реакции. Вот почему принявшая религию бытия христианская, вернее, Христова Европа, — вся в революции; принявшая религию небытия, антирелигию, буддийская Азия — вся в реакции.
Религия и революция — не причина и следствие, а одно и то же явление в двух категориях: религия — не что иное, как революция в категории Божеского; революция — не что иное, как религия в категории человеческого. Религия и революция — не два, а одно: религия и есть революция, революция и есть религия.
Увы, я все это пишу, как на тонущем корабле пишут письмо, чтобы запечатать в бутылку и бросить в море: авось доплывет до земли и кто-нибудь прочтет, когда писавшего уже не будет в живых.
Ибо сознаю, что никогда и нигде до такой степени, как сейчас в России, не была опрокинута, вывернута на изнанку религиозная истина о революции. Все, что можно было сделать, сделано, чтобы доказать, что религия есть реакция и революция есть антирелигия.
К счастью, выверт сделан слишком неосторожно — перехитрили, переусердствовали: так перегнули дугу, что концы, внизу разошедшиеся, снова сходятся вверху. Получилось доказательство от противного. Именно здесь у Андреева в противоположении религии и революции становится ясным, что антирелигия, пройдя через революцию, приходит к реакции,
ГЛАВА VII
Если бы Андреев был последователен и правдив до конца, он отрекся бы от революции и предался бы реакции. В самом деле, к чему революция, борьба за свободу, когда никакой свободы нет, а есть только беспощадная и бессмысленная необходимость, «круг железного предначертания» — для человечества то же, что кольцо, продетое сквозь ноздри быка, которого ведут на бойню? Ведь эмпирическое рабство — неизбежное следствие рабства метафизического. После всех революций не отойдет от человечества «Некто в сером», а следовательно, в сущности, ничего не изменится. Что было — будет, что будет — было. Социализм, капитализм, республика, монархия — только разные положения больного, который ворочается на постели, не находя покоя. Зачем бороться, если нельзя победить? Опустим же руки, сложим оружие, умудримся, усмиримся до последнего смирения, до ничтожества. Если такова «Жизнь человека», то лучше быть не человеком, а зверем — не зверем, а деревом — не деревом, а камнем — не камнем, а ничем. И кто знает, может быть, добрая тайна доброго дьявола именно в том, что он ведет человека сквозь все проклятия, безумства и муки свободы к этой последней мудрости вольного рабства, к этому последнему отдыху в сладчайшей тьме небытия?
«Тьма» называется последний рассказ Андреева, где террорист говорит проститутке: «Пей за нашу братью. За подлецов, за мерзавцев, за трусов, за раздавленных жизнью… за всех слепых от рожденья… Зрячие, выколем себе глаза… Если нашими фонариками не можем осветить всю тьму, погасим же огни и все полезем в тьму… Выпьем за то, чтобы все огни погасли. Пей, темнота!»
Это и значит: долой революцию, долой солнце свободы! Да здравствует «тьма», да здравствует реакция!
Таков исход буйный, трагический; а мирный, идиллический — именно то, что сейчас происходит в России: под железным предначертанием самодержавного «Некто в сером» — серенькое житье-бытье, серенькое благополучие, полуреакция, полуреволюция, ни Богу свечка, ни черту кочерга. Ведь на что другое, а на это мы мастера: вися на ветке над бездонным колодцем, кушать малинку.
Намедни какая-то младенческая мистическая анархис-точка, захлебываясь от восторга, сообщила мне, что при новой постановке «Жизни человека» в Московском художественном театре для изображения «непроглядного мрака» всю сцену сплошь затянут черным бархатом.
Ну так вот — «погасим же огни», задуем «Огарки», уляжемся поудобнее на черном бархате и будем кушать малинку: ягодки рдеют угольками ада в черной тьме. Немного страшно и смрадно, но зато как бархатно-черно, и тепло, и мягко-мягко — в обезьяньих лапах!
* * *
Да, богоборчество опошлилось — вот что надо наконец понять раз навсегда; может быть, снова когда-нибудь и где-нибудь облагородится, но сейчас в России опошлилось оно почти до уличной пошлости — до «мистического анархизма» — мистического шарлатанства — мистического хулиганства. Слишком легким промыслом сделалось «неприятие мира»: нынче, можно сказать, всякая блоха, у которой подвернулась нога, мира не приемлет и Бога проклинает. Велико долготерпение Божие, но надо же наконец и честь знать — нельзя на Бога валить все наши пакости.
Ежели воздаяние загробное состоит, между прочим, в том, что ушедшие видят здешние плоды своих дел, то Иван Карамазов и Ницше, глядя на порожденных ими несметно кишащих сверхчеловечков, должны испытывать поистине адские муки — как бы потопление в зловонном болоте. Был «москвич в гарольдовом плаще» — стал москвич в антихристовой ризе. Кажется, сам дьявол мог бы воскликнуть: «Нет, никогда я не был таким лакеем!»
Ведь топтаться на месте, изощряясь в богохульствах, просто, наконец, скучно, так скучно, что хочется сказать: а что, господа, не отправить ли нам все это «неприятие мира» к черту? Не проснуться ли в одно прекрасное утро и не смыть ли с наших лиц балаганные румяна и белила маленьких титанов-богоборцев? Не усмехнуться ли? Может быть, в усмешке все наше спасение? Усмехнуться, встряхнуться и выздороветь — может быть, здоровье нам сейчас нужнее всего? Взглянуть на мир просто, как мы смотрели на него в детстве, принять мир прежде религиозного оправдания, «полюбить жизнь прежде смысла жизни». Пусть мир ужасен — он все-таки хорош; не по-хорошу мил, а помилу хорош — может быть, это для нас теперь подвиг из подвигов?
Надо наконец признать раз навсегда, что Богосыновство не менее согласно с человеческим достоинством, не менее благородно, чем богоборчество; на худой конец — не менее, а пожалуй, и более. Трудно человеку бороться с Богом, но еще труднее примириться с Богом. Во всяком случае, для русской революционной общественности это самое трудное: труднее, чем свергнуть самодержавие и учредить социал-демократическую республику, труднее, чем «взорвать Бога» или «поддержать руками валящееся небо», труднее всего на свете сказать просто простые слова: «Верю, Господи, помоги моему неверию». Труднее, но и нужнее всего, ибо не совершится, может быть, даже не начнется победа русской революции, пока слова эти не будут сказаны.
А что сказать их так неимоверно, почти сверх сил человеческих, трудно, в этом, конечно, не вина одной русской революционной общественности: уж слишком долго принадлежала русскому правительству монополия христианства, «воды жизни», вместе с водкою; слишком долго религия была кощунством — немудрено, что теперь, обратно, кощунство стало религией.
Но путь этот пройден, дальше идти некуда.
Огромная заслуга Андреева заключается именно в том, что он прошел этот путь до конца — до конца и бесстрашно, не сберегая души своей — потерявший душу свою сбережет ее, — высказал эту кощунственную, но необходимую правду.
И как хотелось бы, чтобы он, первый в русской революционной общественности вспомнивший о Христе, первый же и пришел ко Христу. Как хотелось бы, чтобы он понял — да, может быть, и понял уже, — что его «человек» вовсе не сверхчеловек, не титан, не богоборец, а маленький, голенький ребеночек, украденный у матери хитрым чудовищем. О если бы ребеночка вырвать из обезьяньих лап!
СОШЕСТВИЕ В АД
Прочитав «Семь повешенных», лучшее из произведений Л. Андреева, я все-таки не могу решить окончательно, исполнилось ли то пожелание мое, которое я высказал о нем: «О если бы вырвать ребеночка из обезьяньих лап!» — разумея под обезьяньими лапами не только убийственную заласканность внешним успехом, но и то внутреннее самоуслаждение отчаянием, которое, казалось мне, грозило Андрееву. Не могу решить, исполнилось ли и другое пожелание мое, чтобы он, первый в русской революционной общественности заговоривший о религии, сам пришел наконец к религиозному сознанию.
Во всяком случае, если и бессознательно, то бесповоротно что-то совершилось в нем или вот-вот совершится, что-то сдвинулось или вот-вот сдвинется именно в этом направлении, от религиозного отрицания к религиозному утверждению, от последнего «нет» к последнему «да».
«— Да, — сказала Муся. — Да, Вернер.
— Да, — ответил он. — Да, Муся, да!
Было понято нечто и утверждено ими непоколебимо…
— Вернер, скажи мне, разве есть смерть?
— Не знаю, но думаю, что нет, — ответил Вернер серьезно и вдумчиво. — Может быть, для некоторых смерть и есть. Пока, а потом совсем не будет. Вот и для меня смерть была, а теперь ее нет.
— Была, Вернер? Была?
— Была. Теперь нет. Как для тебя.
Встретились их взоры и вспыхнули ярко — и все погасло кругом: так в мгновенном блеске молнии гаснут все иные огни, и бросает на землю тень само желтое, тяжелое пламя».
Этот «мгновенный блеск молнии» и есть новое, пока еще бессознательно религиозное «да», бессознательно религиозное приятие мира. А «желтое тяжелое пламя, бросающее тень» — не пламя ли той свечи, которую держит в руках «Некто в сером», освещая «жизнь человека», не старое ли антирелигиозное сознание, старое мистико-анархическое «неприятие мира»?
«Я теперь очень люблю», — говорит Вернер. Что же он теперь любит, чего прежде не любил? Революцию, Россию, человечество, мир? Или все это вместе и еще, кроме всего этого, что-то, Кого-то?
«Не говори, не надо, совестно…» Да, совестно, стыдно, страшно, потому что слишком свято.
Семя прорастает в темноте. Почтим же и мы святую темноту, святой стыд рождения. Не будем спрашивать Андреева, не будем говорить, пока он сам не скажет. Но мы знаем, что знаем. «Нечто понято и утверждено непоколебимо» между ним и нами:
«— Да, Вернер?
— Да, Муся, да!»
Как будто из-под маски мы увидели вдруг лицо и узнали его, как узнают человека ночью при «мгновенном блеске молнии». Так вот ты кто! А мы-то думали… Ну, слава Богу, жив человек, жив талант, а главное — жива русская революция. Ибо для нас нет никакого сомнения в том, что это ослепляющее, религиозное «да» вышло из нее, из революции, как молния из грозовой тучи, и что молния эта соединяет две грозы, две революции.
Развитие Андреева идет не по прямой или волнообразной, а по остро изломанной линии. Нельзя, казалось, ниже пасть, чем он в «Царе-Голоде»; казалось, кончено с Андреевым: «обезьяна задушила ребеночка». И вот, в последнем произведении, он вдруг поднимается на такую высоту, которой еще никогда не достигал.
И здесь, впрочем, есть художественные провалы, слишком явные. Но не стоит о них говорить, потому именно, что они слишком явные. Стоит ли, в самом деле, говорить, что, по правилам русской грамматики, надо не «одевать», как полагает Андреев, а «надевать шубу»; что созерцание весеннего неба сквозь тюремные решетки двумя заключенными, молодым человеком и девушкой, — поэтическая дешевка; что сравнение «нежного и красивого юноши» с «лунною ночью где-нибудь на юге, на берегу моря, где кипарисы и черные тени от них» напоминает иллюстрированные путеводители по Южному берегу Крыма; что такие образы, как «страх смерти тянул свою бледную голову из каждой поры тела», или «каждый нерв казался похожим на вздыбившуюся выгнутую проволоку, на вершине которой маленькая головка с безумно вытаращенными глазами, судорожно разинутым, задохнувшимся безмолвным ртом», или «вечный неугомон разбрасывал его широким снопом извивающихся искр», — стоит ли говорить, что все это старомодная декадентщина?
Немало также в рассказе и ослабляющих усилений, ненужных длиннот, грубо налепленных бумажных цветов красноречия. Словом — и здесь обычное у Андреева отсутствие выдержки, того чувства меры, совершенной математической точности и ясности, без которых нет искусства, обычная помесь Л. Толстого с Кукольником.
Но обо всех этих недостатках, повторяю, говорить не хочется, даже как будто совестно. Бывают в жизни такие минуты, когда нам не до искусства, как бы мы его ни любили. Когда я читаю письмо, в котором описываются последние минуты близкого мне человека, то в голову не приходит мне судить о том, насколько описание художественно. В искусстве, говорят, важно не что, а как; в повести Андреева важно не как, а что. Значит ли это, что тут нет искусства? Не знаю. Знаю только, что если существует в мире нечто большее, чем искусство, то оно есть в этой повести. Тут переступается какая-то черта, стирается какая-то грань, отделяющая жизнь от вымысла. Буквы, строки, страница, книга, писатель — все исчезает, и я один лицом к лицу с жизнью. Это не рассказано, а пережито, не прочитано, а испытано; не узнано мной что-то о других, а со мною самим произошло. Закрывая книгу, я уже не тот, что прежде. Это не о том, это то самое.
Эстонец Янсон, тупое животное, покушался ограбить, поджечь, убить, изнасиловать; его приговорили к повешению.
«Меня не надо вешать», — твердит он упорно и, наконец, убедив себя, что его не повесят, смеется от радости, «гогочет по-гусиному». «Надзиратель с удивлением посмотрел на него, потом нахмурился строго: эта нелепая веселость человека, которого должны казнить, оскорбляла тюрьму и самую казнь и делала их чем-то очень странным. И вдруг, на одно мгновение, старому надзирателю, всю жизнь проведшему в тюрьме, ее правила признававшему за закон природы, — показалась и она, и вся жизнь чем-то вроде сумасшедшего дома.
— Тьфу, чтоб тебя! — отплюнулся он.
— А я не хочу — га-га-га! — смеялся Янсон.
— Сатана! — сказал надзиратель, чувствуя потребность перекреститься.
Менее всего был похож на сатану этот человечек с маленьким дряблым личиком, но было в его гусином гоготанье что-то такое, что уничтожало святость и крепость тюрьмы. Посмейся он еще немного — и вот развалятся стены, упадут решетки и надзиратель сам выведет арестантов за ворота: пожалуйте, господа, гуляйте себе по городу».
Не нужно никаких умных слов, достаточно «гусиного гоготанья», чтобы уничтожить «святость и крепость тюрьмы», святость и крепость того порядка, на котором основаны тюрьмы, которым оправданы казни. Когда больные, связанные здоровыми, освободятся, то порядок окажется не порядком, а «сумасшедшим домом».
Проснувшись ночью в темной комнате, можно принять полотенце за привидение; но стоит разглядеть полотенце, чтобы привидение исчезло. В «Семи повешенных» Андреев показывает, что полотенце не привидение, что смертная казнь — не правосудие, а убийство, хуже убийства: обыкновенный убийца чувствует или когда-нибудь почувствует, что нельзя убивать, а казнящие этого никогда не могут почувствовать или тотчас же перестанут казнить и начнут убивать. Убийца — зверь; палач — дьявол. О чудовищности смертной казни все говорили; Андреев не говорит, а делает ее чудовищной.
Конечно, и после «Семи повешенных» так же будут вешать, как и прежде. Но так да не так. Сторожевой крик совести раздался, и уже ничто его не заглушит. Ежели все называют черное белым, то достаточно одному сказать, что черное черно, чтобы, рано или поздно, согласились все. Люди ели человеческое мясо — перестали есть; люди казнят — перестанут казнить.
«Ваше благородие, вы хоть мыла-то казенного на удавочку не пожалейте!» — просит чиновника разбойник Цыганок, отправляясь на виселицу.
«Хорошо, хорошо, прошу вас замолчать!»
Нет, не замолчат. Заговорили о веревке в доме повешенного — и отныне все нравственные, юридические, философские, богословские и прочие оправдания смертной казни будут напоминать это «казенное мыло на удавочку». Было страшно, теперь гнусно и смешно каким-то уже не человеческим, а дьявольским смехом. Кого-то из людоедов стошнило — и вдруг для всех людоедство перестало быть «законом природы», законом «существующего порядка». «Меня не надо вешать» — это я знаю сегодня. Никого не надо вешать — это завтра узнают все.
Как просто! Но самое простое — самое трудное. Тургенев, Достоевский, Л. Толстой говорили о том же. Казалось бы, после них что можно сказать нового? Андреев сказал. Без них, может быть, и его бы не было. Но он все-таки им не подражает, он их продолжает.
Как ни велико общественное значение рассказа, религиозное еще больше. Я говорю: религиозное, и не знаю, не сказал ли я лишнего, не потому, что этого нет в рассказе, а потому, что оно глубже, проще и таинственнее всяких словесных определений. Может быть, и здесь опять «не надо говорить, совестно».
«И это смерть. Какая же это смерть?» — думает Муся перед казнью.
«Если бы собрались к ней со всего света ученые, философы и стали доказывать, что смерть существует, что бессмертия нет, — они только удивили бы ее. Как бессмертия нет, когда уже сейчас она бессмертна? О каком же еще бессмертии, о какой еще смерти можно говорить, когда уже сейчас она мертва и бессмертна, жива в смерти, как была жива в жизни?»
Муся «очень любит», так же как Вернер. Для того, кто любит, нет смерти, потому что любовь есть абсолютное утверждение жизни. Абсолютным утверждением уничтожается абсолютное отрицание, любовью уничтожается смерть. Любовь есть жизнь; кто любит, тот жив, и поскольку любит, постольку жив, бессмертен — «воскрес из мертвых». Любовь не внешнее свойство, не сила души, а сама душа. Любовь не может не любить, душа не может не жить в любви не только будущей, загробной, но и теперешней, здешней вечной жизнью, которая есть не отвлеченное «бессмертие души», а реальное воскресение плоти и духа в совершенном единстве личности. Любовь не путь из этого мира в тот, а совершенное откровение того мира в этом — совершенное соединение двух миров. Любовь не есть познание Бога, любовь есть Бог.
Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
«— А что вы сделали, Янсон?» — спрашивает Вернер эстонца, когда они вдвоем едут в карете на место казни.
«— Я хозяина резал ножом. Деньги крал.
По голосу казалось, что Янсон засыпает. В темноте Вернер нашел его вялую руку и пожал. Янсон так же вяло отобрал руку.
— Тебе страшно? — спросил Вернер.
— Я не хочу… Меня не надо вешать…
Они замолчали. Вернер снова нашел руку эстонца и крепко зажал ее между своими сухими и горячими ладонями. Лежала она неподвижно, дощечкой, но отобрать ее Янсон больше не пытался…
— Куда мы едем? — спросил вдруг Янсон.
Вернер ответил и крепче сжал руку эстонца. Хотелось сказать что-то особенно дружеское, ласковое, и уже любил он его так, как никого в жизни.
— Милый! Тебе, кажется, неудобно сидеть. Подвигайся сюда, ко мне.
Янсон помолчал и ответил:
— Ну, спасибо. Мне хорошо».
И потом в вагоне, когда все едут вместе, Янсон пробует курить, но не может и плачет, — «около него засуетились, Таня Ковальчук, обильно плача, гладила его по рукаву и поправляла свисавшие крылья облезлой шапки:
— Родненький ты мой. Миленький, да не плачь, да родненький же ты мой! Да несчастненький же ты мой!»
Полюбить, «как никого в жизни», такое грязное, тупое, злое животное — разве это возможно? Полюбить Янсона, воскресить Лазаря — два равные чуда. Для такой любви что значит смерть? Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Любовь и есть сошествие в ад, победа над адом и смертью, воскресение — праздник из праздников.
Вернеру «казалось минутами, что они едут на какой-то праздник; странно, но почти все ехавшие на казнь ощущали то же и, наряду с тоскою и ужасом, радовались смутно тому необыкновенному, что сейчас произойдет».
На этом празднике вода слез претворяется в вино — вино радости новой.
Старухе, матери одного из казнимых, чудится в бреду, «что она пирует на свадьбе: женят сына, и она выпила вина и захмелела сильно.
— Не могу. Ей же Богу, не могу! — отказывалась она, а ей все лили вино, все лили».
И вино претворяется в кровь, когда чистая девушка Муся и разбойник Цыганок идут вместе на казнь, как жених и невеста, как «сыны чертога брачного», чтобы совершить в смерти брачную тайну любви, тайну воскресения.
«Муся шагнула вперед и тихо сказала:
— Пойдемте со мной.
Цыганок отшатнулся и дико выворотил на нее белки.
— С тобою?
— Да.
— Ишь ты. Маленькая какая! А не боишься? А то уж я один лучше. Чего там!
— Нет, не боюсь.
— Ишь ты! А ведь разбойник. Не брезгуешь? А то лучше не надо. Я сердиться на тебя не буду.
Муся молчала, и в слабом озарении рассвета лицо ее казалось бледным и загадочным. Потом вдруг быстро подошла к Цыганку и, закинув руки ему за шею, крепко поцеловала его в губы. Он взял ее пальцами за плечи, отодвинул от себя, потряс — и громко, чмокая, поцеловал в губы, в нос, в глаза.
— Идем!»
Все это уж было: девятнадцать веков назад, в римских катакомбах и на арене Колизея, христианские мученицы, непорочные девушки и разбойники шли так же на смерть, как на брачную вечерю, тем же вином, тою же кровью опьяненные, твердя молитву иную, но с тем же смыслом:
Мою любовь, широкую, как море, Вместить не могут жизни берега.Да, все это уж было. Но тогда знали, во имя чего, во имя Кого идут на смерть, а теперь не знают, хотя и теперь, как тогда, нет иного имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.
Почему же теперь нельзя произнести этого имени? А что действительно нельзя — «не надо», в этом таинственнейшее откровение этой повести.
Один из приговоренных, террорист Василий Каширин, попробовал молиться. И у него, как у всех остальных, веры не было; но когда-то, быть может, в раннем еще детстве, он услыхал три слова, и они поразили его, и потом на всю жизнь остались. Эти слова были: Всех скорбящих радость. Никому, даже самым близким товарищам, он не говорил о своей «всех скорбящих радости» и даже сам как будто не знал о ней — так глубоко крылась она в душе его. И вспоминал не часто, с осторожностью. Теперь он захотел молиться… Хотел стать на колени, но стыдно сделалось, и, сложив руки на груди, тихо прошептал:
«— Всех скорбящих радость!
И с тоскою, выговаривая умильно, повторил:
— Всех скорбящих радость, прийди ко мне, поддержи Ваську Каширина.
Но мертво и неотзывчиво прозвучали слова… Всколыхнулось что-то. Будто проплыл в отдалении чей-то тихий и бледный образ и тихо погас, не озарив предсмертной тьмы.
— Всех скорбящих радость! И ты молчишь! И ты ничего не хочешь сказать Ваське Каширину?
Улыбался умильно и ждал. Но было пусто в душе и вокруг. Вспоминались восковые горящие свечи, поп в рясе, нарисованная на стене икона… И стало еще страшнее, чем до молитвы.
Исчезло все».
Вернер и Муся не говорят, не думают о Боге — и с ними Бог, Василий Каширин вспомнил о Боге — и Бог от него отступил.
«— Ну, как? — спрашивает о нем Вернер.
— Плохо, — отвечает Муся. — Он уже умер… Я измучилась с ним в карете, я точно с мертвецом ехала».
Нельзя произнести имени Божиего, «не надо говорить» о Боге. Тут какая-то страшная тайна. Чем ближе к имени, тем дальше от Бога; чем ближе к Богу, тем дальше от имени. Да святится имя Твое. Нет, имя Божие не святится, а поругано так, что Бог не может, не хочет, не должен быть названным. Между религиозным сознанием и действием легло бездонное противоречие: религиозное сознание бездейственно; религиозное действие бессознательно.
«От священника все отказались», — сообщает Андреев, кратко, как будто мимоходом, сам же не понимая страшного значения этих слов.
Если бы я верил в церковь православную, как в истинную, я содрогнулся бы от ужаса, прочтя эти четыре слова. О, конечно, дело тут не в одном священнике, а во всей церкви, во всем христианстве. Священник как будто со Христом, но с ним ли Христос? Отказавшиеся от священника как будто не со Христом, но не с ними ли Христос? И не потому ли именно, что с ними Христос, отказались они от священника — от всей церкви, от всего христианства? С кем Христос, тот уже не в христианстве; кто в христианстве, с тем уже нет Христа. Не в имени, а в сущности, не в словах, а на деле Христос противоположен христианству, христианство противоположно Христу.
Да, большего ужаса не испытывала душа человеческая с тех пор, как Сын Человеческий распят был, умер, погребен, сошел в ад и еще не вышел из ада, еще не воскрес, и даже те, кто верил в него, усомнились на миг — воскреснет ли? Это и был миг наибольшего ужаса, какой может испытать душа человеческая.
Ныне совершается второе распятие, вторая смерть, второе погребение Христа в самом христианстве и второе сошествие в ад, но еще не совершилось второе воскресение. Ныне, как и тогда, верующие в него усомнились на миг: воскреснет ли? Это есть тот же миг ужаса. И с этим ужасом наклонились к пустому гробу и слышат голос: что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Где же он?
Не здесь, а там, не у нас, мертвых в жизни, а у них, живых в смерти. И теперь, как тогда, он сходит в смерть, в ад, чтобы «показать свет сидящим во тьме и сени смертной». Является им прежде, чем нам, потому что они ждут Его дольше нас. Не видят, не слышат, не знают имени и все-таки ждут. Но вот увидят, узнают, назовут по имени.
Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. — Имя Мое новое.
«Не надо говорить», не надо называть его по имени, потому что никто не знает имени нового, кроме него самого, никто не может сказать этого имени, пока не скажет он сам.
АСФОДЕЛИ И РОМАШКА
Бывают «возвратные сновидения». Так, видя во сне живыми, здоровыми тех, кого любил и кто умер, каждый раз думаешь с радостью: «Ну, слава Богу, значит, не…» Но мысль обрывается, не можешь вспомнить о смерти — только сквозь радость чувствуешь непоправимое.
Нечто подобное испытывал я, читая «Письма из Сибири» А. П. Чехова в «Новом слове» (Москва, 1907 года). Жив, здоров, ну, слава Богу!.. И, опомнившись, точно проснувшись, я чувствовал вновь, как тогда, в первую минуту, горестное удивление смерти.
— Послушайте, голубчик, женитесь-ка на нормальной женщине! — слышу, как сейчас, хриповатый семинарский басок его, вижу чуть-чуть лукавую, как будто застенчивую улыбку, с которой он говорил это при мне одному общему приятелю.
Я был молод; мне все хотелось поскорее разрешить вопросы о смысле бытия, о Боге, о вечности. И я предлагал их Чехову, как учителю жизни. А он сводил на анекдоты да на шутки.
Говорю ему, бывало, о «слезинке замученного ребенка», которой нельзя простить, а он вдруг обернется ко мне, посмотрит на меня своими ясными, не насмешливыми, но немного холодными, «докторскими» глазами и промолвит:
— А кстати, голубчик, что я вам хотел сказать: как будете в Москве, ступайте-ка к Тестову, закажите селянку — превосходно готовят — да не забудьте, что к ней большая водка нужна.
Мне было досадно, почти обидно: я ему о вечности, а он мне о селянке. Раздражало это равнодушие, даже как будто презрение к мировым вопросам; я начинал подозревать Чехова в «отсутствии общих идей».
Надо было наговорить столько лишнего, сколько мы наговорили, надо было столько нагрешить, сколько мы нагрешили, святыми словами, чтобы понять, как он был прав, когда молчал о святом. Зато его слова доныне — как чистая вода лесных озер, а наши, увы, слишком часто похожи на трактирные зеркала, засиженные мухами, исцарапанные надписями.
И как я сейчас благодарен ему за то, что нет у него в «Письмах» никаких метафизических вопросов, ни «тайны», ни «действа», ни «жертвы», ни «мистерии», ни «мифотворчества»! Из этого всего уходишь к нему, как из международного вагона-ресторана, где надышали, наели, напили, накурили, наговорили — главное, наговорили так, что хоть топор вешай в воздухе, — прямо в летнюю русскую ночь, когда зеленая заря не хочет погаснуть, коростели скрипят, и пахнет болотцем, елками, березовым веником; дышишь — не надышишься, слушаешь — не наслушаешься. Какая радость, какая святость молчать о святом.
Ни умных слов, ни «общих идей» — только тихая усмешка, которая отражается на всех уродствах жизни, как эта зеленая заря на грязных лужах в колеях дороги. Тут только начинаешь понимать, до чего отвыкли мы смеяться или, хуже того, улыбаться.
Жаль приводить выдержки: нельзя по ним судить о целом, как по оторванным лепесткам — о благоухании цветка.
Есть в этих «Письмах», как в Дон Кихоте или в Пане Тадеуше, черточки, которые, увидев раз, уже никогда не забудешь, — так полны они бессмертной веселостью. Никогда я не забуду узких сапог Чехова:
«Представьте мое положение. То и дело вылезаю из возка, сажусь на сырую землю и снимаю сапоги, чтобы дать отдохнуть пяткам. Как это удобно в мороз! Пришлось купить валенки. Так и ехал в валенках, пока они у меня не раскисли от грязи, не обратились в студень».
Или это сравнение, которое никто в мире не сделал бы, кроме Чехова:
«Очень красивы буксирные пароходы, тащущие за собою по четыре — пять барж; похоже на то, как будто молодой изящный интеллигент хочет бежать, а его за фалды держат жена-кувалда, теща, свояченица и бабушка жены».
Или описание Иртыша, восемь строк, за которые можно отдать все новейшие «стилизации» природы в стихах и в прозе:
«Мутная вода с белыми гребнями хлещет и со злобой отскакивает назад, точно ей гадко прикасаться к неуклюжему, осклизлому берегу, на котором, как кажется, могут жить одни только жабы да души убийц… Иртыш не шумит, не ревет, а сдается, как будто он у себя на дне стучит по гробам…»
И рядом с этими черточками — исполинские картины, в которых, как в портрете, узнаешь лицо России.
«Берега голые, деревья голые, земля бурая, тянутся полосы снега, а ветер такой, что сам черт не сумеет дуть так резко и противно. Когда дует холодный ветер и рябит воду, имеющую теперь, после половодья, цвет кофейных помоев, то становится и холодно, и скучно, и жутко; звуки береговых гармоник кажутся унылыми, фигуры в рваных тулупах, стоящие неподвижно на встречных баржах, представляются застывшими от горя, которому нет конца. Города серы; кажется, в них жители занимаются приготовлением облаков, скуки, мокрых заборов и уличной грязи — единственное занятие. На пристанях толпится интеллигенция… с выражением „второй скрипки“ во всей фигуре; по-видимому, ни один из них не получает больше тридцати пяти рублей, и, вероятно, все лечатся от чего-нибудь. В России все города одинаковы».
Такова Россия Чехова, а вот Россия Вяч. Иванова:
«Страна покроется орхестрами и фимелами для народных сборищ, где будет петь хоровод, — где в действии трагедии или комедии, дифирамба или мистерии воскреснет свободное мифотворчество, где самая свобода найдет очаги своего полного самоутверждения».
«Сделал открытие, — пишет Чехов, — которое меня поразило и которое в дождь и сырость не имеет себе цены: на почтовых станциях в сенях имеются отхожие места. О, вы не можете оценить этого!»
Кому же верить: Чехову или Вяч. Иванову? Чего желать России: фимел, орхестр — «очагов свободы» — или отхожих мест? Мы еще не решили, колеблемся, идти ли на восток, во имя реакции, требующей карательных экспедиций, или на запад, во имя прогресса, требующего ватерклозетов, а тут вдруг — «фимелы и орхестры». Ах шутники, шутники! С луны свалились, что ли? В России ли жили, знают ли, что такое Россия? А если знают и все-таки верят в то, что говорят, то, видно, знать не хотят — нет им до нее никакого дела: погибай, Россия, только бы воскресить миф!
Русь, что выше и что ярче?.. Где сияет солнце жарче, Где сиять ему милей? —вопрошает Городецкий. «Вообще дождь, грязь, холод… бррр!» — жалуется Чехов. И через несколько страниц опять: «Дождь, ветер… спаси, Царица Небесная!» И еще: «Плыву через реку, а дождь хлещет, ветер дует, багаж мокнет, валенки обращаются в студень…» И вот, однако, подите же —
Где сияет солнце жарче, Где сиять ему милей?Если это не злая шутка, если Городецкий что-то действительно любит, то уж, во всяком случае, не живую Россию, а какую-то свою мертвую, каменную, археологическую «Барыбу», которой приносит не столько кровавые, сколько чернильные жертвы. Но я не хочу «Барыбы», пусть уж лучше Россия — «Лизавета Смердящая», только бы не эта чертова баба!
И Бальмонт любит Россию, как небывалую Жар-Птицу. И он «стилизует» русские песни; но почему же в устах его они похожи на «перевод с французского»?
Я из града Ветрограда, Называюсь «Вей». Я из града Цветограда, Я «Огонь очей».И далее:
Я по граду Ветрограду… Я по граду Цветограду… Я во граде Ветрограде… Я во граде Цветограде…Что это, деревянная трещотка или жестяной вентилятор?
И Александр Блок, рыцарь «Прекрасной Дамы», как будто выскочивший прямо из готического окна с разноцветными стеклами, устремляется в «некультурную Русь»… к «исчадию Волги», хотя насчет Блока уж слишком ясно, что он, по выражению одного современного писателя о неудавшемся любовном покушении, «не хочет и не может».
«Вчера один китаец, — рассказывает Чехов, — сидел на палубе и пел дискантом что-то очень грустное. Все глядели на него и смеялись, а он — ноль внимания». А другой, Сон-Люли, «запел по нотам, которые написаны у него на веере». Русские мифотворцы напоминают этих поющих китайцев: Сон-Люли поет «по вееру», а мы ничего не понимаем.
В чем же дело? Почему именно тут, в любви к России, между Чеховым и нынешними — такая пропасть? Отчего когда они любят Россию, то кажется, что уж лучше бы не любили?
А дело вот в чем:
«Ах, никогда-то я не чувствовал любви к России и, верно, так и не пойму, что такое любовь к родине, которая будто бы присуща всякому человеческому сердцу. Я хорошо знаю, что можно любить тот или иной уклад жизни… Но при чем тут родина? Если русская революция волнует меня все-таки более, чем персидская, я могу только сожалеть об этом. И воистину благословенно каждое мгновение, когда мы чувствуем себя гражданами вселенной».
Это говорит Бунин («Тень птицы» в сборнике «Земля», 1908 г.), очень талантливый писатель; да нынче все талантливы, кажется, скоро, чтобы не быть, как все, надо будет не иметь таланта.
«— Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна», — признается Смердяков.
«— Вы точно иностранец, точно самый благородный иностранец!» — умиляется Марья Кондратьевна.
За нынешних «граждан вселенной» иногда страшно, как бы не оказались они «самыми благородными иностранцами».
«Ну-с, едешь, едешь… Мелькают верстовые столбы, лужи, березнячки… Вот перегнали переселенцев, потом этап… Встретили бродяг с котелками на спинах; эти господа беспрепятственно прогуливаются по всему сибирскому тракту. То старушонку зарежут, чтобы взять ее юбку себе на портянки, то сорвут с верстового столба жестянку с цифрами — сгодится, то проломят голову встречному нищему или выбьют глаз своему же брату-ссыльному». «Русский человек — большая свинья!» И Чехов приводит обильные примеры этого свинства. Вот заседатель — «густая смесь Ноздрева, Хлестакова и собаки. Пьяница, развратник, лгун, певец, анекдотист и при всем том добрый человек». Вот писарь — «зараженный до мозга костей всеми болезнями и спивающийся по милости своего принципала» и вместе с тем «прекрасный, интеллигентный человек, протестующий либерал». А заключение: «Боже мой, как богата Россия хорошими людьми!» Он верит в нее, потому что любит ее, верит в то, что будет, потому что любит то, что есть.
Того, что есть, не любят мифотворцы и творят из России миф, Барыбу, Жар-Птицу, стилизуют, украшают, делают ее «беленькой»; но полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Чехов полюбил нас «черненькими».
В последней книжке «Весов», журнала Брюсова, г. Эллис объявляет его «гигантом», «творцом титанических обликов» и, как будто этого мало, открывает в нем «тройственное слияние Демона мысли, Гения страсти и Ангела печали».
А Чехов однажды, посмотрев на себя в зеркало после дороги, воскликнул: «Какой я грязный! Какое у меня ёрническое рыло!»
Я готов, пожалуй, верить, что не за страх, а за совесть «верный личарда» Брюсова, г. Эллис, на животе перед ним ползает. А все-таки «самому благородному, иностранному» лицу «Гения, Демона и Ангела» я предпочитаю родное «ёрническое рыло» Чехова. Я ведь знаю, что если все мы с Россией погибать будем, то Чехов нас не выдаст, а Брюсов — не знаю, по крайней мере, насколько можно судить по отзыву г. Эллиса, не муравьиная ли кочка для такого «гиганта» Россия?
Ведь вот в той же России, в которой Чехов увидел столько «хороших людей», Федор Сологуб ничего не увидел, кроме «ёрнического рыла» Передонова, воплощенной Недотыкомки, и, отвернувшись с брезгливостью, начал служить «литургию себе». Ну куда же нам, «черненьким», до таких «беленьких»? Погибнем ли мы или спасемся, им до нас, повторяю, никакого дела нет, а пожалуй, и нам до них: Бог милостив, обойдемся как-нибудь собственными средствами.
Это эмпирическое «неприятие» России вытекает из более глубокого, метафизического «неприятия мира», отрицание родины — из отрицания «рождества».
«Я против рождества бунтую… Я бы дозволил убить себя еще во чреве с тем, чтобы лишь на свет не происходить вовсе-с», — говорит Смердяков.
«Бунт против рождества своего» и есть то «неприятие мира», мистический анархизм, который сделался, пусть только на миг, но все-таки, нечего себя обманывать, сделался душою всей новейшей русской литературы, от кузьминских «Крыльев» (нынче всякий горбун готов принять свой горб за «крылья») до андреевского революционера, который бросает свою «прелестную жизнь» к ногам проститутки.
Если я служу «литургию себе», значит, я — Бог; а если я — Бог, значит, прежний мнимый Бог — дьявол, и утверждать себя как Бога, значит, отрицать весь мир как создание дьявола, — весь мир, в том числе и «рождество» свое, и родину свою.
И обратно, у Чехова «приятие» России вытекает из приятия мира, благословение родины — из благословения «рождества».
«Великолепная мамаша, превосходная Маша, сладкий Миша и все присные мои!» — начинает он одно из писем. И все они, как настоящие мужицкие послания, кончаются длинным перечнем поклонов: «Поклон папаше, Ивану, тетке, Алеше, Александре Васильевне, Зинаиде Михайловне, доктору, Проше, великому пианисту, Марьюшке». «Передавайте Дюковскому мое сожаление, что не удалось видеться… Он хороший человек…» «Славной Жамэ привет от души… Она очень хорошая…» И когда весь перечень кончен, вдруг вспоминает каких-то Кувшинниковых: «Поклон Кувшинниковым!» Зачем их обижать? И они «хорошие». «Боже мой, как богата Россия хорошими людьми!»
Из-за тысячей верст, откуда-то из-под Томска, спрашивает: «Поспела редиска? А тут ее еще нет». И замечает с грустной нежностью: «Береза здесь темнее, чем в России, зелень ее не так сентиментальная». «Тополей нет. Кувшинниковский генерал соврал. Соловьев нет. Сороки и кукушки есть».
И папу, и маму, и тетушек, и бабушек, и сентиментальную зелень березы, и родимую кукушку, и старую Марьюшку — все любит, все благословляет.
«Да хранит вас Бог… Всех обнимаю, благословляю. Соскучился».
Кажется, и оттуда, из вечности, обнимает и благословляет он всех нас, всю Россию, всю бедную, темную, милую, грешную и святую землю.
Во имя чего благословил, сам не знает; но именно здесь его главнейшее отличие от нынешних: он благословил, они прокляли.
Быть может, все в жизни лишь средство Для ярко певучих стихов, И ты с беспечального детства Ищи сочетания слов.Думая так, Брюсов может, конечно, сохранить «беспечальное детство» до самого преклонного возраста. Но хорошо ему, поэту; а нам-то, простым смертным, как быть? Ведь мы живем только раз; неужели отказаться нам от этой единственной жизни для того, чтобы Брюсов нашел искомое «сочетание слов»? Еще отвратительнее, пожалуй, быть мясом литературным, чем пушечным. Брюсов этого хочет, да мы-то не хотим. И пока живы, сделаем все, что зависит от нас, чтобы этого не было; в крайнем случае, чтобы спасти жизнь, к черту отправим такую «поэзию», которая вовсе и не поэзия, а возмутительное кощунство над святынею жизни и поэзии.
Брюсов истинный поэт. Но если он решит окончательно, что
Все в жизни лишь средство Для ярко певучих стихов, —то не только жизнь, но и поэзия Брюсова кончена. Не предостерегает ли его участь Бальмонта:
Где я? Что я? Запою Все по-новому о старом, Все бы дальше, все бы к чарам, Вею, рею, вею, вью.Чтобы удовольствоваться такою участью, надо быть не человеком, а птицей, иметь не душу, а пар. Брюсов достоин лучшего.
Что выше: искусство или жизнь, написать поэму или накормить голодного? В этом вопросе мало любви к искусству и к жизни: кто совершенно неспособен отказаться от поэмы, чтобы накормить голодного, тот никогда не напишет прекрасной поэмы. Если нет в жизни такой святыни, ради которой стоило бы пожертвовать искусством, то оно само немногого стоит.
Вся новейшая русская литература «веет, реет, веет, вьет» в пустоте и, не имея религии и жизни, хочет сделать искусство религией. Но подобно всякому «отвлеченному началу», искусство, становясь религией, становится мертвым богом, идолом. Чехов — последний из русских писателей, не поклонившийся мертвому богу. Пусть еще не знал он имени Бога живого — он уже предчувствовал его. И, делая не искусство, а жизнь религией, шел к истине, к тому, чтобы сделать религию жизнью. Не потому ли в этих посмертных письмах своих он среди нас — не как мертвый среди живых, а как живой среди мертвых?
Кажется иногда, что вся новейшая русская литература есть продолжение своего великого прошлого лишь в том смысле, как загробный мир есть продолжение мира живых. Талантов множество, но все они какие-то призрачные. Словно царство теней, поля Елисейские. И вот на этих полях, среди цветов смерти, пышных пыльных асфоделей, «Письма» Чехова — как смиренный полевой василек или ромашка. Жалобные тени слетаются и, глядя на живой цветок, вспоминают, плачут.
Пусть плачут: может быть, подобно Эвридике, вслед за новым Орфеем найдут они обратный путь — от мертвых к живым.
КРАСНАЯ ШАПОЧКА
Русское общество переживает глубокий кризис; вся дореволюционная «интеллигентская идеология» потрясена в основаниях своих или окончательно рушилась; для того чтобы выйти из тупика, в который завела Россию неудавшаяся революция, надо старые устои идеологии заменить новыми — такова тема талантливых очерков П. Б. Струве,[1] напечатанных недавно в «Русской мысли». В последнем из них, озаглавленном «Великая Россия», он пытается подвести эти новые устои и в краеугольный камень кладет идею «государственной мощи».
«Великая Россия для своего создания, — говорит Струве, — требует от всего народа, и прежде всего от его образованных классов, признания идеала государственной мощи». Этот идеал должен образовать «железный инвентарь нового политического и культурного сознания». Только государство и его мощь могут быть для настоящих патриотов путеводной звездой. Остальное — «блуждающие огни».
Верховный закон государственной мощи для Струве определяется так: «Всякое слабое государство — добыча государства сильного». Надо есть других, чтобы не быть съеденным; народ народу — зверь. Этот закон природного, дочеловеческого, звериного бытия есть вместе с тем будто бы и верховный закон бытия государственного.
Человек не зверь. Человек иногда не может не быть, но никогда не хочет быть зверем; не быть зверем и значит быть человеком. Уход от зверства и есть человечество. Так нам казалось; но вот оказывается, что все это революционная «романтика», «блуждающие огни», гнилые устои почти рухнувшей идеологии. Патриотизмом «великой России» должно отныне сделаться стремлением к новому, сознательному, оправданному культурному зверству, и это стремление должно образовать «железный», может быть, не только железный, но и кровавый «инвентарь нового культурного сознания» — почему же, однако, «нового», а не древнего? почему «культурного», а не варварского? Ведь именно безусловное принятие закона: слабый — добыча сильного, как закона верховного и единственного, восторженное преклонение перед зверством как перед абсолютной «мощью» и есть глубочайшая основа древнего варварства, пусть даже вечного и неизбежного, но с которым так же вечно и неизбежно вся человеческая культура борется.
Во всяком случае, не идеальное благообразие, а плачевное убожество человеческой действительности заключается в том, что закон зверского бытия продолжает господствовать и в бытии человеческом; но ведь уж не так безгранично, как некогда, уже царству его приходит конец, — в этом вся наша человеческая надежда, все наше человеческое достоинство. И пусть это кажется «романтикой»: по слову короля Лира, «дай человеку только то, что нужно» — только то, что сейчас реально, — «и ты его сравняешь со зверем». Мы еще рабы зверского бытия, особенно здесь, в политике; но мы уже бунтующие рабы; и лишь постольку мы люди, поскольку бунтуем; а едва прекратим бунт, покоримся окончательно, как потеряем облик человеческий и примем облик звериный.
Если бы тот закон государственного бытия, который Струве утверждает как единственный верховный, царил нераздельно в мировой политике и не ограничивался каким-то иным верховнейшим, то случилось бы одно из двух: или государства, борющиеся за могущество, пожрали бы друг друга, как пауки в закупоренной банке, или одно из них, самое могущественное, поглотило бы все остальные, к чему и стремились по очереди Вавилон, Мидия, Персия, Македония, Рим. Но ведь вот что-то помешало им это сделать: не то ли именно, что верховному закону зверского бытия противоборствует верховнейший закон бытия всечеловеческого, по которому сильные слабее слабых, слабые сильнее сильных. Несметные полчища Дария разбиты горстью греков, великий Карфаген — маленьким Римом, сонм европейских владык — «якобинской сволочью». Ни одному из всемирных насильников не прощалось то преобладание «внешней политики над внутренней», силы меча над силою духа, государственной мощи над мощью культурною, в котором, по мнению Струве, заключается залог государственного величия, а по здравому инстинкту русской революционной общественности, залог государственной гибели России.
Все мировые хищники оказывались железными колоссами на глиняных ногах, и каждый, в свою очередь, разбивался вдребезги малым камнем, оторвавшимся от великой горы Божией, от Сиона, Града всечеловеческого. Из «ядущего выходило ядомое, и из крепкого сладкое»: в челюсти мертвого льва государственного — собирали мирные пчелы-музы мед культуры вселенской. Культура из варварства, человечество из зверства, любовь из вражды — вот закон вселенского бытия, которому подчиняется всякое бытие — частное, национальное, государственное. И горе народу, который этот закон попирает.
Как же забыл о нем Струве? И где же при подобном забвении ручательство, что любовь к «великой России» не сведется к той — омерзительной, конечно, и для самого Струве, но именно теперь в России более, чем где-либо, торжествующей — пошлости, которую Вл. Соловьев назвал «патриотизмом зоологическим»?
Об этом забыл Струве, но вспомнил П. Н. Милюков в своей «непроизнесенной речи» о патриотизме. Предостерегая от «элементарного, почти зоологического чувства, которое создается инстинктом самосохранения национальной группы и делает национализм „слепым“», он заключает: «Национальная мораль, ничем не просветленная и не ограниченная, может легко выродиться в проповедь человеконенавистничества, порабощения и истребления. Сколько исторических злодеяний прикрыто от морального осуждения вывеской подобного патриотизма!» — или, прибавим, вывеской той «государственной мощи», которую хочет сделать Струве «путеводною звездой великой России».
Чем же ограждает он себя от этой неминуемой опасности? Культурой? Но если начало культурное выше начала государственного, то почему не показывает он, как второе ограничивается первым, верховный закон бытия государственного — верховнейшим законом бытия всечеловеческого? А если подобное ограничение только «романтика» и единственная неопровержимая истина реальной политики: сила солому ломит, — то какая уж тут культура? В лучшем случае она — во чреве государственного Левиафана, как пророк Иона во чреве кита: проглотив ее, государство не переваривает, а выбрасывает, как чуждое тело, — так именно русская государственность выбросила русскую интеллигенцию.
Струве благоговеет перед «величием» Бисмарка и той «роковой силой», которая заставила его после объединения Германии «наброситься на Францию и отнять у нее завоевания Людовика XIV». Один зверь напал на другого и выкусил у него кусок мяса. Пусть это исторически закономерно, естественно, необходимо, но перед чем же тут благоговеть? Ведь «роковая сила» может быть и злой, дикой, бессмысленной. И не опасна ли та алхимия, которая превращает свинец реальности в золото идеала?
В той же статье защищает Струве автономию Польши и права евреев, под тем предлогом, что эти две народности нисколько будто бы не мешают, а напротив — способствуют сознанию «великой России». Ну, а если бы оказалось, что для ее создания, согласно с верховным законом: слабый — добыча сильного, — нужно раздавить Польшу и произвести всероссийский погром жидов, о котором мечтают крушеваны и Меньшиковы, неужели Струве согласился бы на это? Думаю, что нет, и, сколько бы ни убеждал он меня в противном, я ему не поверю. Ведь если бы понадобилось ему для какого угодно величия России броситься на меня, своего доброго приятеля, и перегрызть мне горло, он этого не сделал бы. Голод заставлял иногда людей есть человеческое мясо; но это вообще людям не свойственно, это гнусно. Так зачем же гнусностью, которая непереносна для всякой отдельной человеческой личности, питать «соборную личность» родины?
Удивительно, что все это приходится говорить по поводу «реальной политики». Но в том-то и дело, что тут, кажется, вовсе не реальная политика, а чистейшая романтика, та превратная эстетика чудовищного, то поклонение «смеющимся львам», «белокурым зверям» и прочим принадлежностям как будто «железного», а в сущности картонного ницшеанского «инвентаря», которые давно уже набили нам оскомину. Ведь в наши дни болезнь ницшеанства стала детской болезнью, вроде скарлатины и кори, которыми опасно болеть людям в зрелом возрасте. Мы старые воробьи, на этой эстетической мякине нас не проведешь.
Я в политике мало сведущ; еще внутреннюю иногда чувствую на собственной шкуре, а внешняя — для меня темный лес. Предвижу также обвинение в «банальном радикализме» и заранее от всяких оправданий отказываюсь. Не знаю, право, чему, но едва ли не декадентскому опыту юности обязан я тем, что чем дольше живу, тем больше теряю стыд и страх банальности. Ныне стыжусь и страшусь я не столько банального, которое может оказаться великим, сколько великого, которое может оказаться банальным. Да и не все ли великие чувства банальны для тех, кто их не испытывает?
Я люблю свободу больше, чем родину: ведь у рабов нет родины; и если быть русским значит быть рабом, то я не хочу быть русским; и если в такой любви к свободе вплоть до возможного отречения от родины состоит «банальный радикализм» — я хочу быть банальным.
Как ни субъективны эти мои признания, они для Струве не могут не иметь и некоторого значения объективного. Я — член того «образованного русского общества», которому он предлагает свой идеал. По мне может он судить если не о всех, то о множестве подобных мне. Та же соль, которою все море солоно, должна быть и в каждой капле.
Ежели русская соль — государственность в том смысле, как ее понимает Струве, то я пресен, как родниковая вода. Не прельщает меня этот идеал, а ведь отсутствие прелести едва ли не самое убийственное возражение, какое только можно сделать против всякого вообще идеала.
Примериваю брачную одежду, скроенную для меня Струве. Положим, Россия, не доведя до конца начатой революции — Струве считает ее безнадежно проигранной, — достигла наивысшей государственной мощи и, подобно объединенной Германии, которую автор «Великой России» ставит нам в пример, «набросилась» на какое-нибудь соседнее государство, захватила Константинополь, что ли, как мечтали славянофилы. Какая же нам, «банальным русским радикалам», от этого радость? Ведь мертвая петля, которая сейчас душит нас, не только не развяжется в Константинополе, но еще туже затянется.
Но не в завоеваниях, а в самосохранении дело, возразит Струве: Россия, лишенная государственной мощи, неминуемо сделается добычей государств, которые обладают этой мощью. Ну что же, от судьбы не уйдешь. Но и в такой крайности мы не будем ждать спасения оттуда, откуда ждет Струве. Не от мощи государственной, а от мощи народной, без которой и в двенадцатом году Россия погибла бы, мы будем ждать спасения.
Некогда определял Достоевский главное свойство русской интеллигенции как всечеловечность. Это остается и, кажется, останется верным, пока жива русская интеллигенция. В чем другом, а в грехе национальной исключительности она неповинна, и если чем-нибудь пленяет ее социализм, то именно этой идеей — пусть не завершенной, даже извращенной в самом социализме, но все же реально в нем присутствующей, идеей всечеловечности, инстинктивным отвращением к национализму.
И не в связи ли с идеалом «служения всечеловеческого» находится тот «враждебный государству дух», который справедливо замечает Струве в русской революционной общественности.
Люблю отчизну я, но странною любовью; Ее не победит рассудок мой — Ни слава, купленная кровью, Ни полный гордого доверия покой, Ни темной старины заветные преданья Не шевелят во мне отрадного мечтанья.Это значит, что для одного из величайших русских людей любовь к родине не связана с тем, что Струве называет государственной «соборной личностью». Эта личность для Лермонтова не столько родное лицо России, сколько чуждая личина, которую, может быть, надо сорвать, чтобы увидеть лицо.
Я могу представить себе Герцена, умирающего на парижских баррикадах 48-го года за идею всемирного братства с верой, что и Россия когда-нибудь скажет миру свое новое слово об этом братстве. Но какую существенную разницу нашел бы Герцен между государственными идеалами Струве и Николая I — не могу себе представить.
О Л. Толстом, непримиримейшем враге не только русской, но и всякой вообще государственности, и говорить нечего. Величие Толстого есть воплощенное отрицание великой России, о которой мечтает Струве.
Я нарочно взял три столь крайние и противоположные точки — Лермонтов, Герцен, Толстой — для того, чтобы показать всю площадь противогосударственной заразы, с которой борется Струве: эта площадь так велика, что истребить заразу значит истребить едва ли не всю русскую интеллигенцию. Во всяком случае, чтобы сделать с ней то, что хочет Струве, нужно вывернуть ее наизнанку, да и то Бог весть, поможет ли — горбатого разве могила исправит.
Ежели сейчас в России есть фантастичнейшая сказка, отвлеченнейшая утопия, так это мечта о государственной мощи России как «путеводной звезде» для заблудившейся русской интеллигенции. Кажется, лучше пойдет она к черту в лапы, чем в такую Россию, — не примет, подобно Красной Шапочке, волка за бабушку.
ЕЩЕ О «ВЕЛИКОЙ РОССИИ»
Без ответа в ответе Струве остался главный вопрос мой о том, как разрешается противоречие между «верховным законом» бытия государственного: «слабый — добыча сильного», топчи врага, — и верховным законом бытия всечеловеческого: сильный — опора слабого, щади врага.
Нельзя выйти из противоречия абсолютного «да» и абсолютного «нет», не сделав одного из них относительным. Но Струве этого не делает. И едва ли достаточны ссылки его на статьи, написанные до революции, ведь, по его же собственному признанию, «ощущать и понимать, что такое государство», научила его только революция. Не имел ли я основания думать, что революция научила его и новому ответу на старый, вечный вопрос об отношении государственного национализма ко вселенской культуре? Новое понимание государства не предполагает ли и нового понимания культуры? До революции, когда он сам еще не знал, что такое государство, как мог бы он ответить на вопрос, поставленный во всей своей жизненной остроте и силе только теперь чудовищными проявлениями реакции с ее «зоологическим патриотизмом»?
Кажется, впрочем, ни вопрос, ни ответ не вскрывают всей глубины нашего разногласия — разногласия не столько в отвлеченных идеях, которые могут казаться мертвыми буквами, «прописями», по выражению Струве, сколько в реальных переживаниях, где эти мертвые буквы наливаются живой кровью. Мы думаем разное — это важно, но важнее то, что мы разного хотим. Струве не хочет революции, по крайней мере, той, которая освобождение России ставит условием ее величия, а не наоборот, величие России — условием ее освобождения.
Отказываясь от революции снизу, он соглашается на революцию сверху. Формула «Великая Россия» принадлежит министру внутренних дел Столыпину. Напомнив об этом в начале статьи своей, Струве замечает: «Для нас эта формула звучит как лозунг государственности революционной». И кончает утверждением: «Государство должно быть революционно».
Как же этого достигнуть? Кто и что заставит сейчас русскую государственность, погрязшую в реакции, сделаться революционной? Формула «Великая Россия», звучащая не только для Струве, но и для Столыпина как лозунг революционный — не только Струве, но и Столыпин революционер, — это невообразимо.
Превратить реакцию в революцию сверху — такое же чудо, как превратить камни в хлебы, змею в рыбу. Революция без революции, пожар без огня, потоп без воды. В настоящее время советовать русскому государству: быть революционным — все равно что советовать утопающему: вытащи себя за волосы.
«Возражая мне, Мережковский все танцует от печки „существующего“ или „старого порядка“. Да ведь не я один, а весь „петербургский период русской истории“ от этой печки танцует. И куда от нее денешься? Попробуйте-ка не в теории, а на практике, не в должном, а в данном от какой-либо иной печки танцевать. Сравнение, впрочем, не совсем верное. Старый порядок — не печка, а сковорода, на которой все мы, как караси в сметане, жаримся и танцуем: откуда поджаривают, оттуда и танцуем.
Я считаю Струве человеком слишком умным и талантливым, чтобы заподозрить его в танцевании от печи, когда он решает, что русская интеллигенция просто „безбожна“ — и дело с концом. Мне ли не знать этого „безбожия“? Не я ли на нем, можно сказать, зубы съел? Но неужели Струве не видит, что именно здесь, в „безбожии“ русской революционной общественности, сейчас происходит исполинский сдвиг, клеточное перерождение всей умственной ткани? Недаром же старая „интеллигентская идеология рухнула“, как справедливо замечает Струве. Религиозных идей еще нет; но ведь и прежних, позитивных, тоже нет. Ничего нет. Пустота. А в пустоте — хаос, мистический анархизм, индивидуализм, мифотворчество — и Бог знает что еще, да оно и не важно, а важно то, что этот хаос нет-нет да и вспыхнет религиозным отблеском, как далекая грозовая туча зарницей. Пусть эти зарницы, пока еще безгромные,
Как демоны глухонемые, Ведут беседу меж собойв смертном удушье реакции. Такое удушие бывает только между двумя грозами. Нет, революция не кончилась — в этом, кажется, главная ошибка моего собеседника».
Доныне для русской интеллигенции революция была религией; от этого недалеко до того, чтобы религия сделалась революцией. В настоящее время вся русская интеллигенция проходит как бы из дверей в двери амфиладу трех комнат — декадентство, мистицизм, религию. В первой комнате уже так тесно, что яблоку негде упасть; во второй — толпа редеет; в третьей — почти никого нет. Можно остановиться или пойти назад; но вперед другого хода нет: кто не застрял в декадентстве, тот непременно перейдет в мистицизм; кто не застрял в мистицизме, непременно перейдет в религию. Может быть, я слишком спешу с моими заключениями, но едва ли они ложные.
«Религиозная интеллигенция есть твердая жидкость, contradictio in adjecto», — полагает Струве. Но ведь жидкость становится твердым телом при замерзании. Если бы мы справились на метеорологической станции, то, может быть, нам ответили бы: сегодня оттепель, а завтра будет мороз. Опустится ртуть на два, на три градуса — и все воды русской интеллигенции превратятся в лед. Когда вода в сосуде замерзает, но еще не замерзла, то достаточно одного прикосновения, толчка, чтобы появились ледяные кристаллы: таким толчком для русской интеллигенции не будет ли первое движение новой революции?
Как бы то ни было, пусть только Струве сравнит то, что было в конце прошлого столетия, с тем, что сейчас, — и он, может быть, почувствует правду моего утверждения: религиозного сознания нет еще у русской интеллигенции, но есть уже все более и более жадное религиозное внимание. Неодолимая тяга влечет нас всех, вольно или невольно, именно в эту сторону.
Внезапная стремительность движения иногда почти пугает, но не удивляет меня. Борясь с позитивной пошлостью, «хамством», «смердяковщиной» русской интеллигенции, я слишком хорошо знал, что она не просто «безбожна»; я знал, что под внешним атеизмом Иванов Карамазовых и Раскольниковых (не одни же Ракитины и Смердяковы — представители русской интеллигенции!) скрывается огненный антитеизм; под мнимым безбожием — истинное богоборчество. «Я верую, что Бога нет!» — говорит типичный русский интеллигент у Достоевского. А вера в небытие Божие — тоже вера, тоже религия. Я хочу только сказать, что никогда не было у русской интеллигенции окончательного атеизма как религиозного безразличия, нейтральности, а всегда была какая-то религиозная полярность: но ведь ежели есть могучее отрицательное электричество, значит, где-то рядом должно быть столь же могучее электричество положительное.
И вот что всего любопытнее для нас обоих, для меня и для Струве: прежде было так, что чем революционнее, тем атеистичнее, а теперь наоборот: чем революционнее, тем ближе к религии или, по крайней мере, к мистике. «Религиозный максимализм» все чаще идет рука об руку с максимализмом революционным, что гениально предсказал еще Достоевский: белое каление в мистике дает красное каление в политике. В этом отношении «мистический анархизм» — пошлая, грубая, но верная карикатура, если не на вчерашнее, то на завтрашнее лицо русской интеллигенции. Это — маленький нарыв, в котором действует прививка большой заразы.
Да не подумает Струве, что я всему этому огулом радуюсь; я отлично сознаю огромную опасность религиозно-революционного максимализма не только для него, но и для меня. Я сейчас не оцениваю, я лишь исследую — и при этом не «улыбаюсь» по поводу возможного сочетания русской революционной общественности с христианской эсхатологией. Ведь это уже было раз в истории: Апокалипсис сочетался с революцией у солдат-пророков, спутников того самого Оливера Кромвеля, которого и Струве «уважает», или у тех американских пуритан, от которых французская революция заимствовала свое откровение — «декларацию прав человека». Было раз — может быть, снова будет? О, конечно, если будет, то уж совсем иначе: история не повторяется, но голоса ее только и делают, что перекликаются.
Религиозный анархизм Л. Толстого, по мнению Струве, не связан с «безгосударственным духом» русской интеллигенции. Употребляя слово «интеллигенция» в кавычках, Струве, кажется, выбрасывает ее из русского образованного общества, из интеллигенции без кавычек. Но должна же существовать какая-нибудь если не положительная, то отрицательная связь между этими двумя интеллигенциями, а следовательно, такая же точно связь должна существовать между религиозным анархизмом Л. Толстого и безгосударственным духом «интеллигенции» в кавычках. По толстовскому анархизму и родственным ему сектам — духоборчеству, молоканству, штунде — нельзя ли заключить о том, что религиозно-революционный максимализм русской интеллигенции уходит корнями своими в глубину стихии народной? Может быть, именно в этом «безгосударственном духе» не русская интеллигенция «отщепилась», откололась от народа, а весь русский народ расщепился, раскололся великим расколом?
Тут возникает вопрос: насколько вообще государственный дух, гений государственного строительства, свойствен русскому народу?
Он создал огромную империю, или, вернее, она создалась на нем. Но ведь эта империя — не крепкое правовое государство; она похожа скорее на полупризрачное тело химеры, в котором явь смешана с бредом, петербургский гранит с петербургским туманом, как в подножии Медного всадника. В химерической государственности народ любит собственно одну только ослепительную точку — самодержавие. Но любит ли он и самую государственность? Слишком долго вбивали в него эту идею татарской плеткой, немецкими шпицрутенами. Вот почему для него «государственность» значит «казенщина», а «казенщина» значит мертвая вода, которая на что ни брызнет, все мертвит. Спасая живую душу свою от мертвой воды, народ бежал в леса, в скиты, зарывался в землю, сжигался на кострах. Может быть, в этом религиозно-революционном максимализме есть большая доля изуверской дикости; может быть, когда-нибудь создаст русский народ высшую, более человечную государственность. Дай Бог! Я опять-таки ничего не решаю, не оцениваю — я только исследую.
Во всяком случае, если бы даже Россия оказалась мало способной к строительству государственному, этого еще недостаточно, чтобы произнести над ней смертный приговор, к чему, по-видимому, склоняется Струве. Он устанавливает прямое соотношение между государственностью, с одной стороны, культурой и общественностью — с другой. Мы видим, однако, во всемирной истории примеры не только прямого, но и обратного соотношения между этими двумя началами. Средневековая церковь в борьбе с государством послужила культуре и общественности отнюдь не менее, а может быть, более, чем весь государственный феодализм. Древняя Греция, раздираемая анархией мелких политей, оказалась неспособной создать великое государство и создала величайшую культуру. А македонская государственность понизила уровень эллинской культуры. Шиллер и Гете невозможны после Бисмарка в объединенной Германии. Анархическая Италия XIV и XV вв. создала культуру Возрождения. Китай прежде всех других народов вырастил на себе крепчайший костяк, череп государственности, но под этим черепом закостенела культура и общественность. Евреи, самый анархический из всех народов, дали миру сильнейшее бродило всей мировой культуры и общественности — христианство.
Я не анархист в политическом смысле. Я сознаю, что анархия может быть насилием злейшим, чем всякая государственность. Но мне и не нужно быть политическим анархистом, чтобы признавать государство лишь временным и относительным средством, а не вечной и абсолютной целью, сторожевым огнем земли, а не «путеводной звездой» на небе, чтобы не делать государственного идеала идолом, не проповедовать религию государственности. А что Струве это делает — не мне одному кажется. В превосходной статье своей («Наброски» — «Речь») Д. Левин говорит:
«Государство не есть верховная ценность, которой должны подчиниться все прочие культурные ценности человечества, — вот та позиция, которую занял Мережковский в споре со Струве. Ничего более он не утверждает, да ему и не нужно ничего более утверждать для того, чтобы вскрыть односторонний фанатизм религии государственной мощи».
Нельзя точнее выразить мою главную мысль: в беседе со Струве я именно только отрицаю государственность как религию, отрицаю религиозно-государственный «максимализм» Струве, ибо когда он приглашает меня «сквозь хищничество Бисмарка рассмотреть его религию», преклониться перед «величием Бисмарка», хотя бы даже «Зверя с большой буквы» (слова Струве), что же это такое, как не религиозно-государственный максимализм? Требуемое от меня безразличие в поклонении Богу или «Зверю» я отнюдь не могу принять как освобождающий скепсис; ибо скепсис, доведенный до таких пределов, становится бессознательным, т. е. наиболее порабощающим, догматом.
Государство есть некий живой «организм», «соборная личность», утверждает Струве. Здесь едва ли случайно, хотя, может быть, опять-таки бессознательно, слово «соборный» заимствовано из христианской церковной догматики. Государственность для Струве — «религия», государство — «церковь». В церкви Христовой воплощается лик Христа: а в «соборной личности», государственной — чей лик? Этого Струве не знает и знать не хочет. Хотя бы лик «Зверя» с большой буквы — ему все равно…
Нет, государство не «личность», не «организм», а механизм, и постольку оно праведно, поскольку оно механизм — железный рычаг, поднимающий тяжесть веков, железный плуг, взрывающий ниву истории, послушное орудие воли человеческой. Когда же не человек владеет орудием, а орудие человеком, то оно калечит и убивает его. Механизм, уподобляясь организму, становится автоматом. Религия государственности и есть религия автоматизма. Некую тоже «соборную личность», или, вернее, личину, «искусственного человека», homo artificialis, предсказывал еще Гоббс[2] в «Левиафане». Как бы не оказалась «Великая Россия» этим страшным «искусственным человеком», автоматом, который задушит в мертвых объятиях живую Россию?
Царь Навуходоносор поставил золотой истукан и объявил: «Народы, племена и языки! Когда услышите звуки трубы, свирели, цитры, цевницы и симфонии, падите и поклонитесь золотому истукану, а кто не падет и не поклонится, брошен будет в печь, раскаленную огнем».
Национальная симфония «Великой России» напоминает эту вавилонскую музыку, а религиозно-революционные «отщепенцы» — как в русском народе, так и в русской интеллигенции — трех отроков, которые ответили царю: «Бог наш силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавить. Золотому истукану не поклонимся».
Навуходоносор за то, что велел поклоняться себе, как Богу, стал зверем. На этом смешении лица Божиего с ликом звериным, на старом порядке религиозном зиждется и старый государственный порядок. Нельзя перейти от старого порядка к новому, не преодолев этого религиозного смешения. Но Струве не преодолевает, а утверждает его, когда усматривает «сквозь хищничество Бисмарка его религию»: «Величие Бисмарка остается фактом, хотя бы мы к его имени приписали слово „Зверь“ с большой буквы», — не значит ли это, что религиозное величие государственности может являться и «в зверином образе»?
Мы на это ответим: будем гореть в печи огненной, но Великой России в образе зверином не поклонимся.
ЦВЕТЫ МЕЩАНСТВА
I
Встречи мои с Жоресом[3] и А. Франсом были так мимолетны, что, пожалуй, и рассказывать не стоило бы, если бы не было тут кое-чего символического для нас и для них, для нас, русских, и для них, французов, может быть, вообще европейцев.
Недостаточно путешествовать, надо жить в Европе, чтобы понять несоизмеримость нашу с ними не столько в мыслях, даже в чувствах, сколько в первых ощущениях, в той физике, которая есть основа всякой метафизики. Мы можем с ними сближаться, сочувствовать друг другу, но рано или поздно наступает мгновение, когда они перестают нас понимать и смотрят на нас, как на обитателей другой планеты. Говорю это без гордости, напротив, со смирением: ибо многому мы должны у них учиться, во многом искать помощи — в этом нет сомнения; а можем ли и мы им чем-либо помочь — это пока сомнительно. Во всяком случае они нужды в нас не чувствуют; в их сознании или бессознательности грядущие судьбы Европы нисколько не связаны с нашей судьбой: кажется, провались Россия, они выживут, а исчезни Европа — мы погибли.
Трудно, едва ли даже возможно определить точной формулой эту несоизмеримость, но вот что в глаза бросается. Они — индивидуалисты; мы — общественники. Конечно, в известном смысле общественность европейская совершеннее, чем русская; но там отлилась она в твердые, кристаллически ясные государственные формы; а наша русская — еще не откопанная руда или кипящий в горне металл, который может отлиться в какие угодно прекрасные или чудовищные формы. Они — река в русле; мы — река в половодье. «Разливы рек, подобные морям» — это как будто сказано и о русской общественности. Может быть, и мы когда-либо найдем русло, но сейчас не нашли, и кажется, что у нас почти беспредельные добрые и злые возможности.
Сила наша в том или слабость, но мы еще верим во всемирно-исторический прерыв, в тот внезапный переворот, апокалипсис «нового неба и новой земли», который некогда и европейской общественности грезился; но там давно уже перестали верить в него, и теперь постепенность, медленность, непрерывность развития для них не только внешний закон бытия, но и внутренний закон духа. Они — в эволюции, мы — в революции. Они, сколько бы ни бунтовали, покорны, мы, сколько бы ни покорялись, бунтуем.
Но самую главную черту нашей несоизмеримости с Европою всего труднее выразить — именно черту религиозную. Сказать просто, у нас есть, у них нет религии, — нескромно, да, пожалуй, и неверно; ведь и у нас если не уже, то еще нет религии. Но все мы, утверждающие и отрицающие, могли бы в большей или меньшей степени сказать о себе то, что сказал один русский декадент: «Хочу того, чего нет на свете». Европейцы этого не скажут; они-то, во всяком случае, хотят того, что есть на свете. У них — прикосновение к здешнему миру; у нас — «прикосновение к мирам иным». Они, когда верят, все-таки знают; мы, когда знаем, все-таки верим. Вот почему даже в самых неистовых крайностях отрицания мы им кажемся мистиками; они, даже на самых последних пределах утверждения, кажутся нам скептиками.
Мы и они — не две ли половины одного целого, не два ли полюса одной силы? Ежели есть у нас какое-либо преимущество перед ними, то единственно в том, что мы раньше их задумались над этим вопросом. Мы поняли, что они нам нужны; они представить себе не могут, чтобы мы им когда-либо понадобились.
Они — «первые», мы — «последние»; но «кто хочет быть первым, да будет всем слугою», кажется, у них это забыто; если мы вспомним, то благо нам.
II
С Жоресом познакомил меня Андрей Белый, который случайно встретил его за табльдотом в маленьком пансиончике на тихой улице Ранелаг в тихом парижском предместье Отёйль, где Белый поселился по соседству со мной. Туда же приходил тогда Жорес завтракать перед заседаниями в палате. За одним из этих завтраков и разговорились они о социал-демократии, которой наш поэт, как известно, увлекается, связывая с ее торжеством «искусства грядущего». В социализм Белого я так же верю, как в его «Симфонии», эти волшебно-прекрасные и нежно-безумные «песни без слов». Как бы то ни было, но подобную беседу двух «товарищей», молодого русского символиста и маститого вождя французской социал-демократии, делала возможной та поверхностная общительность, которая свойственна воздуху Новых Афин.
Когда я вошел в идиллически мещанскую столовую в нижнем этаже ранелагского пансиончика, где воздух как будто темнел и густел от застарелого запаха блюд, я увидел на дальнем конце пустого и длинного стола Жореса с двумя-тремя «товарищами», должно быть, его неразлучной свитой, и с Андреем Белым.
Навстречу мне поднялся невысокого роста, полный, слегка неуклюжий и мешковатый человек лет пятидесяти, с рыжеватой проседью в жесткой щетине волос и бороды, с красноватой, точно обветренной, кожею лица, с выдающимся вперед подбородком, с простыми и добрыми бледно-голубыми глазами. Не то старший кассир страхового общества, не то учитель немецкого языка в русской гимназии. Ничего легкого, южного, латинского. Тевтонская тяжеловесность и основательность. Неладно скроен да крепко сшит.
Как уселись, так почти тотчас и заговорили о русской революции.
С первых слов моего собеседника я почувствовал любопытство того, кто смотрит на кораблекрушение из безопасной гавани. Освободится ли Россия или останется в рабстве, ему, Жоресу, от этого ни тепло, ни холодно. Я почувствовал также, что он говорит о революции как о море не моряк, а географ.
— В настоящее время в России кадеты — единственная партия, у которой есть чувство реальных политических возможностей. Все, что левее, безумно. Ваши крайние — или фанатики, или мечтатели, живущие в царстве химер. Их геройству нельзя не удивляться. Но удивление смешивается с чувством грусти и, простите, досады. У вас, русских, все — порыв. Вы готовы прыгнуть в окно и сломать себе шею, вместо того чтобы спуститься по лестнице. Вы умирать лучше умеете, чем жить…
— А вы, европейцы, и умирать, и жить умеете? — спросил я с невольною улыбкой.
— Хорошо жить — хорошо умереть, — возразил он с тем невинным и любезным самодовольством, которое обезоруживает.
Несколько месяцев назад я слышал речь его на «митинге протеста» в Зимнем цирке по поводу белостокского погрома, с тысячной толпой русских революционеров и французских рабочих. Он говорил о правах человеческих, о великих заветах французской революции, о всемирном братстве народов — обо всем, что некогда и здесь, в Европе, было делом, а теперь давно уже стало музыкой слов. Жорес — вдохновенный оратор. Часа полтора без передышки кричал он, рычал, ревел, гремел — настоящий Зевс Громовержец. Но мне почему-то тогда же вспомнилось словцо Григоровича о покойном Стасове: «Везувий, извергающий вату». Я легко могу себе представить, что в палате депутатов это пышное, пухлое красноречие под остро отточенными иглами Клемансо[4] лопается, как проколотый пузырь.
Я оглянулся на моих соседей, французских рабочих; простые, честные, добрые лица, которых нельзя не любить. Внимательны, сочувственны, почти благоговейны; точно молящиеся в церкви орган слушают. Но как в наши дни молящиеся в церкви не пойдут в крестовый поход, так эти люди не пойдут в революцию. Общее лицо толпы — лицо буржуазной республики — невозмутимая, неодолимая мещанственность: «Хотим того, что есть на свете; потихоньку да полегоньку, ладком да мирком устроим на земле царствие небесное». Что-то непотрясаемое, абсолютное; какая-то твердыня твердынь, «здешняя вечность», едва ли не то самое, в чем уже Герцену чудилось предвестие «Европейского Китая». Когда я вспомнил о полицейских агентах, поставленных у дверей зала, мне смешно стало. К чему полиция? Кого усмирять? Разве русских революционеров; да и те ослабели, присмирели, растворились в этой толпе, как кислота в щелоке. Какая уж тут революция! Не гореть воде, не бунтовать мещанству.
Уходя с митинга, я попал из одной толпы в другую. На площади Республики по случаю воскресного дня устроено было гулянье, балаганы, карусели с музыкой. Ночь была тихая, теплая. Полный месяц стоял на безоблачном небе. Но в ослепительно белом, как бы дневном свете электричества гасло ночное светило. В одной из каруселей бегали вместо лошадок исполинские свиньи; хвостики закручены колечками; розовые голые тела как живые; оскаленные морды точно смеются, и в маленьких глазках лукавство, как будто что-то знают, да сказать не хотят. Музыка играла военный марш, и с быстротой головокружительной мчались верхом на свиньях мужчины, женщины, дети. Они тоже смеялись.
И вдруг мне почудилось здесь то же, что там, на митинге: какой-то достигнутый предел, наступившая вечность, тишь да гладь, Божия благодать «Серединного Царства», «земного неба». Тоска, как во сне, сжала мне сердце. Что-то жуткое, вещее, как будто апокалипсическое, было в этой черной толпе и в свете солнц ночных, гасящих лунный свет, и в розово-голых, смеющихся свиньях. «Все это уже было когда-то, но только не помню, когда». Или будет?
— Да, вы умеете умирать, а жить не умеете, — повторил Жорес в заключение нашей беседы о русской революции.
Потом говорили мы о французской социал-демократии, сейчас не вспомню, что именно; но главное впечатление осталось у меня то же, как в тот вечер на белостокском митинге: социализм без революции, лев без когтей; социализм, переваренный в страусовом желудке буржуазии; социализм — потухшая лава вулкана, которая питает жирные гроздья Lacrima Christi в земном раю мещанства.
III
В салоне одной французской писательницы, по происхождению русской, Ivan Strannik, давней жительницы Парижа, которая, кажется, одна во всем этом городе пытается соединить воду с маслом, русских с французами, я познакомился с А. Франсом. Любезная хозяйка пригласила знаменитого гостя нарочно для меня. Но, по непростительному русскому варварству, я опоздал, приехал после Франса.
Помните в одном из рассказов Чехова того нежного мальчика, похожего на девочку, у которого мягкие движения, мягкий голос, мягкие льняные кудри, мягкие, ласковые глаза, мягкая бархатная курточка? Этого чеховского мальчика напоминает Франс. Весь мягкий-мягкий, ласково-пушистый, нежно-бархатный. Когда долго смотришь на него, то как будто проводишь рукою по серебристо-серому бархату. Но впечатление этой внутренней мягкости не исключает внешней четкости, твердости безукоризненно изящного, как бы изваянного, облика. Старчески-прекрасная серебряно-седая голова с благородным, как на древней флорентийской медали, отчеканенным профилем. Такими могли быть добрые старые придворные доброго старого короля Генриха IV.
Со мною были друзья мои, тоже русские; с Франсом — его неразлучная многолетняя подруга, очень умная, светская женщина в духе XVIII века, полуеврейка, полуфранцуженка. В ее доме у них общий салон. Франс женат, но жены его никто не знает.
Хозяйка постаралась было завязать общий разговор о русской литературе, о Л. Толстом и Достоевском. Но оказалось, что Франс к Толстому равнодушен, а Достоевского не любит. Из вежливости он этого не сказал, но можно было догадаться, что ему, совершенному классику, русская мистика претит, подобно всякой чрезмерности, и едва ли не кажется «дурным вкусом». Разговор не клеился: тщетно милая хозяйка через пропасть, разделявшую нас, перекидывала любезные мостики-радуги — мы по ним ступать не умели, проваливались.
Кажется, впрочем, и Франс неохотно разговаривает, слушает других; зато любит слушать себя. И упрекать его за это не хватило бы духу. Когда он говорит, слушаешь — не наслушаешься, как будто в горле у него скрипка Страдивариуса или тот соловей, который в сказке Андерсена услаждал своим пением предсмертные муки китайского императора. О каких бы пустяках ни говорил он, речи его — лакомство богов; какие бы горькие истины ни высказывал, они в устах его полны амброзийною сладостью. Когда же вспоминаешь, что было сказано, то видишь, что почти ничего почти ни о чем; все тает, как пена, — но не та ли пена, из которой родилась богиня вечной прелести.
По поводу сборника своих политических речей он признался, что произнесение хотя бы самой коротенькой речи перед собранием для него истинная пытка, что он уже за несколько дней волнуется, теряет присутствие духа и, выступая на эстраду, робеет, как школьник.
— Увы, я не рожден оратором, — заключил он с шутливою грустью.
— Зачем же вы себя мучаете?
— Что делать? Надо чем-нибудь служить общему делу.
— Социализму? — спросила хозяйка, подмигнув нам.
— Ну да, конечно. А вы, кажется, в мой социализм не верите.
— Не совсем.
— Почему?
— Да хотя бы потому, что вы величайший из скептиков, какие когда-либо были на свете, — подхватил кто-то из нас. — А как соединить сомнение с действием? Как делать что-нибудь, не веря в то, что делаешь?
— Делать нельзя, но можно играть, — ответил Франс. — Борьба политических партий для меня исполинская игра в шахматы. Да и все дела человеческие разве не игры? Боги с нами играют — в этом наша трагедия; будем же и мы играть с богами — может быть, тогда все наши трагедии кончатся идиллией. Тот, кто во всем разуверился, усомнился во всем, извлекает невинную легкость и сладость божественных игр из всего. «О как сладостно покоиться на подушке сомнений».
Бесконечной прелести в тихой улыбке, с которой он произнес эти слова Монтеня, я никогда не забуду.
Да, подумал я, игра во все, усмешка на все, сомнение во всем — вот последняя мудрость мещанства. Созерцание соответствует действию, Франс — Жоресу. Как некогда бунт политический претворился в мещанский либерализм, так ныне социально-экономическая революция претворится в мещанский социализм. Эволюция сильнее революции, тишина сильнее бури — вот непобежденная, может быть, даже в той плоскости, где доныне происходит борьба, непобедимая правда мещанства. Клемансо понял бы Франса, Франс примирил бы Клемансо с Жоресом.
Что в одном, то и во всех; что наверху, то и внизу. Там, на площади Республики, в черной толпе и в розово-голых, смеющихся свиньях — глубокий чернозем, жирный навоз, а здесь — благоуханный цветок, как бы мистическая роза мещанства.
Абсолютное мещанство — абсолютное свинство. Полно, так ли? Вся золотая жатва культуры — наука, искусство, общественность — не из этого ли мещанского навоза выросла? Нет ли праведного, мудрого, доброго, святого мещанства? Кто его не ругал и кто победил?
Слишком часто теперь у нас в России европейское мещанство отрицается не во имя нового благородства и всемирной культуры, а во имя старого русского варварства и нового русского хулиганства. Но если нужно выбирать из двух зол меньшее, то ведь, пожалуй, мещанство лучше хулиганства.
Иногда кажется, что русская революционная общественность дала Ганнибалову клятву победить или погибнуть в борьбе с мещанством культурного Запада, не имея на то права свыше. Пора, наконец, подумать об этом праве, понять, что антирелигиозную пошлость мещанства можно победить только религиозным благородством.
Верим, что оно сойдет на русскую общественность, и если тогда Россия окажется против Европы, мы против них, — пусть: может быть, тогда-то именно последние будут первыми, не для того, чтобы надо всеми возвыситься, а чтобы послужить всем.
ХРИСТИАНСКИЕ АНАРХИСТЫ
Христианская ли страна Россия? — спросил меня намедни один французский рабочий, имевший некоторые сведения о социализме, синдикализме и прочих современных делах. Этот вопрос европейского дикаря возникает, хотя, конечно, в ином, более горьком смысле, при чтении любопытной книги П. Бирюкова «Духоборцы» (изд. «Посредника», Москва, 1908).
— Что вы есть такое?
— Мы христиане.
«Тотчас сняли платье и начали сечь розгами, отпустили по тридцать ударов жестоких, так что колючка влезла в тело, вынимали колючку, и мясо падало клочками».
Это гонение на христиан не во II или в III веке в Римской империи, а в 1896 году в той самой России, которая, по мнению Достоевского, есть народ-«богоносец», долженствующий явить миру совершенный лик Христа.
В 1792 году екатеринославский губернатор доносил в Петербург: «Все зараженные иконоборством (т. е. духоборцы) не заслуживают человеколюбия», ибо ересь их особенно опасна и соблазнительна тем, что «важнейшее их попечение относится ко всеобщему благу, и спасение они чают от благих дел». «Последователи духоборческой ереси суть благонравны», — замечает неизвестный автор начала XIX века. По указу императрицы Екатерины II духоборцы приговорены к сожжению, но помилованы и сосланы в Сибирь.
Эти слишком благонравные, слишком христиане среди «православного» русского народа — «как колосья пшеницы между овсом». Пшеница Христова в христианской России оказалась плевелами, которые следовало сжечь огнем.
Император Александр I поселил духоборцев на молочных водах Новороссийской губернии. Здесь на некоторое время забыли о них. Но не прошло столетия, как опять начались гонения с еще большей лютостью. В 1895 году духоборы отказались от исполнения воинской повинности. «Решили мы не творить никому насилия, а тем более никого не убивать — и не только человека, но и других тварей, даже до самой малой птицы. Тогда нам не стало нужно оружия. Вот мы и решили уничтожить его, чтобы наше оружие и другим не послужило на зло».
После сожжения оружия в Карской области приехал губернатор с казаками усмирять «бунт».
«Мы столпились в кучу. Казаки стали подъезжать к нам. Впереди ехал командир и, как только приблизился к нам, закричал: „Ура!“ — и со всей сотней налетел на нас. И казаки начали бить нас по чему попало и топтать лошадьми. Долго били, потом остановились, и командир закричал: „Марш к губернатору!“ Тогда старики сказали ему: „Что же ты нам раньше этого не сказал, мы уж и то собирались идти, зачем стал бить?“ — „А, разговаривать!“ — закричал командир и опять с казаками бросился на нас. И опять долго били. Наконец, мы, избитые и окровавленные, пошли к губернатору. Когда шли, то пели псалом, но командир остановил пение и велел своим казакам петь свои песни».
Ну, как же тут не усумниться: христианская ли страна Россия?
Мы сами себя назвали «святою Русью». Но ведь этого, пожалуй, мало; ведь прочие, не «святые», народы могли бы усмехнуться: гречневая каша сама себя хвалит.
Далее — все в том же роде.
«И будет вам дальше хуже, и так будем держать вас, пока не покоритесь», — предупреждал знаменитый миссионер Василий Скворцов, ныне редактор «Колокола», начавший свою блестящую карьеру у Победоносцева, кажется, именно с этого духоборческого дела.
Приговоренных к сожжению решили не сжигать, а сгноить. Но они в огне не горели и в гноище не гноились.
Что же с ними делать? Дурную траву с поля вон. Десять тысяч человек, целый маленький народец, решили вышвырнуть из России, как приблудного щенка.
«Пусть бы правительство дало нам право выселиться в одно из европейских государств, а самое удобное, в Америку», — писал руководитель духоборов Петр Веригин в своем прошении.
Духоборам наконец позволили выселиться за границу без права возвращения на родину.
— Вот только отплывете от берега на пушечный выстрел, так матросы пароходные сядут в лодку и бросят вас на пароходе, а с берега пустят ядро и потопят всех, — предостерегали их бывалые люди.
По этой легенде можно судить о том, насколько доверяют русские граждане русской свободе, даже тогда, когда эта свобода ограничивается выталкиванием взашей.
— Матушка, матушка, за что ты меня гонишь?
— А за то, сынок, что ты слишком благонравен.
— Благослови же меня, родная, хоть на прощание.
— Ну тебя к черту, благодари и за то, что жив остался!
Так напутствовала родина-мать своих лучших сынов. А чужая приняла как родных.
«Мы от души рады, что вы к нам приехали на нашу родину, которая теперь ваша родина, и где вы можете святить Господа по вашей совести, и где никто не смеет вас притеснять», — писали духоборам канадские квакеры в Онтарио.
Надо обладать толстокожим патриотизмом «истинно русских людей» для того, чтобы в этих простых словах не почувствовать кровавого оскорбления, как бы всемирной пощечины святой Руси.
«В греко-российскую церковь мы не желаем», — говорят духоборы. И потому признают они «Церковь единую, святую, соборную и апостольскую, которую Господь явлением Своим собрал, осиял и осиявает дарованиями Духа Святого».
Ежели судить учение духоборов по их религиозному сознанию, то это — крайний рационализм, упраздняющий не только христианство, но и всякую вообще религию. «Главною основой существования человека служит разум». Но если только разум, а не вера, не откровение, то зачем же религия? Не достаточно ли знания? «Под словом „Бог“ разумеют они силу любви, силу жизни, которая дала начало всему существующему». Но если Бог только сила, а не личность, то религия опять-таки сводится к философскому пантеизму, который имеет мало общего с христианством.
Когда на лондонском митинге Петра Веригина спросили: «Считаете ли вы Христа Сыном Божиим?» — он ответил уклончиво: «Всякое творение есть сын Бога». Это значит, и Христос — «творение», тварь, а не лик триединого Творца, не Бог. И, однако, в духоборческом символе веры на вопрос: «Верите ли вы в воплощение Сына Божия?» — прямой ответ: «Веруем и исповедуем, яко един есть Господь Иисус Христос, Сын Божий. Бог есть человек». Тут противоречие, спутанность в самой центральной точке христианства — бессильное шатание метафизики.
Но подлинная религиозная сила духоборчества — вовсе не в метафизике. Слова и мысли их ничтожны, дела велики; слова и мысли их во тьме, дела в свете. Христа Богочеловека не исповедают; но не за него ли пошли на муку и смерть? Не крестятся водою; но не огнем ли крестились, когда сожгли оружие? Не причащаются под видом вина и хлеба; но не под видом ли собственной крови причастились, когда казаки били их так, что по всему месту, где они стояли, «трава покраснела от крови»? Вышли из поместной церкви русской, но не выйдут ли в грядущую вселенскую церковь?
В темноте религиозного сознания есть у них одна ослепительная точка — учение о власти.
«По нашему учению, все люди равны и свободны. И нет над человеком никакой власти, кроме власти Бога, власти истины. Духоборец и есть не кто иной, как человек, не признающий над собой никакой человеческой власти». На вопрос: «Служение Богу совместимо ли с подчинением государству?» — Петр Веригин отвечает: «Никоим образом. Нельзя служить двум господам. И господа эти разные. Бог привлекает человека к служению Себе свободно. А государство требует себе служения всегда насильно». По преданию духоборов, происходят они от трех отроков — Анания, Азария и Мисаила, пострадавших за непоклонение образу Навуходоносора. Подчинение всякой государственной власти и есть для них отречение от образа Божиего в человечестве, поклонение образу царя-зверя, антихриста. Существо всякой власти для них не только безбожное, но и против Бога идущее, дьявольское.
Духоборы полагают, что религиозный анархизм прямо и открыто вытекает из Второго Завета. Но это, конечно, не так: не только все историческое христианство, но и ближайшие ученики Христовы установили учение о власти, совершенно противоположное учению духоборов: «Всякая живая душа властям предержащим да повинуется, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти Богом установлены».
Итак, одно из двух: или никто ничего не понял во Втором Завете и Христос противоположен всему христианству; или же тут вопрос уже не в новом понимании, а в новом откровении, может быть, выходящем за пределы Второго Завета.
Недостаточно отрицать власть — такое отрицание есть голая отвлеченность, пустое место или всеразрушающая анархия, дьявольский хаос, более дьявольский, чем государственное насилие; надо указать реально осуществимый переход от государственного насилия к религиозной свободной общественности, от власти человеческой к власти Божией. Духоборы этого не делают, они только поставили, но не решили вопрос. Увидели первую ослепительную точку восходящего солнца с одинокой вершины, на которую взошли во тьме, ощупью, по узкой, головокружительной тропинке. Теперь предстоит им труднейшее — спуститься вновь на землю, чтобы указать нам, во тьме блуждающим, путь к солнцу. Хватит ли у них на это сил, или они уже никогда не вернутся к нам?
В своих канадских прериях духоборы живут сейчас как у Христа за пазухой. Богатеют. Мукомольные мельницы работают паровиками; лесопильни, ткацкие фабрики, сахарные заводы. Скот «размножается, как пчелы, не заметишь, откуда что берется». «Масло кладут в суп, на нем жарят картофель и поливают еще сверху растопленным маслом, жареные овощи плавают в масле — прямо, можно сказать, изобилие плодов земных».
Да, жирно, сытно, но неужели в этой сытости — достигнутый предел и дальше идти некуда?
Ну, а как же «всемирное братство»? Тут что-то неладно. Может быть, в этом теперешнем благополучии грозит им большая опасность, чем среди лютых гонений. Кажется, они сами это смутно чувствуют.
Несколько лет назад началось новое движение.
«Мы все не едим мяса, а сами обзавелись скотом; негодных для молока и состарившихся продаем на убой, деньги же, вырученные от продажи жизни, употребляем для своих потребностей, покупая шкуры для покрытия своего тела и прочее, — это нам всем показует, что мы все равно участвуем в войне».
И вот отпустили скот на волю, «для того чтобы не насиловать никакое животное, и приняли весь труд на себя». Потом «отбросили все, что добыто из руды», чтоб не участвовать в страшном труде рудокопов. А для того чтобы не служить «мамоне», отдали все деньги «агенту» — решили жить без денег. И, наконец, пошли «встречать Христа», проповедовать миру наступление царствия Божия. С этой целью две тысячи человек, четверть всего духоборческого населения в Канаде, отправились в соседний английский город Иорктон, не взяв с собою ни лошадей, ни повозок, ни денег, ни одежды, ни хлеба, больных, старых и малых несли на носилках. В Иорктоне произошла паника. Казалось, что в город идут две тысячи сумасшедших. Наряд конной полиции оттеснил толпу на милю от города. Правительство разослало приказание по дорогам не давать съестных припасов. Но путники питались ягодой и зернами, выпавшими из молотильных машин, воистину «как птицы небесные». И, ночуя под открытым небом, распевая псалом:
Тебя ради. Господи, хожу, алчущий и жаждущий, Тебя ради. Господи, живу без покровища. —шли все дальше и дальше, пройдя уже от Иорктона более двухсот миль, неизвестно куда — навстречу грядущему Господу. Наконец в городе Минодосе силой затащили их в вагоны и вернули на участки, в покинутые селения.
Так кончился этот «исход».
«Правда, я не люблю насилия, но что же было делать? — заметил по этому поводу Петр Веригин. — Нет беды в том, чтобы употребить силу, когда надо людей спасти от самоубийства, а это самое и сделало правительство». Это значит: нет беды в насилии; а если так, то вся духоборческая метафизика рушится; ежели свято насилие в одном случае, то почему не в другом, не в третьем, не во всевозможных случаях?
В том-то и дело, что трудность и сложность вопроса о власти не в идеальном отрицании насилия, а в указании реальных путей от насилия к свободе. Что из того, что Петр Веригин теоретически, скорее, на стороне ушедших? Ведь вот практически он все-таки на стороне насилия. Тут между теорией и практикой, между должным и данным — бездонный провал.
Повторяю: религиозная правда духоборов в том, что они поставили вопрос о власти перед религиозной совестью человечества так остро, как еще никогда не ставился он во всемирной истории; но не им или, по крайней мере, не им одним ответить на этот вопрос. Не «избранный род», не малая горсть подвижников, ушедших в пустыню, отделившихся от человечества, а только все человечество в своем всемирном историческом восхождении к богочеловечеству на этот вопрос ответит.
Истинное откровение не уходит от мира, а входит в мир, как меч рассекающий: не мир пришел Я принести на землю, но меч.
Истинный «исход» духоборов совершится только вместе с нашим общим исходом, исходом всей России из «вавилонского пленения». Сознают ли сами духоборы, что последние судьбы их зависят от судьбы русского освобождения? Или они окончательно отреклись от России? Перестали не только называться, но и быть русскими? Мы этому не верим. Сколько бы ни отрекались, не отрекутся, не смогут. Слишком с Россией связаны. Недаром захотели строить родную Ефремовку не под кипрскими пальмами, а в канадских снегах, должно быть, уже и построили. Волны океана не разделят нас. Вместе погибнем или вместе спасемся. Ведь и мы туда же идем, в ту же свободу Христову верим. Ни они без нас, ни мы без них.
Рабская чужая Россия выгнала их, родная свободная — вернет. С ними как бы дух вышел из мертвого тела России; но тело воскреснет и вернется дух.
Но уже и сейчас мы протягиваем к ним, свободным, наши скованные руки и зовем их через бездну океана, через бездну революции:
— Не забудьте нас, помогите нам, придите к нам — вместе пойдем встречать Христа-Освободителя.
РЕФОРМАЦИЯ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ?
«Записки религиозно-философского общества» (Выпуск I. С.-Петербург, 1908) — очень важный документ для истории русской церкви и русской общественности.
Во вступительной речи А. В. Карташев,[5] председатель, заявил: «Публика склонна думать, что здесь, в обществе, она найдет полное разрешение мучающих ее вопросов религиозных, надеется увидеть здесь людей, которые подписали какой-то общий символ веры, на все отвечают „единым сердцем и едиными устами“, дают нечто цельное, созидающее в самом ближайшем, даже практическом смысле. С другой стороны, церковные круги, официальные сферы воображают, что здесь собирается чуть ли не какая-то община еретиков, которые внесут разрушение в строй церковной жизни. Те и другие ожидания, надежды и опасения есть чистое недоразумение. Нам кажется, что причины этих недоразумений, между прочим, кроются в том, что воображению всех представляется идея исторической связи между бывшими религиозно-философскими собраниями и настоящим обществом. На самом деле эта связь тянется очень тоненькой ниточкой. Настоящее общество возникло совсем по другому плану и по другим побуждениям. Итак, мы хотим сбросить личины — с одной стороны, общественных деятелей, а с другой — врагов церкви. Мы представляем просто общество людей, желающих рассуждать».
В этой дипломатической речи легко уловить заднюю мысль: ежели связь с прежними религиозно-философскими собраниями, на самом деле очень крепкую, председатель истончает до едва заметной ниточки, то это, по всей вероятности, для того, чтобы оградить новое общество от тех церковно-правительственных гонений, которые погубили прежние собрания, а также тех внутренних религиозных ошибок, которые были в них сделаны, главным образом, от переоценки собственных сил, от преждевременной надежды, что вот-вот «произойдет что-то реальное, можно с церковью столковаться, нечто в ней изменить». Но дальнейшее утверждение А. В. Карташева, что эти надежды «теперь окончательно миновали» и что «наступила полоса разочарований», может подать повод к еще большим недоразумениям, чем те, которые он хочет устранить. «Наступило отнюдь не разочарование» в реальности самого дела, в его объективной истине, а лишь более трезвая и скромная оценка тех личных сил, которые в настоящее время этому делу служат; уменьшилось дерзновение не во имя Божие, а во имя свое; увеличилось праведное нежелание «восхищать недарованное».
Во всяком случае, если бы не было какого-то скрытого смысла или даже двусмысленности во вступительной речи председателя, то почему не воспротивился он тому ходу прений, который на первых же заседаниях сделал новое общество менее всего похожим на «общество людей, желающих рассуждать», без всякой надежды на жизненную воплотимость отвлеченных «рассуждений», Можно сказать, что эти прения только и делали, что опровергали все, что говорил председатель о целях общества, а он как воды в рот набрал, не остановил их ни единым звуком.
Получилось такое впечатление, что он говорил не о том, чем общество будет, а лишь о том, чем оно должно казаться для непосвященных; получилось разделение предстоящей деятельности как бы на два круга, явный и тайный.
Гете утверждает, что всякая мысль, которая не ведет к действию, приводит к безумию. Если это верно о всех вообще мыслях человеческих, то о религиозных в особенности. Такова природа религии, что она влечет к действию. Гони природу в дверь, она влетит в окно. Это и случилось на первых двух заседаниях общества. И слава Богу, что случилось: ведь сейчас в России говорят о религии без всякой «надежды на что-то реальное», все равно что говорят о хлебе без всякой надежды на хлеб среди умирающих от голода.
Вот почему нельзя не порадоваться той неудержимости, с которой тотчас после схоластического поединка С. А. Аскольдова[6] и проф. А. И. Введенского[7] о свойствах «междупланетного эфира» прения спустились, упали стремглав, как брошенный камень, с неба на землю, и что около тех же вопросов, которые поднимались в прежних собраниях, старая война запылала с новою яростью, хотя уже теперь воюющие стороны переменили свои обоюдные положения.
Некогда представители светского общества боролись с церковною реакцией во имя обновления христианства; теперь обе стороны, объединившись в признании желательности этого обновления, разделились на два новые лагеря по вопросу о том, где оно совершится — внутри или вне православия, будет ли мистический прерыв, пройдет ли меч рассекающий между обеими церквами, старой и новой? Другими словами, ожидаемое религиозное возрождение есть ли обновленная или новая церковь? Иное состояние или иное существо? Преобразование или переворот, реформация или революция?
Как значительна эта перемена обоюдных положений, видно из того, что на стороне реформации и, следовательно, православной церкви оказались люди светского общества — Аскольдов, Эрн,[8] Свенцицкий,[9] а на стороне революции — такие представители духовенства, как архимандрит Михаил, тот самый, который в прежних собраниях выставлен был в качестве передового бойца и обличителя «неохристианской ереси». Пишущий эти строки хорошо помнит, как арх. Михаил клеймил эту ересь, усматривая в ней лишь «распутство содомское». И вот он сам в «еретиках», сам гоним церковными властями. Почти таким же гонениям подвергается другой участник прежних собраний, еп. Антонин, едва ли не самый просвещенный и духом свободный среди современных русских архиереев. Из этого видно, что прежние религиозно-философские собрания, как ни «наивна», по выражению А. В. Карташева, была в них «оппозиция церкви», оставили в ней след неизгладимый: что-то сделано, чего не переделаешь; что-то сдвинуто, чего не повернешь назад.
«Почему нужно уйти из церкви, почему нужно уйти от христианства? — спрашивает Свенцицкий, возражая на доклад Розанова[10] „О новом религиозном сознании“. — Пусть новое откровение действительно должно прийти для того, чтобы могла открыться общественная религиозная правда. Но тогда зачем же мы ожидаем, что это новое откровение должно порвать связь с христианскою церковью?» Свенцицкий, по-видимому, не сомневается в том, что выйти из православной церкви значит уйти из христианства, а уйти из христианства значит уйти от Христа. Различая теоретически, он практически в вопросе о том, что делать, куда идти, отождествляет или, по крайней мере, смешивает Христа с православием. Не задумывается над тем, все ли христианство в православии и весь ли Христос — в христианстве.
И священник Агеев, возражая на тот же доклад Розанова, подтверждает Свенцицкого: «Доклад жесток до последней степени не только идейно, но и в обывательском смысле, жесток для нас (т. е. для православного духовенства). Если стать на точку зрения доклада, то для меня и, я думаю, для всех священников это равносильно не быть священником». Остается неизвестным, потому ли о. Агеев «идейно» решил не снимать рясы, что это для него слишком жестоко «в смысле обывательском», или же, наоборот, это для него «идейно жестоко», потому что снять рясу слишком трудно «в обывательском смысле». Как бы то ни было, знаменательно для всей нашей русской «реформации» смешение этих двух точек зрения — «идейной» и «обывательской»: ведь сила православия именно в том, что оно — религия не только государственная, но и бытовая, «обывательская».
Единомышленник Свенцицкого и о. Агеева, В. Эрн, в журнале «Живая жизнь» по поводу перехода арх. Михаила в старообрядчество говорит: «Не выходить нужно из православия, а приняться за творческую работу создания в себе новой религии жизни». И Эрн противополагает православие как «религию жизни» старообрядчеству как «религии быта». На самом деле старообрядчество и православие в одинаковой степени — «религия быта», с той лишь разницей, что первое есть религия древнего быта народного, а второе — нового быта государственного, казенного, «обывательского».
Итак, вот главное положение наших реформаторов: не выходить из православной церкви, потому что вне этой церкви нет христианства, нет Христа; не от Христа — к церкви, а от церкви ко Христу.
Но где же церковь? Об этом недоумевает в том же самом журнале «Живая жизнь», рядом с Эрном, другой сотрудник, В. Адлер: «Тягость нашего положения в том, что ни я, ни вы, никто не может указать: где же явственно слышится голос церкви?» Спрашивать, где голос церкви, — не значит ли спрашивать, где сама церковь, ибо какая же церковь без голоса? И как идти в нее, не зная, откуда он звучит и куда зовет?
Нет, действительная «тягость положения» для наших реформаторов заключается вовсе не в том, что они голоса церкви не слышат, а в том, что если бы они его услышали, то или пришлось бы им отречься от религиозно-общественной правды своей, или выйти из православной церкви. В самом деле, что значит оставаться в церкви? Это значит совершать в ней таинство причащения, признавая, что оно не может совершаться нигде и никем, кроме православной церкви и православного священства; другими словами, это значит подчинить таинство причащения таинству священства, утверждая, что благодать священства, которая ручается за подлинность таинства, идет от самого Христа. Можно усумниться, где голос церкви и где сама церковь, только отрицая эту непрерывность и утверждая прерыв. В противном случае нет никакого сомнения в том, что голос подлинного священства и есть голос церкви. Реформаторы перестали слышать голос церкви не потому, что она онемела, а потому, что сами они оглохли или нарочно затыкают уши, чтобы не слышать этого громового, сквозь века и народы вопиющего голоса.
За примером недалеко ходить. Рядом с Адлером, вопрошающим, где голос церкви, напечатана в журнале следующая заметка: «Инспектор спб. духовной академии о. Феофан после своего посещения рел. — фил. общества нашел, что это общество имеет крамольное и антихристианское влияние на все русское общество, и подал длинный доклад митрополиту Антонию, требуя немедленного закрытия рел. — фил. общества».
«Бессилие — насилие, — замечает по этому поводу „Живая жизнь“. — Когда нет силы внутренней, прибегают к силе физической… Изумительное забвение всех евангельских заветов!» Почему же изумительное? Разве такое забвение — новость в истории церкви, которая только и делала, что свое общественное бессилие прикрывала государственным насилием? Не звучит ли в этом смешении бессилия с насилием подлинный «голос церкви»?
И в другой заметке о недавнем постановлении союза русского народа, которое, по-видимому, связано с назначением о. Иоанна Кронштадтского[11] в св. синод, не слышится ли явственно тот же голос? «В синод препровождены советом министров переданные на уважение Гос. думы законопроекты о свободной пропаганде всех христианских исповеданий. По убеждению св. синода, он, в качестве высшей духовной власти стоя на страже охранения своих чад от Князя тьмы (заметьте: чада церкви оказываются „чадами св. синода“), считает своей обязанностью настаивать на том, чтобы все ныне существующие преимущества православной церкви были неизменно сохранены за нею и впредь и чтобы право свободного распространения своего учения принадлежало только одной православной вере. Сверх того, св. синод находит, что в целях наивящего охранения достоинства христианской церкви и ее служителей от нападок, оскорблений и издевательств в нашем законодательстве должны быть введены ясные и определенные постановления, карающие таковые действия, проявляемые как устно, так и в письме, печати и через посредство театральных и иных зрелищ».
И опять реформаторы простодушно изумляются: «Ведь нас все время учили, что церковь и политику не нужно мешать в одно, ибо это унижает церковь. Зачем же эту доктрину нарушают теперь?» Полно, «теперь» ли только происходит смешение церкви с политикой? Не всегда ли «наивящему охранению достоинства христианской церкви» служили «карающие постановления»? Союз русского народа только повторяет глухо сказанное более «явственно» еще у Стефана Яворского в «Камне веры»: «Для еретиков не может быть иного врачевания, паче смерти». Ежели инквизиционные костры потухли, то мы этим обязаны отнюдь не голосу церкви, которая от костров никогда не отреклась, а голосу «безбожного мира».
— Че-пу-ха — ваша свобода совести. С еретиками церемониться нечего! — воскликнул при мне однажды мой давнишний приятель, служащий в синоде, человек пламенно верующий, добрый и умный.
— Что значит: не церемониться? На кострах жечь, что ли?
— А хотя бы и на кострах.
— И меня сожгли бы?
— И вас, если бы вы оказались врагом церкви, — улыбнулся он ясной улыбкой и повел меня смотреть золотых рыбок, купленных для аквариума, которым забавлялся, как дитя.
Ежели эти золотые рыбки не превратились для меня в золотые угли костра, то я опять-таки обязан этим не голосу церкви, а голосу «безбожного» Витте.
«Печется чужое мясо, слышите?» — «Кого? Св. Франциска?» — «Нет, Джироламо Савонаролы». — «Это, миленький, не из наших, и его печеного мяса мы не слышим. А вот о житиях и мученическом венце наших угодников не хочешь ли расскажу я тебе зело чудную повесть». — «Ну, ведь до того очевидно, что это страшно, что это грех, что горели на кострах „образы и подобия Божии“». — «В варении ли покаятся?» — «Да, нужно». — «А в человеческом мясе?» — «Нет, не нужно, потому что Я сожгла. Я живыми замуровала в землю, в кирпичные стены: а Я — свята». Это возражает Розанов священникам и делает страшный вывод: «Церковь зла». Пусть вывод кощунственный. Но чем отвечают на него реформаторы? «В святоотеческих писаниях рассказывается про святого, который, услышав, как в предсмертном бреду больной говорил, что ему хочется пастилы, за много верст пошел за этой пастилой, чтобы утешить умирающего».
Христианским аскетизмом проклят весь мир; от христианского аскетизма все живые воды прогоркли, говорят им; а они: сладенькой пастилки не угодно ли? Нет, покорно благодарим. Что нам с ней делать? Заедать печеное мясо, что ли?
«Мыслительных переживаний не знал Свенцицкий, — усмехается Розанов. — На золотой арфе своей дикции он поет нам старую семинарскую песню о том, что „идеалы церкви ужасно как высоки“, а „люди ужасно как плохи“. Станем лучше, зовет он нас, будем трудиться. Вспомним первых христиан. Старые слова. Невозможные, ненужные… Не понимаю, почему Свенцицкий не служит в синоде: там молодых, „идеально настроенных“ чиновников ищут. Кстати, получилось бы и сочетание „гражданского служения“ с „истинно христианскою настроенностью“ — главная его тема». Пусть не заслужил этой усмешки Свенцицкий, человек огненных, если не «мыслительных», то сердечных религиозных переживаний. Тем досаднее, что он подает к ней повод.
Нет, недостаточно прикинуть на одну чашку весов полфунтика пастилы святоотеческой, чтобы поднялась другая, которую тянет вся общественная ложь христианства. Не от злонравия же нескольких обер-прокуроров св. синода зависит эта ложь. С Константина равноапостольного, который и назван так за то, что объявил христианство религией государственной, т. е. с тех пор, как невидимая церковь стала видимой, исторической, совершилась подмена свободы Христовой государственным насилием, порабощение церкви государству. Реформаторы хотят ее освободить. Но хочет ли она сама освободиться — вот вопрос. Не государство насилует церковь, а церковь вместе с государством насилуют мир. Она служит государству, но ведь и оно служит ей, рука руку моет: власть византийских императоров становится учреждением божественным, а священство становится учреждением государственным.
«Одна из моих девочек, — рассказывает Розанов, — спросила меня на литургии: „Папа, разве это не Бог?“ — о служившем священнике; а когда я передал это глубоко чтимому мною о. Николаю Георгиевичу Дроздову, то этот печальный и строгий священник ответил мне: „Оставьте — пусть она так думает, это хорошо“».
И тут же вспоминает Розанов другой, тоже детский, вопрос об иконе одного афонского отшельника: «Папа, это черт нарисован?»
Когда все смешалось так, что дети спрашивают об одном и том же: «Разве это не Бог? Разве это не черт?» — то, значит, мерзость запустения стала на месте святом. «Кому и где мне молиться?» — вопит Розанов от ужаса, и арх. Михаил присоединяется к этому воплю: «Господи! Мы совсем наги… Если христианство и церковь — разные вещи, то мы сейчас не знаем, где Христос. Мы приходим к тебе с такими словами: „Неведомый нам Христос, ты должен нам открыть себя. Ты неведом нам, но мы тебя желаем, потому дай нам себя“».
Да, мерзость запустения стала на месте святом. Но ведь есть же предел мерзости, за которым и самое «место» перестает быть «святым». «Всякому смирению есть предел. И вот из смирения рождается дерзновение: нужно дерзновение», — заключает арх. Михаил.
Век реформации для христианства прошел и не вернется, наступил век революции: политическая и социальная — только предвестие последней, завершающей, религиозной. Вот чего не понимают наши реформаторы. Запоздалая и ненужная реформация есть возвращение вспять, утонченная реакция, которая опаснее, чем наглая реакция черносотенная, — опаснее потому, что соблазнительнее. В этом смысле реформационная простота хуже реакционного воровства. У реформации «добрые намерения»; но как бы не оказались они теми, которыми вымощен ад!
Если бы религиозных революционеров стали снова жечь на кострах, то наши реформаторы не подложили бы полена, а глядели бы издали, утешаясь тем, что запалила костер «не церковь, а иерархия», как будто от этого легче тому, кто горит на костре. Русская реформация садится между двух стульев, служит нашим и вашим.
У наших реформаторов старая нерелигиозная общественность; если они пойдут до конца в идеях своих, то одно из двух: или отрекутся от всякой общественности во имя отвлеченного аскетизма, монашеского неделания, или признают христианскую реакционную общественность, новое, более совершенное порабощение церкви государству, как это и сделал Лютер, величайший из всех реформаторов. Диалектика идей беспощадна. Религиозные революционеры вышли из православия, из религиозного утверждения старого государственного порядка и пришли к его отрицанию, к революции; реформаторы идут обратным путем: выйдя из революции, идут в православие.
Церковь не в бревнах, а в ребрах. Главная ошибка наших реформаторов та, что они ищут церкви в мертвых иерархических бревнах, а не в живых человеческих ребрах, ищут Христа не в мире, а в клире. Но там его давно уж нет: он — в мире, ходит по миру, по всей земле —
Всю-то, всю, тебя, родная, В рабском виде Царь Небесный Исходил, благословляя.[12]Оставаясь в старой церкви, можно только чинить гнилые бревна, делать реформацию; но чтобы сделать революцию, создать новую церковь не в бревнах, а в ребрах, надо выйти из старой.
Рождение подобно убийству: в терзаемой плоти матерней, в кровях матерних рождается младенец; сила отделения, отталкивания необходима ему, чтобы родиться. Наши реформаторы, ослабляя эту силу в новой церкви, как бы вталкивают младенца обратно в чрево матери.
Политическая революция в России только первый приступ этих болей рождающих. Что политическая революция кончена, об этом заключают, кажется, из того, что нет нынче такого реакционного осла, который не лягал бы мертвого льва революции. Но, может быть, только в этой эмпирической смерти революции открывается ее бессмертная религиозная правда. В революции правда человеческая становится Божеской; в религии правда Божеская становится человеческой; обе эти правды должны соединиться в новую, совершенную, Богочеловеческую истину.
«Истина возникает из земли, и правда проникнет с небес, и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой».
Этот плод земли и есть младенец рождающийся — новая церковь.
ХРИСТИАНСТВО И ГОСУДАРСТВО
«Если быть русским значит быть рабом — то я не хочу быть русским».
На эти мои слова князь Е. Трубецкой[13] возражает: «Если мой народ — раб, то из этого для меня вытекает обязанность самому надеть цепи, ради него самому стать рабом, чтобы он стал свободным… Пусть Мережковский подумает об этом, и он будет вынужден признать, что в приведенных словах его выразилась просто-напросто трупная психология».
Назвать живого человека трупом есть мысленное человекоубийство. И не меня одного убивает мой критик, но и большую часть русского общества, которая, по его собственному признанию, разделяет мою «психологию». За что? Откуда такая жестокость в человеке добром, умном, считающем себя христианином — вплоть до несения «рабьего зрака»?
Охотно беру вину на себя: я, должно быть, неумело выразил мою мысль или, вернее, мою боль, которая действительно легко может сделать из живого человека труп. Но ведь если я кричу от боли, значит, я еще не труп.
«Черт меня дернул родиться в России!» Этот крик той же боли. А неужели и у Пушкина «трупная психология», неужели и он России не любил? Не болел бы так, если бы не любил.
Противоречий полно сердце человеческое: любит, ревнуя и ненавидя; чем больше ненавидит, тем больше любит; через отрицание идет к утверждению — через ледяное «нет» к огненному «да».
Корделия любила отца больше, чем сестры; но когда те говорили, она молчала. Та часть русского общества, которую князь Трубецкой подозревает в нелюбви к России, — вечная Корделия. Вообще стыдно говорить о любви к родине; но теперь, среди патриотического бесстыдства, стыднее, чем когда-либо.
Именем Божиим освящает мой критик тот «рабий зрак», который все мы носим, увы, не столько из святости, сколько из трусости. «Мог ли бы сказать Христос: если быть человеком значит быть рабом, то я не хочу быть человеком?» — спрашивает князь Трубецкой. Да, мог. Если бы человек был рабом, то Бог — абсолютная свобода — не стал бы человеком. Но по эмпирическому виду раб, по метафизическому существу своему человек свободен. Для того и пришел Христос, чтобы, приняв на Себя «рабий зрак», разрушить его, истребить до конца, освободить человека последней свободою: если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.
Но христианство, приняв свободу Христову в области личной, освятило рабство «рабьим зраком Христа» в области общественной. «Господь терпел и нам велел». Старая песенка, под которую совершалось второе распятие в христианстве. Старая заклепка, которою все тысячелетние кандалы заклепаны наглухо.
Старую песенку эту поет и князь Трубецкой, когда смешивает два понятия: иметь вид раба и быть рабом. Да ведь в том-то и весь вопрос: как в настоящее время в России, имея вид раба, не быть рабом? как под «рабьим зраком» утвердить свободу? Пока еще никто не ответил на этот вопрос, а князь Е. Трубецкой, кажется, его и не слышит.
Но чересчур легко ответить на другой вопрос моего критика: «Не рискует ли идеал всечеловечества превратиться в пустой звук» вне государственности? Князь Е. Трубецкой спешит за меня ответить: «Мережковский должен знать, что без государственности всечеловечество осуществиться не может».
Я бы это, конечно, знал и ничего на это не возразил, если бы имел дело не с христианином, а с язычником или неверующим, для которого церковь — «пустой звук». В самом деле, на той плоскости, на которой движется вся метафизика языческой общественности, неопровержимо совпадение государства и народа, государства и общества, государства и человечества. Человек весь в государстве; человек есть гражданин, и больше ничего. Государство, Город, Полис съедают человека без остатка, с душой и телом, как улей — пчелу, полипняк — полипа. Если бы пчела или полип могли рассуждать, то они, конечно бы, сделали тот самый вывод, который делает князь Е. Трубецкой: никакое реальное соединение полипов и пчел вне полипняка и улья немыслимо. Идеальный древний град, республика Платона и есть не что иное, как идеальный человеческий полипняк и улей.
Рим осуществил, насколько это возможно в условиях человеческой природы, языческий идеал государственного всечеловечества. «Рим есть мир», Urbs-Orbs; всемирное тело Рима стремится поглотить все остальные народы и государства, даруя «мир всему миру» силой меча, той государственной мощью, которая казалась уже и тогда единственно реальным условием «всечеловечества».
Но опыт не удался: позорное орудие казни — крест — вот единственный ответ совершеннейшего государства на жизнь совершеннейшего человека. Римский законник умывает руки в величайшем беззаконии, которое когда-либо совершалось на земле; римский мудрец перед лицом воплощенной истины спрашивает: что такое истина? — римский гражданин, указывая на поруганный образ Бога в человеке, говорит с презрением: се — Человек.
Так совершился суд вечной истины над государством, как над истиной временной.
В государство не вместилось человечество; за пределами человечества открылось богочеловечество. Ныне царство мое не от мира сего — не от мира, не от Рима, не от государства. Так — ныне; но наступит время, когда царство не от мира придет в мир, войдет в мир, как входит в тело меч рассекающий. Не мир, но меч пришел Я принести на землю. Древнее государственное всечеловеческое единство раскололось пополам, дало трещину, из которой вырвалось подземное пламя — начало всех грядущих религиозных и общественных революций. Образовалось два царства — государство и церковь.
Главный смысл всей дальнейшей истории христианского человечества заключается в непримиримой борьбе, из которой возникла вся мировая культура, вненациональная и внегосударственная всечеловечность.
Христианство не преодолело государства; но и государство в христианстве утратило тот абсолютный смысл, который имело в язычестве, — перестало быть религиозной целью и сделалось эмпирическим средством. Именно это пока еще религиозно-смутное, но неугасимое сознание, что государство не цель, а средство для какой-то цели, которую нельзя осуществить ни в каком бытии государственном, именно это сознание и есть, по преимуществу, революционное сознание нового и в самом отступлении от христианства христианского человечества.
О церкви недаром и не случайно князь Е. Трубецкой забыл, предлагая мне вопрос: не рискует ли вне государства идеал всечеловечества превратиться в пустой звук? В этом вопросе ужас первосвященников: «Придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом». Осудившие Христа осудили его из любви к отечеству: «Лучше нам, чтоб один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». И распявшие Христа распяли его за то, что он «возмущал народ» против той государственной мощи, без которой все-человечество казалось «пустым звуком».
Да, недаром и не случайно у моего критика это забвение церкви как реального пути к всечеловечеству. Ведь главная сущность всего старого порядка в России и есть поглощение церкви государством, превращение церкви в «департамент дел духовных». Петр, основатель русского абсолютизма, и основал его на этом именно смешении «кесарева с Божиим». Достоевский видел, что «русская церковь в параличе с Петра Великого»; но откуда паралич, не видел или не хотел видеть.
И напрасно, возражая мне, князь Е. Трубецкой ссылается на Достоевского, как будто я его не знаю: знаю и отрицаю именно здесь, в отношении к церкви.
То превращение государства в церковь, в котором Достоевский видит спасительное будто бы отличие «богоносной» России от «безбожной» Европы, — еще больший соблазн, чем превращение церкви в государство, папы в кесаря, которое, по мнению Достоевского, происходит в католическом Риме. Пока нельзя соединить, лучше отделить, чем смешивать. Отделение церкви от государства — вот если не последняя, то первая, если не богочеловеческая, то человеческая, но все-таки святая правда современной европейской культуры. А Россия не только не прошла через нее, но и не дошла до нее. Просвещенному христианину Запада, принявшему ту святую правду, показался бы кощунственным «истинно русский» вопрос князя Е. Трубецкого: возможно ли всечеловечество вне национальной государственности? Если оно невозможно, то церковь — «пустой звук», христианство — «пустой звук», Евангелие, благая весть о царстве Божием на земле, как на небе, — «пустой звук».
Понятно и правдиво подобное утверждение в устах откровенного язычника. Но удивительная необдуманность со стороны христианина — это исповедание Христа на словах и «Князя мира сего» на деле. «Если падши поклонишься мне, я дам тебе все царства мира». Так называемая «христианская государственность» или «государственное христианство» есть не что иное, как поклонение Христа «Князю мира сего».
Все эти возражения мои князю Е. Трубецкому я мог бы соединить в такую формулу: государственность постольку реализована в истории христианства, поскольку само христианство нереализуемо: между государством и христианством существует противоречие неразрешимое, по крайней мере в пределах самого христианства. Но только этим противоречием оно и живо и действенно; вынуть его из христианства — значит умертвить его, превратить в «пустой звук».
А на вопрос моего критика я мог бы ответить другим вопросом: возможно ли всечеловечество для национальной государственности?
Стоит вглядеться в «образ мира сего», в современное развитие милитаризма, в едва ли не более тягостный, чем прежние войны, «вооруженный мир» великих государств, где народ народу волк, чтобы усомниться в этой возможности. «Слабый — добыча сильного», «большая рыба глотает малых рыб» — как перейти от этого всемирного зверства ко всемирному братству? Алкоголь и сифилис, которыми сопровождается, дальнобойные орудия и броненосцы, которыми распространяется «христианская цивилизация», — это ли путь к всечеловечеству? Попробуйте заставить просвещеннейших английских, американских или немецких империалистов отказаться хоть от одной пяди колониальной земли во имя всечеловечества, — они только посмеются, потому что думают о нем столько же, как о прошлогоднем снеге, — и хорошо делают, ибо всякая подобная мысль, при реальных условиях современной национальной государственности, гнуснейшее лицемерие или кощунство.
Достоевский утверждает неразрывную связь старого церковного и государственного порядка в России; в этом «новом Исламе» мечом и огнем распространяется коран «всечеловечества». Можно спорить с Достоевским, но нетрудно понять, чего он хочет. Чего же, собственно, хочет князь Е. Трубецкой, понять нельзя. Ссылаясь на идею всечеловечества у Достоевского, не принимает он главной сущности этой идеи. Вообще старых исторических путей русской государственности и церковности не хочет; но никаких новых национальных путей не указывает; а единственный общий путь европейской культуры — отделение церкви от государства — отрицает, потому что неизбежно отрицает этот путь тот, кто, подобно князю Е. Трубецкому, сливает идеал государственности с идеалом всечеловечества — религиозным, «вселенски-церковным» в высшем смысле этого слова.
Действительное отделение церкви от государства неизмеримо значительнее и глубже того, которое доныне происходило в истории христианства.
Церковь только до тех пор жива и действенна, пока борется с государством, утверждая свою особую, внегосударственную и вненациональную, всечеловеческую правду, «Царство Божие на земле, как на небе». Если же, отрекшись от этой правды, все равно, сознательно или бессознательно, церковь с государством окончательно примиряется, подчиняется государству, «воздает Божие кесарю», то в самом христианстве происходит второе предательство, второе распятие, второе погребение Христа; тогда сама церковь становится тем камнем, которым завален Гроб Христа, охраняемый римской стражей — «государственной мощью». Но тогда же на место церкви, не исполнившей своего назначения, становится иная сила, как будто только человеческая, а на самом деле богочеловеческая, как будто антихристианская, а на самом деле подлинно, хотя и бессознательно, Христова — освободительная общественность.
Всякая революция, достойная этого имени, утверждает — пусть на одно мгновение, на одной высшей точке своего подъема, но все-таки неизменно и неотразимо утверждает вненациональный и внегосударственный идеал, не менее, а может быть, и более, чем исторические церкви, вселенский, всечеловеческий, — тот идеал «свободы, равенства и братства», который ни в каком народе и ни в каком государстве осуществиться не может, т. е. в последнем счете утверждает «Царство Божие на земле, как на небе».
Государственность — эмпирически-необходимое средство, но не религиозно-свободная цель человечества. Не человек для государства, а государство для человека. Когда же в относительной и преходящей правде национальной государственности утверждается, как делает князь Е. Трубецкой, безусловная и вечная правда всечеловечества, тогда из эмпирического средства государство становится мистическою целью, из доброго, домашнего животного, коня или вола — в хищного «зверя», в «самое холодное из чудовищ», по слову Ницше, в того «Левиафана», который уже не человеку служит, а человека пожирает. Религия государственности и есть не что иное, как поклонение «зверю». А бессознательное возмущение против этой религии, которая всегда была и ныне остается метафизической сущностью старого церковно-государственного порядка, есть подлинная, хотя пока еще бессознательная религиозная святыня революции.
Нельзя увидеть новой церкви, не выйдя из старой. Князь Е. Трубецкой, подобно учителям своим, Вл. Соловьеву и Достоевскому, не вышел из старой церкви и потому не видит новой, не видит религиозной правды русской революционной общественности, ибо, как я уже раз говорил[14] и теперь повторяю — об этом нужно твердить без конца, — в настоящее время в России революция и религия — не два, а одно: революция и есть религия, религия и есть революция.
«Сей спор не о вере, а о мере», — говорил Петр Великий о споре православия с расколом. Кажется, наш спор с князем Е. Трубецким тоже «не о вере, а о мере». В свободную Россию мы одинаково верим, но не одинаково мерим наше приближение к ней.
Мой критик полагает, что русская революция совершилась окончательно и что без дальнейших потрясений, «потихоньку да полегоньку» можно перейти от старого порядка к новому. Я думаю, что это невозможно. Тот «враждебный государству дух», который князь Е. Трубецкой усматривает в русской революционной общественности, есть отрицание не государства вообще, а лишь старого порядка в России. Недаром же наши самые крайние партии — социалисты-революционеры — совершенно искренние и последовательные государственники. Если же первая революция становилась иногда действительно «анархичною», то это — следствие не ее самой, а того трупного заражения, которое вносил в нее старый порядок.
Чтобы надеть новое платье, надо снять старое и на миг обнажиться. Кажущаяся «анархичность» нашей революции и есть такой миг обнажения. Ежели ветхая государственность — гнилое дерево, то не все ли равно, сгорит оно или сгниет окончательно, а если она — железо, то огня бояться нечего: только на революционном огне куются новые государственные формы.
Князя Е. Трубецкого пугает внезапная анархия. Но почему же не пугает его медленное разложение старого порядка? Не страшнее ли всех разрушений такое состояние, при котором и разрушать уже нечего? Россия вторая Византия или Турция, «потихоньку да полегоньку» отданная на откуп иностранцам, — вот что страшнее всего. А ведь если в русском обществе революционная стихия замрет окончательно, как желает князь Е. Трубецкой, то судьба эта неотвратима.
Нет, не всякий «дух, враждебный государству», есть дух, враждебный народу, потому что не всякое государство — народ: злейшим врагом народа, внутренним нашествием может быть иное государство. И не в духе вражды к такому государству, а в духе примирения сказывается подлинный «дух небытия», та «рабья и трупная психология», в которой обличает мой критик русскую «освободительную» общественность, сваливая с больной головы на здоровую. Беда русских лучших людей не в том, что они Россию не любят, а в том, что эта любовь так долго венчалась терновым венцом, так долго ненавидела, что порою хочется сказать:
То сердце не научится любить, Которое устало ненавидеть.И в том еще беда любящих Россию, что они в родной земле как в чужой. И когда притеснители требуют от них выражения патриотических чувств: «Пропойте нам из песней Сионских», — то они могли бы ответить им, подобно пленникам, сидящим и плачущим при реках Вавилона: «Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Дочь Вавилона, опустошительница! Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!»
Кто не ненавидел так, тот еще не любил родины.
БЕС ИЛИ БОГ?
Лежачего не бьют нигде, а у нас бьют, и всего удивительнее то, что иногда лежачий сам себя бьет, за то, что упал. Это видно в отношении не только реакционных, но и революционных партий к «неудавшейся» революции.
В чем только не обвиняют ее. Между прочим, и в «безбожии». Когда подобные обвинения идут со стороны реакции, отвечать не стоит: ведь никто никогда не издевался над именем Божиим кощунственнее, чем русская реакция. Но когда люди, искренне религиозные и некогда желавшие победы революции, теперь, после ее действительного или мнимого поражения, уличают ее, с легкой руки Достоевского, в «бесовщине», то нельзя молчать.
Некоторые из этих обличителей утешают нас тем, будто бы не только в революции, но и в реакции те же «бесы», хотя под иною личиною.
Но ежели всюду «бесы», то не значит ли это, что Бог окончательно отступил от России? Полно, уж не лучше ли совсем не верить в Бога, чем верить так? Не лучше ли себя самого к черту отправить, чем всю Россию?
Обо всем этом думал я, читая маленькую книжку, изданную в Москве в 1908 г., посвященную «Памяти Фрумкиной и Бердягина». Цена этой книги — две человеческих жизни: стоит прочесть и задуматься; может быть, и о революционной «бесовщине» кое-что узнаем.
В 1903 году происходящая из минских мещан повивальная бабка Фрума Мордуховна Фрумкина, 29 лет, отточенным ножом нанесла удар в шею начальнику Киевского жандармского управления генералу Новицкому. Ее присудили к одиннадцати годам каторги, которую отбывала она в горном Зарентуе. По манифестам срок сократился. Ее отправили на поселение в Читу, откуда она бежала в 1907 году и в том же году была арестована в Москве, в Большом театре, близ ложи московского градоначальника Рейнбота, с браунингом, заряженным отравленными пулями, и заключена в Центральную пересыльную Бутырскую тюрьму, где покушалась на жизнь тюремного начальника Багрецова, — выстрелом из револьвера слегка ранила его в руку. Ее повесили 11 июля 1907 года.
Неизвестный, именующий себя Максимом Бердягиным, арестован в Москве в 1905 году, причем у него найдены бомба и браунинг, приговорен к восьми годам каторги, 5 июля 1907 года ранил в шею кинжалом, смазанным синеродистым кали, помощника начальника той же Бутырской тюрьмы, в которой содержалась Фрумкина, приговорен к повешению, 13 июля убил себя гвоздем и отточенным черенком чайной ложки.
Ну вот и все. Мало? Да, с точки зрения революционного действия, почти ничего. Не герои, а неудачники. Еще Фрумкина на что-то покушалась, а Бердягин только прошелся по улицам с бомбой и браунингом. Носят бомбы, но не кидают; отравляют пули, но не стреляют; смазывают кинжалы ядом, но яд не действует. Едва ли простая случайность эта беспомощность. Чего-то слишком у них много для убийства. Точно заклятие наложено, какая-то невидимая сила удерживает руку их; едва вынимают меч из ножен, как раздается веление: довольно, оставьте, вложите меч в ножны. И отсеченное ухо раба Малха исцеляется. Жалят безвредно, как пчелы, чтобы, ужалив, самим умереть. Не убийцы, а жертвы. Физическое насилие только предлог для какого-то метафизического утверждения. Делают не для того, чтобы сделать, а чтобы сказать, возвестить, проповедать что-то.
«Вы меня пошлете на казнь, и этим я завоевала право сказать вам все, что я считаю нужным. И я скажу это», — говорит Фрумкина судьям. «Я убедилась, что говорить можно сколько угодно, — радуется она. — Надо сказать вторую речь гораздо лучше первой… Я нахожу своевременным заговорить так о тюрьмах, чтобы даже военные суды растерялись… Можно заставить всех обратить внимание… Не кажется ли вам все это смешным?» Нет, нам кажется не смешным, а страшным то, что в России надо убивать и умирать, чтобы обратить на что-то чье-то «внимание», чтобы кто-то «растерялся», да и то еще Бог весть.
Судебные речи Фрумкиной незначительны, а впечатление на судей потрясающее. Тут, разумеется, важно не что, а как было сказано.
«С каждым словом, — говорит очевидец, — Фрумкина поднималась все выше и выше… Лицо ее было так бледно, что казалось прозрачным… Всегда некрасивая, она сияла неземной красотой». «Ведь она некрасива, — заметил один из судей, — но я в жизни не видел и, вероятно, никогда не увижу такой красоты…» «Вся комиссия была страшно взволнована, — передавал защитник ей самой, — председатель сказал, что он никогда ничего подобного не видел и не слышал». «Судьи были целиком на моей стороне и, вероятно, думали, что каждый из них сделал бы то же самое, — пишет Фрумкина, — может быть, потому не хотели они меня повесить».
Суд сделал все, что от него зависело, чтобы избавить ее от смертного приговора, объявив «душевнобольной», хотя никто не сомневался в ее здоровье. Но она сама этого не захотела и вынудила у судей приговор.
«Мы все сидели вместе за длинным столом — жандарм стоял вдали, — и я спокойно, просто и ясно доказывала им, как мы глубоко любим нашу родину, как страстно мы хотим ей помочь, как стыдно жить среди тысяч казненных и замученных, как легко и радостно отдать свою жизнь за нее… Они молча и проникновенно слушали… Мне кажется, я их заставила понять и почувствовать, что лучше подписать мне смертный приговор, чем отдать в больницу… Я не чувствовала в них врагов, я читала на их лицах уважение к русскому революционеру».
«Обо мне не печальтесь, — пишет она перед смертью, — все хорошо, и все будет хорошо… Дорогие, родные товарищи!.. Я ношу почетное и великое имя русского революционера, и этому имени приписывайте мою стойкость и готовность радостно умереть за наше святое дело, — но не мне. Русские революционеры умеют жить и умереть для счастья родины — и я только следую их примеру. Не выделяйте одного, а говорите: „Прекрасна русская революция!..“ Желаю вам своими глазами увидеть освобождение России. Желаю хорошо жить и хорошо умереть. Прощайте».
По этому письму можно судить о той «неземной красоте», которую кто раз видел, тот уже никогда не мог забыть.
Фрумкина умерла за то, чтобы говорить; Бердягин — за то, чтобы молчать, и это молчание сильнее всяких слов.
Осталось неизвестным, кто он, откуда, как жил и что делал до ареста, даже свое настоящее имя он скрыл. Отказался говорить на суде, потребовал, чтобы вывели его из залы заседания, и не захотел выслушать приговор — «бойкотировал суд». «Меня ждет петля… Впрочем, я не дамся им в руки живым», — писал он за несколько дней до казни, решив «бойкотировать» и виселицу.
Его поместили в подвальном этаже тюрьмы. Для наблюдения поставлено три надзирателя. У него был морфий, чайная ложка, игла и гвоздь. В ночь на 13 июля, накануне казни, он принял морфия; доза была слишком велика и вызвала тошноту. Силой воли он преодолевал ее в течение всей ночи, к утру обессилел, и рвота началась. Тогда он попытался иглою пронзить себе мозжечок, но не мог попасть куда следует. После этого, отломив черенок ложки и обточив о кандалы, пробовал воткнуть в сердце, но черенок погнулся, и грудь была только изранена местах в десяти. Наступило 13 число. Днем за ним следили. В 11 часов вечера, делая вид, что ложится спать, он укрылся одеялом и, сняв кандалы, чтобы умереть свободным, налег грудью на подставленный гвоздь, стараясь пробить легкие и сердце. Это удалось отчасти: при вскрытии ребро оказалось пробитым насквозь, задета была и сердечная сумка. С такой раной, по мнению врачей-экспертов, он мог прожить минут тридцать — сорок. Он вынул гвоздь из раны, спрятал на прежнее место и черенком ложки перерезал себе в двух местах сонную артерию. Стража заметила самоубийство, когда он уже был в агонии.
Что это такое? Как это осудить или оправдать? Кровь стынет в жилах, язык немеет от ужаса. Мы даже не можем представить себе, что он испытывал, когда снимал с себя кандалы, «чтобы умереть свободным».
Во всяком случае, «бесовское» или «божеское», но это нездешнее, не человеческое, не эмпирическое, даже не метафизическое, а религиозное.
Что же это за религия?
«По-моему, философствовать на тему, что личность — мизерная капля в море человечества, может кто угодно, только не русский революционер и особенно не социалист-революционер, — пишет Фрумкина. — Знаете ли, что меня наиболее отталкивало от „экономического материализма“? Именно полнейшее игнорирование человеческой личности… Что может быть прекраснее вмешательства личности в „естественный ход вещей“?» «Свободная, счастливая личность в свободном счастливом человечестве, вот мой идеал!» — пишет Бердягин за несколько дней до смерти.
Утверждение личности как начала абсолютного, самоценного, самодовлеющего в «естественном ходе вещей» — «сверхчувственного», Божеского, — такова религия обоих. Они приняли муку и смерть, чтобы возвестить эту «благую весть», исповедать эту новую религию — новую, потому что в такой мере, в таком пределе этого еще ни в одной из религий не было.
«Я не понимаю боязни наказаний и смерти, — говорит Фрумкина, — не понимаю желания сберечь себя для будущих великих дел, а пока пресмыкаться. Ведь последовательным человек должен быть всегда и везде, в большом и в малом. Главное же: всякое глумление над человеческим достоинством должно вызвать отпор помимо каких бы то ни было рассуждений… отпор такой, каков при тюремных условиях возможен (…)
Важен факт отпора… важно доказать, что безнаказанно глумиться над человеком нельзя… Один результат всегда есть: мы сами не теряем уважения к себе». «Мы решили не уступать, — приводит она слова одного из товарищей. — Вслед за платьем отберут книги и остальное, так пускай уж лучше сразу прикончат, а мы им ничего не уступим». Таких людей «можно сломать, а не согнуть», — заключает Фрумкина. «Мы ни на минуту не должны забывать, что мы носим почетное звание русского революционера, и это звание обязывает. Не нами началась, не нами и кончится русская революция». «Если нельзя отомстить, то можно умереть!» — восклицает она с таким величием, которому позавидовали бы герои Тацита.
Эта религия бесконечного бунта, возмущения, сопротивления злу кажется абсолютно противоположною той, которая учит: не противься злу насилием; если тебя ударят в правую щеку, подставь левую. Но так ли это на самом деле?
Что месть обоих не личная месть, это слишком ясно. Не за себя враждуют они и мстят. «Я не чувствовала в них врагов», — говорит Фрумкина о людях, пославших ее на виселицу. Она прощает врагов своих. А любимых товарищей за то, что они позволяют тюремщикам «топтать себя ногами, ненавидит». «Нелегко вонзить нож в сердце замученного товарища, — признается она, — я потом просила у него прощения; но что значит слово „простите“ после того, как я так жестоко бередила его раны…» Чтобы вонзить нож в сердце друга, нужна бóльшая ненависть, чем для того, чтобы вонзить его в сердце врага, — бóльшая ненависть или бóльшая любовь, к друзьям и врагам одинаковая, ибо для такой любви что значит друзья и враги, невинные и преступные?
«Пора покончить с предрассудком относительно уголовных, — говорит Бердягин. — Люди везде и всегда одинаковы… В каждом есть дурное и хорошее — в одном меньше, в другом больше». Не значит ли то, что если бы среди уголовных оказался тот самый тюремщик, на которого он бросился с отравленным кинжалом, то Бердягин понял бы, что и этот изверг — человек, что можно и его простить? «Уголовных можно легко простить», — говорит Фрумкина с материнской нежностью о самых страшных злодеях, как о глупых детях.
Да, повторяю, слишком ясно, что не личная месть мешает им подставлять левую щеку, когда ударяют в правую, а что-то совсем иное. Не то ли самое, о чем сказано: «Продай одежду свою и купи меч. — Господи! вот здесь два меча. — Довольно». И когда одним из этих мечей пролита кровь, опять то же слово: «Оставьте, довольно». Тут какая-то загадка, которую мы не можем разгадать, может быть, потому именно, что много говорим о любви и ненависти, мало любим и ненавидим. Но иногда кажется, что если бы в самом начале христианства не вынут был этот меч, не пролита эта кровь, то все христианство оказалось бы бескровной отвлеченностью — чем-то вроде буддийского «неделания» или толстовского «непротивления злу».
В откровении, когда ангел снял пятую печать, Иоанн «увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь за кровь нашу? И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число».
Эти ли не прощали врагов своих? Эти ли не подставляли левую щеку, когда ударяли в правую? Но вот и они вопиют о мщении — и мщение совершается: «цари земные говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от гнева Агнца».
Гнев Агнца — гнев любви. Не здесь ли Божеский предел того, за что идут на смерть такие люди, как Бердягин и Фрумкина? Ведь и у них тоже ненависть любви, ненависть — обратная сторона любви: как любят, так и ненавидят; безмерно ненавидят, потому что безмерно любят.
«Умирая, я хотела бы знать, что будет с Россией? Это незнание в сущности единственно больно», — пишет Фрумкина накануне казни. То же мог бы сказать и Бердягин в ту страшную минуту, когда пронзило ему сердце железо гвоздное. «Придет время, — говорит Фрумкина, — когда меч перекуете в серп». «Настанет время, — говорит Бердягин, — когда любовь и разум проникнут в жизнь человека, и мир представит единую братскую семью… Этот рай омывается не Тигром и Евфратом, а истиной и справедливостью… Я счастлив, умирая… Ave, Revolutio, morituri te salutant!»[15] И в неумелых стихах его слышится детскость молитвы:
В наше время легко умирать… Уж идет золотая весна… И готов хоть две жизни отдать За святой идеал впереди.Этот «святой идеал», эта «золотая весна», этот «рай, омываемый истиной и справедливостью», — «не тысячелетнее ли царство», не «новое ли небо и новая земля» Апокалипсиса?
И вот все-таки — «бесноватые»?
«Мой демон и ваш демон, — пишет Фрумкина Бердягину, — успокоятся тогда, когда Россия будет свободной и счастливой. Не раньше. Поняли теперь? Борьба тяжела, и потому хочется взять на себя самую тяжелую ношу».
Самая тяжелая ноша и есть ноша меча, ноша крови, ноша любви ненавидящей.
Вот какой «демон», какой «бес» в этих «бесноватых», — «бес» или Бог?
МИСТИЧЕСКИЕ ХУЛИГАНЫ
Читал литературные отчеты за год — и стало грустно, стало тошно. Когда смотришь на человека, страдающего морской болезнью — мы все более или менее страдаем ею на мертвой зыби реакции, — то самого тошнит. Простите за некрасивое сравнение, но ведь и в Писании сказано: изблюю тебя из уст моих.
Ну, так вот мне кажется, что в этих новогодних отчетах все мы, бедные писатели, дурно переваренные, искрошенные на мелкие кусочки, изблеванные из уст наших критиков, в жалком и отвратительном смешении вываливаемся из головы читателей.
В газете «Речь»[16] Леонид Галич, критик вообще остроумный и отзывчивый, отмечает в минувшем году «возрождение романтизма, в котором будто бы сливаются два течения — „мистический анархизм“ и „неохристианство“». Всякий романтизм, по мнению Галича, есть «греза о божественном совершенстве, вера в чудо, в то, что Бог преобразует мир». При таком определении романтизм совпадает не только с «неохристианством», но и с христианством вообще. Это с одной стороны, а с другой — во всяком будто бы романтизме «есть нечто от хулиганства»: «всякий романтизм есть махаевщина» — такова математически точная формула Галича.
Подведем итог.
Христианство есть романтизм; романтизм есть хулиганство; отсюда неизбежный выход — две величины, равные третьей, равны между собой.
Не надо быть христианином, достаточно быть культурным человеком, чтобы волосы дыбом встали от этого вывода. Ведь добрая половина европейской культуры создана или насквозь пронизана христианством: не только «Божественная комедия», Сикстинская мадонна, «Цветочки» Франциска Ассизского, но и «свобода, равенство, братство», которые взяты революцией тоже из христианства, как это понял еще Герцен. И все это оказывается никуда не годной романтической ветошью, «идейной махаевщиной», сплошным «хулиганством». Мировая культура опрокидывается одним щелчком пальца, как карточный домик.
Галич утешает нас тем, что на смену умирающего неоромантизма идет могучий неореализм в лице Розанова.
«Нынешняя тема его такова: Бог мешает жить людям; мечта о совершенстве мешает нам устраиваться на земле; надо думать не о небе, а о социальных неустройствах. Если хотите, — прибавляет Галич, — мысль уже вполне писаревская, и можно ждать, что не сегодня, так завтра мы услышим, что „сапоги выше Шекспира“. Да, мы к этому неудержимо идем, и что же остановит нас на пути?»
Некогда утверждение «сапоги выше Шекспира» было невинным, хотя и невежественным ребячеством; теперь оно стало сознательным варварством, уже не романтическим, а реалистическим хулиганством. И вот мы неудержимо идем к этому новому хулиганству — «и что остановит нас на пути?» Уж, конечно, не мистический анархизм, не неохристианство — эта, по мнению Галича, жалкая «идейная махаевщина, которая долепетывает свои последние фразы». Так что же, что же, ради Бога, что?
Но, не отвечая, Галич спешит к внезапному выводу: «Мы не вернемся к старой утилитарности, к позитивизму».
Почему же, однако, не вернемся? Ведь только что было признано, что у нас нет никакого удержу на этом возвратном пути, никакого оружия против старого позитивного варварства: «сапоги выше Шекспира».
Но Галич, опять-таки не оглядываясь, спешит, летит вперед: «Стараясь облегчить муки людей, мы, конечно, не забудем и о богах».
Позвольте, позвольте, вовсе не «конечно». И о каких «богах» мы не забудем? Ведь всякая «греза о божественном совершенстве» есть та же «махаевщина», то же «хулиганство».
Но, не слушая ни рака, ни щуки, лебедь рвется в небо: «Глядя в небо, не оторвемся мы от земли; наряду с религией созерцания возродим и религию действия».
После всего, что сказано о религиозно-романтической «махаевщине», это или ровно ничего не значит — тут «небо», «религия» — пустые звуки, или это значит: мы соединим оба хулиганства, созерцательное и деятельное, романтическое и реалистическое, небесное и земное, в едином всеобъемлющем хулиганском синтезе — и в этом будто бы наше спасение.
Чудовищно. Не могу поверить, чтобы Галич действительно думал так. Но если не так, то как же?
Ничего не понимаю, ничего не вижу. Вижу только смешение непереваренных блюд и человека, одержимого рвотной судорогой. Надеюсь, что эта неприятность у Галича скоро пройдет, он выздоровеет и сделается снова остроумным критиком.
Благопристойнее страдает морской болезнью Чуковский, писатель глубоко современный и чрезвычайно талантливый, который дает новогодний отчет о литературе в той же газете «Речь» рядом с Галичем, причем выводы обоих поразительно расходятся. По мнению Чуковского, никаких «новых течений», усмотренных Галичем, в современной русской литературе не существует вовсе: «В минувшем году русская литература ничего не решала, ни о чем не думала, ни о чем не спрашивала, жила и двигалась, как слепая».
Когда я это прочел, мне стало жутко: почувствовалась такая правда, которую я сам себе боялся сказать. Ведь это значит: в минувшем году русская литература впала в умственный столбняк, в идиотизм. То есть, конечно, много было разных мыслей, мыслишек, но единой мысли не было. «Всюду и везде общие положения иссякли, — продолжает Чуковский. — А если искать хоть тень какого-нибудь общего начала, то придется остановиться все на той же неумирающей идее современной культуры — на борьбе с мещанством. Но мещанство утратило для современной беллетристики сколько-нибудь конкретные черты и приняло титанические размеры. Своей „Жизнью человека“ Леонид Андреев попытался вскрыть мещанственность всякой жизни, всякого существования — бытия, а не быта. В „Иуде и других“ в мещанственности обличается весь мир, купивший и продавший Бога: даже ученики Христовы, даже мученики, даже апостолы — мещане. Если бы критик довел мысль Андреева до неизбежного, хотя, может быть, бессознательного конца, то оказалось бы, что в мещанственности обличается не только весь мир, но и Бог („Некто в сером“), не только ученики Христовы, но и сам Христос». Галич почти соглашается с Розановым, что христианство — злокачественный романтизм, «хулиганство»; Чуковский почти соглашается с Андреевым, что христианство — «мещанство». Но почему же, однако, эта идея будто бы всей современной культуры — борьба с мещанством, да еще с титаническим, — в русской литературе превратилась в бледную, мертвую тень, в грязную тину на дне высохшего колодца? И во имя чего борется Андреев с мещанством в мире, в Боге? Критик прошел мимо этого вопроса или, вернее, наткнулся на него, как слепой, и в слепом ужасе шарахнулся в сторону. А между тем ответ на этот вопрос, может быть, выяснил бы причины того умственного столбняка, в который, как верно и грозно предостерегает Чуковский, впала вся современная русская литература.
Галич, говоря о мистическом анархизме, забывает его пророка, Андреева; Чуковский, говоря о титаническом мещанстве, забывает его пророка, Розанова. А между тем сопоставление Андреева и Розанова в их полярной противоположности и полярном взаимодействии, может быть, бросило бы свет в ту темную «злую яму», в которую так неожиданно провалились все идеи русской литературы.
В глубоко проникновенной статье «Весенний ветер» («Русская мысль» XII, 1907 г.), которую недаром наши мистические анархисты замалчивают — да и что им возразить, бедненьким? — Д. Философов говорит: «Как отнеслись к „Жизни человека“ мистические анархисты?» «Ты наш, ты наш!» — закричали они вместе с толпой и начали вокруг Андреева свою свистопляску. Приветствовали в нем не возможный переход к высшему разуму, а отказ от здравого смысла. Этот отказ именно и прельщает мистических анархистов. «Все на свете бессмысленно, мы во власти темной иррациональной силы. Мир неприемлем. Да здравствует хулиганство!» Это значит: мистический анархизм есть мистическое хулиганство. Но если так, то вот и ответ на немой вопрос Чуковского: во имя чего происходит борьба с «титаническим мещанством»? Во имя титанического хулиганства. О, конечно, самого Андреева черта великого страданья или безумья отделяет от хулиганской резвости тех бесчисленных мистических анархистов, которые с «оргийным» визгом валяются, как щенята на солнце. Но в своем религиозном сознании или, вернее, в своей религиозной бессознательности, Андреев беззащитен перед этим налезающим на него, облипающим его мистико-анархическим хулиганством.
Что такое хулиганство? В эстетике это уже не вообще «сапоги», а «мои сапоги выше Шекспира»; в этике — «мне все позволено»; в религии — «во мне все божественно; я Бог, и нет иного Бога, кроме меня».
Древний хаос потревожим, Космос скованный низложим, Мы ведь можем, можем, можем, —поет Городецкий. Разрушение космоса, разнуздание хаоса «во имя свое» — такова сущность мистического анархизма, мистического хулиганства — глубочайшей антирелигии, антихристианства.
Дубровино-меньшиковское, черносотенное христианство давно уже сделалось эмпирическим хулиганством. Но только в настоящее время, пока мистические анархисты, андреевские щенята, с одной стороны, превращают мистическое хулиганство в эмпирическое, Розанов — с другой — превращает старое эмпирическое хулиганство в новое, мистическое. Рано или поздно эти два противоположные течения встретятся и сольются в одном бездонном омуте.
4 января 1908 года в «Новом времени»[17] произошло, может быть, удивительное для многих, но меня нисколько не удивившее событие: в статье, озаглавленной «Вечная память», говоря о воскресении Христовом, о воскресении мертвых, Розанов назвал это воскресение «всемирным скандалом», «всемирной плевательницей». В следующем номере А. Столыпин, брат своего брата, должно быть, немного испугавшись «скандала», пролепетал что-то о духовидце Сведенборге, но такое невразумительное, что тотчас же сам сконфузился и умолк. А в сущности пугаться было нечего; никакого скандала не произошло: плевательница так плевательница. Меньшиковы уж, конечно, возражать Розанову не подумали. Ведь в сущности он только высказал вслух их тайную мысль: ведь все они только и делают, что, громко защищая православие, потихоньку плюют во «всемирную плевательницу».
— Алексей Сергеевич, есть Бог?
— А черт его знает, есть ли. Впрочем, наплевать — неинтересно…
«Не имею интереса к воскресению, — признается Розанов. — Говорят: мы воскреснем со стыдом, с „обнажением“… Ну что же… Зажмем глаза, не будем смотреть. Не осудим друг друга. Не заставит же Бог плевать нас друг на друга, не устроит такой всемирной плевательницы… Нет, это так глупо, что, конечно, этого не будет. Просто, я думаю, умрем… Так думаю, может быть, скверно, но так думаю».
Вот сущность мистического анархизма: может быть, скверно думаю, но это не важно, важно то, что я — я — Я так думаю; а ежели — я, то хорошо и скверное, потому что я — красота, я — истина, я — мера всего.
«Если бы я был великим иереем, — заключает Розанов, — я сотворил бы религию „здесь“ и „здешнего“, и, уверен, тогда бы нас гораздо лучше судили и „там“, если вообще есть „там“, что, впрочем, и не интересно, раз уже все положено „здесь“». И Розанов сообщает единственную заповедь этой новой религии:
«Оставьте все как есть. Не тяните ни туда, ни сюда».
Но ведь это древняя, вечная заповедь всей черносотенной, мещански-хулиганской религии; дубровины, Меньшиковы только и хлопочут о том, чтобы «оставить все как есть», всякую существующую мерзость возвести в перл создания, признать божественной, только потому что она существует, — поклониться непотребному богу непотребной действительности.
«Уничтожив Бога, разрушим все, что есть», — говорит андреевский Савва. «Уничтожив Бога, оставим все как есть», — говорит Розанов. Но и здесь, как везде, крайности сходятся: абсолютное мещанское «принятие мира» без Бога и абсолютное хулиганское «неприятие мира» тоже без Бога ведут, в последнем счете, к одному и тому же — к отказу от всякого действия, к успокоению в мещанском быте или в хулиганском небытии, к последнему безразличию, смешению добра и зла, красоты и безобразия, Бога и дьявола в одном хаосе, в одной слякоти.
«Приму ли я мир огулом, или огулом не приму — результат тот же, — говорит Д. Философов („Весенний ветер“). — Я признаю себя бессильным бороться со злом в мире. У мистических анархистов неприятие мира сводится к самому наивному его приятию, в том виде, в каком он есть», т. е. сводится к розановскому «оставьте все как есть». «Всякое возвращение вспять — непременно хулиганство», — заключает Философов. Можно бы заключить и обратно: всякое хулиганство есть непременно возвращение вспять, всякое хулиганство есть непременно реакция. Предел мистического анархизма — предел реакции. И это одинаково верно не только для Розановых, но и для андреевских щенят. Тут революция сходится с реакцией в какой-то глубочайшей мистической точке.
Вот что инстинктивно поняли нововременские товарищи Розанова — рыбак рыбака видит издалека; они поняли, что мистический анархизм — громоотвод революции. Вот почему Меньшиковы, Столыпины, защитники эмпирического черносотенного христианства, не захотели, не могли, не должны были возражать на мистическое хулиганство — антихристианство Розанова. Оно им слишком с руки: это — новая вода на старую реакционную мельницу.
Разумеется, борьба с мещанством во имя хулиганства — совершенно призрачная, притворная: для чего им бороться, когда сущность их одна и та же — мир без Бога? Милые бранятся — только тешатся. Сколько бы ни боролись, рано или поздно мещанство с хулиганством непременно соединятся в абсолютной пошлости, в грядущем хамстве. Я говорил некогда о Хаме грядущем; боюсь, что скоро придется говорить о пришедшем Хаме.
Теперь понятен и тот идейный столбняк современной русской литературы, о котором говорит Чуковский. Мыслей, мыслишек — сколько угодно; талантов, талантишек — невпроворот. Целая юная поросль, целая вешняя радуга. Ну а что как это поросль проказных лишаев? что как это — радуга гниющих вод?
Философов кончает свою печальную статью неожиданно радостным возгласом: «Будем верить, что при свете религиозного сознания — русская литература выйдет из великого смятения — и тьма ее не обнимет».
Я тоже верю, что «тьма не обнимет света»; но Философову как будто не страшно, а мне страшно. Мне кажется, тьма не только обнимет, но уже обняла русскую литературу; может быть, около нее, над ней, где-то брезжит свет: но в ней — тьма. Да, страшно. И страшнее всего то, что хотя мы все более или менее отчаялись, но отчаянье наше равнодушное или даже веселое. Нет-нет да и завизжит кто-нибудь из валяющихся на солнце щенят:
Мы ведь можем, можем, можем!И никто не ответит: врете, ничего вы не можете, даже того, что вас всех сейчас, как слепых щенят, в помойную яму вышвырнут, понять не можете.
И никто не слышит вопиющего в пустыне голоса: обратитесь, покайтесь. Отчаялись, но не покаялись. А ведь только тогда, когда мы дойдем до последнего религиозного отчаяния, до раскаяния, когда поймем, что мы все на краю гибели, что Россия гибнет, — только тогда можно будет снова надеяться, что засветит во тьме свет и тьма его не обнимет.
НЕМОЙ ПРОРОК
В журнале «Минувшие годы»[18] появились воспоминания сестры Вл. Соловьева,[19] М. С. Безобразовой. Сами по себе довольно поверхностные, они ценны и любопытны ввиду нищенской скудости сведений о жизни и личности покойного писателя. Во всяком случае, прислушаться к ним и задуматься над ними стоит.
Благоговейные ученики превозносят учителя в однообразных панегириках. Но настоящей биографии, настоящей критики, той, которая воспроизводит живое лицо не только писателя, но и человека, до сих пор нет и, пожалуй, еще не скоро будет. Благоговение убивает критику. Чтобы судить, надо знать; чтобы знать, надо определить; чтобы определить, надо ограничить, т. е. умерить благоговение. Нельзя рисовать без теней; для рисунка нужно не белое по белому, а черное по белому. Но этого черного, теневой стороны, никто не хочет или не может увидеть в лице Вл. Соловьева, которое, расплываясь в ровном свете, остается неопределенным и незначительным. Безличное совершенство, образец христианских добродетелей вообще, великий человек вообще — «обыкновенный необыкновенный человек», как он сам будто бы смеялся над собою.
Чтобы дать выпуклый образ, надо обойти предмет, обнять его взглядом, увидеть обратную сторону медали. Лицевую сторону соловьевской медали видят все, обратную — никто.
— Ах, мама, вы еще меня мало знаете! — воскликнул он однажды в беседе с матерью. Кажется, с этим восклицанием мог бы он обратиться ко всей русской критике.
Если это продолжится, то ему грозит участь многих великих людей — забвение в славе, те вторые похороны, которые устраивают учителю ученики-могильщики.
«Брат вообще в церковь почти никогда не ходил», — сообщает сестра. Поразительное, ошеломляющее по своей неожиданности сообщение. Если бы мы узнали об этом от лица менее близкого, то не поверили бы. В самом деле, что это значит? Всю жизнь только и делал, что звал в церковь, доказывал, что вне церкви нет спасения? Но вот звал других, а сам не шел, говорил, но не делал. Да что это значит? Не объяснит ли нам критика? Но критика только широко раскрывает глаза от удивления, как добрая старая мама.
«Мама, ты еще меня мало знаешь!»
«Володя был одно время атеист, — не без таинственного ужаса сообщали мы друг другу в детстве, — продолжает вспоминать сестра. — Была Пасхальная ночь, и мы все, как всегда, отправились в церковь… Брат объяснил, что никуда не отправится… Он сказал это мрачным тоном… „Когда так веруешь в Христа, нельзя быть таким мрачным в Великую Субботу, — думала я, — значит, у него опять сомнения…“ Вернувшись от утрени, я бросилась через все комнаты, чтобы похристосоваться… Хлопнула дверь из комнаты брата — идет. Оборачиваюсь к нему, протягиваю руку.
— Христос…
И вдруг осеклась.
Брат взял мою руку.
— Ты хотела сказать: Христос воскрес! — и почему-то остановилась… Ну, я отвечаю тебе: воистину воскрес!
И, нагнувшись, поцеловал меня трижды».
Но ведь была же «такая минутка», когда человек, беспредельно любящий его и верящий в него, ужаснулся, усомнился, ответит ли он: «Воистину воскрес».
В воспоминаниях В. Величко, напечатанных несколько лет назад в «Неделе»,[20] рассказывается об одной галлюцинации, или «видении», Вл. Соловьева. Во время плавания по финским шхерам, в пароходной каюте, ранним сумеречным утром представилось ему, будто бы на соседней койке сидит кто-то маленький, серенький, мохнатый и смотрит на него в упор.
— А знаешь ли ты, что Христос воскрес? — проговорил Соловьев, осеняя себя крестным знаменьем.
— Воскрес-то он, воскрес, а ты от меня все-таки не отделаешься! — ответил тот и залился таким смехом, что бедного философа мороз подрал по коже.
Может быть, я не совсем точно передаю слова черта, но смысл их именно таков. Верить в черта и тем более видеть черта — в высочайшей мере неприлично для образованного человека нашего времени. Что Вл. Соловьев действительно верил в черта, хотя и старался скрыть свою веру под шуткой, — видно по стихотворению «Морские черти». И «Повесть об антихристе» доказывает, что он теоретически допускал и религиозно утверждал видимое воплощение зла. Да, неприлично. Но что же с этим поделаешь? Таково свойство оригинальных людей — нарушать приличия.
Столь же неприлично другу почтенного М. М. Стасюлевича,[21] приват-доценту философии в Петербургском университете расхаживать по пескам пустыни у подножия Хеопсовой пирамиды, в черном сюртуке и цилиндре, ожидая условленной встречи с каким-то «розовым видением», для чего Вл. Соловьев предпринял целое путешествие в Египет — брал заграничный паспорт, укладывал чемоданы, покупал билеты и ехал по железной дороге, на пароходе тысячи верст, как для настоящего дела. Кто помнит глаза его, с их тяжелым, до слепоты близоруким, как бы вовнутрь обращенным взором, тот согласится, что это взор человека, у которого были галлюцинации, или «видения», ибо справедливо замечает Достоевский, что у нас, может быть, и нет вовсе точного мерила, чтобы отличить галлюцинацию от видения. Болезнь? Но кто знает, не есть ли именно болезненная повышенная чувствительность, недоступная людям здоровым, живущим более грубой животной жизнью, необходимое нормальное условие для мистического опыта, для «прикосновения к мирам иным»?
Как бы то ни было, вся эта соловьевская «чертовщина», соловьевское «подполье» и, может быть, соловьевский «бунт» почти никаких следов на его философских произведениях не оставили. Тут все стройно, ясно, гладко, даже слишком гладко, выглажено, вылощено. Ни сучка ни задоринки. Прозрачные кристаллы, геометрические грани мысли. Отточенная диалектика. Торжественная симфония, в которой разрешаются все диссонансы. Исполинское зодчество, напоминающее храм Святой Софии. Но, говорят, первый свод Софии рухнул от землетрясения.
Об этом-то грозящем натиске подземных сил («Володя одно время был атеист», — сестра хотела сказать: Христос воскрес, и вдруг «осеклась») — об этом натиске Вл. Соловьев сам ничего не говорит или говорит не словами, а мановениями, знаками, как немой. Да, немой, несмотря на десяток томов сочинений.
Существует два рода писателей: одни, подобно Л. Толстому и Пушкину, в своих произведениях открываются, другие, как Лермонтов и Гоголь, за ними скрываются. Без всякого, впрочем, желания притворствовать могли бы они сказать о себе: слова даны людям для того, чтобы скрывать свои мысли. Кажется, к последнему роду писателей принадлежит и Вл. Соловьев. Все они более или менее умеют «делать хорошее лицо при скверной игре». Когда же становится невмочь, то смеющиеся, подобно Гоголю, начинают плакать, а плачущие, подобно Вл. Соловьеву, — смеяться; но даже в эти минуты величайшей откровенности, когда, кажется, вот-вот готовы они выплакать и высмеять себя до конца, окружающие подозревают их в притворстве, в юродстве, и никто не верит ни этому жуткому плачу, ни этому еще более жуткому смеху.
«— Отчего говорят чернильница, а не песочница?.. Вам это не нравится. Ну, хорошо, успокойтесь… Я больше не буду…
Несколько минут молчания, потом вдруг вопрос:
— Отчего говорят роза, а не пион?»
Не напоминает ли это того чеховского героя, который в ужасной тоске напевал:
Та-ра-ра-бум-бия, Сижу на тумбе я.«Брат любил иногда говорить большие непристойности.
— Владимир, помилосердствуй при сестрах! — восклицала в негодовании Анна Кузьминишна (дальняя родственница).
— Да, Володя, пожалуйста, оставь; терпеть не могу, когда начинаешь говорить сальности, — замечала мать.
Сощурившись, брат смотрит на меня и младшую сестру.
— Мария, тебе есть шестнадцать лет?
— Есть.
— Ну, значит, все можешь знать, ибо достигла церковного совершеннолетия и получила право стать женой.
И брат начинает говорить совершенно откровенно. Иногда это кончалось благополучно, иногда скандалом; Анна Кузьминишна, возмущенная, вставала и уходила; в самых редких случаях уходила и мать, а чаще обиженно и огорченно говорила:
— Совершенно не понимаю, как это такой человек, как ты, можешь подобные вещи слушать, да еще и сам повторять.
— Ах, мама, вы еще меня мало знаете…»
Он очень любил Кузьму Пруткова. Члены московского шекспировского кружка сочинили театральную пародию в духе Пруткова, которую разыгрывали по знакомым домам. Слушатели «с недоумением пожимали плечами и говорили, что это Бог знает что такое. А брат был в восторге и хохотал, не переставая».
«— Приезжайте к нам в четверг: шекспиристы будут эту… галиматью свою ломать, — приглашал хозяин.
— Ну, это мне не интересно, — отказывался гость.
— Постойте, Вл. Соловьев тоже будет.
— Играть?
— Нет, в публике, для ободрения актеров: ему нравится, и все время он смеется, знаете, этим своим смехом».
Сестра уверяет, будто бы этот смех был «заразительно веселый». «Заразительный», пожалуй, как истерика, но едва ли «веселый», говорю это по собственному точному и незабвенному воспоминанию. «От хорошей жизни не полетишь», — замечает кто-то в горбуновском рассказе о мастеровом-воздухоплавателе. До какого одурения тоски, до какого надрыва надо было дойти, чтобы так смеяться! Сквозь торжественную симфонию «Оправдания добра» или «Чтение о богочеловечестве» мне слышится порой этот страшный смех, и чудится тогда, как в тургеневском сне: хорошо-хорошо, а быть худу!
«Брат в употреблении вина был иногда невоздержан. Помню, как раз хороший знакомый привез его домой после одного ужина: брат излишне выпил, так что рисковал не найти своего дома.
— В таком мерзостном виде, в каком я был, он ухаживал за мною, как самая добрая нянька, спасибо ему…»[22]
«А я лежал пьяненький», как говорит Мармеладов.
Предтеча и Мармеладов, пророк и шут. Как соединить или разъединить эти два лица?
Я отнюдь не сомневаюсь в подлинной христианской «святости» Вл. Соловьева. Недаром в лице этого русского современного интеллигента мелькают черты Франциска Ассизского или Сергия Радонежского.
«Когда у него просили, он давал все без расчету и удержу, — книги, платье, белье, деньги, часто все, что имел, до последней копейки. И случалось так: извещает брат, что тогда-то приезжает… Проходит назначенный срок, нет брата. Наконец, телеграмма: „Здоров, приехать не могу, подробности письмом“. И вот в письме сообщает, что пришел к нему один бедный человек, и так как не было денег, то пришлось отдать шубу, от поездки же отказаться — в легком пальто это неудобно ввиду рождественских морозов. Иногда узнавали стороной, что Володя отдал новую пару, и теперь у него только старый-престарый пиджак, в котором выйти невозможно, в кармане же двадцать копеек».
«Раз он пришел в полное отчаяние, потому что ему показалось, что он потерял вязаный розовый башмачок с ноги ребенка женщины, которую любил и от которой получил его в подарок. Башмачок этот, как талисман, носил он в боковом карманчике жилета у груди, изредка вынимал, любуясь, смотрел на него с улыбкой, иногда целовал и опять бережно прятал. И вот вдруг хватается за грудь — в карманчике пусто: драгоценный башмачок исчез.
— Мама! Надежда! Да что же это такое? Пропал мой башмачок!
— Ищи хорошенько!
Брат опять бросается в свою комнату, но через несколько минут возвращается, держа в приподнятой правой руке бережно, двумя пальцами, розовый башмачок.
— Ну, что ж ты так держишь? Чего доброго, пыль сядет: целуй скорей и прячь на сердце».
Вот в чем беда: по чьей вине Бог весть, но в обстановке современной жизни христианская святость иногда смахивает на донкихотство.
«— А отчасти немного есть тут и дури, уж признайся, — посмеиваясь, заметила Анна Кузьминишна по поводу розового башмачка.
Брат засмеялся.
— Может быть, ваша проницательность и тут видит верно; может быть. Во всяком случае, эта дурь мне настолько прирождена, а для других безобидна, что я имею намерение остаться ей верным».
Эта именно «безобидная дурь», безумная влюбленность в прошлое, реставрация, искусственное восстановление павшего, т. е., в последнем счете, реакция, пусть невинная, даже святая, но все-таки подлинная реакция, и есть сущность всякого донкихотства, которое в русском переводе значит славянофильство. И в этом смысле Вл. Соловьев тайный славянофил, несмотря на всю свою явную полемику с крайним правым крылом славянофильства.
Он имел одно виденье, Непостижное уму… Воротясь в свой замок дальний, Жил он, строго заключен. Все безмолвный, все печальный, Как безумец, умер он.«Розовый башмачок» — безнадежная романтика прошлого, желание сделать прошлое не только настоящим, но и будущим, таково безумие этого печального рыцаря Прекрасной Дамы. «Я имею намерение остаться ей верным», — решил он с гордым отчаянием, опустил забрало и «с лица стальной решетки ни пред кем не подымал».
И вот иногда спрашиваешь себя: вся его религиозно-философская система не отвлеченное ли созерцание вместо жизненного действия, не бесплотный ли символ вместо реального воплощения — не «розовый ли башмачок»?
Дьявольским соблазном или детской шалостью показался бы ему боевой клич анархиста Бакунина: «Разрушать значит созидать». Для Вл. Соловьева как раз наоборот: созидать значит разрушать. Все что угодно, только не разрушать!
Не разрушать и не созидать, а сохранять и поддерживать, подпирать валящееся здание, чинить и замазывать трещины — таков его глубочайший инстинкт. Да будет то, чего не было, — этого ни за что не скажет он, а говорит: да будет снова то, что было. Былое надежно; будущее страшно. Страх будущего — «антихристов страх». «Через двести — триста лет какая будет жизнь на земле!» — воркуют чеховские герои. «Через двести — триста лет монголы завоюют Европу, начнется всемирная резня, придет антихрист, и наступит конец мира, — каркает Вл. Соловьев. — Хорошо-хорошо, а быть худу!»
Остановить, запрудить всемирный поток разрушения — такова его заветная цель. Вот для чего нужно ему возрождение, т. е. все-таки утверждение старой церковности, старой государственности, старой нравственности, старого быта, причем возрождение, обновление тут значит не замена старого новым, а лишь новый вид, перелицовка старого. Он — консерватор в высшем смысле этого слова, может быть, вообще единственный консерватор в современной, революционной России и как всякий консерватор — либерал, но отнюдь не революционер. Стихия революционная чужда ему навеки и безнадежно, если не как человеку-деятелю, то как философу-созерцателю. Непрерывность вместо прерыва, преобразование вместо переворота, эволюция вместо революции — такова его метафизическая сущность. А последняя и единственная революция для него — переворот уже не исторический, а космический — кончина мира.
Царь, пророк, священник — в этих трех членах «теократии» пытается он восстановить, реставрировать три исполинские развалины средневековья: вселенскую монархию — предел самодержавия, вселенскую Церковь — предел православия, вселенскую догматику — предел схоластики, схоластики опять-таки в высшем смысле этого слова, ибо средневековая схоластика и есть не что иное, как величайшая, хотя и бесплодная попытка всеобъемлющего религиозно-философского синтеза. Да, исполинская реставрация исполинских развалин, напоминающая волшебное и мимолетное зодчество из пурпура и золота, которое иногда возникает в облаках под лучами заходящего солнца.
Лучи заходящего солнца, лампадный свет вечерний любил он больше, чем дневной и утренний. Свете тихий, святыя славы… Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний… — вот возвратный напев, Leit-motiv всей соловьевской симфонии.
Сознательно борется он с московским славянофильством, этим русским продолжением Византии; но недаром он потомок старозаветного рода священников, сын русского историка: лицо сына, это столь не похожее на современные лица, иконописное лицо древнерусского или византийского святого, как будто вынырнуло из той древности, которую так усердно изучал отец; яблочко от яблони недалеко падает. Как будто благочестивая, московско-византийская старина перед тем, чтобы отойти в вечность, пожелала воплотиться в современном человеческом образе, и притом не где-нибудь в затишье монашеской кельи, в темных глубинах простонародья, а на кипящей и сверкающей поверхности жизни, среди той именно «безбожной» интеллигенции, которая с наибольшей яркостью отрекается от этой старины. В последний раз былое противопоставило себя настоящему и будущему, показало себя живое — живым: смотрите, вот кто я. Так иногда сквозь грозовые тучи заходящее солнце кидает последний луч.
* * *
Гностицизм и прагматизм, созерцательность и действенность — два вечно сталкивающиеся и борющиеся потока религиозной стихии. Хотя в последнем пределе религиозное созерцание и религиозное действие сливаются в одно, но до этого слияния предстоит им исчерпать все мыслимые противоречия. Уклон гностический, созерцательный есть по преимуществу уклон всего исторического и в особенности восточного христианства. Новому религиозному движению, которое, начавшись в западном христианстве, по всей вероятности, выйдет рано или поздно за пределы христианства, свойствен противоположный уклон — прагматический, действенный. Главное утверждение современного религиозного прагматизма заключается в том, что существо догмата иррационально, с человеческим разумом несоизмеримо, что оно открывается не разуму, а воле, не ведению, а деланию. Не что-то знать, а чего-то хотеть и что-то делать нужно для того, чтобы постигнуть существо догмата. Догмат есть указание не на то, как надо мыслить о Боге, а на то, как надо жить в Боге.[23] Таким образом устраняется в прагматизме главный источник средневековой и современной схоластики — неразрешимый спор разума и веры, знания и откровения, философии и религии. По движению католических «модернистов» (от Ньюмана до Леруа и Луази) можно судить о том, до какой степени современный религиозный прагматизм (философская основа модернизма) по отношению к историческому христианству революционен. В такой же мере гностицизм если не реакционен, то консервативен. В лучшем случае гностицизм есть начало религиозной реформации; прагматизм — начало религиозной революции. Римская церковь со свойственной ей чуткостью догадалась об этом и в знаменитой папской энциклике о модернистах совершенно точно определила прагматизм как начало, угрожающее церкви опаснейшей из всех революций.
Вл. Соловьев — гностик, может быть, последний великий гностик всего христианства. Разумеется, и он утверждает религиозную действенность, прагматизм, что, впрочем, неизбежно для всякой христианской философии. Но у Вл. Соловьева созерцание первоначальное действия; богоделание вытекает у него из богопознания, а не богопознание из богоделания, как у прагматиков. Для него сущность догмата открывается не воле сначала и потом разуму, а наоборот, сначала разуму, потом воле. Он — рационалист, как всякий гностик. Не Божественное воление, а Божественное ведение для него религия прежде всего.
Но это именно преобладание гнозиса обращает его к прошлому, отдаляет от настоящего и будущего, от самого жизненного движения нового христианства, или, может быть, того, что за христианством, — от революционного прагматизма. Гностицизм и есть начало соловьевской реставрации, искусственного воскрешения старины в теократических грезах о вселенском самодержавии и вселенском православии под верховным водительством вселенской догматики — или схоластики, ибо гностицизм, в противоположность прагматизму, утверждает главный источник схоластики — неразрешимый спор человеческого разума и Божественного откровения.
Католические модернисты, сами того не желая, в силу революционной диалектики, которая заключена в прагматизме, оказались революционерами. Вл. Соловьев, может быть, тоже сам того не желая, в силу реакционной или, по крайней мере, консервативной диалектики, заключенной в гностицизме, оказался если не реакционером, то консерватором.
Не только революция, но и реформация не могли бы вспыхнуть от соловьевского гнозиса, как самый плохенький пожар от самого великолепного, вечернего зарева. Реальное действие соловьевской критики на церковь поразительно ничтожно: критика эта для православия, как жало пчелы для гиппопотамовой кожи: православие, можно сказать, и не почесалось. Л. Толстого все-таки отлучили от церкви. Вл. Соловьева не отлучали и не благословляли, а просто не заметили, как не заметили Чаадаева, Гоголя, Хомякова, Конст. Леонтьева, Достоевского.
Воистину страшно это церковное одиночество великого учителя церкви.
«Мы жили тогда в одном из переулков Арбата, — вспоминает сестра. — Окна приходились низко над землей. Пасха была поздняя, окна выставлены; вхожу в столовую и вижу: окно настежь, брат сидит на нем спиной к комнате, спустив ноги за окно на тротуар, и христосуется с грязным, пьяным нищим. А кругом собрались извозчики, и смеялись, и восклицали умиленно: „Ну, что же это за барин за такой задушевный! Что это за Владимир Сергеевич!“»
У него множество внешних светских друзей, или так называемых «приятелей», но внутреннего религиозного общения — ни с кем. Некому сказать: Христос воскрес — кроме уличного нищего. Он сам в церкви как этот нищий. Потому-то, может быть, он «почти никогда не ходил в церковь».
«Громил безверие верующих, прославлял неверующих — тех беззаконников, которые, попирая законы человеческие, блюдут законы Бога», — вспоминает сестра одну из его публичных лекций и приводит отзывы слушателей:
«— Пророк! Пророк! Горел весь сам, как говорил; так и жег каждым словом. А лицо-то, что за красота! Да за одним таким лицом и голосом пойдешь на край света.
— Что он, с ума сошел? Хорош верующий! За атеистов и всех подобных заступается… Против правительства, против законного порядка… Юродствует, оригинальничает, популярности среди этих красных ищет… Чересчур смел, надо бы ему рот закрыть…
И закрыли».
Или сам закрыл — онемел.
И среди этой немоты порою жуткий смех:
«Отчего говорят чернильница, а не песочница? Отчего говорят роза, а не пион?»
«Тяжела работа Господня!» — говорил он, умирая, и просил, чтобы ему не давали впадать в беспамятство, потому что «нужно молиться за евреев», может быть, и за тех «безбожников», которые, не зная имени Господа, совершают «тяжелую работу Господню».
Тут уже другое, не явное, а тайное лицо его; не прошлое, а будущее, не реставрация, а революция, ибо что же, как не революция, это утверждение, будто бы Христос не в церкви, среди верующих, а в миру, среди безбожников. Одно такое утверждение не грозит ли разрушить всю систему отвлеченного гнозиса, как землетрясение разрушило свод Святой Софии?
Но об этой революции говорит уже не философ десятью томами, а немыми знаками немой пророк.
Будем надеяться, что тайну вещей немоты его разгадает когда-нибудь более внимательная критика, а пока согласимся, что если Вл. Соловьев действительно предтеча Новой Церкви, то не тем, что он говорил и жил, как мудрец, а тем, что молчал и «умер, как безумец».
Все безмолвный, все печальный, Как безумец, умер он.Вот за что мы любим его, вот чем он близок нам, во всяком случае, ближе, чем остроумный и красноречивый философ, — этот безумный и безмолвный пророк.
ХРИСТИАНСТВО И КЕСАРИАНСТВО
Христианство — от Христа, кесарианство — от кесаря. Со времени императора Константина, когда впервые кесарю воздали Божие, христианство подменилось кесарианством.
Как трудно отличить в настоящее время одно от другого — увидели мы воочию на миссионерском съезде.
Религиозная сущность кесарианства заключается в утверждении, что Христос, глава церкви невидимый, бессилен защитить ее мечом духовным и что сделать это может только видимый глава, кесарь, мечом железным — государственным насилием. Утверждение это и провозглашено на съезде с небывалою доселе в русской церкви обнаженностью.
Не предел ли такой обнаженности, невинного, почти «святого» бесстыдства — sancta simplicitas — хотя бы в этих словах «Русского знамени»,[24] которые звучат послушным отголоском съезда: «Государство ограждало церковь от всяких на нее покушений. 17 же апреля это ограждение православия признало излишним. Церковь, к великому ужасу верующих, поставлена не выше жидовского талмуда, мусульманства и язычества. Результаты сказались быстро: как только государство перестало ограждать достоинство православной церкви — жиды, мусульмане, язычники, протестанты и католики ополчились на нее». Ополчились и одолели.
«Как только государство перестало ограждать церковь» — значит, как только государство отняло помочи, на которых вело церковь, так она пала, подобно расслабленному. Другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь. — Ведите меня куда угодно, только поддерживайте, а то я упаду и уже не встану, — отвечает будто бы церковь. Кажется, нельзя себе представить более откровенного и кощунственного признания в том, что «паралич церкви» желателен, что христианство и есть кесарианство.
«Колокол»[25] уверяет, что наша «левая печать не преминула разгласить о тех раздорах, какие якобы происходят на миссионерском съезде, причем обер-прокурора св. синода и высокопреосвященного Антония стараются выставить чуть ли не солидарным с пресловутою думскою комиссией, желающей низвести православную церковь на степень магометанства и еврейства».
Вот что называется валить с больной головы на здоровую: не левая, а правая печать с «Русским знаменем» во главе, как мы это сейчас видели из приведенной цитаты, утверждает, что законом 17 апреля православие «низводится на степень магометанства и еврейства». Обер-прокурор и митрополит Антоний, заявив себя сторонниками этого закона, тем самым, по мнению опять-таки не левой, а правой печати, заявили желание «низвести православие на степень магометанства и еврейства». Нет, шила в мешке не утаишь: сколько бы «Колокол» ни замазывал, зияющий раскол действительно совершился, — положение съезда оказалось революционным, разумеется, в смысле обратной, «черной революции».
«Колокол» отлично понимает, что никакие законы о веротерпимости, никакие слова «о мире и любви» не могут помешать действительному «торжеству православия» и что в бараний рог свернуть в России можно кого угодно, при каких угодно законах, была бы на то воля вышняя. Все это «Колокол» понимает. Но в том-то и дело, что он — реалист, а остальные участники съезда — романтики. «Золотая середина не ко времени, — восклицает „Русское знамя“, — не к тому боевому напряженному времени, которое мы переживаем, не к тому времени, когда душный воздух нашей государственной жизни полон электричества и далекие зарницы напоминают о грозе». Не значит ли это — «долой реакцию, да здравствует революция»?
И «Русское знамя» уже мечтает о вожде этой революции, великом государственном деятеле, который «освободил бы связанного в клетке русского орла и дал бы ему вновь расправить могучие крылья на вольном просторе».
Это ли не романтика? Если довести ее до конца, то получится не более не менее как «новый Цезарь». Кесарианство в религии, цезаризм в политике — таковы два крыла надвигающейся «грозы».
Ну конечно, не так страшен черт, как его малюют: религиозная революция в России, хотя бы обратная, «черная», пока одинаково невообразима как для друзей, так и для врагов русского правительства. Не следует, однако, забывать, что именно в нашей, столь фантастической действительности иногда и невообразимое становится действительным. Кажется, это уже отчасти происходит на киевском съезде, хотя бы в принятом ходатайстве о принудительном отчуждении польских земель в Западном крае ad majorem Dei Gloriam,[26] с крестными ходами и колокольным звоном, как именно и сказано в постановлении съезда; наряду с экспроприацией земель рекомендуются «возможно частые богослужения со звоном и торжественные крестные ходы». Пусть это бред, но не пробует ли осуществиться в этом бреду неимоверная мечта?
В заключение съезда председатель, архиепископ Антоний Волынский, заявил, что церковный собор возможен только при «восстановлении патриаршества»: самодержавие, которое, отменив патриаршество, обезглавило церковь, имеет будто бы не только право, но и призвание возглавить ее снова. Вот и другая сторона той же мечты: будущий патриарх Никон, русский папа, не есть ли единовременно и русский цезарь, тот таинственный избранник, который, по предвещанию «Русского знамени», блеснет как молния из надвинувшейся «грозы» и «освободит связанного в клетке орла»?
Повторяю, не только левым, но и правым, сохранившим остаток трезвости, все это кажется каким-то привидением, встающим из гроба при свете дня, которое должно, конечно, рассеяться от одной скептической улыбки, от одного напоминания о законе 17 апреля. Вот для чего и нужен этот закон: чтобы сделать навсегда невозможным явление таких романтических призраков. Недаром же киевский митрополит Флавиан написал следующее «прекрасное изречение»: «Свобода совести есть краеугольный камень всякого цивилизованного общества». Это, впрочем, с одной стороны, а с другой: знаменитый канонист, проф. Павлов, «твердо стоя на исторической почве, заявляет»: «С чисто церковной точки зрения нет и не может быть веротерпимости».
Где же правда? Простое ли это столкновение двух политических партий или неразрешимая антиномия двух религиозных истин?
«Женщина говорит Ему: Господи! Вижу, что Ты пророк.
Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме.
Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу, но в Духе и Истине».
Ибо нет иного свидетельства об истине, как свободное признание духа, всякое же насильственное ограждение истины, а следовательно, и «государственное ограждение церкви», есть ложь. Для того и пришел Христос, чтобы ниспровергнуть эту ложь и освободить религиозную совесть человечества последней свободой. «Если Сын освободит нас, то истинно свободны будете». Слово это понятно лишь в узком личном смысле — христианской «свободы от греха», но не имеет ли оно и более широкого, пока еще в христианстве не раскрытого, смысла общественного?
О, конечно, перед этой свободой Христовой, то, что сейчас разумеется под «веротерпимостью», «свободой совести», — все равно что бледная полоска зари перед «солнцем, сияющим в силе своей». Но это все-таки заря того самого солнца: в человеческой правде о свободе совести заключено предчувствие той самой правды, которой учил Христос, за которую Он и был распят, ибо действительно Он распят был за «свободу совести» в этом предельном высшем смысле. И доныне во всяком насилии над религиозной свободой повторяется распятие Христа.
Да, свобода совести есть краеугольный камень не «цивилизованного общества», как неточно выразился митрополит Флавиан, а общества христианского или, вернее, Христова — истинной Церкви.
Но все это опять-таки с одной стороны, а с другой — «нет и не может быть веротерпимости». Именно здесь, в свободе Христовой, как правде не только личной, но и общественной, христианство не исполнило завета Христа: свобода подменялась насилием, церковь — государством, христианство — кесарианством. Здесь между Христом и христианством прошла какая-то бездонная трещина, которую очень легко прикрыть словами о «мире и любви», но только что «дело доходит до дела», трещина вновь зияет, бездонная.
Как будто все христианские инквизиторы не знали, что такое «мир и любовь». Знали, да еще как. Но любовь — любовью, а костры — кострами. Торквемада, говорят, был «кротчайший из людей на земле». И мухи не обидел бы. А еретиков жег. Ради чего? Да вот именно ради любви: предавал тела «огню временному», чтобы спасти души от вечного огня. Эта-то «кесарианская», но уже, конечно, не христианская, не Христова мысль о принудительном спасении и есть главная мысль всех инквизиций, в том числе и нашей русской. Войти в эту психологию мы, «дети века сего», не умеем. Но в том-то и дело, что тут столкновения как бы двух вихрей в смерче, двух несоизмеримых религиозных психологий, может быть, даже двух «заветов», двух «откровений». Тут или — или. Если Торквемада — слуга Божий, то мы — защитники веротерпимости, слуги дьявола.
«С чисто церковной точки зрения», почему о. Иоанн Кронштадтский, всенародно молящийся о смерти Л. Толстого, менее прав, чем епископ Лев Катанский, который собственной епитрахилью, как веревкой, связал Илиодора-волхва и возвел на костер?
Недавно в суде слушалось дело по обвинению одного церковного старосты в том, что он не допустил в церковь на свадьбу еврея, заявив, что «лица иудейского вероисповедания в православную церковь не допускаются». Судья приговорил старосту к аресту на две недели. «Русское знамя» приводит по этому поводу одиннадцатое правило Трулльского вселенского собора:
«Никто из числящихся в священном чине или мирян не должен есть опресноков у иудеев, или входить с ними в содружество, или принимать от них лекарство, или мыться с ними в бане. Если кто отважится сие делать, то если он клирик, да будет извержен, а если мирянин, да будет отлучен» (Деяния Вселен. соб., т. VI).
«Правило это каноническое, — справедливо замечает „Русское знамя“, — и должно исполняться под угрозой наложенной в нем кары. Мог ли церковный староста пустить в православный храм жида, когда по канону положено отлучение от церкви тем, кто входит с жидами в содружество или даже просто моется с ними в бане? А городской судья арестует церковного старосту за исполнение канонов церкви».
«Вчера мы привели правило Трулльского вселенского собора, — продолжает газета, — правило, запрещающее под страхом отлучения от церкви получать лекарства православным от лиц иудейского племени. Оказывается, в Петербурге существуют следующие содержатели аптек: Ушер Гиндес, Хоптон-Гирш Сортан, Леви Залькиндсон, Зельман Розенбаум, Гирш Ниссель Мейсель. Разрешение торговать в столице лекарствами иудеям есть не только нарушение канонов православной церкви, но и полное пренебрежение ими — неслыханное надругательство над православною церковью», — опять-таки вполне справедливо заключает «Русское знамя».
Ну, так вот, не угодно ли: указом от 17 апреля отменяется ли правило вселенских соборов, неотмененное, неотменимое, потому что отменить его нельзя иначе, как на новом вселенском соборе, который невозможен после разделения церквей?
Что же делать? С одной стороны — закон государственный, воля человеческая, с другой — воля Божия. Не ясно ли, что воля человеческая должна подчиниться воле Божьей, признать, что опять-таки «с чисто церковной точки зрения веротерпимости нет и быть не может»?
Да и какая же тут веротерпимость, когда чуть ли не все христианское человечество должно быть отлучено от церкви, ибо кто же нынче, кроме жалкой горсти изуверов, не «моется в бане с евреями», если не в прямом, то в переносном смысле? Чтобы прекратить эту баню, нужно испепелить всю культуру дотла.
А ведь нет никакого сомнения, что правило о бане метафизически связано с молитвой о. Иоанна Кронштадтского о смерти Л. Толстого и с епитрахилью Льва Катанского. Все это — крепко сцепленные кольца одной кольчуги; выньте кольцо — кольчуга рассыплется. Тут опять-таки: или — или. Нужно все принять или все отвергнуть. Tertium non datur.[27] Моется ли кто в бане с евреями или провозглашает веротерпимость — в обоих случаях происходит одинаковое «надругательство над церковью».
«Вы приводите церковные каноны и постановления. Но куда же вы поставили Христа Господа?» — воскликнул на съезде один священник, протоиерей Холмской епархии о. Кач, чье имя заслуживает вечной памяти за этот мужественный вопрос. «Куда же вы поставили Христа Господа?» — значит: где же в христианстве Христос?
Святые не слышат этого вопроса, а мытари и грешники слышат; святые не видят, а мытари и грешники видят, что нет Христа ни в молитве о. Иоанна Кронштадтского о смерти Л. Толстого, ни в епитрахили, как веревке палача; святые не знают, а мытари и грешники знают, что запрещение мыться в бане с евреями, так же, как и все вообще «христианское» омерзение к «жидам», вытекает не из Евангелия, а из того же еврейства, только вывернутого наизнанку, т. е. из подлинного «жидовства»; ибо воистину нет «жида» подлиннее, чем «ожидовелый христианин». Святые не знают, кто отменил запрещение мыться с евреями; а мытари и грешники знают, что это сделал сам Христос. В каких церквах? На каких соборах? Не в церквах и не на соборах, не на горе сей и не в Иерусалиме, а в Духе и Истине того вселенского просвещения, о котором сказано: Свет Христов просвещает всех — и которое есть преддверие истинной Церкви Христовой.
Вот почему те, кто, участвуя в этом просвещении, провозглашают свободу совести, хотя иногда и не знают имени Христа, все-таки служат Христу.
А кто эту свободу отрицает, хотя и исповедует Христа на словах, на деле его распинает.
Мы готовы согласиться с «Русским знаменем», что быть «грозе», ибо ответить на вопрос: «Куда же вы поставили Христа Господа?» — могут лишь голоса Божиих громов. Да, быть «грозе». Только во имя чего?
О, Русь! в предвиденье высоком Ты мыслью гордой занята, Каким же хочешь быть Востоком — Востоком Ксеркса иль Христа?[28]В огне предстоящей грозы и должен решиться выбор между Ксерксом и Христом, между кесарианством и христианством.
ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ЦЕРКОВЬ
«Когда нас преследуют за то, что мы христиане, за то, что мы проповедуем Христа распятого, тогда душа может или пасть, или просветиться светом Божественной истины и возревновать о Господе».
Кто это говорит? Мученики первых веков или современные исповедники, томящиеся в Суздальской крепости, или те духоборы, чья пролитая кровь окрасила траву, на которой они стояли, или другие жертвы миссионерского усердия? Нет, это говорит архиепископ Антоний Волынский о себе и о прочих участниках киевского съезда. Какое же орудие пытки терзает их члены, на каком огне они горят? Этот огонь, это орудие пытки — закон о веротерпимости.
Мы думали, что они живут припеваючи. А они вон как страдают: их гонят за Христа Распятого, защитите, помогите!
Но кто же гонит? Или не гнать других — значит самому быть гонимым, не насиловать — значит терпеть насилие, не мучить — значит быть мучеником?
Представьте себе В. Скворцова[29] «с красным галстухом» и с терновым венком. Удивительное зрелище! Но еще удивительнее то, что ведь это, пожалуй, и вправду так: В. М. Скворцов чувствует себя «мучеником», хотя бы, например, в деле со Л. Толстым: помилуйте, сам человек в петлю просится. А тут закон о веротерпимости. И Скворцову остается только «просвещаться светом Божественной истины». Глаз видит, а зуб неймет. Это ли не венец мученический?
Но, должно быть, по нашей жестоковыйности нам все это кажется каким-то неистовым баловством; мало с них, видите ли, содействия полицейских участков — захотелось еще венцов мученических.
Мысли эти пришли мне в голову по поводу толстовского «антиюбилея», о котором зашла речь на миссионерском съезде.
Съезд постановил: «Ходатайствовать пред св. синодом об обращении к чадам православной церкви с увещательным посланием, дабы православные люди не принимали никакого участия в чествовании еретика и хулителя догматов веры. Просить св. синод сделать распоряжение о том, чтобы в городах, где предполагается особо торжественное чествование Толстого, в воскресный день, предшествующий 28 августа, после литургии, был отслужен молебен, по чину о вразумлении заблудших, перед которым прочесть увещательное послание св. синода».
Кто-то из «литературных мерзавцев», как выражается архиепископ Антоний, усомнился, впущено ли это ходатайство «духом любви Христовой».
«Колоссальной нелепостью, — отвечает „Колокол“, — является обвинение в нарушении духа Христовой любви отношением к чествованию графа Л. Толстого. Для Церкви Христовой „несть иудей, еллин, раб и свобод“. Для нее не должно быть ни графа, ни простеца, ни гения, ни „препростого“ умом; для нее есть только христианин, и только с этой точки зрения она и может судить графа Толстого. То, что он великий романист, что он пользуется всемирною славою, — это в область суждения церкви не входит, она знает лишь, что он, как и злейшие еретики, отвергает божество Господа Иисуса Христа, отвергает искупление, богохульно ругается над таинством св. Евхаристии, — а отсюда ясно, что члены православной церкви участвовать в чествовании врага Церкви Христовой не могут. Кажется, это настолько ясно, что не требует решительно никаких доказательств».
Чего же яснее? Дважды два четыре, или счет мелочной лавочки. Надо быть справедливым: в чем другом, а в той огненной буре, в том священном безумии, которые пусть грозят иногда фанатизмом, изуверством, но без которых все-таки нет религии, нашу современную христианскую «миссию» заподозрить нельзя. Ибо дважды два четыре, или счет мелочной лавочки, — ведь это еще не религия, а только начальная арифметика, мертвый звук мертвых костяшек; во всяком случае, этим гор не сдвинешь.
Без всякой иронии хочется иногда воскликнуть: побольше бы им изуверства, что ли! Хоть в изуверстве, может быть, отразились бы искаженные черты той великой веры, которая была же когда-то и у христиан, за которую и они шли на муку и смерть. Ну, а за дважды два четыре и счет мелочной лавочки не пойдешь на муку сам — разве только других замучаешь. Да, хотя бы изуверская, но все-таки подлинная ревность помогла бы нам отличить, наконец, современных «апостолов» от синодальных и полицейских чиновников. А то какие мы ни на есть «литературные мерзавцы», но и нам иногда смотреть тошно, как самый огромный из вулканов превращают в какую-то безопасно коптящую курилку, самое пьяное, играющее из вин — в какую-то выдохшую зельтерскую воду.
Но в том-то и горе, что подлинной ревности в предстоящем церковном «антиюбилее» Л. Толстого нет ни капельки.
В самом деле, представьте себе, что праздник такого писателя, как Л. Толстой, происходит не в «богоносной» России, а где-нибудь в «безбожной» Франции. Если бы там, где совершилось отделение церкви от государства, на этом всенародном и всемирном торжестве раздался обличающий голос церкви, то, может быть, он вызвал бы бурю негодования, обвинения в изуверской ревности, но никто не усомнился бы в правдивости этого голоса. Тут в борьбе двух идей победа одной из них определилась бы не внешним воздействием, а внутренней силой самой идеи.
Не то у нас, в России, где независимо от церкви, по распоряжению светских властей признан юбилей Толстого «нежелательным». Убедимся ли мы или не убедимся синодальным увещанием, ничто от этого не изменится. Губернаторские циркуляры делают это увещание излишнею роскошью. К чему убеждение, когда есть принуждение? К чему слово, когда есть сила?
Да и чего, собственно, можно достигнуть подобными увещаниями? В лучшем случае — недоумения, в худшем — то же беспросветное религиозное невежество, которое в лице «иоаннитов» объявило о. Иоанна Кронштадтского «Христом», объявит Толстого «антихристом», и раздастся вопль: «Бей Толстого! Бей антихриста!» И пусть даже все обойдется благополучно, пусть и на этот раз мечта о «намыленной веревке» не исполнится, но все-таки повеет в воздухе этим ужасом — и кому будет польза?
Толстой отлучен от церкви как «еретик», а Толстой как великий писатель «в область суждений церкви не входит», потому что «для церкви не должно быть гения». Справедливо ли? Справедливо. Благодатно ли? Нет, не благодатно. Ведь именно там, где справедливость кончается, — благодать начинается; благодать есть то, что сверх закона, сверх справедливости; а где только закон, там еще нет благодати, нет христианства, потому что христианство есть религия не закона, а благодати. По закону мы все осуждены, по благодати оправданы Credo quia absurdum.[30] Благодатно потому, что беззаконно, — вот о чем забыли наши церковные позитивисты, ибо воистину нет позитивистов более позитивных, чем те, кто в церкви.
«Для церкви не должно быть гения»? Но что такое гений, как не дар Божий. Пусть носитель этого дара исказил его, употребил во зло, гений все же остается гением, и то, что в нем от Бога, остается Божиим: казалось бы, в таком искаженном гении тем более надлежало церкви отделить добро от зла, истину от лжи, пшеницу от плевел. А сжигать плевелы вместе с пшеницей, выбрасывать гения, как никуда не годную ветошь — хоть вы, мол, и гений, да нам наплевать, Бог дал, черт взял, — ежели это сообразно с человеческой справедливостью, то благодати Божией противно.
И почему бы не сделать того же, что делают с гением Л. Толстого, со всеми прочими мировыми гениями? Почему бы не решить на том же основании, как о Л. Толстом, что вся литература, искусство, наука, общественность — вся культура — «в область суждений церкви не входит» и что все то надо вымести помелом, как сор. Но ведь ежели это действительно так, то правы злейшие враги христианства, подлинные «антихристы», которые утверждают, что принять Христа нельзя иначе, как прокляв мир, и принять мир иначе, как прокляв Христа.
Религиозного учения Л. Толстого я не разделяю; христианские догматы считаю истиной. Но вместе с тем полагаю, что не все христианство в догматах. Христианство больше, чем догматы. Да и существо самого догмата открывается не столько ведению, сколько деланию. Можно ведать не делая и делать не ведая.
Л. Толстой делает не ведая. Христа Сына Божиего не ведает, но делает то, чего нельзя делать, или хочет того, чего нельзя хотеть, если Христос не Сын Божий. Не верит, но любит; умом отрицает, сердцем утверждает.
В моем исследовании «Л. Толстой и Достоевский»[31] я старался показать, что религиозное сознание Л. Толстого скорее буддийское, чем христианское, и что в художественном творчестве он «великий язычник», в самом глубоком религиозном смысле этого слова. Но религиозное язычество есть не что иное, как непросветленное, несознанное христианство, непройденный путь ко Христу, откровение Отца, которое предшествует откровению Сына, Ветхий Завет, как чаяние Нового; религиозное язычество на своих предельных высших точках есть «христианство до Христа». В этом-то смысле великие учители церкви — Юстин Философ и Климент Александрийский — видели в эллинской красоте и мудрости «восходящую к нему лестницу», «Пропилеи к христианству». В этом же смысле Павел указал афинянам на жертвенник Неведомому Богу, и «поклонение волхвов» есть поклонение Христу дохристианских веков. Но того же, что о древнем, нельзя ли сказать и о новом язычестве? Не относится ли это новое язычество к вечному христианству, как остальная темная часть лунного диска к светлому серпу во время затмения: затмение кончается, серп растет, и темная часть светлеет, — язычество становится христианством. Именно сейчас в России больше, чем где-либо, таких христиан-язычников, людей, лица Христова еще не видящих, но уже за край одежды его ухватившихся. И не обратит ли к ним лица своего, оттолкнет ли их он, сказавший: приходящего ко Мне не изгоню.
Кажется, к этим именно христианам-язычникам, «христианам до Христа» принадлежит и Л. Толстой, если не как религиозный учитель, то как великий художник.
На иконостасах древнейших русских церквей рядом со святыми и мучениками находятся изображения сибилл, мудрецов и поэтов языческой древности, которые, не ведая имени Господа, чаяли его пришествия. Может быть, в церкви вселенской к этому сонму древних предтеч прибавится и Л. Толстой. Ведь и он, как они, очами не видя Христа, сердцем к нему прикоснулся больше многих видящих.
Но для того чтобы все это признать и выявить в сознании церкви, нужно нечто большее, чем справедливость, нужна благодать, нужно чудо прозрения. Это-то чудо и не совершилось в отношении православной церкви к Л. Толстому. А вот в «безбожной» русской интеллигенции, так же как во всем человечестве, которое празднует юбилей Л. Толстого, это чудо совершается или готово совершиться. Зрячие слепнут, прозревают слепые. Кто же из слепых не видит, что вселенский праздник Л. Толстого, «не христианина», есть все-таки праздник вселенского христианства? Кто же из нас не чувствует, что Л. Толстой, ныне величайший из людей на земле, признал бы все свое величие ничтожеством, упал бы к ногам Христа, — а так преклоняться перед Сыном Человеческим не значит ли исповедовать Сына Божьего?
Говорю не от себя одного, но и от многих, для которых, так же как для меня, вопрос о церкви есть вопрос вечного спасения или вечной погибели, для которых разрыв с церковью есть кровавый разрыв. И вот все-таки мы говорим: если вы отлучили от церкви Л. Толстого, то отлучите и нас всех, потому что мы с ним, а мы с ним потому, что верим, что с ним Христос.
ЛЕВ ТОЛСТОЙ И РЕВОЛЮЦИЯ
Праздник Толстого — единственный в веках и народах.
При жизни венчали доныне такой всемирной славой только героев меча и крови; а героев духа — славой посмертной, лавровым венцом поверх венца тернового. Путь к славе шел через кровь, свою или чужую.
Слава Толстого — первая всечеловеческая слава без крови, первый всечеловеческий праздник «мира и благоволения», первый канун того последнего праздника, когда скажет, наконец, все человечество: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».
Но пока нет еще на земле мира без брани, лавра без терна — и вся радость наша в том, что не мы вплели в венец Толстого этот терн. Не мы, а кто же? Он сам, или тот, кто создал его таким, как он есть.
Сегодня, в самый торжественный день славы своей, не чувствует ли он и самую острую боль от этого терна, среди всеобщей радости — безмерную грусть?
Кого мы венчаем? Художника прежде всего. Но он сам растоптал этот венец. И, может быть, его величие в том, что он это сделал: если бы не принес он своего искусства в жертву какой-то высшей святыне, то не был бы таким великим художником.
Но тут между ним и нами все же вечный спор: мы любим в нем то, что он в себе ненавидит, благословляем в нем то, что он в себе проклинает. Ведь если бы нам предстояло сделать окончательный выбор между Толстым-художником и Толстым-пророком, выбор наш оказался бы обратным тому, который сделал он сам: мы не усомнились бы пожертвовать пророком художнику, потому что в искусстве своем он для нас более вещий пророк, хотя, может быть, пророк иного, чем в своих пророчествах.
Но этого-то нам Толстой никогда и не простит, этой-то славы никогда и не примет от нас. И если он сейчас молчит, как будто соглашается, то не потому ли, что есть такой предел несогласия, за которым остается только молчать? Но кажется, вот-вот не выдержит — закричит:
«Не могу молчать! Лучше накиньте намыленную веревку на мою старую шею, чем делать то, что вы со мной делаете!»
Да, нечего себя обманывать: тут, в споре с ним о нем, мы никогда не сговоримся…
«Стоит только людям сговориться» — так начинает и кончает он все свои религиозные проповеди вот уже тридцать лет. Не почувствует ли, наконец, сегодня, что не так-то легко «сговориться людям» и что мешает этому не только злая человеческая воля, но и что-то большее, от людей независимое?
— Любите ли вы меня?
— Любим.
— Верите ли вы мне?
— Верим.
— Почему же не делаете того, что я вам говорю?
— Потому, что мы злы, глупы, слабы и еще почему-то, чего ты, всевидящий, не видишь, всезнающий, не знаешь и что не менее свято для нас, чем для тебя твоя святыня.
— Что же это такое? Скажите.
— Сколько раз говорили! Ты не понял тогда и теперь не поймешь. Да, может быть, и не надо. Будь таким, как есть, и не осуждай нас, не требуй того, чего мы дать не можем.
— Если не можете, я уйду от вас и останусь один.
«Мне надо одному самому жить и одному самому умереть», — признался он однажды, и это, кажется, самое правдивое из всех его признаний.
Сегодня, когда все человечество хочет быть с ним, не чувствует ли он еще безнадежнее свое одиночество? В лучезарной славе — как в лучезарной пустыне.
Не только в жизни, в религии, но и в искусстве Толстого есть уже начало этого одиночества.
Толстой, как художник, тайновидец плоти. Всей плоти, «всей твари, совокупно стенающей об избавлении», голоса перекликаются в его созданиях: в предсмертном бреду князя Андрея и в предсмертном шелесте срубленного дерева, в зверином реве Китти рождающей и в почти человеческом реве быка, которого режут на бойне, в тихом плаче новорожденного и в пушечном грохоте на поле Бородинской битвы, в протяжном крике на «у» Ивана Ильича и в музыке метели, которая сливается с музыкой страсти у Анны Карениной.
Через тайну плоти, тайну животно-стихийную, безликую, касается он и тайны духа, тайны человеческой личности, но именно касается только, не проникая в нее до конца, так что последняя Божеская правда о человеческой личности остается навеки ему недоступною. Подобно херувимам, тварям небесным, «лица свои закрывающим», вся земная тварь у Толстого закрывает лицо свое каким-то прозрачно-темным, звездно-ночным крылом.
Можно бы почти сказать, что во всех произведениях его — одна-единственная личность, один-единственный герой — он сам. От Николеньки до старца Акима, от Левина до Пьера Безухова, от Платона Каратаева до дяди Ерошки — все он же, Толстой. Лицо его отражается во всех этих лицах, как в зеркалах, разлагается на все эти лица, как белый луч солнца на многоцветную радугу.
Если же кто-либо из них дерзает утверждать себя самого как иную, отдельную, Толстому равную личность, то творец казнит непокорную тварь: Наполеон побеждается Кутузовым, купец Брехунов замерзает «раскорякою», как свиная туша, Анна Каренина бросается под поезд, Вронский погрязает в пошлости, Иван Ильич превращается заживо в «кусок разлагающегося мяса».
Так всякому, кто не хочет быть Толстым, Толстой беспощадно мстит. Мне отмщение, и Аз воздам, — Аз или Он, Тот, кто за мной, потому что я и Он — одно, я и Отец — одно. Как будто всем своим героям говорит он: ты — я или ничто. Исполински разросшееся, стихийно-близкое, зверебожеское «я» поглощает все, что «не-я» и что хочет быть иным, отдельным, на других непохожим, единственным человеческим «я». И в конце концов остается он один — «сам он живет и сам один умирает». Он во всех, он во всем. Он и все — Творец и тварь.
Вот отчего ненавидит он или, может быть, просто не видит Шекспира. Ведь главная тайна шекспировского гения есть тайна иной, чужой, отдельной, ни на кого не похожей, единственной человеческой личности. Все толстовские герои, вернее «антигерои», живут в нем, для него; все герои Шекспира живут помимо него, сами для себя. Без Толстого нет Левина, без Шекспира Гамлет есть; Толстой заслоняет Левина, Шекспир заслоняется Гамлетом. Толстой жертвует себе своими героями; Шекспир жертвует собою своим героям. Все движение Толстого центростремительное, от «не-я» к «я»; все движение Шекспира центробежное, от «я» к «не-я». Толстой берет; Шекспир дает. Толстой — наиболее мужественный, Шекспир — наиболее женственный, Толстой — самовластнейший, Шекспир — свободнейший из гениев. Толстой не понял Шекспира; Шекспир понял бы Толстого. В известном смысле, именно в религиозном откровении человеческой личности. Шекспир-язычник ближе ко Христу, чем Толстой-христианин.
И не то же ли, что о героях Шекспира, мог бы он сказать о Прометее Эсхила, о Фаусте Гете, о Каине Байрона, о Заратустре Ницше, — о всех высочайших точках европейского гения, который по преимуществу есть гений личности, самоутверждающейся, бунтующей, богоборческой во временных путях своих, но в вечных целях Богосыновней?
Побеждаемое отрицание как путь к побеждающему утверждению, язычество как путь к христианству, богоборчество как путь к Богосыновству — вот чего Толстой не видит — не видит и потому ненавидит, — отрицает всю культуру европейского, может быть, и не «христианского», но подлинно Христова человечества, ибо откровение Христа и есть откровение абсолютной личности.
И во вселенской культуре, так же как в своем художественном творчестве, Толстой отдаляет себя от всех, утверждает себя против всех, порывает связь со всеми. Говорит всем: вы или я, вы все или я один.
Самоутверждение личности, религиозное начало всякой революции, Толстым отрицаемое, заставило его отрицать и русскую революцию.
Но, кажется, именно здесь, в отношении к революции, достигнут им предел одиночества, дальше которого идти некуда: еще один шаг — и за ним срыв или перевал на противоположный склон горы, откуда видно уже восходящее солнце нового откровения.
Сделает ли Толстой этот шаг? Ежели сделает, то, кажется, опять-таки именно здесь, в своем отношении к русскому освобождению.
Сколько бы ни проклинал он — не сможет проклясть до конца, оно ему слишком родное: ведь вся его собственная жизнь — не что иное, как вечный внутренний бунт, вечная внутренняя революция. Не дóлжно ли, наконец, внутреннее слиться с внешним? Доныне бунтовал он за себя против всех; не начнет ли, наконец, бунта за всех против себя?
«Накиньте намыленную веревку на мою старую шею!» — что значит этот крик последнего одиночества, это обратное «моление о чаше»: да не идет чаша сия мимо меня?
Не задумается ли он, почему мимо него идет чаша, почему Голгофа для него в том, что нет Голгофы, крест для него в том, что нет креста? А для тех, кого он явно проклял и кому, может быть, втайне завидует, — тысячи крестов, тысячи «намыленных веревок»?
И задумавшись над этим, не поймет ли, наконец, что надо «не одному самому жить» и не «одному самому умереть», а со всеми, за всех?
Откровение абсолютной личности, откровение Христа совершается во всех делах человеческих; но сейчас, в России, больше, чем во всем остальном, — в русском освобождении, которое ведь и есть не что иное, как освобождение, восстановление абсолютной личности в порабощенном и поруганном лице народа. Сейчас, в России, или нигде, или в освобождении — Христос. Или русский народ не несет креста своего, или этот крест — освобождение.
И Толстой не один, а только со всем русским народом сможет поднять свой крест.
Что он это сделает, особенно хочется верить сегодня, когда против воли других, против воли своей оказался он лучезарным средоточием русской свободы. Он осудил ее, она оправдала его; он проклял ее, она благословляет его; он развенчал ее, она венчает его. Сегодня враги русской свободы — враги Толстого; друзья его — ее друзья. Сегодня он и она — одно. Хотят ли этого или не хотят, праздник Толстого — праздник русской революции.
Когда это поймет и он, тогда исполнится его желание: мы не только увенчаем его, как художника, но и пойдем за ним, как за пророком.
Как пророк русского и всемирного освобождения, пока живо человечество, будет жив Толстой.
1908
Примечания
1
Струве Петр Бернгардович (1870–1944) — русский политический деятель, философ, экономист.
(обратно)2
Томас Гоббс (1588–1679) — английский философ-материалист.
(обратно)3
Жан Жорес (1859–1914) — деятель французского и международного социалистического движения, борец против милитаризма, историк.
(обратно)4
Жорж Клемансо (1841–1929) — французский политический и государственный деятель, лидер радикалов в 80–90 гг. XIX в., премьер-министр Франции в 1906–1909 гг., 1917–1920 гг., ярый шовинист и милитарист.
(обратно)5
Антон Владимирович Карташев (1875–1960) — историк церкви, председатель религиозно-философского общества.
(обратно)6
Сергей Алексеевич Аскольдов (1871–1945) — русский философ-метафизик.
(обратно)7
Александр Иванович Введенский (1856–1925) — философ-идеалист, крупнейший представитель русского кантианства.
(обратно)8
Владимир Францевич Эрн (1882–1917) — религиозный мыслитель, историк философии, публицист.
(обратно)9
Валентин Павлович Свенцицкий (1882–1931) — русский религиозный философ и публицист.
(обратно)10
Василий Васильевич Розанов (1856–1919) — русский религиозный философ, критик и публицист.
(обратно)11
Иоанн Кронштадтский (1829–1908) — настоятель Андреевского собора в Кронштадте, монархист, один из основателей «Союза русского народа».
(обратно)12
Тютчев Ф. И. «Эти бедные селенья…», 1855.
(обратно)13
Евгений Николаевич Трубецкой (1863–1920) — русский религиозный философ, правовед и общественный деятель, друг Вл. Соловьева.
(обратно)14
«В обезьяньих лапах» (О Леониде Андрееве). — Примеч. авт.
(обратно)15
Здравствуй, революция, идущие на смерть приветствуют тебя! (лат.)
(обратно)16
Ежедневная газета, центральный орган партии кадетов. Выходила в Петербурге-Петрограде с 1906 по 1918 год.
(обратно)17
«Новое время» (1868–1917) — выходившая в Петербурге ежедневная газета, сначала либеральная, а с 1876 г., с переходом к А. С. Суворину, консервативная. С 1905 г. орган черносотенцев.
(обратно)18
«Минувшие годы» — выходивший в Петербурге в 1908 г. (12 номеров) ежемесячный журнал по истории общественного движения.
(обратно)19
Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) — русский религиозный философ, поэт, публицист, мистик.
(обратно)20
«Неделя» (1866–1901) — выходившая в Петербурге ежедневная литературно-политическая газета. С 1874 г. орган либеральных народников.
(обратно)21
Михаил Матвеевич Стасюлевич (1826–1911) — русский историк, журналист, общественный деятель, ред. — изд. журнала «Вестник Европы» (1866–1908).
(обратно)22
Недаром любящая память сестры так бесстрашно обнажает все эти слабости любимого. Пусть лицемерная добродетель осудит их; но для тех, кто действительно любит всего человека (а не любить всего значит совсем не любить), эти мимолетные тени не искажают и не омрачают светлого образа, а только приближают его к нам, делают более человечным и пленительным: если в малом он мал, как и все мы, то в великом велик, как никто. — Примеч. авт.
(обратно)23
С философским и психологическим обоснованием религиозного прагматизма русский читатель может подробнее ознакомиться по замечательной книге Вильяма Джемса (William Jems) «О религиозном опыте». — Примеч. авт.
(обратно)24
«Русское знамя» — ежедневная черносотенная газета, орган «Союза русского народа», выходила с 1905 по 1917 г. в Петербурге.
(обратно)25
«Колокол» — выходившая в Петербурге с 1905 по 1916 г. церковная, политическая и литературная газета.
(обратно)26
К вящей славе Божией (лат.).
(обратно)27
Третье не дано (лат.).
(обратно)28
Соловьев В. С. Ex Oriente Lux. 1890
(обратно)29
Скворцов В. М. — редактор журнала «Миссионерское обозрение».
(обратно)30
Верю, потому что невероятно (лат.).
(обратно)31
С тех пор я изменил во многом мое отношение к историческому христианству вообще и к православной церкви в частности, но не ко Л. Толстому. — Примеч. авт.
(обратно)

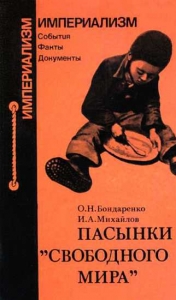

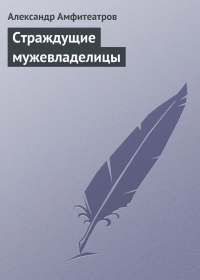
Комментарии к книге «В тихом омуте», Дмитрий Сергеевич Мережковский
Всего 0 комментариев