Марина Цветаева СТАТЬИ, ЭССЕ
ВОЛШЕБСТВО В СТИХАХ БРЮСОВА
Есть поэты — волшебники в каждой строчке. Их души — зеркала, собирающие все лунные лучи волшебства и отражающие только их. Не ищите в них ни пути, ни этапов, ни цели. Их муза с колыбели до гроба — принцесса и волшебница. Не к ним принадлежит Брюсов. У Брюсова много муз — муза в лавровом венке, в венце из терний, муза в латах и шлеме, муза «с поддельной красотой ланит», но есть и волшебница, есть и девушка-муза. Об этой редкой гостье в стихах Брюсова я и хочу рассказать.
Доказать волшебство — в лице ли, в голосе ли, в стихах ли оно — невозможно. Заглянуть в чьи-нибудь черты, прочтя какую-нибудь строчку, мы только можем воскликнуть: ах! только вздрогнуть от сознания, что волшебство здесь, перед нами. Кто докажет улыбку Джоконды?
Немного раз улыбнулась волшебница-муза на 600 страницах «Путей и перепутий». Но эти улыбки единственны и незабвенны.
Вот стихотворение «Идеал». Уже с первой строчки «Ее он увидел в магический час» — нас охватывает легкая дрожь, первая предвестница волшебства. «Магический час» — мы уже чувствуем, что это час сумерек, странный час после заката. «Был вечер лазурным и запад погас…» Мы входим в сказку. Несложная это сказка и с грустным концом, как все лучшие сказки. Вся она в трех словах: увиделись, поняли, расстались. Но это было на заре жизни и в сумерках дня. Юность и сумерки — и уже волшебство! Нельзя уйти от этого стихотворения, не отметив несколько несказанно глубоких, слишком редких у Брюсова строк:
То был мотылек, пилигрим вечеров, который подслушал прощанье без слов, то было смущенное облачко мая…Какая в них простота, какая проникновенность. Эти строки — почти молитва.
Соединение образов девушки и мотылька не единственно в стихах поэта. Мы встречаем его и в стихотворении «Женщина», где поэт прямо отождествляет девушку с мотыльком.
О девушки, о мотыльки на воле! Вас на балу звенящий вальс влечет, Вы в нашей жизни, как цветы магнолий. Но каждая узнает свой черед…Может быть, завтра один из этих мотыльков на воле будет биться в золотой бахроме из стихотворения «Продажная» и тосковать о навеки утраченных зеленых листьях:
Альков задрожал золотой бахромой. Она задернула длинные кисти… О, да, ей грезился свод голубой И зеленые листья…В этом стихотворении уже не улыбка, в нем плач девушки-музы.
Все девушки Брюсова — обречены. Что ждет ее, проходящую по бульвару «с опущенным взором, в пелериночке белой», и ту, чьи «прикрыты стыдливо виски», и ту из стихотворения «Весна»? Остановимся на нем. Я так ясно вижу героиню. Ей 15, 16 лет. Она кого-то любит, она ничего не знает о жизни. Все ушли, и вот она стала у окна и чертит «его» инициалы. О чем она думает? Быть может, совсем не о нем. Думает о море, которое знает только по стихам и картинкам, о какой-то будущей боли, о какой-то не нашей весне.
Где-то за морем тогда расцветала весна…Мне кажется, что волшебство мира заключено в этой строчке, как в выражении «звенящий бал» — вся юность. На что обречены они, юные и нежные героини лучших стихотворений Брюсова? Ответ на это в строчках:
Вот и тайна земных наслаждений, Но такой ли ее я ждала накануне? Я дрожу от стыда, я смеюсь…Вслед за звенящими вальсами — золотая клетка алькова; за мечтой о любви — осуществление ее. Но это не конец. Из глубины плена до нас доходит тихая жалоба, последняя мечта:
И если Бог пошлет мне сон О недоступном и о счастье, Мне про любовь не скажет он, Мне не приснится сладострастье. И буду вновь ребенком я Под тихим пологом кроватки, И сядет рядом мать моя, Озарена огнем лампадки.Не все погибло! — Есть воспоминание.
Музыкой юности, вызванной властью воспоминаний, звучат стихотворения «Одиночество» и «Первые встречи». В них оживает убитое жизнью волшебство. Перед нами образ двух сестер, слышавших когда-то первые клятвы поэта; тенистый сад перед нами — сад его юности.
Мы ведь дети, все мы дети, мотыльки вокруг огней!Много ликов у волшебства. Всех времен оно, всех возрастов и стран. Видеть его лишь в тонких чертах шестнадцатилетних — ошибка. Юность равна волшебству, но волшебство — не только юности. Не юноша и девушка перед нами в стихотворении «Встреча».
О этот крик желанья пленного!Но уже первые строки заставляют нас сжать руки и широко раскрыть глаза:
О эти встречи мимолетные На гулких улицах столиц!Шум экипажей, блеск витрин, смена лиц, и среди нескольких лиц вдруг одно на миг единственное, — вот оно, волшебство улицы! Кто она, эта незнакомка? Не все ли равно! Из глаз ее глядят неповторимое и тайна.
Улица — самое любимое Брюсовым проявление волшебства. Ее холод лишь для тех, чьи глаза не зажигаются от фонарей и витрин, чье сердце не зажигается с глазами.
Горят электричеством луны На выгнутых, длинных столбах…Β этом стихотворении — все волшебство городской весны. Прочтите его вы, отрицающий музыку в душе и стихах поэта. Прочтите вслух эти строки:
Как тихие звуки клавира Далекие рокоты дня…Что может быть ближе к самим звукам клавира, чем эта строка о них?
Слово «клавир» сразу переносит нас в Германию, страну лучших сказок. Ей обязан Брюсов другим своим прекрасным стихотворением:
Помню вечер, помню лето, Рейна полные струи…Зеленоватый Рейн с повторенными у берегов башнями старого Кельна и сверкающими вдали парусами; темная зелень виноградников; «песня милой старины…».
О, волшебство старой Германии! О, Heinrich Heine! Мысль о Германии наводит меня на волшебство вагона. Мчится поезд. За окнами ночь. В еле освещенном купе чьи-то зеленые глаза:
И было ль то влиянье Качания и тьмы, Но было там влиянье, В котором никли мы…И вновь перед нами двое чужих, соединенных на миг волшебством ночи и вагона:
И чьи-то губы близились Во тьме к другим губам, И чьи-то губы сблизились, — Иль снилось это нам?Снилось ли? Лучше так! Кто знает, какими оказались бы при ровном дневном свете эти зеленые глаза?
Нет мечтательней любви, покинутой волшебством! И на вопрос поэта своей Миньоне:
Как объяснишь, что покинуло нас! —есть только один ответ: сердце любви — волшебство! Лихорадочное биение этого сердца слышим мы в стихотворении «Который раз».
Будет миг, как долгий сон, Качать, баюкать нас. Я странно счастлив, я влюблен… Влюблен! — который раз!Каким прекрасным было бы это стихотворение без последней строфы:
И в стройных строфах вновь мечты Поют — который раз А месяц смотрит с высоты — Веков холодный глаз.Такой конец разрушает все. До стройности ли строф, когда любишь? И может ли месяц быть для влюбленного лишь холодным глазом веков? Нет печальней поэта в последней — главной — строфе, покинутого волшебством!
Но вот уж опять оно нахлынуло волнами «Бала»:
Забвенье, и круженье, и движенье Вдаль, без возврата…Еще несколько слов о волшебном из волшебных стихотворений поэта — «Встреча» («Близ медлительного Нила»). Из него нельзя приводить отдельных строк, как нельзя из груды драгоценных камней выбрать один лучший. Приходится, как дети, говорить: «все лучше» — и брать все.
Измена романтизму; оскорбление юности в намеренно-небрежной критике молодых поэтов; полная бездарность психодрамы «Прихожий», — да простится все это Брюсову за то, что и в его руках когда-то сверкал многогранный алмаз волшебства.
<1910>
ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ «ИЗ ДВУХ КНИГ»
Для того я (в проявленном — сила)
Все родное на суд отдаю,
Чтобы молодость вечно хранила
Беспокойную юность мою.
«Волшебный фонарь»Все это было. Мои стихи — дневник, моя поэзия — поэзия собственных имен.
Все мы пройдем. Через пятьдесят лет все мы будем в земле. Будут новые лица под вечным небом. И мне хочется крикнуть всем еще живым:
Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновенье, каждый жест, каждый вздох! Но не только жест — и форму руки, его кинувшей: не только вздох — и вырез губ, с которых он, легкий, слетел.
Не презирайте «внешнего»! Цвет ваших глаз так же важен, как их выражение; обивка дивана — не менее слов, на нем сказанных. Записывайте точнее! Нет ничего не важного! Говорите о своей комнате: высока она, или низка, и сколько в ней окон, и какие на них занавески, и есть ли ковер, и какие на нем цветы?..
Цвет ваших глаз и вашего абажура, разрезательный нож и узор на обоях, драгоценный камень на любимом кольце, — все это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души.
Марина Эфрон,
урожд<енная> Цветаева.
Москва,
16-го января, 1913, среда.
СВЕТОВОЙ ЛИВЕНЬ Поэзия вечной мужественности
Эренбургу
Передо мной книга Б. Пастернака «Сестра моя Жизнь». В защитной обложке, отдающей сразу даровыми раздачами Юга и подачками Севера, дубоватая, неуютная, вся в каких-то траурных подтеках, — не то каталог гробовых изделий, не то последняя ставка на жизнь какого-нибудь подыхающего издательства. Такой, впрочем, я ее видела только раз: в первую секунду, как получила, еще раскрыть не успев. Потом я ее уже не закрывала. Это мой двухдневный гость, таскаю ее по всем берлинским просторам: классическим Линдам,[1] магическим Унтергрундам[2] (с ней в руках — никаких крушений!), брала ее в Zoo[3] (знакомиться), беру ее с собой к пансионскому обеду, и — в конце концов — с распахнутой ею на груди — с первым лучом солнца — просыпаюсь. Итак, не два дня, — два года! Право давности на два слова о ней.
Пастернак. — А кто такое Пастернак? («Сын художника» — опускаю.) Не то имажинист, не то еще какой-то… Во всяком случае, из новых… Ах, да, его усиленно оглашает Эренбург. Да, но вы ведь знаете Эренбурга? Его прямую и обратную фронду!.. И, кажется, и книг-то у него нет…
Да, господа, это его первая книга (1917 г.) — и не показательно ли, что в наше время, когда книга, имеющая быть написанной в 1927 г., проживается уже в 1917 г. Книга Пастернака, написанная в 1917 г., запаздывает на пять лет. — И какая книга! — Он точно нарочно дал сказать всё — всем, чтобы в последнюю секунду, недоуменным жестом — из грудного кармана блокнот: «А вот я… Только я совсем не ручаюсь…» Пастернак, возьмите меня в поручители перед Западом — пока — до появления здесь Вашей «Жизни». Знайте, отвечаю всеми своими недоказуемыми угодьями. И не потому, что Вам это нужно, — из чистой корысти: дорого побывать в такой судьбе!
___________
Стихи Пастернака читаю в первый раз. (Слышала — изустно — от Эренбурга, но от присущей и мне фронды, — нет, позабыли мне в люльку боги дар соборной любви! — от исконной ревности, полной невозможности любить вдвоем — тихо упорствовала: «Может быть и гениально, но мне не нужно».) — С самим Пастернаком я знакома почти что шапочно: три-четыре беглых встречи. — И почти безмолвных, ибо никогда ничего нового не хочу. — Слышала его раз, с другими поэтами, в Политехническом Музее. Говорил он глухо и почти все стихи забывал. Отчужденностью на эстраде явно напоминал Блока. Было впечатление мучительной сосредоточенности, хотелось — как вагон, который не идет — подтолкнуть… «Да ну же…», и так как ни одного слова так и не дошло (какие-то бормотá, точно медведь просыпается), нетерпеливая мысль: «Господи, зачем так мучить себя и других!»
Внешнее осуществление Пастернака прекрасно: что-то в лице зараз и от араба и от его коня: настороженность, вслушивание, — и вот-вот… Полнейшая готовность к бегу. — Громадная, тоже конская, дикая и робкая рускось глаз. (Не глаз, а око.) Впечатление, что всегда что-то слушает, непрерывность внимания и — вдруг — прорыв в слово — чаще всего довремéнное какое-то: точно утес заговорил, или дуб. Слово (в беседе) как прервание исконных немот. Да не только в беседе, то же и с гораздо большим правом опыта могу утвердить и о стихе. Пастернак живет не в слове, как дерево — не явственностью листвы, а корнем (тайной). Под всей книгой — неким огромным кремлевским ходом — тишина.
«Тишина, ты лучшее Из всего, что слышал…»Столь же книга тишизн, сколь щебетов.
Теперь, прежде чем начать о его книге (целом ряде ударов и отдач), два слова о проводах, несущих голос: о стихотворном его даре. Думаю, дар огромен, ибо сущность, огромная, доходит целиком. — Дар, очевидно, в уровень сущности, редчайший случай, чудо, ибо почти над каждой книгой поэта вздох: «С такими данными…» или (неизмеримо реже) — «А доходит же все-таки что-то»… Нет, от этого Бог Пастернака и Пастернак нас — помиловал. Единственен и неделим. Стих — формула его сущности. Божественное «иначе нельзя». Там, где может быть перевес «формы» над «содержанием», или «содержания» над «формой», — там сущность никогда и не ночевала. — И подражать ему нельзя: подражаемы только одежды. Нужно родиться вторым таким.
О доказуемых сокровищах поэзии Пастернака (ритмах, размерах и пр.) скажут в свое время другие — и наверно не с меньшей затронутостью, чем я — о сокровищах недоказуемых.
Это дело специалистов поэзии. Моя же специальность — Жизнь.
___________
— «Сестра моя Жизнь»! — Первое мое движение, стерпев ее всю: от первого удара до последнего — руки настежь: так, чтоб все суставы хрустнули. Я попала под нее, как под ливень.
— Ливень: все небо нá голову, отвесом: ливень впрямь, ливень вкось, — сквозь, сквозняк, спор световых лучей и дождевых, — ты ни при чем: раз уж попал — расти!
— Световой ливень.
___________
Пастернак — большой поэт. Он сейчас больше всех: большинство из сущих были, некоторые есть, он один будет. Ибо, по-настоящему, его еще нет: лепет, щебет, дребезг, — весь в Завтра! — захлебывание младенца, — и этот младенец — Мир. Захлебывание. Пастернак не говорит, ему некогда договаривать, он весь разрывается, — точно грудь не вмещает: а — ах! Наших слов он еще не знает: что-то островитянски-ребячески-перворайски невразумительное — и опрокидывающее. В три года это привычно и называется: ребенок, в двадцать три года это непривычно и называется: поэт. (О, равенство, равенство! Скольких нужно было обокрасть Богу вплоть до седьмого колена, чтобы создать одного такого Пастернака!)
Самозабвенный, себя не помнящий, он вдруг иногда просыпается и тогда, высунув голову в форточку (в жизнь — с маленькой буквы) — но, о чудо! — вместо осиянного трехлетнего купола — не чудаковатый ли колпак марбургского философа? — И голосом заспанным — с чердачных своих высот во двор, детям:
Какое, милые, у нас Тысячелетье на дворе?Будьте уверены, что ответа он уже не слышит. Возвращаюсь к младенчеству Пастернака. Не Пастернак — младенец (ибо тогда он рос бы не в зори, а в сорокалетнее упокоение, — участь всех земнородных детей!) — не Пастернак младенец, это мир в нем младенец. Самого Пастернака я бы скорей отнесла к самым первым дням творения: первых рек, первых зорь, первых гроз. Он создан до Адама.
Боюсь также, что из моих беспомощных всплесков доходит лишь одно: веселость Пастернака. — Веселость. — Задумываюсь.
Да, веселость взрыва, обвала, удара, наичистейшее разряжение всех жизненных жил и сил, некая раскаленность добелá, которую — издалека — можно принять просто за белый лист.
Думаю дальше: чего нет в Пастернаке? (Ибо если бы в нем было всё, он был бы жизнью, т. е. его бы самого не было. Только путем нет можно установить наличность да: отдельность.) Вслушиваюсь — и: духа тяжести! Тяжесть для него только новый вид действенности: сбросить. Его скорее видишь сбрасывающим лавину — нежели где-нибудь в заваленной снегом землянке стерегущим ее смертный топот. Он никогда не будет ждать смерти: слишком нетерпелив и жаден — сам бросится в нее: лбом, грудью, всем, что упорствует и опережает. Пастернака не обокрадешь. Бетховенское: Durch Leiden — Freuden.[4]
Книга посвящена Лермонтову. (Брату?) Осиянность — омраченности. Тяготение естественное: общая тяга к пропасти: пропáсть. Пастернак и Лермонтов. Родные и врозь идущие, как два крыла.
___________
Пастернак поэт наибольшей пронзаемости, следовательно — пронзительности. Всё в него ударяет. (Есть, очевидно, и справедливость в неравенстве: благодаря Вам, единственный поэт, освобожден от небесных громов не один человеческий купол!) Удар. — Отдача. И молниеносность этой отдачи, утысячеренность: тысячегрудое эхо всех его Кавказов. — Понять не успев! — (Отсюда и чаще в первую секунду, а часто и в последнюю — недоумение: что? в чем дело? — ни в чем! Прошло!)
Пастернак — это сплошное настежь: глаза, ноздри, уши, губы, руки. До него ничего не было. Все двери с петли: в Жизнь! И вместе с тем, его более чем кого-либо нужно вскрыть. (Поэзия Умыслов.) Так, понимаешь Пастернака вопреки Пастернаку — по какому-то свежему — свежейшему! — следу. Молниеносный, — он для всех обремененных опытом небес. (Буря — единственный выдох неба, равно, как небо — единственная возможность быть буре: единственное ристалище ее!)
Иногда он опрокинут: напор жизни за вдруг распахнутой дверью сильней, чем его упорный лоб. Тогда он падает — блаженно — навзничь, более действенный в своей опрокинутости, нежели все задыхающиеся в эту секунду — карьером поверх барьеров — жокеи и курьеры от Поэзии.[5]
И озарение: да просто любимец богов! И — озарение зорчайшее: да нет, — не просто, и не любимец! Нелюбимец, из тех юнцов, некогда громоздивших Пелион на Оссу.
___________
Пастернак: растрата. Истекание светом. Неиссякаемое истекание светом. На нем сбывается закон голодного года: только не бережа — не избудешь. Итак, за него мы спокойны, но о нас, перед лицом его сущности, можно задуматься: «Могущий вместить — да вместит». — ? —
Но довольно захлебываний. Попытаемся здраво и трезво. (Не страшно, уцелеет при наибелейшем дне!) Кстати, о световом в поэзии Пастернака. — Светопись: так бы я назвала. Поэт светлóт (как иные, например, темнóт). Свет. Вечная Мужественность. — Свет в пространстве, свет в движении, световые прорези (сквозняки), световые взрывы, — какие-то световые пиршества. Захлестнут и залит. И не солнцем только: всем, что излучает, а для него, Пастернака, от всего идут лучи.
Итак, выработавшись, наконец, из сонных водовертей толкований — в явь, на трезвую мель тезисов и цитат!
1. Пастернак и быт.
2. Пастернак и день.
3. Пастернак и дождь.
___________
ПАСТЕРНАК И БЫТ
Быт. Тяжкое слово. Почти как: бык. Выношу его только, когда за ним следует: кочевников. Быт, это — дуб, и под дубом (в круг) скамья, и на скамье дед, который вчера был внук, и внук, который завтра будет дед. — Бытовой дуб и дубовый быт. — Добротно, душно, неизбывно. Почти что забываешь, что дуб, как древо, посвященное Зевесу, чаще других удостаивается его милости: молнии. И, когда мы это совсем забываем, в последнюю секунду, на выручку, — молнией в наши дубовые лбы: Байрон, Гейне, Пастернак.
___________
Первое, что в круговой поруке пастернаковских первизн нас поражает: быт. Обилие его, подробность его — и: «прозаичность» его. Не только приметы дня: часа!
— Распахиваю. — «Памяти Демона».
…От окна на аршин, Пробирая шерстинки бурнуса, Клялся льдами вершин: — Спи, подруга, лавиной вернуся!Дальше, в стихотворении «Сестра моя Жизнь»:
…Что в грóзу лиловы глаза и газоны, И пахнет сырой резедой горизонт. Что в мае, когда поездов расписанье Камышинской веткой читаешь в купе…(Намеренно привожу и сопутствующие строки: установить соседство.)
Дальше, про плетень:
Он незабвенен тем еще, Что пылью припухал, Что ветер лускал семечки, Сорил по лопухам…Дальше, про ветер:
Ветер розу пробует Приподнять по просьбе Губ, волос и обуви, Подолов и прозвищ…Дальше, про дачу:
Все еще нам лес — передней, Лунный жар за елью — печью, Все, как стираный передник, Туча сохнет и лепечет.Дальше, о степи:
Туман отовсюду нас морем обстиг, В волчцах волочась за чулками…— Одну секунду! — «Набор слов, всё ради повторяющегося „ча“… Но, господа, неужели ни с кем из вас этого не было: репья, вгрызающиеся в чулки? Особенно в детстве, когда мы все в коротком. Да, здесь вместо репей: волчец. Но разве „волчец“ не лучше?» (По хищности, цепкости, волчиной своей сути?)
Дальше:
На желобах, Как рукава сырых рубах, Мертвели ветки…(здесь же):
В запорошенной тишине, Намокшей, как шинель…(Это стихотворение «Еще более душный рассвет» — руки горят привести его здесь целиком, как — вообще — изодрав в клочья эти размышления по поводу пустить по книжным рынкам Запада самоё «Сестру мою Жизнь». — Увы, рук — мало!)
Дальше:
У мельниц — вид села рыбачьего: Седые сети и корветы…Затем, в чайной:
Но текут и по ночам Мухи с дюжин, пар и порций, С крученого паныча, С мутной книжки стихотворца, Будто это бред с пера…Подъезжая к Киеву:
Под Киевом — пески И выплеснутый чай, Присохший к жарким лбам, Пылающим по классам…(Чай, уже успевший превратиться в пот и просохнуть. — Поэзия Умыслов! — «Пылающим по классам», — в III жарче всего! В этом четверостишии всё советское «за хлебом».)
«У себя дома»:
С солнца спадает чалма: Время менять полотенце, (— Мокнет на днище ведра). В городе — говор мембран, Шарканье клумб и кукол…Дальше, о вéках спящей:
Милый, мертвый фартук И висок пульсирующий… Спи, Царица Спарты, Рано еще, сыро еще.(Веко: фартук, чтобы не запылился праздник: прекрасный праздник глаз!)
Дальше, в стихах «Лето»:
Топтался дождик у дверей, И пахло винной пробкой. Так пахла пыль. Так пах бурьян. И, если разобраться, Так пахли прописи дворян О равенстве и братстве…(Молодым вином: грозой! Не весь ли в этом «Serment du jeu de paume».[6])
И, наконец, господа, последняя цитата, где уже кажется вся разгадка на Пастернака и быт:
И когда к колодцу рвется Смерч тоски, то — мимоходом Буря хвалит домоводство. — Что тебе еще угодно?Да ничего! Большего, кажется, сам Бог не вправе требовать с бури!
Теперь осмыслим. Наличность быта, кажется, доказана. Теперь — что с ним делать? Верней, что с ним делает Пастернак, и что он — с Пастернаком? Во-первых, Пастернак его зорко видит: схватит и отпустит. Быт для Пастернака — что земля для шага: секунды придерж и отрывание. Быт у него (проверьте по цитатам) почти всегда в движении: мельница, вагон, бродячий запах бродящего вина, говор мембран, шарканье клумб, выхлестнутый чай — я ведь не за уши притягиваю! — проверьте: даже сон у него в движении: пульсирующий висок.
Быта, как косности, как обстановки, как дуба (дубовая, по объявлению, столовая, столь часто подменяемая поэтами — павловскими и екатерининскими палисандрами) — быта, как дуба, вы не найдете вовсе. Его быт на свежем воздухе. Не оседлый: в седле.
Теперь о прозаизме. Многое тут можно было бы сказать — рвется! — но уступим дорогу еще более рвущемуся из меня: самому Пастернаку:
…Он видит, как свадьбы справляют вокруг, Как спаивают, просыпаются, Как общелягушечью эту икру Зовут, обрядив ее, — паюсной. Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто, Умеют обнять табакеркою, И мстят ему, может быть, только за то, Что там, где кривят и коверкают, Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт, Где трутнями трутся и ползают…Прозаизм Пастернака, кроме природной зоркости, это святой отпор Жизни — эстетству: топору — табакерке. — Ценнее ценного. Где на протяжении 136 страниц вы найдете хоть одну эстетствующую запятую? Он так же свободен от «обще-поэтических» лун-струн, как от «крайне-индивидуальных» зубочисток эстетства. За сто верст на круг обойден этой двойной пошлостью. Он человечен — durch.[7] Ничего, кроме жизни, и любое средство — лучшее. И — не табакерку Ватто он топчет, сей бытовой титаненок, а ту жизнь, которую можно вместить в табакерку.
Пастернак и Маяковский. Нет, Пастернак страшней. Одним его «Послесловием» с головой покрыты все 150 миллионов Маяковского.
Смотрите конец:
И всем, чем дышалось оврагам векá, Всей тьмой ботанической ризницы, Пахнëт по тифозной тоске тюфяка И хаосом зарослей брызнется.Вот оно — Возмездие! Хаосом зарослей — по разлагающемуся тюфяку эстетства!
Что перед Гангом — декрет и штык!Быт для Пастернака — удерж, не более чем земля — примета (прикрепа) удержать (удержаться).
Ибо исконный соблазн таких душ — несомненно — во всей осиянности: Гибель.
ПАСТЕРНАК И ДЕНЬ
Не о дне вселенском, предвещаемом денницей, не о белом дне, среди которого всё ясно, но о стихии дня (света).
Есть другой день: злой (ибо слеп), действенный (ибо слеп), безответственный (ибо слеп) — дань нашей бренности, дань-день: сегодня. — Терпимый лишь потому, что еще вчера был завтра и завтра уже будет вчера: из бренности — в навек: под веки.
Летний день 17-го года жарок: в лоск — под топотом спотыкающегося фронта. Как же встретил Пастернак эту лавину из лавин — Революцию?
Достоверных примет семнадцатого года в книге мало, при зорчайшем вслушивании, при учитывании тишайших умыслов — три, четыре, пять таких примет.
Начнемте. (В стихотворении «Образец»):
…Белые годы зá пояс Один такой заткнет. Все жили в сушь и впроголодь, В борьбе ожесточась. И никого не трогало, Что чудо жизни — с час.Затем, в стихотворении «Распад»:
…И где привык сдаваться глаз На милость засухи степной, Она, туманная, взвилась Революцьонною копной…И — в том же стихотворении — дальше:
…И воздух степи всполошен: Он чует, он впивает дух Солдатских бунтов и зарниц, Он замер, обращаясь в слух, Ложится — слышит: обернись!(не о себе ли?).
Еще, в стихотворении «Свисток милиционера» (с естественно отсутствующим милиционером):
…за оградою Север злодейств сереет…Еще три строчки из стихотворения «Душная ночь»:
…В осиротелой и бессонной Сырой, всемирной широте С постов спасались бегством стоны…Стихотворение Керенскому «Весенний дождь» со следующими изумительными строками:
В чьем это сердце вся кровь его — быстро Хлынула к славе, схлынув со щек…— Я бы истолковала магией над молодостью слова: Энтузиазм, — отнюдь не политическим пристрастием.
— И все. —
Из приведенных гадательностей ясно одно: Пастернак не прятался от Революции в те или иные интеллигентские подвалы. (Не подвал в Революции — только площадь в поле!) Встреча была. — Увидел он ее впервые — там где-то — в маревах — взметнувшейся копной, услышал — в стонущем бегстве дорог. Далась она ему (дошла), как все в его жизни — через природу.
Слово Пастернака о Революции, как слово самой Революции о себе — впереди. Летом 17-го года он шел с ней в шаг: вслушивался.
ПАСТЕРНАК И ДОЖДЬ
Дождь. — Что прежде всего встает, в дружественности созвучий? — Даждь. — А за «даждь» — так естественно: Бог.
Даждь Бог — чего? — дождя! В самом имени славянского солнца уже просьба о дожде. Больше: дождь в нем уже как бы дарован. Как дружно! Как кратко! (Ваши учителя, Пастернак!) И, поворотом лба — в прошедшее десятилетие. Кто у нас писал природу? Не хочу ворошить имен (отрываться, думать о других), но — молниеносным пробегом — никто, господа. Писали — и много, и прекрасно (Ахматова первая) о себе в природе, так естественно — когда Ахматова! — затмевая природу, писали о природе в себе (уподобляя, уподобляясь), писали о событиях в природе, отдельных ее ликах и часах, но как изумительно ни писали, все — о, никто — ее: самоё: в упор.
И вот: Пастернак. И задумчивость встает: еще кто кого пишет.
Разгадка: пронзаемость. Так дает пронзить себя листу, лучу, — что уже не он, а: лист, луч. — Перерождение. — Чудо. — От лермонтовской лавины до Лебедянского лопуха — всё налицо, без пропуску, без промаху. Но страстнее трав, зорь, вьюг — возлюбил Пастернака: дождь. (Ну и надождил же он поэту! — Вся книга плывет!) Но какой не-осенний, не мелкий, не дождичек — дождь! Дождь-джигит, а не дождичек!
Начнете:
Сестра моя Жизнь — и сегодня в разливе Расшиблась весенним дождем обо всех…Дальше: «Плачущий сад» (изумительное от первой строки до последней. Руки грызу себе, что приходится разрывать).
Ужасный! Капнет и вслушается, Все он ли один на свете. (Мнет ветку в окне как кружевце) Или есть свидетель(Пропуск:)
Ни звука. И нет соглядатаев. В пустынности удостоверясь, Берется за старое — скатывается По кровле, за желоб, и через…(Упираю: одиночество дождя, а не человека под дождем!)
Дальше: «Зеркало».
…Так после дождя проползают слизни Глазами статуй в саду. Шуршит вода по ушам…А вот совсем очаровательное:
У капель — тяжесть запонок, И сад слепит, как плес, Обрызганный, закапанный Мильоном синих слез…Дальше, в стихотворении «Дождь»:
Снуй шелкопрядом тутовым И бейся об окно. Окутывай, опутывай, Еще не всклянь темно!..(и, пропускаю;)
Теперь бежим сощипывать, Как стон со ста гитар, Омытый мглою липовой Садовый Сен-Готард.Дальше — (руки вправду будут изгрызаны!)
На чашечку с чашечки скатываясь, Скользнула по двум, и в обеих — Огромною каплей агатовою Повисла, сверкает, робеет. Пусть ветер, по таволге веющий, Ту капельку мучит и плющит, Цела, не дробится, — их две еще Целующихся и пьющих…Дальше, начало стихотворения «Весенний дождь»:
Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил Лак экипажей, деревьев трепет…Дальше: («Болезни земли»)
Вот и ливень. Блеск водобоязни, Вихрь, обрывки бешеной слюны…Четверостишие из стихотворения «Наша гроза»:
У кадок пьют еще грозу Из сладких шапок изобилья. И клевер бурен и багров В бордовых брызгах маляров.Через несколько страниц:
Дождь пробьет крыло дробинкой…Дальше: (начало стихотворения «Душная ночь», одного из несказáннейших в книге)
Накрапывало, — но не гнулись И травы в грозовом мешке. Лишь пыль глотала дождь в пилюлях, Железо в тихом порошке. Селенье не ждало целенья, Был мрак, как обморок, глубок…и — давайте уже подряд:
За ними в бегстве слепли следом Косые капли… …Дождик кутал Ниву тихой переступью… Накрапывало. Налегке Шли пыльным рынком тучи… Грянул ливень всем плетнем… Мареной и лимоном Обрызгана листва… …Дождь в мозгу Шумел, не отдаваясь мыслью…(потому-то и дождь (жизнь!), а не размышления по поводу!) и — на последней странице книги:
…в дождь каждый лист Рвется в степь…Господа, вы теперь знаете про Пастернака и дождь. Так же у Пастернака: с росой, с листвой, с зарей, с землей, с травой… — Кстати, попутное наблюдение: разительное отсутствие в кругу пастернаковской природы — животного царства: ни клыка, ни рога. Чешуя лишь проскальзывает. Даже птица редка. Мироздание точно ограничилось для него четвертым днем. — Допонять. Додумать. —
Но вернемся к траве, верней шагнем за поэтом:
…во мрак, за калитку В степь, в запах сонных лекарств…(мяты, ромашки, шалфея)
Шалфея? Да, господа, шалфея. Поэт: как Бог, как ребенок, как нищий, не брезгует ничем. И не их ли это — Бога, ребенка, нищего — ужас:
И через дорогу за тын перейти Нельзя, не топча мирозданья.Ответственность каждого шага, содрогающееся: не нарушить! — и какое огромное — в безысходности своей — сознание власти! — Если бы поэт уже не сказал этого о Боге, я бы сказала это о самом поэте: тот —
…кому ничто не мелко…Земные приметы, его гениальное «Великий Бог Деталей»:
…Ты спросишь, кто велит, Чтоб август был велик, Кому ничто не мелко, Кто погружен в отделку Кленового листа, И с дней Экклезиаста Не покидал поста За теской алебастра? Ты спросишь, кто велит, Чтоб губы астр и далий Сентябрьские — страдали? Чтоб мелкий лист ракит С седых кариатид Слетел на сырость плит Осенних госпиталей? Ты спросишь, кто велит? — Всесильный Бог деталей, Всесильный Бог любви, Ягайлов и Ядвиг…У Пастернака нет вопросов: только ответы. «Если я так ответил, кто-то где-то очевидно об этом спросил, может быть я сам во сне, прошлой ночью, а может быть еще только в завтрашнем сне спрошу…» Вся книга — утверждение, за всех и за всё. Есмь! И — как мало о себе в упор! Себя не помнящий…
О Пастернаке и мысли. Думает? Нет. Есть мысль? Да. Но вне его волевого жеста: это она в нем работает, роет подземные ходы, и вдруг — световым взрывом — наружу. Откровение. Озарение. (Изнутри.)
…Но мы умрем со спертостью Тех розысков в груди…В этом двустишии может быть главная трагедия всей пастернаковской породы: невозможность растратить: приход трагически превышает расход:
И сады, и пруды, и ограды, И кипящее белыми воплями Мирозданье — лишь страсти разряды, Человеческим сердцем накопленной…И, беспомощней и проще:
Куда мне радость деть свою? В стихи? В графленую осьмину?(А еще говорят: нищие духом!)
…Будто в этот час пора Разлететься всем пружинам. Где? В каких местах? В каком Дико мыслящемся крае? Знаю только: в сушь и в гром. Перед грозой, в июле, — знаю.(Не взрыв?)
Как в неге прояснялась мысль! Безукоризненно. Как стон. Как пеной, в полночь, с трех сторон Внезапно озаренный мыс.(Не озарение?)
И — последнее —
Как усыпительна жизнь. Как откровенья бессонны!— Пастернак, когда вы спите?
Кончаю. В отчаянии. Ничего не сказала. Ничего — ни о чем — ибо передо мной: Жизнь, и я таких слов не знаю.
…И только ветру связать, Что ломится в жизнь, и ломается в призме. И радо играть в слезах…Это не отзыв: попытка выхода, чтобы не захлебнуться. Единственный современник, на которого мне не хватило грудной клетки.
Так о современниках не пишут. Каюсь. Исключительно ревность Ремесла, дабы не уступить через какое-нибудь пятидесятилетие первому бойкому перу — этого кровного своего славословья.
Господа, эта книга — для всех. И надо, чтоб ее все знали. Эта книга для душ то, что Маяковский для тел: разряжение в действии. Не только целебна — как те его сонные травы — чудотворна.
Только доверчиво, не сопротивляясь, в полной кротости: или снесет или спасет! Простое чудо доверия: деревом, псом, ребенком в дождь!
— И никто не захочет стреляться, и никто не захочет расстреливать…
…И вдруг пахнýло выпиской Из тысячи больниц!Берлин, 3–7 июля 1922
КЕДР АПОЛОГИЯ (О книге кн. С. Волконского «Родина»)
Подходить к книге кн. Волконского «Родина», как к явлению литературному — слишком малая мера. Эта книга прежде всего — летопись. И не потому, что он пишет о «летах мира сего», — кто не писал воспоминаний? Основная особенность летописи — то освещение изнутри внешних событий, тот вопрос, который она им ставит, тот ответ, который из них слышит. Летописец далеко не последнее лицо в летописи: им она жива. В этом строжайшем смысле слова книга Волконского «Родина» наряду с «Wahrheit und Dichtung»[8] Гёте — истинная летопись: века и духа.
Вымышленные книги сейчас не влекут. Причина ясна: после великой фантасмагории Революции, с ее первыми-последними, последними-первыми, после четырехлетнего сна наяву, после черных кремлевских куполов и красных над Кремлем знамен, после сажённого: «Господи, отелись!» на стенах Страстного монастыря, после гробов, выдаваемых по 33 талону карточки широкого потребления и лавровых венков покойного композитора Ск<ряби>на, продаваемых семьей на рынке по фунтам, — нас, кажется, уже ничем не потрясешь, разве что простой человеческой правдой: сущностью единой и неделимой. Такой книгой и является книга Волконского «Родина»: книга глубочайшей человечности. «Глубочайшей», впрочем, для удовлетворения слуховой привычки, я бы «глубочайшей» здесь заменила «высочайшей». Человечность не только глубь, — и высь. Дерево не растет в воздухе, чту корни, но не ошибка ли русских в том, что они за корнями («нутром») не только забывали вершину (цветение), но еще считали ее некой непозволительной роскошью. В корнях легко увязнуть: корни — и родниковые воды, да, но и: корни — и черви. И часто: начав корнями, кончают червями. И еще мне хочется сказать: корни (недра) — не самоцель. Корни — основа, ствол — средство, цвет (свет) — цель. Корни — всегда ради.
___________
Итак, книга «Родина» — древо высочайшей человечности. Корень — рост — вершина, все налицо, — и какое цветение! Страсть к высотам, так бы я определила ее главенствующую страсть, но еще вопрос: дух ли тянется ввысь, или высь его тянет. Склонна думать, что кроме тяги земной существует еще и тяга небесная.
Кстати, очаровательное соответствие: первое воспоминание — конное. Автору три года, его посадили на коня, и кто-то из старших ведет коня в поводу по кругу. — «Ну как?» — И сдержанное, вместо хваленой ребяческой откровенности (рёва!): — «Ничего… Немножечко… неловко!» Да, спору нет: пешему «ловчей», — особенно с непривычки. И смотреть на мир с коня — не только услада, но и ответственность, уже потому хотя бы, что ты на целый конский рост выше (видней!) остальных. «Конный» — это то же, что титул, что дар, — этим нужно уметь владеть и за это нужно уметь ответить.
— Ну, не прелестное ли вступление в книгу, этот трехлетний всадник, на красном песке садового круга, — такой воспитанный, такой бестрепетный, такой невинно-важный в сознании устремленных на него глаз! И — как я благодарна автору за то, что он не заставляет коня сворачивать в конюшню, при громком хохоте зрителей и рёве седока! И — как я вообще благодарна автору за его детство! Ни нянек, ни елок, ни лошадок, вместо лошадки — сразу конь. (Так, всю жизнь: без штекенпфердов, без эрзацев!)
О, разливанные пеленочные моря и реки наших русских классиков! Как вас по семицветной радуге Духа, и не заметив даже, миновал автор! Детское вне ребяческого, младенческое вне пеленочного, юношеское вне юбочного, — найдите еще такую книгу! Особенность книги: упор, мускул, костяк. — Сердце, но сердце в латах! — Никаких развороченностей, никаких исповедей: уж скорей отповедь, чем исповедь! Вместо славянской словесной и телесной распущенности — стройное распускание цветка на твердом стержне. Не ищите в его книге «интимности». Это, вообще, низкое слово. Но, снисходя до него на сей раз, думаю, что не ошибусь, ежели скажу: его «интимный круг» — горизонт (по-старинному — окоём) — «там, где море сочеталось с небом».
___________
Вспоминаю здесь один спор об аристократизме, зимой 1919 г. в Москве. Из всех определений запомнила только два: собственное и еще одно. «Аристократизм — враг избытка: всегда немножко меньше, чем нужно. Некое — не додать»…
Собеседник: «Аристократизм, это замена принципов — Принципом»…
И я: «Да, да! Le Grand Principe — как le Grand Condé!»[9]
Le Grand Principe в книге Волконского налицо. Имя ему — справедливость. Не справедливость бесстрастия, страсть справедливости. (Не справедливость бесстрастна, а мы к ней!) Свое отношение к предмету мы делаем его качеством. — Страсть справедливости, вы только вдумайтесь, господа! Этим живя, как с этим жить?! Если ты только не на острове, что вокруг тебя не искажено? Само понятие общежитие уже искажение понятия жизнь: человек задуман один. Где двое — там ложь. Противуставлять этой тысячегрудой, тысячеголовой людской лжи одинокую человеческую правду, — какая задача! Человеку, обуреваемому демоном справедливости, только два пути: или на остров, к зверям (Руссо), или же — в самый котел. Волконский героически избрал последнее. Вся книга, кроме двух первых, прелестнейших и излюбленнейших мною, глав («Фалль» — призраки, и «Павловка» — деревья), вся книга на людях. И на каких разнообразных! Гимназия и Университет (80-ые годы), круги придворные, круги чиновные, сцена, помещичья глушь, духовенство, крестьяне, эсеры, земцы, учителя, — не говоря уже о Войне и Революции, — какая скáла! Одна глава: «От Нигилизма до Большевизма». Прочтите, перечтите. Многое свяжется, многое вскроется, не одно обвинение падет на обвинителя.
И вот, через всё это — (заполните мысленно пролет от 1860 г. до 1922 г. и не забудьте, что перед вами не обывательская жизнь, а жизнь человека от рождения поставленного высоко, — чем выше пьедестал, тем шире кругозор!) — и вот, через всю эту вражду: князей — к писателю, писателей — к князю, эсеров — к помещику, помещиков к «вольнодумцу», через эти миллионы вражд количества к качеству, ничтожества к личности — чтó встает, чтó пребывает? Неутомимость любви.
Любовь. Как детская поэма кн. Волконского обошлась без пеленок, так и любовь его к человечеству обошлась без слезы. Любовь мужественная, действенная, воинствующая. Не «друг мой, брат мой», не идеалы, столь часто ограничивающиеся «одеялом для бедных», не либеральничание 80-ых слезоточивых годов, — уже тогда, 20 лет — шпага действия. Weltverbesserer[10] — это слово сказано о нем. Храня память о совершенном божеском мире, он не терпит его таким, каким его сделали люди. Отличительная черта: его страсти — этические. Страсть справедливости, страсть благодарности, страсть совершенства, — все то, что у людей соединено с ребяческими прописями — полезно, но скучно — для него восторг и вдохновение. Не пропись, а пафос. О, такого Креза не обокрадешь! Не обокрадет его ни большевизм, ни возраст. При этом непрестанном пожаре духа — какое умение наслаждаться! Стоик с пятью чувствами эпикурейца.
«У какого-то француза я читал: „Les réveils de l’enfance sont triomphants, les réveils de l’âge mûr sont moroses, ceux de la vieillesse sont lugubres“.[11] — Нет, не заметил я на себе этих разниц; и посейчас еще торжествую, когда утром просыпаюсь, и посейчас вскакиваю, потому что радостно день начинать, а в особенности, когда хорошая погода, или на столе рукопись начатая дожидается»…
От этой «хорошей погоды» до Диогенова бочонка — меньше, чем шаг. (Вспомните пресловутый ответ Александру!) Но какая разница тона — и как нарочит Диогенов бочонок! Нет, Волконский никогда не искал бочонка, ибо орлиной своей сущностью знал, что дело не в скорлупе, — но когда час бочонка (Революции) пробил, он его, всем великим высокомерием своим принял.
Два слова о Волконском и возрасте. Несколько раз на протяжении книги — такие ссылки: «Говорят, что в старости»… «Говорят, что в детстве»… и затем, неизменно, опровержение: «У меня не так». Волконский никогда не был связан с возрастом, впрочем — пусть скажет сам:
«Странно, я никогда не мог сходиться со сверстниками. Хорошо помню, что в ранней молодости я сам себе казался много моложе их, я считал себя отставшим, а во второй половине жизни то же чувство молодости, которое тогда держало меня — как бы сказать? — на запятках, вдруг выдвинуло меня на двадцать лет вперед — точно природа приберегала меня, и когда она меня выпустила, мои сверстники вокруг меня были старики».
Отсутствие ребяческого в детстве, продленное детство в юности, и, наконец, бессрочно-продленная юность. Нет, здесь с возрастом, действительно, не ладно. Но «ладен» ли сам возраст? Нет, возраст не ладен, и вот почему: дух — вне возраста, годами считают лишь тело. Отождествляющие себя с последним в полном чистосердечии говорят: мне было тогда три года — двадцать три — шестьдесят три. Но те, что говоря: «Я» — говорят: «Моя душа», смутно (или ясно) чувствуют ложь календаря по отношению к этой душе, и неизбежно после утверждения — опровержение.
Им бы я, для краткости, предложила формулу Державина:
«Я есмь — я был — я буду вновь». Возраст — такая же вторичность, как сословие, имущественное положение, партийность, — почти что платье. Возраст нужен тому, у кого ничего нет взамен. Так, перед звездным циферблатом — бедные, бренные карманные часики.
___________
Но вернемся к источникам наслаждения, — какие незамутненные родники! Вот случай из раннего детства: на Балтийском море, купанье. Мальчику делается дурно.
«Я лишился сил, я лишился сознания, но все время слышал шум моря и ветра. Когда возвращался в сознание, это было постепенно, и в этой постепенности был один блаженный миг, — перед полным возвращением. Чувство недомогания прошло, шум волн прибывал».
Вспоминая о крепком песчаном дне Балтийского моря, автор добавляет:
«Никогда уже нигде я не мог после этого купаться, — только море или океан; ни реки, ни пруда не выносил, не мог выносить, чтобы нога уходила в мягкое, вязкое, — это противоречило аристократизму первых впечатлений».
Автор совершает здесь забавную ошибку: аристократизм личного восприятия он делает свойством предмета, внутреннее перемещает вовне. Так, поверив ему на слово, нам придется ждать аристократизма от всех, кто когда-либо в детстве купался на Балтийском море: песок под ногой у всех один! Ergo:[12] Балтийское море создает аристократов. — Думаю, что дело здесь не в песке, а в ощупи, и даже не в ощупи, а в молниеносном перенесении внешнего впечатления на душу: твердый песок под ногой становится символом. Соответствие ноги и почвы. Мягкого и вязкого автор не переносил уже потом всю жизнь — ни в чем, нигде: услужил ему балтийский песок!
Но — не показательная ли подмена? Вместо современного, в ушах навязшего: «Я создал горы, воды, звезды, тучи!»… — вдруг: «меня создал балтийский песок». Обкрадывать себя — не первая ли примета неизбывного богатства?
А вот еще одно пробуждение:
«Я спал в каюте на „Варяге“ сладким детским сном. Какой-то грохот пробуждает меня, и прежде, чем я успеваю сообразить, что это барабанный бой, я погружен в тихое блаженство хорового пения: на палубе команда поет „Отче наш“…»
И — через несколько строк: «Но такого пробуждения, как тогда на Варяге, я не помню»… Что же здесь изысканно: предмет или восприятие? Шум воды и хоровое пение, — чего проще! То, с чего начинает день последний юнга с этого же «Варяга»! Дело в ушах, дело в душе.
Война. Автор всецело занят своим лазаретом: пленные и раненые, раненые и пленные, — но:
«Бывали и эпикурейские впечатления; разве не эпикурейство, когда в темный вечер по аллее возвращаешься домой, а навстречу шаги, и из темноты вдруг — только подумайте, в глуши, в Тамбовской губ. — раздается: „Eccelenza, felicissima notte!“[13] (Итальянец-пленный).
Чист — родник?
Есть у Гоголя где-то, кажется в „Переписке с друзьями“ такая великолепная, бичом хлещущая формула: „Демократический бунт чувств — против высокого единодержавия души“. (Душа здесь, как дух.) А что, если пять чувств не только не рабы (враги), а верные союзники духа? Не подавленные, не торжествующие: любовный союз, вольное служение.
Таков случай Волконского. Таков случай — в древности — Лукреция, в недавней дальности — Гёте.
___________
Родство с Гёте. На секундочку помедлим. Из всех воспоминаний, когда-либо мною читанных, больше всего мне книга Волконского напоминает „Wahrheit und Dichtung“, и больше, нежели „Wahrheit und Dichtung“ — эккермановские „Gespräche mit Goethe“[14] (с благородно-отсутствующим Эккерманом!). Читаешь — и удивляешься: в чем тайна, в чем сила? Ведь — просто, ведь и дивиться нечему: ведь каждое слово — почти что пропись! Почему же так действует? — Согласованность вселенского и личного, вневременность, при полном цветении вокруг — века, единый закон надо всем: рост. И еще роднит Волконского с Гёте — некая царственная сушь. Но к сходству с Гёте мы еще вернемся.
___________
Рассмотрим реальную деятельность кн. Волконского: помещичество — придворная жизнь — учительство. Помещиком он был всю жизнь, придворным — два года, учителем — всегда, когда были ученики. (Сужая понятие учительства до лекторства: лектором он был с 1918 г. по 1921 г.)
Но каким странным помещиком, каким необычайным придворным — и: каким восхитительным учителем!
В помещичестве кн. Волконского меня прежде всего поражает его невинность. Есть невинность богатства, как невинность нищеты.
Человек родится с десятью тысячами десятин земли. Вспахать их собственными руками он не может. Стало быть, чужими? Да. И крестьянин, в страдные дни, берет себе в подмогу батрака. Один батрак — или двести, это уже вопрос количества. Не в чужих руках дело, — двух рук и нищему мало! — А в разуме и в совести, кои этими руками движут, в замысле, в главе. Настоящее помещичество — сотворчество, сподвижничество: чужие руки — мои, чужая боль — моя. И настоящее наследничество прежде всего — преемничество. (Жертва.)
Такие угодья, как „Фалль“ и как „Павловка“, не возникают в час, это работа поколений, как готические соборы. От предка к потомку, от зодчего к зодчему, владелец родового имения — преемник, на нем жестокая двойная ответственность: сохранить и довершить. В „Фалле“ (имении Бенкендорфов) нагляднее выявлена охрана прошлого, в этой главе прежде всего — дед.
В „Павловке“ (более молодом имении Волконских) упор в творческой работе, в этой главе прежде всего — внук.
Кн. Волконский в своем помещичестве, как всякий истинный творец — и продолжатель и проложитель (новых путей). Забывают люди, что власть и владение в чистых руках — не сласть, а ответственность.
Раздать такое имение, как Павловка, по десятинам, то же самое, что раздарить Собор Парижской Богоматери по кирпичикам потомкам тех каменщиков, что его строили. — Нелепость.
Итак, кн. Волконский имения своего не разгромил, а владел им на радость себе и окружающим.
„Вы любите сельское хозяйство?“ — „Нет“. — Вы любите охоту?» — «Нет». — «Что же Вы в деревне делаете?» — «Уверяю вас, что мой день очень наполнен»… «Я никогда не любил хозяйства; меня всегда больше влекла расходная, нежели доходная статья. С детства я питал отчуждение к хозяйству. Как ни старался отец меня приучить, ему не удалось разохотить меня. О, эти поездки по хуторам с управляющим!.. О, эти заезды в контору! Этот приказчик с обручальным кольцом на указательном пальце! Мухи на окнах, премии „Нивы“ по стенам, куры на пороге, поросята на крыльце… Эта роковая необходимость конторских книг, ведомостей!.. А дома ждет какая-нибудь начатая дорожка, вновь посаженное дерево…»
«…Итак, я предпочитал расходную статью доходной. Но никогда мне не казалось, что я расходую на себя, когда я расходовал на Павловку. У меня было такое ощущение, что моя обязанность, мое призвание сделать из Павловки то, что в революционные времена стали называть „культурной ценностью“».
Да, когда взамен забавы — обязанность и взамен прихоти — призвание, можно сделать из Павловки не только культурную ценность, но — чудо!
Прелестен выход, найденный помещиком из вечных недоразумений с управляющим, недовольным его щедростью. — «Ведь вы ставите благотворительность на приход,[15] — так о чем же разговаривать?» Где, скажите, кроме как на Руси, могла (— и кем! помещиком!) быть выведена такая формула: «расход есть приход». Разве что, когда-то, тем нищим проповедником на холмах Иудеи. И хорошо же отплатили помещику все эти просители, приходившие по воскресеньям на крыльцо за: «соломкой на крышу, хворостом на плетень, кирпичами на печку». Да какое — соломка, кирпичи, хворост: тут и коровы, и лошади, и тес на стройку, и сохи, и бороны, и лечение за помещичий счет в платной городской больнице, и обучение за помещичий счет в Москве и Петербурге. (Заметьте, это я сгущаю, у автора это только слегка отмечено, еле упомянуто).
Прочтите «Павловку», — какая сплошная любовь! Какая внимательная память на имена, лица, слова, приметы, какая памятливая благодарность — потом — во времена Революции (см. «Развал») за те редкие проявления человечности нынешних владык — к своему бывшему. Негодования? Ни тени! В худшем случае — ирония. Нет такой благодарности, чтобы отучила давать. Жест дара — в руке. Безнадежность же этого дара кн. Волконский познал еще задолго до Революции:
«Конечно, я делал, что мог, но тяжело сознание бездонности того, куда кладешь. Да, помещичья помощь крестьянину, это палка об одном конце, если можно так выразиться… С одной стороны желание добра, а там ничего, пустота. Все это ни к чему, и всегда я имел такое ощущение, что это с моей стороны откуп. Откупиться за невозможное, недостойное положение вещей. Но сказать, что я чувствовал ответственность за такое положение, — никогда не скажу. Бездонность всякой помощи крестьянину тем определяется, что его интересует только — получить, он не знает, что значит вложить. Когда понятие дохода заменяется понятием наживы, то один лишь шаг к тому, чтобы понятие наживы в свою очередь заменилось понятием мошенничества…[16] За сорок лет один только случай припоминаю, который могу назвать хозяйственной помощью, а не подачкой… А все остальное — бездонная яма, один непробудный отказ. Тяжело, с детства тяжело было чувствовать это отличие себя и всего огромного окружающего моря. Но не чувствовал я, что когда прорвется, им станет лучше, а еще меньше — что они сами станут лучше. Алексею Давыдову не нужна моя итальянская зала, и он совершенно счастлив без нее»…
О творческой деятельности кн. Волконского в Павловке скажу особо, а пока закончу его помещичество последними, провидческими словами его «Павловки»:
«И сколько раз, когда мне подавали вкусную холодную простоквашу, я думал: — А может быть это в последний раз… Но нет, не последний… Но будет когда-нибудь последний, всегда доканчивал я…»
Друзья, не восхитительная ли подробность: не за редкостным тепличным ананасом такая мысль, не за бутылкой «доброго старого токайского», а… за простоквашей, той невинной простоквашей, которую деревянной ложкой из глиняной миски хлебает в тот же самый час, на самом краю деревни, его последний «раб»! —
Ограниченность места при безграничности темы (человеческая сущность — и какая!) не позволяет мне подробно останавливаться на деятельности кн. Волконского во время войны. Но не встает ли уже из предыдущего весь человек во весь рост? Мог ли он бесстрастно созерцать эту праведнейшую из правд — страдание, порожденное сей неправеднейшей из неправд — Войной, он, воплощенная справедливость! — В «Родине» целая глава «Война», и отклики ее через все последующие главы. Ограничусь краткими выдержками:
«…Через этот лазаретик в течение трех лет сколько прошло духовной красоты! Я часто наезжал из Павловки… (лазарет находился в борисоглебском доме кн. Волконского)… Какие приезды! Как заслышат стук копыт по деревянному мостику, уже, кто может ходить, высыпят ворота отворять. Прежние встречают, как знакомого, новички присматриваются. Но скоро новички становятся знакомыми. Что больше всего сближало, пишущая машина. Сколько писем и открыток отстукал я, сколько разослал поклонов: „Кланяюсь вам от сырой земли до белой зари“ и „Жду ответа, как соловей лета…“ Есть лица, которых никогда не забуду…»
И целая вереница незабываемых: «Безногий Михаил Минашкин, которого я поместил в Петербург на счетоводные курсы…» Ваня Серов с раздробленным коленом, так вдохновенно слушавший чтение «Федора Иоанновича»… «Его адрес был у меня в книжке, но все книги у меня отняты. Он может быть думает, что я его забыл…» Малоросс, контуженный в голову, — бывший садовник, потерял обоняние и слух, перед цветниками останавливался, как зачарованный… «Раз сорвал цветок темного гелиотропа и, подавая товарищу, шепотом произнес: — Понюхай ты, у меня не пропущает». Едут парком (выздоравливающие подолгу гостили в Павловке) — кн. Волконский, малоросс и еще солдат. И товарищ — малороссу, в самое ухо: «Вот бы нам с тобой такой парк!» — «А ты в нем будешь раненых катать?..» «Это было совсем удивительное явление; его самая большая радость была поливать цветы. В нем было что-то Перуджиниевское…»
А католическая обедня для пленных в большой зале «Молочного дома»! Собралось сто двадцать человек, многие причащались. Зала в десять аршин высоты, стропила наружу, как в итальянских церквах, между колоннами доморощенные, кузнецовые люстры. — О кн. Волконском и пленных многое можно, нужно было бы рассказать, но мое дело только ввести читателя, приоткрыть дверь: входи!
Теперь скажу вещь, которая, как все простые вещи, прозвучит чудовищно: Революция, отняв у кн. Волконского Павловку (Павловка здесь — как собирательное, не только Павловку!) — оказала ему услугу. Иногда освобождение приходит извне. В начале Революции было у меня такое шутливое изречение: «Крестьян в 1603 г. прикрепили к земле, дворян (в 1918 г.) — к воздуху». Памятуя закон небесного тяготения, скажу, что такое прикрепление для кн. Волконского — не худшее. Зачем такой совести — тяжесть, такому крылатому духу — прах? Земля — вещь тяжелая, и давит не только на мертвых. Это не решение земельного вопроса, но: руку на сердце положа — оставим землю тем, кто без нее — прах, таким (помещикам) она нужна, и они за нее будут биться не на жизнь, а на смерть: «Что я без Катина? без Вязовки? без Дедова? — Ничто». Касательно кн. Волконского вопрос обстоит иначе: «Что я без Павловки? — Все. — Что Павловка без меня? — Ничто».
У Волконского от Павловки осталась душа без тела (суть), у погромщиков — тело без души (труп). И, если кого-нибудь жалеть, то, конечно, не князя!
___________
Чиновничество. Какое жуткое слово. Какая — от Акакия Акакиевича до министра его же ведомства — вычеркнутость из живых. Чиновник — и сразу кладбище с его шестью разрядами. Некое постепенное зарывание в землю: чем выше, тем глубже. А какие унылые наименования: коллежский асессор, титулярный советник, надворный советник, статский, действительный статский. Делаю исключение только для тайного: сразу Веймарский парк и Гёте.
К счастью, кн. Волконский никогда чиновником не был, его единственный знак отличия, как он не без удовольствия упоминает — орден Льва и Солнца 2-ой степени, полученный им в бытность директором Театров от Шаха Персидского.
Но не быв чиновником, он их в течение двух лет неустанно видел, — немудрено, что увидела их и я. «Я ненавидел общественность, ненавидел службу и соединенную с ней официальность, официальное времяпрепровождение, официальные с людьми отношения, официальность речи и образа мысли. Если я любил общественную арену, то для того, чтобы выносить плоды моих трудов, моих мыслей…» Т. е. — позволю себе продолжить — кафедру, место возвышенное и уединенное. Однако, автор назначение принимает, принимает из внимания к отцу, т. е. делает — как всякий большой дух — самое для себя трудное, идет по линии наибольшего сопротивления. (Себе!) У нас, в России, только одно сопротивление, кажется, и цвело: отцу (включая сюда и гимназического директора, и университетского ректора, и российского государя!), — сопротивление внешнее, т. е. почти бесценное. Противустоять тому, что не по сердцу! — Чего легче! — Избирать то, к чему тянет! — Чего слаще! Но для больших и настоящих дело не в легком и в сладком, а в тяжком и в горьком. Для большого и сильного единственная трудность: я, с другими он, отродясь, справился.
Обвинять кн. Волконского в том, что он, ненавидя общественность, два года своей жизни отдал на Директорство — то же самое, что обвинять Гёте в его придворной и чиновной деятельности. — А Гёте из восьмидесяти своих земных лет едва ли не пятьдесят провел при дворе! Директорство кн. Волконского не слабость, равно как тайное советничество Гёте — не страсть к титулам (что можно взять у первого и прибавить ко второму?), в обоих случаях трудная, ответственная человеческая привязанность: Волконского к отцу, Гёте к другу и сподвижнику молодости. И в обоих случаях — Kraftsprobe.[17]
«На перегибе двух столетий прошли те два неприятных тяжелых года, проведенных в близком соприкосновении с сферами чиновничьими, артистическими, газетными. Для меня это было временем опыта житейского. Я узнал много людей и узнал много подлости людской».
Недоброхотов у кн. Волконского («врагов» здесь неуместно: лестно!) — недоброхотов у кн. Волконского на новом поприще оказалось много: за исключением актеров (не солистов) и нескольких высоко-стоящих лиц — все общественные круги, с которыми ему пришлось соприкоснуться. Тут и раздраженные самолюбия лиц его круга, старших по возрасту, «надеявшихся и оставшихся за флагом» (директор Императорских театров тридцати с чем-то лет от роду — неслыханно!), и актерские дрязги. Кипение конторское, кишение газетное. «Снизу подвохи, кругом недоброжелательство, сверху никакой поддержки». Высших оскорбляла в нем личность, свое, прямой хребет, низших — княжество.
«Такие слова как: князь, граф, помещик, сановник, чиновник — заранее определяют отношение к человеку, и люди никогда не затрудняли себя рассмотрением того: все ли князья похожи друга на друга, всякий ли сановник соответствует раз навсегда выработанному ярлыку, не говоря уже о том, чтобы проверить, соответствует ли вообще ярлык действительности. И еще удивляло меня, как люди делают человека ответственным за то, как другие к нему относятся. В самом деле, если городовой передо мной вытягивается в струнку, это не значит, что я горд; если человек передо мной лебезит, это не значит, что я чванлив…»
Отвлекаясь на секундочку от двухлетней каторги кн. Волконского на своем высоком посту, упомяну здесь об одном показательном случае из его детства. Ему лет семь-восемь, сидит в доме у управляющего и смотрит на картинки. За чайным столом несколько студентов. Вдруг один из них: «Князь!» — Смущенно (ибо детство застенчиво, а воспитанное детство — в особенности!) оборачивается. И звавший — другого под локоть:
— Ишь — откликается!
И, как отзвук, другая картина. Москва, лето 1917 г. Шайка красногвардейцев перед клеткой льва. Гикают, ржут, гогочут. И один, тыча в льва только что сорванной веткой: «Ишь — тоже царь!»
Те студенты 1867, родные деды солдатам 1917 г.
___________
Но вернемся к тому, от чего так рвался сам князь: к его директорству. Не буду перечислять всех низостей, предательств и лицемерии. Контора — актеры — придворные: какой тройной котел! А рецензенты! Вот уже воистину ярмарка тщеславий!
Есть в этой главе «Сферы» одна жуткая, библейским ужасом веющая картина. Я бы ее назвала: Канун. Придворный ужин в присутствии Государя. Высокая молодежь, устав от paraître,[18] захотела, наконец, être[19] (всякий по-своему!) — и вот, со всех концов на все концы стола, сначала робко, потом ободренные участием Государя, все метче, все чаще — и уже целым боем перекрестных радуг — хлебные шарики! Читатель, не предстает ли твоим мысленным очам указательный перст, чертящий на стене три слова… «Никогда на этих общественных придворных верхах чувство беззаботности не заражало меня и никогда чувство жути меня не покидало: Мой шарик не летел.[20] И почему-то всегда я думал о трех надписях к солнечным часам, которые я читал не помню где. Первая надпись: Uiti ombri ides nostri (Что тень — дни наши). Вторая надпись: Vos umbra, me lumen rеgit (Вами тень, мною свет руководит). Третья надпись: Ultimam time (Бойся последнего)… И в какую огромную игру, в какой своеобразный танец превращалось все это, когда сплетались в сознании и беззаботность и жуткость, и цветы и корни, и хлебные шарики и бомбы… И всегда я ощущал, что „сферы“ не для меня».
___________
(Не замолчу двух внезапных мыслей. Первая: вторую надпись к солнечным часам я всецело отношу к автору, ставлю эпиграфом к его жизни. Вторая: какая страсть к символике! Балтийский песок, хлебные шарики, — и какая мелочь, и какой из этой мелочи — над этой мелочью орлиный взлет прозрения! Проследить по этому руслу книгу Волконского. Благодарная задача.)
___________
Как же это кончилось? (Сферы.) Да так же, как с Павловкой: спасительной «интервенцией» внешнего мира. Освобождение снова пришло извне.
Пустяшный повод, очаровательный пустячок. Балерина Кшесинская, любимица в те времена Великого Князя Сергея Михайловича, отказалась в балете «Камарго» надеть фижмы и выступила без них. Директор наложил штраф, Кшесинская пожаловалась Государю, Государь предписал Директору оный штраф снять. Директор предписание исполнил и подал в отставку. — Как, из-за фижм? Но точно ли уясняет себе читатель, что такое фижмы? Вещь стародавняя, не знать легко. Фижмы — это стальные обручи, которые в XVIII в. надевались под платье для придания ему большей пышности, а по Волконскому: «Фижмы, это нечто невидимое, что поддерживает внешний вид, нечто пустое, что придает пышность. Вся придворная жизнь из фижм, фижмами подбита, без них и существовать не может». — Опадает. —
Глава «Фижмы» одна из самых захватывающих в книге, — такое недавнее и такое безвозвратное прошлое! Гляжу и вижу: внук декабриста перед Самодержцем, заговорившая дедовская фронда. На первый взгляд, кажется, всё иное, все, кроме тождества имен. (Оба Государя — Николаи, оба Волконских — Сергеи.) Там права человека, здесь — фижмы; там — вооруженный бунт, здесь — корректная подача в отставку; там крепость, здесь — зал Царскосельского дворца, наконец: там — Николай I, здесь — Николай II. Единственное, что и зрительно и внутренне роднит эти два мгновения, это прямой хребет деда и внука. Все изменилось: Волконские пребыли. Любопытно, оценил ли эту старинную новинку Государь? И вырвалось ли у него, хотя бы мысленно, такое естественное для правнука Николая I восклицание: «Ах, уж эти мне Волконские!»
Эта встреча в Царском — некая очная ставка не Государя с подданным, а внука с дедом. И если есть иные миры, дед («старец в черном бархатном халате, курящий трубку», см. «Фалль») — дед не мог не порадоваться на и за внука. Умилительно здесь отношение отца, по выражению автора совершенно лишенного фронды, к фронде сына. Когда Государь, намекая на злополучную историю с фижмами, спросил кн. Волконского-отца: «Ну, что Ваш сын, успокоился?» — знаете, что он услышал в ответ: «Совершенно успокоился, Ваше Величество, с тех пор, как Вы обещали отпустить его, совершенно успокоился».
Этот ответ, думаю, вполне вознаградил сына за его уступку отцовской воле: отец оказался достойным сыновней покорности.
___________
Но есть еще, кроме трехзвучия отца, деда и внука, в «Фижмах» другое созвучие: с Гёте. И Гёте был директором театров, и Гёте подал в отставку, и Гёте был прошен обратно, и Гёте не вернулся. — Подтверждение найдете у Эккермана.
___________
Мы подходим к основному руслу кн. Волконского, к той деятельности, к которой он был рожден, к замыслу всей его жизни: Учительству. Все остальное: peine — temps — sang perdus![21]
В главе «Павловка», говоря о своем прирожденном отвращении к хозяйству, автор роняет следующую замечательную мысль:
«И только много позднее я понял, что вовсе не стыдно не интересоваться тем, что тебя не интересует. Только много позднее понял я, что можно вкусы своего отдыха превратить в предмет своей работы. Конечно, не всякие вкусы заслуживают быть превращенными в работу и, с другой стороны, не всякий человек поставлен в такие условия жизни, которые дозволили бы ему слияние наклонностей и обязанностей. Но кто это может, для того прохождение жизненного пути являет редкое преимущество слиянности, единства и покоя». (Последние слова — не дуновение ли с гётевских высот?)
Итак, работа как благословение, а не как проклятие. От второго же Адамова проклятия — праха (десяти тысяч десятин и перед Богом и людьми за них ответственности) любезно освободила кн. Волконского Революция.
Мое сокровенное, душу и уста мне жгущее желание — это, чтобы все поняли, что у большого ничего не возьмешь, что не подведомственны руке человека нерукотворные крепости и недоказуемые угодья Духа, что здесь ничто не возьмет: ни декрет, ни штык. Перстень, кресло карельской березы, портреты бабушек, куртины, десятины — да разве это я?! (Не говоря уже о безличных, вне всякого символа владениях, как сейф и доходный дом.) Рука, нога, затылок, которым меня приставили к стенке, грудь, в которую наставлены дула, — да разве это, опять-таки — я? То, что в груди, под черепной крышкой — неосязаемо — недоказуемо — вот я, а разве это штыком началось и штыком кончится? Почему никто от Революции не спасается внутрь себя, под веки, вглубь собственной груди, в свой единственный дом — Душу? Почему все ищут спасения вокруг, от других, тех или этих?
Все, — нет, не все, и есть на это у кн. Волконского прямой ответ, на первой же странице его «Родины»:
«Она (Родина) будет не реальна, но она будет сильна в своей метафизичности, она не будет вне нас, но тем сильнее будет в нас, она лишится узости земных границ и получит беспредельность личного сознания. И если, отрешаясь от земных условий»… Отрешение, вот оно мое до безумия глаз, до обмирания сердца любимое слово! Не отречение (старой женщины от любви. Наполеона от царства!), в котором всегда горечь, которое всегда скрепя сердце, в котором всегда разрыв, разрез души, не отречение, которое я всегда чувствую живой раной, а: отрешение, без свищущего ч, с нежным замшенным ш, — шелест монашеской сандалии о плиты, — отрешение: листвы от дерева, дерева от листвы, естественное, законное распадение того, что уже не вместе, отпадение того, что уже не нужно, что уже перестало быть насущностью, т. е. уже стало лишнестью: шелестение истлевших риз.
Об этом лучше, чем у кого-либо, сказано у Тютчева, одного из настольных поэтов Волконского:
…И странно так на них глядела, Как души смотрят с высоты На ими брошенное тело.Говоря об отрешенности, я не удаляюсь от учительства: отрешенность единственный к нему путь. Что такое учитель? Лелеющий чужой рост, оберегающий и направляющий чужие силы и соки. Учитель — прежде всего садовник. И как прав, как зорок к себе Волконский, с его — отродясь — нелюбовью к хозяйству и страстью к дереву. Земля — ради хлеба, дерево — ради неба. Дерево, это псалом природы. Дерево в саду бесполезно, дерева жизнь — славу петь, парк же кн. Волконского равнялся 250 десятинам, — 250 десятин бесполезности, 250 десятин славы Божьей!
Древесная страсть! В такой мере, как кн. Волконским, она на страницах русской письменности не владела еще никем. Если он кого-нибудь напоминает нам из русских, то Аксакова. Но Аксаков — это почти что «мать-земля», дерево только частность, разновидность его любови к земле вообще. Для Аксакова дуб — скорей отец, дед, символ прошлого, для Волконского — дитя — рост — благословенный завтрашний день!
Но есть у кн. Волконского один истинный солюбящий, — в XVIII в., фельдмаршал кн. де Лин, писатель пленительный и ныне почти забытый. Если когда-нибудь встретите его: «Mélanges guerriers et littéraires»,[22] отыщите отрывок: «Mes jardins».[23] Страсть к дереву — страсть искони не русская. Послушайте ценнейшее свидетельство Ключевского: «Тяжелая работа топором и огнивом, какою заводилось лесное хлебопашество на пали, расчищенной из-под срубленного и спаленного леса, утомляла и досаждала. Этим можно объяснить недружелюбное или небрежное отношение русского человека к лесу: он никогда не любил своего леса».
И еще: «Несмотря на деятельность человека, и притом русского человека, не привыкшего беречь леса»…
Эти строки в полном ладу с личным и наследственным опытом кн. Волконского: «Да, пятьдесят лет любовного отношения к дереву не заразили местных крестьян; у них не только нелюбовь, у них ненависть к дереву. Если бы вы только видели жесткость, с какою обращаются крестьяне с деревьями»… И, живописуя зверскую расправу деревенских мальчишек с молодой рябиной: «…Подумайте только, если у вас есть сколько-нибудь склонности к философскому мышлению, подумайте, что это такое — из-за любви к последствию уничтожать причину…»
Понятно ли будет, если я скажу, что любовь кн. Волконского к дереву подробна? Не только понятие дерева он любит, на каждую особь — своя любовь. Любя древесное бытие, тем ревностнее лелеет он его трогательный земной быт. (Ах, если бы мы умели любить людей тáк, как Волконский — деревья!)
«Вот елочка вздумала разукрасить себя зелеными шишечками: в эти годы? Какая неосторожность! — Надо сорвать их. Зачем деревцу истощать себя?» Хотела ограничиться данным, но последующее настолько усладительно, что оборвать — обокрасть читателя: «Кедр великолепен. Устоит ли!.. Он выше всех, и молодой лес вкруг него — не защита ему; легко может бурей его сломать. Он был подвязан на три стороны проволокой к столбикам — проволоку украли; подвязал веревкой — веревку украли; подвязал мочалкой — мочалку украли…»
Вывода два: или беззаветное озорство, или уж такая нищета, что и мочалка — клад. В существовании такой нищеты сомневаюсь.
Страсть кн. Волконского к дереву — страсть наследственная. Прочтите главу о его матери. Какой редкостный женский образ! Какая женственность сердца, какая мужественность духа, какое царственное небрежение к дню. Страсть к Вечности, — так бы я определила ее сущность, и эту страсть унаследовал от нее сын.
«От святителей своих (так мы называли ее работу[24]) она с садовыми ножницами и пилой шла к своим деревьям и кустам. И елки, и каштаны, и дубки, и белая акация, и бересклет были наперсниками ее дум; и часто, возвращаясь домой с охапками цветов, с пригоршнями семян, с карманами, набитыми желудями, она приносила с собой новую мысль, проект новой главы или какую-нибудь блестящую полемическую искру…» «Не могу не вспомнить, что после смерти ее мы, как водится, заказали парчовый покров. Когда его принесли, и мы покрыли ее, сестра моя сказала мне: — Посмотри на галун. — Я посмотрел, — на нем был орнамент из дубовых листьев и желудей…»
Елизавете Григорьевне Волконской принадлежит один из самых трепетных женских возгласов, спор женщины и одинокого духа, где последнее слово остается — за последним. Она была в дружбе с Владимиром Соловьевым, и вот однажды с ее уст срывается: «Я люблю Соловьева больше чем кого бы то ни было», и тут же, спохватившись: «То есть, конечно, я больше всех люблю вас, детей моих, но для приволья души моей…»
Для того приволья, где уже ни мужа, ни сына, — только один друг: Дух.
___________
Еще два слова о древесной страсти сына. «Борьба с пустыней», так он ее определяет.
«Рощи, целые леса мы развели, и хвойных столько, что вечером иногда пахнет сосной, и уже грибы такие, каких прежде в нашей местности не было»… (Перекликается с Аксаковым?) «Парк интересный в древесном отношении; одних хвойных пород больше двадцати. За последние тридцать лет мы перекинули лесонасаждения уже за пределы парка. В голой степи пошли рощи, и лиственные и хвойные; переход из степи к парку стал постепенным, кто долго не был в Павловке, не узнает местности: то была голь, а то перелески, острова…»
Страсть к дереву — страсть к будущему. Бескорыстнейшая и прекраснейшая из страстей. И лжет Революция, эта великая ненавистница гербов и дубов, лжет Революция, именуя себя страстью к будущему. Осуществленная Революция — страсть к сегодняшнему: ни вчера (гербов!), ни завтра (дубов!). Принцип Революции — это принцип саранчи (для поля), топора (для леса), принцип Людовика XV: «Après moi — le déluge!»[25] И все пресловутые насаждения Революции «сроком в 24 часа» — не что иное, как факирские цветы в воздухе, с той разницей, что даже не цветут.
А теперь — последняя сценка на прощание. Революция: разгром: развал. Кн. Волконский садовыми ножницами на одной из дорожек парка подстригает кусты. Подходит кто-то в защитном и в галифе, недоумевает, задумывается, умиляется: «И для кого вы трудитесь? Ведь смотреть жалко. Сами ведь уж не увидите». — «Я не для себя, я для красоты». — «И кто только после вас стричь будет?» — «После меня уж не стричь, а рубить будут». — Жест выращивания у него в руке.
Творческий инстинкт перед разверстой ямой, — вот оно, бессмертье! Скрип садовых ножниц Волконского, вот он ответ на стук топоров!
Садовник. — Учитель. — Когда я думаю о Боге первых дней, я неуклонно вижу его садовником. Когда я думаю о Боге первых дней, я неуклонно думаю о Гёте последних. Когда я думаю о Гёте последних, я неуклонно думаю о кн. Волконском. Есть книги кн. Волконского более близкие, по объекту — сущности Гёте, нежели «Родина» («Художественные отклики» напр<имер>. В «Родине» — героической самоотверженностью автора — много отдано временному, окружающему, вне его сущности происходящему: «Пусть другие, если им интересно, говорят обо мне, я предпочитаю говорить о других». Это слово Волконского о его директорстве можно отнести ко всей его книге. Вся книга о других. Каким же чудом я, читатель, из всех этих других вывела только одно: его? Простое и чудесное чудо: личность, то, чего не скроешь даже в приходо-расходной книжке! Запись виденного, слышанного, взвешенного, но: увидено его глазами, услышано его ушами, взвешено на его весах, и — в итоге — бренное спадает как шелуха, как скорлупа, из всей книги, над всей книгой гётевский осиянный лоб. Так, книга бытовая, почти злободневная — превращается в document divin[26] (Достаточно с нас — humains!)[27] В этом его основное родство с Гёте: «alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis».[28] Гёте на жизнь смотрел не «со стороны», а — с высоты. Со стороны глядя — только одну сторону и увидишь! Это лучше, конечно, чем смотреть из гущи (церковной ли, базарной — едино!), но… Войдя в храм, мы не найдем лучшего места, нежели хоры: и к куполу ближе — и алтарь не заслонен спинами. Хоры менее высокомерны, чем первые места на плоскости! Хоры — это уединение, первые места на плоскости — утверждение своих бренных земных прав. Революция первых вольна сделать последними, высших она никогда не сделает низшими. Взгляд с хор (то же — что конный!) — взгляд божеский: если на плоскости и действенны те или иные перегородки (перед князем — княжеская, перед рабочим — пролетарская!), сверху — они все равны, все равно-ничтожны, все — внизу. Бедные сословные закуты!
«A vol d'oiseau», «dans les nuages»,[29] все, чем мировое мещанство клеймит духовное избранничество, — неосознанная истина, отдавание должного. Превосходство горы над равниной в том, что ей открыты все дали. И не удержусь не привести здесь одного вскользь и в другой книге оброненного наблюдения кн. Волконского: «Дали недвижны, — отсюда спокойствие высот». — Не знай я, что это сказано Волконским, я бы непременно назвала Гёте.
___________
Итак, кн. Волконского я смело могу назвать — учителем жизни. Что же касается до его творчески-лекторской деятельности, столь близкой театру, здесь я вдвойне не судья: судьей можно быть лишь в вопросе спорном, — ценность же кн. Волконского — несомненность, и судьей дóлжно быть любящим, — пишущий же эти строки даже и не любопытствует театру. Знаю только, как случайный очевидец, что на росписях лекций во всех учебных заведениях, где читал Волконский, против графы: предмет — стояло: «Волконский». — Волконский читает Волконского.
Работать лектору пришлось в чрезвычайных условиях Революции. Начало его занятий в 1918 г., в Тамбове, в Народном Университете, затем два с половиной года — невылазная Москва. Москва 1918–1921 годов, — что встает? Раньше всего — заборы. У большевиков, вообще, роман с заборами: или ломать или украшать загадочными письменами. (На е не сразу научишься читать, не говоря уже о смысловом содержании декретов!) Так, памятуя дровяной голод, декреты и расстрелы, свободно можно сказать: стенкой согреемся, стенкой обучимся, стенкой успокоимся. Символическая страсть к стене: пределу. — Стена партийности. — Но, мимо! Итак, Волконский читает в револ<юционной> Москве свою систему, читает в Музыкальной Драме, в Пролеткульте, во многих студиях. Слушатели — сборная московская молодежь, руководители — коммунисты. Каковы отношения с первыми и со вторыми?
«Из той массы народа, которая прошла за три года перед моими глазами во всевозможных „студиях“, я только в одной среде нашел проявление настоящей свежести. Это в рабочей среде. Здесь я видел яркие, любознательностью горящие глаза, каждое слово принималось с доверием и жаждой. Я очень много читал в так называемом Пролеткульте. Там были исключительно рабочие, на нерабочих был процент. Я всегда буду вспоминать с признательностью эту молодежь и их отношение к моей работе и ко мне лично». А вот случай, нельзя ярче живописующий это отношение: придя на лекцию, нежданно-негаданно лектор узнает, что «постановлением заседания преподавательского состава» над его уроками учреждена опека в виде инструктора, долженствующего изъяснять студийцам, чтó из указаний Волконского приемлемо, а чтó должно быть отвергнуто. Одновременно с сим постановлением лектор узнает и ответ студийцев: мы люди взрослые, искусству любопытствуем со всех сторон и подобной опеки над Волконским не стерпим. — Кто же эти студийцы? Темнота, рабочие, «рабочий скот», три года подряд, день за днем разжигаемый красными отребьями своих коммунистических торреро. — Какие прелестные лица встают! — Целая вереница! — Вот Сидельников, замечательно одаренный в пластике, похожий на индейца, коммунист, доброволец (погиб впоследствии на льду под Кронштадтом), вот Алексей Матавин, отличный ритмист, вот рабочий Носов, впервые по выходе с большого ритмического празднества понявший, чтó значит, когда говорят: «искусство облагораживает душу», вот двое Тумановых, один просто-Туманов, а другой Туманов с трубкой. Последний все глядел да отмалчивался, но на легкую укоризну лектора показал последнему целую тетрадь внимательнейших записей.
Много именных воспоминаний, еще больше безымянных: «Имен больше не помню, это не значит, что я забыл людей». Через всю книгу Волконского, особенно там, где речь идет; о «малых сих» — этот страх, это тоскливое обмирание сердца:
«А вдруг подумает, что забыл?» Есть для этой особливой памяти сердца и особое наименование: страсть благодарности. За что? Не за ту мукý, конечно, что привезли ему студийцы из артистической поездки, не за те яблоки, что они ему, уже по его выходе из студии, отложили: за доверие к человеку, за переборотое недоверие к князю, за сердце, более зоркое, чем глаза, ослепленные кумачами знамен и иероглифами декретов.
Кстати, по поводу яблок — такой диалог: «…Мы на вашу долю отложили. Вот адрес, а вот билет на получение». — «Ну, что Вы беспокоитесь. Вам нужнее, я и без яблок проживу». — «Нет, нет, мы знаем, что Вы больше каждого из нас работаете!» — «Признаюсь, это был, может быть, самый ценный для меня в жизни комплимент, это признание из уст коммуниста». — Признаюсь, в свою очередь, что это может быть одно из самых ценных слов, мною в жизни слышанных, это признание из уст князя.
Дело кн. Волконского в Пролеткульте, как лектора — ценно, как учителя — огромно. Дарований, по его словам, было мало (как везде!), из всех своих слушателей он самородным золотом называет только одного, — да и тот жил где-то на окраине и пришел на урок только раз, — «но была свежесть и горячность восприятия… Не скажу, чтобы искусство от них со временем выиграло, но Россия о них возрадуется». — Дай Бог! — Мое же русское и человеческое сердце, пока будет биться, не устанет радоваться этому простому чуду: человеку — вне века, князю вне княжества, человеку — без оговорок: че — ло — ве — ку.
Каково же отношение руководителей, честнее: властей?
Действенной злобы с их стороны я не вижу. Скорее робкие поползновения к сближению, примирению. Им — морально — горше доставалось от Волконского, чем ему от них: он был им живой укор и — что хуже — живое опровержение. В самом деле: у человека, во имя рабочих, все отняли — он отдает им свои лучшие часы, при этом всенародно восставая на диктатуру пролетариата. Все отняли, стало быть — не все, коли дает? Что же это, чего нельзя отнять? И почему, ненавидя «пролетариат», любит рабочих?
Сколько загадок! А главное: как, лишенный всего не только «излишнего», но — насущного, как: свет, тепло, хлеб, — как, живя хуже последнего, — пишет книгу за книгой и, очевидно, радуется — раз жив?
Не все над этими вопросами думают, — ответ на них все чувствуют. Как тот маленький коммунист в Борисоглебске, арестованный за то, что посещал семью Волконских и на допросе ответивший: «Я не к князьям ходил — к людям», — так каждый коммунист, высший или низший, поскольку в нем сохранилось человеческого, ощущал над собою эту власть человека. Короче: коммунистам перед Волконским было стыдно и они его, не понимая, чтили. — «Вы, конечно, представитель буржуазной культуры, но вы по-своему верны себе», — вот отзыв о Волконском комиссара юстиции Красикова. А вот женский голос, умоляющий по телефону Волконского читать лекции в такой-то тысяча-первой студии. Из лекции ничего не вышло, но дня три спустя лектор, к удивлению своему, получает от той самой просительницы продовольственную посылочку. Обладательница умоляющего голоса оказалась видной коммунисткой.
Капли в море, да. Бедные капли масла в кровавом море, и не им утишить бурю! Но не будем, подобно коммунистам, измерять всякую ценность — количеством, и не забудем, что на каждого зверя — есть Орфей!
___________
Нам остается еще сказать о речи Волконского. Основное свойство ее — гибкость: в описании — смычок, в диалоге — шпага, в мысли — резец. С ним можно быть спокойным: не слово его ведет, и не он — слово. Как во всем существе — вольный союз: в лад. Это не ювелирная работа (кропотливо-согнутая спина эстетства) и не каменный обвал косноязычного вдохновения: ни вымученности, ни хаоса. Речь стройна и пряма, как он сам. Эта речь с ним родилась, она его неотъемлемость, вторая плоть.
Перекладывать мысли в слово, — это уже хромые мысли: мысль и слово, в счастливые творческие часы, рождаются единовременно. Мучительное: «как бы это сказать?» — только неосознанное: «как бы это додумать?» Поиски слова — доказательство несовершенности мысли, уточните мысль, — отточится слово. Так, а не иначе получается формула. — Совершенная мысль не может не быть формулой.
Но есть, кроме формулы, еще одно великое очарование речи, ее основная магия: ритм, вздох. Ритм для эмоционального начала то же, что формула — для мысли: доказательство существования. «Дышу, стало быть существую», — так говорит душа.
Дыхание кн. Волконского глубóко и высóко, в ритме его спокойно и просторно, как хорошему пловцу в полноводной реке. Раскроем первую стр<аницу> «Фалль». Окно над водопадом. «Море сияет далёко, река шумит глубóко, и между ними — воздух и пространство»… Что это, как не совершенный вздох? А вот еще в том же «Фалле» — видение древнего бога: «Там, на той стороне реки, на лужайке над горой стоит из бронзы человек, — Аполлон называют его; не видать на чем он стоит, — облака у ног его, он точно на небе, или небесный на земле»… и через две строки: «И сколько лет уже с террасы белокаменные львы вперяют недвижные очи в недвижные ночи».
Вот запечатление последнего мгновения тела на земле: «…Так, среди снега и мороза, предстал под красным покровом и обложенный римскими пальмами гроб кн. М. А. Волконской… Черные из-под белых подушек глядели еловые ветви, в то время как зеленые пальмы ложились в могилу… Двадцать лет изымалось из реального существования и переходило в тончайший дым воспоминаний. И в то время, как неумолимая земля заравнивала грань между настоящим и уходящим — за белым саваном равнины я видел, поверх макушек внизу лежащего леса, как море сочеталось с небом…»
Что поражает в этом описании? Действенность предметов, являющих смерть. Я бы сказала: здесь смерть (неподвижность) дана в движении. Красный гроб предстает, как триумфатор, ели из-под снегу глядят, зеленые пальмы сами ложатся в могилу, земля сама заравнивает грань. — Все вне человека. — И от столького движения — покой. Но не в этом одном отрывке «неодушевленные» предметы у автора живут и движутся. «Как мягко, низко земля подползает под воду; стелется белый песок под светлую струю…» «Вода в затонах рябится и серебрится. Взлетает чибис с хохолком, крылья белым подбиты и две лапки еще висят, — не успел подобрать… Телега стучит и толкается…»
Так воспринимают дикари, так воспринимают дети, так воспринимают поэты. Но, помимо сердитой толкучей телеги, есть в этом отрывке ценность иного порядка: «рябится и серебрится», — как сразу — путем созвучия — рябь и плеск! О, Волконский великий мастер созвучия! Возьмем простейшие: «Вода рябится и серебрится…» «Коляска катится, кучер на козлах покачивается. Луна стала высокая, далекая…» А вот созвучие уже более сложное, менее явное, более внутреннее, — о револ<юционном> Петербурге: «Решетки каналов валились, подвалы домов заливались…» Каналов — подвалов, валились — заливались, слышите перекличку, помимо смыслового содержания вырастающую в жалобу? Сами слова стонут, взывают. Вот она, здравому смыслу неподсудная, в победоносности своей бесспорная — Магия слова (заклинания, причитания, заговоры, плачи)! Ряд коротких ударов, — слушайте: «Жаворонки взлетают, падают, реют, пропадают…» «Поезд пыхтит, раскачивается, пыхтенье напрягается, стук учащается, слабеет, пропадает…» Нарастание перешло в напряжение — высшая точка напряжения — и разрешение, на нет-схождение…
Слышу отсюда реплику: «После всего, что за последнее время было сделано по разработке прозаического ритма…»
Ритмика Волконского мне дорога, потому что она природна. В ней — если кто-нибудь и побывал, то только, вероятно, один — Бог!
___________
Столь же природна: боговдохновенна, как ритмика Волконского, и образность его. Вот сломанная шестиствольная рябина, звездой лежащая на земле. (Шесть стволов — лучи.) Вот «островки древесные», вот «мыс оврага»… «Архитектурная аллея»… (Сразу — видение готического собора.) «Крылатое вращение жнейки, трескучее подпрыгивание сеялки…» Остановимся на жнейке. Тремя словами дано все: и движение, и форма, — вплоть до дуновения в лицо… Попробуйте переставить: вращение крылатой жнейки… Первое, что встает: а действительно ли крылата? Вся тяжесть внимания — на крылья, — задержка восприятия — ничего не встает. А крылатое вращение — вне проверки: летишь!
А вот образы слуховые (почти отсутствующие, кстати, у имажинистов, за исключением Есенина, поразительно тугих на ухо). «Рубленая речь», «гортанное ррраз» косаря, «жужжливое негодование» шмеля. — В чем сила? Пропускаются все промежуточные слова, определение дается так, как оно в первую секунду возникает, дается почти само восприятие. Опять-таки — прием детский: взрослые, развращенные газетным, сплошь лишним языком, в конце концов так даже и не думают. Определение «жужжливо негодуя» — формула. К образам отнесу и зачаровавшее меня «волчье исподлобье». Все мы знаем, что значит глядеть исподлобья, все мы знаем, что волк в глаза не глядит. Автор взял и соединил это человеческое полугляденье с этим волчьим не-гляденьем, и получился самый неприятный из взглядов. Возьмем исподлобье (как существительное) отдельно. «Это исподлобье…» То есть как «это»? Не опечатка ли? Но определим исподлобье: «мрачное, хитрое, волчье» — и исподлобье живет. Так, в данном случае: есть качество — есть предмет.
В словесной области, обратно чем в области человеческой, все дело или почти все дело — в соседстве. Это когда-то отлично знали Романтики.
___________
Речь Волконского, как всякое истинное творчество, питается двумя источниками: личностью и народностью. Личное, мне кажется, достаточно встает из только что прочитанного. Проследим его речь по руслу народности. Русская речь Волконского — сокровищница. Такое блаженство я испытывала, только читая в 1921 г. «Семейную Хронику» Аксакова. Это не гробокопательство, не воскрешение в XX в. допотопных останков, не витрина музея, где к каждому предмету — тысяча и одно примечание, — это живая, живучая и певучая русская молвь, такая, как она поет еще в далеких деревнях и в памятливых сердцах поэтов.
Когдатошний, побывка, займище, помеха, посейчас, кладовушка, «скламши ручки» (тип уездной барышни), оглядка, порубка, потрава, «пить-не-пью», — сокращенные: фырк, дых, вспых, — говорю: сокровищница. Из книги его выходишь, как из живительного потока. И, заметьте, — никогда в проявлениях отвлеченной мысли, народ не мыслит отвлеченно, и отвлеченная мысль — вне народности. На каждый радиус своего духовного круга — своя речь.
Думаю, в преподавательской деятельности кн. Волконского в Сов<етской> России, одна из главных его заслуг — чистка русской речи, беспощадное — путем высмеивания — смывание с нее чужеземной накипи. Перечтите «Разрушение» — посмеетесь. Я нигде не упоминала о юморе Волконского, это целая стихия! Его помещичья «Глушь» — не продóлженные ли «Мертвые Души» (как современная Россия — не продóлженная ли гоголевская)? И то, что его вплотную роднит с Гоголем: тот же, непосредственно из самой гущи российского быта — взлет над этой гущей, легкость перемещения, неприкрепленность к именно этой пяди земли, — то, чего так кровно был лишен Чехов: местное, одоленное вселенским, быт — бытием. Вот на прощание последний отрывок: автор возвращается домой после жирных, пьяных, шумных, разливанных помещичьих именин:
«Мягкой черноземной дорогой еду по лунной степи; в луне лежат убранные поля, и копны, как таинственные крепостные сооружения, под лунным светом щетинятся. В луне лежат деревни; окна спящих изб блестят… Еду и вспоминаю слышанные разговоры…»
___________
Я назвала свою статью «Кедр»: древо из высоких высокое, из прямых прямое, двойное воплощение Севера и Юга (кедр ливанский и кедр сибирский), дерево редкое в средней России. Двойная сущность Волконского: северное сияние духа — и латинский его (материнский) жест. И — двойная судьба его, двойной рок, тяготеющий над родом Волконских: Сибирь — и Рим! (Тяготеющий и над внуком декабриста, ибо — четыре года в Сов<етской> России, — чем не Сибирь?)
Апологию свою я назвала «Кедр» и потому еще, что это на десяти тысячах его бывших десятин — самая любимая его пядь земли: сибирский кедр, его руками посаженный! «Он могуч, он виден издалека, его зелень бархатна, он царствует посреди елок…» Друзья, последняя остановка! «Могуч» — и: «его зелень бархатна», — мощь и нега — это сопоставление Вам ничего не говорит?
«И знайте, что из всего, что я описывал, сохранилась у меня только — и сейчас, пока пишу эти строки, она лежит передо мной — кедровая шишка от кедра, что остался там, на Чумаковой вершине».
Прага, январь 1923
«ВОЗРОЖДЕНЩИНА»
«Замолчанный голос» — под таким названием мне все последние недели мерещилась статья, которую я своим долгом почитала написать о молодом замолчанном журнале «Своими путями». Этой статьи я уже не напишу — журнал уже не замолчан — о нем на страницах «Возрождения» (№ 125, 22 <сентября> — 5 октября, «Эмигрантщина») промолвил г. Цуриков.
В первых же строках общее направление журнала определяется словами: «рабски-собачье отношение к родине».
«Отказавшись от огульной клички Совдепия, редакция так же огульно все находящееся в России рабски-покорно признала Россией. Такое заключение мы вынуждены сделать, прочтя на заголовке журнала „Весь номер посвящен России“ и найдя в нем, наряду с изображением усопшего патриарха Тихона в гробу, целую галерею отвратных портретов палачей России: Крыленко, Раковского, Дзержинского, Каменева, Литвинова и др.»… «Журнал, идейный журнал не есть историческая хроника и не справочник-календарь, где наряду со святыми помещены советы молодым хозяйкам о способе лечения от укуса ос».
Оставляя в стороне последнее, совсем слабое, уподобление, рассмотрим упрек журналу в историзме. Тоном, каким говорят: «журнал не есть базар», нельзя говорить: «журнал не есть история». Элемент истории никогда и нигде не является элементом ни позорным, ни запретным. Я знаю, что Дзержинский — палач, но я также знаю, что Дзержинский — история. Кроме того, помещение в журнале портретов исторических лиц еще не делает журнала — исторической хроникой. Итак, согласившись с г. Цуриковым, что журнал «Своими путями» не есть историческая хроника, напомню г. Цурикову, что журнал (ни этот, ни другой, ни третий) не является ни часовней, где должны находиться только иконы, ни спальней, где находятся лишь портреты близких, ни Пантеоном — изображения богов и героев. Журнал есть живое, текучее и текущее, не историческая хроника, а сегодняшний день, то есть — завтрашняя история.
Не отзываясь на такие выкрики, как: «блудная, типично эмигрантская затея» — выкрики, объясняемые явным нарушением душевного равновесия и посему достойные снисхождения, останавливаюся на более существенном заскоке — уже не чувств, а мысли: «Можно целовать раны, но нельзя умиляться перед (!) проказой». Умиляться проказой, в толковании г. Цурикова, значит — помещать в номере, посвященном современной России, портрет Дзержинского без подписи «палач». Но самое удивительное впереди. Автор, в своем негодовании, доходит до того, что нынешней («собачьи-рабски преданной» России) эмиграции ставит в пример — прежнюю: «Надо признать, что прежние эмигранты такой „жертвенной объективностью“ и „всеприемлющей безличностью“ не обладали, начиная с Герцена и кончая Лениным». Здесь, г. Цуриков, остановка. Объединять в одном смысловом понятии и одном словесном периоде Герцена и Ленина (NB! того же Дзержинского) — не есть ли это оскорбление читателя худшее, нежели помещение на страницах одного журнала изображений Патриарха Тихона и Дзержинского? Г. Цуриков Герцена и Ленина — объединяет: вот-де, эмигрант Герцен, и вот-де, эмигрант Ленин, и оба, и т. д. «Своими путями» Патриарха Тихона Дзержинскому — противопоставляют: вот Патриарх Тихон в гробу, а вот — Дзержинский. Патриарх Тихон и Дзержинский на страницах журнала «Своими путями» и страницами друг от друга отделенные — соседи. Герцен и Ленин в статье г. Цурикова в теснейшем родстве. «Эмигрант эмигранту рознь» — вот ответ каждого мыслящего человека на Герцена и Ленина. «Патриарх — палачу рознь», — так, за очевидностью, не скажет никто, кроме автора статьи. В этом нравоучительном примере Герцена и Ленина оскорблен именно читатель (г. Цуриков о портретах: «грубое оскорбление читателя») — и не только рядовой газетный. И оскорбление непростительнейшее — оскорблена память большого русского писателя и, что еще больше, большого человеческого сердца. Ибо Герцен так же обратен Ленину, как «жена Гумилева» — его расстрельщикам. Не сомневаюсь, впрочем, что никакого намерения оскорбить память Герцена, объединяя его с Лениным, у г. Цурикова не было: показательная обмолвка, — так, с языка сорвалось. Посему советую в следующий раз, давая советы, поясняйте: с кого именно нам брать пример с Ленина или с Герцена? Ибо вышеупомянутый совет, в настоящем его виде, звучит не иначе как: Ленин и K°.
«Хорошо еще, что текст журнала таков, что большевики не смогут пустить его в Россию». Вот, за исключением одобрительного отзыва об одной из статей и, в другом месте, слова «снобический», относящегося к тону редакционной статьи (столь же далекому от снобизма, как тон г. Цурикова — от просто-приличного), — единственный отзыв автора о содержании 80 стр<аниц> петита. Портрет Дзержинского увидел, а текст о Патриархе проглядел. Проглядел также статьи о русской прозе, о русской поэзии, о русской деревне, о русской школе, о русской книге, о русском студенчестве, о русском художнике, — добросовестно проглядел весь текст. (Проглядел, то есть — пропустил.) Но удовольствуемся пока заявлением г. Цурикова, что журнал из-за антибольшевицкого текста в Россию допущен не будет. С одной стороны — «умиление коммунистической проказой» и «рабски-собачье ползанье перед родиной», с другой стороны — «антибольшевицкий текст». Стало быть, все авторские громы сводятся к помещению портретов палачей без подписи: вор-палач-расстрельщик и пр. То есть вся статья — к грубейшей демагогии. Дзержинский — нарицательное, и пояснений не требует.
«Удовлетворение эмигрантских похотей не есть ни служение, ни путь к родине». Желание увидеть лицо врага — не похоть. Ненависть — страсть и требует достоверности. Дзержинский — олицетворение моей ненависти, хочу видеть ее лицо.
Статья г. Цурикова кончается призывом выбросить за борт всю «эмигрантщину». Состоя сотрудником «Своими путями», я охотно бы, наравне с остальными «нечистыми», дала себя выбросить за борт ковчега г. Цурикова, если бы на борту сего ковчега когда-нибудь находилась.
Но на борту сего ковчега не находилась никогда, ибо видела, из каких бревен он состоит, и с первых секунд знала, что ковчег — гнилой.
И — последнее: если в порядке истории помещенные портреты Дзержинского, Литвинова, Раковского, по мнению г. Цурикова, пятнают журнал «Своими путями», то в порядке вечности существующие имена Г. Гейне, Фета и Гумилева, по моему чувствованию, неуместны на злободневных устах автора «Эмигрантщины».
Прага, 8 октября 1925
ПОЭТ О КРИТИКЕ
«Souvienne vous de c'eluy à qui comme on demandoit à quoi faire il se peinoit si fort en un art qui ne pouvait venir à la connaissance de guère des gens».
— «J’en ay assez de peu», répondit-il. «J'en au assez d'un. J'en ay assez de pas un.»
Montaigne[30]Критика: абсолютный слух на будущее.
M. Ц.I. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ КРИТИКОМ…
Первая обязанность стихотворного критика — не писать самому плохих стихов. По крайней мере — не печатать.
Как я могу верить голосу, предположим N, не видящего посредственности собственных стихов? Первая добродетель критика — зрячесть. Этот, не только раз — пишет, а раз печатает — слеп! Но можно быть слепым на свое и зрячим на чужое. Бывали примеры. Хотя бы посредственная лирика громадного критика Сент-Бева. Но, во-первых, Сент-Бев писать перестал, то есть поступил по отношению к себе, поэту, именно как большой критик: оценив, осудил. Во-вторых, даже — пиши он дальше, Сент-Бева, слабого поэта, покрывает Сент-Бев, большой критик, вождь и пророк целого поколения. Стихи — слабость большого человека, не больше. В порядке слабости и в порядке исключения. Большому — чего не простишь!
Но вернемся к достоверностям. Сент-Бев, за плечами которого большое творческое деяние, стихи писать перестал, то есть — поэта в себе отверг. N, за которым никакого деяния нет, не перестает, то есть на себе, как на поэте, упорствует. Сильный, имевший право на слабость, это право презрел. Слабый, этого права не имевший, на нем провалился.
— Судья, казни себя сам!
Приговор над собой, поэтом, громадного критика Сент-Бева — мне порукой, что он плохого во мне не назовет хорошим (помимо авторитета — оценки сходятся: что ему — плохо, то мне). Суд Сент-Бева, критика, над Сент-Бевом, поэтом — дальнейшая непогрешимость и неподсудность критика.
Поощрение же посредственным критиком N посредственного поэта в себе — мне порукой, что он хорошее во мне назовет и плохим (помимо недоверия к голосу — оценки не сходятся: если это хорошо, то мое, конечно, плохо). Ставь мне в пример Пушкина — я, пожалуй, промолчу и, конечно, задумаюсь. Но не ставь мне в пример Ν — не захочу, а рассмеюсь! (Что стихи стихотворного, умудренного всеми чужими ошибками, критика, как не образцы? Не погрешности же? Каждый, кто печатает, сим объявляет: хорошо. Критик, печатающий, сим объявляет: образцово. Посему: единственный поэт, не заслуживающий снисхождения — критик, как единственный подсудимый, не заслуживающий снисхождения — судья. Сужу только судей.)
Самообольщение N-поэта — утвержденная погрешимость и подсудность N-критика. Не осудив себя, стал подсудным, и нас, подсудимых, обратил в судей. Просто плохого поэта N я судить не буду. На это есть критика. Но судью N, повинного в том, в чем винит меня — судить буду. Провинившийся судья! Спешный пересмотр всех дел!
Итак: когда налицо, большого деяния и большого, за ним, человека, не имеется, следовательно — в порядке правила: плохие стихи стихотворному критику непростительны. Плохой критик — но, может быть, стихи хорошие? Нет, и стихи плохие. (Ν — критик.) Плохие стихи — но, может быть, критика хорошая? Нет, и критика плохая. N-поэт подрывает доверие к N-критику, и N-критик подрывает доверие к N-поэту. С какого конца ни подойди…
Подтверждаю живым примером. Г. Адамович, обвиняя меня в пренебрежении школьным синтаксисом, в том же отзыве, несколько строк до или спустя, прибегает к следующему обороту:
«…сухим, дерзко-срывающимся голосом».Первое, что я почувствовала — невязка! Срывающийся голос есть нечто нечаянное, а не нарочное. Дерзость же — акт воли. Соединительное тире между «дерзко» и «срывающимся» превращает слово «дерзко» в определение к «срывающимся», то есть вызывает вопрос: как именно срывающимся? не: от чего срывающимся?
Может ли голос сорваться дерзко? Нет. От дерзости, да. Заменим «дерзко» — «нагло» и повторим опыт. Ответ тот же: от наглости — да, нагло — нет. Потому что и нагло и дерзко-умышленное, активное, а срывающийся голос — нечаянное, пассивное. (Срывающийся голос. Падающее сердце. Пример один.) Выходит, что я нарочно, по дерзости, сорвала голос. Вывод: отсутствие школьного синтаксиса и более серьезное отсутствие логики. Импрессионизм, корни которого, кстати, понимаю отлично, хотя подобным и не грешу. Г. Адамовичу хотелось дать сразу впечатление и дерзости и сорвавшегося голоса, ускорить и усилить впечатление. Не подумав, схватился за тире. Злоупотребил тире. Теперь, чтобы довести урок до конца:
Гневно-срывающимся, да. Явно-срывающимся, да. Гневно, явно, томно, заметно, злобно,[31] нервно, жалко, смешно… Годится все, что не содержит в себе преднамеренности, активности, все, что не спорит с пассивностью срывающегося голоса.
Дерзким, срывающимся — да, срывающимся до дерзости — да, дерзко-срывающимся — нет.
Врачу, исцелися сам!
Ряд волшебных изменений Милого лица…Не вправе судить поэта тот, кто не читал каждой его строки. Творчество — преемственность и постепенность. Я в 1915 г. объясняю себя в 1925 г. Хронология — ключ к пониманию.
— Почему у Вас такие разные стихи? — Потому что годы разные.
Невежественный читатель за манеру принимает вещь, несравненно простейшую и сложнейшую — время. Ждать от поэта одинаковых стихов в 1915 г. и в 1925 г. то же самое, что ждать от него же в 1915 г. и в 1925 г. одинаковых черт лица. — «Почему Вы за 10 лет так изменились?» Этого, за явностью, не спросит никто. Не спросит, а удостоверит, и, удостоверив, сам добавит: «Время прошло». Точно так же и со стихами. Параллель настолько полна, что продлю ее. Время, как известно, не красит, разве что в детстве. И никто мне, тридцатилетней, которую знал двадцатилетней, не скажет: «Как вы похорошели». Тридцати лет я стала очерченней, значительней, своеобразней, — прекрасней, может быть. Красивей — нет. То же, что с чертами — со стихами.
Стихи от времени не хорошеют. Свежесть, непосредственность, доступность, beauté du diable[32] поэтического лица уступают место — чертам. «Вы раньше лучше писали» — то, что я так часто слышу! — значит только, что читатель beauté du diable мою предпочитают — сущности. Красивость — прекрасности.
Красивость — внешнее мерило, прекрасность — внутреннее. Красивая женщина — прекрасная женщина, красивый ландшафт — прекрасная музыка. С той разницей, что ландшафт может кроме красивого быть и прекрасным (усиление, возведение внешнего до внутреннего), музыка же, кроме прекрасной, красивой быть не может (ослабление, низведение внутреннего до внешнего). Мало того, чуть явление выходит из области видимого и вещественного, к нему уже «красивое» неприменимо. Красивый ландшафт Леонардо, например. Так не скажешь.
«Красивая музыка», «красивые стихи» — мерило музыкальной и поэтической безграмотности. Дурное просторечие.
Итак, хронология — ключ к пониманию. Два примера: суд и любовь. Каждый следователь и каждый любящий от данного часа идет назад, к истоку, к первому дню. Следователь-путь по обратному следу. Отдельного поступка нет, есть связь их: первый и все последующие. Данный час — итог всех предшествующих и исток всех будущих. Человек, не читавший меня всю от «Вечернего Альбома» (детство) до «Крысолова» (текущий день), не имеет права суда.
Критик: следователь и любящий.
Не доверяю также критикам — не то критикам, не то поэтам. Не удалось, сорвалось, уйти из этого мира не хочется, но пребывание ущемленное, не умудренное, а соблазненное собственным (неудачным) опытом. Раз я не смог — никто не может, раз нет вдохновения для меня — нет вдохновения вообще. (Было бы у меня первого бы.) «Я знаю, как это делается…» Ты знаешь, как это делается, но ты не знаешь, как это выходит. Следовательно, ты все-таки не знаешь, как это делается. Поэзия — ремесло, тайна — техника, от большей или меньшей степени Fingerfertigheit (проворства рук) успех. Отсюда вывод: дара нет. (Был бы γ меня первого бы!) Из таких неудачников обыкновенно выходят критики — теоретически поэтической техники, критики-техники, на лучший конец — тщательные. Но техника, ставшая самоцелью, сама и самый худой конец.
Некто, от невозможности быть пианистом (растяжение жилы), сделался композитором, от невозможности меньшего — большим. Восхитительное исключение из грустного правила: от невозможности большого (быть творцом) — делаться меньшим («попутчиком»).
То же самое, как если бы человек, отчаявшись найти золото Рейна, заявил бы, что никакого золота в Рейне нет, и занялся бы алхимией. Взять то-то и то-то и получится золото. Да где ж твое что, раз знаешь — как? Алхимик, где ж твое золото?
Мы золото Рейна ищем и мы в него верим. И в конце концов — отличие от алхимиков — мы его найдем.[33]
Тупость так же разнородна и многообразна, как ум, и в ней, как в нем, все обратные. И узнаешь ее, как и ум, по тону.
Так, например, на утверждение: «никакого вдохновения, одно ремесло» («формальный метод», то есть видоизмененная базаровщина), — мгновенный отклик из того же лагеря (тупости): «никакого ремесла, одно вдохновение» («чистая поэзия», «искорка Божия», «настоящая музыка», — все общие места обывательщины). И поэт ничуть не предпочтет первого утверждения второму и второго — первому. Заведомая ложь на чужом языке.
II. НЕ СМЕЕТ БЫТЬ КРИТИКОМ…
…не должно сметь
Свое суждение иметь.
Господа, справедливости, а нет — хоть здравого смысла! Для того, чтобы иметь суждение о вещи, надо в этой вещи жить и ее любить.
Возьмем грубейший, то есть наинагляднейший пример. Вы покупаете себе пару сапог. Что вы о них знаете? Что они вам подходят — или не подходят, нравятся — или не нравятся. Что еще? Что они куплены в таком-то, предположим, лучшем, магазине. — Отношение свое к ним и фирму. (Фирма, в данном случае, имя автора.) И больше ничего. Можете ли вы судить о их прочности? Носкости? Качественности их? Нет. Почему? Потому что вы не сапожник и не кожевенник.
Судить о качественности, сущности, о всем, что не видимость вещи, может только в этой области живущий и работающий. Отношение — ваше, оценка вам не принадлежит.
То же, господа, и точно то же — с искусством. Вот вам мой стих. Он вам нравится или не нравится, доходит или не доходит, «красив» (для вас) или не красив. Но хорош он, как стих, или плох, могут сказать только знаток, любящий и… мастер. Судя о мире, в котором вы не живете, вы просто совершаете превышение прав.
Почему я, поэт, говоря с банкиром или с политиком, не даю ему советов — даже post factum, после банковского или государственного краха. Потому что я ни банка, ни государства не знаю и не люблю. Говоря с банкиром или с политиком я, в лучшем случае, спрашиваю — «Почему Вы в таком-то случае поступили так-то?» Спрашиваю, то есть желаю услышать и, по возможности, усвоить суждение о вещи, мне незнакомой. Не имея суждения и не смея иметь его, хочу услышать чужое. — Поучаюсь. —
Почему, в свою очередь, вы, банкиры и политики, говоря с сапожником, не даете ему советов? Потому что каждый сапожник, в лицо вам или себе в кулак, рассмеется: «Не ваше, барин, дело». И будет прав.
Почему же вы, те же банкиры и политики, говоря со мной, поэтом, даете мне советы: «Пишите так-то» и: «не пишите — так» и почему — самое изумительное — я, поэт, никогда еще, ни разу никому из вас, как тот предполагаемый сапожник, не рассмеялась в лицо: «Не ваше, барин, дело».
Есть в этом тонкий оттенок. Сапожник, рассмеявшись, не боится оскорбить — дело «барина» ведь выше. Он смехом только указывает на несоответствие. А поэт, рассмеявшись, оскорбит неминуемо — «поэт» обывательски ведь выше «банкира». Наш смех, в данном случае, не только указание другому места, но указание места — низшего. «Небо», указующее «земле». Так думает, так делит обыватель. И этим, сам не зная, лишает нас нашей последней защиты. Ничего оскорбительного — не понимать в сапогах, полное оскорбление — не понимать в стихах. Наша самооборона — оскорбление другого. И много, много должно воды утечь, обиды набежать, прежде чем поэт, переборов ложный стыд, решится сказать в лицо адвокату — политику — банкиру: «Ты мне не судья».
Дело не в выше и не в ниже, дело только в твоем невежестве в моей области, как в моем — в твоей. Ведь те же слова я скажу — уже говорю — и живописцу, и скульптору, и музыканту. Оттого ли что считаю их ниже? Нет. И тебя не считаю ниже. Мои слова и тебе, банкиру, и самому Игорю Стравинскому, если не понимает стихов, все те же: «Ты мне не судья».
Потому что — каждому свое.
Все вышесказанное мгновенно отпадает при наличии одного: перешагнуть через порог профессии. Так, больше чем к критикам и поэтам прислушивалась к словам покойного Ф. Ф. Кокошкина, любившего и понимавшего стихи во всяком случае не меньше меня. (Общественный деятель.) Так, больше критиков и поэтов ценю слово А. А. Подгаецкого-Чаброва (человек театра).
Чтите и любите мое, как свое. Тогда вы мне судьи.
Вернемся к сапогам и стихам. Какие сапоги плохи? Те, что развалятся (сапожник). Те, что развалились (покупатель). Какое произведение искусства плохо? То, что не уцелеет (критик). То, что не уцелело (публика). Ни сапожнику, ни критику — мастерам своего дела — проверка не нужна. Знают наперед. Покупателю же, пары ли сапог, томика ли стихов, нужна давность с вещью, проверка временем. Вся разница в длительности этой проверки. Плохой сапог познается через месяц, для плохого произведения искусства, зачастую, нужен век. Либо «плохое» (непонятное, не нашедшее пророка) окажется прекрасным, либо «прекрасное» (не нашедшее судьи) окажется плохим. Здесь мы уже сталкиваемся с качеством матерьяла сапогов и стихов и всеми его последствиями, с учтимостью материи и неучтимостью духа. Каждый средний сапожник, при первом взгляде на сапог, скажет: хорош или не хорош. Ему на это не нужно чутья. Критику же, чтобы определить сейчас, хороша или нет вещь раз навсегда, нужно, кроме всех данных знания, чутье, дар провидца. Матерьял башмака — кожа — учтим и конечен. Матерьял произведения искусства (не звук, не слово, не камень, не холст, а — дух) неучтим и бесконечен. Нет башмаков раз навсегда. Каждая пропавшая строчка Сафо — раз навсегда. Поэтому (учтимость матерьяла) сапоги у сапожника в лучших руках, чем стихи в руках у критика. Нет непонятых сапог, а сколько непонятых стихов!
Но и сапог и стих уже при создании носят в себе абсолютное суждение о себе, то есть с самого начала — доброкачественны или недоброкачественны. Доброе же качество у обоих одно — неснашиваемость.
Совпасть с этим внутренним судом вещи над собою, опередить, в слухе, современников на сто, а то и на триста лет — вот задача критика, выполнимая только при наличии дара.
Кто, в критике, не провидец — ремесленник. С правом труда, но без права суда.
Критик: увидеть за триста лет и за тридевять земель.
Все вышесказанное отношу и к читателю. Критик: абсолютный читатель, взявшийся за перо.
III. КОГО Я СЛУШАЮ…
Слушаю я, из не-профессионалов (это не значит, что я профессионалов — слушаю) каждого большого поэта и каждого большого человека, еще лучше — обоих в одном.
Критика большого поэта, в большей части, критика страсти: родства и чуждости. Посему — отношение, а не оценка, посему не критика, посему, может быть, и слушаю. Если из его слов не встаю я, то во всяком случае виден — он. Род исповеди, как сны, которые видим у других: действуешь-то ты, но подсказываю-то я! Право утверждения, право отрицания — кто их оспаривает? Я только против права суда.
Идеальный пример такого любовного самодовления — восхитительная книга Бальмонта «Горные вершины», собирательное стекло всех его «да». Почему я верю Бальмонту? Потому что он большой поэт. И потому что он говорит о любимом. Но не может ли Бальмонт ошибиться? Может — и недавно сильно ошибся — в X. Но соответствует ли Χ видению Бальмонта или не соответствует — в своей оценке Бальмонт Бальмонту соответствует, то есть: Бальмонт, большой поэт, дан во весь рост. Глядя на X, увидел себя. Минуя X, видим Бальмонта. А на Бальмонта глядеть и Бальмонта видеть — стоит. Следовательно, даже в случае промаха, суд поэта над поэтом (в данном случае — прозаиком) — благо.
Кроме того, можно ли ошибиться — в отношении? Ведь вся оценка Бальмонтом X — явное отношение. Слыша и видя в нем то-то и то-то, он испытывает то-то и то-то. С чем тут спорить? Настолько единолично, что и учесть невозможно.
Оценка есть определение вещи в мире, отношение — определение ее в собственном сердце. Отношение не только не суд, само вне суда.
Кто же оспаривает мужа, которому нравится явно уродливая жена? Отношению все позволено, кроме одного: провозгласить себя оценкой. Возгласи тот же муж ту же уродливую жену первой красавицей в мире или даже в слободе — оспаривать и опровергать будет всякий. Отношение, наикрайнейшее и в какую угодно сторону, дозволено не только большому поэту, но и первому встречному — при одном условии: не переходить за границы личного. «Я так нахожу, мне так нравится», с наличностью «я» и «мне» я и сапожнику позволю отрицать мои стихи. Потому что и «я» и «мне» безответственны. Но попробуй тот же сапожник, опустив я и мне, утвердить мою работу вообще негодной — что тогда? — что всегда: улыбнусь.
Можно ли вывести из примера Бальмонта и X, что поэт, вообще не судья. Нет, конечно. Если лирик, в силу природы своей, тягу суда заменяет роскошью отношения (тягу бесстрастия — роскошью предпочтения), это не значит еще 1) что все поэты — лирики 2) что лирик не может быть судьей. Он просто не хочет быть судьей, хочет (обратно обывателю) любить, а не судить. Разное: не хотеть и не мочь.
Хочет — может: вся библиографически-критическая деятельность лирика Ходасевича.
Когда я слышу об особом, одном каком-то, «поэтическом строе души», я думаю, что это неверно, а, если верно, то не только по отношению к поэтам. Поэт — утысячеренный человек, и особи поэтов столь же разнятся между собой, как вообще особи человеческие. «Поэт в душе» (знакомый оборот просторечья) такая же неопределенность, как «человек в душе». Поэт, во-первых, некто за пределы души вышедший. Поэт — из души, а не в душе (сама душа — из!). Во-вторых, за пределы души вышедший — в слове. В-третьих, («поэт в душе») — какой поэт? Гомер или Ронсар? Державин или Пастернак — и, не в эпохах разница, а в сущностях — Гёте или Шиллер, Пушкин или Лермонтов, Маяковский или Пастернак, наконец?
Равенство дара души и глагола — вот поэт. Посему — ни непишущих поэтов, ни не-чувствующих поэтов. Чувствуешь, но не пишешь — не поэт (где ж слово?), пишешь, но не чувствуешь — не поэт (где ж душа?) Где суть? Где форма? Тождество. Неделимость сути и формы — вот поэт. Естественно, что не пишущего, но чувствующего, предпочту не чувствующему, но пишущему. Первый, может быть, поэт — завтра. Или завтрашний святой. Или герой. Второй (стихотворец — вообще ничто. И имя ему — легион.
Так, установив, вообще-поэта, наинасущнейшую примету принадлежности к поэзии, утвердим, что на: «суть — форма и форма — суть» и кончается сходство между поэтами. Поэты столь же различны, как планеты.
Необходимая отмета. В суде лирика (отношение) явно преобладает переоценка. (Просмотреть отзывы друг о друге германских и французских романтиков.) В суде эпика (оценка) — недооценка. Пример надличного Гёте, не доценившего Гёльдерлина, не доценившего Гейне, не доценившего Клейста. (Показательная недооценка — именно современников! И из современников — именно соотечественников! Тот же Гёте, доценивший молодого Байрона и переоценивший Вальтер-Скотта.) Пример, как будто разбивающий мое провозглашение права суда поэта над поэтом. Но только как будто. Право суда не есть еще право казни. Точнее: приговор еще не есть казнь. Или: казнь еще не есть смерть. Никому — даже Гёте — и ничьему слову — даже 80-летнему гётевскому — не дано убить Гейне: есмь! Гёте не доценил, а Гейне пребыл. Но (реплика) — будь Гейне слабей, он после нелестного отзыва Гёте мог бы покончить с собой, человеком или поэтом. Но будь Гейне слабей — он бы не был Гейне. Нет, Гейне — жизнь, и неубиенна. Отзыв Гёте о Гейне только лишний стимул к работе. («Проглядел — увидишь!») А для нас, через сто лет, стимул к мысли. Гёте — и такой промах! Откуда? — Задумываемся. — Сначала о Гёте и Гейне, исконной разнице, потом о возрастах: 80 л. и 30 л., о самом возрасте, есть ли возраст и что он есть, об олимпийстве и демонизме, о притяжении и оттолкновении, о многом…
Следовательно, даже в жестоком случае недооценки поэта поэтом, суд поэта над поэтом — благо.
Это — о поэтах. К тому еще прислушаюсь?
Ко всякому большому голосу я прислушаюсь, чей бы он ни был. Если мне о моих стихах говорит старик-раввин, умудренный кровью, возрастом и пророками, я слушаю. Любит ли он стихи? Не знаю. Может быть, никогда их и не читал. Но он любит (знает) все — из чего стихи, истоки жизни и бытия. Он мудр, и мудрости его на меня хватит, на мои строки.
Прислушаюсь к раввину, прислушаюсь к Ромену Роллану, прислушаюсь к семилетнему ребенку, — ко всему, что мудрость и природа. Их подход космический, и если в моих стихах космос есть, они его прослышат и на него отзовутся.
Не знаю, любит ли Ромен Роллан стихи, беру крайний случай — что Ромен Роллан стихов не любит. Но в стихах, кроме стихов (стихотворной стихии), есть еще все стихии. Их Роллан любит достоверно. Ни ему во мне наличность стихии стихотворной, ни мне в нем отсутствие ее — не помешают, помешать не могут. «Я вам скажу по существу…» То есть все, что мне нужно.
Говоря о семилетнем ребенке, говорю также о народе, ο неиспорченном первичном слухе дикаря.
Кого же я еще слушаю, кроме голоса природы и мудрости? Голос всех мастеровых и мастеров.
Когда я читаю стих о море, и моряк, ничего не понимающий в стихах, меня поправляет, я благодарна. То же с лесником, и кузнецом, и каменщиком. Из мира внешнего мне всякое даяние благо, потому что я в нем — нуль. А нужен он мне ежечасно. Нельзя о невесомостях говорить невесомо. Цель моя — утвердить, дать вещи вес. А для того, чтобы моя «невесомость» (душа, например) весила, нужно нечто из здешнего словаря и обихода, некая мера веса, миру уже ведомая и утвержденная в нем. Душа. Море. Если неправильно мое морское уподобление, рушится весь стих. (Убедительны только частности: такой-то час моря, такой-то облик, обык его. На «люблю» в любви не отыграешься.) Для поэта самый страшный, самый злостный (и самый почетный!) враг — видимое. Враг, которого он одолеет только путем познания. Поработить видимое для служения незримому — вот жизнь поэта. Тебя, враг, со всеми твоими сокровищами, беру в рабы. И какое напряжение внешнего зрения нужно, чтобы незримое перевести на видимое. (Весь творческий процесс!) Как это видимое должно знать! Еще проще: поэт есть тот, кто должен знать все до точности. Он, который уже все знает? Другое знает. Зная незримое, не знает видимого, а видимое ему неустанно нужно для символов. «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss».[34] Да, но нужно это Vergängliche[35] знать, иначе мое подобие будет ложным. Видимое — цемент, ноги, на которых вещь стоит. (Французское: «Çа ne tient pas debout»[36]).
Формула Теофиля Готье (сравнить с гётевской!) — которой столько злоупотребляли и злоупотребляют:
«Je suis de ceux pour qui le monde visible existe»[37]
обрывается на самом важном: как средство, а не как цель! Самоценность мира, для поэта, вздор. Для философа — повод к вопросу, для поэта — к ответу. (Не верьте в вопросы поэтов! Все его: почему? — потому! и: зачем? — затем!) Но в доводах (подобиях) поэт должен быть осторожным. Сравнивая, предположим, душу с морем и ум с шахматной доской, я должна знать и океан и шахматы, каждый час океана и каждый ход доски. Изучить — все — жизни не хватит. И вот, на помощь, знатоки своего дела — мастера.
Стих только тогда убедителен, когда проверяем математической (или музыкальной, что то же) формулой. Проверять буду не я.
Поэтому со стихами о море иду к моряку, а не к любителю поэзии. Что мне даст первый? Костяк — к душе. Что мне даст второй? В лучшем случае — ослабленное эхо души же, меня же. Во всем, что не душа, мне нужен — другой.
Так, от профессий, ремесл — к наукам. От мира заведомого к миру познаваемому. Так, от моряка, лесника, кузнеца, слесаря, пекаря — к историку, геологу, физику, геометру, — все расширяя и расширяя круг.
Ни один поэт, от рождения, не знает почвенных наслоений и исторических дат. Что я знаю от рождения? Душу своих героев. Одежды, обряды, жилища, жесты, речь — то есть все, что дается знанием, я беру у знатоков своего дела, историка и археолога. В поэме об Иоанне д'Арк, например:
Протокол — их. Костер — мой.IV. КОГО Я СЛУШАЮСЬ
«J'entends des voix, disait-elle,
que me commandent…»[38]
Слушаюсь я чего-то постоянно, но не равномерно во мне звучащего, то указующего, то приказующего. Когда указующего — спорю, когда приказующего — повинуюсь.
Приказующее есть первичный, неизменимый и не заменимый стих, суть предстающая стихом. (Чаще всего последним двустишием, к которому затем прирастает остальное.) Указующее — слуховая дорога к стиху: слышу напев, слов не слышу. Слов ищу.
Левей — правей, выше — ниже, быстрее — медленнее, затянуть-оборвать, вот точные указания моего слуха, или — чего-то — моему слуху. Все мое писанье — вслушиванье. Отсюда, чтобы писать дальше — постоянные перечитыванья. Не перечтя по крайней мере двадцать строк, не напишу ни одной. Точно мне с самого начала дана вся вещь — некая мелодическая или ритмическая картина ее — точно вещь, которая вот сейчас пишется (никогда не знаю, допишется ли), уже где-то очень точно и полностью написана. А я только восстанавливаю. Отсюда эта постоянная настороженность: так ли? не уклоняюсь ли? не дозволяю ли себе — своеволия?
Верно услышать — вот моя забота. У меня нет другой.
V. ДЛЯ КОГО Я ПИШУ
Не для миллионов, не для единственного, не для себя. Я пишу для самой вещи. Вещь, путем меня, сама себя пишет. До других ли и до себя ли?
Здесь нужно различать два момента: момент созидательный и момент по-создании. Первый без: зачем? весь — в как. Второй бы я назвала моментом бытовым, прикладным. Вещь написана: что с ней будет? кому придется? кому продам? О, не скрываю, что, по свершении вещи, последний вопрос для меня — наиважнейший.
Так, дважды, духовно и житейски: вещь дана, кто ее возьмет?
Два слова о деньгах и о славе. Писать из-за денег — низость, писать ради славы — доблесть. Просторечье и простомыслие ошибаются и здесь. Писать из-за чего бы то ни было, кроме самой вещи — обречение вещи на ровно-день. Так пишутся, и может быть и должны писаться, только передовицы. Слава ли, деньги ли, торжество ли той или иной идеи, всякая посторонняя цель для вещи — гибель. Вещь, пока пишется, — самоцель.
Зачем я пишу? Я пишу, потому что не могу не писать. На вопрос о цели — ответ о причине, и другого быть не может.
За 1917–1922 г. у меня получилась целая книга так называемых гражданских (добровольческих) стихов. Писала ли я книгу? Нет. Получилась книга. Для торжества белой идеи? Нет. Но белая идея, в них, торжествует. Вдохновленная идеей добровольчества, я о ней забывала с первой строки — помнила только строку — и встречалась с ней лишь по проставлении последней точки: с живым, помимо воли моей воплощенным добровольчеством. Залог действенности так называемых гражданских стихов именно в отсутствии гражданского момента в процессе писания, в единоличности момента чисто-стихотворного. То же, что об идеологии — о моменте прикладном. По написании стихов, я могу прочесть их с эстрады и обрести себе либо славу, либо смерть. Но если я об этом думаю, приступая к ним, я их не напишу или напишу так — что не заслужат ни славы, ни смерти.
Момент до-свершения и момент по-свершении. Об этом говорил Пушкин в строках о вдохновении и рукописи, и этого никогда не поймет простомыслие.
Слава и деньги. Слава — как широко — просторно — достойно-плавно. Какое величие. Какой покой.
Деньги — как мелко — жалко — бесславно — суетно. Какая мелочь. Какая тщета.
Чего же я хочу, когда, по свершении вещи, сдаю вещь в те или иные руки?
Денег, друзья, и возможно больше.
Деньги — моя возможность писать дальше. Деньги — мои завтрашние стихи. Деньги — мой откуп от издателей, редакции, квартирных хозяек, лавочников, меценатов — моя свобода и мой письменный стол. Деньги, кроме письменного стола, еще и ландшафт моих стихов, та Греция, которую я так хотела, когда писала Тезея, и та Палестина, которой я так захочу, когда буду писать Саула, — пароходы и поезда, везущие во все страны, на все и за все моря!
Деньги — моя возможность писать не только дальше, но лучше, не брать авансов, не торопить событий, не затыкать стихотворных брешей случайными словами, не сидеть с Χ или У в надежде, что издаст или «пристроит», — мой выбор, мой отбор.
Деньги, наконец, — пункт третий и важнейший — моя возможность писать меньше. Не 3 стран<ицы> в день, а 30 строк..[39]
Мои деньги — это, прежде всего, твой выигрыш, читатель!
Слава? «Etre salué d’un tas de gens que vous ne connaissez pas»[40] (слово покойного Скрябина, не знаю, собственное или присвоенное). Житейски — увеличенный бытовой груз. Слава — следствие, а не цель. Все великие славолюбцы — не славолюбцы, а властолюбцы. Будь Наполеон славолюбцем, он бы не томился на Св. Елене, сем совершеннейшем из постаментов. Наполеону на Св. Елене не хватило не славы, а власти. Отсюда — терзания и подзорная труба. Слава — пассивна, властолюбие — действенно. Слава — лежача, «почиет на лаврах». Властолюбие — конно, и эти лавры добывает. «Ради славы Франции и своей власти», — вот, в чистоте сердца, девиз Наполеона. Чтобы мир слушался Франции, а Франция — меня. Имя наполеоновской gloire — pouvoir.[41] О личной славе (чистейшей словесности) он, как прежде всего — человек действия, не помышлял. Жечь себя с двух концов ради рокота толп и лепета поэтов, для этого он слишком презирал и толпу и поэтов. Цель Наполеона — власть, последствия добытой власти — слава.
Славу, у поэта, я допускаю как рекламу — в денежных целях. Так, лично рекламой брезгуя, рукоплещу — внемерному и здесь — масштабу Маяковского. Когда у Маяковского нет денег, он устраивает очередную сенсацию («чистка поэтов, резка поэтесс», Америки, пр.). Идут на скандал и несут деньги. Маяковскому, как большому поэту, ни до хвалы ни до хулы. Цену себе он знает сам. Но до денег — весьма. И его самореклама, именно грубостью своей, куда чище попугаев, мартышек и гарема Лорда Байрона, как известно — в деньгах не нуждавшегося.
Необходимая отмета: ни Байрон, ни Маяковский, для славы не пускают в ход — лиры, оба — личную жизнь, отброс. Байрон желает славы? Заводит зверинец, селится в доме Рафаэля, может быть — едет в Грецию… Маяковский желает славы? Надевает желтую кофту и берет себе фоном — забор.
Скандальность личной жизни доброй половины поэтов — только очищение той жизни, чтобы там было чисто.
В жизни — сорно, в тетради чисто.[42] В жизни — громко, в тетради — тихо. (Океан и в бурю дает впечатление тишины. Океан и в покой дает впечатление работы. Первое — созерцать в действии. Второе — работник на отдыхе. В каждой силе непрестанное соприсутствие тишины и работы. Покой, идущий на нас от каждой силы, есть наш покой за нее. Таков океан. Таков лес. Таков поэт. Каждый поэт — тихий океан.)
Так, воочию, опрокидывается общее место: в стихах все позволено. Нет, именно в стихах — ничего. В частной жизни — все.
Паразитизм славы. Так, в царстве растительном: власть — дуб, слава — плющ. В царстве животном: слава — куртизанка, почиющая на лаврах воина. Бесплатное, хоть и приятное, приложение.
Слава — некое Дионисиево ухо, наставленное на мир, гомерическое: qu'en dira-t-on?[43] Оглядка, ослышка маниака. (Смесь маний: величия и преследования.)
Два примера беспримесного славолюбия: Нерон и Герострат. Оба — маниаки.
Сопоставление с поэтом. Герострат, чтобы прославить свое имя, сжигает храм. Поэт, чтобы прославить храм, сжигает себя.
Высшая слава (эпос), то есть высшая сила — безымянна.
Есть у Гёте изречение: «Не нужно было бы писать ни единой строки, не рассчитывающей на миллионы читателей».
Да, но не нужно торопить этих миллионов, приурочивать их именно к этому десятилетию или веку.
«Не нужно было бы…» Но, очевидно, нужно (было). Скорее похоже на рецепт для других, чем для себя. Блистательный пример того же Фауста, непонятого современниками и разгадываемого вот уже сто лет. «Ich der in Jahrtausenden lebe…»[44] Гёте. Эккерман.
Что прекрасного в славе? Слово.
VI. РАЗНОВИДНОСТИ КРИТИКОВ
Обратимся к критику-профессионалу. Здесь различаемы три особи.
Первый — частый — критик-constateur (удостоверитель), критик-выжидатель, удостоверяющий вещь лишь по свершении ее, критик с десятилетней давностью. Если истинный критик — пророк, то этот — пророк-назад. Критик-post factum, частый и честный, это вся честная (ибо есть и другая) читательская толща. Америк не открывает, в ребенке мастера не узнает, на небежавшую лошадь (новичка) не ставит, от текущей современности воздерживается и грубо не промахивается.
Культурный читатель.
Но есть другой читатель — некультурный. Читатель — масса, читатель — понаслышке, с такой давностью post factum, что Надсона в 1925 г. считает современником, а 60-летнего Бальмонта — подающим надежды юнцом. Отличительная черта такого читателя — неразборчивость, отсутствие Orientirungssinn.[45] Так, говоря «модернизм», мешает в одну кашу и Бальмонта, и Вертинского, и Пастернака, не отличая ни постепенности, ни ценности, ни места, созданного и занимаемого поэтом, и покрывая все это непонятным для себя словом «декаденты». (Я бы «декадент» вела от декады, десятилетия. У каждого десятилетия — свои «декаденты»! Впрочем, тогда было бы «декадисты» или «декадцы».) Такой читатель все, что позже Надсона, называет декадентством, и всему, что позже Надсона, противопоставляет Пушкина. Почему не Надсону — Пушкина? Потому что Надсона знает и любит. А почему Пушкина? Потому, очевидно, что Пушкину на Тверском бульваре поставлен памятник. Ибо, утверждаю, Пушкина он не знает. Читатель понаслышке и здесь верен себе.
Но — хрестоматии, колы, экзамены, бюсты, маски, «Дуэль Пушкина» в витринах и «Смерть Пушкина» на афишах, Пушкинский кипарис в Гурзуфе и Пушкинское «Михайловское» (где собственно?), партия Германа и партия Ленского (обыватель Пушкина действительно знает с голосу!), однотомный Пушкин-Сытин с Пушкиным-ребенком — подперев скулу — и 500 рисунками в тексте (метод наглядного обучения поэзии. Стихи — воочию. Обыватель Пушкина действительно знает — с виду!) — не забыть, в гостиной (а то и в столовой!) — Репина — волочащуюся по снегу полу шинели! — вся это почтенная, изобилующая юбилеями, давность, — Тверской бульвар, наконец, с лже-пушкинским двустишием:
«И долго буду тем народу я любезен, Что чувства добрыя я лирой пробуждал, Что прелестью живой стихов я был полезен».[46]По наслышке (тенора и баритона), по наглядке (уже упомянутое издание Сытина), по либретто и по хрестоматиям — и по либретто больше, чем по хрестоматиям! — вот знакомство русского обывателя с Пушкиным. И вот, против всего и вся — Пушкин и русский язык.
— Что вы любите у Пушкина? — Все. — Ну, а больше всего? — Евгения Онегина. — А из лирики? — Пауза. — Иногда — хрестоматическая реминисценция: «Зима. Крестьянин торжествует». Иногда — ассоциация по смежности — «Парус».
(Обыватель перед памятником Гёте: «Wer kennt Dich nicht, o grosser Goethe! Fest gemauert in den Erden!..»[47] Шиллер. Колокол.)
Из прозы, непреложно, «Капитанская дочка». Пушкинского Пугачева не читал никогда.
В общем, для такого читателя Пушкин нечто вроде постоянного юбиляра, только и делавшего, что умиравшего (дуэль, смерть, последние слова царю, прощание с женой и пр.).
Такому читателю имя — чернь. О нем говорил и его ненавидел Пушкин, произнося «Поэт и чернь». Чернь, мрак, темные силы, подтачиватели тронов несравненно ценнейших царских. Такой читатель — враг, и грех его — хула на Духа Свята.
В чем же этот грех? Грех не в темноте, а в нежелании света, не в непонимании, а в сопротивлении пониманию, в намеренной слепости и в злостной предвзятости. В злой воле к добру. К читателю-черни я отношу всех впервые услыхавших о Гумилеве в день его расстрела и ныне беззастенчиво провозглашающих его крупнейшим поэтом современности. К ним я отношу всех, ненавидящих Маяковского за принадлежность к партии коммунистов (даже не знаю, партийный ли. Анархист — знаю), к имени Пастернака прибавляющих: сын художника? о Бальмонте знающих, что он пьянствует, а о Блоке, что «перешел к большевикам». (Изумительная осведомленность в личной жизни поэтов! Бальмонт пьет, многоженствует и блаженствует, Есенин тоже пьет, женится на старухе, потом на внучке старика, затем вешается. Белый расходится с женой (Асей) и тоже пьет, Ахматова влюбляется в Блока, расходится с Гумилевым и выходит замуж за — целый ряд вариантов. (Блоковско-Ахматовской идиллии, кстати, не оспариваю, — читателю видней!) Блок не живет со своей женой, а Маяковский живет с чужой. Вячеслав — то-то. Сологуб — то-то. А такой-то — знаете?)
Так, не осилив и заглавия — хоть сейчас в биографы!
Такой читатель не только не чтит — он не читает. И, не читая, не только относится — судит. К нему и только к нему слово его Пушкина:
«И не оспаривай глупца!»Не оспаривать, а выбрасывать за дверь при первом суждении.
Есть и критик-чернь. С легкой поправкой в степени безграмотности, о критике-черни то те, что и о читателе-черни.
Критик-чернь — тот же читатель-чернь, но — мало — не читающий! — пишущий.
О двух типах критиков, являющих современность. О первом — дилетанте — в эмиграции, о втором — справочнике — в Советской России.
Кто в эмиграции не пишет критики? «Дать отзыв», «написать рецензию». (Дать отзыв, как будто бы — отозваться? Увы! Дают отзыв, зачастую, вовсе безотзывные, дают то, чего не дано, ничего не дают.) Пишут адвокаты, молодые люди без профессий, немолодые — профессий посторонних, пишут все, пишет публика. Так, на вопрос: кто в эмиграции пишет критику? ответ: да кто ее не пишет?
Отцвела статья, цветет заметка. Отцвела цитата, цветет голословие. Читаю, предположим, о никогда не читанном мною, совсем новом авторе: фигляр. Что порукой? Имя в конце столбца. Но я его никогда не слышала! Или слышала — в другой области. Где же оправдательный матерьял к фигляру или пророку — цитата? Ее нет. Должна верить на слово.
Критик-дилетант — накипь на поверхности сомнительного котла (публики). Что в нем варится? Темная вода. Темна и накипь.
Все вышесказанное — о критике безымянной, не выдвинувшей, пока, ни одного имени. («Имя» — не протекция, а дар.) Не много радости и от критики именной, бывает даже — именитой.
Прискорбная статья академика Бунина «Россия и Инония», с хулой на Блока и на Есенина и явно-подтасованными цитатами (лучше никак, чем так!), долженствующими явить безбожие и хулиганство всей современной поэзии. (Забыл Бунин свою «Деревню», восхитительную, но переполненную и пакостями и сквернословием.) Розовая вода, журчащая вдоль всех статей Айхенвальда. Деланное недоумение 3. Гиппиус, большого поэта, перед синтаксисом поэта не меньшего — Б. Пастернака (не отсутствие доброй воли, а наличность злой). К статьям уже непристойным, отношу статьи А. Яблоновского о Ремизове, А. Яблоновского о моей «Германии» и А. Черного о Ремизове.[48] Не сомневаюсь, что перечислила не все.
Резкое и радостное исключение — суждение о поэтах не по политическому признаку (отсюда — тьма!) — Кн. Д. Святополк-Мирский. Из журналов — весь библиографический отдел «Воли России» и «Своими Путями».
Об одном частном случае, для меня загадочном. Критик (наиболее читаемый, любимый и признанный) говорит о чехо-словацком сборнике «Ковчег».
«…Лучше отметим наиболее интересные страницы сборника. К сожалению, для этого надо пройти мимо „Поэмы конца“ М. Ц. — поэмы, которой, по крайней мере, пишущий эти строки, просто не понял; думается однако, что и всякий другой будет ее не столько читать, сколько разгадывать, и даже если он окажется счастливее и догадливее нас, то свое счастье он купит ценою больших умственных усилий».
Первое, что меня поразило в этом отзыве — кротость. Критик не судит, он только относится. «Я не понял», что это, — суждение? Признание. В чем? В собственной несостоятельности. «Непонятно» — одно, «я не понял» — другое. Прочел и не одобрил — одно. Прочел и не понял — другое. В ответ на первое: почему? В ответ на второе: неужели? Первое — критик. Второе — голос из публики. Некто прочел и не понял, но допускает возможность — в случае другого читателя — большей догадливости и большего счастья. Правда, это счастье будет куплено ценою «больших умственных усилий…» Показательная оговорка. Потрудишься — добудешь, по мне — не стоит. В этом уже не кротость, а, если не злая воля, то явное отсутствие воли доброй. Так может сказать читатель, так не должен говорить критик. Поскольку: «не понимаю» — отказ от прав, поскольку «и не пытаюсь понять» — отказ от обязанностей. Первое — кротость, второе — косность. Натыкаясь на известную трудность, критик просто минует вещь. «Не столько читать, сколько разгадывать…» А что есть чтение — как не разгадывание, толкование, извлечение тайного, оставшегося за строками, за пределом слов. (Не говоря уже о «трудностях» синтаксиса!) Чтение — прежде всего — сотворчество. Если читатель лишен воображения, ни одна книга не устоит. Воображения и доброй воли к вещи.
Мне зачастую приходилось слышать такие отзывы от работников в других искусствах: — «Трудно. Хочется отдохнуть, а тут доискивайся, вдумывайся…» Отдохнуть от чего? От труда в своем искусстве. Стало быть, труд в своем искусстве ты признаешь. Ты только не хочешь того же — в моем. Что ж, может быть по-своему и прав. Делай свое, а я буду делать свое. В таких случаях, кстати, всегда сражала реплика: «А если я у Вас, серьезного музыканта, в ответ на сонату — трудна! — попрошу вальса, вы что скажете? Я ведь тоже устала от своей работы и тоже хочу отдохнуть». (Чистейшая педагогика!)
Человек понимал и, если не читал моих стихов, то по крайней мере чтил мой труд и не просил от меня «легкой музыки».
Но это музыкант, работник в звуке. Что же сказать о критике, работнике в том же слове, который, не желая затраты умственных усилий, предоставляет понимать другим? О человеке слова у меня, человека слова, просящем «легких стихов».
Формула есть — и давняя. Под ней, со спокойной совестью, может подписаться данный:
Тебе поэзия любезна, Приятна, сладостна, полезна, Как летом вкусный лимонад.Лимонада, именно лимонада, хочет от меня (и вообще от поэзии) данный критик. В подтверждение своих слов приведу еще один оборот, уже о другом писателе: «…если бы такой-то делал то-то и то-то, „он бы и сам не оказался усталым, и своего читателя бы не утомил, а напротив порадовал бы его кое-где красивыми переплесками слова“» (курсив М. Цветаевой).
Радовать читателя красивыми переплесками слова не есть цель творчества. Моя цель, когда я сажусь за вещь, не есть радовать никого, ни себя, ни другого, а дать вещь возможно совершеннее. Радость — потом, по свершению. Полководец, открывая бой, не думает ни о лаврах, ни о розах, ни о толпах, — только о бое, и меньше о победе, чем о той или иной позиции, которую нужно взять. Радость потом — и большая. Но и большая усталость. Эту усталость свою, по завершении вещи, я чту. Значит было что перебороть и вещь далась не даром. Значит — стоило давать бой. Ту же усталость чту и в читателе. Устал от моей вещи — значит хорошо читал и — хорошее читал. Усталость читателя — усталость не опустошительная, а творческая. Сотворческая. Делает честь и читателю и мне.
К эмигрантскому критику-любителю (этот — не любитель) мы еще вернемся на разительном образце. Обратимся теперь к другому типу критика, утвердившемуся в Сов<етской> России и, естественно, обратному эмигрантскому — критику-справочнику. Такого критика я бы назвала певцом дурного избранничества.
Когда в ответ на мое данное, где форма, путем черновиков, преодолена, устранена, я слышу: десять а, восемнадцать о, ассонансы (профессиональных терминов не знаю), я думаю о том, что все мои черновые — даром, то есть опять всплыли, то есть созданное опять разрушено. Вскрытие, но вскрытие не трупа, а живого. Убийство.
«Г-же Ц., чтобы достичь такого-то эффекта, пришлось сделать то-то и то-то…» Во-первых: как часто — мимо! Во-вторых: кому это нужно — «пришлось», когда это сделано? Читателю? Как внимательный и любознательный читатель отвечу: нет. Писателю? Но раз я это сделала и, предположим, сделала хорошо, зачем мне из чужих уст то, что я знаю из собственного опыта труда? В лучшем случае — повторение, подтверждение. Проверка задачи, которая бесспорно решена. То есть — проформа. Молодым поэтам, может быть? Рецепт для получения известных эффектов? Но назовите мне хотя бы одного крупного поэта, писавшего по чужим (всегда единоличным!) рецептам. (Не единоличных, в творчестве, нет.) Кроме того — «что русскому здорово, то немцу — смерть». Теория у поэта — всегда post factum, вывод из собственного опыта труда, обратный путь по следу. Я это сделал. Как я это сделал? И вот, путем тщательнейшей проверки черновиков, подсчета гласных и согласных, изучения ударений (повторяю, с этим делом не знакома) поэт получает известный вывод, над которым потом и работает и который и преподносит в виде той или иной теории. Но, повторяю, основа каждой новой теории — собственный опыт. Теория, в данном случае, является проверкой, разумом слуха, просто — осознанием слуха. Теория, как бесплатное приложение к практике. Может ли таковая послужить другим? Может, как проверка. Слуховой путь (того же Белого), подтвержденный уже готовым выводом Белого. Отпадает только труд осознания. Все остальное — то же. Короче: писать по-белому — а не по Белому. Писать по-белому, и, если нужно (?) подтверждать Белым. Но это все, что я могу сказать одобрительного о школах стихосложения и методе формального разбора в применении к газетному рынку. Либо труд ученого — и для ученых (теория стиха), либо живое слово — о живом — к живому (критика).
Критик-справочник, рассматривающий вещь с точки зрения формальной, минующий что и только видящий как, критик, в поэме не видящий ни героя, ни автора (вместо создано — «сделано») и отыгрывающийся словом «техника» — явление если не вредное, то бесполезное. Ибо: большим поэтам готовые формулы поэтики не нужны, а не больших — нам не нужно. Больше скажу: плодить маленьких поэтов грех и вред. Плодить чистых ремесленников поэзии — плодить глухих музыкантов. Провозгласив поэзию ремеслом, вы втягиваете в нее круги, для нее не созданные, всех тех кому, кому не дано. «Раз ремесло — почему не я?» Читатель становится писателем, а настоящий читатель, одолеваемый бесчисленными именами и направлениями (чем меньше ценность, тем ярче вывеска), отчаявшись, совсем перестает читать.
Поэтические школы (знак века!) — вульгаризация поэзии, а формальную критику я бы сравнила с «Советами молодым хозяйкам». Советы молодым хозяйкам — Советы молодым поэтам. Искусство — кухня. Только бы уменье! Но, для полной параллели, и там и здесь жестокий закон неравенства. Равно тому как неимущий не может вбить в ведро сливок двенадцати дюжин желтков, залив все это четвертной ямайского рома, так и неимущий в поэзии не может выколдовать из себя неимеющегося у него матерьяла — дара. Остаются пустые жесты над пустыми кастрюлями.
Единственный справочник: собственный слух и, если уж очень нужно (?) — теория словесности Саводника: драма, трагедия, поэма, сатира, пр.
Единственный учитель: собственный труд.
И единственный судья: будущее.
VII. АВТОР И ВЕЩЬ
Часто, читая какую-нибудь рецензию о себе и узнавая из нее, что «формальная задача разрешена прекрасно», я задумываюсь: а была ли у меня «формальная задача». Г-жа Ц. захотела дать народную сказку, введя в нее элементы те-то и те-то, и т. д.
Я (ударение на я) этого хотела? Нет. Этого я хотела? Нет, да нет же. Я прочла у Афанасьева сказку «Упырь» и задумалась, почему Маруся, боявшаяся упыря, так упорно не сознавалась в ею виденном, зная, что назвать — спастись. Почему вместо да — нет? Страх? Но ведь от страха не только забиваются в постель — и в окно выбрасываются. Нет, не страх. Пусть — и страх, но еще что-то. Страх и что? Когда мне говорят: сделай то-то и ты свободна, и я того-то не делаю, значит я не очень хочу свободы, значит мне несвобода — дороже. А что такое дорогая несвобода между людьми? Любовь. Маруся упыря любила, и потому не называла, и теряла, раз за разом, мать — брата — жизнь. Страсть и преступление, страсть и жертва…
Вот — моя задача, когда я бралась за «Мóлодца». Вскрыть суть сказки, данной в костяке. Расколдовать вещь. А совсем не создать «новую форму» или «народную форму». Вещь написалась, я над ней работала, я слушала каждое слово (не взвешивала — выслушивала!), что работа в этой вещи есть — свидетельством 1) ее, для читателя, незаметность; 2) черновики. Но все это уже — ход вещи, осуществление ее, а не замысел.
Как я, поэт, т. е. человек сути вещей, могу обольститься формой? Обольщусь сутью, форма сама придет. И приходит. И не сомневаюсь, что будет приходить. Форма, требуемая данной сутью, подслушиваемая мною слог за слогом. Отолью форму, потом заполню… Да это же не гипсовый слепок! Нет, обольщусь сутью, потом воплощу. Вот поэт. И воплощу (здесь уже вопрос формы) возможно насущнее. Суть и есть форма, — ребенок не может родиться иным! Постепенное выявление черт — вот рост человека и рост творческого произведения. Поэтому, подходить «формально», т. е. рассказывать мне (и зачастую весьма неправильно) мои же черновики — нелепость. Раз есть беловик — черновик (форма) уже преодолен.
Чем рассказывать мне, что в данной вещи хотела дать — я, лучше покажи мне, что сумел от нее взять — ты.
Народ, в сказке, истолковал сон стихии, поэт, в поэме, истолковал сон народа, критик (в новой поэме!) истолковал сон поэта.
Критик: последняя инстанция в толковании снов. Предпоследняя.
VIII. ЧЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ КРИТИК
Бог путей и перекрестков, двуликий бог, смотрящий назад и вперед.
Критик: Сивилла над колыбелью:
Старик Державин нас отметил И в гроб сходя благословил.Париж, январь 1926
ЦВЕТНИК «Звено» за 1925 г. «Литературные беседы» Г. Адамовича
Адамович о музыке
В живом стихотворении первоначальная хаотическая музыка всегда прояснена до беллетристики. Воля поэта поднимает музыку до рассказа. Это только оболочка стихотворения, но это и один из элементов его, того же качества, что и целое. Если невыносимо содержание стихотворения, то невыносимо и оно само.
Фет, например, есть типичный образец второразрядного поэта. Он весь в непроясненной еще музыке, и стихи его, разбитые на прозу, кажутся слащавым и жалким набором слов. О многих фетообразных поэтах можно было бы сказать то же самое.
О Маяковском
Это обычная для него вещь, не лучше и не хуже прежних. У меня нет никакого влечения к поэзии Маяковского. Никогда ни одна вещь его мне не нравилась. Это, на мой вкус, скудная поэзия, искалеченная и часто фальшивая…
и — через 1/2 строчки:
…Но читая его новые стихи я все время думал: какое редкое дарование![49] Надо любить самую плоть стихов, костяк их, чтобы почувствовать, как складываются у Маяковского строфы и каким дыханием они оживлены. Язык у него еще манерный, на советско-футуристический лад. Но в отдельных строчках прекрасный, меткий, сухой, точный — настоящий язык поэта.
…Решительно это какой-то новый Гоголь, которому не удается ничего положительного.
Сейчас повсюду восхваляется Есенин, дряблый, вялый, приторный, слащавый стихотворец. За ним идет Тихонов, который все же скорее беллетрист, чем поэт,[50] Асеев, Пастернак, над которыми все еще стоит вопросительный знак.
…Между тем, это все-таки единственный поэт среди них, решительно не сравнимый с другими по ритмическому размаху, ни по зоркости глаза. Отрицать это может только человек предвзято настроенный или путающий искусство с тем, что к нему никак не относится.
(NB! сравнить с началом.)
Оговорка
…Я не поклонник Блока…
О Волошине
А стихи Волошина — как трещотка или барабан.
О Пушкине и о Тютчеве
(Автор только что говорил о насыщенности Баратынского.)
У Пушкина и Тютчева отдельные гениальные строки переплетены, скреплены строками пустыми и незначительными, образы редкие, точные смешаны с образами «приблизительными». Их искусство держится на вспышках, и эти вспышки ослепляют. Вероятно, в этом сказалось их поэтическое чутье.
О Лермонтове
…А лермонтовские «райские звуки», подлинно-райские, но тонущие в волнах неумелой и грубой риторики…
О Брюсове (вывод из статьи о Брюсове — Ходасевича)
Если Брюсов и был влюблен в литературу, то как чичиковский Петрушка, любивший читать ради складывания букв. Так Брюсов комбинирует рифмы и размеры.
(В принадлежности такого сравнения Ходасевичу — сомневаюсь.)
Обо мне
Что с Мариной Цветаевой? Как объяснить ее последние стихотворения — набор слов, ряд невнятных выкриков, сцепление случайных и кое-каких строчек… Ц-ва никогда не была разборчива или взыскательна, она писала с налета, от нее иногда чуть-чуть веяло поэтической Вербицкой, но ее спасала музыка. У нее нет, кажется, ни одного удавшегося стихотворения, но в каждом бывали упоительные строфы. А теперь она пишет стихи растерянные, бледные, пустые — как последние стихи Кузмина. И метод тот же, и то же стремление скрыть за судорогой ритма, хаосом синтаксиса и тысячью восклицательных знаков усталость и безразличие «идущей на убыль души»[51].
…Оцуп — поэт своеобразный и упорно работающий. Его стихи — полная противоположность цветаевским.
Еще о Лермонтове
…Но Лермонтову за пять-шесть стихотворений, за несколько отрывков из Мцыри и Демона прощаешь все.
О Фете
…Он даже и не пытается взглянуть на мир глазами поэта и понять, что для поэта роза ничуть не прекрасней, чем присосавшаяся к ней улитка…[52]
…Его стихи льются, как теплая вода.[53] Это тоже одна из причин, почему он так многим пришелся по вкусу. Его нетрудно читать, он не утомляет и не удивляет. Образы в его стихах привычны и повторны, ритм сдержанный.
…Замечу в заключение: я не оспариваю того, что Фет был человек высоко-настроенной души и не сомневаюсь, конечно, в этом. Но как «творец не первых сил» он не выдержал литературного одиночества и зачах, без культуры, без критики. Нужно быть близоруким или снисходительным, чтобы принять этот тусклый огонек за один из светочей мировой поэзии.[54]
О Шинели
В отношении Шинели закрадывается сомнение. После Достоевского и даже после Чехова ее достоинства могут показаться тусклыми, не потому, чтобы это была литература более низкого качества, а так же, как никому не понравится Глинка после Мусоргского. Шинель, сыгравшая такую огромную роль в русской жизни прошлого столетия, одно из тех произведений, которые теряют половину своего очарования вне эпохи и среды.
О Краснове
Мне кажется, что только предвзято-настроенный человек может отрицать беллетристического дарования у Краснова. Оно — значительно выше средне-писательского уровня. В I ч. его романа «От двуглавого орла к красному знамени» есть страницы, написанные легко и свободно, с той широтой, от которой мы уже начинаем отвыкать. Конечно, Краснов все время подражает «Войне и Миру», но во-первых, в этом нет ничего плохого, а во-вторых, Краснов — далеко не такой умелый человек, чтобы копировать или стилизовать, — он просто перенимает толстовскую манеру.[55]
(И, чуть ниже)
«Единая, неделимая» слабее, но и ровнее, чем «От двуглавого орла». Если этот роман и не разочаровал прежних поклонников Краснова, то тех, которые смотрели на него до сих пор с некоторым недоумением и — как это ни странно с надеждой, он убедил, что все-таки Краснов — не писатель и что ждать от него нечего.
Это самоуверенный и ограниченный человек. Он умеет занимательно и связно рассказывать — но и только.
NB! Сличить с началом!
О современной прозе
Я должен признаться, что чтение «самоновейшей» русской беллетристики, начиная приблизительно с Замятина, вызывает во мне легкое раздражение и сильнейшую скуку. Я сказал бы брезгливость, если бы не опасался быть неверно понятым.
(Брезгливость: брезговать, чего же тут понимать? Может быть — брюзгливость?)
О моем «Мóлодце»
«Мóлодец» — только что вышедшая сказка Цветаевой — вещь для нее очень характерная. Она кажется написанной в один присест. Есть страницы сплошь коробящие, почти неприемлемые. Все разухабисто и лубочно до крайности.
(и через три строки)
…Она дыханием оживила стилистически-мертвые стихи.[56]…Сказка Ц-вой написана языком не разговорным, не литературным, а «народным».[57] Я отдаю должное изобретательности Ц-вой, если она изобрела большинство встречающихся в ее сказке оборотов и выражений. Я преклоняюсь перед ее знанием русского языка, если она все эти речения взяла из обихода, а не выдумала. Не берусь судить, какое из этих предположений правильное.
(Судья, а «не берусь судить». «Не берусь судить», а судишь. «Преклоняюсь» и «стилистически-мертво» —?)
О Розанове
Розанов почти ничего не понял в Толстом, очень «приблизительно» разобрался в Достоевском…
(Кавычки авторские. С кавычками у автора, действительно, неладно.)
О Белом
(О первой главе нового романа Андрея Белого «Москва»)
Читал я эту бесконечную главу с тоской и недоумением. Не буду конечно сравнивать Белого с современной писательской мелочью: словесная изобретательность его неистощима, вывернуты его мысли, полеты его полубезумного воображения — величественны!
(NB! Выверты — величественны!)
…У Белого в руках не кисть, а помело, и мажет он им хоть и не без вдохновения, но как попало и куда попало. Не знаю, где истинное призвание Белого: не стихи, вероятно — хотя два-три его стихотворения, написанные в далекой молодости, удивительны и в своей блоковской музыке выразительнее самого Блока; но, кажется, и не романы.
…Нет «воздуха» в этом романе (Петербург)[58] и целиком его можно отдать за одну повестушку Алексея Толстого, за короткий рассказ Бунина. Об «Эпопее» не хочется даже и говорить. Теперь перед нами новый роман «Москва», задуманный, по-видимому, очень широко. Но как прочесть его, как осилить, да и стоит ли обрекать себя на этот тяжелый труд?
Не думаю.
(Если так говорит критик, то чего же ждать от читателя?! — Напрасно. Ибо читатель «Москву» читает. В том-то и тайна, что читатель уже опередил критика, что критик идет в хвосте, не говоря уже о тех, коими под предлогом недоступности для среднего читателя отвергается — Шестов! «Средний читатель» (отпускной козел всех редакций и издательств) — миф. А средний критик, увы, быль. Образцы налицо.)
Эти романы, это какая-то катастрофа, и как в катастрофах в них есть величие. Но от них «воняет литературой» — как сказал бы Тургенев.
(Что бы Тургенев сказал об Адамовиче? — Конкурс.)
Объединен роман только истерически-хихикающим тоном, в который врывается тон глубокой меланхолии, а то и отчаяния.
О стилизации
Стилизация всегда холодна и аляповата.
(«Рондо» Кузмина, «Манон Леско», Брюсовский «Огненный Ангел», Сологубовская «Барышня Лиза», например.)
Это обман, рассчитанный на сильно-близоруких. В лучшем случае это замена живописи цветной фотографией: все точно, все «совсем как в природе», но — какая скука!
(Так, критиком оправдан Краснов, который «просто перенимает толстовскую манеру» и осужден — явная стилизация! — «Огненный Ангел» Брюсова. Кроме того — в поучение — стилизация не обман, а явное задание одеть (или раздеть) свою душу так, как ее одевали (или раздевали) в таком-то десятилетии такого-то века.)
О Розанове — «Опавшие Листья»
Убаюканный недавнею славой, соображая, вероятно, что славой этой он — как когда-то Суворов — наполовину обязан своим «штучкам» и вывертам (? — М. Ц.), он на них и приналег: не только пустился в крайние откровенности, часто ленивые, совсем не «острые», но и решил обставить все свои мысли — для вящей значительности восклицательными знаками, междометиями и многоточиями.
…Но все-таки в Розанове есть что-то, что мешает ему стать писателем вполне первоклассным или — по шаблону — великим… Бедна ли вообще душа человека, бедна ли была душа Розанова — как знать? Но когда она все «выболтает» до конца, без остатка, на нее смотришь с жалостью: только-то всего? Розанов — если вдумываться — почти плоский писатель, со своим постоянным «что на уме, то и на языке». Навсегда к нему не привяжешься.
…Это та «музыка» — высшее качество человеческой мысли — которой не было в Розанове.
(Итак, «музыка» — «высшее качество человеческой мысли», но… «воля поэта поднимает музыку до рассказа»[59]) —?
О Блоке
Четыре года, прошедшие со дня смерти Блока — 7 августа 1921 г. — успели уже приучить нас к этой потере, почти примирить с ней.
(Плохо же тогда дело обстоит с Пушкиным († 94 года назад), не лучше с Шенье († 133 года назад), совсем безнадежно с Орфеем (†?).
Смерть поэта — вообще незаконна. Насильственная смерть поэта — чудовищна. Пушкин (собирательное) будет умирать столько раз, сколько его будут любить. В каждом любящем — заново. И в каждом любящем — вечно.)
Блоковские стихи никогда не бывают «вне времени и пространства».
(Блоковский «Демон» например.)
…Неужели можно еще сомневаться, можно еще не чувствовать, что Блок есть великий, величайший поэт человеческой скуки, самый беспросветный, несравненный с Надсоном или Чеховым, потому что у Надсона были спасительные идеалы.
…Блок на первый взгляд кажется поэтом довольно богатым по темам. Но он не способен подняться над уровнем средне-поэтических упражнений, рассказать о чем-либо или рассуждать. Зато зевающий — не плачущий! — Блок неотразим. Скука — единственно поющая струна его «лиры». Остальные натянуты только для вида, из грубой веревки. Вспомним большое и программное стихотворение «Скифы»… Что получилось? Мертвая, плоская, вялая риторика по брюсовскому образцу, но без брюсовского звона.
Об одиночестве
Одиночеству ведь никто никогда не радуется, кроме лгунов и снобов. Оттого, кажется мне, и Пушкин на необитаемом острове написал бы только несколько стихотворений, да и то не самых лучших.
(Ты царь: живи один. — Пушкин.)
О Шестове, Вячеславе Иванове и Гершензоне
Возможно, что мысль Шестова столь своеобразна, сильна и глубока, как и мысль Вячеслава Иванова. Но природа этой мысли не та. Она доступна искажению, опошлению и, в искаженном виде, она по вкусу духовной черни.
(Всякая мысль доступна искажению и опошлению: чем нагляднее — тем искажаемее, чем сложнее — тем опошляемее. Не доступна искажению только геометрическая формула — по нечеловечности своей. Везде, где мысль — враг ее — кривотолк).
(Речь о «Переписке из двух углов».)
Когда читаешь «Переписку» Вячеслава Иванова с Гершензоном, этот аристократизм, эта незыблемость ивановской мысли становятся вполне очевидными. Гершензон вьется, змеится, бьется вокруг нее, всячески подкапывается, но внутрь не проникает. Кроме того, не ясно ли, что в этой книге мелодия дана и все время ведется Вячеславом Ивановым, Гершензону же остается только аккомпанемент, да и то по нотам Шестова.
О новейшей русской беллетристике
Иногда впадаешь в отчаяние, собираясь писать о новейшей русской беллетристике: как показать, доказать, как убедить, что она действительно очень плоха, что никакой предвзятости по отношению к ней нет… Эта беллетристика нелепа в своем желании быть во что бы то ни стало «новой», а разве ново то, к чему она пришла: пышная, вернее пухлая, образность, полуритмическое построение прозы, скрытое стремление превратиться в плохие недоделанные стихи.
Ведь и раньше порой писали плохо: Марлинский, Загоскин, Бенедиктов,[60] столь похожие на некоторых наших современников![61] Но раньше, кажется мне, не было еще в воздухе той стилистической эпидемии, которая явно свирепствует в современной России и заставляет Бабеля писать, как пишет Леонов, Сейфуллину, как Бабель, или как Замятин, или как Серапионы, с различиями, видными только в микроскоп.
…Но останемся честны сами с собой, когда нас никто не подслушивает: очень плохо пишут наши молодые писатели, льстиво, заискивающе, всегда будто с похмелья или в жару.
NB! «Льстиво» — и «в жару», «заискивающе» — и «с похмелья». И все в одну строчку, из «льстиво» и «заискивающе» выводя похмелье и жар.
О романе Леонова «Барсуки»
…Можно пожалуй добавить, что роман этот не скучен… (и, в конце столбца)… Нет в его книге, кажется, ни одной страницы, которую читаешь не то что с удовольствием — где уж тут до удовольствия! — а хотя бы с удовлетворением (хорошо — «хотя бы!»), как после вещей трудных, громоздких, но внутренне-оправданных. (Стало быть, удовлетворения нет!) Нет, читаешь как наказание. Прочтя же чувствуешь, что прочесть все-таки стоило, что вещь не пустая и не плоская. (Стало быть, удовлетворение — есть? Думаю, по всему вышесказанному, что имя этому удовлетворению — конец). Только тесто в ней совсем еще сырое и, несмотря на сырость, уже скисшее.
«Совсем еще сырое» (т. е. недопекшееся) «и несмотря на сырость (недопеченность) уже скисшее». Скисает тесто до того, как его пекут (закваска, дрожжи). Больше скажу: не скисши не станет хлебом. Разве что — библейские опресноки, православные просфоры и католические облатки. Не о них же говорит автор?
О Гоголе
Это решительно возвышает их (Пушкина и Толстого) над Достоевским, Тютчевым, даже над Гоголем, у которого есть что-то «небожественное» в его искусстве и который поэтому так ужасно иногда фальшивит. Разве Толстой написал бы Тараса Бульбу?
…Он (Толстой) честен той высшей честностью, без которой самые исключительные, даже гоголевские силы создают в искусстве только прах.
О Марциале, Пушкине и Ходасевиче
Этот старый пройдоха (Марциал) ничуть не поэт, конечно, но стилистически какое волшебство — его эпиграммы, по сравнению с которыми даже Пушкин кажется писавшим «темно и вяло». Не знаю, учился ли Ходасевич у римлян. Похоже, что да.
…Стихи Ходасевича — в плоскости «что» далеки от Пушкина настолько, насколько вообще это для русского поэта возможно. Прежде всего, Пушкин смотрит вокруг себя, Ходасевич — всегда внутрь себя.
О Есенине
Кессель не знает ничего более простого, более волнующего и чистого, чем некоторые стихи Есенина.
Мне жаль его.
Еще о Есенине
Но ничего русской поэзии Есенин не дал. Нельзя же считать вкладом в нее «Исповедь хулигана» или смехотворного «Пугачева»… Безотносительно же это до крайности скудная поэзия, жалкая и беспомощная.
Victoria Regia
(О лже-народном искусстве.)
«Гой еси», «за лугами за зелеными» было, может быть, очень хорошо у Толстого, но вообще-то это совершенно невыносимо после романов в «Историческом Вестнике», после бояр К. Маковского и Самокиш-Судковской, после всей трескучей фальши подложно-народного искусства (кстати сказать и сейчас еще процветающего: Цветаева, например, посвящает свою сказку Пастернаку в благодарность «за игру за твою за нежную»).
Во-первых:
«За игру за твою великую, За утехи твои за нежные»Во-вторых:
Эти строки не мои, а взяты мною из былины «Садко и Морской царь»: благодарность Морского царя — Садку. (См. любую хрестоматию.)
<1926>
МОЙ ОТВЕТ ОСИПУ МАНДЕЛЬШТАМУ
Проза поэта. Поэт, наконец, заговорил на нашем языке, на котором говорим или можем говорить мы все. Поэт в прозе — царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас — человеком. Чем же была твоя царственность? Тот лоскут пурпура, вольно или невольно обороненный тобою? Или есть у тебя — где-нибудь на плече или на сердце — царственный тайный знак?
Ужас и любопытство, страсть к познанию и страх его, вот что каждого любящего толкает к прозе поэта.
Вот ты передо мной голый, вне чар, Орфей без лиры, вот я, перед тобой, равный, — брат тебе и судья. Ты был царем, но кораблекрушение или прихоть загнали тебя голого на голый остров, где только две руки. Твой пурпур остался в море.
Два вопроса: сумеешь ли ты и без пурпура быть царем (и без стиха быть поэтом)?
Сумеешь ли ты им — царем или поэтом — не быть?
Есть ли поэт (царственность) — неотъемлемость, есть ли поэт в тебе — суть?
Поклонюсь ли тебе — голому?
Поэзия язык богов! Этого никто не повторил, это мы все сказали, каждый заново. Девочка трех лет, услыхав впервые живого поэта, спросила мать: «Это Бог говорит?» Девочка ничего не понимала, а поэт не пел. Поэт говорил, но по-другому, и это по-другому (как) заставило девочку молчать. Девочка признала божество. От Державина до Маяковского (а не плохое соседство!) — поэзия — язык богов. Боги не говорят, за них говорят поэты.
Есть в стихах, кроме всего (а его много!), что можно учесть, — неучтимое. Оно-то и есть стихи.
Итак, Осип Мандельштам, сбросив пурпур, предстал перед нами как человек: от него отказавшись, поэт — человек как я. Равные данные. Победи меня одним собою.
Осип Мандельштам. Шум времени.
___________
Книга открылась на «Бармы закона» и взгляд, притянутый заглавной буквой, упал на слова: полковник Цыгальский.
Полковник Цыгальский? Я знаю полковника Цыгальского. Ничего не встает, но я знаю полковника Цыгальского. Первому взгляду откликнулся первый слух.
«Полковник Цыгальский нянчил сестру, слабоумную и плачущую, и больного орла, жалкого, слепого, с перебитыми лапами — орла добровольческой армии. В одном углу его жилища как бы незримо копошился под шипение примуса эмблематический орел, в другом, кутаясь в шинель или в пуховой платок, жалась сестра, похожая на сумасшедшую гадалку»…
Пока, не веря глазам, читаю, вот что со дна, глубочайшего, нежели черноморское, подает память:
Полковник Цыгальский — доброволец, поэт, друг Макса Волошина и самого Мандельштама. В 19 г. был в Крыму, у него была больная жена и двое чудесных мальчиков. Нуждался. Помогал. Я его никогда не видела, но когда мне в 1921 г. вернувшийся после разгрома Крыма вручил книжечку стихов «Ковчег», я из всех стихов остановилась на стихах некоего Цыгальского, конец которых до сих пор помню наизусть.
Вот он.
Я вижу Русь, изгнавшую бесов, Увенчанную бармами закона, Мне все равно: с царем — или без трона, Но без меча над чашами весов.Последние две строки я всегда приводила и привожу как формулу идеи Добровольчества. И как поэтическую формулу. Читаю дальше:
«Запасные лаковые сапоги просились не в Москву, молодцами-скороходами, а скорее на базар. Цыгальский создан был, чтобы кого-нибудь нянчить и особенно беречь чей-нибудь сон. И он, и сестра похожи были на слепых, но в зрачках полковника, светившихся агатовой чернотой и женской добротой, застоялась темная решимость поводыря, а у сестры только коровий испуг. Сестру он кормил виноградом и рисом, иногда приносил из юнкерской академии какие-то скромные пайковые кулечки, напоминая клиента Кубу или дома ученых. Трудно себе представить, зачем нужны такие люди в какой бы то ни было армии?»
Запасные лаковые сапоги просились на базар… Вывод: Цыгальский был нищ. Цыгальский ухаживал за больной женщиной и скармливал ей последний паек. Вывод: Цыгальский был добр. Пайки Цыгальского умещались в скромных кулечках. Вывод: Цыгальский был чист. Это мои выводы, и твои, читатель. Вывод же Мандельштама: зачем нужны такие люди в какой бы то ни было армии.
Дальше:
«Однажды, стесняясь своего голоса, примуса, сестры, непроданных лаковых сапог и дурного табаку, он прочел стихи».
Почему голоса? Ни до, ни после никакого упоминания.
Почему примуса? На этом примусе он кипятил чай для того же Мандельштама. Почему сестры? Кто же стыдился чужой болезни? Почему — непроданных сапог? Если непроданности, — Мандельштам не кредитор, если лака (то есть роскоши в этом убожестве) — Мандельштам не лейтенант Армии Спасения, а если бы и был, ведь добрая воля к продаже есть! Поди и продай — тебе есть когда, Цыгальскому некогда, у Цыгальского на руках больная жена и двое детей: чужая болезнь и чужой голод, у Цыгальского на плечах все добровольчество, позади — мýка, впереди, может быть завтра — смерть. У Вас, Осип Мандельштам, ничего, кроме собственного неутолимого аппетита, заставляющего Вас пожирать последние крохи Цыгальского, и очередного стихотворения — в 8 строк, которое Вы пишете три месяца. Пойдите и продайте и не проешьте деньги на шоколад: они нужны больной женщине («с глазами коровы») и голодным детям, которых Вы по легкомыслию своему обронили по дороге своего повествования. (Два кадетика, 12 и 13 л<ет>, чуть ли не в тифу, имен не знаю.)
Почему голоса, примуса, сестры, непроданных сапог и дурного табаку (стыдился) — а не просто Вас, большого поэта Осипа Мандельштама, которому он, неизвестный поэт и скромный полковник Цыгальский, читает стихи?
Помнится, Вы, уже известный тогда поэт, в 1916 г. после нелестного отзыва о Вас Брюсова — плакали. Дайте же постесняться неизвестному полковнику Цыгальскому.
А дурного табаку может быть действительно стыдился. Не того, что курит дурной табак, а того, что не может угостить Вас, большого поэта Мандельштама, высшим сортом. По заслугам.
«…Там было неловкое выраженье: „Мне все равно, с царем или без трона…“ и еще пожелание о том (?), какой нужна ему Россия: „Увенчанная бармами закона“…»
Неловкое выражение. В чем неловкость? Думаю и не додумываюсь. Трон, в конце строки вместо царя. Или царь, в начале строки вместо трона. Как ни поверни, смысл ясен: Мне все равно — с царем или без царя, мне все равно — с троном или без трона.
Есть у Вас, Осип Мандельштам, строки более неловкие, а именно:
…ягнята и волы На тучных пастбищах плодились…«Плодились» Вы, по осторожному (до сей поры не оглашенному) совету друзей заменили «водились», но другая неловкость, увы, друзьями непредупрежденная, пребывает. О черепахе.
Она лежит себе на солнышке Эпира, Тихонько грея золотой живот.Черепаха, лежащая на спине! Черепаха, перевернувшаяся и так блаженствующая? Вы их никогда не видели.
А в прекрасном стихе о Диккенсе, который у всех на устах, — помните?
Я помню Оливера Твиста Над кипою конторских книг.Это Оливер Твист-то, взращенный в притоне воров! Вы его никогда не читали.
Все это погрешности, не только простительные, прощенные, но милые и очаровательные. И никогда бы не поставила их Вам в вину, если бы Вы не оказались взыскательнее к безвестному поэту Цыгальскому, чем к большому поэту, себе. Кроме того, Ваши погрешности — действительные: бессмыслица. Неловкость же двустишия Цыгальского Вами не доказана, а мной (тоже поэтом) посему не признана. Берегись мелочного суда. По признаку нелепости, неловкости от Вас мало останется.
«…По дикому этому пространству (поэт говорит о душе Цыгальского — М. Ц.)[62] где-то между Курском и Севастополем, словно спасательные буйки, плавали бармы закона, и не добровольцы, а какие-то слепые рыбаки в челноках вылавливали эту странную принадлежность государственного туалета, о которой вряд ли знал и догадывался сам полковник до революции. Полковник-нянька с бармами закона!»
«Странную принадлежность государственного туалета» — явная пошлость, постыдная пошлость. Мы так привыкли к «принадлежностям дамского туалета», что слово государственный проскальзывает, мы — под гипнозом общего места — видим в воде не бармы, а гофрированные розовые резинки и прочую дамскую дребедень. Этого ли хотел Мандельштам? Или, оставляя государственный в силе, отождествляя по невежеству, недомыслию своему государственный с империалистический, целя в империалистическое, попал в государственное.
«Государственный туалет», применил ли бы он это выражение к чему-нибудь, касающемуся коммунизма? Нет. Явное желание пошлым оборотом унизить идею монархической власти, которую по недомыслию отождествляет с государственной. Осип Мандельштам, даже если Вы боец, — не так сражаются! Но если Вы искренне думаете, что бармы — часть одежды, Вы ошибаетесь. Так же не часть одежды, как Георгиевский крест или орден Красной звезды. Эти вещи — символы.
«Полковник-нянька с бармами закона» — вывод.
Итак: человек, ухаживающий за больной женщиной, — нянька. Если этот человек к тому же пишет стихи о бармах закона — он нянька с бармами закона.
Слабый вывод.
Вот логика и вот сердце Осипа Мандельштама.
___________
Рассказик мал — 3 страницы, и привела я его почти целиком. Вот еще две выдержки:
«Грязная, на серой древесной бумаге, всегда похожая на корректуру, газетка Освага будила впечатленье русской осени в лавке мелочного торговца».
Бумага, на которой напечатаны эти строки, сера и грязна (Осип Мандельштам. Шум времени. Издательство «Время», Ленинград, 1925), но впечатлений осени в мелочной лавке — во мне не будит. Бумага, на которой печатаются вещи, во мне вообще ничего не будит; то, что напечатано, и в данном случае: приведенные строки Мандельштама о плохости добровольческой бумаги будят во мне непреодолимое отвращение к такому эстетизму. Вокруг кровь, а Мандельштам недоволен бумагой. Впрочем, с кровью у Мандельштама вообще подозрительно, после 37 года (см. Пушкина) и кровь и стихи журчат иначе. Журчащая кровь. Нет ли в этом — жути? Точно человек лежал и слушал, услаждаясь невинностью звука. Забывая, чтó журчит, удовлетворяясь — как. Что касается журчания стихов — просто пошлость, слишком частая, чтобы быть жутью.
Выдержка последняя:
«Город был древнее, лучше и чище всего, что в нем происходило. К нему не приставала никакая грязь».
Древнее. В первую секунду — улыбка. Конечно, древнее! Генуэзская колония — и добровольцы двадцатого! Но, — улыбка сошла — Мандельштам неправ и здесь: добрая воля старше города: без нее бы не возник ни один.
«В прекрасное тело его впились клещи тюрьмы и казармы, по улицам ходили циклопы в черных бурках, сотники, пахнущие собакой и волком, гвардейцы разбитой армии, с фуражки до подошв заряженные лисьим электричеством здоровья и молодости (Мандельштам точно ходит по зверинцу или по басне Крылова, переходит от клетки к клетке: собака, волк, лиса, — ассоциация по смежности — М. Ц). На иных людей возможность безнаказанного убийства действует, как свежая нарзанная ванна, и Крым для этой породы людей с детскими наглыми и опасно-пурпурными карими глазами был лишь курортом, где они проходили курс лечения, соблюдая бодрящий, благотворный их природе режим».
Мандельштам, en connaissance de cause:[63] глаза у добровольцев и большевиков серые, средняя Россия, пришедшая в Крым, а не местное население: татары, болгары, евреи, караимы, крымчаки. Светлоглазая — так через 100 лет будет зваться наша Армия. Но это частности. Не частность же — Ваша намеренная слепость и глухость к Крыму тех дней. Вы не услышали добровольческих песен, Вы не увидели и пустых рукавов, и костылей. Вы не увидели на лбу — черты загара от фуражки. Загар тот свят.
Не мне — перед Вами — обелять Белую Армию. За нее — действительность и легенда. Но мне — перед лицом всей современности и всего будущего — заклеймить Вас, большого поэта. Из всех песен Армии (а были!) отметить только: Бей жидов — даже без сопутствующего: Спасай Россию, всю Добровольческую Армию отождествлять с Контрразведкой. Не знаю Вашей биографии — может быть, Вы в ней сидели, может быть, Вы от нее терпели. Но полковник Цыгальский, тоже доброволец, поил Вас чаем (последним) и читал Вам (может быть первые!) стихи. Есть другой поэт, тоже еврей, которому добровольцы на пароходе выбили зубы. Это последнее, на что он ссылается в своих обвинениях Добровольческой Армии. Потому что он зряч и знает. Не Добрая Воля выбивает еврею зубы, а злая, что прокалывала добровольцам глаза в том же Крыму — краткий срок спустя. Не идея, а отсутствие идей. Красная Армия не есть Чека и добровольчество не есть контрразведка. Вы могли предпочесть Красную, Вы не смели оплевывать Белую. Герои везде и подлецы везде. Говоря о подлецах наших. Вы обязаны сказать о подлецах своих.
Если бы Вы были мужем, а не «...»[64], Мандельштам, Вы бы не лепетали тогда в 18 г. об «удельно-княжеском периоде» и новом Кремле, Вы бы взяли винтовку в руки и пошли сражаться. У Красной Армии был бы свой поэт, у Вас — чистая совесть, у Вашего народа — еще одно право на существование, в мире, на одну гордость больше и на одну низость меньше. Ибо, утверждаю, будь Вы в Армии (любой!). Вы этой книги бы не написали.
Это взгляд со стороны, живописный, эстетский. В Ваших живописаниях Крыма 21 г. — те 90-е годы, тот пастернаковский червь (с Потемкина), от которых Вы так отмежевываетесь. Ваша книга — nature morte, и если знак времени, то не нашего. В наше время (там, как здесь) кровь не «журчит», как стихи, и сами стихи не журчат. Журчит ли Пастернак? Журчит ли Маяковский? Журчали ли Блок, Гумилев, Есенин? Журчите ли Вы сами, Мандельштам?
Это книга презреннейшей из людских особей — эстета, вся до мозга кости (NB! мозг есть, кости нет) гниль, вся подтасовка, без сердцевины, без сердца, без крови, — только глаза, только нюх, только слух, — да и то предвзятые, с поправкой на 1925 год.
Будь вы живой, Мандельштам, Вы бы живому полковнику Цыгальскому по крайней мере изменили фамилию, не нападали бы на беззащитного. — Ведь чтó — если жив и встретитесь? Как посмотрите ему в глаза? Или снова — как тогда, в 1918 г., в коридоре, когда я Вам не подала руки — захлопочете, залепечете, закинув голову, но сгорев до ушей.
Есть и мне что рассказать о Ваших примусах и сестрах. — Брезгую!
___________
Выдержки.
Патриотическая какофония увертюры 12 года.
___________
Случилось так, что раннее мое петербургское детство прошло под знаком самого настоящего милитаризма, и, право, в этом не моя вина, а вина моей няни и тогдашней петербургской улицы.
Характерно, что в Казанский собор, несмотря на табачный сумрак его сводов и дырявый лес знамен, я не верил ни на грош. Подкова каменной колоннады и широкий тротуар с цепочками предназначались для бунта (автор говорит о восприятии 6-тилетнего ребенка — МЦ).
Я был в восторге, когда фонари затянули черным крепом и подвязали черными лентами по случаю похорон наследника. (По случаю смерти Ленина. — М. Ц).
«Проездами» тогда назывались уличные путешествия царя и его семьи. Я хорошо навострился распознавать эти штуки. (Пошлость. — МЦ).
Меня забавляло удручать полицейских расспросами, кто и когда поедет, чего они никогда не смели сказать. (NB! дух революции. — МЦ). Нужно признать, что промельк гербовой кареты с золотыми птичками на фонарях или английских санок с рысаками в сетке, всегда меня разочаровывал. Тем не менее игра в проезд представлялась мне довольно забавной.
___________
Но какое оскорбление — скверная, хотя и грамотная речь раввина, какая пошлость, когда он произносит «государь-император», какая пошлость все, что он говорит (Хаос иудейский — МЦ).
___________
Не так ли римляне нанимали рабов-греков, чтобы блеснуть за ужином дощечкой с ученым трактатом? (У Мандельштама, мальчика, репетитор. — МЦ)
___________
Ходить с ним по улице было одно удовольствие, потому что он показывал гороховых шпиков и нисколько их не боялся… Ткнуть лицом в грязь генерала или действительного статского советника было для него высшим счастьем, полагая счастье математическим, несколько отвлеченным пределом.
___________
Разве Каутский — Тютчев? А представьте, что для известного возраста и мгновения Каутский (я называю его, конечно, к примеру, не он, так Маркс, Плеханов, с гораздо большим правом) тот же Тютчев, то есть источник космической радости, податель сильного и стройного мироощущенья, мыслящий тростник и покров, накинутый над бездной.
…зримый мир с ячменями, проселочными дорогами, замками и солнечной паутиной я сумел населить, социализировать, рассекая схемами, подставляя под голубую твердь далеко не библейские лестницы, по которым всходили и опускались не ангелы Иакова (религиозная благонадежность! — МЦ), а мелкие и крупные собственники, проходя через стадии капиталистического хозяйства.
Да, я слышал с живостью настороженного далекой молотилкой в поле слуха, как набухает и тяжелеет не ячмень в колосьях, не северное яблоко, а мир, капиталистический мир набухает, чтобы упасть.
___________
…Некая Наташа, нелепое и милое создание. Борис Наумович терпел ее как домашнюю дуру. Наташа была по очереди эсдечкой, эсеркой, православной, католичкой, эллинисткой, теософкой с разными перебоями. От частой перемены убеждений она преждевременно поседела. (История — только в обратном порядке — самого Мандельштама. Империалист, эллинист, православный, эсер, коммунист. Но Наташа — женщина и дура — седеет. Мандельштам — не седеет! — МЦ)
___________
Все это была мразь по сравнению с миром Эрфуртской программы. Коммунистических Манифестов и аграрных споров.
___________
Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых-внуков, влюбленных в семейственные архивы, с эпическими домашними воспоминаньями. Повторяю — память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведеньем, а над отстраненьем прошлого (искаженьем его. — М. Ц).
___________
Для революции характерна эта боязнь, этот страх получить что-нибудь из чужих рук, она не смеет, она боится подойти к источникам бытия. (73 стр. Мандельштам говорит во славу, а не в осуждение. — МЦ)
___________
Больные, воспаленные веки Фета мешали спать. Тютчев ранним склерозом, известковым слоем ложился в жилах.
___________
«Для меня, для меня, для меня», говорит Революция. «Сам по себе, сам по себе, сам по себе» — отвечает мир.
___________
Чья это исповедь? Революционера с колыбели, наконец дорвавшегося до революции. Иного жара он, казалось, не знал. Ребяческий империализм он всецело кладет на совесть няньки и отодвигает его к возрасту, когда ребенок без няньки не ходит. Чуть вырос, уж бонны — рабыни, уж провозглашение здравия государю-императору раввином — пошлость… И пошло и пошло? Отчего не принять на веру? Потому что до «Шума времени» у Мандельштама есть книга «Камень», потому что до Мандельштама-прозаика был Мандельштам-поэт.
Откроем «Камень»: «Поедем в Царское Село», «Над желтизной правительственных зданий»……
Откроем вторую книгу «Tristia». «В разноголосице девического хора» (Успенский собор), «Не веря воскресенья чуду» (опять Москва и православие), «О, этот воздух смутой пьяный» (прямое перечисление кремлевских соборов).
Где же Эрфуртская программа, где же падающее яблоко капиталистического мира, хотя бы отзвук один героического тенишевского школьничества? Мальчишки где? Нигде. Потому что их не было.
Мандельштам-поэт предает Мандельштама-прозаика. Весь этот сложный, сплошной, прекрасный, законно-незаконный мятеж: поэта (князя Духа) против деспота (царя тел), иудея (загнанного) против царизма (гонителя), школьника (сердце!) против казака (нагайки!), сына, наконец, (завтра) против отца (бывшего) — весь этот сложный, сплошной, прекрасный, законно-незаконный мятеж ВЕЛИЧИЯ против ВЛАСТИ — вымысел.
Революционность Мандельштама не с 1917 г. — вперед, а с 1917 г. назад. Не 1891–1917 (как он этого ныне хочет), а с 1917 г. — 1891 г. — справа налево, ложь. Перевранная команда Октября. Октябрь знает: вперед, он не знает назад. Октябрь знает: будет, он не знает было, зря старался Мандельштам с его вымышленными революционными пеленками. Революция застает вещи, как они есть. Революция в трехлетнем революционере Мандельштаме не нуждается. Она застала его 25-летним, таким он ей нужен, — если нужен… Дело Мандельштама было родиться заново: я родился в 1917 г., до этого меня просто не было. Дело Мандельштама, если он в Революцию прозрел, было наглухо забыть и начисто перечеркнуть все до 1917 г. Дело Мандельштама было всенародно и громогласно отречься от себя «православного», «империалиста», «эсера», «эллиниста», принести Революции полную и громкую повинную. — «Да, я воспевал соборы и монастыри, и юродивых, и ереси, и царских уланов, и фрейлин, и правоведов в бобровых шинелях. Да, я воспевал все, что смели — вы. Теперь я переродился. Октябрь отверз мне очи. То, что должен был сделать я, поэт, — со мной, поэтом, сделала Революция. Революция со мной сделала то чудо, которое обыкновенно поэт делает с миром: преобразила меня. Я был слеп и глух. Я не слышал близкого грома, я не видел молний. Я не был пророком. Я был просто певцом существующего. Все это я сознаю и приношу вам свою повинную голову. Ваша воля, ваша власть».
— Власть! — Вот оно, слово ко всему, тайный ключ к Мандельштаму.
«Шум времени» — подарок Мандельштама властям, как многие стихи «Камня» — дань.
Если бы Мандельштам любил величие, а не власть, он 1) до 1917 г. был бы революционером (как лучшая тогдашняя молодежь) — он революционером не был; 2) даже пусть революционером до 1917 г. не быв, революционером после коммунистического Октября не сделался бы — он им сделался; 3) даже сделавшись революционером после коммунистического Октября — столь не вовремя (или вовремя!) отозвавшись и на это величие, не отказался от своего вчерашнего представления о величии. Но Мандельштам воспевает власть (именно жандармов! Улан — разница!), бессмысленную внешнюю красоту ее. До преображения вещи он никогда не возносился. Власть рухнула, да здравствует следующая!
Я тебя любил и больше не люблю. Я не тебя любил, а свою мечту о тебе. — Так, кончив любить, говорит каждый.
Я тебя не любил, а любил своего врага, — так, кончив любить, говорит Мандельштам.
___________
He-революционер до 1917 г., революционер с 1917 г. — история обывателя, негромкая, нелюбопытная. За что здесь судить? За то, что Мандельштам не имел мужества признаться в своей политической обывательщине до 1917 г., за то, что сделал себя героем и пророком — назад, за то, что подтасовал свои тогдашние чувства, за то, что оплевал то, что — по-своему, по-обывательскому, но все же — любил.
Возьмем Эренбурга — кто из нас укорит его за «Хулио Хуренито» после «Молитвы о России». Тогда любил это, теперь то. Он чист. У каждого из нас была своя трагедия со старым миром. Мандельштам просто через него переступил.
___________
Это не шум Времени. Время шумит в прекрасной канунной поэме Маяковского «Мир и Война», в «Рабочем» Гумилева, в российских пожарах Блока. Шум времени — всегда — канунный, осуществляющийся лишь в разверстом слухе поэта, предвосхищаемый им. Маркс мог знать, поэт должен был видеть. И самым большим поэтом российской революции был Гейне с его провидческим:
«И говорю вам, настанет год, когда весь снег на Севере будет красным».
Шум времени Мандельштама — оглядка, ослышка труса. Правильность фактов и подтасовка чувств. С таким попутчиком Советскую власть не поздравляю. Он так же предаст ее, как Керенского ради Ленина, в свой срок, в свой час, а именно: в секунду ее падения.
___________
Не эпоху 90-х годов я беру под защиту, а слабое, малое, но все-таки чистое сердце Мандельштама, мальчика и подростка.
Вчитайтесь внимательно: маленький резонер, маленький домашний обличитель, Немезида в коротких брючках с Эрфуртской программой под одной мышкой, с Каутским — под другой. Напыщенный персонаж кукольного театра. Гомункулос Революции. Есть что-то гофмановское в существе, которое Осип Мандельштам выдает за себя ребенка. Убийца радости — Magister Tinte[65] в пеленках.
Из школьника (голова, сердце, ранец), начиненного бомбами, народовольчеством и Шмидтом, мог вырасти поэт Осип Мандельштам. Из этого маленького чудовища, с высока своих марксистских лестниц взиравшего на торг рабынь (наем бонны) и слушавшего вместо доброй дроби достоверных яблок о землю набухание капиталистического яблока — ничего не могло выйти для поэзии и все для прямого врага ее — мог выйти политик фанатизма. Им Мандельштам не стал. Ложь, ложь и ложь.
___________
В прозе Мандельштама не только не уцелела божественность поэта, но и человечность человека. Что уцелело? Острый глаз. Видимый мир Мандельштам прекрасно видит и пока не переводит его на незримое — не делает промахов.
Для любителей словесной живописи книга Мандельштама, если не клад, так вклад.
___________
Было бы низостью умалчивать о том, что Мандельштам-поэт (обратно прозаику, то есть человеку) за годы Революции остался чист. Что спасло? Божественность глагола. Любящего читателя отослала бы к «Tristia», к постепенности превращения слабого человека и никакого гражданина из певца старого мира — в глашатаи нового. Большим поэтом (чары!) он пребыл.
Мой ответ Осипу Мандельштаму — мой вопрос всем и каждому: как может большой поэт быть маленьким человеком? Ответа не знаю.
Мой ответ Осипу Мандельштаму — сей вопрос ему.
Март 1926
НЕСКОЛЬКО ПИСЕМ
РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ
Мне не хочется писать о Рильке статью. Мне не хочется говорить о нем, этим изымая и отчуждая его, делая его третьим, вещью, о которой говоришь, вне меня. (Пока вещь во мне, она — я, как только вещь во-вне она — она, ты нет, ты опять — я.)
Мне хочется говорить — ему (точней — в него), как я уже говорила в «Новогоднем письме» и «Твоей смерти», как еще буду говорить, никогда не кончу говорить, вслух ли, про себя ли. Что мне в том, что другие слышат, я не им говорю, ему говорю. Не им о нем, ему — его же. Ибо он именно та вещь, которую я хочу ему сказать, данный он, мой он, он моей любви, нигде вне ее не существующий.
Еще мне хочется говорить с ним — это было и кончилось, ибо, даже учитывая сон, сон — редко диалог, почти всегда монолог: нашей тоски по вещи, или тоски вещи по нас. Взаимных снов не бывает. Либо я другого в сон вызываю, либо другой в мой сон входит. Дело одного, а не двух. (Вспомним все пришествия с того света, перед которыми мы в жизни (Гамлет не в счет, ибо — литература), в жизни немы. И все наши заклинания придти, на которые никто не отзывается. «Приду, когда смогу», как мы: «увижу, когда привидится», нечто вроде старинных «оказий». Связь сохраняющаяся только внутри и рвущаяся при малейшей попытке осуществления. Разговор по сорванному проводу. Единственное доказательство смерти.) И — если даже диалог — то две партитуры одной тоски.
Словом, беседа: вопрос и ответ (здесь — ответ и ответ) моя с Рильке кончилась, и может быть — единственное, что кончилось.
А главное мне хочется, чтобы он говорил — мне. Это может быть во сне и через книги. Снов много и книг много, — невиданных снов и неизданных писем Рильке. Учитывая отзвук — хватит навек.
О посмертных письмах. Благодарна тем, кто дал мне возможность их прочесть, но их благодарности не услышу, и о природе своей благодарности — умолчу. (Исключение — «неизвестная», сообщившая, то есть создавшая вещь, которой бы без нее, в слове, не было — своего Рильке, еще одного Рильке.)
Сделали ли бы они это вчера? Весче, чем «бы», — не делали. Почему же они это делают сегодня? Что произошло между вчера и сегодня, вдохновившее и уполномочившее их на оглашение писем Рильке? — Смерть? — Значит они действительно в нее поверили, ее признали? Да, признали, и, признав, воспользовались. Дело не в целях — будем верить, самых благих. — «Поделиться». — Но почему же вчера, при жизни, не делился, хранил, берег?
— Это бы Рильке задело. — А сегодня? В чем, ради Бога, разница? Каким образом вещь, бывшая бы вчера — почти предательством доверия, сегодня, по отношению к тому же лицу, чуть ли не «священный долг»?
Вещь либо плоха, либо хороша, день — ничто, факт смерти — ничто, для Рильке — ничто, ничем никогда и не был. Опубликовывал ли он день спустя после их смерти письма своих друзей?
Дело не в целях, дело в сроках. Через пятьдесят лет, когда все это пройдет, совсем пройдет, и тела истлеют и чернила посветлеют, когда адресат давно уйдет к отправителю (я — вот первое письмо, которое дойдет!), когда письма Рильке станут просто письма Рильке — не мне — всем, когда я сама растворюсь во всем, и, — о, это главное — когда мне уже не нужны будут письма Рильке, раз у меня — весь Рильке.
Нельзя печатать без спросу. Без спросу, то есть — до сроку. Пока адресат здесь, а отправитель там, ответа быть не может. Его ответ на мой вопрос и будет срок. — Можно? — Пожалуйста. А будет это не раньше, чем — Богу ведомо.
Мне скажут (а не скажут — сама себе скажу, ибо наш худший (лучший) противник, самый зоркий и беспощадный — мы): «Но Рильке сам стоял за то, чтобы печатали его письма, в которых, наравне со стихами, жил весь»…
Рильке — да, а ты? Разрешение на печатание — пусть, но есть ли разрешение на желание? («Позволь, чтобы мне хотелось»…) И если даже желание самого Рильке — как оно могло стать твоим? И если даже простое выполнение его желания, скажу больше, твоему вопреки — где же любовь? Ибо любовь не только повинуется — и диктует, не только отдает — но и отстаивает.
Так, разреши мне Рильке тысячу раз — мое дело отказаться. И проси меня Рильке в тысячный раз — мое дело отказать. Ибо воля моей любви выше его надо мной воли, иначе она не была бы любовь: то, что больше всего. (Беру худший для себя случай: многократной, настойчивой просьбы Рильке, которой, конечно, не было, было — обмолвка — если было.) Так, запросив: есть ли разрешение на желание? — утверждаю: есть разрешение на нежелание, не Рильке — мне — данное, моей любовью — у Рильке — взятое. — Позволь мне не только не печатать твоих писем, но этого и не хотеть.
И, от себя к другим: где же любовь? Или ты уже настолько дух, что тебе и листка не жалко? Откуда эта, со вчерашнего вечера, катастрофическая любовь к ближнему — «поделиться» — любовь, которой вчера не было, раз не делился вчера, любовь, которую вчера превышала любовь к Рильке — раз не «делился». Нет ли в этой поспешности еще и элемента безнаказанности — «не увидит» (старший — мертвый — Бог) и не есть ли то, о чем говорю, кроме признания смерти, еще и непризнание бессмертия (присутствия)?
Как можно, любя человека, отдавать его всем, «первому встречному, самому недостойному».[66] Как можно это вынести — перевод его почерка на лино- или монотип? с бумаги той — на бумагу — эту?
Где же ревность, священная после смерти?
Дело не в ушах, уже потому не мешающих, что не слышат, не то слышат, свое слышат, а в направленности моей речи — от него (раз о нем!), в голом факте отвода речи, вне ее содержания. Ибо: не только хуля предают, и хваля предают — доверие тебе вверившегося, удостоившего тебя быть при тебе — собой. Но не только доверие — того, и доверие свое — к нему (не наши чувства в нас, а мы в них), предательство взаимного доверия, которое и есть тайна, которая и есть любовь.
Каждая мать, не устоявшая перед соблазном поделиться с другими, посторонними, каким-нибудь глубоким или любовным словом своего ребенка, и остерегавшее сжатие сердца облекающая, потом, в смутные слова: «Нехорошо… Зачем?.. Не надо бы»… мучится муками предательства. Он сказал мне (при мне), а я — всем. Пусть хорошее сказал (хорошее повторила), но я — предатель. Ибо предательство не в цели, вне цели, в простом факте передачи. Передать — предать, равно как в данном случае (печатание писем Рильке) — дать: предать.
Болевой аккомпанемент к каждому нашему слогу, болевое эхо, с той разницей, что опережает звук — вот сердце. Эхо-наоборот. Не отзвук, не призвук, до — звук. Я еще рта не раскрыла, а уже раскаиваюсь — ибо знаю, что раскрою — и рот и тайну. Раскрытие тайны есть просто раскрытие рта. Кто из нас этого не знал: «как с горы»…
Так, Иоанна до — олго не говорила дома о чуде голосов.
Была тайна. Тайны нету. Был союз. Союз распался. Брешью, проложенной типографским станком, вошли все.
Единственное разительное исключение, в которое не верю, ибо каждое исключение из — включение в (нельзя исключиться в пустоту), т. е. неминуемое попадение в другой закон — («для него закон не писан», да, ибо в данную минуту пишется им) — итак, единственное разительное исключение, т. е. — начало нового закона — знаменитые Briefwechsel[67] Беттины Брентано.
Поверим на секунду в «исключение», и —
Первое: Беттина давала не письма, а переписку, не один голос, а два. Если предательство — полное и цельное.
Второе: в переписке с Гёте (Goethes Briefwechsel mit einem Kinde[68]) Беттина, по собственному заявлению, ставит ему памятник. Памятник старцу, снизошедшему к ребенку, тому Гёте, которого вызвала она, создала она, знала только она. — Психея, играющая у ног не Амура, а Зевеса, Зевес, клонящийся не над Семелой, а над Психеей. — Прославить его по мере собственных (детских — как она думала) сил. Еще и так прославить. Вспомним Тайного Советника Гёте — и поймем Беттину.
Не забудем также, что последним гостем умирающего Гёте был старший сын Беттины, что Беттина отдавала давно-давно прошедшее, и свое — почти посмертное.
В другой книге: Günderode (переписка с подругой) — тот же памятник, там — старости и славе, здесь — юности и тени. Долгой жизни. Ранней смерти. Оживить бессмертие. Обессмертить раннюю смерть. Тот же долг любви. Прославить. Поставить.
Третье: Беттина переписку с близкими печатала и при жизни тех — с братом, например (Clemens Brentanos Jugendkranz[69]), с молодым другом, например, будучи уже старой женщиной (Julius Pamphilius), что уже снимает с нее всякую тень посмертного предательства.
И — все случаи в одном — Беттина, оглашая письма друзей, как бы говорит ими за бессловесных. Такого Гёте никто не знал, такой Günderode никто не знал, такого Клеменса, ныне мрачного фанатика церковности — забыли, такого Julius Pamphilius'a вообще не было, он весь внушен Беттиной и продержался в воздухе ровно столько, сколько она его в нем продержала.
А Рильке таким, как он в письмах, — знали все, ибо другого Рильке — «знаменитого» Рильке, «домашнего» — Рильке, «литератора» — Рильке, «человека общества» — Рильке — не было. Был один Рильке, т. е. всё, кроме упомянутого, в одном. Что прибавить к всему? — Еще — все?
Четвертое. Всякое отсутствие идеи дележа. Всякое отсутствие идеи другого (третьего). Насущное отсутствие, ибо Беттине и второго много — Ich will keine Gegenliebe![70] — можно ли после этого вызова, брошенного в лицо Гёте, т. е. самой любви, заподозрить ее в сердобольном желании «поделиться» — тем любимым, которым и с любимым не делилась — с любым?
Любовь не терпит третьего. Беттина не терпит второго. Ей Гёте — помеха. Одна — любить. Сама — любить. Взять на себя всю гору любви и сама нести. Чтоб не было легче. Чтоб не было меньше.
Чтó обратное дележу? Отдача! Беттина, в «Goethes Briefwechsel mit einem Kinde» свою безраздельную (и только посему неразделенную) любовь отдает — всю — не кому-нибудь, а во имя Твое. Так же отдает, как когда-то (сама!) брала. Так же всю, как когда-то всю — отстаивала.
Так сокровища бросают в костер.
Ни мысли о других. Ни мысли о себе. Du. Du. Du.[71] И — ο чудо — кому же памятник? Kind’y, а не Гёте. Любящей, а не любимому. Беттине, не понятой Гёте. Беттине, не понятой Беттиной. Беттине, понятой Будущим: Р.-М. Рильке.
Хвастать, хвалиться, хвалить, восхвалять, славословить. Начнем с конца. Начнем с начала Беттины. «Всякое дыхание да хвалит Господа». Беттина хвалила Господа — каждым своим дыханием. Какой-то поздний толкователь Беттины: «Беттина Бога никогда не нашла, потому что никогда его не искала». Потому-то не искала, что отродясь нашла. Ищут ли леса — в лесу?
А если Беттина Бога Богом никогда не называла, — ему-то все равно, ибо он знает, что его не так зовут — никак не зовут — и так зовут. И не было ли в каждом ее «Du» больше, чем может вместить человек? И не отсылал ли ее Гёте своими отмахиваньями и отнекиваньями непосредственно к Богу? Если и доходила — не отсылал. «Я не Бог», — вот все, что Гёте сумел сказать Беттине. Рильке бы сказал: «Бог — не я».
Гёте Беттину Беттине возвращал.
Рильке бы Беттину направил — дальше.
Каждое дыхание Беттины — славословие: «Loben sollen wir»,[72] — это Беттина сказала или Рильке сказал?
Письма Беттины (не Гёте — ей) — одна из самых любимых книг Рильке, как сама Беттина — одно из самых любимых, если не самое любимейшее из любимых им существ.
Еще — Беттина была первая. И, как первая — заплатила. Между приемом ее «Briefwechsel mit einem Kinde» и приемом появляющейся ныне переписки Рильке — пропасть, шириной в целый век и глубиной в целое новое людское сознание. Беттина знала, на что шла, иначе бы не предпослала своему шагу возгласа: «Dies Buch ist für die Guten und nicht für die Bösen!»[73] — и шла вопреки. Нынешние адресаты тоже знают, на что идут, — потому и идут.
Ничто не пример. И Беттина не пример. Беттина права безвозвратно и неповторно по тому жестокому закону исключительности, в который, родясь, вышагнула.
И, очутившись лицом к лицу с Рильке: может быть, он для всех писал? — Может быть. — Но «все» всегда будут, не данные все — будущие все. И дальние его, Рильке, с его Богом-потомком лучше услышат. Рильке то, что еще будет сбываться — века.
Те семь писем, лежащие у меня в ящике (делающие то же, что делает он, не он, а его тело, так же как и письма — не мысль, а тело мысли) — те семь писем, лежащие у меня в ящике, с его карточками и последней элегией отдаю будущим — не отдам, сейчас отдаю. Когда родятся — получат. А когда родятся — я уже пройду.
Это будет день воскресения его мысли во плоти. Пусть спят до поры, до — не Страшного, а — Светлого суда.
Так, верная и долгу и ревности, не предам и не утаю.
А сегодня мне хочется, чтобы Рильке говорил — через меня. Это, в просторечии, называется перевод. (Насколько у немцев лучше — nachdichten! Идя по следу поэта, заново прокладывать всю дорогу, которую прокладывал он. Ибо, пусть — nach (вслед), но — dichten![74] — то, что всегда заново. Nachdichten — заново прокладывать дорогу по мгновенно зарастающим следам.) Но есть у перевода еще другое значение. Перевести не только на (русский язык, например), но и через (реку). Я Рильке перевожу на русскую речь, как он когда-нибудь переведет меня на тот свет.
За руку — через реку.
Статья о Рильке потому еще бесполезна, что он статей о других не писал, а о себе не читал. Не прочел бы (не прочтет) и моей. Рильке и статья (в Германии о нем даже пишут диссертации) — дикость. Вскрыть сущность нельзя, подходя со стороны. Сущность вскрывается только сущностью, изнутри — внутрь, — не исследование, а проникновение. Взаимопроникновение. Дать вещи проникнуть в себя и — тем — проникнуть в нее. Как река вливается в реку. Точка слияния вод — но оно никогда не бывает точкой, посему: встреча вод — встреча без расставанья, ибо Рейн — Майн принял в себя, как Майн — Рейн. И только Майн о Рейне правду и знает (свою, майнскую, как Мозель — мозельскую, вообще-Рейна, — вообще-Рильке — нам знать не дано). Как рука в руке, да, но еще больше: как река в реке.
Проникаясь, проникаю.
Всякий — подход — отход.
Рильке — миф, начало нового мифа о Боге-потомке. Рано изыскивать, дайте осуществиться.
Книгу о Рильке — да, когда-нибудь, к старости (возрасте, наравне с юностью особенно любимом Рильке), когда немножко до него дорасту. Не книгу статей, книгу бытия, но его бытия, бытия в нем.
Лиц, затронутых данными письмами и может быть немецкого языка не знающих (хорошего перевода на русский его стихов — нет), отвожу к его книге «Les Cahiers de Malte Laurids Brigge»[75] (в прекрасном переводе Maurice Betz’a, самим Рильке проверенном) и к маленькой, предсмертной, книжечке стихов «Vergers»,[76] французской в подлиннике.
Медон, февраль 1929
О НОВОЙ РУССКОЙ ДЕТСКОЙ КНИГЕ
Что в России решительно хорошо — это детские книжки. Именно книжки, ибо говорю о книгах дошкольного возраста, тоненьких тетрадочках в 15–30 страниц. Ряд неоспоримых качеств. Прежде всего, почти исключительно, стихи, то есть вещи даны на языке, детьми не только любимом, но творимом, — их родном. (Детей без собственных стихов — нет, как нет без песен — народов.) Второе качество (без которого первое, то есть сами стихи — порок) — качество самих стихов: превосходное. Читаешь, восхищаешься, и: кто это пишет? Никто. Безымянный. Имя, ничего не говорящее. Пишет высокая культура стиха. Так в моем детстве и поэты для детей не писали. Третье: сама тема этих книг: реальная, в противуположность так долго и еще так недавно господствовавшей в русской дошкольной литературе лжефантастике, всем этим феям, гномам, цветочкам и мотылечкам, не соответствующим ни народности (первые), ни природе (вторые). Четвертое: разгрузка от удушливо-слащавого быта детской, с его мамами, няньками, барашками, ангелочками, малютками, опять-таки никакой реальности не соответствующими (сравни довоенный младенческий журнал «Малютка» и раннее детство Багрова-внука, тех «мам» — и ту мать), а если и соответствующими — то к прискорбию. Есть и в новой детской литературе бараны, но — именно бараны, и пасутся они на пастбищах Туркестана, и шерсть у них клочьями, а не завитая у парикмахера. Ребенок игрушечного барашка превращает в барана (жизнь), зачем же детям жизнь (природу) превращать в игрушку? Ведь все дело — в живом баране. А при баране — пастух, а под бараном — трава, а над бараном небо. И пастух так-то одет, и такую-то песнь, на такой-то дудке (и из какого дерева, и сколько дырочек — сказано) играет, и трава именно трава данного географического края, а не барашкина «травка», и небо — а небо — то небо, которого над лужайками моих детских книжек — не было.
Начнем наугад. По сжатости места стихи приходится давать в строку.
«А у вас живут ребята — Городские тесновато. — Ваши важные дома — Как железная тюрьма».
И дальше.
«Не гордитесь, ленинградцы, — Очень глупо зазнаваться. — Все привозят поезда — Из деревни в города. — На полях растет рубаха, — Лен спрядет на прялке пряха, — Мы без фабрик и станков — Понаткем себе холстов!»
И, в ответ на заносчивое утверждение города: — «А у вас в деревне нет — Ни пирожных, ни конфет» —
— «Да, пирожных не найдешь, — Но зато мы сеем рожь. — В землю падает зерно, — Всходит колосом оно. — Зрелый колос ждет серпа, — Сжатый колос ждет цепа, — А закончен умолот — Хлеб на мельницу идет. — Будет рожь у мужика, — Будет в городе мука».
Это — «Город и Деревня», а вот отдельная книжка — «Хлеб» — 15 страниц крупной печати, и на 15-ти страницах всё, вся история хлеба: Пахарь — Борона — Сеятель — Рожь — Молотьба — Веянье — Мельница — В Город — Пекарь — Булочник. Песнь о хлебе в 10 главках. Пекаря привожу целиком:
«Квашня хороша, — Воды три ковша, — Дрожжей на пятак, — Муки — на четвертак. — Вышло тесто на дрожжах, — Не удержишь на вожжах. — Замесил погуще, — Заходило пуще. — Не хватает места, — Вылезает тесто. — А я тесто шмяк! — Шмяк и этак, шмяк и так! — Катаю по муке — Вдоль по липовой доске, — От края до краю — Каравай катаю. — Раскатаю — стану печь, — На лопате суну в печь».
Что, хорошо? — Хорошо. И не лучше ли таких, например, стихов (книжка передо мною, нашего производства):
«В стране, где жарко греет солнце, — В лесу дремучем жил дикарь. — Однажды около оконца — Нашел он чашку — феи дар. — Дикарь не оценил подарка — Неблагодарен был, жесток — И часто чашке было жарко, — Вливал в нее он кипяток. (Спрашивается — для чего же чашка? Вот они, „подарки фей“!) — И черный мальчик дикаря — Всегда сердит, свиреп и зол. — Он, ложку бедную моря (?!), — Пребольно ею бил об стол». Минуя рифму: кроватки и булавки (почему не слюнявки и булавки, и благозвучнее и по смыслу ближе: слюнявку, на худой конец, можно заколоть булавкой), перейдем к очередному дару феи:
«Но феей детке послан дар: — Картонный, толстый, черный шар. — Ее в тот шар тотчас одели. — Она стояла еле-еле — (вследствие чего стала называться Танькой-Встанькой. И, дальше:) — Однажды к Танечке на стол — Вдруг прыгнул черный Васька-кот — И сбросил бедную на пол».
Не спрашивается уже о том, откуда в тропических лесах столы и коты Васьки (после чашки, не выносящей кипятку, нас уже ничем не удивишь!), спросим автора: откуда — из каких мест России — у него это ударение: на пол? Может быть — рифмы ради? Но так ли уж блистателен Танечкин стол в тропиках?
Brisons-lá,[77] ибо с первой страницы до последней — все тот же бездарный, бесстыдный, безграмотный вздор. — Но разве все здешние детские книги таковы? — Не все, но она и не одна (хотя бы наличность еще пяти таких же, того же автора, за качество ручаюсь), да будь она и одна — назовите, покажите мне хотя одну такую в России. Не покажете, ибо ее быть не может. Иная культура стиха. Просто — бумага не стерпит.
Кстати, о бумаге: отличная. Печать крупная, черная, именно — четкая. А об иллюстрациях нужно было бы отдельную статью. Имена? Те же безымянные. Высокая культура руки и глаза.
Возьмем копеечное (цена 1 копейка) издание пушкинских сказок. — О Золотом петушке, о Рыбаке и Рыбке — на 16 стр. текста — 8 страниц картинок, в три цвета. И — какие картинки! Никакой довоенный Кнебель не сравнится. За копейку ребенок может прочесть и глазами увидеть сказку Пушкина. Достоверность (в руках держу). Вывод — ваш. Помню копеечные книжки своего детства. «Нелло и Патраш» Уйда, но без картинок и, кажется 3 копейки. Может быть и Пушкин был, может быть и за копейку, может быть и с картинками — но во всяком случае не за эту копейку и не с такими картинками — первокачественными.
Впервые за существование мира страна к ребенку отнеслась всерьез. К дошкольному, самое большее — шестилетнему — всерьез. В Англии, когда ребенок переходит улицу, всё останавливается. В России ребенок все приводит в движение. «Его Величество Ребенок» — это сказала Европа, а осуществляет Россия.
Темы детских книг, в основе, три. Природа (звери, птицы, земли — преимущественно России), народность (сказки, предания и обычаи всех народов — преимущественно племен России) и современность, если хотите — техника. Не тяготея к последней, нет: ох как ею тяготясь! не могу не признать, что такие книжки, как «Кто быстрее» — все способы передвижения от слона до аэроплана (о тексте и рисунках раз навсегда скажу: превосходны), как «Водолазная база» (все морское дно), как «Часы» — все особи их, кончая деревенскими часами: петухом, — доброе, мудрое и нужное дело. Если даже техника — враг, человек должен знать своих врагов. Но враг она для меня и еще для полутора (заштатных) душ, наши дети в ней и с ней родились, им в ней, с ней жить, больше — ее творить.
И несмотря на всю свою любовь к сказкам Перро (так и вижу бегство Ослиной кожи из родного страшного дома — огромной вязовой аллеей, на баранах, под бараньим рогом месяца… Я только против заимствованной, не привившейся, привиться не могущей, — лже-фантастики — рязанских «эльфов» восстаю!) — так, несмотря на всю свою любовь к Ослиной коже — чем водолаз менее волшебен, чем фея?
Спросите детей — ответ их.
Но есть среди всех жизненно-волшебных и чисто-волшебные. Возьмем «Приключения стола и стула» — о том, как вещам надоело стоять на месте. (Самочувствие законное!)
«Зазвенели зеркала, — Волчья шкура уползла, — Стол промолвил на ходу: — До свиданья: я иду».
Не утруждая читателя пересказом всех (очень живых и смешных) злоключений сбежавшей пары — и очень желая, чтобы он, читатель, потрудился сам, обращу его внимание на законность такой фантастики. Стул — четыре ноги — и «до свиданья! я иду!» (всеми четырьмя). Это тебе не дикари с чайными чашками. Фантастика не есть беззаконие, беззаконная фантастика есть — ахинея.
Природа в дошкольной российской литературе так же щедро представлена, как техника. «Зверинцев» не перечесть, но не только в клетках звери — и на воле, каждый у себя дома, на своем фоне, в своей семье или стае, со своей бедой, со своей судьбой. Особенно нежно любимы, следовательно часто живописуемы и воспеваемы, Сова и Еж — и в этом я тоже вижу глубочайшее проникновение в дошкольную, еще неподневольную душу. Кто из нас некогда не имел своего (трагического) ежа? (Ежик ушел!) И кто из всех птиц особенно не тяготел к сове: филину: родному брату родного кота? Нынешние детские книжки мою тогдашнюю детскую страсть — разбередили.
Зверинцы. Из всех имеющихся знаю два, и один лучше другого. Гениальный зверинец Бориса Пастернака, на котором останавливаться здесь не место, ибо говорю о рядовой книге, и «Детки в клетке» С. Маршака — из всех детских книг моя любимая. Начнем с названия. Не звери в клетке, а детки в клетке, те самые детки, которые на них смотрят. Дети смотрят на самих себя. Малолетние (дошкольные!) — слон, белый медведь, жирафа, лев, верблюд, кенгуру, шимпанзе, тигр, собака-волк, просто-волк — кого там нет! Все там будем.
«Вот слоненок молодой — Обливается водой. — Вымыл голову и ухо, — А в лоханке стало сухо. — Для хорошего слона — Речка целая нужна! Уберите-ка лоханку, — Принесите-ка Фонтанку!»
А вот Львенок:
«Нет, постой, постой, постой! — Я разделаюсь с тобой! — Мой отец одним прыжком — Расправляется с быком. — Будет стыдно, если я — Не поймаю воробья, — Эй, вернись, покуда цел! — Мама! Мама! Улетел!»
И, на закуску — малолетний тигр:
«Убирайтесь! Я сердит! — Мне не нужен ваш бисквит. — Что хорошего в бисквите? — Вы мне мяса принесите. — Я тигренок, хищный зверь! — Понимаете теперь? — Я с ума сойду от злости! — Каждый день приходят гости, — Беспокоят, пристают. — В клетку зонтики суют. — Эй, не стойте слишком близко! — Я тигренок, а не киска!»
Закончу спокойным и удовлетворительным утверждением, что русская дошкольная книга — лучшая в мире.
Р. S. A с новой орфографией советую примириться, ибо: буква для человека, а не человек для буквы. Особенно если этот человек — ребенок.
<1931>
ПОЭТ И ВРЕМЯ
«Я очень люблю искусство, только не современное» — слово не только обывателя, но, бывает, и большого художника, но неизменно — о чужой отрасли художества, живописца о музыке, например. В своей же области крупный художник неизбежно современен, почему — увидим дальше.
Нелюбовь к вещи, во-первых и в главных, есть неузнавание ее: в ней — уже знаемого. Первая причина неприятия вещи есть неподготовленность к ней. Простонародье в городе долго не ест наших блюд. Как и дети — новых. Физический отворот головы. Ничего не вижу (на этой картине) и поэтому не хочу смотреть — а чтобы видеть, именно нужно смотреть, чтобы увидеть — всматриваться. Обманутая надежда глаза, привыкшего по первому взгляду — то есть по прежнему, чужих глаз, следу — видеть. Не дознаваться, а узнавать. У стариков усталость (она и есть отсталость), у обывателя предустановленность, у живописца, не любящего современной поэзии, — заставленность (головы и всего существа) — своим. Во всех трех случаях страх усилия, вещь простимая — пока не судят.
Единственный достойный уважения случай. То есть единственно законное неприятие вещи, — неприятие ее в полном знании. Да, знаю, да, читаю, да, признаю — но предпочитаю (положим) Тютчева, мне, хочу моей крови и мысли, более сродного.
Всякий волен выбирать себе любимых, вернее никто своих любимых выбирать не волен: рада бы, предположим, любить свой век больше предыдущего, но не могу. Не могу да и не обязана. Любить никто не обязан, но всякий нелюбящий обязан знать: то, чего не любит, — раз, почему не любит — два.
Дойдем до крайнего из крайних случая: неприятия художником собственной вещи. Мне мое время может претить, я сама себе, поскольку я — оно, могу претить, больше скажу (ибо бывает!) мне чужая вещь чужого века может быть желаннее своей — и не по примете силы, а по примете родности — матери чужой ребенок может быть милее своего, пошедшего в отца, то есть в век, но я на свое дитя — дитя века — обречена, другого породить, как бы хотела, не могу. Роковое. Любить свой век больше предыдущего не могу, но творить иной век, чем свой, тоже не могу: сотворенного не творят и творят только вперед. Не дано выбирать своих детей: данных и заданных.
«Я очень люблю стихи, только не современные» — есть и у этого утверждения, как у всякого, свое контр-утверждение, а именно: «Я очень люблю стихи, но только современные». Начнем с самого нелюбопытного и частого случая: того же обывателя и дойдем до любопытнейшего: большого поэта.
«Долой Пушкина» есть ответный крик сына на крик отца «Долой Маяковского» — сына, орущего не столько против Пушкина, сколько против отца. Крик «долой Пушкина» первая на глазах уже не курящего отца и не столько на радость себе, сколько на зло ему выкуренная папироса. В порядке семейной ссоры, кончающейся — миром. (Ни отцу, ни сыну, по существу, ни до Маяковского, ни до Пушкина дела нет.) Крик враждующих поколений.
Второй автор обывательскому крику: Долой Пушкина — худший из авторов: мода. На этой авторессе останавливаться не будем: страх отстать, то есть расписка в собственной овечьести. Что спрашивать с обывателя, когда этой овечьести подвержены и сами писатели, писательский хвост. У каждой современности два хвоста: хвост реставраторский и хвост новаторский, и один хуже другого.
Но крик не обывателя, крик большого писателя (тогда восемнадцатилетнего) Маяковского: долой Шекспира!
Самоохрана творчества. Чтобы не умереть — иногда — нужно убить (прежде всего — в себе). И вот Маяковский — на Пушкина. Своего по существу не врага, а союзника, самого современного поэта своего времени, такого же творца своей эпохи, как Маяковский — своей — и только потому врага, что его вылили в чугуне и этот чугун на поколения навалили. (Поэты, поэты, еще больше прижизненной славы бойтесь посмертных памятников и хрестоматий!) Крик не против Пушкина, а против его памятника. Самоохрана, кончающаяся (и кончившаяся), как только творец (борец) окреп. (Чудесная поэма встречи с Лермонтовым, например, произведение зрелых годов.)
Но — кроме исключительного примера Маяковского — утверждение: «очень люблю стихи, только не современные» и его контр: «Очень люблю стихи, но только современные» друг друга стоят, то есть мало — то есть ничего не стоят.
Никто (кроме кровной самообороны Маяковского) любящий стихи так не скажет, никто истинно-любящий стихи в пользу нынешнего настоящего не отрубит вчерашнего — и всегдашнего — настоящего, никто истинно любящий и не вспомнит, что есть у слова настоящее еще иное значение кроме как: неподдельное — в искусстве ему иного значения нет — никто над искусством, природой, не совершит греха политиков: на единстве почвы установки столба розни.
Не любит никакого любящий только это. Пушкин с Маяковским бы сошлись, уже сошлись, никогда по существу и не расходились. Враждуют низы, горы — сходятся. «Под небом места много всем» — это лучше всего знают горы. И одинокие пешеходы. А до суждения остальных: отсталых, усталых или отстать боящихся, до суждения и предпочтения незнающих нам, по выяснению, а самому искусству и до выяснения — дела нет.
Надпись на одном из пограничных столбов современности: В будущем не будет границ — в искусстве уже сбылась, отродясь сбылась. Мировая вещь та, которая в переводе на другой язык и на другой век — в переводе на язык другого века — меньше всего — ничего не утрачивает. Все дав своему веку и краю, еще раз все дает всем краям и векам. Предельно явив свой край и век — беспредельно являет все, что не-край и не-век: навек.
Не современного (не являющего своего времени) искусства нет. Есть реставрация, то есть не искусство, и есть одиночки, заскочившие из своего времени на сто, скажем, лет вперед (NB! никогда — назад), то есть опять-таки, хотя и не своему времени, но современные, то есть не вне-временные.
Гений? Чье имя мы произносим, когда думаем Возрождение? Винчи. Гений дает имя эпохе, настолько он — она, даже если она этого не доосознает. Да просто: Эпоха Гёте, определение, дающее и историческую и географическую — вплоть до звездной карты данного часа. («В дни Гёте», то есть когда так-то стояли звезды, либо, совсем уже достоверно: «Землетрясение в Лиссабоне», то есть, когда Гёте впервые усумнился во всеблагости божества. Сомнение семилетнего Гёте то землетрясение увековечило — и перевесило.)
Гений дает имя эпохе, настолько он — она, даже если он этого не доосознает (якобы, прибавим, ибо Винчи, Гёте, Пушкин — сознавали). Даже в учебниках: Гёте и его время (то есть собирательное и его собираемое). Гений с полным правом может сказать о времени то, что о государстве Людовик — без никакого: lе Temps c'est moi[78] (вся плеяда: mon temps — c’est nous).[79] Это о гении, опережающем. Насчет же якобы на век или три запаздывающих приведу один только случай: поэта Гёльдерлина, по теме, источникам, даже словарю — античного, то есть в свой XVIII в. запоздавшего не на век, а на все восемнадцать, Гёльдерлина, которого в Германии начинают читать только теперь, то есть сто с лишком лет спустя, то есть усыновленного нашим веком, уже вовсе не античным. Запоздавший в свой век на восемнадцать веков оказался современником в XX в. Что сие чудо означает? А то, что запоздать в искусстве нельзя, что само искусство, чем бы ни питалось и что бы ни пыталось восстановить, уже само есть продвижение. Что возврата в искусстве нет: безостановочно, то есть невозвратимо. Не безоглядно, но невозвратно. Не на поворот головы идущего глядите, а на версты отмахиваемые. Можно идти и вовсе закрыв глаза — с палкой слепого — и вовсе без палки. Ноги сами выведут, будь ты мысленно от них за тридевять земель. Глядел назад, а шел вперед.
Одиночка Тютчев? Лесков, вместо своего поколения, попавший в наше? Но так ведь можно дойти до Есенина, запоздавшего в свой край всего на десять лет. Родись он на десять лет раньше — пели бы — успели бы спеть — его, а не Демьяна. Для литературы эпохи показателен он, а не Демьян — показательный может быть, но никак не для поэзии. Есенин, погибший из-за того, что заказа нашего времени выполнить не мог — из-за чувства очень близкого к совести: между завистью и совестью — зря погиб, ибо даже гражданский заказ нашего времени (множеств — единоличному) выполнил.
«Я последний поэт деревни»…Всякая современность в настоящем — сосуществование времен, концы и начала, живой узел — который только разрубить. Всякая современность — пригород. Вся российская современность сейчас один сплошной духовный пригород с деревнями-не деревнями и городами-не городами — место во времени, на котором Есенин, так и оставшийся между деревней и городом, и биографически был уместен.
Не современных, поныне здравствующих поэтов, могла бы назвать десятками, но они либо уже не поэты, либо никогда ими и не были. Их покинуло не чувство своего времени, которого, может быть, в голом виде у них и не было, их покинул дар, через который они в свое время чувствовали — являли — творили. Не идти дальше (в стихах — как во всем) — идти вспять, то есть выбывать. С главным козырем эмигрантской литературы случилось то же, что с тридцати лет случается с обывателем: он стал современен предыдущему поколению, то есть в данном случае собственному авторству тридцать лет назад. Не от других идущих, от долженствовавшего идти себя — отстал. Причина неприятия Иксом современного искусства в том, что он его больше не творит. Икс не современен не потому, что не принял современности, а на своем творческом пути остановился, единственное, на что творец не вправе. Искусство идет, художники остаются.
Не современны, кроме нейтральностей, не современных никакому времени, только выбывшие из строя — инвалиды, титул почтенный, ибо в прошлом предполагает валидность (годность).
Даже мой единственный вызов времени:
Ибо мимо родилась Времени. Вотще и всуе Требуешь! Калиф на час — Время! Я тебя миную.— крик моего времени — моими устами, контр-крик его самому себе. Живи я сто лет назад, когда реки тихо текли… Современность поэта есть его обреченность на время. Обреченность на водительство им.
Из Истории не выскочишь. Пойми это Есенин, он спокойно пел бы не только свою деревню, но и дерево над хатой, и этого бы дерева никакими топорами из поэзии XX в. не вырубить.
Современность у поэта не есть провозглашение своего времени лучшим, ни даже просто — приятие его — нет тоже ответ! — ни даже насущность того или иного ответа на события (поэт сам событие своего времени и всякий ответ его на это самособытие, всякий самоответ, будет ответ сразу на все), — современность поэта настолько не в содержании (что ты этим хотел сказать? — А то, что я этим сделал) — что мне, пишущей эти строки, своими ушами довелось слышать после чтения моего Мóлодца — это о Революции? (Сказать, что слушатель просто не понял — самому не понять, ибо: не о революции, а она: ее шаг.)
Больше скажу, современность (в русском случае — революционность) вещи не только не в содержании, но иногда вопреки содержанию, — точно насмех ему. Так и в Москве 20 г. мне из зала постоянно заказывали стихи «про красного офицера», а именно:
И так мое сердце над Рэсэфэсэром Скрежещет — корми — не корми! — Как будто сама я была офицером В октябрьские смертные дни.Есть нечто в стихах, что важнее их смысла: — их звучание. И солдаты Москвы 20 г. не ошибались: стихи эти, по существу своему, гораздо более про красного офицера (и даже солдата), чем про белого, который бы их и не принял, который (1922–1932 гг.) их и не принял.
Знаю это по чувству веселия и доверия, с которым я их читала там: врагам бросала как в родное, и по чувству (робости и неуместности), с которым их читаю здесь, вроде: «простите Христа ради» — что? да то, что я о вас пишу — так, о вас пишу — не так: по-тамошнему, по-ихнему, вас славлю на языке врага: моем языке! А в общем: простите Христа ради за то, что я — поэт, ибо пиши я так, чтобы вы мне меня не «прощали», а себя во мне узнавали — я бы не была тем, кто я есть — поэтом.
Когда я однажды читала свой Лебединый Стан в кругу совсем неподходящем, один из присутствующих сказал: — Все это ничего. Вы — все-таки революционный поэт. У вас наш темп.
В России мне все за поэта прощали, здесь мне этого поэта прощают.
Знаю еще, что истинные слушатели моему белому Перекопу — не белые офицеры, которым мне, каждый раз как читаю, в полной чистоте сердца хочется рассказать вещь в прозе — а красные курсанты, до которых вещь вплоть до молитвы священника перед наступлением — дошла бы — дойдет.
Если бы между поэтом и народом не стояло политиков!
И еще: мои русские вещи, при всей моей уединенности, и волей не моей, а своей, рассчитаны — на множества. Здесь множеств — физически нет, есть группы. Как вместо арен и трибун России — зальца, вместо этического события выступления (пусть наступления!) литературные вечера, вместо безымянного незаменимого слушателя России — слушатель именной и даже именитый. В порядке литературы, не в ходе жизни. Не тот масштаб, не тот ответ. В России, как в степи, как на море, есть откуда и куда сказать. Если бы давали говорить.
А в общем просто: здесь та Россия, там — вся Россия. Здешнему в искусстве современно прошлое. Россия (о России говорю, не о властях), Россия, страна ведущих, от искусства требует, чтобы оно вело, эмиграция, страна оставшихся, чтобы вместе с ней оставалось, то есть неудержимо откатывалось назад. В здешнем порядке вещей я непорядок вещей. Там бы меня не печатали — и читали, здесь меня печатают — и не читают. (Впрочем, уж и печатать перестали.) Главное в жизни писателей (во второй половине ее) — писать. Не: успех, а: успеть. Здесь мне писать не мешают, дважды не мешают, ибо мешает не только травля, но и слава (любовь).
Все точка зрения. В России меня лучше поймут. Но на том свете меня еще лучше поймут, чем в России. Совсем поймут.
Меня самое научат меня совсем понимать. Россия только предел земной понимаемости, за пределом земной понимаемости России — беспредельная понимаемость не-земли. «Есть такая страна — Бог, Россия граничит с ней», так сказал Рильке, сам тосковавший везде вне России, по России, всю жизнь. С этой страной Бог — Россия по сей день граничит. Природная граница, которой не сместят политики, ибо означена не церквами. Не только сейчас, после всего свершившегося, Россия для всего, что не-Россия, всегда была тем светом, с белыми медведями или большевиками, все равно — тем. Некоей угрозой спасения — душ — через гибель тел.
И решиться ехать туда тогда, при всех до-военных ласках было немногим легче, чем сейчас через все запреты. Россия никогда не была страной земной карты. И ехавшие отсюда ехали именно за границу: видимого.
На эту Россию ставка поэтов. На Россию — всю, на Россию — всегда.
Но и России мало. Всякий поэт по существу эмигрант, даже в России. Эмигрант Царства Небесного и земного рая природы. На поэте — на всех людях искусства — но на поэте больше всего — особая печать неуюта, по которой даже в его собственном доме — узнаешь поэта. Эмигрант из Бессмертья в время, невозвращенец в свое небо. Возьмите самых разных и мысленно выстройте их в ряд, на чьем лице — присутствие? Все — там. Почвенность, народность, национальность, расовость, классовость — и сама современность, которую творят, — все это только поверхность, первый или седьмой слой кожи, из которой поэт только и делает, что лезет. «Который час? — его спросили здесь. — А он ответил любопытным: Вечность» — Мандельштам о Батюшкове, и: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» — Борис Пастернак о самом себе. По существу все поэты всех времен говорят одно. И это одно так же остается на поверхности кожи мира, как сам зримый мир на поверхности кожи поэта. Перед той эмиграцией — что — наша!
И долго на свете томилась она, Желанием чудным полна. И песен небес заменить не могли Ей скучные песни земли!— не менее скучные оттого, что собственные!
Возвращаясь к здесь:
Обыватель большей частью в вещах художества современен поколению предыдущему, то есть художественно сам себе отец, а затем и дед и прадед. Обыватель в вещах художества выбывает из строя к тридцати годам и с точки своего тридцатилетия неудержимо откатывается назад — через непонимание чужой молодости — к неузнаванию собственной молодости — к непризнаванию никакой молодости — вплоть до Пушкина, вечную молодость которого превращает в вечное старчество, и вечную современность которого в отродясь-старинность. И на котором и умирает. Показательно, что ни один рядовой старик Пастернаку, которого не знает, не противупоставляет Державина — которого тоже не знает. Великий знаток не только своей современности, но и первый защитник подлинности новооткрытого тогда Слова о Полку Игоревом — Пушкин — предел обывательской осведомленности вокруг и назад. Всякое незнание, всякая немощь, всякая нежить неизменно под прикрытие Пушкина, знавшего, могшего, ведшего.
Два встречных движения: продвигающегося возраста и отодвигающегося, во времени, художественного соответствия. Прибывающего возраста и убывающего художественного восприятия.
Так старшие в эмиграции по сей день считают своего семидесятилетнего сверстника Бальмонта — двадцатилетним и до сих пор еще с ним сражаются или как внуку «прощают». Другие, помоложе, еще или уже современны тому Игорю Северянину, то есть собственной молодости (на недавний вечер Игоря Северянина эмиграция пошла посмотреть на себя — тогда: на собственную молодость воочью, послушать, как она тогда пела, а молодость — умница! — выросла и петь перестала, только раз — с усмешкой — над нами и над собой…). Третьи, наконец, начинают открывать (допускать возможность) Пастернака, который вот уже пятнадцать лет (1917 г. Сестра моя Жизнь), как лучший поэт России, а печатается больше двадцати лет. Любят и знают Пастернака, то есть настоящие Борису Пастернаку современники, не его сверстники, возле-сорокалетние, а их дети, которые когда-нибудь тоже в свою очередь отстанут, устанут, застынут, на том — нем, если не откатятся куда-нибудь за Блока и дальше, в страну отцов, забывая, что та в свое время была страной сыновей. А где-то, в защитном цвете неизвестности, бродит среди нас тот, будущий — уже сущий — которого — о, как любили бы двадцатилетние его ровесники — если бы знали! Но они его не знают. Но он сам себя еще не знает. Он для себя сейчас еще последний из всех. О нем знают только боги и — пустая его тетрадь с продолбленным следом двух его локтей. Двадцатилетнего Бориса Пастернака не дано знать никому.
Из всего сказанного явствует, что признак современности поэта отнюдь не в своевременности его общепризнанности, следовательно не в количественности, а в качественности этого признания. Общепризнанность поэта может быть и посмертной. Но современность (воздействие на качество своего времени) всегда прижизненная, ибо в вещах творчества только качество и в счет.
«On ne perd rien pour attendre»[80] — Пастернак-то ничего не потерял, но может быть, попади тот русский самоубийца под какой-нибудь пастернаковский ливень, будь он (художественно) способен его воспринять, его — выдержать, — он бы и не бросился с Триумфальной арки (в ответ на: любовь моя смерть — Сестра моя Жизнь!).
Спросить бы тех, кто на войну уходили с Пастернаком и Блоком в кармане.
Современная Россия, которая обывателя чуть ли не насильно — во всяком случае неустанно и неуклонно — наглядным и изустным путем приучает к новому искусству, все это переместила и перевернула. Пусть не все понимают, пусть не все сразу понимают, достаточно того, что причину этого непонимания ищут в себе, а не в писателе. — «Почему, Владимир Владимирович, — вопрос рабочих Маяковскому, — когда вы читаете, мы все понимаем, когда сами…» — «Учитесь читать, ребята, учитесь читать»… Россия страна, где впервые учатся читать поэтов, которые — сколько бы этого ни утверждали — не есть соловьи.
Современность поэта во стольких-то ударах сердца в секунду, дающих точную пульсацию века — вплоть до его болезней (NB! мы в стихах все задыхаемся!) во внесмысловом, почти физическом созвучии сердцу эпохи — и мое включающему, и в моем — моим — бьющемуся.
Я идейно и жизненно могу отстаивать, отстою, ушедшее — там за краем земли оставшееся — отстаиваю, а стихи сами без моего ведома и воли выносят меня на передовые линии. Ни стихов, ни детей у Бога не заказывают, они — отцов!
Так я в Москве 20 г., впервые услыхав, что я «новатор», не только не обрадовалась, но вознегодовала — до того сам звук слова был мне противен. И только десять лет спустя, после Десяти лет эмиграции, рассмотрев, кто и что мои единомышленники в старом, а главное, кто и что мои обвинители в новом — я наконец решилась свою «новизну» осознать — и усыновить.
Стихи наши дети. Наши дети старше нас, потому что им дольше, дальше жить. Старше нас из будущего. Потому нам иногда и чужды.
Возвращаясь к содержанию и его частности направлению. Оттого, что Луначарский революционер, он не стал революционным поэтом, оттого, что я не — я не стала поэтом-реставратором. Поэт Революции (le chantre de la Révolution) и революционный поэт — разница. Слилось только раз в Маяковском. Больше слилось, ибо еще и революционер — поэт. Посему он чудо наших дней, их гармонический максимум. Но бывают и контр-чудеса: Шатобриан, бывший не с Революцией, а против, подготовил в литературе революцию Романтизма, чего бы не было, если бы Революция взяла его в оборот на предмет писания политических памфлетов (NB! гениальных — у Маяковского, сильных всей его — им самим в себе подавленной — лирической силой). Второе и главное: признай, минуй, отвергни Революцию — все равно она уже в тебе — и извечно (стихия) и с русского 1918 г., который хочешь не хочешь — был. Все старое могла оставить Революция в поэте, кроме масштаба и темпа.
— А старый Сологуб с его предсмертными бержериями? Именно-что — старый Сологуб. Пронзительно как человеческий документ (старого поэта в Революцию), растравительно как образ (старика, потерявшего все, и вот…), но не это же, не бержерии же — искусство, и не это же, не бержерии же — Сологуб! В бержериях Сологуб мрачным потоком своего дара отпущен — опущен на аркадский бережок. У тоже старого Кузмина в его византийском Св. Георгии (1921 г.) — шаг Революции, слушал бы иностранец, сказал бы: бой. Об этой революционности говорю. Другой для поэта нет. Или уж (кроме единственного чуда Маяковского) поэта нет. Пастернак не потому революционен, что написал 1905 год, а потому, что открыл новое поэтическое сознание и его неизбежное следствие — форму. (Показательно, что Пятый год среди своих — тогда больших современников — певца не нашел, в своих тогда больших поэтах современника не нашел. Есть один Пятый Год — пастернаковский, двадцать с лишним лет спустя. Из чего вывод, что событие — так же как поэт и как поэма — иногда может и подождать, не только без всякого для себя урона, но и на благо. События и события — торопящим великий творческий урок терпения.)
Ни одного крупного русского поэта современности, у которого после Революции не дрогнул и не вырос голос — нет.
Тема Революции — заказ времени.
Тема прославления Революции — заказ партии.
Является ли — хотя бы самая могущественная, с самым большим будущим в мире политическая партия — всем своим временем и может ли она от лица всего его предъявлять свой заказ?
Есенин погиб, потому что не свой, чужой заказ (времени — обществу) принял за свой (времени — поэту), один из заказов — за весь заказ. Есенин погиб, потому что другим позволил знать за себя, забыл, что он сам — провод: самый прямой провод!
Политический (каков бы ни был!) заказ поэту — заказ не по адресу, таскать поэта по Турксибам — не по адресу, поэтическая сводка вещь неубедительная, таскать поэта в хвосте политики — непроизводительно.
Посему: политический заказ поэту не есть заказ времени, заказывающего без посредников. Заказ не современности, а злободневности. Злобе вчерашнего дня и обязаны мы смертью Есенина.
Есенин погиб, потому что забыл, что он сам такой же посредник, глашатай, вожатый времени — по крайней мере настолько же сам свое время, как и те, кому во имя и от имени времени дал себя сбить и загубить.
Писатель, если только он Волна, а океан — Россия, Не может быть не возмущен, Когда возмущена стихия.Если бы идеологи пролетарской поэзии побольше чтили и поменьше учили поэтов, они бы дали этой потрясенной стихии потрясать поэта самой, предоставили поэту потрясаться ею по-своему.
Если бы идеологи пролетарской поэзии побольше чтили и поменьше учили поэтов, они бы задумались и над последующим четверостишием:
Писатель, если только он Есть нерв великого народа, Не может быть не поражен, Когда поражена свобода— то есть самый нерв творчества.
Не пишите против нас, ибо вы — сила, вот единственно законный заказ всякого правительства — поэту.
Если же вы мне скажете: «во имя будущего»… — я от будущего заказы принимаю непосредственно.
Что все то давление (церкви, государства, общества) перед этим, изнутри!
Есть и у меня заказы времени. Помимо боевого темпа «Царь-Девицы», «Мóлодца», «Красного Коня» и многого еще — то есть помимо косвенного воздействия времени — прямой заказ времени вплоть до имен вождей, но данный не вождями или контр-вождями, а самим явлением. Так, поэма «Перекоп» заказана Перекопом-валом. Закажи или даже предложи мне ее тот или иной идеолог Белого движения, из нее бы ничего не вышло, ибо в дело Любви вмешался бы третий — неизменно-губительный, как бы его ни звали — и убийственный, когда его никак не зовут, то есть когда этот третий — политическая программа.
Больше скажу — если мне и удался «Перекоп», то только благодаря тому, что писала я его не смущенная ничьей корыстной радостью, в полном отсутствии сочувствия, здесь в эмиграции точно так же, как писала бы в России. Одна против всех — даже своих собственных героев, не понимающих моего языка. В двойной отрешенности cause perdue Добровольчества и cause perdue[81] о нем поэмы.
Всякое групповое партийное корыстное сочувствие — гибель. Есть одно сочувствие — народное. Но оно — потом.
Заказ мне времени есть моя дань времени. Если всякое творчество, т. е. всякое воплощение — дань человеческому естеству, это — сугубая дань естеству и как таковая сугубый грех перед Богом. Единственное спасение меня и вещей, что заказ времени у меня оказался приказом совести, вещи вечной. Совести за всех тех в чистоте сердца убитых и не воспетых, воспетыми быть не имеющих. В главенстве же, в моих вещах, приказа совести над заказом времени порукой главенство в них любви над ненавистью. Я, обратно всей контрреволюционной Москве и эмиграции, никогда так не ненавидела красных, как любила белых. Злостность времени, думаю, этой любовью несколько искуплена.
Те, кого в Советской России или кто сами себя по скромности зовут попутчиками — сами вожатые. Творцы не только слова, но и видений своего времени.
Даже в бессмертной гоголевской тройке России я поэта не вижу пристяжной.
Не «попутчество», а одинокое сотворчество. И лучше всего послужит поэт своему времени, когда даст ему через себя сказать, сказаться. Лучше всего послужит поэт своему времени, когда о нем вовсе забудет (о нем вовсе забудут). Современно не то, что перекрикивает, а иногда и то, что перемалчивает.
Современность не есть все мое время. Современное есть показательное для времени, то, по чему его будут судить: не заказ времени, а показ. Современность сама по себе отбор. Истинно современное есть то, что во времени — вечного, посему, кроме показательности для данного времени, своевременно — всегда, современно — всему. Пушкинские стихи «К Морю», например, с тенями Наполеона и Байрона на вечном фоне Океана.
Современность в искусстве есть воздействие лучших на лучших, то есть обратное злободневности: воздействию худших на худших. Завтрашняя газета уже устарела. Из чего явствует, что большинство обвиняемых в «современности» этого обвинения и не заслуживают, ибо грешат только временностью, понятию такому же обратному современности, как и вневременность. Современность: все-временность. Кто из нас окажется нашим современником? Вещь, устанавливаемая только будущим и достоверная только в прошлом. Современник: всегда меньшинство.
Современность не есть все мое время, но так же и вся современность не есть одно из ее явлений. Эпоха Гёте одновременно и эпоха Наполеона и эпоха Бетховена. Современность есть совокупность лучшего.
Если даже допустить, что коммунизм как попытка наилучшего устроения земной жизни — благо, есть ли он один — благо, есть ли он один — все блага, включает ли в себя, определяет ли он собою все остальные блага и силы: искусства, науки, религии, мысли. Включает, исключает или — наравне — сосуществует.
Я, от лица всех остальных благ, стою на последнем. Как один из двигателей современности, а именно устроитель земной жизни, чем дальше, тем хуже, расстраиваемой — честь и место. Но равно как земное устройство не главнее духовного, равно как наука общежития не главнее подвига одиночества — так и коммунизм, устроитель земной жизни — не главнее всех двигателей жизни духовной, ни надстройкой, ни пристройкой не являющейся. Земля — не все, а если бы даже и все — устроение людского общежития — не вся земля. Земля большего стоит и заслуживает.
Честь и место — как всякому знающему честь и место.
Подхожу к самому трудному для себя ответу: показателен ли для наших дней Рильке, этот из далеких — далекий, из высоких — высокий, из одиноких — одинокий. Если — в чем никакого сомнения — показателен для наших дней — Маяковский.
Рильке не есть ни заказ, ни показ нашего времени, — он его противовес.
Войны, бойни, развороченное мясо розни — и Рильке.
За Рильке наше время будет земле — отпущено.
По обратности, то есть необходимости, то есть противуядию нашего времени Рильке мог родиться только в нем.
В этом его — современность.
Время его не заказало, а вызвало.
Заказ множества Маяковскому: скажи нас, заказ множества Рильке: скажи нам. Оба заказа выполнили. Учителем жизни Маяковского никто не назовет, так же как Рильке — глашатаем масс.
Рильке нашему времени так же необходим, как священник на поле битвы: чтобы за тех и за других, за них и за нас: о просвещении еще живых и о прощении павших — молиться.
Быть современником — творить свое время, а не отражать его. Да отражать его, но не как зеркало, а как щит. Быть современником — творить свое время, то есть с девятью десятыми в нем сражаться, как сражаешься с девятью десятыми первого черновика.
Со щей снимают накипь, а с кипящего котла времени — нет?
Гумилевское:
Я вежлив с жизнью современною, Но между нами есть преграда —конечно, относится к тем, кто локтями и гудками мешали ему думать, к времени шумам, а не к тем, кто совместно с ним творили тишину своего времени, о которой так чудесно Пастернак:
Тишина, ты лучшее Из всего, что слышал.К временщикам и поденщикам времени, а не к его, Гумилева, современникам.
Теперь, расчистив совесть от всяких недомолвок, взяв труднейшую на себя задачу: констатирования факта времени, признав свою зависимость от времени, свою связанность с ним — и им — признав время своим рабочим материалом, своим орудием производства, своим частичным — и как часто частным! — работодателем, наконец — спрашиваю:
Кто такое мое время, чтобы я еще ему и вольно служила?
Что такое вообще время, чтобы ему служить?
Мое время завтра пройдет, как вчера — его, как послезавтра — твое, как всегда всякое, пока не пройдет само время.
Служение поэта времени — оно есть! — есть служение мимо-вольное, то есть роковое: не могу не. Моя вина перед Богом, — пусть заслуга перед веком!
Брак поэта с временем — насильственный брак. Брак, которого, как всякого претерпеваемого насилия, он стыдится и из которого рвется — прошлые поэты в прошлое, настоящие в будущее — точно время оттого меньше время, что оно не мое! Вся советская поэзия — ставка на будущее. Только один Маяковский, этот подвижник своей совести, этот каторжанин нынешнего дня, этот нынешний день возлюбил: то есть поэта в себе — превозмог.
Брак поэта с временем — насильственный брак, потому ненадежный брак. В лучшем случае — bonne mine á mauvais jeu,[82] а в худшем — постоянном — настоящем — измена за изменой все с тем же любимым — Единым под множеством имен.
Как волка ни корми — все в лес глядит. Все мы волки дремучего леса Вечности.
«Брака — нет». Нет, брак — есть: тот же брак колодника с колодкой. Но когда нам кроме брака с вообще-временем, понятием времени, навязывают еще и брак с нашим временем, этим временем, брак с каким-то под-временем, а главное, когда нам это насилие навязывают еще и в любовь, каторгу выдают за служение по призванию, когда нам эту колодку набивают еще и духовно…
Претерпеваемое насилие — слабость. Духовное узаконение претерпеваемого насилия — вещь без имени, на которую не способен ни один раб.
Отстаивать у времени то, что в нем вечного, либо увековечивать то, что в нем временного, — как ни повернуть: времени — веку мира сего — противуставляется век тот.
Служение времени как таковому есть служение смене — измене — смерти. Не угонишься, не у — служишь. Настоящее. Да есть ли оно? Служение периодической дроби. Думаю, что еще служу настоящему, а уже прошлому, а уже будущему. Где оно present, в чем?
С бегущим можно бежать, но если ты узнаешь, что он никуда не бежит, всегда бежит, бежит, потому что бежит, бежит для того, чтобы бежать. Что его бег — самоцель, либо — что еще хуже — бегство самого от себя: себя — раны, прорехи, в которую утекает все.
«Diese Strecke laufen wir zusammen» (до первого поворота пойдем вместе) — на лучший конец худой дорожный товарищ, заводящий нас во все кабаки, ввязывающий во все драки, отбивающий нас от нашей хотя бы самой скромной цели и в конце концов (очень, очень скоро настающем!) бросающий нас с пустым кошелем и головою. Если сами, опередив, его не бросили.
Служение своему времени есть заказ с отчаяния. Только данная минута века, только эта мера веса у атеиста и есть обратный и родной лик «лови момента», ибо дальше крышка. Царство земное с отчаяния в Царстве Небесном.
Атеисту ничего не остается кроме земли и устройства.
Прогресс? Но доколе? А если и до конца планеты — продвижение вперед — к яме?
Продвижение вперед не к концу — достижению, а к концу-уничтожению. Если же и планету как-нибудь научат не кончиться, отстоят планету у небытия — поколение земных богов за поколением земных богов? Конец или бесконечность земной жизни, равно-страшно, ибо равно-пусто.
Лермонтовское «на время не стоит труда» относится не к любви, а к самому времени: само время не стоит труда.
Смерть и время царят на земле Ты владыками их не зови Все кружась исчезает во мгле Неподвижно лишь Солнце Любви.ПОСЛЕСЛОВИЕ
Проставив последнюю точку — Любви, в вечер того же дня читаю в газете:
«Кончилась в Москве одна „дискуссия“, начинается другая. Сейчас „внимание писательской общественности перенесено на стихотворный фронт“».
Доклад о поэзии прочел Асеев, друг и последователь Маяковского. Потом начались прения, и длились они три дня. Сенсацией прений было выступление Пастернака. Пастернак сказал, во-первых, что
— Кое-что не уничтожено Революцией…
Затем он добавил, что
— Время существует для человека, а не человек для времени.
Борис Пастернак — там, я — здесь, через все пространства и запреты, внешние и внутренние (Борис Пастернак — с Революцией, я — ни с кем), Пастернак и я, не сговариваясь, думаем над одним и говорим одно.
Это и есть: современность.
Медон, январь 1932
ИСКУССТВО ПРИ СВЕТЕ СОВЕСТИ[83]
«Искусство свято», «святое искусство» — как ни обще это место, есть же у него какой-то смысл, и один на тысячу думает же о том, что говорит, и говорит же то, что думает.
К этому одному на тысячу, сознательно утверждающему святость искусства, и обращаюсь.
Что такое святость? Святость есть состояние, обратное греху, греха современность не знает, понятие грех современность замещает понятием вред. Стало быть, о святости искусства у атеиста речи быть не может, он будет говорить либо о пользе искусства, либо о красоте искусства. Посему, настаиваю, речь моя обращена исключительно к тем, для кого — Бог — грех — святость — есть.
Если атеист заговорит о высоте искусства, речь моя, отчасти, будет относиться и к нему.
ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО?
Искусство есть та же природа. Не ищите в нем других законов, кроме собственных (не самоволия художника, не существующего, а именно законов искусства). Может быть — искусство есть только ответвление природы (вид ее творчества). Достоверно: произведение искусства есть произведение природы, такое же рожденное, а не сотворенное. (А вся работа по осуществлению? Но земля тоже работает, французское «la terre en travail».[84] А само рождение — не работа? О женском вынашивании и вынашивании художником своей вещи слишком часто упоминалось, чтобы на нем настаивать: все знают — и все верно знают.)
В чем же отличие художественного произведения от произведения природы, поэмы от дерева? Ни в чем. Какими путями труда и чуда, но оно есть. Есмь!
Значит, художник — земля, рождающая, и рождающая все. Во славу Божью? А пауки? (есть и в произведениях искусства). Не знаю, во славу чью, и думаю, что здесь вопрос не славы, а силы.
Свята ли природа? Нет. Грешна ли? Нет. Но если произведение искусства тоже произведение природы, почему же мы с поэмы спрашиваем, а с дерева — нет, в крайнем случае пожалеем — растет криво.
Потому что земля, рождающая, безответственна, а человек, творящий — ответственен. Потому что у земли, произращающей, одна воля: к произращению, у человека же должна быть воля к произращению доброго, которое он знает. (Показательно, что порочно только пресловутое «индивидуальное»: единоличное, порочного эпоса, как порочной природы, нет.)
Земля в раю яблока не ела, ел Адам. Не ела — не знает, ел — знает, а знает — отвечает. И поскольку художник — человек, а не чудище, одушевленный костяк, а не коралловый куст, — он за дело своих рук в ответе.
Итак, произведение искусства — то же произведение природы, но долженствующее быть просвещенным светом разума и совести. Тогда оно добру служит, как служит добру ручей, крутящий мельничное колесо. Но сказать о всяком произведении искусства — благо, то же, что сказать о всяком ручье — польза. Когда польза, а когда и вред, и насколько чаще — вред!
Благо, когда вы его (себя) возьмете в руки.
Нравственный закон в искусство привносится, но из ландскнехта, развращенного столькими господствами, выйдет ли когда-нибудь солдат правильной Армии?
ПОЭТ И СТИХИИ
«Поэзия есть Бог в святых мечтах земли».
Есть упоение в бою И бездны мрачной на краю.Упоение, то есть опьянение — чувство само по себе не благое, вне-благое — да еще чем?
Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного сулит Неизъяснимы наслажденья.Когда будете говорить о святости искусства, помяните это признание Пушкина.
— Да, но дальше…
— Да. Остановимся на этой единственной козырной для добра строке.
Бессмертья, может быть, залог!Какого бессмертья? В Боге? В таком соседстве один звук этого слова дик. Залог бессмертья самой природы, самих стихий — и нас, поскольку мы они, она. Строка, если не кощунственная, то явно-языческая.
И дальше, черным по белому:
Итак — хвала тебе. Чума! Нам не страшна могилы тьма, Нас не смутит твое призванье! Бокалы пеним дружно мы, И девы-розы пьем дыханье — Быть может — полное Чумы.Не Пушкин, стихии. Нигде никогда стихии так не выговаривались. Наитие стихий — все равно на кого, сегодня — на Пушкина. Языками пламени, валами океана, песками пустыни — всем, чем угодно, только не словами — написано.
И эта заглавная буква Чумы, чума уж не как слепая стихия — как богиня, как собственное имя и лицо зла.
Самое замечательное, что мы все эти стихи любим, никто — не судим. Скажи кто-нибудь из нас это — в жизни, или, лучше, сделай (подожги дом, например, взорви мост), мы все очнемся и закричим: — преступление! Именно, очнемся — от чары, проснемся — от сна, того мертвого сна совести с бодрствующими в нем природными — нашими же — силами, в который нас повергли эти несколько размеренных строк.
ГЕНИЙ
Наитие стихий все равно на кого — сегодня на Пушкина. Пушкин в песенке Вильсоновой трагедии в первую голову гениален тем, что на него нашло.
Гений: высшая степень подверженности наитию — раз, управа с этим наитием — два. Высшая степень душевной разъятости и высшая — собранности. Высшая — страдательности и высшая — действенности.
Дать себя уничтожить вплоть до какого-то последнего атома, из уцеления (сопротивления) которого и вырастет — мир.
Ибо в этом, этом атоме сопротивления (-вляемости) весь шанс человечества на гения. Без него гения нет — есть раздавленный человек, которым (он все тот же!) распираются стены не только Бедламов и Шарантонов, но и самых благополучных жилищ.
Гения без воли нет, но еще больше нет, еще меньше есть — без наития. Воля — та единица к бессчетным миллиардам наития, благодаря которой только они и есть миллиарды (осуществляют свою миллиардность) и без которой они нули — то есть пузыри над тонущим. Воля же без наития — в творчестве — просто кол. Дубовый. Такой поэт лучше бы шел в солдаты.
ПУШКИН И ВАЛЬСИНГАМ
Не на одного Вальсингама нашла чума. Пушкину, чтобы написать «Пир во время Чумы», нужно было быть Вальсингамом — и перестать им быть. Раскаявшись? Нет.
Пушкину, чтобы написать песню Пира, нужно было побороть в себе и Вальсингама и священника, выйти, как в дверь, в третье. Растворись он в чуме — он бы этой песни написать не мог. Открестись он от чумы — он бы этой песни написать не мог (порвалась бы связь).
От чумы (стихии) Пушкин спасся не в пир (ее над ним! то есть Вальсингама) и не в молитву (священника), а в песню.
Пушкин, как Гёте в Вертере, спасся от чумы (Гёте — любви), убив своего героя той смертью, которой сам вожделел умереть. И вложив ему в уста ту песню, которой Вальсингам сложить не мог.
Смоги эту песню Вальсингам, он был бы спасен, если не для Вечной жизни — так для жизни. А Вальсингам — мы все это знаем — давно на черной телеге.
Вальсингам — Пушкин без выхода песни.
Пушкин — Вальсингам с даром песни и волей к ней.
___________
Почему я самовольно отождествляю Пушкина с Вальсингамом и не отождествляю его с священником, которого он тоже творец?
А вот. Священник в Пире не поет. (— Священники вообще не поют. — Нет, поют — молитвы.) Будь Пушкин так же (сильно) священником, как Вальсингамом, он не мог бы не заставить его спеть, вложил бы ему в уста контр-гимн, Чуме — молитву, как вложил прелестную песенку (о любви) в уста Мэри, которая в Пире (Вальсингам — то, что Пушкин есть) — то, что Пушкин любит.
Лирический поэт себя песней выдает, выдаст всегда, не сможет не заставить сказать своего любимца (или двойника) на своем, поэта, языке. Песенка в драматическом произведении всегда любовная обмолвка, нечаянный знак предпочтения. Автор устал говорить за других и вот проговаривается — песней.
Что у нас остается (в ушах и в душах) от Пира? Две песни. Песня Мэри — и песня Вальсингама. Любви — и Чумы.
Гений Пушкина в том, что он противовеса Вальсингамову гимну, противоядия Чуме — молитвы — не дал. Тогда бы вещь оказалась в состоянии равновесия, как мы — удовлетворенности, от чего добра бы не прибыло, ибо, утолив нашу тоску по противу-гимну, Пушкин бы ее угасил. Так, с только-гимном Чуме, Бог, Добро, молитва остаются — вне, как место не только нашей устремленности, но и отбрасываемости: то место, куда отбрасывает нас Чума. Не данная Пушкиным молитва здесь как неминуемость. (Священник в Пире говорит по долгу службы, и мы не только ничего не чувствуем, но и не слушаем, зная заранее, что он скажет.)
О всем этом Пушкин навряд ли думал. Задумать вещь можно только назад, от последнего пройденного шага к первому, пройти взрячую тот путь, который прошел вслепую. Продумать вещь.
Поэт — обратное шахматисту. Не только шахматов, не только доски — своей руки не видать, которой может быть и нет.
___________
В чем кощунство песни Вальсингама? Хулы на Бога в ней нет, только хвала Чуме. А есть ли сильнее кощунство, чем эта песня?
Кощунство не в том, что мы, со страха и отчаяния, во время Чумы — пируем (так дети, со страха, смеются!), а в том, что мы в песне — апогее Пира — уже утратили страх, что мы из кары делаем — пир, из кары делаем дар, что не в страхе Божьем растворяемся, а в блаженстве уничтожения.
Если (как тогда верили все, как верим и мы, читая Пушкина) Чума — воля Божия к нас покаранию и покорению, то есть именно бич Божий.
Под бич бросаемся, как листва под луч, как листва под дождь. Не радость уроку, а радость удару. Чистая радость удару как таковому.
Радость? Мало! Блаженство, равного которому во всей мировой поэзии нет. Блаженство полной отдачи стихии, будь то Любовь, Чума — или как их еще зовут.
Ведь после гимна Чуме никакого Бога не было. И что же остается другого священнику, как не: войдя («входит священник») — выйти.
Священник ушел молиться, Пушкин — петь. (Пушкин уходит после священника, уходит последним, с трудом (как: с мясом) отрываясь от своего двойника Вальсингама, вернее в эту секунду Пушкин распадается: на себя — Вальсингама — и себя поэта, себя — обреченного и себя — спасенного.)
А Вальсингам за столом сидит вечно. А Вальсингам на черной телеге едет вечно. А Вальсингама лопатой зарывают вечно.
За ту песню, которой спасся Пушкин.
___________
Страшное имя — Вальсингам. Недаром Пушкин за всю вещь назвал его всего три раза (назвал — как вызывают, и так же трижды). Анонимное: Председатель, от которого вещь приобретает жуткую современность: еще родней.
Вальсингамы стихиям не нужны. Они берут их походя. Перебороть в Вальсингаме Бога, увы, полегче, чем в Пушкине — песню.
В «Пире во время Чумы» Чума не на Вальсингама льстилась, а на Пушкина.
И — дивные дела! — Вальсингам, который для Чумы только повод к заполучению Пушкина, Вальсингам, который для Пушкина только повод к стихийному (чумному) себе, именно Вальсингам Пушкина от Чумы спасает — в песню, без которой Пушкин не может быть стихийным собой. Дав ему песню и взяв на себя конец.
Последний атом сопротивления стихии во славу ей — и есть искусство. Природа, перебарывающая сама себя во славу свою.
___________
Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо все возвращает тебя в стихию стихий: слово.
Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо не гибель, а возвращение в лоно.
Гибель поэта — отрешение от стихий. Проще сразу перерезать себе жилы.
___________
Весь Вальсингам — экстерриоризация (вынесение за пределы) стихийного Пушкина. С Вальсингамом внутри не проживешь: либо преступление, либо поэма. Если бы Вальсингам был — Пушкин его все равно бы создал.
___________
Слава Богу, что есть у поэта выход героя, третьего лица, его. Иначе — какая бы постыдная (и непрерывная) исповедь. Так спасена хотя бы видимость.
___________
«Аполлоническое начало», «золотое чувство меры» — разве вы не видите, что это только всего: в ушах лицеиста застрявшая латынь.
Пушкин, создавший Вальсингама, Пугачева, Мазепу, Петра — изнутри создавший, не создавший, а извергший…
Пушкин — мóря «свободной стихии»…
— Был и другой Пушкин.
— Да: Пушкин Вальсингамовой задумчивости. (Священник уходит. Председатель остается, погруженный в глубокую задумчивость.)
___________
Ноябрь 1830 г. Болдино. Сто один год назад. Сто один год спустя.
УРОКИ ИСКУССТВА
Чему учит искусство? Добру? Нет. Уму-разуму? Нет. Оно даже себе самому научить не может, ибо оно — дано.
Нет вещи, которой бы оно не учило, как нет вещи, ей прямо обратной, которой бы оно не учило, как нет вещи, которой бы одной только и учило.
Все уроки, которые мы извлекаем из искусства, мы в него влагаем.
Ряд ответов, к которым нет вопросов.
Все искусство — одна данность ответа.
Так, в «Пире во время Чумы» оно ответило раньше, чем я спросила, закидало меня ответами.
Все наше искусство в том, чтобы суметь (поспеть) противупоставить каждому ответу, пока не испарился, свой вопрос. Это обскакиванье тебя ответами и есть вдохновенье. И как часто — пустой лист.
___________
Один прочел Вертера и стреляется, другой прочел Вертера и, потому что Вертер стреляется, решает жить. Один поступил, как Вертер, другой, как Гёте. Урок самоистребления? Урок самообороны? И то и другое. Гёте, по какому-то закону данного часа его жизни, нужно было застрелить Вертера, самоубийственному демону поколения нужно было воплотиться рукой именно Гёте. Дважды роковая необходимость и как таковая — безответственная. И очень последственная.
Виновен ли Гёте во всех последовавших смертях?
Он, на глубокой и прекрасной старости своих лет, сам ответил: нет. Иначе бы мы и слова сказать не смели, ибо кто может учесть действие данного слова? (передача моя, смысл таков).
И я за Гёте отвечу: нет.
Злой воли у него не было, никакой воли, кроме творческой, не было. Он, пиша своего Вертера, не только о всех других (то есть их возможных бедах), но и о себе (своей беде!) забыл.
Всезабвенье, то есть забвенье всего, чтó не вещь, то есть самая основа творчества.
Написал ли бы Гёте после всего происшедшего второго Вертера — если, вопреки вероятию, ему бы еще раз так же до зарезу понадобилось — и был ли бы подсуден тогда? Написал ли бы Гёте — зная?
Тысячу раз бы написал, если бы понадобилось, как не написал бы и первой строки первого, будь давление чуть-чуть ниже. (Вертер, как Вальсингам, давит изнутри.)
— И был ли бы подсуден тогда?
Как человек — да, как художник — нет.
Больше скажу: подсуден и осужден Гёте, как художник, был бы именно в случае умерщвления в себе Вертера в целях сохранения человеческих жизней (исполнения заповеди: не убий). Здесь художественный закон нравственному прямо-обратен. Виновен художник только в двух случаях: уже упомянутого отказа от вещи (в чью бы то ни было пользу) и в создании вещи нехудожественной. Здесь его малая ответственность кончается и начинается безмерная человеческая.
Художественное творчество в иных случаях некая атрофия совести, больше скажу: необходимая атрофия совести, тот нравственный изъян, без которого ему, искусству, не быть. Чтобы быть хорошим (не вводить в соблазн малых сих), искусству пришлось бы отказаться от доброй половины всего себя. Единственный способ искусству быть заведомо-хорошим — не быть. Оно кончится с жизнью планеты.
ПОХОД ТОЛСТОГО
«Исключение в пользу гения». Все наше отношение к искусству — исключение в пользу гения. Само искусство тот гений, в пользу которого мы исключаемся (выключаемся) из нравственного закона.
Что же все наше отношение к искусству, как не: победителей не судят — и кто же оно — искусство, как не заведомый победитель (обольститель) прежде всего нашей совести.
Оттого-то мы, вопреки всей нашей любви к искусству, так горячо и отзываемся на неумелый, внехудожественный (против собственной шерсти шел и вел) вызов Толстого искусству, что этот вызов из уст художника, обольщенных и обольщающих.
В призыве Толстого к уничтожению искусства важны уста, призывающие, звучи он не с такой головокружительной художественной высоты, призывай нас любой из нас — мы бы и головы не обернули.
В походе Толстого на искусство важен Толстой: художник. Художнику мы прощаем сапожника. «Войны и Мира» из нашего отношения не вытравишь. Невытравимо. Непоправимо.
Художником мы освящаем сапожника.
В походе Толстого на искусство мы еще раз обольщены — искусством.
___________
Все это не в укор Толстому, а в укор нам, рабам искусства. Толстой бы душу отдал, чтобы слушали не Толстого, а правду.
___________
Возражение.
Чья проповедь нищеты убедительнее, то есть для богатства убийственнее — отродясь-нищего, или богача, отрекшегося?
Последнего, конечно.
Тот же пример с Толстым. Чье осуждение чистого искусства убедительнее (для искусства убийственнее) — толстовца, в искусстве ничем не бывшего, или самого Толстого — бывшего всем?
Так, начав с нашего навек-кредита Толстому-художнику, кончаем признанием полного дискредитирования — Толстым-художником — самого искусства.
___________
Когда я думаю о нравственной сущности этой человеческой особи: поэта, я всегда вспоминаю определение толстовского отца в «Детстве и Отрочестве»: — Он принадлежал к той опасной породе людей, которые один и тот же поступок могут рассказать как величайшую низость и как самую невинную шутку.
СПЯЩИЙ
Вернемся к Гёте. Гёте в своем Вертере так же неповинен в зле (гибели жизней), как (пример со вторым читателем, из-за Вертера решающим жить) неповинен в добре. Оба — и смерть и желание жить — как последствие, а не как цель.
Когда у Гёте была цель, он осуществлял ее в жизни, то есть строил театр, предлагал Карлу-Августу ряд реформ, изучал быт и душу гетто, занимался минералогией, наконец, когда у Гёте была та или иная цель, он осуществлял ее прямо, без этого великого обхода искусства.
Единственная цель произведения искусства во время его совершения — это завершение его, и даже не его в целом, а каждой отдельной частицы, каждой молекулы. Даже оно само, как целое, отступает перед осуществлением этой молекулы, вернее: каждая молекула является этим целым, цель его всюду на протяжении всего его — всеместно, всеприсутственно, и оно как целое — самоцель.
По свершении же может оказаться, что художник сделал больше, чем задумал (смог больше, чем думал!), иное, чем задумал. Или другие скажут, — как говорили Блоку. И Блок всегда изумлялся и всегда соглашался, со всеми, чуть ли не с первым встречным соглашался, до того все это (то есть наличность какой бы то ни было цели) было ему ново.
«Двенадцать» Блока возникли под чарой. Демон данного часа революции (он же блоковская «музыка Революции») вселился в Блока и заставил его.
А наивная моралистка 3. Г. потом долго прикидывала, дать или нет Блоку руку, пока Блок терпеливо ждал.
Блок «Двенадцать» написал в одну ночь и встал в полном изнеможении, как человек, на котором катались.
Блок «Двенадцати» не знал, не читал с эстрады никогда. («Я не знаю „Двенадцати“, я не помню „Двенадцати“». Действительно: не знал.)
И понятен его страх, когда он на Воздвиженке в 20 году, схватив за руку спутницу:
— Глядите!
И только пять шагов спустя:
— Катька!
В средние (о, какие крайние!) века целые деревни, одержимые демоном, внезапно начинали говорить по-латыни.
Поэт? Спящий.
ИСКУССТВО ПРИ СВЕТЕ СОВЕСТИ
Один проснулся. Востроносый, восковолицый человек, жегший в камине шереметевского дома рукопись. Вторую часть «Мертвых Душ».
Не ввести в соблазн. Пуще чем средневековое — собственноручное предание творения огню. Тот само-суд, о котором говорю, что он — единственный суд.
(Позор и провал Инквизиции в том, что она сама жгла, а не доводила до сожжения — жгла рукопись, когда нужно было прожечь душу.)
— Но Гоголь тогда уже был сумасшедшим.
Сумасшедший — тот, кто сжигает храм (которого не строил), чтобы прославиться. Гоголь, сжигая дело своих рук, и свою славу жег.
И вспоминается мне слово одного сапожника (1920 г. Москва) — тот случай сапожника, когда он поистине выше художника.
— Не мы с вами, М<арина> И<вановна>, сумасшедшие, а они недошедшие.
___________
Эти полчаса Гоголя у камина больше сделали для добра и против искусства, чем вся долголетняя проповедь Толстого.
Потому что здесь дело, наглядное дело рук, то движение руки, которого мы все жаждем и которого не перевесит ни одно «душевное движение».
___________
Может быть, мы бы второй частью «Мертвых Душ» и не соблазнились. Достоверно — им бы радовались. Но наша та бы радость им ничто перед нашей этой радостью Гоголю, который из любви к нашим живым душам свои Мертвые — сжег. На огне собственной совести.
Те были написаны чернилами.
Эти — в нас — огнем.
ИСКУССТВО БЕЗ ИСКУСА
Но есть в самом лоне искусства и одновременно на высотах его вещи, о которых хочется сказать: «Это уже не искусство. Это больше, чем искусство». Всякий такие знал.
Примета таких вещей — их действенность при недостаточности средств, недостаточности, которую мы бы ни за что в мире не променяли бы ни на какие достатки и избытки и о которой вспоминаем только, когда пытаемся установить: как это сделано? (Подход сам по себе несостоятельный, ибо в каждой рожденной вещи концы скрыты.)
Еще не искусство, но уже больше, чем искусство.
Такие вещи часто принадлежат перу женщин, детей, самоучек — малых мира сего. Такие вещи часто вообще никакому перу не принадлежат, ибо не записываются и сохраняются (пропадают) устно. Часто — единственные за жизнь. Часто — совсем первые. Часто — совсем последние.
Искусство без искуса.
Вот стихи четырехлетнего мальчика, долго не жившего.
Там птица белая живет, Там ходит мальчик бледный. Ведно! Ведно! Ведно! Есть — там-от.(Ведно — детское и народное ведомо, здесь звучащее и как верно и как заведомо, заведомо-верно, там-от — нянькино обозначение дали.)
Вот последняя строчечка стихов семилетней девочки, никогда не ходившей и молящейся о том, чтобы ей встать. Стихи слышала раз, двадцать лет назад, и донесла только последнюю строку:
— Чтоб стоя я могла молиться!А вот стихи монашенки Ново-Девичьего монастыря, — было много, перед смертью все сожгла, осталось одно, ныне живущее, только в моей памяти. Сообщаю его, как доброе дело.
Что бы в жизни ни ждало вас, дети, В жизни много есть горя и зла, Есть соблазна коварные сети, И раскаянья жгучего мгла, Есть тоска невозможных желаний, Беспросветный нерадостный труд, И расплата годами страданий За десяток счастливых минут. — Все же вы не слабейте душою, Как придет испытаний пора — Человечество живо одною Круговою порукой добра! Где бы сердце вам жить ни велело, В шумном свете иль сельской тиши, Расточайте без счета и смело Вы сокровища вашей души! Не ищите, не ждите возврата, Не смущайтесь насмешкою злой, Человечество все же богато Лишь порукой добра круговой!Возьмем рифмы — явно-обычные (тиши — души, дети — сети), явно-бедные (душою — одною). Возьмем размер, тоже ничем не настораживающий слуха. Какими средствами сделано это явно-большое дело?
— Никакими. Голой душою.
Этой безвестной монашенкой безвозвратного монастыря дано самое полное определение добра, которое когда-либо существовало: добра, как круговой поруки, и брошен самый беззлобный вызов злу, который когда-либо звучал на земле:
Где бы сердце вам жить не велело, В шумном свете иль сельской тиши,(Это монашенка говорит, заточенная!)
Расточайте без счета — и смело Вы сокровища вашей души!Сказать об этих строках «гениальные» было бы кощунством и судить их, как литературное произведение — просто малость — настолько это все за порогом этой великой (как земная любовь) малости искусства.
Привела, чтó припомнила. Убеждена, что есть еще. (Стихи своей, тогда шестилетней дочери, частью напечатанные в конце моей книги «Психея», обхожу намеренно, думая когда-нибудь сказать о них отдельно.) Да если бы и не было! Вот уже на одной моей памяти три стихотворения, больше, чем стихи.
А может быть, только такие стихи и есть стихи?
___________
Примета таких вещей — их неровность. Возьмем стихи монашки.
Что бы в жизни ни ждало вас, дети — В жизни много есть горя и зла — Есть соблазна коварные сети — И раскаянья жгучего мгла — (пока чтó — общее место). Есть тоска невозможных желаний — Беспросветный нерадостный труд — (все то же). — И расплата годами страданий — За десяток счастливых минут (последнее почти романс!) — Все же вы не слабейте душою — Как придет испытаний пора —
И — вот, вот оно!
Человечество живо одною Круговою порукой добра!И дальше уже по непрерывной линии восхождения, не снижая, одним великим и глубоким вздохом до самого конца.
Это, на первый взгляд (о котором уже сказано), обычное начало ей было нужно, как разбег, чтобы, наконец, до круговой поруки добра договориться. Неопытность непрофессионала. Настоящий бы поэт, какими кишат столицы, если бы, паче чаяния, до круговой поруки дописался (не дописался бы!), такого бы начала не оставил, попытался бы все пригнать под один общий уровень высоты.
А монашка несостоятельности начáла и не заметила, ибо и круговой поруки не заметила, может быть смутно ей порадовалась, как чему-то очень похожему — но и только. Ибо моя монашка не поэт-профессионал, который душу черту продаст за удачный оборот (да только черт не берет, потому что ничего и нет) — а: — чистый сосуд Божий, то есть тот же четырехлетний с его «там-от» — и говорят они: и монашка, и безногая девочка, и мальчик, — все безымянные девочки, мальчики, монашки мира — одно, об одном, вернее одно через них говорит.
Эти стихи мои любимые из всех, которые когда-либо читала, когда-либо писала, мои любимые из всех на земле. Когда после них читаю (или пишу) свои, ничего не ощущаю, кроме стыда.
К таким стихам отнесу еще стихи «Мысль» (Ее побивали камнями во прах) безымянного автора, во всех сборниках, где перепечатывались, помеченные только буквою Д.
Так с буквой Д (добром с большой буквы) и пошли — дальше.
ПОПЫТКА ИЕРАРХИИ
Большой поэт. Великий поэт. Высокий поэт.
Большим поэтом может быть всякий — большой поэт. Для большого поэта достаточно большого поэтического дара. Для великого самого большого дара — мало, нужен равноценный дар личности: ума, души, воли и устремление этого целого к определенной цели, то есть устроение этого целого. Высоким же поэтом может быть и совсем небольшой поэт, носитель самого скромного дара — как тот же Альфред де Виньи — силой только внутренней ценности добивающийся у нас признания поэта. Здесь дара хватило как раз в край. Немножко меньше — получился бы просто герой (то есть безмерно больше).
Великий поэт включает — и уравновешивает. Высокий — великого — нет, иначе бы мы говорили: великий. Высота как единственный признак существования. Так, нет поэта больше Гёте, но есть поэты — выше, его младший современник Гёльдерлин, например, поэт несравненно-беднейший, но горец тех высот, где Гёте — только гость. И великий ведь меньше (ниже), чем высокий, будь они даже одного роста. Так: дуб — велик, кипарис — высок.
Слишком обширен и прочен земной фундамент гения, чтобы дать ему — так — уйти в высь. Шекспир, Гёте, Пушкин. Будь Шекспир, Гёте, Пушкин выше, они бы многого не услышали, на многое бы не ответили, ко многому бы просто не снизошли.
Гений: равнодействующая противодействий, то есть в конечном счете равновесие, то есть гармония, а жираф — урод, существо единственного измерения: собственной шеи, жираф есть шея. (Каждый урод есть часть самого себя.)
«Витание поэта в облаках» — правда, но правда только об одной породе поэтов: только-высоких, чисто-духовных. И даже не витанье, а обитанье. Горбач за свой горб платит, ангел за свои крылья на земле тоже платит. Бесплотность, так близкая бесплодности, разреженный воздух, вместо страсти — мысль, вместо слов — речения — вот земные приметы небесных гостей.
Единственное исключение — Рильке, поэт не только равно-высокий и великий (это можно сказать и о Гёте), но с тою же исключительностью высоты, здесь ничего не исключающей. Точно Бог, который у других поэтов духа, дав им одно, взял все, этому — это все — оставил. В придачу.
___________
Высоты, как равенства, нет. Только как главенство.
___________
Для только-большого искусство всегда самоцель, то есть чистая функция, без которой он не живет и за которую не отвечает. Для великого и высокого — всегда средство. Он сам — средство в чьих-то руках, как, впрочем, и только-большой — в руках иных. Вся разница, кроме основной разницы рук, в степени осознанности поэтом этой своей держимости. Чем поэт духовно больше, то есть, чем руки, его держащие, выше, тем сильнее он эту свою держимость (служебность) сознает. Не знай Гёте над собой и своим делом высшего, он никогда бы не написал последних строк последнего Фауста. Дается только невинному — или все знающему.
По существу, вся работа поэта сводится к исполнению, физическому исполнению духовного (не собственного) задания. Равно как вся воля поэта — к рабочей воле к осуществлению. (Единоличной творческой воли — нет.)
К физическому воплощению духовно уже сущего (вечного) и к духовному воплощению (одухотворению) духовно еще не сущего и существовать желающего, без различия качеств этого желающего. К воплощению духа, желающего тела (идей), и к одухотворению тел, желающих души (стихий). Слово для идей есть тело, для стихий — душа.
Всякий поэт, так или иначе, слуга идей или стихий. Бывает (о них уже сказано) — только идей. Бывает — и идей и стихий. Бывает — только стихий. Но и в этом последнем случае он все-таки чье-то первое низкое небо: тех же стихий, страстей. Через стихию слова, которая, единственная из всех стихий, отродясь осмысленна, то есть одухотворена. Низкое близкое небо земли.
___________
В этом этическом подходе (требовании идейности, то есть высоты, с писателя) может быть вся разгадка непонятного на первый взгляд предпочтения девяностых годов Надсона — Пушкину, если не явно-безыдейному, то менее явно-идейному, чем Надсон, и предпочтения поколения предыдущего Некрасова-гражданина просто Некрасову. Весь тот лютый утилитаризм, вся базаровщина — только утверждение и требование высоты, как первоосновы жизни — только русское лицо высоты. Наш утилитаризм — то, что в пользу духу. Наша «польза» — только совесть. Россия, к ее чести, вернее к чести ее совести и не к чести ее художественности (вещи друг в друге не нуждающиеся), всегда подходила к писателям, вернее: всегда ходила к писателям — как мужик к царю — за правдой, и хорошо, когда этим царем оказывался Лев Толстой, а не Арцыбашев. Россия ведь и у арцыбашевского Санина училась жить!
МОЛИТВА
Что мы можем сказать о Боге? Ничего. Что мы можем сказать Богу? Все. Стихи к Богу есть молитва. И если сейчас нет молитв (кроме Рильке и тех малых сих молитв не знаю), то не потому, что нам Богу нечего сказать, и не потому, что нам этого чего некому сказать — есть чтó и есть кому — а потому, что совести не хватает хвалить и молить Бога на том же языке, на котором мы же, веками, хвалили и молили — решительно все. Чтобы сейчас на прямую речь к Богу (молитву) отважиться, нужно либо не знать, чтó такое стихи, либо — забыть.
Потеря доверия.
___________
Жестокое слово Блока о первой Ахматовой: «Ахматова пишет стихи так, как будто на нее глядит мужчина, а нужно их писать так, как будто на тебя смотрит Бог» — видоизменяя первую, обличительную, половину соответственно каждому из нас — в конце свято. Как перед Богом, то есть предстояние.
Но что в нас тогда устоит — и кто из нас?
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
По отношению к миру духовному — искусство есть некий физический мир духовного.
По отношению к миру физическому — искусство есть некий духовный мир физического.
Ведя от земли — первый миллиметр над ней воздуха — неба, (ибо небо начинается сразу от земли, либо его нет совсем. Проверить по далям, явления уясняющим).
Ведя сверху неба — этот же первый над землей миллиметр, но последний — сверху, то есть уже почти земля, с самого верху — совсем земля.
Откуда смотреть.
___________
(Так же и душа, которую бытовик полагает верхом духовности, для человека духа — почти плоть. Уподобление с искусством не случайное, ибо стихи — то, с чего глаз не свожу, говоря искусство — все событие стихов — от наития поэта до восприятия читателя — целиком происходит в душе, этом первом, самом низком небе Духа. Чтó отнюдь не в противоречии с искусством — природой. Неодушевленной природы — нет, есть только неодухотворенная.
Поэт! поэт! Самый одушевленный и как часто — может быть именно одушевленностью своей — самый неодухотворенный предмет!)
___________
Fier quand je me compare[85] — нет! ибо ниже поэта и в счет не идет, все же достаточно гордости, чтобы по низшему не равняться. Ибо гляжу-то — снизу и упор не в моей низости, а в той высоте.
Humble quand je me compare, inconnu quand je me considère,[86] ибо для того, чтобы что-либо созерцать, нужно над этим созерцаемым подняться, поставить между собою и вещью весь отвес — отказ — высоты. Ибо гляжу-то — сверху! Высшее во мне — на низшее во мне. И что же мне остается от этого лицезрения — как не изумиться… или не узнать.
Брала истлевшие листы И странно так на них глядела, Как души смотрят с высоты На ими брошенное тело.Так я когда-нибудь буду, нет, так я уже, порой, гляжу на свои стихи…
НЕБО ПОЭТА
— Священник служит Богу по-своему, вы — по-своему.
— Кощунство. Когда я пишу своего Молодца — любовь упыря к девушке и девушки к упырю — я никакому Богу не служу: знаю, какому Богу служу. Когда я пишу татар в просторах, я тоже никакому Богу не служу, кроме ветра (либо чура: пращура). Все мои русские вещи стихийны, то есть грешны. Нужно различать, какие силы im Spiel.[87] Когда же мы, наконец, перестанем принимать силу за правду и чару за святость!
Искусство — искус, может быть самый последний, самый тонкий, самый неодолимый соблазн земли, та последняя тучка на последнем небе, на которую умирая глядел — ни на что уже тогда не глядевший и окраску которой словами пытался — все слова тогда уже забывший брат брата — Жюль Гонкур. Третье царство со своими законами, из которого мы так редко спасаемся в высшее (и как часто — в низшее!). Третье царство, первое от земли небо, вторая земля. Между небом духа и адом рода искусство чистилище, из которого никто не хочет в рай.
Когда я при виде священника, монаха, даже сестры милосердия — неизменно — неодолимо! — опускаю глаза, я знаю, почему я их опускаю. Мой стыд при виде священника, монаха, даже сестры милосердия, мой стыд — вещ.
— Вы делаете божеское дело.
— Если мои вещи отрешают, просвещают, очищают — да, если обольщают — нет, и лучше бы мне камень повесили на шею.
А как часто в одной и той же вещи, на одной и той же странице, в одной и той же строке и отрешают и обольщают. То же сомнительное пойло, что в котле колдуньи: чего только не навалено и не наварено!
___________
Скóльких сгубило, как малых — спасло!
___________
И — мгновенный рипост обвиняемого:
Темная сила! Мpa-ремесло! Скольких сгубило, Как малых — спасло.Боюсь, что и умирая… Мра, кстати, беру как женское имя, женское окончание, звучание — смерти. Мор. Мра. Смерть могла бы называться, а может быть где-нибудь, когда-нибудь и называлась — Мра. Слово-творчество, как всякое, только хождение по следу слуха народного и природного. Хождение по слуху. Et tout le reste n’est que littérature.[88]
___________
Многобожие поэта. Я бы сказала: в лучшем случае наш христианский Бог входит в сонм его богов.
Никогда не атеист, всегда многобожец, с той только разницей, что высшие знают старшего (чтó было и у язычников). Большинство же и этого не знают и слепо чередуют Христа с Дионисом, не понимая, что одно уже сопоставление этих имен — кощунство и святотатство.
Искусство было бы свято, если бы мы жили тогда или те боги — теперь. Небо поэта как раз в уровень подножию Зевеса: вершине Олимпа.
ЗЕРНО ЗЕРНА
…И шлешь ответ.
Тебе ж нет отзыва… Таков
И ты, поэт!
Не-поэт, над-поэт, больше чем поэт, не только поэт — но где же и что же поэт во всем этом? Der Kern des Kernes, зерно зерна.
Поэт есть ответ.
От низшей степени простого рефлекса до высшей — гётевского ответствования — поэт есть определенный и неизменный душевно-художественный рефлекс: на чтó — уже вопрос — может быть, просто объема мозга. Пушкин сказал: на все. Ответ гения.
Этот душевно-художественный рефлекс и есть зерно зерна, объединяющее и безымянного автора частушки и автора Второго Фауста. Без него поэта нет, вернее оно-то и есть поэт. Никакими извилинами мозга не объяснимое чудо поэта.
Рефлекс до всякой мысли, даже до всякого чувства, глубочайшая и быстрейшая, как электрическим током, пронзенность всего существа данным явлением и одновременный, почти что преждевременный на него ответ.
Ответ не на удар, а на колебание воздуха — вещи еще не двинувшейся. Ответ на до-удар. И не ответ, а до-ответ. Всегда на явление, никогда на вопрос. Само явление и есть вопрос. Вещь поэта самоударяет — собой, самовопрошает — собой. Приказ к ответу самого явления — еще не явленного и явленного только через ответ. Приказ? Да, если SOS — приказ (неотразимейший из всех).
Раньше, чем было (было-то всегда, только до времени еще не дошло, — так тот берег еще не дошел до парома). Оттого рука поэта так часто и повисает в воздухе, что упор — во времени — еще не существует (nicht vorhanden[89]). Рука поэта — пусть повисла в воздуха — явление создает (досоздает). Эта рука, повисшая в воздухе, и есть поэтово — несовершенное, полное отчаяния, но все же творческое, все же: будь. (Кто меня звал? — Молчание. — Я должен того, кто меня звал, создать, то есть — назвать. Таково поэтово «отозваться».)
Еще одно. «Душевно-художественный рефлекс». Художественной-болевой, ибо душа наша способность к боли — и только. (К не-головной, не-зубной, не-горловой — не — не — не и т. д. боли — и только.)
Это зерно зерна поэта — непременное художество в сторону — сила тоски.
ПРАВДА ПОЭТОВ
Такова и правда поэтов, самая неодолимая, самая неуловимая, самая бездоказательная и убедительная, правда, живущая в нас только какую-то первую згу восприятия (что это было?) и остающаяся в нас только, как след света или утраты (да было ли?). Правда безответственная и беспоследственная, которой — ради Бога — и не пытаться следовать, ибо она и для поэта безвозвратна. (Правда поэта — тропа, зарастающая по следам. Бесследная бы и для него, если бы он мог идти позади себя.) Не знал, что произнесет, а часто и чтó произносит. Не знал, пока не произнес, и забыл, как только произнес. Не одна из бесчисленных правд, а один из ее бесчисленных обликов, друг друга уничтожающих только при сопоставлении. Разовые аспекты правды. Просто — укол в сердце Вечности. Средство: сопоставление двух самых простых слов, ставших рядом именно так. (Иногда — разъединение одного тире!)
Есть такой замóк, открывающийся только при таком-то соединении цифр, зная которое открыть — ничто, не зная — чудо или случай. Чудо-случай, происшедшее кстати с моим шестилетним сыном, повернувшим и открывшим защелкнутую у себя на шее такую цепочку сразу и этим повергшим обладателя цепочки — в ужас. Знает или не знает поэт соединение цифр? (В поэтовом случае — ибо весь мир под замком и все надо открыть — каждый раз разное, что ни вещь, то замок, а под замком данная правда, каждый раз разная — единоразовая — как сам замок.) Знает ли поэт — все соединения цифр?
___________
У моей матери было свойство — переставлять среди ночи, когда остановились, часы. В ответ на их, вместо тикания, тишину, от которой, вероятно, и просыпалась, переводить в темноте, не глядя. Утром часы показывали то, полагаю — именно то абсолютное время, которого так и не добился тот несчастный коронованный созерцатель стольких противоречивых циферблатов и слушатель стольких несовпадающих звонов.
Часы показывали то.
___________
Случайность? повторяющаяся каждый раз, есть в жизни человека — судьба, в мире явлений — закон. Это был закон ее руки. Закон знания ее руки.
Не: «у моей матери было свойство», у ее руки было свойство — правды.
Не играючи, как мой сын, не самоуверенно, как хозяин замка, и не веще, как тот предполагаемый математик — и слепо и веще — повинуясь только руке (которая — сама — чему?) — так поэт открывает замок.
Одного только жеста у него нет: самоуверенного — в себе как в замке уверенного — жеста собственника замка. Поэту в собственность не принадлежит ни один замок. Потому открывает все. И потому же, открывая каждый сразу, вторично не откроет ни одного. Ибо не собственник, а только прохожий секрета.
СОСТОЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА
Состояние творчества есть состояние наваждения. Пока не начал — obsession,[90] пока не кончил — possession.[91] Что-то, кто-то в тебя вселяется, твоя рука исполнитель, не тебя, а того. Кто — он? То, что через тебя хочет быть.
Меня вещи всегда выбирали по примете силы, и писала я их часто — почти против воли. Все мои русские вещи таковы. Каким-то вещам России хотелось сказаться, выбрали меня. И убедили, обольстили — чем? моей собственной силой: только ты! Да, только я. И поддавшись — когда зряче, когда слепо — повиновалась, выискивала ухом какой-то заданный слуховой урок. И не я из ста слов (не рифм! посреди строки) выбирала сто первое, а она (вещь), на все сто эпитетов упиравшаяся: меня не так зовут.
Состояние творчества есть состояние сновидения, когда ты вдруг, повинуясь неизвестной необходимости, поджигаешь дом или сталкиваешь с горы приятеля. Твой ли это поступок? Явно — твой (спишь, снишь ведь ты!). Твой — на полной свободе, поступок тебя без совести, тебя — природы.
Ряд дверей, за одной кто-то — что-то — (чаще ужасное) ждет. Двери одинаковы. Не эта — не эта — не эта — та. Кто мне сказал? Никто. Узнаю нужную по всем неузнанным (ту — по всем не-тем). Так и со словами. Не это — не это — не это — то. По явности не-этого узнаю то. Всякому спящему и пишущему родной — удар узнавания. О, спящего не обманешь! Знает друга и врага, знает дверь и знает провал за дверью — и на все это: и друга, и врага, и дверь, и дыру — обречен. Не обманет спящего даже сам спящий. Тщетно говорю себе; не войду (в дверь), не загляну (в окно) — знаю, что войду, еще говоря, не загляну — заглядываю.
О, спящего не спасешь!
Есть, впрочем, и во сне лазейка: когда будет слишком ужасно — проснусь. Во сне — проснулась, в стихах — упрусь.
Кто-то мне о стихах Пастернака: — Прекрасные стихи, когда вы все так объясните, но к ним бы нужно приложить ключ.
Не к стихам (снам) приложить ключ, а сами стихи ключ к пониманию всего. Но от понимания до принимания не один шаг, а никакого: понять и есть принять, никакого другого понимания нет, всякое иное понимание — непонимание. Недаром французское comprendre одновременно и понимать, и обнимать, то есть уже принять: включить.
Поэта, не принимающего какой бы то ни было стихии — следовательно и бунта — нет. Пушкин Николая опасался, Петра боготворил, а Пугачева — любил. Недаром все ученики одной замечательной и зря-забытой поэтессы, одновременно преподавательницы истории, на вопрос попечителя округа: «Ну, дети, кто же ваш любимый царь?» — всем классом: «Гришка Отрепьев!»
Найдите мне поэта без Пугачева! без Самозванца! без Корсиканца! — внутри. У поэта на Пугачева может только не хватить сил (средств). Mais l'intention у est — toujours.[92]
Не принимает (отвергает и даже — извергает) человек: воля, разум, совесть.
В этой области у поэта может быть только одна молитва: о непонимании неприемлемого: не пойму, да не обольщусь, единственная молитва поэта — о неслышании голосов: не услышу — да не отвечу. Ибо услышать, для поэта — уже ответить, а ответить — уже утвердить — хотя бы страстностью своего отрицания. Единственная молитва поэта — молитва о глухости. Или уж — труднейший выбор по качеству слышимого, то есть насильственное затыкание себе ушей — на ряд зовов, неизменно-сильнейших. Выбор отродясь, то есть слышанье только важного — благодать, почти никому не данная.
(На Одиссеевом корабле ни героя, ни поэта не было. Герой тот, кто и несвязанный устоит, и без воску в ушах устоит, поэт тот, кто и связанный бросится, кто и с воском в ушах услышит, то есть опять-таки бросится.
Единственное отродясь не понимаемое поэтом — полумеры веревки и воска.)
Вот Маяковский поэта в себе не превозмог и получился революционнейшим из поэтов воздвигнутый памятник добровольческому вождю. (Поэма «Крым», двенадцать бессмертных строк.) Нельзя не отметить лукавства тех или иных сил, выбирающих себе глашатая именно из врагов. Нужно же, чтобы тот последний Крым был дан — именно Маяковским.
Когда я тринадцати лет спросила одного старого революционера: — Можно ли быть поэтом и быть в партии? — он не задумывась ответил: — Нет.
Так и я отвечу: — Нет.
___________
Какова же стихия, каков же демон, вселившийся в тот час в Маяковского и заставивший его написать Врангеля. Ведь Добровольчество, теперь уже всеми признано, стихийным не было. (Разве что — степи, которыми шли, песни, которые пели…)
Не Белое движение, а Черное море, в которое, трижды поцеловав русскую землю,[93] ступил Главнокомандующий.
Черное море того часа.
___________
Не хочу служить трамплином чужим идеям и громкоговорителем чужим страстям.
Чужим? А есть ли для поэта — чужое? Пушкин в Скупом Рыцаре даже скупость присвоил, в Сальери — даже без-дарность. Не по примете же чуждости, а именно по примете родности стучался в меня Пугачев.
Тогда скажу: не хочу не вполне моего, не заведомо моего, не сáмого моего.
А если самое-то мое (откровение сна) и есть — Пугачев?
— Ничего не хочу, за что в 7 ч. утра не отвечу и за что (без чего) в любой час дня и ночи не умру.
За Пугачева — не умру — значит не мое.
___________
Обратная крайность природы есть Христос.
Тот конец дороги есть Христос.
Всё, что между — на полдороге.
И не поэту же, отродясь раздорожному, отдавать свое раздорожье — родной крест своего перекрестка! — за полдороги общественности или другого чего-либо.
Душу отдать за други своя.
Только это в поэте и может осилить стихию.
INTOXIQUÉS[94]
— Когда я нахожусь среди литераторов, художников, таких… у меня всегда чувство, что я среди… intoxiqués.
— Но когда вы с большим художником, большим поэтом, вы этого не скажете, наоборот: все остальные покажутся вам отравленными.
(Разговор после одного литературного собрания)Когда я говорю об одержимости людей искусства, я вовсе не говорю об одержимости их искусством.
Искусство есть то, через что стихия держит — и одерживает: средство держания (нас — стихиями), а не самодержание, состояние одержимости. Не делом же своих двух рук одержим скульптор и не делом же своей одной поэт!
Одержимость работой своих рук есть держимость нас в чьих-то руках.
— Это — о больших художниках.
Но одержимость искусством есть, ибо есть — и в безмерно-большем количестве, чем поэт — лже-поэт, эстет, искусства, а не стихии, глотнувший, существо погибшее и для Бога и для людей — и зря погибшее.
Демон (стихия) жертве платит. Ты мне — кровь, жизнь, совесть, честь, я тебе — такое сознание силы (ибо сила — моя!), такую власть над всеми (кроме себя, ибо ты — мой!), такую в моих тисках — свободу, что всякая иная сила будет тебе смешна, всякая иная власть — мала, всякая иная свобода — тесна
— и всякая иная тюрьма — просторна.
Искусство своим жертвам не платит. Оно их и не знает. Рабочему платит хозяин, а не станок. Станок может только оставить без руки. Сколько я их видала, безруких поэтов. С рукой, пропавшей для иного труда.
___________
Робость художника перед вещью. Он забывает, что пишет не он. Слово мне Вячеслава Иванова (Москва, 1920 г., убеждал меня писать роман) — «Только начните! уже с третьей страницы вы убедитесь, что никакой свободы нет», — то есть: окажусь во власти вещей, то есть во власти демона, то есть только покорным слугой.
Забыть себя есть прежде всего забыть свою слабость.
Кто своими двумя руками когда-либо вообще что-нибудь мог?
Дать уху слышать, руке бежать (а когда не бежит — стоять).
Недаром каждый из нас по окончании: «Как это у меня чудно вышло!» — никогда: «Как это я чудно сделал!» Не «чудно вышло», а чудом — вышло, всегда чудом вышло, всегда благодать, даже если ее посылает не Бог.
— А доля воли во всем этом? О, огромная. Хотя бы не отчаяться, когда ждешь у моря погоды.
На сто строк десять — данных, девяносто — заданных: недававшихся, давшихся, как крепость — сдавшихся, которых я добилась, то есть дослушалась. Моя воля и есть слух, не устать слушать, пока не услышишь, и не заносить ничего, чего не услышал. Не черного (в тщетных поисках исчерканного) листа, не белого листа бояться, а своего листа: самовольного. Творческая воля есть терпение.
СКОБКА О РОДЕ СЛУХА
Слух этот не иносказательный, хотя и не физический. Настолько не физический, что вообще никаких слов не слышишь, а если слышишь, то не понимаешь, как спросонок. Физический слух либо спит, либо не доносит, замещенный слухом иным.
Слышу не слова, а какой-то беззвучный напев внутри головы, какую-то слуховую линию — от намека до приказа, но об этом сейчас долго — это целый отдельный мир, и сказать об этом — целый отдельный долг. Но убеждена, что и здесь, как во всем, закон есть.
Пока же: достоверный слух, без ушей, то есть еще одно доказательство, что:
— Есть там-от!
___________
Лже-поэт искусство почитает за Бога и этого Бога делает сам (причем ждет от него дождя!).
Лже-поэт всегда делает сам.
Приметы лже-поэзии: отсутствие данных строк.
Есть среди них большие мастера.
___________
Но бывает и с поэтами и с гениями. Есть в Гимне Чуме две строки только-авторские, а именно:
И счастлив тот, кто средь волненья Их обретать и ведать мог.Пушкин, на секунду отпущенный демоном, не дотерпел. Это, а не иное происходит, когда мы у себя или у других обнаруживаем строку на затычку, ту поэтическую «воду», которая не что иное, как мель наития.
Возьмем весь отрывок.
Есть упоение в бою И бездны мрачной на краю, И в разъяренном океане, Средь грозных волн и бурной тьмы, И в аравийском урагане, И в дуновении Чумы! Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья — Бессмертья, может быть, залог! И счастлив тот, кто средь волненья Их обретать и ведать мог.Давайте по словам:
— И счастлив тот — мало, мало и вяло после абсолютов наслажденья и упоения, явное повторение, ослабление, спуск — кто средь волненья — какого? и опять какое малое слово (и вещь!). После всех ураганов и бездн! Аллегория житейского волнения после достоверности океанских волн. Их обретать и ведать мог — обретать неизъяснимы наслажденья — по-немецки? Во всяком случае не по-пушкински и не по-русски, дальше: и ведать (повторение, ибо обретая уже ведаешь) мог. Да как тут, когда такое, не мочь? Галлицизм: heureux celui qui a pu les connaitre,[95] а в общем резонерство, дикое в этом вихре.
Так случается, когда рука опережает слух.
___________
Возвращаясь к лже-поэтам.
Лже-поэт. Поэт. Жертва литературы. Жертва демона. Оба для Бога (дела, добра) пропали, но если пропадать, так с честью, подпадать — так под иго высшее.
К сожалению, господ не выбираешь.
СКОБКА О ПОЭТЕ И РЕБЕНКЕ
Часто сравнивают поэта с ребенком по примете одной невинности. Я бы сравнила их по примете одной безответственности. Безответственность во всем, кроме игры.
Когда вы в эту игру придете со своими человеческими (нравственными) и людскими (общественными) законами, вы только нарушите, а может и прикончите игру.
Привнесением совести своей — смутите нашу (творческую). «Так не играют». Нет, тáк играют.
Либо совсем запретить играть (нам — детям. Богу — нам), либо не вмешиваться.
То, что вам — «игра», нам — единственный серьез.
Серьезнее и умирать не будем.
КОГО, ЗА ЧТО И КОМУ СУДИТЬ
В человека вселился демон. Судить демона (стихию)? Судить огонь, который сжигает дом?
Меня? Допустим.
За что? За недостаток совести, воли, силы: за слабость.
Отвечу вопросом:
Почему из всех, кто ходит по улицам Москвы и Парижа, именно на меня находит, и внешне тáк находит, что пены у рта нет, и на ровном месте не падаю, что ни в больницу, ни в участок не заберут.
Почему — если я одержимый — эта внешняя невинность (невидность) моей одержимости (писать стихи — чего невиннее!) и — если я преступник — это благоприличие моей преступности? Почему — если все это так — на мне нет клейма? Бог шельму метит, почему Бог этой шельмы не метит?
Почему, наоборот, вместо вразумления — поощрения, вместо приговора — утверждение моей неподсудности?
— Я делаю дурное дело!
Общество (хор обольщенных): — Нет, ты делаешь святое дело.
Ведь и самое идеологическое из всех правительств в мире поэта расстреляло не за стихи (сущность), а за дела, которые мог сделать всякий.
Почему я сам себе должен быть врачом, укротителем, конвойным?
Не слишком ли много с меня требовать?
Отвечу ответом.
Все ведающее заведомо повинно. Тем, что мне дана совесть (знание), я раз навсегда во всех случаях преступления ее законов, будь то слабость воли или сила дара (по мне — удара) — виновна.
Перед Богом, не перед людьми.
Кому судить? Знающему. Люди не знают, настолько не знают, что меня с последнего знания собьют. А если судят, то — как ту упомянутое правительство — не за стихи, а за дела (точно есть у поэта дела — кроме!), случайности жизни, которые есть только следствия.
Меня, например, судят за то, что я своего шестилетнего сына не отдаю в школу (на все шесть утренних часов подряд!), не понимая, что не отдаю-то я его именно потому, что пишу стихи, а именно:
(Из стихов к Байрону)
Свершилось! Он один меж небом и водою… Вот школа для тебя, о ненавистник школ! И в роковую грудь, пронзенную звездою. Царь роковых ветров врывается — Эол.— А пишу-то такие стихи именно потому, что не отдаю.
Стихи хвалить, а за сына судить?
Эх вы, лизатели сливок!
___________
Задуматься над преподаванием литературы в средней школе. Младшим дают «Утопленника» и удивляются, когда пугаются. Старшим — Письмо Татьяны и удивляются, когда влюбляются (стреляются). Дают в руки бомбу и удивляются, когда взрывается.
И — чтобы кончить о школе:
Если те стихи о Байроне вам нравятся — отпустите детей (то есть ваше «нравится» оплатите), либо признайте, что «нравится» не есть мера вещей и стихов, есть не мера вещей и стихов, а только вашей (как и авторской) низости, наша общая слабость перед стихией, за которую мы в какой-то час и еще здесь на земле — ответим.
Либо отпустите детей.
Либо вырвите из книги стихи.
___________
Права суда над поэтом никому не даю. Потому что никто не знает. Только поэты знают, но они судить не будут. А священник отпустит.
Единственный суд над поэтом — само-суд.
___________
Но есть, кроме суда — борьба: моя — со стихией, ваша — с моими стихами. Не уступать: мне — ей, вам — мне.[96] Да не обольстимся.
___________
Где тот священник, который мне, наконец, моих стихов не отпустит?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Но — приказ или просьба, на испуг нас стихии берут или на жалость, ненадежны никакие: ни христианские, ни гражданские, ни иные подходы. К искусству подхода нет, ибо оно захват. (Пока ты еще подходишь — оно уже захватило.)
Пример. Борис Пастернак в полной чистоте сердца, обложившись всеми материалами, пишет, списывает с жизни — вплоть до ее оплошностей! — Лейтенанта Шмидта, а главное действующее лицо у него — деревья на митинге. Над пастернаковской площадью они — главари. Что бы Пастернак ни писал — всегда стихии, а не лица, как в «Потемкине» море, а не матросы. Слава Пастернаку (человеческой совести Бориса) за матросов и слава морю, слава дару — за море, то ненасытное море, которому всех наших глоток мало и которое нас со всеми нашими повестями и совестями — всегда покроет.
Посему, если хочешь служить Богу или людям, вообще хочешь служить, делать дело добра, поступай в Армию Спасения или еще куда-нибудь — и брось стихи.
Если же песенный твой дар неистребим, не льсти себя надеждой, что — служишь, даже по завершении Ста Пятидесяти Миллионов. Это только твой песенный дар тебе послужил, завтра ты ему послужишь, то есть будешь отброшен им за тридевять земель или небес от поставленной цели.
___________
Владимир Маяковский, двенадцать лет подряд верой и правдой, душой и телом служивший —
Всю свою звонкую силу поэта Я тебе отдаю, атакующий класс!кончил сильнее, чем лирическим стихотворением — лирическим выстрелом. Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского-поэта, на тринадцатый поэт встал и человека убил.
Если есть в этой жизни самоубийство, оно не там, где его видят, и длилось оно не спуск курка, а двенадцать лет жизни.
Никакой державный цензор так не расправлялся с Пушкиным, как Владимир Маяковский с самим собой.
Если есть в этой жизни самоубийство, оно не одно, их два, и оба не самоубийства, ибо первое — подвиг, второе — праздник. Превозможение природы и прославление природы.
Прожил как человек и умер как поэт.
___________
Быть человеком важнее, потому что нужнее. Врач и священник нужнее поэта, потому что они у смертного одра, а не мы. Врач и священник человечески-важнее, все остальные общественно-важнее. (Важна ли сама общественность — другой вопрос, на него вправе буду ответить только с острова.) За исключением дармоедов во всех их разновидностях — все важнее нас.
И зная это, в полном разуме и твердой памяти расписашись в этом, в не менее полном и не менее твердой утверждаю, что ни на какое другое дело своего не променяла бы. Зная бóльшее, творю меньшее. Посему мне прощенья нет. Только с таких, как я, на Страшном суде совести и спросится. Но если есть Страшный суд слóва — на нем я чиста.
<1932>
ЭПОС И ЛИРИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ Владимир Маяковский и Борис Пастернак
Если я, говоря о современной поэзии России, ставлю эти два имени рядом, то потому, что они рядом стоят. Можно, говоря о современной поэзии России, назвать одно из них, каждое из них без другого — и вся поэзия все-таки будет дана, как в каждом большом поэте, ибо поэзия не дробится ни в поэтах, ни на поэтов, она во всех своих явлениях — одна, одно, в каждом — вся, так же как, по существу, нет поэтов, а есть поэт, один и тот же с начала и до конца мира, сила, окрашивающаяся в цвета данных времен, племен, стран, наречий, лиц, проходящих через ее, силу, несущих, как река, теми или иными берегами, теми или иными небесами, тем или иным дном. (Иначе бы мы никогда не понимали Виллона, которого понимаем целиком, несмотря даже на чисто физическую непонятность иных слов. Именно возвращаемся в него, как в родную реку.)
Итак, если я ставлю Пастернака и Маяковского рядом, — ставлю рядом, а не даю их вместе, — то не потому, что одного мало, не потому, что один в другом нуждается, другого восполняет; повторяю, каждый полон до краев, и Россия каждым полна (и дана) до краев, и не только Россия, но и сама поэзия, — делаю я это, чтобы дважды явить то, что дай Бог единожды в пятидесятилетие, здесь же в одно пятилетие дважды явлено природой: цельное полное чудо поэта.
Ставлю их рядом, потому что они сами в эпохе, во главе угла эпохи, рядом стали и останутся.
Слышу голос: «Современная поэзия России». «Пастернак-то Пастернак, но как же Маяковский, который в 1928 г…»
Во-первых, когда мы говорим о поэте — дай нам Бог помнить о веке. Второе и обратное: говоря о данном поэте, Маяковском, придется помнить не только о веке, нам непрестанно придется помнить на век вперед. Эта вакансия: первого в мире поэта масс — так скоро-то не заполнится. И оборачиваться на Маяковского нам, а может быть, и нашим внукам, придется не назад, а вперед.
Когда я на каком-нибудь французском литературном собрании слышу все имена, кроме Пруста, и на свое невинное удивление:
«Et Proust?» — «Mais Proust est mort, nous parlons des vivants»,[97] — я каждый раз точно с неба падаю; по какому же признаку устанавливают живость и умершесть писателя? Неужели X. жив, современен и действенен потому, что он может прийти на это собрание, а Марсель Пруст потому, что никуда уже ногами не придет, — мертв? Так судить можно только о скороходах.
И в ответ такое добродушное, такое спокойное:
— Где ж найду Такого, как я, быстроногого?Этими своими быстрыми ногами Маяковский ушагал далеко за нашу современность и где-то за каким-то поворотом долго еще нас будет ждать.
___________
Пастернак и Маяковский сверстники. Оба москвичи, Маяковский по росту, а Пастернак и по рождению. Оба в стихи пришли из другого, Маяковский из живописи, Пастернак из музыки. Оба в свое принесли другое: Маяковский «хищный глазомер простого столяра», Пастернак — всю несказанность. Оба пришли обогащенные. Оба нашли себя не сразу, оба в стихах нашли себя окончательно. (Попутная мысль: лучше найти себя не сразу в другом, чем в своем. Поплутать в чужом и обрести себя в родном. Так, по крайней мере, обойдешься без «попыток».)
Irrjahre[98] обоих кончились рано. Но к стихам Маяковский пришел еще из Революции, и неизвестно, из чего больше. Из революционной деятельности. Шестнадцати лет он уже сидел в тюрьме. «Это не заслуга». — Но показатель. Для поэта не заслуга, но для человека показатель. Для этого же поэта — и заслуга: начал с платежа.
Поэтический облик каждого сложился и сказался рано. Маяковский начал с явления себя миру: с показа, с громогласия. Пастернак, — но кто скажет начало Пастернака? О нем так долго никто ничего не знал. (Виктор Шкловский, в 1922 году, в беседе: «У него такая хорошая слава: подземная».) Маяковский являлся, Пастернак таился. Маяковский себя казал. Пастернак — скрывал. И если теперь у Пастернака имя, то этого так легко могло бы не быть: случайность благоприятного для дарований часа и края; la carriére ouverte aux talents, и даже не ouverte, a offerte,[99] если только — ряд поэтов кормимых, но замалчиваемых — носитель этого дара не инакомыслящий.
У Маяковского же имя было бы всегда, не было бы, а всегда и было. И было, можно сказать, раньше, чем он сам. Ему потом пришлось догонять. С Маяковским произошло так. Этот юноша ощущал в себе силу, какую — не знал, он раскрыл рот и сказал: «Я!» Его спросили: «Кто — я?» Он ответил: «Я: Владимир Маяковский». — «А Владимир Маяковский — кто?» — «Я!» И больше, пока, ничего. А дальше, потом, — всё. Так и пошло: «Владимир Маяковский, тот, кто: я». Смеялись, но «Я» в ушах, но желтая кофта в глазах — оставались. (Иные, увы, по сей день ничего другого в нем не увидели и не услышали, но не забыл никто.)
Пастернак же… Имя знали, но имя отца: художника Ясной Поляны, пастелиста, создателя женских и детских головок. Я и в 1921 году встречала отзывы: «Ну, да, Боря Пастернак, сын художника, такой воспитанный мальчик, очень хороший. Он у нас бывал. Так это он пишет стихи? Но он ведь, кажется, занимался музыкой…» Между живописью отца и собственной отроческой (очень сильной) музыкой Пастернак был затерт, как между сходящимися горами ущелья. Где тут утвердиться третьему, поэту? А за плечами Пастернака было уже три полустанка (начиная с последнего): 1917 год — «Сестра моя Жизнь» (изданная только в 1922 году), 1913 год — «Поверх Барьеров» — и первая, самая ранняя, которой даже я, пишущий, не знаю имени. Чего же спрашивать с остальных? До 1920 года Пастернака знали те несколькие, что видят, как кровь течет, и слышат, как трава растет. О Пастернаке можно сказать словами Рильке:
…die wollten blühn, Wir wollen dunkel sein und uns bemühn.[100]Пастернак не хотел славы. Может быть, боялся сглазу: повсеместного, непричастного, беспредметного глаза славы. Так Россия должна беречься Интуризма.
А Маяковский ничего не боялся, стоял и орал, и чем громче орал — тем больше народу слушало, чем больше народу слушало, тем громче орал — пока не доорался до «Войны и мира» и многотысячной аудитории Политехнического музея — а затем и до 150-миллионной площади всея России. (Как про певца — выпелся, так про Маяковского: выорался.)
У Пастернака никогда не будет площади. У него будет, и есть уже, множество одиноких, одинокое множество жаждущих, которых он, уединенный родник, поит. Идут за Маяковским и по Пастернака, как в неведомом месте по воду, куда-то по что-то — достоверно, но где? но что? — сущее, ощупью, наугад, каждый своим путем, все врозь, всегда вразброд. На Пастернаке, как на ручье, можно встретиться, чтобы вновь разойтись, каждый напившись, каждый умывшись, унося ручей в себе и на себе. На Маяковском же, как на площади, либо дерутся, либо спеваются.
Сколько читателей у Пастернака — столько голов. У Маяковского один читатель — Россия.
В Пастернаке себя не забывают: обретают и себя, и Пастернака, то есть новый глаз, новый слух.
В Маяковском забывают и себя, и Маяковского.
Маяковского нужно читать всем вместе, чуть ли не хором (ором, собором), во всяком случае, вслух и возможно громче, что с каждым читающим и происходит. Всем залом. Всем веком.
Пастернака же нужно всюду носить с собой, как талисман от этих всех, хором орущих все те же две (непреложных) истины Маяковского. А еще лучше — как во все века писали поэты и читали поэтов — в лесу, одному, не заботясь, лес ли это листьями или Пастернак листами.
Я сказала: первый в мире поэт масс. И еще прибавлю: первый русский поэт — оратор. От трагедии «Владимир Маяковский» до последнего четверостишия:
Как говорят, «инцидент исперчен», Любовная лодка разбилась о быт. Мы с жизнью в расчете, и не к чему перечень Взаимных болей, и бед, и обид.— всюду, на протяжении всего его — прямая речь с живым прицелом. От витии до рыночного зазывалы Маяковский неустанно что-то в мозги вбивает, чего-то от нас добивается — какими угодно средствами, вплоть до грубейших, неизменно удачных.
Пример последнего:
И на кровати Александры Феодоровны Развалился Александр Феодорович, —то, чтó мы всегда знали, созвучие имен, которое все отмечали, — ничего нового, но — здорово! И как бы мы ни относились и к Александре Феодоровне, и к Александру Феодоровичу, и к самому Маяковскому, каждый из нас этими строками удовлетворен, как формулой. Он тот поэт, которому всегда все удается, потому что должно удаваться. Ибо на том краю, по которому неустанно ходит Маяковский, ошибиться, значит — разбиться. Все творчество Маяковского балансировка между великим и прописным. Путь Маяковского — не литературный путь. Идущие его путями повседневно это доказывают. Сила неподражаема, а Маяковский без силы — nonsens.[101] Общее место, доведенное до величия — вот, зачастую, формула Маяковского. В этом он — иной век — иная речь — сходен с Гюго, которого, напомню, — чтил:
В каждом юноше — порох Маринетти, В каждом старце — мудрость Гюго.Недаром Гюго, а не Гёте, с которым Маяковского не роднило ничто.
Кому же говорит Пастернак? Пастернак говорит сам с собою. Даже хочется сказать: при самом себе, как в присутствии дерева или собаки, того, кто не выдаст. Читатель Пастернака, и это чувствует всякий, — соглядатай. Взгляд не в его, Пастернакову, комнату (что он делает?), а непосредственно ему под кожу, под ребра (что в нем делается?).
При всем его (уже многолетнем) усилии выйти из себя, говорить тем-то (даже всем), так-то и о том-то — Пастернак неизменно говорит не так и не о том, а главное — никому. Ибо это мысли вслух. Бывает — при нас. Забывает — без нас. Слова во сне или спросонок. «Парки сонной лепетанье…»
___________
(Попытка беседы читателя с Пастернаком мне напоминает диалоги из «Алисы в стране чудес», где на каждый вопрос следует либо запаздывающий, либо обскакивающий, либо вовсе не относящийся к делу ответ, — очень точный бы, ежели бы, — но здесь неуместный. Сходство объясняется введением в «Алисе» другого времени, времени сна, из которого никогда не выходит Пастернак.)
___________
Ни у Маяковского, ни у Пастернака, по существу, нет читателя. У Маяковского — слушатель, у Пастернака — подслушиватель, соглядатай, даже следопыт.
И еще одно: Маяковский в читательском сотворчестве не нуждается, имеющий (самые простые) уши — да слышит, да — вынесет.
Пастернак весь на читательском сотворчестве. Читать Пастернака немногим легче, а может быть, и совсем не легче, чем Пастернаку — себя писать.
Маяковский действует на нас, Пастернак — в нас. Пастернак нами не читается, он в нас совершается.
___________
Есть формула для Пастернака и Маяковского. Это — двуединая строка Тютчева:
Всё во мне и я во всем.Всё во мне — Пастернак. Я во всем — Маяковский. Поэт и гора. Маяковскому, чтобы быть (сбыться), нужно, чтобы были горы. Маяковский в одиночном заключении — ничто. Пастернаку, чтобы были горы, нужно было только родиться. Пастернак в одиночном заключении — всё. Маяковский сбывается горой. Пастернаком — гора сбывается. Маяковский, восчувствовав себя, предположим, Уралом, — Уралом стал. Нет Маяковского. Есть Урал. Пастернак, вобрав в себя Урал, сделал Урал — собою. Нет Урала. Есть Пастернак. (Распространенно: нет Урала, кроме пастернаковского Урала, как оно и есть: ссылаюсь на всех читавших «Детство Люверс» и Уральские стихи.)
Пастернак — поглощение, Маяковский — отдача. Маяковский — претворение себя в предмете, растворение себя в предмете. Пастернак — претворение предмета в себя, растворение предмета в себе: да, и самых нерастворяющихся предметов, как горные породы Урала. Все горные породы Урала растворены в его лирическом потоке, лишь оттого таком тяжелом, таком громоздком, что это — нет, даже не лава, ибо растворение однородного земного — а насыщенный (миром) раствор.
Маяковский безличен, он стал вещью, живописуемой. Маяковский, как имя, собирательное. Маяковский, это кладбище Войны и Мира, это родины Октября, это Вандомский столп, задумавший жениться на площади Конкорд, это чугунный Понятовский, грозящий России, и некто (сам Маяковский) с живого пьедестала толп — ему грозящий, это на Версаль идущее «хлеба!». Это последний Крым, это тот последний Врангель… Маяковского нет. Есть — эпос.
Пастернак останется в виде прилагательного: пастернаковский дождь, пастернаковский прилив, пастернаковский орешник, пастернаковский и так далее, и так далее.
Маяковский — в виде собирательного: сократительного.
В жизни дней Маяковский один за всех (от лица всех).
(Десятилетие Октября)
Под скромностью ложной — радости не тая, Ору с победителями голода и тьмы: — «Это я! Это — мы!»(Ложной скромности в нем не было, но — вчитайтесь! — какая глубочайшая настоящая. Впервые поэт гордится тем, что он тоже, что он — всé!)
Пастернак: один из всех, меж всех, без всех:
Всю жизнь хотел я быть, как все, Но мир в своей красе Не слушал моего нытья И быть хотел — как я!Пастернак — невозможность слияния.
Маяковский — невозможность неслияния. Он во вражде больше сливается с врагом, чем Пастернак, в любви, с любимым. (Конечно, знаю, что и Маяковский был одинок, но одинок только в порядке исключительности силы, не единственность лица, а единоличность силы.) Маяковский насквозь человечен. У него и горы говорят человеческим языком (как в сказке, как в каждом эпосе). У Пастернака человек — горным (тем же пастернаковским потоком). Ничего нет умилительнее, чем когда Пастернак пытается подражать человеку, той честности, доведенной до рабства, некоторых отрывков «Лейтенанта Шмидта». Он до такой степени не знает, как это (он или иное это) с людьми бывает, что, как последний ученик на экзамене, списывает у соседа все сплошь, вплоть до описок. И какой жуткий контраст: живой Пастернак, с его речью, и речь его, якобы объективного, героя.
Все Пастернаку дано, кроме другого — от любовного до данного, во всех его разновидностях другого, живого человека. Ибо другой человек Пастернака не живой, а какой-то сборник общих мест и поговорок, — как немец хочет прихвастнуть знанием русского языка. Обыкновенный человек Пастернака самый необыкновенный. Пастернаку даны живые горы, живое море (и какое! первое море в русской литературе после моря свободной стихии и пушкинскому равное), зачем перечислять? дано живое — всё!
Здесь даже снег благоухает И камень дышит под ногой…— все, кроме живого человека, который либо тот немец, либо сам Борис Пастернак, то есть единоличное, ни на что не похожее, то есть сама жизнь, а не живой человек. (Сестра моя Жизнь, так люди — жизни не зовут.)
В его гениальной повести о четырнадцатилетней девочке все дано, кроме данной девочки, цельной девочки, то есть дано все пастернаковское прозрение (и присвоение) всего, что есть душа. Дано все девчончество и все четырнадцатилетие, дана вся девочка вразброд (хочется сказать: враздробь), даны все составные элементы девочки, но данная девочка все-таки не состоялась. Кто она? Какая? Не скажет никто. Потому что данная девочка — не данная девочка, а девочка, данная сквозь Бориса Пастернака: Борис Пастернак, если был бы девочкой, то есть сам Пастернак, весь Пастернак, которым четырнадцатилетняя девочка быть не может. (Сбываться через себя людям Пастернак не дает. Здесь он обратное медиуму и магниту — если есть медиуму и магниту обратное.) Что у нас от этой повести остается? Пастернаковы глаза.
Но больше скажу: эти Пастернаковы глаза остаются не только в нашем сознании, они физически остаются на всем, на что он когда-то глядел, — в виде знака, меты, патента, так что мы с точностью можем установить, пастернаковский это лист или просто. Вобрав (лист) глазом — возвращает с глазом (глазком). (Не могу удержаться от следующей — русского слова нет — реминисценции: пастернаковская (отца) известная и прелестная пастель: «Глазок». Огромная кружка, над ней, покрывая и скрывая все лицо пьющего — детский огромный глаз: глазок… Может быть, сам Борис Пастернак в младенчестве, достоверно, Борис Пастернак — в вечности. Если бы отец знал, кто и, главное, что так пьет.)
Как я некогда, совсем иначе, лирически и иносказательно:
И все твоими очами глядят иконы!— об Ахматовой, так нынче, вполне достоверно и объективно, о Пастернаке:
И все твоими очами глядят деревья!Всякий лирик вбирает, но большинство вне сита и задержки глаза, непосредственно извне в душу, окунает вещь в общелирическую влагу и возвращает ее окрашенной этой общелирической душой. Пастернак же через глаз мир — процеживает. Пастернак — отбор. Его глаз — отжим. За сетчатку пастернаковского глаза протекает — течет потоками — вся природа, проскакивает порой и человеческий фрагмент (всегда незабвенный!), за нее никогда еще не проникал ни один человек в целом. Пастернак и его неизменно растворяет. Не человек, а человеческий раствор.
Поэзия! Греческой губкой в присосках Будь ты, и меж зелени клейкой Тебя б положил я на мокрую доску Зеленой садовой скамейки. Расти себе пышные брызжи и фижмы, Вбирай облака и овраги, А ночью, поэзия, я тебя выжму Во здравие жадной бумаги.Напоминаю, что губка Пастернака — сильно окрашивающая. Все, что вобрано ею, никогда уже не будет тем, чем было, и мы, вначале утверждавшие, что такого (как у Пастернака) дождя никогда не было, кончаем утверждением, что никакого, кроме пастернаковского, ливня никогда и не было и быть не может. Тот случай Уайльда воздействия искусства (иначе: глаза) на природу, то есть прежде всего на природу нашего глаза.
___________
Живой человек Пастернака, как мы сказали, либо фантом, либо сам Пастернак, лицо всегда подставное. Маяковский также не способен на живого человека, но не потому же. Если Пастернак его раздробляет и растворяет, Маяковский его дотворяет, надставляет — и вверх, и вниз, и вширь (только не вглубь!), подводит под него постамент своей любви или помост своей ненависти, так что получается не любимая Лиля Брик, например, но Лиля Брик, возведенная в иксовую степень его, Маяковского, любви: всей человеческой, мужской и почтовой любви, Лиля Брик — Собор Парижской Богоматери. То есть сама любовь, громада маяковской любви, всей любви. Если же это «белогвардеец» (враг), Маяковский наделяет его такой выразительности атрибутами, что мы не вспомним ни одного нашего живого знакомого добровольца, это будет Белая Армия глазами Красной Армии: то есть живой эпос ненависти, то есть совершенный урод (изверг), а не живой (несовершенный, то есть и с добродетелями) человек. Генерал будет — до чудовищности отросший погон и бакенбард, буржуй будет — не мясом, а целым мысом выступающий на нас живот, муж (в поэме «Любовь») — его, Маяковского, ненавистью, которой не в состоянии оправдать, если даже сложатся вместе в своем ничтожестве, целая сотня «мужей». Такого мужа нет. Но такая ненависть — есть. Чувства Маяковского не гипербола. Но живой человек — гипербола. В случае любви — собор. В случае ненависти — забор, то есть эпос наших дней: плакат.
Глазомер масс в ненависти и глазомер всей массы Маяковского в любви. Не только он, но и герои его — эпичны, то есть безымянны… В этом он опять-таки сроден Гюго, на бесконечных и густо заселенных пространствах своих Мизераблей не давшему ни одного живого человека, как он есть, а Долг (Жавера), Добро (Монсеньера), Несчастье (Вальжана), Материнство (Фантину), Девичество (Козетту) — и так далее, и так далее, — и давшему так безмерно больше «живого человека»: живые силы, миром движущие. Ибо — настаиваю на этом всем весом — всякую силу, будь то сила чисто физическая, Маяковский при самой живой ненависти, дает живой. Искажает он только, когда презирает, когда перед лицом слабости (хотя бы целого торжествующего класса!), а не силы — хотя бы осиленной. Не прощает Маяковский, в конце концов, только немощи. Всякой мощи его мощь воздает должное. Вспомним стихи Понятовскому и, недалеко ходя, гениальные строки о последнем Врангеле, встающем и остающемся как последнее видение Добровольчества над последним Крымом, Врангеле, только Маяковским данном в росте его нечеловеческой беды, Врангеле в рост трагедии.
Перед лицом силы Маяковский обретает верный глаз, вернее его непомерный глаз здесь оказывается у места: нормальным. Пастернак ошибается в составе человека, Маяковский в размере человека.
___________
Когда я говорю «глашатай масс», мне видится либо время, когда все такого росту, шагу, силы, как Маяковский, были, либо время, когда все такими будут. Пока же, во всяком случае, в области чувствований, конечно, Гулливер среди лилипутов, совершенно таких же, только очень маленьких. Об этом же говорит и Пастернак в своем приветствии лежащему:
Твой выстрел был подобен Этне В предгорье трусов и трусих.___________
Не похож «живой человек» и у Пастернака, и у Маяковского еще и потому, что оба поэты, то есть живой человек плюс что-то и минус что-то.
___________
Действие Пастернака и действие Маяковского. Маяковский отрезвляет, то есть, разодрав нам глаза возможно шире — верстовым столбом перста в вещь, а то в глаз: гляди! — заставляет нас видеть вещь, которая всегда была и которой мы не видели только потому, что спали — или не хотели.
Пастернак, мало что отпечатавшись на всем своим глазом, нам еще этот глаз вставляет.
Маяковский отрезвляет. Пастернак завораживает.
Когда мы читаем Маяковского, мы помним всё, кроме Маяковского.
Когда мы читаем Пастернака, мы всё забываем, кроме Пастернака.
Маяковский космически останется во всем внешнем мире. Безлично (слитно). Пастернак остается в нас, как прививка, видоизменившая нашу кровь.
Орудование массами, даже массивами («les grandes machines»,[102] сам Маяковский — завод Гигант). Явление деталями — Пастернак.
Всесильный Бог любви, Всесильный Бог деталей, Ягайлов и Ядвиг.У Маяковского тоже есть детали, весь на деталях, но каждая деталь с рояль. (По временам физика стихов Маяковского мне напоминает лицо Воскресенья из «Человека, который был Четвергом» — слишком большое, чтобы его можно было мыслить.) Оптом — Маяковский. В розницу — Пастернак.
Тайнопись — Пастернак. Явнопись, почти пропись — Маяковский. «Черного и белого не покупайте, да и нет не говорите» — Пастернак. Черное, белое. Да, нет — Маяковский.
Иносказание (Пастернак)[103]. Прямосказание, причем, если не понял, повторит и будет повторять до бесчувствия, пока не добьется. (Из сил никогда не выбьется!)
Шифр (Пастернак). — Световая реклама, или, что лучше, прожектор, или, что еще лучше, — маяк.
Нет человека, не понимающего Маяковского. Где человек, до конца понявший Пастернака? (Если он есть — это не Борис Пастернак.)
Маяковский — весь самосознание, даже в отдаче:
Всю свою звонкую силу поэта Я тебе отдаю, атакующий класс! —с ударением на всю. Знает, что отдает!
Пастернак весь самосомнение и самозабвение.
Гомерический юмор Маяковского.
Исключенность юмора у Пастернака, разве что начало робкой (и сложной) улыбки, тут же и кончающейся.
Пастернака долго читать невыносимо от напряжения (мозгового и глазного), как когда смотришь в чрезмерно острые стекла, не по глазу (кому он по глазу?).
Маяковского долго читать невыносимо от чисто физической растраты. После Маяковского нужно много и долго есть. Или спать. Или — кто постойче — ходить. Наверстывать, или — кто постойче — вышагивать. И невольно видение Петра, глазами восемнадцатилетнего Пастернака:
О, как он велик был! Как сеткой конвульсий Покрылись железные щеки, Когда на Петровы глаза навернулись, Слезя их, заливы в осоке… И к горлу балтийские волны, как комья Тоски, подкатили…Так Маяковский нынче смотрит на российскую стройку.
___________
У Маяковского мы всегда знаем о чем, зачем, почему. Он сам — отчет. У Пастернака мы никогда не можем доискаться до темы, точно все время ловишь какой-то хвост, уходящий за левый край мозга, как когда стараешься вспомнить и осмыслить сон.
Маяковский — поэт темы.
Пастернак — поэт без темы. Сама тема поэта.
Действие Пастернака равно действию сна. Мы его не понимаем. Мы в него попадаем. Под него подпадаем. В него — впадаем. Пастернака, когда мы его понимаем, то понимаем помимо него, помимо смысла (который есть и за прояснение которого нам — борется) — через интонацию, которая неизменно точна и ясна. Мы Пастернака понимаем так, как нас понимают животные. Мы так же не умеем говорить по-пастернаковски, как Пастернак не умеет говорить по-нашему, но оба языка есть, и оба внятны и осмысленны, только они на разных ступенях развития. Разобщены. Мост — интонация. Больше скажу: чем больше старается Пастернак свою мысль развить и уяснить, чем больше громоздит придаточных предложений (строение его фразы всегда правильно и напоминает германскую художественно-философскую прозу начала прошлого века), тем больше он смысл затемняет. Есть темнота сжатости, есть темнота распространенности, здесь же — говорю об иных местах его прозы — двойная темнота поэтической сжатости и философской распространенности. В распространенной прозе, какова, например, лекторская, должна быть вода (обмеление вдохновения), то есть распространение должно быть повторением, а не разъяснением: одного образа другим и одной мысли — другой.
Возьмем прозу Маяковского: тот же сокращенный мускул стиха, такая же проза его стихов, как Пастернакова проза — проза стихов Пастернака. Плоть от плоти и кость от кости. О Маяковском сказано — мною обо мне сказанное:
Я слово беру — на прицел!А словом — предмет, а предметом — читателя. (Мы все Маяковским убиты — если не воскрешены!)
Важная особенность: Маяковский-поэт весь переводим на прозу, то есть рассказуем своими словами, и не только им самим, но любым. И словаря менять не приходится, ибо словарь Маяковского — сплошь обиходен, разговорен, прозаичен (как и словарь Онегина, старшими современниками почитавшийся «подлым»). Утрачивается только сила поэтической речи: маяковская расстановка: ритм.
А если Пастернака перевести на прозу, то получится проза Пастернака, место куда темнейшее его стихов, то есть темнота, присущая самому стиху, и нами, поэтому, в стихах узаконенная, здесь окажется именно темнотой сути, никакими стихами не объясненная и не проясненная. Ибо, не забудем: лирика темное — уясняет, явное же — скрывает. Каждый стих — речение Сивиллы, то есть бесконечно больше, чем сказал язык.
Маяковский весь связен, логика же Пастернака сущая, но неисследимая связь между собой событий, — сна, во сне, но только во сне, неопровержимая. Во сне (когда мы читаем Пастернака) все именно так, как нужно, все узнаешь, но попробуй-ка этот сон рассказать — то есть своими словами передать Пастернака — что останется? Мир Пастернака держится только по его магическому слову. «И сквозь магический кристалл…» Магический кристалл Пастернака — его глазной хрусталик.
Маяковского рассказать пусть берется каждый, говорю заранее: удастся, то есть половина Маяковского останется. Пастернака же может рассказать только сам Пастернак. Что и делает в своей гениальной прозе, сразу ввергающей нас в сновидéние и в сновúдение.
Пастернак — чара.
Маяковский — явь, белейший свет белого дня.
___________
Но основная причина нашего первичного непонимания Пастернака — в нас. Мы природу слишком очеловечиваем, поэтому вначале, пока еще не заснули, в Пастернаке ничего не узнаем. Между вещью и нами — наше (вернее, чужое) представление о ней, наша застилающая вещь привычка, наш, то есть чужой, то есть дурной опыт с вещью, все общие места литературы и опыта. Между нами и вещью наша слепость, наш порочный, порченый глаз.
Между Пастернаком и предметом — ничего, оттого его дождь — слишком близок, больше бьет нас, чем тот из тучи, к которому мы привыкли. Мы дождя со страницы не ждали, мы ждали стихов о дожде. Поэтому мы говорим: «Это не дождь!» и «Это не стихи!» Дождь забарабанил прямо по нас:
На листьях сотни запонок, И сад слепит, как плес, Обрызганный, закапанный Мильоном синих слез.Природа явила себя через самое беззащитное, лунатическое, медиумическое существо — Пастернака.
___________
Пастернак неисчерпаем. Каждая вещь в его руке, вместе с его рукой, из его руки уходит в бесконечность — и мы с нею — за нею. Пастернак только Invitation au voyage[104] — самораскрытия и мирораскрытия, только отправной пункт: то, откуда. Наш отчал. Ровно столько места, чтобы — сняться. На Пастернаке мы не замедливаем, мы медлим над Пастернаком. Над пастернаковской строкой густейшая и тройная аура — пастернаковских, читательских и самой вещи — возможностей. Пастернак сбывается над строкою. Чтение Пастернака надстрочное, — параллельное и перпендикулярное. Меньше читаешь, чем глядишь (думаешь, идешь) от. Наводящее. Заводящее. Можно сказать, что Пастернака читатель пишет сам.
Пастернак неисчерпаем.
Маяковский — исчерпывает. Неисчерпаема только его сила, с которой он так исчерпывает предмет. Сила, готовая, как земля, каждый раз все заново, каждый раз — раз навсегда.
За порогом стихов Маяковского — ничего: только действие. Единственный выход из его стихов — выход в действие. Его стихи нас из стихов выталкивают, как белый день с постели сна. Он именно тот белый день, не терпящий ничего скрытого. — Die Sonne bringt es an den Tag![105] Посмотрите на его тени — разве это не ножом отрезанные, ограниченные тени полдня, на которые нельзя не наступить ногой. Пастернак: неисчерпаемость (неотграниченность) ночи.
Над строками Маяковского — ничего, предмет весь в его строке, он весь в своей строке, как гвоздь весь ушел в доску: мы же уже непосредственно у дела и с молотком в руках.
От Пастернака думается.
От Маяковского делается.
После Маяковского ничего не остается сказать.
После Пастернака — всё.
___________
И, в каком-то последнем, конечном счете:
«Мне борьба мешала быть поэтом» — Пастернак.
«Песни мне мешали быть бойцом» — Маяковский.
Ибо упор Пастернака в поэте.
Ибо упор Маяковского в бойце.
«Певец в стане русских воинов» — вот Пастернак в российской современности.
Боец в стане мировых певцов — вот Маяковский в поэтической современности.
И — кто знает — куда бы дошел, до какой глубины бы дошел Пастернак, если бы не невольная, тоже медиумическая, привлеченность общественностью: данным часом России, века, истории. Отдавая все должное Пятому Году — гению Пастернака во образе Пятого Года, — не могу не сказать, что Шмидт и без Пастернака остался бы Шмидтом, Пастернак и без Шмидта остался бы Пастернаком, а с чем-нибудь иным чем Шмидт, с чем-нибудь неназванным оказался бы — дальше.
Если час для поэтической карьеры — внешнего прохождения и дохождения поэта — ныне в России благоприятный, то для поэтической одинокой дороги он неблагоприятен. События питают, но они же и мешают, и, в случае лирического поэта, больше мешают, чем питают. События питают пустого (незаполненного, опустошенного, временно пустующего), переполненному они — мешают. События питают Маяковского, у которого была только одна полнота — сил. События питают только бойца. У поэта — свои события, свое самособытие поэта. Оно в Пастернаке если не нарушено, то отклонено, заслонено, отведено. Тот же отвод рек. Видоизменение русл.
Пастернак, по благородству сущности, сам свои пороги упразднил — поскольку мог. Пастернак, в полной добросовестности, — старается не впасть в Каспийское море.
Может быть, может быть. Но — жаль Неясыти. И той Волги — жаль.
___________
«Песни мне мешали быть бойцом» — Маяковский. Да, ибо есть борьба более непосредственная, чем словом, — телом! — и более действенная, чем словом, — делом, общее дело рядовой борьбы. А Маяковский никогда не стоял рядовым. Его дар его от всех его собойцов — товарищей — отъединил, от всякого, кроме разговорного, дела отставил. Маяковскому, этому самому прямому из бойцов, пришлось драться иносказательно, этому самому боевому из бойцов — биться окольно. И сколько ни заявляй Маяковский: «Я — это все! Я — это мы!» — он все-таки одинокий товарищ, неравный ровня, атаман — ватаги, которой нет, или настоящий атаман которой — другой. Вот стихи рабочего:
Вспоминаю тебя и тебе пою Как сталь звучащую песнь мою. К тебе вздымается песнь! К тебе И больше ни к кому. Ты слабости не знал в себе, Был тверд. И потому Всю молодость мою Тебе я отдаю. Нет лучшего, чем ты, у нас И не было в веках. Весна. И лето уж недалеко. Воды бурлят, содрогаясь до дна. Улицы мира вздыхают глубоко. Шли года и года, Но никто никогда Не жил, так нас любя, Как ты. И уж нет тебя. И все ж я стою пред тобою. Ты жив… И будешь — пока земля Будет. Мощным звоном с башен Кремля Падают ритмы Парижской Коммуны. Все гонимые в мире сердца Натянули в груди твоей общие струны. На старых камнях площади Красной, С весенним вихрем один на один, Победоносный и властный, Окраинной улицы сын Поет тебя.Это стихи — не Маяковскому. Они тому, кто, по слуху народной славы выписав себе полное собрание сочинений Маяковского, прочел две страницы и навсегда отложил, сказав: «А все-таки Пушкин — лучше писал!»
А я скажу, что без Маяковского русская революция бы сильно потеряла, так же как сам Маяковский — без Революции.
А Пастернак бы себе рос и рос…
___________
Если у нас из стихов Маяковского один выход — в действие, то у самого Маяковского из всей его действенности был один выход — в стихи. Отсюда и их ошеломляющая физика, их подчас подавляющая мускульность, их физическая ударность. Всему бойцу пришлось втесниться в строки. Отсюда и рваные размеры. Стих от Маяковского всеместно треснул, лопнул по швам и без швов. И читателю, сначала в своей наивной самонадеянности убежденному, что Маяковский это для него ломается (действительно ломался: как лед в ледоход!), скоро пришлось убедиться, что прорывы и разрывы Маяковского не ему, читателю, погремушка, а прямое дело жизни — чтобы было чем дышать. Ритмика Маяковского физическое сердцебиение — удары сердца — застоявшегося коня или связанного человека. (Про Маяковского можно сказать чудным ярмарочным словом владельца карликовой труппы, ревновавшего к соседнему бараку: «Чего глядите? Обнакнавенный великан!») Нет гнета большего — подавленной силы. А Маяковский, даже в своей кажущейся свободе, связан по рукам и по ногам. О стихах говорю, ни о чем другом.
Если стихи Маяковского были делом, то дело Маяковского не было: писать стихи.
Есть рожденные поэты — Пастернак.
Есть рожденные бойцы — Маяковский.
А для рожденного бойца — да еще такой идеи — всякая дорога благоприятнее поэтовой.
Еще одно необходимое противопоставление. Маяковский при всей его динамичности — статичен, та непрерывность, предельность, однородность движения, дающая неподвижность. (Недвижный столб волчка. Волчок движется только, когда останавливается.)
Пастернак же — динамика двух впертых в стол локтей, подпирающих лоб — мыслителя.
Так неподвижно море — в самую бурю.
Так динамично небо, которым идут тучи.
Статичность Маяковского от его статуарности. Даже тот быстроногий бегун он — мраморный. Маяковский — Рим. Рим риторства. Рим действия. «Карфаген должен быть разрушен!» (Если ругать его, так только: «статýй».) Маяковский — живой памятник. Гладиатор вживе. Вглядитесь в лобяные выступы, вглядитесь в глазницы, вглядитесь в скулы, вглядитесь в челюсти. Русский? Нет. Рабочий. В этом лице пролетарии всех стран больше чем соединились — объединились, сбились в это самое лицо. Это лицо такое же собирательное, как это имя. Безымянное имя. Безличное лицо. Как есть лица с печатью интернациональной авантюры, так это лицо — сама печать Пролетариата, этим лицом Пролетариат мог бы печатать свои деньги и марки.
Маяковский среди рабочих мира был настолько свой, он — настолько они, что спокойно мог дымить на них английским табаком из английской трубки и сверкать на них черным лаком парижских башмаков и собственной парижской машины — только радость: своему повезло, и говорить рабочим «ты» (весь Пастернак напряженное «вы», «на ты» он только с Гёте, Рильке, такими. «Ты» братственности, ученичества, избранничества. У Маяковского — рядовое «ты» товарищества). Маяковский в коммунизме настолько свой, что он вопреки всем попрекам Есенину и наказам комсомолке Марусе, отравившейся, потому что не было лаковых туфель (из-за них-то и милый бросил!), —
Помни ежедневно, что ты — зодчий И новых отношений и новых Любовей, — И станет ерундовым любовный эпизодчик Какой-нибудь Любы к любому Вове, —мог покончить с собой из-за частной, несчастной любви так же просто, как тогда резался в карты. Своему все позволено, чужому — ничего. Свой среди своих. Только те рабочие живые, этот — каменный.
Боюсь, что несмотря на народные похороны, на весь почет ему, весь плач по нем Москвы и России, Россия и до сих пор до конца не поняла, кто ей был дан в лице Маяковского. Маяковскому в России только один — ровня. (Не говорю: в мире, не говорю: в слове, говорю: в России.) Если тот был «хлеба», этот был «зрелищ», то есть первым шагом души из хлеба, первой новой российской душою. Маяковский первый новый человек нового мира, первый грядущий. Кто этого не понял, не понял в нем ничего. Недаром я, слушая с голосу те уже приведенные стихи рабочего «Весна», где все свелось к одному: ему: ушедшему, сразу сказала: — либо Маяковскому — либо.
Пролетариат может печатать только двумя лицами. Должен печатать двумя лицами.
Даже известная ограниченность его — ограниченность статуи. Статуя может только менять положения: угрозы, защиты, страха и т. д. (Весь античный мир одна статуя в различных положениях.) Видоизменять положения, но не менять материал, который раз навсегда ограничен, и раз навсегда ограничивающий возможности. Вся статуя в себя включена. Она из себя не выйдет. Потому-то она и статуя. Для того-то она и статуя. In der Beschänkung zeigt sich erst der Meister.[106] Может быть, в этом смысле Маяковский более Meister и Meisterwerk,[107] чем Пастернак, которого так же дико, как Рильке, искать в ограниченном мире мастерства и так же естественно, как Рильке, находить в неограниченном, ничем от нас не отграниченном мире чуда.
Лаокоон из кожи не вылезет никогда, но вылезает всегда, но не вылезет никогда, и так далее до бесконечности. В Лаокооне дано вылезание из: статика динамики. Ему, как морю, положен закон и предел. Эта же неподвижность бойца дана и в Маяковском.
Теперь прошу о предельном внимании. Из кожи Маяковского лез только боец, лез только размер. Как из его глазниц — глазомер. Дай ему тело и дело в тысячу раз больше ему положенных, тело и дело его силы, весь Маяковский отлично в себе уместится, ибо распределится в непрерывности живого движения, и не будет статуей. Статуей он стал. Его трагедия опять-таки вопрос количества, а не качества (разнокачественности). В этом он еще раз одинок среди поэтов, ибо лез-то он именно из кожи слова, ставшей роковым образом его собственной и которую он повсеместно прорвал — в действенный мир, тогда как все поэты именно из кожи действенного мира лезут. Все поэты: из физики — в психику. Маяковский из психики — в физику — с нашей точки зрения, — ибо для Маяковского, обратно всем поэтам, слово было тело, а дело — душа. Пусть для лирика и поэзия тесна, Маяковскому именно она была тесна. Маяковский за письменным столом — физическое несоответствие. Уже больше видишь его за «grandes machines»[108] декоративной живописи, где, по крайней мере, руке есть где взмахнуть, ноге — куда отступить, глазу — что окинуть. Из кожи поэзии рвался еще и живописец. Та секунда, когда Маяковский впервые уперся локтем в стол, — начало его статуарности. (Окаменел с локтя.) Россия в эту секунду обрела самого живого, самого боевого, самого неотразимого из своих поэтов, в эту секунду любые ряды боя — первый ряд боя, все первые ряды всех боев мира утратили своего лучшего, самого боевого, самого неотразимого бойца.
Приобрел эпос, потерял миф.
Самоубийство Маяковского, в другом моем смысловом контексте встающее, как убийство поэтом — гражданина, из данного моего контекста встает расправой с поэтом — бойца. Самоубийство Маяковского было первым ударом по живому телу, это тело — первым живым упором его удару, а все вместе — его первым делом. Маяковский уложил себя, как врага.
Если Маяковский в лирическом пастернаковском контексте — эпос, то в эпическом действенном контексте эпохи он — лирика. Если он среди поэтов — герой, то- среди героев — он поэт. Если творчество Маяковского эпос, то только потому, что он, эпическим героем задуманный, им не стал, в поэта всего героя взял. Приобрела поэзия, но пострадал герой.
Герой эпоса, ставший эпическим поэтом — вот сила и слабость и жизни и смерти Маяковского.
С Пастернаком проще, на этот раз Пастернак Темный — читается с листа. Пастернаку, как всякому лирическому поэту, всюду тесно, кроме как внутри, во всем мире действия тесно, особенно же в самом месте мирового действия — нынешней России.
Иль я не знаю, что в потемках тычась, Вовек не вышла б к свету темнота? Иль я урод, и счастье сотен тысяч Не ближе мне пустого счастья ста? И разве я не мерюсь пятилеткой, Не падаю, не подымаюсь с ней? Но как мне быть с моей грудною клеткой И с тем, что всякой косности косней!Пастернаку, как всякому поэту, как всякому большому о счастье не думающему, приходится снижаться до цифрового сопоставления счастья ста и сотен тысяч, до самого понятия счастья как ценности, орудовать двумя неизвестными, если не заведомо подозрительными ему величинами: счастья и цифрового количества.
Пастернаку, который так недавно, высунув голову в фортку — детям:
Какое, милые, у нас Тысячелетье на дворе?приходится по полной доброй воле, за которую никто ему не благодарен (кому досадно, кому жалко, кому умилительно и всем неловко), мериться пятилеткой.
Весь Пастернак в современности — один большой недоуменный страдальческий глаз — тот самый глазок над кружкой — тот самый глаз из фортки — глаз непосредственно из грудной клетки — с которой он не знает, как быть, ибо видимое и сущее в ней, так Пастернаку кажется, сейчас никому не нужно. Пастернак из собственных глазниц вылезает, чтобы увидеть то, что все видят, и ко всему, что не то, ослепнуть. Глаз тайновидца, тщащийся стать глазом очевидца. И так хочется от лица мира, вечности, будущего, от лица каждого листка, на который он так глядел, уговорить Пастернака тихими словами его любимого Ленау («Bitte»[109]).
Weil auf mir du dunkles Auge, Uebe deine ganze Macht.[110]___________
Мы подошли к единственной мере вещей и людей в данный час века: отношению к России.
Здесь Пастернак и Маяковский — единомышленники. Оба за новый мир и оба, — но вижу, что первое оба останется последним, ибо если Пастернак явно за новый мир, то вовсе не с такой силой явности против старого, который для него, как бы он ни осуждал политический и экономический строй прошлого, прежде всего и после всего — его огромная духовная родина. «Кто не с нами, тот против нас». Мы для Пастернака не ограничивается «атакующим классом». Его мы — все те уединенные всех времен, порознь и ничего друг о друге не зная делающие одно. Творчество — общее дело, творимое уединенными. Под этим, не сомневаюсь, подпишется сам Борис Пастернак не боец (kein Umstürzler![111]). Пастернак — сновидец и прозорливец. В своей революционности он ничем не отличается от всех больших лириков, всех, включая роялиста Виньи и казненного Шенье, стоявших за свободу — других (у поэта — своя свобода), равенство — возможностей, и братство, которым каждый поэт, несмотря на свое одиночество, а может быть, и благодаря своему одиночеству, переполнен до самых краев сердца. В своей «левизне» он ничем не отличается от каждого человека, у которого сердце на месте, то есть — слева.
Вот признание самого Пастернака, недавнее, после пятнадцати лет Революции, признание:
И так как с малых детских лет Я ранен женской долей, И след поэта — только след Ее путей — не боле, И так как я лишь ей задет, И ей у нас раздолье, То весь я рад сойти на нет В революцьонной воле —то есть то же слово Виньи сто лет назад: «Après avoir réfléchi sur la destinée des femmes dans tous les temps et chez toutes les nations, j’ai fini par penser que tout homme devrait dire à chaque femme, au lieu de Bonjour: — Pardon!»[112]
И опять-таки от данного к общему, окольный — чисто-поэтов! — приход, через деталь и обход веками обманутой девушки — да через Гретхен же! — в Революцию. Как к лесу — через лист. И показательно, что самосознающий себя, боевой, волевой Маяковский с его самосознающим себя даром:
Всю свою звонкую силу поэта Я тебе отдаю, атакующий класс!— со всей своей волей и личностью в этом своем выборе — растворяется. Пастернаково же признание:
То весь я рад сойти на нет В революцьонной воле —нами, вопреки убежденности Пастернака и очевидности букв, читается:
Я рад бы весь сойти на нет —— то есть Пастернак в нашем сознании, несмотря на Лейтенанта Шмидта и все, что еще такого напишет, в этой революционной воле, как вообще ни в какой людской, не растворяется, ибо ни с какой волей, кроме мировой, всей мировой — и действующей непосредственно через него — не только не слиянен, но и не знаком. Каждый подвластен, но каждый подвластен иному. За Пастернака знает кто-то больший, чем он, и иной, чем мы.
Маяковского ведут массы, хочется сказать по-французски: гений масс, потому он их и ведет. Массы будущего, потому он и ведет массы настоящего. И чтобы не было двусмысленности в толковании: Маяковского ведет история.
Маяковский: ведущий — ведóмый. Пастернак — только ведомый.
___________
Единомыслие — не мера сравнения двух поэтов. У Маяковского единомышленники — если не вся Россия, то вся русская молодежь. Каждый комсомолец больший и, во всяком случае, более явный единомышленник Маяковскому, чем Пастернак. Сходятся (едино — мыслят) эти двое только раз — в теме поэм: Октябрь и Пятый Год. Один написал Октябрь, другой Декабрь, но какой Октябрь и какой Декабрь, да и Декабрь-то от Октября сильно разнится… И напиши Пастернак завтра же свой Октябрь, это прежде всего будет его Октябрь, где центр боевых действий будет перенесен на вершины метущихся деревьев.
Второго, а по существу первого и единственного вопроса: об отношении к Богу того и другого, Бога к тому и другому, я сейчас намеренно не подымаю. В свой час.
В разные устья, из разных истоков, разные в источниках, из которых пьют, в жаждущих, которых поят — зачем перечислять? — не: разные во всем, а люди разных измерений, они равны только в одном: силе. В силе творческого дара и отдачи. Следовательно, и в силе, по нас, удара.
Маяковский наш силомер. Пастернак наш глубино-мер: лот.
Но есть у этих двух, связанных только одной наличностью — силы, и одно общее отсутствие: объединяющий их пробел песни. Маяковский на песню неспособен, потому что сплошь мажорен, ударен и громогласен. Так шутки шутят («не гораздо хорошие») и войсками командуют. Так не поют. Пастернак на песню не способен, потому что перегружен, перенасыщен и, главное, единоличен. В Пастернаке песне нету места, Маяковскому самому не место в песне. Поэтому блоковско-есенинское место до сих пор в России «вакантно». Певучее начало России, расструенное по небольшим и недолговечным ручейкам, должно обрести единое русло, единое горло.
Для того чтобы быть народным поэтом, нужно дать целому народу через тебя петь. Для этого мало быть всем, нужно быть всеми, то есть именно тем, чем не может быть Пастернак. Целым и только данным, данным, но зато целым народом — тем, чем не хочет быть Маяковский: глашатай одного класса, творец пролетарского эпоса.
Ни боец (Маяковский), ни прозорливец (Пастернак) песен не слагают.
Для песни нужен тот, кто наверное уже в России родился и где-нибудь, под великий российский шумок, растет. Будем жить.
___________
…Ты спал, постлав постель на сплетне, Спал и, оттрепетав, был тих. Красивый, двадцатидвухлетний, Как предсказал твой тетраптих. Ты спал, прижав к подушке щеку, Спал со всех ног, со всех лодыг, Врезаясь вновь и вновь с наскоку В разряд преданий молодых. Ты в них врезался тем заметней, Что их одним прыжком достиг. Твой выстрел был подобен Этне В предгорье трусов и трусих.Пастернак — Маяковскому
Kламар, декабрь 1932.
ПОЭТЫ С ИСТОРИЕЙ И ПОЭТЫ БЕЗ ИСТОРИИ
Никто еще дважды не ступал в одну и ту же реку.
ГераклитВосходит солнце, и заходит солнце,
и спешит к месту своему, где оно восходит.
Идет ветер к югу, и переходит к северу,
и кружится, кружится на ходу своем,
и возвращается ветер на круги свои.
ПроповедникI
Передо мною лежит первое издание полного собрания стихотворений Пастернака в одной книге, этого, 1933 года. Почти пятьсот страниц мелким шрифтом. 1912–1932. Двадцать лет. Полтысячи страниц.
Вернемся назад на полстолетия, когда ни нас, ни нашего мира, ни самого Бориса Пастернака еще не существовало, и попытаемся угадать: каким может быть творчество поэта в течение двух десятилетий, из которых три года будут отданы мировой войне, еще три — гражданской, и еще двенадцать — строительству нового мира — и какому еще строительству! после какой разрухи! И лишь два первых года этих десятилетий будут принадлежать самому человеку, самому поэту, будто даны ему для того, чтоб научился дышать, чтобы вдохнул запас воздуха для всего, что последует дальше, когда он уже не сможет свободно, полной грудью лиры дышать. Каким же может стать лирическое двадцатилетие такого двадцатилетия исторического?
И такой же вопрос, с заменой «может быть» на «могло быть», поставим перед собой в конце протекающего пятидесятилетия, когда мы, современники Пастернака, и сам Пастернак, все наши исторические и личные судьбы будут видны как на ладони, когда мы войдем в область преданий и перестанем быть, мы — пройдем. Будущее как область преданий о нас и прошлое как область гаданий о нас (хотя иногда и кажется наоборот). Настоящее же — краткое и крохотное поле реальной деятельности.
Попробуем же с этой маленькой сцены настоящего ответить им — гаданию и преданию — и вам!
Борис Пастернак — поэт без развития. Он сразу начал с себя самого и никогда себе не изменял. Что вообще такое «я» поэта? Или шире, нет, пожалуй, — уже. Что такое языковое «я» поэта? Ведь словарь — не просто порядок слов. Сочетание «гоголевский период» мы узнаем прежде, чем уловим смысл каждого из этих двух слов.
Поэтическое «я» — это, по-видимому, «я» человеческое, проступающее в строе речи. Стихи часто являют нам нечто скрытое, приглушенное и совсем заглушенное, чего и сам-то человек в себе не знал. Он бы и не узнал это о себе, если бы не стихотворчество. Действие сил, неведомых действующему и осознаваемых лишь в самый момент действия. Здесь аналогия со сновидениями. Ведь если бы сновидения были управляемы (а это могут некоторые люди, особенно дети), то эта аналогия сновидений со стихотворчеством была бы полной. То, что в тебе скрыто и закопано, а в стихах открыто и выражено, — и есть твое поэтическое «я», сновидческое «я».
Другими словами, поэтическое я проступает как преданность души поэта особым снам, и это не воля его, а тайный источник всей его природы.
Я поэта есть я сновидца плюс я творца слова. Поэтическое я — это я мечтателя, пробужденное вдохновенной речью и в этой речи явленное.
Такова, в основе, личность поэта. Таков закон особости поэта. Поэтому все поэты столь схожи и столь несхожи. Схожи тем, что все без изъятья сновидят. Не схожи — своими снами.
___________
Все поэты делятся на поэтов с развитием и поэтов без развития. На поэтов, имеющих историю, и поэтов без неё.
Графические первые отображаются стрелой, пущенной в бесконечность, вторые — кругом. Первые (стрела) влекомы поступательным законом самооткрывания. Они открывают себя во всех явлениях, встречающихся на пути, в каждом новом шаге и каждой новой встрече.
Все коллизии: мое — чужое, насущное — лишнее, случайное — вечное, все для них пробный камень. Пробный камень их силы, растущей с каждым новым препятствием. Их самооткрывание, самопознание души идет через познание мира путем опыта. Они идут, а мы физически ощущаем движение воздуха, ими рассекаемого, свежий ветер.
Они не оборачиваются на своем пути. Их опыт накапливается будто сам собой и складывается позади, как своя ноша за спиной, которая никогда не давит на плечи. На такую ношу не оборачиваешься. Ходок не ведает о своем вещевом мешке до той поры, пока он ему не понадобится, — до привала. Гёте «Геца фон Берлихингена» и Гёте «Метаморфоз растений» даже не знакомы. Взяв от себя прежнего все, что ему понадобится, нынешний оставил его в дивных лесах молодой Германии времен собственной молодости и зашагал дальше. Если бы зрелый Гёте встретил на перекрестке времен молодого, он, возможно, не узнал бы его настолько, что захотел бы познакомиться с ним. Говорю не о Гёте-личности, а о Гёте-творце. И этот пример наиболее очевиден.
Поэты, имеющие историю, как и сама история, не отрекаются от себя, а просто не оборачиваются на себя, они движутся только вперед! Таков закон движения и проникновения.
Гёте Геца, Гёте Вертера, Гёте «Римских элегий», Гёте «Науки о красках» и т. д. — где он сам? Везде и нигде. Сколько их? Столько, сколько шагов. Каждый новый шаг делал новый пешеход. Выходил один, а приходил другой. Гете-творец поднимал ступню каждого пешехода. Он был их творческой мышцей. Как и Пушкин. А может быть, это и есть сущность гения?
Как одиноки такие пешеходы! В них ищут того, кого теперь не узнаешь. Полюбили — одного, а он сам от себя уже отрекся. Поверили — одному, а он сам себя уже перерос. От Гёте до его восьмидесяти трех лет (года смерти) требовали Геца (Гёте двадцатилетнего). Более близкий пример — от Блока Двенадцати все еще требуют Незнакомку!
Именно об этом — гениальные строки нашего русского гётеанца, поэта и философа Вячеслава Иванова, живущего теперь в Падуе:
Чье имя с крыш вострубите — Укрылся под чужим. Кого и ныне любите — Уж ныне не любим.Дело не в возрасте — все мы меняемся. Дело в том, что зрелый Гёте не понимал собственной молодости. Есть поэты, к которым новая молодость приходит в старости. Трилогия страсти Гёте написана семидесятилетним стариком! Все дело в новизне взгляда, во вновь открывающихся горизонтах, вслед за просторами преодоленными. Дело в несчетности мгновений, в бесконечности задач, в безмерности сил Колумба. А вещевой мешок за спиной (Гёте действительно ходил с мешком для камней и минералов) все полнее и полнее. И дорога ведет в бесконечность. Солнце садится и тени растут. Но нет предела ни силам, ни пути!
Поэты с историей, что очень важно, — поэты темы. Мы всегда знаем, о чем они пишут, а если и не знаем, то узнаем после завершения их пути, куда они шли (у них есть цель). Редко такие поэты бывают чистыми лириками. Они слишком велики по объему и размаху, им тесно даже в своем «я» — пусть в самом большом; они так расширяют это «я», что оно просто сливается с краем горизонта. (Гёте, Пушкин.) Человеческое «я» становится «я» страны — народа — данного континента — столетия — тысячелетия — небесного свода… (Всемерное «я» Гёте: «Я вижу в тысячелетиях».) Тема для такого поэта — повод для рождения нового себя, которое не всегда человеческое. Весь их земной путь — череда перевоплощений и не всегда в человека: в камень, цветок, созвездие. Они словно вобрали в себя все дни творения.
Поэты с историей прежде всего поэты воли. Речь не о воле, осуществляющей деяние: никто не усомнится, что такая физическая громада, как «Фауст» или просто поэма в тысячу строк, не может возникнуть сама по себе. Без усилий воли могут возникнуть восемь, шестнадцать, редко двадцать строк — лирический прилив чаще всего приносит к нашим ногам осколки — хотя бы и самые драгоценные. Говорю о воле выбора, о воле — выборе. О решимости не только стать иным, но и именно таким иным. О решимости расстаться с сегодняшним собой. Решить, подобно герою сказки: направо, налево или прямо (но, подобно герою той же сказки, — никогда назад!), Пушкин, проснувшись однажды утром, решает: «Сегодня пишу Моцарта!» Воля выбора Моцарта — отказ от множества других видений и дел, жертва. Поэт с историей отбрасывает все, что не лежит на линии его «стрелы» — его личности, его дара, его истории. Выбирает его непогрешимый инстинкт главного. И после завершения пушкинского пути у нас остается ощущение, что Пушкин не мог не создать того, что создал, и написать то, что он не написал. И никто из нас не жалеет, что он отказался от замысла «Мертвых душ», которые находились на гоголевской генеральной линии. (Поэт с историей имеет еще и ясный взгляд на других. И Пушкин обладал таким взглядом)
Поэт без истории не имеет и четкого стремления к цели. Он, ведь, и сам не знает, что принесет ему лирический прилив. Чистая лирика не имеет волевого замысла. Нельзя заставить себя увидеть такой и именно такой сон, ощутить такое и именно такое чувство. Чистая лирика есть претворение состояния чистого переживания — «перестрадания», а в промежутках творения («пока не требует поэта к священной жертве Аполлон») — при отливах вдохновения — состояние безмерного опустошения. Море ушло, все унесло и до своего часа не вернет. Постоянное ужасающее висение в воздухе на честном слове вероломного вдохновения. А если оно однажды уронит?
Чистая лирика есть лишь запись наших снов и ощущений, плюс мольба, чтоб эти сны и ощущения никогда не иссякли… Если от лирика требовать еще… Но чего еще можно от него требовать?
Лирику не за что ухватиться: у него нет ни костяка темы, ни обязательных часов работы за столом; нет материала, откуда он черпает, которым он занят и даже поглощен в часы отлива; он держится в полном смысле на волоске доверия.
Не ждите жертвы: чистый лирик ничем не жертвует — он рад, когда хоть что-нибудь пришло. Не ожидайте от него морального выбора — что бы ни пришло, «зло» или «добро», — он так счастлив, что вообще пришло, что уж вам (обществу, морали, Богу) ничего не уступит.
Лирику дана воля лишь настолько, чтобы разобраться в дарах прилива.
Чистая лирика — всего лишь запись наших снов и ощущений. Чем лирик больше, тем запись чище.
___________
Пешеход и столпник. Поэт без истории — это столпник, или, что то же, спящий. Что бы ни происходило вокруг его столпа, что бы ни созидали (или разрушали) валы истории, он слышит только свое, видит только свое, знает только свое. (Что бы ни разыгрывалось вокруг — он видит только свои сны.) Иногда это — великий поэт, как Борис Пастернак, но и мелкое, и великое с равной неодолимостью и силой влечет нас в зачарованный круг сна. Мы тоже превращаемся в столпников.
Чужие житейские сны, рассказанные нам, невыразительны и незаразительны, но как неотразимы сны лирические, волнующие нас больше наших собственных!
Уж за горой дремучею Погас вечерний луч. Едва струёй гремучею Сверкает жаркий ключ…Эти строки молодого Лермонтова сильнее всех моих детских снов; и не только детских; и не только моих.
О поэтах без истории можно сказать, что их душа и личность сложились еще в утробе матери. Им не нужно ничего узнавать, усваивать, постигать — они уже всё знают отродясь. Им не нужно ни о чем спрашивать — они являют. Очевидность, опыт для них — ничто.
Если круг их знаний узок — они не выходят из него, если он очень велик — они никогда его не сужают из надобности опыту угодить.
Они пришли в мир не узнавать, а сказать. Сказать то, что уже знают, все, что знают (если это много), единственное, что знают (если это одно).
Они пришли в мир, чтобы дать знать о себе. Чистые лирики, только лирики не допускают в свой мир ничего чужеродного; инстинкт чужого у них так же безошибочен, как у поэтов с историей — инстинкт своей генеральной линии. Весь эмпирический мир для них — чужероден. И поэтому их выбор есть отбор, а вернее — отпор. Отпор всей сущности их натуры, а не воли. И обычно бессознательный. В этом они, как и во многом, — дети. Мир для них: «Не так!» — «Нет, так. Сам знаю! Я лучше знаю!» Что он знает? То, что иначе — невозможно.
Поэты-лирики — антиподы миру, если говорить о мире человеческом: обществе, семье, морали, господствующей церкви, науке, здравом смысле, любом виде власти, — человеческом устройстве вообще, включая и пресловутый «прогресс»). Их стихи и судьбы всегда единое целое.
Для поэтов с историей нет посторонних тем, они сознательные участники мира. Их «я» равно миру. От человеческого до вселенского.
В отличии масштаба мира — отличие гения от лирического гения. Ведь существуют и чисто лирические гении, но их никогда не называют гениями. Замкнутость, обреченность на самого себя нарекается определяется словом лирик. А безграничность и даже безличность гения — отсутствием определения или невозможностью определения вообще. (Всякое определение, придавая точный смысл, ограничивает).
«Я» нельзя назвать гением. Гением может быть «я», облеченное в имя такого-то смертного, взявшее на потребу времени земные приметы. Вспомним, что гений у древних означал высшее и доброе существо, божество, стоящее над (человеком), а не самого человека. Гёте был гений потому, что над ним парил гений. Этот гений вел его и поддерживал до конца восемьдесят третьего года — до последней страницы Второго Фауста. Этот же гений и запечатлелся на его бессмертном лике.
___________
Еще одно и, может быть, простейшее объяснение. Чистая лирика живет чувствами. Чувства всегда те же, у них нет развития, нет логики. Они непоследовательны. Они даны нам сразу все, все чувства, которые когда-либо нам суждено будет испытать, отродясь втиснуты в нашу грудь. Чувство (как и детство — человека, народа, планеты) всегда начинается с максимума, а у великих людей и поэтов на этом максимуме остается. Чувству не нужен повод, оно само повод для всего. Чувство не нуждается в опыте: оно все знает до опыта и лучше. (Всякое чувство еще и предчувствие.) В кого вложена любовь — тот любит, в кого гнев — тот негодует, а в кого обида — тот отродясь обижен. Обидчивость порождает обиду. Чувство не нуждается в опыте, оно заранее знает, что обречено. Чувству нечего делать на периферии опытного, оно — в центре, оно само — центр. Чувству нечего искать на дорогах, оно знает — что придет и приведет — в себя.
Зачарованный круг. Сновидческий круг. Магический круг.
___________
Итак, еще раз:
Мысль — стрела.
Чувство — круг.
Такова сущность чистых лириков, природа чистой лирики. И если нам иной раз кажется, что они развиваются, изменяются, — развиваются и изменяются не они, а лишь их словарь, их языковой арсенал.
Редко кому из чистых лириков сразу даны те слова — его слова! Зачастую от бессловесности они начинают с чужих слов, не с собственных, а с общих (впрочем, именно тогда они и нравятся большинству, которое в них узнает собственную безликость!); и когда они, иной раз довольно быстро, начинают говорить своим языком, нам кажется, что они изменились и выросли. Но это не они выросли, выросло и доросло до «я» его языковое выражение. Ведь даже самый великий музыкант не может выразить себя на детской клавиатуре.
Есть дети, рождающиеся с готовой душой, но нет ребенка, который родился бы с готовой речью. (Был только один — Моцарт.) Чистые лирики буквально учатся говорить, ибо поэтический язык есть физика их творчества, тело их души, а всякое тело подлежит развитию. И тяжелее всего лирику удается найти именно свое слово, а вовсе не свое чувство, поскольку его он имеет от рождения.
Но нет чистого лирика, который бы уже в детстве не дал себя, окончательного себя, рокового себя, который бы не явил всего себя в какой-нибудь строфе из четырех или восьми строк, — строфе, которую потом никогда больше не даст и которая могла бы стать эпиграфом ко всему его творчеству, формулой всей его жизни. Первая строфа, которая могла бы быть и последней (преджизненная, а могла бы быть и предсмертной надписью на надгробной плите).
Таков лермонтовский «Парус». Чистые лирики, в большинстве своем, — дети очень раннего развития (и очень короткого века — жизненного и творческого), вернее сказать, очень ранней проницательности — прозрения своей обреченности на лирику. Чистые лирики — вундеркинды в буквальном смысле слова, с пронзительным ощущением судьбы, то есть себя.
Поэт с историей никогда не знает, что с ним будет. Это знает его гений, который ведет его и открывает ему ровно столько, сколько необходимо для его свободного движения: направление и ближайшую цель, постоянно скрывая главное за поворотом. Чистый лирик всегда знает, что с ним ничего не будет, что у него ничего не будет, кроме себя самого: собственного лирического, трагического переживания.
Сопоставим Пушкина, начавшего с лицейских стихов, и Лермонтова, начавшего с «Паруса». Пушкина в его первых стихах мы совершенно не прозрим, это только гений Державин смог в живом лице, в живом голосе и жесте юноши увидеть будущего гения. А в «Парусе» восемнадцатилетнего Лермонтова — уже весь Лермонтов, Лермонтов волнения, обиды, дуэли, смерти. У юного Пушкина не могло быть такого «Паруса», и вовсе не из-за неразвитости таланта — он был не менее одарен, чем Лермонтов. Просто Пушкин, как всякий поэт с историей, как и сама история, начал с самого начала и всю свою жизнь провел im Werden (в становлении), а Лермонтов сразу — был. Пушкину, чтобы открыть себя, потребовалось прожить не одну жизнь, а сто. Лермонтову же, чтобы открыть себя, нужно было только родиться.
Из моих современников назову троих — по совершенству их лирической особости: Анну Ахматову, Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака, поэтов, родившихся сразу с собственным словарем и максимальной оригинальностью.
Когда молодая Ахматова в первых стихах своей первой книги дает любовное смятение строками:
Я на правую руку надела Перчатку с левой руки, —она одним толчком дает все женское и все лирическое смятение, — всю эмпирику! — одним росчерком пера запечатлевает исконный нервный жест женщины и поэта, когда в великие мгновенья жизни забывают, где правая и где левая — не только перчатка, а и рука, и страна света, теряющие вдруг всю выверенность. Посредством очевидности, поразительной точности деталей символизируется не просто душевное состояние — целый душевный строй. (Поэт, когда он выпускает перо, а женщина — руку любимого человека, действительно не знают, где правая, а где левая рука…) Две ахматовские строки, как камень, брошенный в воду, порождают широкие ассоциации, расходящиеся кругами по воде. В этом двустишии — вся женщина, весь поэт и вся Ахматова в своей единственности и неповторимости, которой невозможно подражать. До Ахматовой никто у нас так не дал жест. И никто после нее. (Разумеется, Ахматова нисколько не исчерпывается этим жестом; но дает одну из характернейших ее примет.) «Уже или еще?» — спросила я в 1916 году об Ахматовой, начавшей в 1912-м тем же кувшином из того же моря. Сегодня, семнадцать лет спустя, вижу, что тогда, сама того не ведая, она дала формулу своей лирической неизменности. Вслушаемся в образ: он имеет глубину. Вглядимся в движение: оно создает округлость. Округлость исчерпывающего жеста, по самой своей сущности глубокого. Кувшин. Море. Вместе они создают объемность. Возможно, сегодня, через семнадцать лет, я бы сказала: тем же ведром из того же колодца, ставя точность образа выше его красоты. Но сущность его осталась бы прежней. Привожу это как еще один пример лирической неизменности.
Мне никогда не приходилось слышать, чтобы об Ахматовой — или о Пастернаке — кто-нибудь сказал: «Всегда одно и то же! надоело!» — как нельзя сказать: «Всегда одно и то же» — о море, которое, по словам того же Пастернака:
Приедается все, лишь тебе не дано примелькаться, Дни проходят, и годы проходят, и тысячи, тысячи лет…Ибо и Ахматова, и Пастернак черпают не с поверхности моря (сердца), а со дна его (бездонного). Они точно так же не могут наскучить, как не может наскучить состояние сна, всегда одно и то же, но со всегда другим сновидениями. Как не может наскучить и самое сон.
Когда подходишь к явлению, надо знать, чего от него можно ожидать. И ожидать от него — именно его самого, того, что составляет его сущность. Когда подходишь к морю (и к лирику), то идешь за тем же впечатлением, а не за новым, за повторением, а не за продолжением. Поэта-лирика, как и море, даже если его книгу раскрываешь в первый раз, непременно перечитываешь, в то время как реку, что течет вдаль, как и Пушкина, что идет вдаль, даже если ты родился на их берегах, всегда читаешь дальше. Это — различие между приходящим-уходящим, широким, усыпляющим лирическим морским движением и продольным, невозвратным — речным. Разность пребывания и прохождения. Реку любишь за то, что она всегда другая, море — за то, что оно всегда то же. Если хочешь новизны — селись у реки.
Лирика, как и море, сама приходит в волнение, сама успокаивается, сама в себе свершается. Не зря Гераклит, сказавши: «Никто еще дважды не ступал в одну и ту же реку», взял символом течения не море, которое каждый день видел перед собой и знал, а — реку.
Когда идешь к морю и к лирику, жаждешь не невозвратности течения, а именно возвратности волн; не неповторимости мгновенья и непреходящего, а именно повторяемости морских и лирических непредвиденностей, неизменности смен и перемен, неминуемости собственного изумления ими.
Обновление! Вот в чем власть лириков над нами, могущество, на котором держится все богослужение, все колдовство, все чары, все вызовы, все проклятия, все союзы человеческие и нечеловеческие. Даже мертвые встают из могил.
Кто может сказать великому и истинному: будь иным!
Будь! — вот наши безмолвные мольбы.
Поэту с историей мы говорим: «Смотри дальше!» Поэту без истории: «Ныряй глубже». Первому: «Дальше!» Второму: «Еще!»
И если иные поэты покажутся нам скучными своей монотонностью, то от недостатка глубины, от мелкости (или усыхания) образа, а не оттого, что образ — один и тот же. (Высохшее море — уже не море.) Если поэт наскучивает нам своим однообразием, берусь доказать, что это — не великий поэт, не великий образ. Если мы блюдце приняли за море — это не вина блюдца.
Сама лирика, при всей обреченности на самое себя, неисчерпаема. (Может быть, лучшая формула лирики и лирической сущности: обреченность на неисчерпаемость!) Чем больше черпаешь, тем больше остается. Потому-то она никогда не исчезает. Потому-то мы с такой жадностью бросаемся на каждого нового лирика: а вдруг душа, и ею утолим нашу? Словно все они опаивают нас горькой, соленой, зеленой морской водой, а мы каждый раз верим, что это — питьевая вода. А она снова — горькая! (Ведь структура моря, структура крови и структура лирики — одна и та же.)
А со скучными поэтами — то же, что и со скучными людьми: надоедает не однообразие, а тождественность ничтожного, хотя бы и весьма разнообразного. Как убийственно одинаковы, при всей разноголосости, газеты на столе, как убийственно одинаковы, при всем разнообразии, парижанки на улицах! Словно все это: рекламы, газеты и парижанки — не разное, а одно. На всех перекрестках, во всех лавках, трамваях, на всех аукционах и во всех концертных залах — им несть числа, но сколько бы их ни было, а все — одно! И это одно — всé!
Надоедает, когда вместо человеческого лица видишь нечто худшее маски: слепок массового производства безликости: ассигнации без никакого золотого обеспечения! Когда вместо собственных слов — пусть совсем нескладных, звучат чужие — какие угодно блестящие (которые, впрочем, тут же теряют свой блеск — как шерсть мертвого зверя). Надоедает слышать из уст собеседника не его, а чужие слова. Более того, если вам наскучило повторение, то знайте, что слова эти наверняка чужие, не сотворенные, а повторенные. Ибо человек не может повторить себя. Повторить себя в словах невозможно; любая же, самая малая, перемена речи — уже не повторение, а преображение, за которым стоит другая суть. Даже когда человек старается повторить собственную, уже высказанную мысль, он всякий раз невольно делает это иначе; а стоит ему лишь чуть изменить ее, как он говорит уже новое. Разве что выучит наизусть. Когда поэт явно «повторяется», это означает, что он отделился от своего творческого «я», что он обкрадывает себя, как чужого.
Обновление как стержень лирики — это не обновление своих или чужих снов и образов, а лишь возвращение лирических волн при неизменной лирической сущности.
Волна всегда возвращается, и возвращается всегда иною.
С той же водой — другая волна.
Важно, что волна.
Важно, что вернется.
Важно, что вернется всегда иною.
Самое же важное из всего: какою бы иной она ни вернулась, она всегда вернется — морской.
Что такое волна? Структура и мускул. То же и в лирике.
Возобновление не есть повторение. Возобновление заложено в природе самих вещей, в основе самой природы. При возобновлении данных форм деревьев ни один дуб не повторяет соседнего, а на одном и том же дубу ни один лист не повторяет другого. Возобновление в природе — это создание такого же, но не того же самого; подобного, но не тождественного; нового, а не старого; создание, а не повторение.
Каждый новый лист есть очередная вариация на вечном стволе дуба. Возобновление в природе есть бесконечное варьирование единой темы.
В природе нет повторения: оно вне природы и, значит, вне творчества. В этом все дело. Повторяет только машина; у «поэтов, которые повторяют», машина памяти отделяется от творческих источников и становится чистым механизмом. Повторение есть чисто механическое воспроизведение неизбежно чужого, хотя бы и своего собственного. Ибо, выучив наизусть свою собственную мысль, я повторяю ее как чужую, без участия творческого начала.
Творческой, то есть моей, может быть только интонация, то есть чувство, с которым я произношу ее и меняю ее словесную форму, языковое и смысловое соседство, в которое ее ставлю. Но когда, например, я пишу на белом листке голую формулу, которую когда-то нашла: Etre vaut mieux qu’avoir (лучше быть, чем иметь), я повторяю формулу, которая так же не принадлежит мне, как любая алгебраическая формула. Вещь можно создать только однажды.
Самоповторение, то есть самоподражание, — акт чисто внешний. Природа, создавая очередной лист, не берет за образец уже существующие, сотворенные ею листы, потому что весь облик будущего листа заключен в ней самой; она творит без образцов. Бог создал человека по своему образу и подобию, но не повторяя себя.
Всякое поэтическое самоповторение и самоподражание — прежде всего подражание форме. Крадут у себя или у соседа некий вид стиха, те или другие обороты, те или иные образы — все вплоть до темы (так у Пастернака, например, все крадут дождь, который никто, кроме него единственного, не любит и который никому, кроме него единственного, не служит). Сущность же (свою или чужую) никому украсть не дано. Ибо сущности подражать нельзя. Поэтому все подражательные стихи мертвы. А если не мертвы и волнуют нас живой тревогой, тогда это не подражание, а превращение. Подражать, значит — уничтожить, во всяком случае — разрушить вещь, чтобы увидеть, как она сделана, украсть из нее тайну ее жизни — и восстановить заново все, кроме жизни.
II
Есть поэты, которые начинают с минимума и завершают максимумом, а есть такие, которые, начав с максимума, кончают минимумом (усыхание творческой жилы). А есть и такие, которые, начав с максимума, на этом максимуме держатся до последней строки. Из наших современников это — уже упомянутые Пастернак и Ахматова. Они никогда не давали ни больше, ни меньше, всегда оставаясь на максимуме самовыражения. Если путь одних есть путь самораскрытия, то в таком случае у них вообще нет пути. Они отродясь здесь. Их детский лепет уже данность, а не источник.
Звук осторожный и глухой Плода, сорвавшегося с древа, Среди немолчного напева Глубокой тишины лесной, —четверостишие семнадцатилетнего О. Мандельштама, где весь словарь и весь размер зрелого Мандельштама. Автоформула.
Что в первую очередь коснулось уха этого лирика? Звук падающего яблока, акустическое видение округлости. Что здесь от семнадцатилетия? Ничего. А что от Мандельштама? Все. И в первую очередь эта зрелость падающего плода. Эта строфа есть тот самый падающий плод, который дал поэт и от которого, как и от двустишия Ахматовой, рождаются необыкновенно широкие круги ассоциаций. Круглое и теплое, круглое и холодное, августовское — Августово (имперское), Парисово (греческое), Адамово (горловое) — все это дарит Мандельштам воображению читателя в одной-единственной строфе. (Ассоциативная мощь лириков!) Характерная примета лирика: давая это яблоко, поэт не назвал его своим именем. Но, в каком-то смысле, он от этого яблока никуда не ушел.
Кто может рассказать о поэтическом пути (беру самых великих и бесспорных лириков) Гейне, Байрона, Шелли, Верлена, Лермонтова? Они заполонили мир своими чувствами, воплями, вздохами и видениями, залили его своими слезами, воспламенили со всех четырех сторон своим негодованием…
Учимся ли мы у них? Нет. Мы из-за них и за них страдаем.
Так на мой русский лад перекраивается французская пословица: Les heureux n’ont pas d’histoire.[113]
Исключение — чистый лирик, у которого были, однако, и развитие, и история, и путь, — Александр Блок. Но, сказав «развитие», вижу, что это неверное представление, и слово, противоречащее сущности и судьбе Блока. Развитие предполагает гармонию. Может ли быть развитие — катастрофическим? И может ли быть гармония там, где налицо полный разрыв души? И вот, не для игры слов, строго их выверяя, утверждаю: Блок на всем своем поэтического пути не развивался, а разрывался.
О Блоке можно сказать, что он от одного себя пытался уйти к какому-то другому себе. От одного, который его мучил, к другому, который мучил его еще больше. Что характерно, Блок тем самым надеялся уйти от самого себя. Так смертельно раненный человек в страхе бежит от раны, так больной мечется из страны в страну, потом из комнаты в комнату и, наконец, с одного бока на другой.
Если Блок нам видится как поэт с историей, то эта история — лично его, Блока, История лирического поэта, лирика страдания. Если Блок нам видится поэтом, имевшим путь, то этот путь — лишь бегство по кругу от самого себя.
Остановиться, чтобы перевести дух.
И войти в дом, чтобы снова встретить там себя самого!
Разница лишь в том, что Блок с рождения побежал, в то время как другие оставались на месте.
Только однажды Блоку удалось убежать от себя — на жестокую улицу Революции. Это был соскок умирающего с постели, бегство от смерти — на улицу, которая его не заметила, в толпу, которая его растоптала. В обессиленную физически и надорванную духовно личность Блока ворвалась стихия Революции со своими песнями и разрушила его тело. Не забудем, что последнее слово «Двенадцати» Христос, — одно из первых слов Блока.
Таковы история, развитие и путь этого чистого лирика.
III
Думаю, что я уже ответила на начальный вопрос о Борисе Пастернаке, который повторю и здесь: чем может быть лирическое творчество двух таких десятилетий — 1912–1932?
Необходимые факты биографии: с 1914 года Б. Пастернак уезжал из России лишь однажды, на два месяца; таким образом, все годы войны, Революции и строительства он провел в самом горниле под молотом событий. Начнем сначала, от Б. Пастернака почти мальчика, еще до войны.
Когда за лиры лабиринт Поэты взор вперят, Налево развернется Инд, Правей пойдет Евфрат, А посреди меж сим и тем Со страшной простотой Легенде ведомый Эдем Взовьет свой ствольный строй. Он вырастет над пришлецом И прошумит: мой сын! Я историческим лицом Вошел в семью лесин.Взгляните: на пороге жизни стоит юноша. Что он видит? Куда смотрит? Какая личная и мировая история открывается перед ним?
Тигр — Евфрат, а посредине Эдем — и он, входящий в этот Эдем, который для него не миф, не исторический объект реальной истории: рая, природы, земли, где все было — всегда. Первый шаг юноши Пастернака был шаг — назад, в рай, в глубину. В тот самый рай, который, по Андерсену, есть не что иное, как сад Эдема, ушедший целиком, как был, и со всем, что в нем было, под землю, где цветет и поныне и будет цвести во веки веков.
Пастернак, как родился, так и исчез с поверхности событий (происходящего): пропал. И как бы он потом, десятилетие спустя, не старался стать хотя бы последней спицей в колеснице другой, собственно человеческой истории, хотя бы песчинкой под ее жерновами, изнанка истории, в буквальном смысле, становится для него лицом ее в стране дубов и верб.
Круг, в котором Б. Пастернак замкнулся, или который охватил, или в котором растворился, — огромен. Это — природа. Его грудь заполнена природой до предела. Кажется, уже с первым своим вздохом он вдохнул, втянул ее всю — и вдруг захлебнулся ею. Всю последующую жизнь с каждым новым стихом (дыханием) он выдыхает ее, но никогда не выдохнет. Его стихи всегда подобны взрыву, но — как бы это лучше сказать? — взрыву растительному. Так верба с набухшими зелеными почками имеет отдаленную аналогию со взрывом зеленых паров природы. Тот мой читатель, которому случалось когда-нибудь быть весной на холмах чешской Праги, окруженных вербами, поймет меня. У Пастернака, как у весны, взрывается весь паровой котел природы — и весь лирический котел.
Вот его определение поэзии 1917 года:
Это — круто налившийся свист, Это — щелканье сдавленных льдинок, Это — ночь, леденящая лист. Это — двух соловьев поединок…А следующие строки я назвала бы: объем поэзии:
Но чем его песня полней — Тем полночь над нею просторней, Тем глубже отдача корней. Когда она бьется об корни…Трудно на пятистах пастернаковских страницах выделить природу, гораздо легче выделить неприроду; впрочем, сомневаюсь, что на этих его пятистах страницах могла бы найтись хотя бы одна — без растения, без животного, без какого-нибудь напоминания о природе, видения ее, определения ее. От ископаемых мамонтов, с которыми он сравнивает влюбленного поэта:
Любимая! Жуть! Когда любит поэт — Влюбляется бог неприкаянный! И хаос опять выползает на свет, Как во времена ископаемых, —от природы, с которой он лицом к лицу (и которая — вся в нем), до будничной, подножной природы, которую во всей ее деятельности и во всех ее подробностях могут видеть только малые дети по причине своего малого роста и которую, вырастая, перестают видеть навсегда, — вся книга Пастернака — природа.
_________
Когда я утверждаю, что Борис Пастернак прежде всего поэт природы, я не имею в виду природу, наличествующую в творчестве любого лирика.
Это не тот непременный общий лирический фон, на котором даются столь же общие лирические чувства: грусть, обида, любовь, воспоминания — чувства, отличающиеся одно от другого лишь степенью все той же общей интонации. Это не общее место лирики на общем месте природы. Это не общее (пусть и доходящее до величия) место природы в поэзии Виктора Гюго; это не чувство грусти вообще «Озера» Ламартина. Но это и не призрачная аллегория Гейне, величайшего лирика, у которого роза неминуемо означает девушку, а сосна — юношу, притом непременно — поэта, юношу-поэта вообще, который тоскует о пальме, олицетворяющей собою человеческое существо, юное и женственное; и грусть сосны всегда приобретает характер общечеловеческой тоски. Это не отпечаток природы на неизменном лице лирики. Но это и не однообразная и монотонная эгоцентрическая природа романтиков, где всё непохоже на себя, где всё и вся похожи на героя, а все герои — один на другого, и все на одно лицо — лицо романтика. Не принадлежит Пастернак и к тем поэтам, что высятся романтическим утесом и водопадом низвергаются оттуда в бездну своей собственной души. Это не море, которое есть сам Лермонтов, с летящим парусом (все тем же Лермонтовым). Это и не пушкинский «Анчар», «древо смерти», где дерево — лишь повод для изображения человеческой жестокости. Это и не природа Алексея Толстого с его ощущением мира:
Благословляю вас, леса, Долины, горы, нивы, воды, —строки, прекрасно передающие восприятие мира поэтом, но ни в коей мере не рисующие ни леса, ни долины, ни нивы и служащие здесь мерой наполненности души поэта, выражением его душевного состояния. Это и не одухотворенная природа Тютчева:
Не то, что мните вы, природа, Не слепок, не бездушный лик: В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык.Но что это за душа, любовь, язык? Из тютчевских строк мы этого не узнáем; узнáем мы только душу, любовь и язык — самого Тютчева. Это и не природа, воспроизведенная прозаиком: увиденная глазами крестьянина, охотника, горца, постигнутая толстовским зрением (прибавим к этому: и гениальностью).
И это не совсем другая природа живописания, чарующая природа Гоголя, где вдруг разлилась и засверкала всеми красками его языковая палитра. Это не колдовская власть слова над нами, это не «чуден Днепр при тихой погоде», что с самого начала очаровывает нас словами, звучанием слов, слышится нам шумом самого Днепра вопреки спокойствию его течения, о котором нам говорят эти слова и ради чего они и написаны. Это не колдовская сила слова над нами. (Гоголевский Днепр, как и лермонтовское «Уж над горой дремучею…», — формы чистейшей поэтической магии, это волшебство поэзии в чистом виде, где ни одна вещь не похожа на себя, где, согласно народной поговорке, «и вода не вода, и земля не земля», где магический Днепр и магический Тифлис, где слова Тифлис и Днепр приобретают новую, необычную наполненность: наполненность не собою, а зачарованностью.)
Наконец, — хотя это и более близко к лирике Пастернака — но все же недостаточно близко, — это не природопоклонство Ницше и его более ранней предшественницы Беттины, где Бог отождествлен с Солнцем, от прикосновения которого чело становится — освященным.
Но здесь — остановимся, ибо, сколько бы мы ни перечисляли поэтов и прозаиков, их природа никогда не будет тождественна природе Пастернака. Ибо пастернаковская природа — единственна в своем роде.
Это не основа вещей.
Это не «он» (автор).
И не «она» (объект).
И даже не «оно» (божество).
Пастернаковская природа — только собственно она и ничто другое. Она — сама — и есть действующее лицо.
До Пастернака природа давалась через человека. У Пастернака природа — без человека, человек присутствует в ней лишь постольку, поскольку она выражена его, человека, словами. Всякий поэт может отождествить себя, скажем, с деревом. Пастернак себя деревом — ощущает. Природа словно превратила его в дерево, сделала его деревом, чтобы его человеческий ствол шумел на ее, природы, лад. Если принять за исходное слова Паскаля, что человек — это «мыслящий тростник», то Пастернак — не тростник, который мыслит, во всяком случае, его тростник мыслит не по-человечески.
Цельность существования природы дает неотторжимость ее от пастернаковской поэзии. Пастернак уникален и беспримерен в своем предпочтении природы — всему (о чем я скажу в свое время) и, стало быть, в этой природе он не может предпочитать что-нибудь одно в ущерб другому, — а это означает, что природа для него существует только вся, целиком, без изъятия.
Этим объясняется и то, что природа у Пастернака — действующее лицо. Действует не он, а она. Сама она. Само-деятельность. Вывожу это из многочисленных примеров. Отсюда — и самоценность природы в творчестве Пастернака. Природа у него — не повод, а цель. Самоцель.
И, наконец, особенность его ощущения природы диктует постоянство ее присутствия в творчестве. Для Пастернака характерно не просто пребывание в природе, а категорическая невозможность какого бы то ни было, пусть даже малейшего, отсутствия его в ней. Ни человек не может так пребывать в природе, ни природа — в человеке; так природа может пребывать только в себе самой. Самопребывание.
Из сего явствует, что Пастернак был сотворен не на седьмой день (когда мир после того, как был создан человек, распался на «я» и все прочее), а раньше, когда создавалась природа. А то, что он родился человеком, есть чистое недоразумение. И все его творчество — лишь исправление этой, счастливой для нас и роковой для него, ошибки природы. Подобно тому, как природа по ошибке может дать человеку не тот пол, здесь произошла явная ошибка в облике. Ибо даже тогда, когда Пастернак говорит о себе и для себя, — это всего лишь голос в хоре природы, на равной ноге с любым другим ее голосом. Он всегда сосуществует, никогда не выделяется. Как равный, а не как высший. Так, например, куст может шелестеть о своих мелких личных заботах. А дуб рядом с ним шумит о своей, дубовой, радости. А все вместе — лес. Хор.
О чем бы ни говорил Пастернак: о своем личном, притом сугубо человеческом, о женщине, о здании, о происшествии, — это всегда природа, возвращение вещей в ее лоно.
Он одинок только среди людей — одинок не как человек, а как не-человек.
После всего этого говорить о любви Пастернака к природе — просто нелепо. Любовь — это наше отстранение от вещей, а в лучшем случае — уничтожение этой дистанции, то есть слияние. Возьмем самый человеческий пример — материнство. Ни одна мать сама себе не скажет, что любит своего ребенка, очень любит, любит больше всего на свете, любит одного его и пр. А если и скажет, то только другим. Потому что она его больше чем любит. Она — это он, а он — это она. Так и у Пастернака с природой. Любить природу — значит признать, что ты — вне ее. Поскольку Пастернак в ней, то она с ним — одно целое, и он не может ее «любить». Можно сказать, что он дает дерево не сердцем, а — сердцевиной. Потому нам и кажется, что он не умеет говорить, что он говорит не как человек. Лучше всего было бы, если бы мы наконец поняли, что он говорит не о людских делах.
Лирическое «я», которое есть самоцель всех лириков, у Пастернака служит его природному (морскому, степному, небесному, горному) «я», — всем бесчисленным «я» природы. Эти бесчисленные «я» природы и составляют его лирическое «я». Лирическое «я» Пастернака есть тот, идущий из земли, стебель живого тростника, по которому струится сок и, струясь, рождает звук. Звук Пастернака — это звук животворных соков всех растений. Его лирическое «я» — питающая артерия, которая разносит повсюду зеленую кровь природы. Последнее «я» Пастернака — не личное, не людское, это — кровь червя, соль волны. Потому-то он — самый удивительный из всех лириков.
Давай ронять слова, Как сад — янтарь и цедру, Рассеянно и щедро — Едва — едва — едва…IV
Весна, я с улицы, где тополь удивлен, Где даль пугается, где дом упасть боится, Где воздух синь, как узелок с бельем У выписавшегося из больницы.Удивлен — пугается — боится?.. Кто?.. Больной, что зимой выходит из больницы? Сам поэт, выходящий зимой из больницы? Нет, тополь, дом, даль — и, в них и через них, Пастернак. Тополь, удивляющийся внезапно возникшей дали, дома, словно пугающиеся крутизны и падающие, лишенные своих снежных подпорок. А узелок с бельем — у больного, выписавшегося из больницы? Нет, сам воздух, чистый, вымытый, залитый весенней синью. (И — картина больничных халатов на веревке над лужей, развевающихся, плещущихся.) А все вместе — образ спотыкающегося от немощи и счастья — «я».
Вот еще образец самодеятельной природы:
А затем прощалось лето С полустанком. Снявши шапку, Сто слепящих фотографий Ночью снял на память гром.Каково самое первое впечатление от этого четверостишия? Беспрестанное скрещивание молний, что в народе, не знаю почему, так чудесно и убедительно называют «воробьиной ночью». И опять-таки: кто это прощается? Поэт с полустанком? Нет, само лето. Кто, снявши шапку, щелкает затвором аппарата? Телеграфист на станции? Сам поэт? Нет, гораздо больше и сильнее — гром! Последний гром струящегося русского лета.
«В 1865 году неподалеку от Луары гром ударил в работника, который спрятался от непогоды под грушей. Когда его, без сознания, принесли домой, то заметили поразительную вещь: на его груди отпечаталась ветка груши» (Гастон Тисандье. «Научные беседы», глава «Действие молнии»).
Из чего следует, что гром действительно может сделать отпечаток. Что все «фантазии» и все «вольности» великого поэта — всего лишь подтверждение законов природы, неведомых обычному человеку. А в пастернаковском четверостишии мы увидели еще больше, а именно: самого поэта, лежащего ничком под деревом, с веткой, оттиснутой на груди с рождения и навек. Все поэты от рождения меченые. Эта отметина — пастернаковская.
Такова вся книга. В ней все необычайно. Как у ребенка: река купается, куст наслаждается тенью… Очеловечение природы? Но кто поручится, что река в самом деле не купается в самой себе, а куст не наслаждается собственной тенью, что дорога и впрямь не уходит сама от себя? Ведь у всех народов дорога «идет» или «уходит». И кто из нас, возвращаясь ночью по знакомой тропе или по незнакомой окраинной улице, не ощущал, что его с обеих сторон в самом деле провожают деревья, и кто из нас, покидая милое сердцу место, не чувствовал, что деревья и впрямь провожают нас («смотри, мама, дерево побежало»), машут, бегут, отстают. Только у детей и у народов с наивным эгоцентризмом самодеятельность природы обращена на человека, у Пастернака же эгоцентризм природы обращен на самое себя.
_________
Вот, без единого личного напоминания, полдень Пастернака:
Текли лучи. Текли жуки с отливом. Стекло стрекоз сновало по щекам. Был полон лес мерцаньем кропотливым, Как под щипцами у часовщика. Казалось, он уснул под стук цифири, Меж тем как выше, в терпком янтаре, Испытаннейшие часы в эфире Переставляют, сверив по жаре.Тут жук-рогач с отливом, отблеск стрекоз на щеке человека, залитой золотом. И все это течет. Все это — жук-рогач, стрекоза, щека — едино и равно, с одним и тем же правом живого и божественного. Говоря словами другого поэта:
Всё во мне, и я во всем.Вот земная любовь, которую Пастернак дал в ее самом томительном, но и самом притягательном выражении — поцелуе:
Поцелуй был, как лето. Он медлил и медлил. Лишь потом разражалась гроза. Пил, как птицы. Тянул до потери сознания…До такой чистоты: дать поцелуй птицы, что пьет из водомоины после дождя, до такой чистоты, красоты и точности не доходил еще никто. А вот в одной строке — образ всей поэзии:
Тетрадь подставлена — струись!Это «струись» сразу же переносит нас к единственному предпочтению Пастернака в природе: к дождю. (Можно сказать, что Пастернак в природе предпочитает все, но дождь — больше всего!) Дождем и пастернаковскими слезами буквально затоплена вся книга. Небо у него — мало сказать, плачет слезами. Оно разражается плачем. Его небо — большой ребенок. Как и сам Пастернак. Ибо пастернаковский исключительный, поразительный, единоличный культ дождя — самый обычный для детей культ. Каждый ребенок — дождепоклонник. И если он плачет из-за дождя, то лишь потому, что его на этот дождь не пускают. Пастернак же, как уйдет под дождь, так никогда бы и не возвращался.
Вот как он передает ощущения ветки под дождем:
Ты в ветре, веткой пробующем, Не время ль птицам петь, Намокшая воробышком, Сиреневая ветвь.А вот что бывает на дожде с цветком — с цветочной чашечкой:
Душистою веткою машучи, Впивая впотьмах это благо, Бежала на чашечку с чашечки Грозой одуренная влага… На чашечку с чашечки скатываясь, Скользнула по двум — и в обеих Огромною каплей агатовою Повисла, сверкает, робеет.А вот как показан дождь, весенний дождь в один из первых дней Революции:
Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил! Лак экипажей, деревьев трепет… …………………………………….. Лужи на камне. Как полное слез Горло — глубокие розы, в жгучих, Влажных алмазах. Мокрый нахлест Счастья — на них, на ресницах, на тучах…Вот как сказано о послегрозовых испарениях земли:
Гроза, как жрец, сожгла сирень И дымом жертвенным застлала Глаза и тучи…И, в противоположность торжественности жреца, — самое скромное явление:
Всё, как стираный передник, Туча сохнет и лепечет.И совершенно потрясающая картина предгрозовой пыльной дороги:
Накрапывало, — но не гнулись И травы в грозовом мешке. Лишь пыль глотала дождь в пилюлях, Железо в тихом порошке. Селенье не ждало целенья, Был мак, как обморок, глубок…А вот и конец дождя:
И вдруг пахнуло выпиской Из тысячи больниц.Даже умывальный таз преображается у поэта в альпийский ручей:
Я умолял приблизить час, Когда за окнами у Вас Нагорным ледником Бушует умывальный таз…Можно сказать, что у книги Пастернака глаза постоянно на мокром месте. Так порой бывает в горах: идешь по тропинке, через несколько шагов натыкаешься на ручеек, идешь вдоль него, перепрыгиваешь его, сворачиваешь — и внезапно тебе на голову обрушивается поток. Подземная вода альпийских стремнин.
Толковать же пастернаковские слезы, живой дождь его лица, трудно. Пастернак плачет обо всем; всякое нахлынувшее чувство вызывает у него слезы.
Это не скупые мужские слезы — с датой и адресом («последний раз я плакал тогда-то и тогда-то о том-то и том-то»), слезы, которых стыдятся, которые скрывают и которые, стыдясь и скрывая, именно за их редкость ценят на вес золота; это не умышленные, сосчитанные злые мужские слезы, которые, во всяком случае, помнят и запоминают навсегда.
Но это и не женские слезы — прежде и больше всего слезы слабости (что нисколько не уменьшает их болезненности!), это не извечные слезы женской беспомощности, обиды, угнетенности, напрасных страданий. Нет, это не слезы унижения и обиды.
Но это и не людские слезы вообще, о которых другой русский поэт сказал:
Слезы людские, о слезы людские, Льетесь вы ранней и поздней порой, Льетесь безвестные, льетесь незримые, Неистощимые, неисчислимые, Льетесь, как льются струи дождевые В осень глухую, порою ночной.Слезы Пастернака — это выражение силы: силы его чувств, — избыток жизни, находящий выход в слезах и строфах, кипящий, как котел страстей. Можно сказать, что когда Пастернаку лучше всего, когда он сильнее всего, когда он — в наибольшей степени — он, тогда он плачет:
И сады, и пруды, и ограды, И кипящие белыми воплями Мирозданья — лишь страсти разряды, Человеческим сердцем накопленной.То же — и о ливне.
Ни женские, ни мужские — лирические. Слезы Пастернака суть лирические разливы, которыми жива лирика.
_________
Я подробнее всего говорила о дожде и зелени у Пастернака. Пусть мой братский сербский читатель поверит мне на слово, что с тою же страстью он изображает и солнце, и ветер, и снег — все стихии от бушующей ноябрьской метели до цветной апрельской — все времена года и дня, все события и состояния природы, всю ее физику и психику, все климатические пояса души и планеты — от вечного льда бессмертия до живой суши страсти, а чего нет в его книге, того нет и в природе. (А чего в природе — нет?) При самом тщательном геологическом, географическом изучении вы не смогли бы найти здесь ни одного пропуска. Все в наличии. И это все и есть лицо Пастернака.
Но об одной специфической особенности пастернаковского пребывания в природе я должна сказать особо. Я имею в виду его пребывание — в погоде. Думаю, что важнейшее событие души в жизни Пастернака при окончательном суммировании мук и радостей — это погода, утренний быстрый взгляд в окно, а до этого — настороженный слух: «Ну что, как там?» И что бы «там» ни было: дождь, солнце, метель или просто хмурый день, который народ дивно зовет «святым», Пастернак уже заранее счастлив, действительно счастлив. Вот кому и впрямь легко угодить Господу! Ибо во всей книге нет ни единого сетования ни на зной, ни на холод, ни на грязь — и какую грязь! И если в одном из стихотворений он без конца мочит в ведре с водой полотенце, которое тут же нагревается на его лбу, или в другом, в других — закутывается шарфом, то речь идет о такой жаре, от которой собаки бесятся, и таком морозе, на котором собаки (слезами) плачут; для поэта же и ныряние в ведро, и закутывание в шарф — величайшее блаженство. Этим своим пребыванием в Погоде он напоминает только одно: Пруста (которого вообще во многом напоминает), посвятившего этой ежедневной погоде, феномену ежедневной погоды за окном и в комнате одну из незабываемых глав своего бессмертного произведения.
Творчество Пастернака — это прежде всего и после всего лирическая метеорология и метеорологическая лирика.
Ибо, когда Пастернак говорит, мы чувствуем, что он говорит не только о важнейшем событии своей жизни, но и нашей. Так может говорить только влюбленный — и летописец.
Если иной раз Пастернак, погрузившись в писание, то есть в сон, из этого сна спросит детей: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» — то хорошая ли погода — об этом он не спросит никогда, и только еще через пятьсот лет мы, возможно, это от него узнаем. 1917 год Россия не забудет, и не только из-за Керенского (который, кстати, был удостоен одного из прекраснейших пастернаковских ливней, — не оставившем на нем сухой нитки!).
А какое, по Пастернаку, наступает историческое двадцатилетие? Во-первых, необычайное по своей метеорологии. Постоянные дожди, постоянные метели, постоянные ураганы, жары, наводнения… Книга Пастернака — это прежде всего некая метеорологическая Революция. Если сумму всех этих природных явлений распределить по дням, то на каждый день этих двух десятилетий на одну и ту же точку земного шара придется по крайней мере четыре бури, три метели, два наводнения и один ураган. Природа или, вернее, погода в книге Пастернака не поскупилась. За двадцать лет в пастернаковской книге пролилось больше ливней, чем за двести лет, разлилось больше рек, чем в долине Миссури, родилось больше месяцев, чем за все время существования Персии, и расцвело больше деревьев, чем в Эдеме…
Последнее слово прямо приводит нас к Творцу из Эдема, и самого Пастернака.
Ты спросишь, кто велит, Чтоб август был велик, Кому ничто не мелко, Кто погружен в отделку Кленового листа И с дней Экклезиаста Не покидал поста За резкой алебастра. Ты спросишь, кто велит, Чтоб август был велик, Чтоб губы астр и далий, Осенние, страдали? Чтоб мелкий лист ракит С седых кариатид Слетал на седость плит Осенних госпиталей? Ты спросишь — кто велит? Всесильный Бог деталей, Всесильный Бог любви, Ягайлов и Ядвиг.Так Пастернак отвечает на вопрос: Бог.
V
Но будем честными. Постараемся объяснить следующее: Да, природа. Погода. А «Лейтенант Шмидт»? А весь «Потемкин»? А весь «Девятьсот пятый год»? Стихи с явной темой, притом чисто гражданской. А все страдания России? А все радование новому миру? А все революционные и социалистические признания, наконец?
Нельзя представить себе человека, знакомого с бурей в природе и никак не откликнувшегося на нее в жизни. (А тем более спрятавшегося от нее под подушку!) Поскольку революция есть стихия, Пастернак откликнулся на нее сразу. Но как откликнулся? В этом все дело.
Но моросило, и топчась Шли пыльным рынком тучи, Как рекруты, за хутор, поутру. Брели не час, не век — Как пленные австрийцы, Как тихий хрип, Как хрип: Испить, сестрица!Это — его первый отклик на войну. В тучах он видит рекрутов, а в шорохе мокрых деревьев ему слышатся стоны пленных.
Нашу родину буря сожгла. Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?Это его первый отклик на Революцию. А вот картина степи в Революцию:
Она, туманная, взвилась Революцьонною копной… —и дальше — о самом воздухе степи (и, конечно, о самом себе):
Он чует, он впивает дух Солдатских бунтов и зарниц, Он замер, обращаясь в слух… Ложится, слышит: Обернись.Это пока 1917 год. Дальше — больше. Дальше — весь «Матрос в Москве», который в маловодную семихолмную Москву влил целых два моря: морское и революционное, да еще и третье разливанное, поскольку матрос пьян — как матрос в гавани, так пьян, что угловой дом принимает за свой корабль. Матрос, по великодушному выражению Пастернака, — подобен морю, соединяющему в себе «со звездами — дно».
Дальше — вся «Высокая болезнь» — высокая и бессмертная болезнь поэзии среди общей смертельной болезни, — голодного тифа — с печальным образом самого поэта:
А сзади в зареве легенд Идеалист-интеллигент Печатал и писал плакаты Про радость своего заката.(Борис Пастернак — единственный из поэтов Революции, кто осмелился встать на защиту оплеванной и слева и справа интеллигенции.) «Высокая болезнь» — с почти страшной картиной конца империи:
И уставал орел двуглавый, По Псковской области кружа, Со стягивающейся облавы Невидимого мятежа. Ах, если бы им мог попасться Путь, что на карту не попал! Но быстро таяли запасы Отмеченных на картах шпал. Они сорта перебирали Исщипанного полотна.[114] Везде ручьи вдоль рельс играли, Но будущность была мутна. Сужался круг, редели сосны, Два солнца встретились в окне. Одно всходило из-за Тосна.[115] Другое заходило в Дне.— и с параллельным образом вождя на трибуне, на которой
Он вырос раньше, чем вошел, Он проскользнул неуследимо Сквозь строй препятствий и подмог, Как в эту комнату без дыма Грозы влетающий комок.Дальше — «Девятьсот пятый год» с подзаголовками: «Отцы», «Детство», «Мужики и фабричные», «Морской мятеж» («Потемкин»), «Студенты», «Москва в декабре» (дата написания 1926 год). Дальше — «Лейтенант Шмидт» (1927) и наконец последнее признание, уже 1932 года:
Прощальных слов не осуша, Проплакав вечер целый, Уходит с Запада душа — Ей нечего там делать, —то есть полный и открытый отказ от прежнего себя, своей философической молодости в ломоносовском городке Марбурге, полный и открытый акт гражданского насилия над самим собой. (Пастернака никто не принуждал «уходить с Запада», ибо поэта никто не в силах к чему-либо принуждать. Здесь все гораздо сложнее правительственного распоряжения.)
Полагаю, что я честно ответила, честнее нельзя. Ни одна великая тема, ни один великий день современности не прошли мимо моего спящего столпника. Он отозвался на все. Но — как отозвался?
Из глубин своей уникальной, неповторимой, безнадежно лирической сущности, отдав своим эпическим и гражданским мотивам все свои природные и «погодные» богатства. Давая каждой теме, — если употребить излюбленное выражение Пастернака, у которого и звезды в листьях «как дома», — беспрепятственно и полновластно войти в его лирическую ризницу и быть там как дома. Можно сказать, что в своих эпических темах Пастернак еще больше лирик, больше природа, больше Пастернак, чем сам Пастернак.
Обратим, однако, внимание на сам выбор тем. И 1905 год, и лейтенант Шмидт — это воспоминания поэта о детстве, что уже само по себе — чистая лирика. Потому что все мы в долгу перед собственным детством, ибо никто из нас (кроме, быть может, одного Гёте) не исполнил того, что обещал себе в детстве, в собственном детстве, — и единственная возможность возместить несделанное — это свое детство — воссоздать. И, что еще важнее долга: детство — вечный вдохновляющий источник лирика, возвращение поэта назад, к своим райским истокам. Рай — ибо ты принадлежал ему. Рай — ибо он распался навсегда. Так Пастернак, как всякий ребенок и всякий лирик, не мог не вернуться к своему детству. К мифу своего детства, завершившемуся историей. Не только по велению совести, но и по неодолимому зову памяти.
О том, каким было это возвращение, мы узнаем из первых же строк «Отцов» — начальной главы «1905 года». Поэт говорит о дореволюционной подземной ночи России эпохи Александра I:
Это было вчера, и, родись мы лет на тридцать раньше. Подойди со двора в керосиновой мгле фонарей, Средь мерцанья реторт мы нашли бы, что те лаборантши — Наши матери или приятельницы матерей…[116]Возвращение в свое, в материнское, в отцовское детство. Возвращение в лоно. Отнюдь не революционный, а древнейший культ — культ предков.
Вот первая глава «1905 года» — «Детство», где одним штрихом дана первая встреча юноши композитора Пастернака с великим композитором Скрябиным:
Раздается звонок, голоса приближаются: Скрябин: О, куда мне бежать от шагов моего божества?— и взрыв бомбы, убившей попечителя школы Живописи и ваяния, где учился Пастернак:
Снег идет целый день, и он идет еще под вечер. За ночь Проясняется. Утром — громовый раскат из Кремля: — Попечитель училища насмерть. Сергей Александрыч! Я грозу полюбил в эти первые дни февраля.— Природа! Природа! Именно в ней ему видится крестьянский бунт 1905 года:
И громадами зарев Командует море бород.Вот картина кладбища после гражданских похорон Баумана:
Где-то долг отдавали людской. И он уже отдан, Молкнет карканье в парке и прах на Ваганькове нем. На погосте травы начинают хозяйничать звезды, Дремлет небо, зарывшись в серебряный лес хризантем.Вот последняя глава «Девятьсот пятого года» — «Москва в декабре» — с картиной пустой улицы —
Вымирает ходок и редчает, как зубр, офицер, —которая сразу переносит нас в Беловежскую пущу, — и с картиной бегства:
Перед нами бежал и подошвы лизал переулок, Рядом сад холодил, шелестя ледяным серебром,и, наконец, заключительная панорама Москвы, охваченной пламенем:
Как воронье гнездо под деревья горящего сада Сносит крышу со склада, кружась бесноватый снаряд.А вот и «Лейтенант Шмидт», с мраком, швыряющим ставень в ставень, с багром, которым пучина гремит и щупает дно, с бездомностью пространства, с доверчивостью деревьев, с вихрем, обрывающим фразы, «как клены и вязы», с листьями и лозами, которые краснеют до корней волос, с шатающимся в ушах шоссейным шагом, с серебром и перламутром полумертвых на рассвете фонарей набережной, с деревьями, сгибающимися в три дуги, с кипарисами, что встают, подходят и кивают…
Доказывать наличие природы в гражданских стихах Пастернака — все равно что доказывать ее наличие на необитаемом острове. Если уж доказывать — так это следы присутствия лейтенанта Шмидта в поэме, названной его именем. Они есть.
С терпением и вниманием рассмотрим, наконец, эту центральную фигуру поэмы. Но заранее оговоримся: центральная она — чисто условно; любое дерево, мимо которого прошел Шмидт (и которое Пастернак лишь упомянул), любой памятник, на который он поднялся, — в тысячу раз живее, убедительнее и центральнее его самого, со всеми его достоверными письмами, речами и дневниками. Здесь, в противоположность пословице: из-за деревьев не видно леса, — из-за леса пастернаковской природы действительно не видно дерева: героя. Пастернак лишь зацепился за Шмидта, чтобы еще раз заново дать все взбунтовавшиеся стихии, плюс пятую — лирику. И он их дал так, что центр оказался пустым. Уберите из Шмидта все то, что держит напряжение деревьев, плеск волн, пространство, погоду, ослабьте это напряжение — и фигура пастернаковского Шмидта рухнет, как фантом. Почему? Да потому, что Борис Пастернак, в противоположность любому другому лирику, не привел своего героя в соответствие с окружающим, не усилил его, а из уважения к истории: к голому факту и к жизни, «такой, как она есть», — оставил героя, таким, каким он был, посреди бушующего вокруг него лирического урагана. Не только не усилил его, но грандиозностью фона — умалил. Просто — убил. Когда стотысячное эхо произносит, в лад клятве Шмидта: — Клянемся! — то это — не Шмидта слова, он не может говорить так, как он говорит у Пастернака, как говорим мы все. Лейтенант Шмидт ожил бы при простейшем живописании фактов его биографии, где обыкновенные человеческие письма, терпеливо и без особого вдохновения, были бы облечены в пастернаковские рифмы и не страдали бы от соседства стольких лирических и природных россыпей, и где простой и достойный человек — Шмидт — не соперничал бы с достойной, но далеко не простой и не людской сущностью самого Пастернака.
Шмидт выделился на своем историческом фоне; лирического же, к тому же и пастернаковского, фона он не выдержал. Да и кто бы из нас, не преображенных, мог бы выдержать?
У Пастернака не проиграл бы лишь какой-нибудь человеческий абсолют. Но ни одно деревце не проиграло ни разу…
VI
У нас остается еще одно: поэт в последнее пятилетие. Углубимся в его последнюю книгу «Волны».
Гуртом, сворачиваясь в трубки, Во весь разгон моей тоски, Ко мне бегут мои поступки, Испытанного гребешки. Их тьма, им нет числа и сметы. Их смысл досель еще не полн, Но всё их сменою одето, Как пенье моря пеной волн.Вот перед какими волнами ставит нас поэт. И вспоминается Поль Домби Диккенса, — малый ребенок, так никогда и не ставший большим, — с его вечным вопросом, обращенным к самому себе и ко всем: «О чем говорят морские волны?» Эти слова я ставлю мысленно эпиграфом к пастернаковской книге:
О чем шумят пастернаковские волны?
Вот картина рассвета на Кавказе — со строками, многозначительными для времени и страны:
Шли тучи. Рассвело не разом. Светало, но не рассвело.Вот картина кавказского леса, где Пастернак сам подтверждает свойство природы быть у него самой собой:
Он сам пленял, как описанье, Он что-то знал и сообщал…А вот в четырех строках формула Грузии:
Мы были в Грузии. Помножим Нужду на нежность, ад на рай, Теплицу льдам возьмем подножьем, И мы получим этот край.И вздох самого поэта: что было бы, если б ему посчастливилось тут родиться —
Я вместо жизни виршеписца Повел бы жизнь самих поэм.…Картина восьмиверстного пустого пляжа, который принимает и стирает все, что мы, маленькие сменяющиеся фигурки, несем, — баллада о спящих детях, еще баллада о концерте Шопена на берегу Днепра, «Лето», «Смерть поэта» (Маяковского), семейная фотография под музыку Брамса…
Вот совет оставленной женщине:
С горизонтом вступи в переписку! —он дает его, не понимая, что таким советам следует только тот, кому они не нужны (кто в них не нуждается), то есть сам поэт. А вот к кому поэт, дающий такие великодушные и жестокие советы, сам обращается за советом: что делать с оставляемой им женщиной:
Пока, сменяя рощи вязовые, Курчавится лесная мелочь, Что шепчешь ты, что мне подсказываешь, — Кавказ, Кавказ, о что мне делать!О тяжести любви. — «Все снег да снег» — с неожиданным автобиографическим всплеском: «Скорей уж, право б, дождь прошел!» — Весна, с таким обращением к Богу:
И сверху окуни свой мир, Как в зеркало, в мое спасибо!Стихи к другой любимой: не той, которой Пастернак дает совет «с горизонтом вступить в переписку» и которая из-за этой переписки забывает, что переписывается с поэтом.
Даже одежда любимой женщины напоминает ему частицу природы:
Ты появишься у двери В чем-то белом без причуд — В чем-то впрямь из тех материй, Из которых хлопья шьют.И точно так же, как любимая и ее платье представляются поэту фрагментом природы: наименее живое в природе — ледники — явлены им в образе бессмертных (живых) душ:
Как усопших представшие души Были все ледники налицо.Если когда-нибудь при вас, читатель, зайдет речь о том, верят или не верят в России в Бога, сошлитесь на самого любимого и самого читаемого поэта России — на Пастернака. Бог, во всяком случае божественность, распространена по всем пастернаковским произведениям. Можно сказать, что Пастернак из Бога не выходит, хотя появление в печати имени Бога вызывает только улыбку. Но шила в мешке не утаишь. Бог острием ледника пробивается у него из закрытого мешка вынужденного молчания. Бог участвует в творчестве Пастернака не только как личность, которую вспоминают и на которую ссылаются в итоге, но и прямо, — пусть даже без ведома Пастернака, деятельно участвует, как пастернаковская природа, чей творец — Он. Сохранить такую чистоту, при всей необузданности времени, такую доброту и, что самое главное, — такую возвышенность — действительно дело божьих рук. Во всей книге, во всей двадцатилетней жизни лирика, вылившейся на пятистах страницах, вы не найдете ни одной строки, унижающей лиру. Эта лирика действительно на высоте лиры, предмета, который исключает лишь одно: низменность.
…Гимн красоте в образе красавицы. — Ночная комната, где пахнет ночная фиалка (по-народному «ночная красавица»). Одиночество в доме, заметенном метелью. — Присутствие любимой женщины. — Опять Шопен. — Ореховая роща на Кавказе (1917 год был уральским) — перекличка Кавказа с Тиролем. — О кровной расплате за каждую хорошую строку — изумительной формулой границ искусства:
…Когда строку диктует чувство, Оно на сцену шлет раба, И тут кончается искусство, И дышат почва и судьба.Можно сказать, что «искусство» в этом смысле у Пастернака никогда не начиналось, то есть изначально действовали почва и судьба. Об уделе женщины: единственный из всех вопросов современности, который захватил сердце поэта, вопрос близкий, свойственный всей лирике и, конечно, оставшийся без ответа…
Эти несколько осколков пастернаковского прибоя, с которыми я вас познакомила, думаю, достаточны, чтобы читатель понял, какой перед ним прибой и какой перед ним поэт.
1912–1933 годы. Если и есть перемены, то чисто языковые, даже лексические — внесены какие-то обороты и приметы нового быта и словаря. Но об этом жалеть не следует. Расширение словаря всегда к добру, правда, при том лишь условии, если поэт расширяет его и назад и вперед. Не говоря уже о том, что современная русская поэзия столько позаимствовала у Пастернака, так его использовала, что не грех, если и он возьмет от современной жизни десяток слов или даже «словечек». Но суть дела не в этом, а в том, что лирическая сущность Пастернака нетронута и неизменна. Не обремененный никакими «темами», не сбитый с толку никакими «вопросами», он во весь свой рост стоит перед нами на столпе своего одиночества, хотя такое стояние в современной России зовется «сидячей жизнью»…
Пускай пожизненность задачи, Врастающей в заветы дней, Зовется жизнию сидячей — И по такой грущу по ней.Жизненную и бессмертную задачу Пастернака мы знаем. Выразить себя. Возвратить Богу его неисчерпаемый дар. Творцу — его неисчерпаемый дар — творчество.
Если и замечается какое-то движение Пастернака за последние два десятилетия, то это движение идет в направлении к человеку. Природа чуть-чуть повернулась к нему лицом женщины. Оскорбленной женщины. Но это движение невооруженным глазом уловить совершенно невозможно. Так ползут ледники, так обрастает кольцами дуб. Может быть, если бы Пастернак прожил тысячу лет, на тысячу первый год он и стал бы человеком, как все мы… Но пока это лишь несколько новых колец на сердцевине дуба.
Книга волн — лирический дневник поэта.
Где писалась эта книга? — Всюду!
Когда? — Всегда.
Две извечных основы творчества. И — последний вопрос, бывший первым.
Что оставил от поэта пятнадцатилетний молот?
Льет дождь. Мне снится, из ребят Я взят в науку к исполину И сплю под шум, месящий глину…Итак, под шум серпа и молота, что рушит и строит, под звук собственных утверждений «близкой дали социализма» Пастернак спит детским, волшебным, лирическим сном.
…Как только в раннем детстве спят.Кламар, 1 июля 1933
ДВА «ЛЕСНЫХ ЦАРЯ» Дословный перевод «Лесного Царя» Гёте
Кто так поздно скачет сквозь ветер и ночь? Это отец с ребенком. Он крепко прижал к себе мальчика, ребенку у отца покойно, ребенку у отца тепло. «Мой сын, что ты так робко прячешь лицо?» — «Отец, ты не видишь Лесного Царя? Лесного Царя в короне и с хвостом?» — «Мой сын, это полоса тумана!» — «Милое дитя, иди ко мне, иди со мной! Я буду играть с тобой в чýдные игры. На побережье моем — много пестрых цветов, у моей матери — много золотых одежд!» — «Отец, отец, неужели ты не слышишь, что Лесной Царь мне шепотом обещает?» — «Успокойся, мой сын, не бойся, мой сын, в сухой листве — ветер шуршит». — «Хочешь, нежный мальчик, идти со мной? Мои дочери чýдно тебя будут нянчить, мои дочери ведут ночной хоровод, — убаюкают, упляшут, упоют тебя». — «Отец, отец, неужели ты не видишь — там, в этой мрачной тьме, Лесного Царя дочерей?» — «Мой сын, мой сын, я в точности вижу: то старые ивы так серо светятся…» — «Я люблю тебя, меня уязвляет твоя красота! Не хочешь охотой — силой возьму!» — «Отец, отец, вот он меня схватил! Лесной Царь мне сделал больно!» Отцу жутко, он быстро скачет, он держит в объятьях стонущее дитя, доскакал до двора с трудом, через силу — ребенок в его руках был мертв.
_________
Знаю, что неблагодарная задача после гениального и вольного поэтического перевода давать дословный прозаический подневольный, но это мне для моей нынешней задачи необходимо.
Остановимся сначала на непереводимых словах, следовательно — непередаваемых понятьях. Их целый ряд. Начнем с первого: хвост. Хвост по-немецки и Schwanz, и Schweif; например, у собаки Schwanz, и Schweif — у льва, у дьявола, у кометы — и у Лесного Царя. Поэтому моим «хвостатым» и «с хвостом» хвост Лесного Царя принижен, унижен. Второе слово — fein, переведенное у меня «нежный», и плохо переведенное, ибо оно прежде всего означает высокое качество: избранность, неподдельность, изящество, благородство, благорожденность вещи или человека. Здесь оно и благородный, и знатный, и нежный, и редкостный. Третье слово — глагол reizt, reizen — в первичном смысле — «раздражать», «возбуждать», «вызывать на», «доводить до» (неизменно дурного: гнева, беды и т. д.). И только во вторичном — «очаровывать». Слово, здесь, ни полностью, ни в первичном смысле не переводимое. Ближе остальных по корню будет: «Я раздразнен (раздражен) твоей красотой», по смыслу: уязвлен. Четвертое в этой же строке — Gestalt — «фигура», «телосложение», «внешний вид», «форма». Обличие, распространенное на всего человека. То, как человек внешне явлен. Пятое — scheinen, по-немецки: и «казаться», и «светиться», и «мерцать», и «мерещиться». Шестое непереводимое — «Leids». «Мне сделал больно» меньше, чем «Leids gethan», одинаково и одновременно означающее и боль, и вред, и порчу, в данном гётевском случае непоправимую порчу — смерть.
Перечислив все, чего не мог или только с большим, а может быть, и неоправданным трудом мог бы передать Жуковский, обратимся к тому, что он самовольно (поскольку это слово в стихах применимо) заменил. Уже с первой строфы мы видим то, чего у Гёте не видим: ездок дан стариком, ребенок издрогшим, до первого видения Лесного Царя — уже издрогшим, что сразу наводит нас на мысль, что сам Лесной Царь бред, чего нет у Гёте, у которого ребенок дрожит от достоверности Лесного Царя. (Увидел оттого, что дрожит — задрожал оттого, что увидел.) Так же изменен и жест отца, у Гёте ребенка держащего крепко и в тепле, у Жуковского согревающего его в ответ на дрожь. Поэтому пропадает и удивление отца: «Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?» — удивление, оправданное и усиленное у Гёте прекрасным самочувствием ребенка до видения. Вторая строфа видоизменена в каждой строке. Первое видение Лесного Царя, из уст ребенка, описательно: «Родимый! Лесной Царь в глаза мне сверкнул!» — тогда как у Гёте («Разве ты не видишь Лесного Царя?») — императивно, гипнотично, — ребенок не может себе представить, чтобы этого можно было не видеть, внушает Царя отцу. Вся разница между; «Вижу» и «Неужто ты не видишь?». Обратимся к самому видению. У Жуковского мы видим старика, величественного, «в темной короне, с густой бородой», вроде омраченного Царя — Саула очами пастуха Давида. Нам от него, как от всякой царственности, вопреки всему все-таки спокойно. У Гёте — неопределенное — неопределимое! — неизвестно какого возраста, без возраста, существо, сплошь из львиного хвоста и короны, — демона, хвостатости которого вплотную соответствуют «полоса» («лоскут», «отрезок», «обрывок», Streif) тумана, равно как бороде Жуковского вообще-туман над вообще-водой.
Каковы же соблазны, коими прельщает Лесной Царь ребенка? Скажем сразу, что гётевский Лесной Царь детское сердце — лучше знал. Чудесные игры, в которые он будет с ребенком играть — заманчивее неопределенного «веселого много в моей стороне», равно как и золотая одежда, в которую его нарядит его. Лесного Царя, мать, — соблазнительнее холодных золотых чертогов. Еще более расходятся четвертые строфы. Перечисление ребенком соблазнов Лесного Царя (да и каких соблазнов, — «золото, перлы, радость…». Точно паша — турчанке…) несравненно менее волнует нас, чем только упоминание, указание, умолчание о них ребенком: «Отец, отец, неужели ты не слышишь, что Лесной Царь мне тихонько обещает?» И это что, усиленное тихостью обещания, неназванностью обещаемого, разыгрывается в нас видениями такой силы, жути и блаженства, какие и не снились идиллическому автору «перлов и струй». Таковы же ответы отцов: безмятежный у Жуковского — «О нет, мой младенец, ослышался ты, — то ветер, проснувшись, колыхнул листы». И насмерть испуганный, пугающий — Гёте: «Успокойся, дитя! Не бойся, дитя! В сухой листве — ветер шуршит». Ответ, каждым словом бьющий тревогу — сердца. Ответ, одним словом дающий нам время года, столь же важное и неизбежное здесь, как час суток, богатейшее возможностями и невозможностями — из всех его времен.
Мы подошли к самой вершине соблазна и баллады, к месту, где Лесной Царь, неистовство обуздав, находит интонации глубже, чем отцовские-материнские, проводит нас через всю шкалу женского воздействия, всю гамму женской интонации: от женской вкрадчивости до материнской нежности; мы подошли к строфе, которая, помимо смысла, уже одним своим звучанием есть колыбельная. И опять-таки, насколько гётевский «Лесной Царь» интимнее и подробнее Жуковского, хотя бы уж одно старинное и простонародное warten (нянчить, большинством русских читателей переводимое — ждать), у Жуковского совсем опущенное, замененное: «узнать прекрасных моих дочерей»; у Жуковского — прекрасных, у Гёте — просто дочерей, ибо его, гётевский, Лесной Царь ни о чьей прекрасности, кроме мальчиковой, сейчас не может помнить. У Жуковского прекрасные дочери, у Гёте — дочери прекрасно будут нянчить.
И снова, уже бывшее, у Жуковского — пересказ видения, у Гёте — оно само: «Родимый, Лесной Царь созвал дочерей! Мне, вижу, кивают из темных ветвей…» (Хотя бы «видишь?») — и:
«Отец, отец, неужто ты не видишь — там, в этой страшной тьме, Лесного Царя дочерей?» Интонация, в которой мы узнаем собственное нетерпение, когда мы видим, а другой — не видит. И такие разные, такие соответственные вопросам ответы: олимпийский — Жуковского: «О нет, все спокойно в ночной глубине. То ветлы седые стоят в стороне», — ответ даже ивовых взмахов, то есть иллюзии видимости не дающий! И потрясенный, сердцебиенный ответ Гёте: «Мой сын, мой сын, я в точности вижу…» — ответ человека, умоляющего, заклинающего другого поверить, чтобы поверить самому, этой точностью видимых ив еще более убеждающего нас в обратном видении.
И, наконец, конец — взрыв, открытые карты, сорванная маска, угроза, ультиматум: «Я люблю тебя! Меня уязвила твоя красота! Не хочешь охотой — силой возьму!» И жуковское пассивное: «Дитя! Я пленился твоей красотой!» — точно избалованный паша рабыне, паша, сам взятый в плен, тот самый паша бирюзового и жемчужного посула. Или семидесятилетний Гёте, от созерцания римских гравюр переходящий к созерцанию пятнадцатилетней девушки. Повествовательно, созерцательно, живописующе — как на живопись… И даже гениальная передача — формула — последующей строки: «Неволей иль волей, а будешь ты мой!» — слабее гётевского: «Не хочешь охотой — силой возьму!» — как сама форма «будешь мною взят» меньше берет — чем «возьму», ослабляет и отдаляет захват — руки Лесного Царя, уже хватающей, и от которой до детского крика «больно» меньше, чем шаг, меньше, чем скок коня. У Жуковского этого крика нет: «Родимый! Лесной Царь нас хочет догнать! Уж вот он, мне душно, мне тяжко дышать». У Гёте между криком Лесного Царя — «силой возьму!» — и криком ребенка — «мне больно!» — ничего, кроме дважды повторенного: «Отец, отец», — и самого задыхания захвата, у Жуковского же — все отстояние намерения. У Жуковского Лесной Царь на загривке.
И — послесловие (ибо вещь кончается здесь), то, что мы все уже, с первой строки второй строфы уже, знали — смерть, единственное почти дословно у Жуковского совпадающее, ибо динамика вещи уже позади.
Повторяю: неблагодарная задача сопоставлять мой придирчивый дословный аритмический внехудожественный перевод с гениальной вольной передачей Жуковского. Хорошие стихи всегда лучше прозы — даже лучшей, и преимущество Жуковского надо мной слишком очевидно. Но я не прозу со стихами сравнила, а точный текст подлинника с точным текстом перевода: «Лесного Царя» Гёте с «Лесным Царем» Жуковского.
И вот выводы.
Вещи равновелики. Лучше перевести «Лесного Царя», чем это сделал Жуковский, — нельзя. И не должно пытаться. За столетие давности это уже не перевод, а подлинник. Это просто другой «Лесной Царь». Русский «Лесной Царь» — из хрестоматии и страшных детских снов.
Вещи равновелики. И совершенно разны. Два «Лесных Царя».
Но не только два «Лесных Царя» — и два Лесных Царя: безвозрастный жгучий демон и величественный старик, но не только Лесных Царя — два, и отца — два: молодой ездок и, опять-таки, старик (у Жуковского два старика, у Гёте — ни одного), сохранено только единство ребенка.
Две вариации на одну тему, два видения одной вещи, два свидетельства одного видения.
Каждый вещь увидел из собственных глаз.
Гёте, из черноты своих огненных — увидел, и мы с ним. Наше чувство за сновиденный срок Лесного Царя: как это отец не видит?
Жуковский, из глади своих карих, добрых, разумных — не увидел, не увидели и мы с ним. Поверил в туман и ивы. Наше чувство в течение «Лесного Царя» — как это ребенок не видит, что это — ветлы?
У Жуковского ребенок погибает от страха.
У Гёте от Лесного Царя.
У Жуковского — просто. Ребенок испугался, отец не сумел успокоить, ребенку показалось, что его схватили (может быть, ветка хлестнула), и из-за всего этого показавшегося ребенок достоверно умер. Как тот безумец, мнивший себя стеклянным и на разубедительный толчок здравого смысла ответивший разрывом сердца и звуком: дзинь… (Подобие, далеко заводящее.)
Один только раз, в самом конце, точно усумнившись, Жуковский предает свое благоразумие — одним только словом: «ездок оробелый»… но тут же, сам оробев, минует.
Лесной Царь Жуковского (сам Жуковский) бесконечно добрее: к ребенку добрее, — ребенку у него не больно, а только душно, к отцу добрее — горестная, но все же естественная смерть, к нам добрее — ненарушенный порядок вещей. Ибо допустить хотя бы на секунду, что Лесной Царь есть, — сместить нас со всех наших мест. Так же — прискорбный, но бывалый, случай. И само видéние добрее: старик с бородой, дедушка, «бирюзовы струи» («цветы бирюзовы, гремучие струи…») Даже удивляешься, чего ребенок испугался? (Разве что темной короны, разве что силы любви?) Страшная сказка на ночь. Страшная, но сказка. Страшная сказка нестрашного дедушки. После страшной сказки все-таки можно спать.
Страшная сказка совсем не дедушки. После страшной гётевской не-сказки жить нельзя — так, как жили (в тот лес! Домой!).
…Добрее, холоднее, величественнее, ирреальнее. Борода величественнее хвоста, дочери, узренные, и величественнее, и холоднее, и ирреальнее, чем дочери нянчащие, вся вещь Жуковского на пороге жизни и сна.
Видение Гёте целиком жизнь или целиком сон, все равно, как это называется, раз одно страшнее другого, и дело не в названии, а в захвате дыхания.
Что больше — искусство? Спорно.
Но есть вещи больше, чем искусство.
Страшнее, чем искусство.
Ноябрь 1933
О КНИГЕ Н. П. ГРОНСКОГО «СТИХИ И ПОЭМЫ»
Девятый год стоит Россия
Моей заморскою страной…
Н. П. Г.Мне кажется, что спор о том, может ли быть эмигрантская молодая литература, или не может быть, на этот раз сам собой разрешен в недавно вышедшей книге покойного молодого поэта Н. П. Гронского.
Книга открывается словами: «Помню Россию — так мало, помню Россию — всегда»… Это сразу дает нам и возраст, и духовную особь пишущего. Мало помнят, но все же помнят — десяти лет расставшиеся помнят свою страну — изгнанники, всегда помнят — рожденные поэты. Книга открывается — формулой, ибо короче и полнее о себе и о России человек его поколения сказать не может. Эта цитата, по недостатку места, останется единственной. Пусть читатель, до прочтения книги, поверит на слово, что она редкостной словесной силы. Поэтически — первокачественная.
Читаем названия: Иоанн Безземельный — Римляне — Карл XII — Эней — Роланд — Наполеон — перед нами школьные годы, т. е. школьные герои поэта. Первый вывод: не зря ходил в школу. Дальше героика недавних времен: поэма Миноносец, трагическая героика не взятых на английский миноносец добровольцев (по страсти, с какой написано, ясно, что в основе — живое происшествие). Листаем дальше: — Из первой книги Царств — Россия — Август — Римские дороги — Савойя — Моисей — Дракон, — по названиям одним ясно: юноша читает, ходит, глядит, думает — и, наконец, альпийская поэма Белла Донна, лучшая вещь в книге и во всей поэзии эмиграции. К этой поэме отношу читателя, как к сердцевине книги и поэта и самой лирической поэзии. Дальше: Валгалла — дальше прекрасная поэма Авиатор, как все поэмы Гронского взятая из жизни, — поэма Финляндия (родина поэта), — Михаил Черниговский и Александр Невский, — драматические сцены Спиноза — и последнее в книге и в его молодой жизни — Повесть о Сергии Радонежском, о медведе его Аркуде и о битве Куликовской. Книга, начатая Россией, Россией кончается. Россией кончается и его жизнь.
Где же, господа, неизбежное эмигрантское убожество тем, трагическая эмигрантская беспочвенность? Все здесь — почва: благоприобретенная, пешком исхоженная почва Савойи, почва медонских римских дорог, и в крови живущая отечественная почва тверской земли, и родная, финляндская, и библейская — Сиона и Синая, и небесная, наконец — Валгаллы и авионов.
Перед вами, молодые поэты, юноша — ваш сверстник, ваш школьный товарищ, с вашими же источниками питания: собственной ранней памяти, живого изустного сказа, огромного мирового города, природы, которая везде и всегда, и наиживейшим из всех источников, без которого все остальные — сушь: самой лирической жилой. Так почему же у вас в стихах метро и бистро, а у него Валгалла — и Авиаторы — и Спиноза? Вы жили в одном Париже. И Париж ни при чем.
Верней, Гронскому Париж много дал, потому что Гронский много сумел взять: Национальную библиотеку и Тургеневскую библиотеку, старые соборы и славные площади, и, что несравненно важнее, не только взять сумел, но отстоять сумел: свой образ, свое юношеское достоинство, свою страсть к высотам, свои русские истоки и, во всем его богатстве, мощи и молодости — свой язык. Взяв у одного Парижа — всё, не отдал другому Парижу — ничего.
— «Но это одиночный случай…» Вся лирическая поэзия — одиночный — и даже какой одинокий! — случай. Непрерывная вереница таких одиночных случаев и есть лирическая поэзия. Но если допустить, что есть поэзия не лирическая — гражданская, скажем, эпическая — чтó мешает молодым эмигрантским поэтам соприсутствовать — издалека — событиям своей родины? Челюскин был на весь мир и для всего мира, и место действия его, Арктика, равнó — отдалено от всех жилых мест. — «О Русь, вижу тебя из моего прекрасного далека!» Но если наше далёко нам кажется не-прекрасным, если у нас на него нет глаз, можно ведь и: «О Русь, вижу тебя в твоем прекрасном далёке», распространяя это далёко и на прошлое, и на настоящее, и на будущее. Поэт никогда не жил подножным кормом времени и места, и если Пушкина, к нашей великой, кровной обиде, так и не выпустили за границу, это не помешало ему дать невиденный им Запад — лучше видевших. Ведь если допустить, что поэт может питаться только от данного места — своей страны, то неизбежно придется ограничить это его питание и современным ему временем. Тогда, сам собой вывод: Пушкин в Испании не был и в средние века не жил, — стало быть Каменного Гостя написать не мог.
А — мечта на чтó? А — тоска на чтó?
Нет, господа, оставим время и место писателям-бытовикам (поэтов-бытовиков — нет), а сами, поскольку мы поэты, будем поступать как молодой Гронский:
Я — вселенной гость, Мне повсюду пир, И мне дан в удел — Весь подлунный мир!И не только подлунный!
<1936>
ПУШКИН И ПУГАЧЕВ
I
Есть магические слова, магические вне смысла, одним уже звучанием своим — физически-магические — слова, которые, до того как сказали — уже значат, слова — самознаки и самосмыслы, не нуждающиеся в разуме, а только в слухе, слова звериного, детского, сновиденного языка.
Возможно, что они в жизни у каждого — свои.
Таким словом в моей жизни было и осталось — Вожатый.
Если бы меня, семилетнюю, среди седьмого сна, спросили:
«Как называется та вещь, где Савельич, и поручик Гринев, и царица Екатерина Вторая?» — я бы сразу ответила: «Вожатый». И сейчас вся «Капитанская дочка» для меня есть — то и называется — так.
Странно, что я в детстве, да и в жизни, такая несообразительная, недогадливая, которую так легко можно было обмануть, здесь сразу догадалась, как только среди мутного кручения метели что-то зачернелось — сразу насторожилась, зная, зная, зная, что не «пень иль волк», а то самое.
И когда незнакомый предмет стал к нам подвигаться и через две минуты стал человеком — я уже знала, что это не «добрый человек», как назвал его ямщик, а лихой человек, страх-человек, тот человек.
Незнакомый предмет был — весьма знакомый предмет.
Вожатого я ждала всю жизнь, всю свою огромную семилетнюю жизнь.
Это было то, что ждет нас на каждом повороте дороги и коридора, из-за каждого куста леса и каждого угла улицы — чудо — в которое ребенок и поэт попадают как домой, то единственное домой, нам данное и за которое мы отдаем — все родные дома!
И когда знаемый из всех русских и нерусских сказок и самой Marchen unseres Lebens und Wesens[117] незнакомый предмет вдобавок еще оказался Вожатым, дело было сделано: душа была взята: отдана.
О, я сразу в Вожатого влюбилась, с той минуты сна, когда самозваный отец, то есть чернобородый мужик, оказавшийся на постели вместо Гриневского отца, поглядел на меня веселыми глазами. И когда мужик, выхватив топор, стал махать им вправо и влево, я знала, что я, то есть Гринев, уцелеем, и если боялась, то именно как во сне, услаждаясь безнаказанностью страха, возможностью весь страх, безнаказанно, до самого дна, пройти. (Так во сне нарочно замедляешь шаг, дразня убийцу, зная, что в последнюю секунду — полетишь.) И когда страшный мужик ласково стал меня кликать, говоря: «Не бойсь! Подойди под мое благословение!» — я уже под этим благословением — стояла, изо всех своих немалых детских сил под него Гринева — толкала: «Да иди же, иди, иди! Люби! Люби!» — и готова была горько плакать, что Гринев не понимает (Гринев вообще не из понимающих) — что мужик его любит, всех рубит, а его любит, как если бы волк вдруг стал сам давать тебе лапу, а ты бы этой лапы — не принял.
А Вожатого — поговорки! Круглая, как горох, самотканая окольная речь наливного яблочка по серебряному блюдечку — только покрупнее! Поговорки, в которых я ничего не понимала и понять не пыталась, кроме того, что он говорит — о другом: самом важном. Это была первая в моей жизни иносказательная речь (и последняя, мне сужденная!) — о том самом — другими словами, этими словами — о другом, та речь, о которой я, двадцать лет спустя:
Поэт — издалека заводит речь. Поэта — далеко заводит речь…как далеко завела — Вожатого.
Нужно сказать, что даже при втором, третьем, сотом чтении, когда я уже наизусть знала все, что будет — и как все будет, я неизменно непрерывно разрывалась от страха, что вдруг Гринев — Вожатому — вместо чая водки не даст, заячьего тулупа не даст, послушает дурака Савельича, а не себя, не меня. И, боже, какое облегчение, когда тулуп наконец вот уже который раз треснул на Вожатовых плечах!
(Есть книги настолько живые, но все боишься, что, пока не читал, она уже изменилась, как река — сменилась, пока жил — тоже жила, как река — шла и ушла. Никто дважды не вступал в ту же реку. А вступал ли кто дважды в ту же книгу?)
…Потом, как известно, Вожатый пропадает — так подземная река уходит под землю. А с ним пропадал и мой интерес. Читала я честно, ни строки не пропуская, но глазами читала, на мысленный глаз прикидывая, сколько мне еще осталось печатных верст пройти — без Вожатого (как — в том же детстве, на больших — прогулках — без воды) — в совершенно для меня ненужном обществе коменданта, Василисы Егоровны, Швабрина и не только не нужном, а презренном — Марьи Ивановны, той самой дуры Маши, которая падает в обморок, когда палят из пушки, и о которой только и слышишь, что она «чрезвычайно бледна».
Странно, что даже дуэль меня не мирила с отсутствием Вожатого, что даже любовное объяснение Гринева с Машей ни на секунду не затмевало во мне черной бороды и черных глаз. В их любви я не участвовала, вся моя любовь была — к тому, и весь их роман сводился к моему негодованию: «Как может Гринев любить Марью Ивановну, а Марья Ивановна — Гринева, когда есть — Пугачев?»
И суровое письмо отца Гринева, запрещающее сыну жениться, не только меня не огорчило, но радовало: «Вот теперь уедет от нее и опять по дороге встретит — Вожатого и уж никогда с ним не расстанется и (хотя я знала продолжение и конец) умрет с ним на лобном месте. А Маша выйдет за Швабрина — и так ей и надо».
В моей «Капитанской дочке» не было капитанской дочки, до того не было, что и сейчас я произношу это название механически, как бы в одно слово, без всякого капитана и без всякой дочки. Говорю: «Капитанская дочка», а думаю: «Пугачев».
Вся «Капитанская дочка» для меня сводилась и сводится к очным встречам Гринева с Пугачевым: в метель с Вожатым (потом пропадающим) — во все с мужиком — с Самозванцем на крыльце комендантского дома — но тут — остановка:
«Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку».
Подсказывала ли я и тут (как в том страшном сне) Гриневу поцеловать Пугачеву руку?
К чести своей скажу — нет. Ибо Пугачев, я это понимала, в ту минуту был — власть, нет, больше — насилие, нет, больше — жизнь и смерть, и так поцеловать руку я при всей своей любви не смогла бы. Из-за всей своей любви. Именно любовь к нему приказывала мне ему в его силе и славе и зверстве руки не целовать — оставить поцелуй для другой площади. Кроме того: раз все вокруг шепчут: «Целуй руку! Целуй руку!» — ясно, что я руки целовать не должна. Я такому круговому шепоту отродясь не должна. Я такому круговому шепоту отродясь цену знала. Так что и Иван Кузьмич, и Иван Игнатьевич, и все мы, не присягнувшие и некоторые повисшие, оказались — правы.
Но — негодовала ли я на Пугачева, ненавидела ли я его за их казни? Нет. Нет, потому что он должен был их казнить — потому что он был волк и вор. Нет, потому что он их казнил, а Гринева, не поцеловавшего руки, помиловал, а помиловал — за заячий тулуп. То есть — долг платежом красен. Благодарность. Благодарность злодея. (Что Пугачев — злодей, я не сомневалась ни секунды и знала уже, когда он был еще только незнакомый черный предмет.) Об этом, а не ином, сказано в Евангелии: в небе будет больше радости об одном раскаявшемся грешнике, нежели о десяти несогрешивших праведниках. Одно из самых соблазнительных, самых роковых для добра слов из Христовых уст.
Но есть еще одно. Пришедши к Пугачеву непосредственно из сказок Гримма, Полевого, Перро, я, как всякий ребенок, к зверствам — привыкла. Разве дети ненавидят Людоеда за то, что хотел отсечь мальчикам головы? Змея-Горыныча? Бабу-Ягу с ее живым тыном из мертвых голов? Все это — чистая стихия страха, без которой сказка не сказка и услада не услада. Для ребенка, в сказке, должно быть зло. Таким необходимым сказочным злом и являются в детстве (и в не-детстве) злодейства Пугачева.
Ненавидит ребенок только измену, предательство, нарушенное обещание, разбитый договор. Ибо ребенок, как никто, верен слову и верит в слово. Обещал, а не сделал, целовал, а предал. За что же мне было ненавидеть моего Вожатого? Пугачев никому не обещал быть хорошим, наоборот — не обещав, обратное обещав, хорошим — оказался. Это была моя первая встреча со злом, и оно оказалось — добром. После этого оно у меня всегда было на подозрении добра.
Вожатый во мне рифмовал с жар. Пугачев — с черт и еще с чумаками, про которых я одновременно читала в сказках Полевого. Чумаки оказались бесами, их червонцы — горящими угольями, прожегшими свитку и, кажется, сжегшими и хату. Но зато у другого мужика, хорошего, в чугуне вместо кострового жару оказались червонцы. Все это — костровый жар, червонцы, кумач, чумак — сливалось в одно грозное слово: Пугач, в одно томное видение: Вожатый.
Но прежде чем перейти к последующим встречам Гринева с Пугачевым, — я в Пугачеве на крыльце комендантского дома с первого чтения Вожатого — узнала. Как мог не узнать его Гринев? И если действительно не узнал, как мне было не отнестись к нему с высокомерием? Как можно было — после того сна — те черные веселые глаза — забыть?
_________
«Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и уставленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожами и блистающими глазами. Между ними не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобранных изменников».
Значит — были только свои, и в круг своих позвал Пугачев Гринева, своим его почувствовал. Желание заполучить в свои ряды? Расчет? Нет. Перебежчиков у него и так много было, и были среди них и поценнее ничем не замечательного дворянского сына Гринева. Значит — что? Влечение сердца. Черный, полюбивший беленького. Волк, — нет ли такой сказки? — полюбивший ягненка. Этот полюбил ягненка — несъеденного, может быть, и за то, что его не съел, как мы, злодеи и не-злодеи, часто привязываемся за наше собственное добро к человеку. Благодарность за заячий тулуп уже была исчерпана — дарованием жизни. Это приглашение за стол уже было чистое влечение сердца, любовь во всей ее чистоте. Пугачев Гринева в свои ряды звал, потому что тот ему пó сердцу пришелся, чтобы ввек не расставаться, чтобы («фельдмаршалом тебя поставлю») еще раз одарить: сначала — жизнь, потом — власть. И нетерпеливая, нестерпимая прямота его вопросов Гриневу, и мрачное ожидание Гриневского ответа (Пугачев мрачно молчал) вызваны не сомнением в содержании этого ответа, а именно его несомненностью: безнадежностью. Пугачев знал, что Гринев, под страхом смерти не поцеловавший ему руки, ему служить — не может. Знал еще, что если бы мог, он, Пугачев, его, Гринева, так бы не любил. Что именно за эту невозможность его так и любит. Здесь во всей полноте звучит бессмертное анненское слово: «Но люблю я одно — невозможно». (Мало у Пугачева было добрых молодцев, парней — ничуть не хуже Гринева. Нет, ему нужен был именно этот — чужой. Мечтанный. Невозможный. Не-можный.) Вся эта сцена — только последняя проверка — для последней очистки души — от надежды.
Будем внимательны к самому концу этого бессмертного диалога:
«— Послужи мне верой и правдой, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в Потемкины (князья). Как ты думаешь?
— Нет, — отвечал я с твердостью. — Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра — так отпусти меня в Оренбург».
Значит — Гринев поверил. В полное бескорыстие Пугачева, в чистоту его сердечного влечения.
«— А коли отпущу, — сказал он, — так обещаешься ли, по крайней мере, против меня не служить?»
Этот вопрос — его последняя ставка, последний сдаваемый им фронт (сдал — всé).
«— Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал я. — Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего…»
Что в этом ответе? Долг. Неволя, а не воля.
Эта сцена — поединок великодуший, соревнование в величии.
Очная ставка, внутри Пугачева, самовластья с собственным влечением сердца.
Очная ставка, внутри Гринева, влечения человеческого с долгом воинским.
Очная ставка Долга — и Бунта, Присяги — и Разбоя, и — гениальный контраст: в Пугачеве, разбойнике, одолевает человек, в Гриневе, ребенке, одолевает воин.
Пугачев съел обиду, пересилив все, Гринева понял, и не только на волю, но изнутри своей волчьей любви — отпустил:
«— Ступай себе на все четыре стороны и делай, что хочешь».
(Читай: что должен.)
Но — все уже отдав, последним оборотом любви:
«— Завтра приходи со мной проститься».
Так любящие:
— В последний раз!
Все бессмертные диалоги Достоевского я отдам за простодушный незнаменитый гимназический хрестоматический диалог Пугачева с Гриневым, весь (как весь Пугачев и весь Пушкин), идущий под эпиграфом:
Есть упоение в бою И бездны мрачной на краю…В «Пире во время чумы» Пушкин нам это — сказал, в «Капитанской дочке» Пушкин нам это — сделал.
_________
Гринев Пугачеву нужен ни для чего: для души. Так цыгане любят белых детей. Так русский царь любил арапа Ибрагима. Так Николай I не полюбил Пушкина.
Есть в этом диалоге жутко-автобиографический элемент:
Пугачев — Гриневу:
— А коли отпущу, так обещаешься ли ты, по крайней мере, против меня не служить?
— Как могу тебе в этом обещаться?
Николай I — Пушкину:
— Где бы ты был 14-го декабря, если бы был в городе?
— На Сенатской площади, Ваше Величество!
Та же интонация страстной и опасной правды: хождение бездны на краю. В ответах Гринева мы непрерывно слышим эту интонацию, если не всегда в кабинете монарха звучавшую, то всегда звучавшую — внутри Пушкина и уже, во всяком случае, — на полях его тетрадей.
Только Гриневу было тяжелее сказать и сделать: от Пугачева — отказаться. Гринев Пугачеву был благодарен — и было за что. Пугачевым Гринев с первой встречи очарован — и было чем. Ответ Гринева — долг: отказ от любимого.
Пушкин Николаю ничем не был обязан, и Пушкин в Николае ничем не был очарован: не было — чем. Ответ Пушкина Николаю — чистейший восторг: отместка нелюбимому.
И, продолжая параллель:
Самозванец — врага — за правду — отпустил.
Самодержец — поэта — за правду — приковал.
_________
Пугачев Гриневу с первой минуты благодетель. Ибо если Пугачев в благодарность за заячий тулуп дарует ему жизнь и отпускает на волю, то сам-то Гриневский тулуп — благодарность Пугачеву за то, что на дорогу вывел. Пугачев первый сделал Гриневу добро.
Вся встреча Гринева с Пугачевым между этими двумя жестами: сначала на дорогу вывел, а потом и на все четыре стороны отпустил.
— Вожатый!
_________
Но помимо благодарности Гринева — Пугачеву, помимо пугачевской благодарности и благородства, Пугачев к Гриневу одержим отцовской любовью: любовью к невозможному для него сыну: верному долгу и роду — «беленькому». (Недаром, недаром тот первый вещий сон Гринева о подменном отце, сон, разом дающий и пугачевскую мечту об отцовстве всея России, и пугачевскую мечту о Гриневе — сыне.)
Любовь Пугачева к Гриневу — отблеск далекой любви Саула к Давиду, тоже при наличии кровного сына, любовь к сыну по избранию, сыну — души моей… Ибо после дарования жизни уже дары: простые, несчетные дары любви. Пугачев на дары Гриневу ненасытен: и фельдмаршалом тебя поставлю, и в Потемкины (князья) произведу, и посаженым отцом сяду, и овчинный тулуп со своего плеча взамен того заячьего, — и коня — и потерянную тем урядником полтину в дорогу дарит, и в дорожную кибитку с собой сажает, и даже дядьке Савельичу позволяет сесть на облучок (за что, скажем в скобках, тот желает ему сто лет здравствовать и обещает век за него Бога молить…) — и Марью Ивановну из темницы выручает, простив Гриневу его невинный любовный обман… Но здесь — остановка.
Когда уличенный во лжи Гринев признается, что Марья Ивановна не племянница попа, а дочь убитого Пугачевым коменданта: «Ты мне этого не сказал, — заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось». Почему (омрачилось)? Да не потому, конечно, что Марья Ивановна дочь того, а не племянница другого, а потому, что Гринев ему солгал, себя, в его глазах, ложью уронил, и — главное, может быть — ему, Пугачеву, не доверился. Но и это сходит — как сходило все, и что не сошло бы! — и Пугачев просится к Гриневу в посаженые отцы. И — возобновляем перечень даров — рука дающего да не скудеет: просится к Гриневу в посаженые отцы, и выдает ему пропуск во все заставы и крепости, ему подвластные, и, простившись с ним на людях, еще раз высовывается к нему из кибитки: «Прощай, ваше благородие!» И — последний дар любви на последней странице повести —
«Из семейных преданий известно, что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу».
Больше ему подарить Гриневу было — нечего.
_________
Что это все? Как все это называется? Любовь. Но, слава Богу, на этот раз любовь была не к недостойному. Ибо и дворянский сын Гринев Пугачева — любил. Любил — сначала дворянской благодарностью, чувством не менее сильным в дворянине, чем дворянская честь. Любил сначала благодаря, а потом уже вопреки: всей обратностью своего рождения, воспитания, среды, судьбы, дороги, планиды, сути. С первой минуты сна, когда страшный мужик, нарубив полную избу тел, ласково стал его кликать:
«Не бойсь, подойди под мое благословение», — сквозь все злодейства и самочинства, сквозь всё и несмотря на всё — любил.
Между Пугачевым и Гриневым — любовный заговор. Пугачев, на людях, постоянно Гриневу подмигивает: ты, мол, знаешь. И я, мол, знаю. Мы оба знаем. Что? В мире вещественном бедное слово: тулуп, в мире существенном — другое бедное слово: любовь.
Вот его, Гринева, собственные, Пугачеву, слова на прощание:
«Слушай, — продолжал я, видя его доброе расположение. — Как тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу… Но Бог видит, что жизнию моей рад бы заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротою, куда нам Бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобой ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души…»
Это — еще, пока, благодарность.
Но вот другое, Гринева, высказывание:
«Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту — сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти ему голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце».
Благодарность? Нет. Так благодарность — не жжет.
И — третье:
«Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: „Емеля! Емеля! — думал я с досадою. — Зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся на картечь? Лучшего ничего не мог бы ты придумать“».
И слова Гринева о капитанской дочке Маше: «Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно, ничто не может нас разлучить» — куда более относятся к Пугачеву, отца этой капитанской дочки, на его, Гринева, глазах, вздернувшему на виселицу.
Но не только те чудные обстоятельства, не только благодарность, не только влечение к своему обратному — все это еще не дает и не создает любви.
Есть одно слово, которое Пушкин за всю повесть ни разу не назвал и которое одно объясняет — все.
Чара.
Пушкин Пугачевым зачарован. Ибо, конечно, Пушкин, а не Гринев за тем застольным пиром был охвачен «пиитическим ужасом».
Да и пиитом-то Пушкин Гринева, вопреки всякой вероятности, сделал, чтобы теснее отождествить себя с ним. Не забудем: Гринев-то и в Оренбург попал за то и потому, что до семнадцатого годочку только и делал, что голубей гонял. Не забудем еще, что в доме его отца кроме «Придворного календаря» никаких книг не было. Пушкин, правда, упоминает, что Гринев стал брать у Швабрина французские книги, но от чтения французских книг до писания собственных русских стихов — далеко. Малый, которого мы видим в начале повести, n’a pas la tête á ça.[118]
С явлением на сцену Пугачева на наших глазах совершается превращение Гринева в Пушкина: вытеснение образа дворянского недоросля образом самого Пушкина. Митрофан на наших глазах превращается в Пушкина. Но помимо разницы сущности не забудем возраст Гринева: разве может так судить и действовать шестнадцатилетний, впервые ступивший из дому и еще вчера лизавший пенки рядовой дворянский недоросль? Так (как шестнадцатилетний Гринев в этой повести) навряд ли бы мог судить и действовать шестнадцатилетний Пушкин. Ибо есть вещь, которая и гению не дается отродясь (и, может быть, гению — меньше всего) — опыт. Шестнадцатилетний Гринев судит и действует, как тридцатишестилетний Пушкин. Дав вначале тип, Пушкин в молниеносной постепенности дает нам личность, исключение, себя.
Можно без всякого преувеличения сказать: Пушкин начал с Митрофана и кончил — собою. Он так занят Пугачевым и собой, что даже забывает post factum постарить Гринева, и получается, что Гринев на два года моложе своей Маши, которой — восемнадцать лет! Между Гриневым — дома и Гриневым — на военном совете — три месяца времени, а на самом деле, по крайней мере, десять лет роста. Объяснить этот рост появлением в жизни Гринева этой самой Маши — наивность: любовь мужей обращает в детей, но никак уж не детей в мужей. Пушкинскому Гриневу еще до полного физического роста четыре года расти и вырастать из своих мундиров! Пушкин забыл, что Гринев — ребенок. Пушкин вообще забыл Гринева, помня только одно: Пугачева и свою к нему любовь.
Есть этому преображению Гринева в Пушкина любопытное подтверждение. В первом французском переводе «Капитанской дочки» к фразе старика Гринева: «Не казнь страшна; пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею совести», — переводчиком Луи Виардо сделана пометка: «Un aîeul de Pouchkine fut condamné à mort par Pierre Le Grand».[119]
He я здесь создает автобиографичность, а сущность этого я. Не думал Пушкин, начиная повесть с условного, заемного я, что скоро это я станет действительно я, им, плотью его и кровью.
И, поняв, что Гринев — Пушкин: как Пушкину было не зачароваться Пугачевым, ему, сказавшему и возгласившему:
Есть упоение в бою И бездны мрачной на краю, И в разъяренном океане, Средь грозных волн и бурной тьмы, И в аравийском урагане, И в дуновении Чумы!Есть явление, все эти явления дающее разом. Оно называется — мятеж, в котором насчитаем еще и метель, и ледоход, и землетрясение, и пожар, и столько еще, не перечисленного Пушкиным! и заключенное им в двоекратном:
Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья — Бессмертья, может быть, залог! И счастлив тот, кто средь волненья Их обретать и ведать мог.Этого счастья Пушкину не было дано. Декабрьский бунт бледнеет перед заревом Пугачева. Сенатская площадь — порядок и во имя порядка, тогда как Пушкин говорит о гибели ради гибели и ее блаженстве.
Встреча Гринева с Пугачевым — в метель, за столом, под виселицей, на лобном месте — мечтанная встреча самого Пушкина с Самозванцем.
Только — вопрос: устоял ли бы Пушкин, тем дворянским сыном будучи, как устоял дворянский сын Гринев, Пушкиным будучи, перед чарой Пугачева? Не сорвалось ли бы с его уст:
«Да, Государь. Твой, Государь». Ибо за дворянским сыном Гриневым — сплошной стеной — дворянские отцы Гринева, за Пушкиным — та бездна, которой всякий поэт — на краю.
Пушкину на долю досталось три монарха: на младенчество — безумный Павел, на юность — двоеверный Александр, Пушкину на зрелый возраст достался царь — капрал. Пушкин всем отвращением от Николая I был отброшен к Пугачеву. «Капитанская дочка» — Николаю месть и даже отместка: самой природы поэта. Из всей истории писать именно историю Пугачевского бунта. Николай I не оценил иронии… судьбы.
Вернемся — к чаре.
Эту чару я, шестилетний ребенок, наравне с шестнадцатилетним Гриневым, наравне с тридцатишестилетним Пушкиным — здесь уместно сказать: любви все возрасты покорны — сразу почувствовала, под нее целиком подпала, впала в нее, как в столбняк.
От Пугачева на Пушкина — следовательно и на Гринева — следовательно на меня — шла могучая чара, словно перекликающаяся с бессмертным словом его бессмертной поэмы: «Могучей страстью очарован…»
Полюбить того, кто на твоих глазах убил отца, а затем и мать твоей любимой, оставляя ее круглой сиротой и этим предоставляя первому встречному, такого любить — никакая благодарность не заставит. А чара — и не то заставит, заставит и полюбить того, кто на твоих глазах зарубил самое любимую девушку. Чара, как древле богинин облак любимца от глаз врагов, скроет от тебя все злодейство врага, все его вражество, оставляя только одно: твою к нему любовь.
В «Капитанской дочке» Пушкин под чару Пугачева подпал и до последней строки из-под нее не вышел.
Чара дана уже в первой встрече, до первой встречи, когда мы еще не знаем, что на дороге чернеется: «пень иль волк». Чара дана и пронесена сквозь все встречи, — с Вожатым, с Самозванцем на крыльце, с Самозванцем пирующим, — с Пугачевым, сказывающим сказку — с Пугачевым карающим — с Пугачевым прощающим — с Пугачевым — в последний раз — кивающим с первого взгляда до последнего, с плахи, кивка — Гринев из-под чары не вышел, Пушкин из-под чары не вышел.
И главное (она дана) в его магической внешности, в которую сразу влюбился Пушкин.
Чара — в его черных глазах и черной бороде, чара в его усмешке, чара — в его опасной ласковости, чара — в его напускной важности…
— и умилительная деталь:
Пушкин Пугачева часто дает… немножко смешным: например, Пугачев, не умеющий разобрать писаной руки.
«Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. „Что ты так мудрено пишешь? — сказал он наконец. — Наши светлые очи ничего не могут тут разобрать. Где мой обер-секретарь?“» — смешным, но не смехотворным (так Диккенс в начале повести своего мистера Пиквика) — умилительным, детски-смешным: ребенком, читающим письмо вверх ногами. У Пушкина Пугачев получается какой-то зверский ребенок, в себе — неповинный, во зле — неповинный. Сравнить пушкинское отношение к низкому злодею Швабрину: ни одной человеческой слабости, ни одного смягчающего обстоятельства. Весь злодей из одного — черного — куска, вроде Жавера Виктора Гюго (кроме последнего жеста последнего). Швабрин — злодей по пушкинскому замыслу, пушкинское настоящее обратное, его истый враг, то есть его низкий враг. Пугачев же — злодей по пушкинской любви, враг по пушкинской любви, его вопреки всему и всем, совсем не враг, его не-враг, его друг, чуть ли не страсть.
Здесь ясна вся разница для поэта между врагом внешним и врагом внутренним. Швабрин — олицетворенная низость, — его внутренний враг, Пугачев — его враг исторический, фактический, его внешний враг, его вовсе не враг, его друг, которого по долгу службы нужно убить, но нельзя не любить.
Как аттический солдат, В своего врага влюбленный…Сказано о солдате, но этого далекого солдата (Ахилла) создал — поэт.
Но есть еще одно, кроме чары, физической чары над Пушкиным — Пугачева: страсть всякого поэта к мятежу, к мятежу, олицетворенному одним. К мятежу одной головы с двумя глазами. К одноглавому, двуглазому мятежу. К одному против всех — и без всех. К преступившему.
Нет страсти к преступившему — не поэт. (Что эта страсть к преступившему при революционном строе оборачивается у поэта контр-революцией — естественно, раз сами мятежники оборачиваются — властью.)
В Пугачеве, как нигде, прорвалась у Пушкина эта страсть, и смешно было Николаю I ждать от такого историографа — добра.
Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья…Это неизъяснимое наслажденье смертное, бессмертное, африканское, боярское, человеческое, божественное, бедное, уже обреченное сердце Пушкина обрело за год до того, как перестало биться, в мечтанной встрече Гринева с Пугачевым. На самозванце Емельяне Пушкин отвел душу от самодержца-Николая, не сумевшего его ни обнять, ни отпустить.
Страстный верноподданный, каким бы мог быть Пушкин, живой пищи не нашел, и пришлось ему, по сказке того же Пугачева, клевать мертвечину («Нет, я не льстец, когда царю…»), но — по той же сказке Пугачева — орлом будучи — мертвечина ему не пришлась, и пришлось ему — отказавшись от рецепта ворона — год спустя «Капитанской дочки» и пугачевской сказки — напоить российский снег своей кровью.
Соубийцу мы знаем.
_________
Пушкину я обязана своей страстью к мятежникам — как бы они ни назывались и ни одевались. Ко всякому предприятию — лишь бы было обречено.
Но и другим я обязана Пушкину — может быть, против его желания. После «Капитанской дочки» я уже никогда не смогла полюбить Екатерину II. Больше скажу: я ее невзлюбила.
Контраст между чернотой Пугачева и ее белизной, его живостью и ее важностью, его веселой добротой и ее — снисходительной, его мужичеством и ее дамством не мог не отвратить от нее детского сердца, едино-любивого и уже приверженного «злодею».
Ни доброта ее, ни простота, ни полнота — ничто, ничто не помогло, мне (в ту секунду Машей будучи) даже противно было сидеть с ней рядом на скамейке.
На огневом фоне Пугачева — пожаров, грабежей, метелей, кибиток, пиров — эта, в чепце и душегрейке, на скамейке, между всяких мостиков и листиков, представлялась мне огромной белой рыбой, белорыбицей. И даже несоленой. (Основная черта Екатерины — удивительная пресность. Ни одного большого, ни одного своего слова после нее не осталось, кроме удачной надписи на памятнике Фальконета, то есть — подписи. — Только фразы. Французских писем и посредственных комедий. Екатерина II — человек — образец среднего человека.)
Сравним Пугачева и Екатерину въяве:
«— Выходи, красная девица, дарую тебе волю. Я государь». (Пугачев, выводящий Марью Ивановну из темницы.)
«— Извините меня, — сказала она голосом еще более ласковым, — если я вмешиваюсь в ваши дела, но я бываю при дворе…»
Насколько царственнее в своем жесте мужик, именующий себя государем, чем государыня, выдающая себя за приживалку.
И какая иная ласковость! Пугачев в темницу входит — как солнце. Ласковость же Екатерины уже тогда казалась мне сладостью, слащавостью, медовостью, и этот еще более ласковый голос был просто льстив: фальшив. Я в ней узнала и возненавидела даму-патронессу.
И как только она в книге начиналась, мне становилось сосуще-скучно, меня от ее белизны, полноты и доброты физически мутило, как от холодных котлет или теплого судака под белым соусом, которого знаю, что съем, но — как? Книга для меня распадалась на две пары, на два брака: Пугачев и Гринев, Екатерина и Марья Ивановна. И лучше бы так женились!
Любит ли Пушкин в «Капитанской дочке» Екатерину? Не знаю. Он к ней почтителен. Он знал, что все это: белизна, доброта, полнота — вещи почтенные. Вот и почтил.
Но любви — чары в образе Екатерины — нет. Вся любовь Пушкина ушла на Пугачева (Машу любит Гринев, а не Пушкин) — на Екатерину осталась только казенная почтительность.
Екатерина нужна, чтобы все «хорошо кончилось».
Но для меня и тогда и теперь вещь, вся, кончается — кивком Пугачева с плахи. Дальше уже — дела Гриневские.
Дело Гринева — жить дальше с Машей и оставлять в Симбирской губернии счастливое потомство.
Мое дело — вечно смотреть на чернеющий в метели предмет.
_________
Есть у Блока магическое слово: тайный жар. Слово, при первом чтении ожегшее меня узнаванием: себя до семи лет, всего до семи лет (дальше — не в счет, ибо жарче не стало). Слово-ключ к моей душе — и всей лирике:
Ты проклянешь в мученьях невозможных Всю жизнь за то, что некого любить. Но есть ответ в моих стихах тревожных: Их тайный жар тебе поможет жить.Поможет жить. Нет! и есть — жить. Тайный жар и есть — жить.
И вот теперь, жизнь спустя, могу сказать: все, в чем был этот тайный жар, я любила, и ничего, в чем не было этого тайного жара, я не полюбила. (Тайный жар был и у капитана Скотта, последним, именно тайным жаром гревшего свои полярные дневники.)
Весь Пугачев — этот тайный жар. Этого тайного жара в контр-фигуре Пугачева — Екатерине — не было. Была — теплота.
Я сказала: контр-фигура. Любопытно, что все, решительно все фигуры «Капитанской дочки» — каждая в своем направлении — контр-фигуры Пугачева: добрый разбойник Пугачев — низкий злодей Швабрин; Пугачев, восставший на Царицу — комендант, за эту царицу умирающий; дикий волк Пугачев — преданный пес Савельич; огневой Пугачев и белорыбий немецкий генерал, — вплоть до физического контраста физически-очаровывающего нас Пугачева и его страшной оравы (рваные ноздри Хлопуши). Пугачев и Екатерина, наконец. И еще любопытнее, что пугачевская контр-фигура покрывает, подавляет, затмевает — всё. Всех обращает в фигурантов.
Рассмотрим всех персонажей «Капитанской дочки». Отец и мать — как им быть полагается (батюшка, матушка…), слуга Савельич — как ему быть полагается, игрок Зурин, мелкий завистник и доносчик Швабрин, заводной немецкий генерал, — комендант Миронов, тип почти комический, если бы не пришлось ему на наших глазах с честью умереть… Маша — пустое место всякой первой любви, Екатерина — пустое место всякой авторской не-любви…
Ни одной крупной фигуры Пушкин Пугачеву не противопоставил (а мог бы: поручика Державина, чуть не погибшего от пугачевского дротика; Суворова, целую ночь стерегущего пленного Пугачева). В лучшем случае, другие — хорошие люди. Но когда — кого в литературе спасали «хорошесть» и кто когда противостоял чаре силы и силе чары? (Себе в опровержение: однажды спасла и вознесла: отца Савелия, в «Соборянах». Себе же — в подтверждение: но это больше чем литература и больше чем хорошесть, и есть сила бóльшая чары — святость.)
В «Капитанской дочке» единственное действующее лицо — Пугачев. Вся вещь оживает при звоне его колокольчика. Мы все глядим во все глаза и слушаем во все уши: ну, что-то будет? И что бы ни было: есть Пугачев — мы есьмы.
Пушкинский Пугачев, помимо дани поэта — чаре, поэта — врагу, еще дань эпохе: Романтизму. У Гёте — Гёц, у Шиллера — Карл Моор, у Пушкина — Пугачев. Да, да, эта самая классическая, кристальная и, как вы ее еще называете, проза — чистейший романтизм, кристалл романтизма. Только те своих героев искали и находили либо в дебрях прошлого, этим бесконечно себе задачу облегчая и отдаленностью времен лишая их последнего правдоподобия, либо (Лермонтов, Байрон) — в недрах лирического хаоса, — либо в себе, либо в нигде, Пушкин же своего героя взял вне себя, и из предшествующего ему поколения (Пугачев по возрасту Пушкину — отец), этим бесконечно себе задачу затрудняя. Но зато: и Карл Моор, и Гёц, и Лара, и Мцыри, и собственный пушкинский Алеко — идеи, в лучшем случае — видения, Пугачев — живой человек. Живой мужик. И этот живой мужик — самый неодолимый из всех романтических героев. Сравнимый только с другим реалистическим героем, праотцом всех романтических: Дон-Кихотом.
Покой повествования и словесная сдержанность целый век продержали взрослого читателя в обмане; потому и семилетним детям давали, что думали — классическое. А классическое оказалось — магическим, и дети поняли, только дети одни и поняли, ибо нет ребенка, в Вожатого не влюбленного.
В «классиков» не влюбляются.
_________
Ко всей «Капитанской дочке» ретроспективный эпиграф:
…Странные есть мужики… Вот он с дорожной котомкой, Путь оглашает лесной Песнью протяжной, негромкой, И озорной, озорной… …В славную нашу столицу Входит — господь упаси! — Обворожает царицу Необозримой Руси…Пугачев царицы необозримой Руси не обворожил, а на нее в другую и — славнейшую нашу столицу — пошел, в столицу не вошел, — и столицы разные, и царицы разные — но мужик все тот же. И чара та же… И так же поддался сто лет спустя этой чаре — поэт.
_________
Все встречи Гринева с Пугачевым — ряд живых картин, нам в живое мясо и души вожженных. Ряд живых картин, освещенных не магнием, а молнией. Не магнием, а магией. О, до чего эта классическая книга — магическая. До чего — гипнотическая (ибо весь Пугачев нам, вопреки нашему разуму и совести, Пушкиным — внушен: не хотим — а видим, не хотим — а любим) — до чего сонная, сновиденная. Все встречи Гринева с Пугачевым — из все той же области его сна о губящем и любящем мужике. Сон — продленный и осуществленный. Оттого, может быть, мы так Пугачеву и предаемся, что это — сон, которому нельзя противиться, сон, то есть мы в полной неволе и на полной свободе сна. Комендант, Василиса Егоровна, Швабрин, Екатерина — все это белый день, и мы, читая, пребываем в здравом рассудке и твердой памяти. Но только на сцену Пугачев — кончено: черная ночь.
Ни героическому коменданту, ни его любящей Василисе Егоровне, ни Гриневскому роману, никому и ничему в нас Пугачева не одолеть. Пушкин на нас Пугачева… навел, как наводят сон, горячку, чару…
На этом слове разбор Пугачева «Капитанской дочки» — кончим.
II
Ибо есть другой Пугачев — Пугачев «Истории Пугачевского бунта». Пугачев «Капитанской дочки» и Пугачев «Истории Пугачевского бунта».
Казалось бы одно — раз одной рукой писаны. Нет, не одной. Пугачева «Капитанской дочки» писал поэт. Пугачева «Истории Пугачевского бунта» — прозаик. Поэтому и не получился один Пугачев.
Как Пугачевым «Капитанской дочки» нельзя не зачароваться — так от Пугачева «Пугачевского бунта» нельзя не отвратиться.
Первый — сплошная благодарность и благородство, на фоне собственных зверств постоянная и непременная победа добра. Весь Пугачев «Капитанской дочки» взят и дан в исключительном для Пугачева случае — добра, в исключительном — любви. Всех-де казню, а тебя милую. Причем это ты, по свойству человеческой природы и гениальности авторского внушения, непременно сам читатель. (Всех казнил, а меня помиловал, обобрал, а меня пожаловал и т. д.) Пугачев нам — в лице Гринева — все простил. Поэтому мы ему — все прощаем.
Что у нас остается от «Капитанской дочки»? Его — пощада. Казни, грабежи, пожары? Точно Пугачев и черным-то дан только для того, чтобы лучше, чище дать его — белым.
Предположим — да так оно со всеми нами и было, что читатель «Капитанскую дочку» прочел — первой. Что он ждет от «Истории Пугачевского бунта»? Такого же Пугачева, еще такого же Пугачева, то есть его доброты, широты, пощады, буйств — и своей любви.
А вот что он с первых страниц повествования и пугачевщины — получает:
«…Между тем за крепостью уже ставили виселицу, перед ней сидел Пугачев, принимая присягу жителей и гарнизона. К нему привели Харлова (коменданта крепости. — A. Ц.), обезумленного от ран и истекающего кровью. Глаз, вышибенный копьем, висел у него на щеке. Пугачев велел его казнить».
(Велел казнить и Миронова, но у того глаз не висел на щеке. Тошнотворность деталей.)
День спустя Пугачев взял очередную крепость Татищеву с комендантом Елагиным.
«С Елагина, человека тучного, содрали кожу: злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны».
(В «Капитанской дочке» ни с кого кожу не сдирали и ничьим салом своих ран не мазали. Ибо Пушкин знал, что читателя от такого мазанья — на его героя — стошнило бы.) Дальше, в строку:
«Жену его изрубили. Дочь их, накануне овдовевшая Харлова, приведена была к победителю, распоряжавшемуся казнию ее родителей. Пугачев поражен был ее красотой и взял несчастную к себе в наложницы, пощадив для нее ее семилетнего брата».
Пощада — малая и поступок — чисто злодейский, да и злодейство — житейское: завожделев — помиловал, на свою потребу помиловал. И мгновенный рипост: «Наш Пугачев так бы не поступил, наш Пугачев, влюбившись, отпустил бы на все четыре стороны — руки не коснувшись».
…Именно не полюбив, а завожделев, ибо вдову майора Веловского, которую не завожделел, тут же велел удавить.
Но есть этому эпизоду с Харловой (по отцу Елагиной) продолжение — и окончание.
Несколько страниц — не знаю, недель или месяцев — спустя происходит следующее:
«Молодая Харлова имела несчастье привязать к себе Самозванца. Он держал ее в своем лагере под Оренбургом. Она одна имела право во всякое время входить в его кибитку; по ее просьбе прислал он в Озерную приказ — похоронить тела им повешенных при взятии крепости. Она встревожила подозрения ревнивых злодеев, и Пугачев, уступив их требованию, предал им свою наложницу. Харлова и семилетний брат ее были расстреляны. Раненые, они сползлись друг с другом и обнялись. Тела их, брошенные в кусты, долго оставались в том же положении».
Все чары в сторону. Мазать свои раны чужим салом, расстреливать семилетнего ребенка, который, истекая кровью, ползет к сестре, — художественное произведение такого не терпит, оно такое извергает. Пушкин, художеством своим, был обречен на другого Пугачева.
Таков Пугачев в любви. Об этой Харловой Пушкин, пиша «Капитанскую дочку», помнил, ибо (письмо Марьи Ивановны Гриневу): «Он (Швабрин) обходится со мною очень жестоко и грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею и с Вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой…»
Чтó то же, Пушкин в «Капитанской дочке» не уточняет, давая предполагать читателю только начало харловской судьбы. Оживлять те кусты ему здесь слишком невыгодно.
И непосредственно, строка в строку, до эпизода с Харловой:
«Пугачев в начале своего бунта взял к себе в писаря сержанта Кармицкого, простив его под самой виселицей. Кармицкий сделался вскоре его любимцем. Яицкие казаки при взятии Татищевой удавили его и бросили с камнем на шее в воду. Пугачев о нем осведомился. Он пошел, отвечали ему, к своей матушке вниз по Яику. Пугачев, молча, махнул рукой».
Таков Пугачев в дружбе: в человеческой любви.
Судьба этого Кармицкого — потенциальная судьба самого Гринева: вот что с Гриневым бы произошло, если бы он встретился с Пугачевым не на страницах «Капитанской дочки», а на страницах «Истории Пугачевского бунта».[120]
Пугачев здесь встает моральным трусом — Lâche — из-за страха товарищей предающим — им в руки! — любимую женщину, невинного ребенка и любимого друга.
— Позвольте, что-то знакомое: товарищам — любимую… — А!
А вокруг уж слышен ропот: — Нас на бабу променял! Всю ночь с бабой провожжался, Сам наутро бабой стал. …Мощным взмахом подымает Он красавицу-княжну…Стенька Разин! тот, о котором и которого поет с нашего голоса вся Европа, тот, которым мы, как водою и бедою, залили всю Европу, да и не одну Европу, а и Африку и Америку — ибо нет на земном шаре места, где бы его сейчас не пели или завтра бы не смогли запеть.
Но: Пугачев и Разин — какая разница!
Над Разиным товарищи — смеются, Разина бабой — дразнят, задевая его мужскую атаманову гордость. Пугачеву товарищи — грозят, задевая в нем простой страх за жизнь. И какие разные жертвы! (Вся разница между поступком и проступком.)
Мощным взмахом подымает Он красавицу-княжну…Разин сам бросает любимую в Волгу, в дар реке — как самое любимое, подняв, значит — обняв; Пугачев свою любимую дает убить своей сволочи, чужими руками убивает: отводит руки. И дает замучить не только ее, но и ее невинного брата, к которому, не сомневаюсь, уже привык, которого уже немножко — усыновил.
В разинском случае — беда, в пугачёвском — низость. В разинском случае — слабость воина перед мнением, выливающаяся в удаль, в пугачёвском — низкое цепляние за жизнь.
К Разину у нас — за его персияночку — жалость, к Пугачеву — за Харлову — содрогание и презрение. Нам в эту минуту жаль, что его четвертовали уже мертвым.
И — народ лучший судия — о Разине с его персияночкой поют, о Пугачеве с его Харловой — молчат.
Годность или негодность вещи для песни, может быть, единственное непогрешимое мерило ее уровня.
Но есть у Пугачева, кажется, еще подлейший поступок. Он велит тайно удавить одного из своих верных сообщников, Дмитрия Лысова, с которым за несколько дней до того в пьяном виде повздорил и который ударил его копьем. «Их помирили товарищи, и Пугачев пил еще с Лысовым за несколько часов до его смерти».
С Харловой — спал — и дал ее расстрелять, с Лысовым — пил — и велел его удавить. Пугачев здесь встает худшим из своих разбойников, хуже разбойника. И только так можно ответить на его гневный возглас, когда предавший его казак хотел скрутить ему назад руки: «Разве я разбойник?»
Иногда его явление из низости злодейства возвышается до диаболического:
«Пугачев бежал по берегу Волги. Тут он встретил астронома Ловица и спросил, что это за человек. Услыша, что Ловиц наблюдает течение светил небесных, он велел его повесить — поближе к звездам».
И — последнее. «Перед судом он оказал неожиданную слабость духа. Принуждены были постепенно приготовить его к услышанию смертного приговора — „crainte cu’il ne mourût de peur surle chamр“»,[121] — поясняет Екатерина в письме к Вольтеру. Но так как это письмо Екатерины — единственный пушкинский источник, а Екатерина в низости казнимого ею мятежника явно была заинтересована — оставим это сведение под сомнением: может — струсил, может — нет. Но что достоверно можно сказать — это что не поражал своей предсмертной храбростью. На храбреца трусости не наврешь. Даже Екатерина — в письме к Вольтеру.
Но есть еще одна деталь этой казни — тяжелая. Пугачев, будучи раскольником, никогда не ходил в церковь, а в минуту казни — по свидетельству всего народа — глядя на соборы, часто крестился.
Не вынес духовного одиночества, отдал свою старую веру.
После любимой и друга отдал и веру.
_________
Будем справедливы: я все-таки выбирала (особенно и выбирать не пришлось) обратные, контрастные места с Пугачевым «Капитанской дочки». Пугачеву «Истории Пугачевского бунта» Пушкин оставил — многое. Оставил его иносказательную речь, оставил неожиданные повороты нрава: например, наведенную на жителей пушку оборачивает и разряжает ее — в степь. Физическую смелость оставил:
«Пугачев ехал впереди своего войска. — Берегись, государь, — сказал ему старый казак, — неравно из пушки убьют. — Старый ты человек, — отвечал самозванец. — Разве пушки льются на царей?»
Любовь к нему простого народа — оставил:
«Солдаты кормили его из своих рук и говорили детям, которые теснились около его клетки: помните, дети, что вы видели Пугачева. Старые люди еще рассказывают о его смелых ответах на вопросы проезжающих господ. Во всю дорогу он был весел и спокоен».
И огненный взор, и грозный голос оставил, от которых женщины, разглядывавшие его в клетке, падали без памяти.
И, как ни странно, и человечность оставил: академик Рычков, отец убитого Пугачевым симбирского коменданта, говоря о своем сыне, не мог удержаться от слез. Пугачев, глядя на него, сам заплакал.
Но все то же цепляние за жизнь оставил. Ибо в ответе Пугачева на вопрос Рычкова, как он мог отважиться на такие великие злодеяния: «Виноват перед Богом и Государыней и буду стараться заслужить все мои вины», — бессмысленная, заведомо безнадежная надежда на помилование, все то же пугачевское цепляние за жизнь.
Пугачев из «Истории Пугачевского бунта» встает зверем, а не героем. Но даже и не природным зверем встает, ибо почти все его зверства — страх за жизнь, — а попустителем зверств, слабым до преступности человеком. (Ведь даже убийство Лысова — не месть за поднятую на него руку, а страх вторичного и уже смертного удара.)
И, чтобы окончательно кончить о нем: покончить с ним в наших сердцах, — одна безобразная сцена, вдвойне безобразная, со всей полнотой подлости в лице обоих персонажей:
Граф Панин, к которому привели пленного Пугачева, за дерзкий — прибауточный — провидческий ответ Пугачева: «Я вороненок, а ворон-то еще летает», — ударяет Пугачева по лицу в кровь и вырывает у него клок бороды. (NB! Русское «лежачего не бьют».)
Что же делает Пугачев? Встает на колени и просит о помиловании.
_________
Теперь — очная ставка дат: «Капитанская дочка» — 1836 год, «История Пугачевского бунта» — 1834 год.
И наш первый изумленный вопрос: как Пушкин своего Пугачева написал — зная?
Было бы наоборот, то есть будь «Капитанская дочка» написана первой, было бы естественно: Пушкин сначала своего Пугачева вообразил, а потом — узнал. (Как всякий поэт в любви.) Но здесь он сначала узнал, а потом вообразил.
Тот же корень, но другое слово: преобразил.
Пушкинский Пугачев есть рипост поэта на исторического Пугачева, рипост лирика на архив: «Да, знаю, знаю все как было и как все было, знаю, что Пугачев был низок и малодушен, все знаю, но этого своего знания — знать не хочу, этому несвоему, чужому знанию противопоставляю знание — свое. Я лучше знаю. Я лучшее знаю:
Тьмы низких истин нам дороже Нас возвышающий обман.Обман? „По сему, что поэт есть творитель, еще не наследует, что он лживец, ибо поэтическое вымышление бывает по разуму так — как вещь могла и долженствовала быть“ (Тредьяковский).
Низкими истинами Пушкин был завален. Он все отмел, все забыл, прочистил от них голову как сквозняком, ничего не оставил, кроме черных глаз и зарева. „Историю Пугачевского бунта“ он писал для других, „Капитанскую дочку“ — для себя.
_________
Пушкинский Пугачев есть поэтическая вольность, как сам поэт есть поэтическая вольность, на поэте отыгрывающаяся от навязчивых образов и навязанных образцов.
_________
Но что же Пушкина заставило, только что Пугачева отписавши, к Пугачеву вернуться взять в герои именно Пугачева, опять Пугачева, того Пугачева, о котором он все знал?
Именно что не все, ибо единственное знание поэта о предмете поэту дается через поэзию, очистительную работу поэзии.
Пушкин своего Пугачева написал — чтобы узнать. Дознаться. Пушкин своего Пугачева написал — чтобы забыть.
Простых же ответа — два: во-первых, он с ним, каков бы он ни был, за долгие месяцы работы — сжился. Сжился, но не разделался. (Есть об этом его, по написании, свидетельство.)
Во-вторых, он, поставив последнюю точку, почуял: не то. Не тот Пугачев. То, да не то. А попробуем — то. Это было „по-вашему“, давай-ка теперь — по-нашему.
Подсознательное желание Пугачева, историей разоблаченного, поэзией реабилитировать, вернуть его на тот помост, с которого историей, пушкинской же рукою, снят. С нижеморского уровня исторической низости вернуть Пугачева на высокий помост предания.
Пушкин поступил как народ: он правду — исправил, он правду о злодее — забыл, ту часть правды, несовместимую с любовью: малость.
И, всю правду о нем сохранив, изъяв из всей правды только пугачевскую малость, дал нам другого Пугачева, своего Пугачева, народного Пугачева, которого мы можем любить: не можем не любить.
Какой же Пугачев — настоящий? Тот, что из страха отдал на растерзание любимую женщину и невинного младенца, на потопление — любимого друга, на удавление — вернейшего соратника и сам, в ответ на кровавый удар по лицу, встал на колени?
Или тот, что дважды, трижды, семижды простил Гринева и, узнав в толпе, в последний раз ему кивнул?
Что мы первое видим, когда говорим Пугачев? Глаза и зарево. И — оба без низости. Ибо и глаза, и зарево — явление природы, „есть упоение в бою“, а может быть, и сама Чума, но — стихия, не знающая страха.
Что мы первое и последнее чувствуем, когда говорим Пугачев? Его величие. Свою к нему любовь.
Так, силой поэзии, Пушкин самого малодушного из героев сделал образцом великодушия.
В „Капитанской дочке“ Пушкин — историграф побит Пушкиным — поэтом, и последнее слово о Пугачеве в нас навсегда за поэтом.
Пушкин нам Пугачева „Пугачевского бунта“ — показал, Пугачева „Капитанской дочки“ — внушил. И сколько бы мы ни изучали и ни перечитывали „Историю Пугачевского бунта“, как только в метельной мгле „Капитанской дочки“ чернеется незнакомый предмет — мы все забываем, весь наш дурной опыт с Пугачевым и с историей, совершенно как в любви — весь наш дурной опыт с любовью.
Ибо чара — старше опыта. Ибо сказка — старше были. И в жизни земного шара старше, и в жизни человека — старше. Ибо Пугачева мы знали уже и в Мужик-сам-с-Перст, и в Верлиоке, и в людоеде из Мальчика-с-Пальчика, рубящем головы собственным дочерям, и в разбойнике, от которого Аленушка прячется за кадушку с маслом, во всех людоедах и разбойниках всех сказок, в сказке крови, нашей древней памяти.
Пушкинский Пугачев („Капитанской дочки“) есть собирательный разбойник, людоед, чумак, бес, „добрый молодец“, серый волк всех сказок… и снов, но разбойник, людоед, серый волк — кого-то полюбивший, всех загубивший, одного — полюбивший, и этот один, в лице Гринева — мы.
И если мы уже зачарованы Пугачевым из-за того, что он — Пугачев, то есть живой страх, то есть смертный страх, наш детский сонный смертный страх, то как же нам не зачароваться им вдвойне и вполне, когда этот страшный — еще и добрый, этот изверг — еще и любит.
В Пугачеве Пушкин дал самое страшное очарование: зла, на минуту ставшего добром, всю свою самосилу (зла) перекинувшего на добро. Пушкин в своем Пугачеве дал нам неразрешимую загадку: злодеяния — и чистого сердца. Пушкин в Пугачеве дал нам доброго разбойника. И как же нам ему не поддаться, раз мы уже поддались — просто разбойнику?
Дав нам такого Пугачева, чему же поддался сам Пушкин? Высшему, что есть: поэту в себе. Непогрешимому чутью поэта на — пусть не бывшее, но могшее бы быть. Долженствовавшее бы быть. („По сему, что поэт есть творитель…“)
И сильна же вещь — поэзия, раз все знание всего николаевского архива, саморучное, самоочное знание и изыскание не смогли не только убить, но пригасить в поэте его яснозрения.
Больше скажу: чем больше Пушкин Пугачева знал, тем тверже знал — другое, чем яснее видел, тем яснее видел — другое.
Можно сказать, что „Капитанская дочка“ в нем писалась одновременно с „Историей Пугачевского бунта“, с ним со-писалась, из каждой строки последнего вырастая, каждую перерастая, писалась над страницей, над ней — надстраивалась, сама, свободно и законно, как живое опровержение, здесь рукой поэта творящееся: неправде фактов — самописалась.
„Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман“.
Если Пушкин о Наполеоне, своем и всей мировой лирики боге, отвечая досужему резонеру, разубеждавшему его в том, что Наполеон в Яффе прикасался к чумным, если Пушкин о Наполеоне мог сказать:
Тьмы низких истин нам дороже Нас возвышающий обман,— то насколько это уместнее звучит о Пугачеве, достоверные низкие истины о котором он глазами вычитывал и своей рукой выписывал — ряд месяцев.
О Наполеоне Пушкин это сказал.
С Пугачевым он это сделал.
По окончании „Капитанской дочки“ у нас о Пугачеве не осталось ни одной низкой истины, из всей тьмы низких истин — ни одной.
Чисто.
И эта чистота есть — поэт.
_________
Тьмы низких истин…
Нет низких истин и высоких обманов, есть только низкие обманы и высокие истины.
Еще одно. Истины не ходят тьмами (тьма-тьмущая, Тьму-Таракань, и т. д.). Только — обманы.
Возвращаясь к миру фактов. Оговорка — и важная: говорят, что сейчас изданы три тома пугачевского архива, из которых Пугачев встает совсем иным, чем в „Истории Пугачевского бунта“, а именно — без всякой низости, мужичьим царем, и т. д.
Но дело для нас в данном случае не в Пугачеве, а в Пушкине, иных материалов, кроме дворянских (пристрастных), не знавшем и этим дворянским — поверившем. Как Пушкин, по имеющимся данным, Пугачева видел. И сличаю я только пушкинского Пугачева — с пушкинским.
Если же, паче чаяния, Пугачев на самом деле встает мечтанным мужичьим царем, великодушным, справедливым, смелым — что ж, значит, Пушкин еще раз прав и один только и прав. Значит, прав был — унижающим показаниям в глубине своего существа не поверив. Только очами им поверив, не душой.
Как ни обернись — прав:
Был Пугачев низкий и малодушный злодей — Пушкин прав, давая его высоким и бесстрашным, ибо тьмы низких истин нам дороже…
Был Пугачев великодушный и бесстрашный мужичий царь — Пушкин опять прав, его таким, а не архивным — дав. (NB! Пушкин архив опроверг не словом, а делом.)
Но, повторяю, дело для нас не в Пугачеве, каков он был или не был, а в Пушкине — каков он был.
Был Пушкин — поэтом. И нигде он им не был с такой силой, как в „классической“ прозе „Капитанской дочки“.
Ванв, 1937
_________
Поэт не может любить врага. Поэт не может не любить врага, как только враг этот ему в (лирический) рост. Враг же низкого уровня ему не враг, а червь: червь или дракон, — смотря по калибру. Не был врагом Андрею Шенье казнивший его…[122] Монстр не есть враг. Враг есть — равенство. У поэта на вражду остаются одни явления, одно явление: бессмертная низость в каждом данном смертном. Безличная низость в каждом данном лице (личности). И бессмертная с нею — война. От начала мира до конца его с бессмертной низостью бьется бессмертный — безымянный под всеми именами — поэт.
Увидим это на живом примере Капитанской дочки:
Швабрин Гриневу (Пушкину) не враг. Швабрин Гриневу — червь. Есть что раздавить, не с чем враждовать. Враг — для ноги (подошвы), а не для души.
Пугачев Гриневу (Пушкину) не враг, ибо если это вражда, то — что же любовь?
Да где же в этой военной и любовной повести гринёвский враг?
Врага — нет. Есть гринёвский фактический противник, — казенный противник, душевный, фактический и всяческий союзник.
Вместо долженствовавших бы быть двух врагов — ни одного. Поэт не может любить врага. Любить врага может святой. Поэт может только во врага влюбиться.
Со времен Гомера — до наших, в которых, возвращая нас в первые, прозвучало слово:
Как аттический солдат, В своего врага влюбленный.Сказано о солдате, но этого солдата (Ахилла) создал — поэт.
Пугачев был именно таким врагом. Надежен такой враг? Нет. Такая вражда пленному врагу открывает двери. Такая вражда — врагу первому перевязывает раны. Такая вражда — врага первого выносит с поля битвы — с ним же. Такая вражда в любую минуту готова душу свою положить за врази своя. Чтó все взаимоотношение Гринева с Пугачевым как не рыцарский роман? Чистейший, скажем по-пушкински, донкишотизм.
Не возможность измены и не легкомыслие страшили в Пушкине декабристов, а ненадежность вражды. Та внутренняя свобода, тот внутренний мир, с революционным несравнимые, которые и составляют сущность поэта и которые тáк и соблазняют, в целях собственного использования…[123] Но здесь революционеры делают ошибку: внутренний мятеж поэта не есть внешний мятеж и может обернуться и оборачивается против них же, как только они сами оборачиваются законной, то есть насильственной, властью.
Этим мятежам — не по дороге.
Поэт не может враждовать с идеями (абсолютными) и не может враждовать с живыми, как только этот живой — либо стихия, либо ценность, либо — цельность, и не может враждовать с человеческим абсолютом — своими героями. Поэт может враждовать только с данным случаем и со всей человеческой низостью, которые (и случай и низость) могут быть всегда и везде, ибо этого ни один лагерь не берет на откуп. С данным случаем человеческой низости (малости). Поэтому если вражда поэта понятие неизменное, то точка приложения ее — непрерывно перемещается.
Один против всех и без всех.
Враг поэта называется — все. У него нет лица.
_________
Поэт — враг на минуту — доколе не поймет или не пожалеет врага: не по любвеобилию < милосердию > своему, а великодушию. Не по любвеобилию <милосердию > своему, а сочувствию, всéчувствию. Не по тяжелому невыполнимому невыносимому противоестественному долгу и подвигу христианской любви, а по рожденному своему, для него роковому дару: всéлюбия. Не по христианской любви, а по поэтической любви.
Политическая ненависть поэту не дана. Дана только человеческая. Дан только божественный и божеский гнев — на всё то же, которое он узнает всюду и не узнавая которого он противнику распахивает руки.
<АВТОБИОГРАФИЯ>
Родилась 26 сент<ября> 1892 г. в Москве.
Пишу с семи лет.
Первые книги (по духу — одна книга): „Вечерний альбом“ (1910 г.) и „Волшебный фонарь“ (1912 г.).
С 1912 г. по 1921 г. книг не выпускала. Отдельные циклы стихов в журнале „Северные записки“, „Альманахе муз“, „Салоне поэтов“.
В 1921 г. — сборник стихов „Версты“ (из<дательст>во „Костры“) и драмат<ическая> сцена „Конец Казановы“ (из<дательст>во „Созвездие“).
Последнюю вещь рассматриваю как напечатанный черновик, ибо корректуры из<дательст>во „Созвездие“ мне держать не дало. Пропуски, затемняющие смысл и опечатки. Рисунок тоже без моего утверждения.
С 1912 г. по 1922 г. книги: „Юношеские стихи“ (1913 г. — 1916 г.), „Версты I“ (проданная Гос<ударственному> из<дательст>ву), драматические сцены (кроме „Конца Казановы“) — „Приключение“, „Фортуна“; поэмы: „Царь-Девица“ (проданная Гос<у дарственному> из<дательст>ву), „На Красном Коне“ (Берлин, „Огоньки“).
Перевод (Северные записки, 1915 г.) роман Гр<афини>де Ноайль „Новое упование“.
Несколько неоконченных больших вещей.
<1922>
Примечания
1
Липы (нем.).
(обратно)2
Метро (нем.).
(обратно)3
Зоопарк (нем.).
(обратно)4
Через страданье — к радости (нем.).
(обратно)5
В последнюю секунду следующих две достоверности: 1. „Сестра моя Жизнь“ вовсе не первая его книга; 2. Название первой его книги не более и не менее, как „Поверх барьеров“. — Так или иначе, но барьер этот — в „Сестре моей Жизни“ — взят (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)6
„Клятва игры в мяч“ (фр.).
(обратно)7
Насквозь (нем.).
(обратно)8
„Правда и поэзия“ (нем.).
(обратно)9
„Великий Принцип — как Великий Конде!“ (фр.)
(обратно)10
Утопист, стремящийся улучшить мир (нем.).
(обратно)11
Пробуждения ребенка — торжествующие, пробуждения зрелого человека — угрюмы, а стариков — мрачны (фр.).
(обратно)12
Итак (лат.).
(обратно)13
„Ваша светлость, счастливейшая ночь!“ (ит.)
(обратно)14
„Разговоры с Гёте“ (нем.).
(обратно)15
Курсив мой (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)16
То же автор в гл. „Глушь“ говорит о некоторых помещиках (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)17
Проба сил (нем.).
(обратно)18
Казаться (фр.).
(обратно)19
Быть (фр.).
(обратно)20
Курсив мой (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)21
Напрасный труд — потерянное время — утрата родства (фр.).
(обратно)22
Военные и литературные очерки» (фр.).
(обратно)23
«Мои сады» (фр.).
(обратно)24
Две ценных книги по вопросам богословия (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)25
«После меня — хоть потоп!» (фр.)
(обратно)26
Божественный документ (фр.).
(обратно)27
Человеческого (фр.).
(обратно)28
«Все быстротечное — символ, сравнение» (пер. с нем. Б. Пастернака).
(обратно)29
«Птичий полет», «в облаках» (фр.).
(обратно)30
«Вспомните человека, которого спросили, почему он так усерден в своем искусстве, ведь его никто не может понять». «Мне достаточно и немногих, — ответил он. — Мне достаточно и одного, и даже ни одного» Монтень (фр.).
(обратно)31
«Злостно» уже не годится, ибо в «злостно» уже умысел (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)32
Дьявольская красота (фр.).
(обратно)33
Нарочно беру гадательное золото Рейна, в которое верят только поэты. (Rheingold. Dichtergold — Золото Рейна. Золото поэта (нем.).). Возьми я золото Перу, пример вышел бы убедительней. Так, он честней (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)34
«Все проходящее — лишь подобие» (нем.).
(обратно)35
Проходящее (нем.).
(обратно)36
Букв.: «вещь не стоит».
(обратно)37
«Я из тех, для кого видимый мир существует» (фр.).
(обратно)38
«Я слышу голоса, — говорила она, — которые повелевают мной…» (фр.)
(обратно)39
Пункт, меньше всего относящийся ко мне: 1) если я «и жить торопится и чувствовать спешит» — то, во всяком случае, не печатать: так, с 1912 г. по 1922 г. не напечатала ни одной книги; 2) спешка души еще не означает спешки пера: «Мулодца», якобы написанного «в один присест», я писала, не отрываясь, день за днем, три месяца. «Крысолова» (6 глав) — полгода; 3) под каждой моей строкой — «все, что могу в пределах данного часа».
О «легкости» же моего письма пусть скажут черновики (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)40
«Когда вас приветствуют толпы людей, с которыми вы незнакомы» (фр.).
(обратно)41
Славе — власть (фр.).
(обратно)42
Чисто, читай: черно. Чистота тетради именно чернота ее (примеч. М. Цветаевой)
(обратно)43
Что об этом скажут? (фр.).
(обратно)44
«Я, живущий в тысячелетьях» (нем.).
(обратно)45
Способности ориентироваться (нем.).
(обратно)46
Несмытый и несмываемый позор. Вот с чего должны были начать большевики! С чем покончить! Но лже-строки красуются. Ложь царя, ставшая ныне ложью народа (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)47
«Кто же не знает тебя, о великий Гёте! Замурованного в землю» (нем.).
(обратно)48
«Ремизов и эмигрантская критика». Статья, которая еще будет написана. Не мной — так другим. Не сейчас — так через сто лет (примеч. М. Цветаевой)
Примечание Редакции «Благонамеренного»:
Мнения о писателях не заказаны. Но если признать тон статьи А. А. Яблоновского о Ремизове не исключительным по своему цинизму, то где и в чем наше отличие от проводников марксистской идеологии?
(обратно)49
Сличить с первой строкой (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)50
«В живом стихотворении первоначальная хаотическая музыка всегда прояснена до беллетристики». Г. Адамович (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)51
Чей стих — не знаю (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)52
Защита Адамовичем улитки — в данном случае — явная самозащита (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)53
Всякая вода, кроме сельтерской, льется одинаково (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)54
Так Фета никто и не зовет (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)55
Словом, «fait du Tolstoп sans le savoir» — Подражать Толстому, не зная того (фр.). (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)56
«В один присест», «коробящие», «неприемлемые», «разухабисто», «лубочно», — все это приметы небрежности, безвкусия, но никак не мертвого стиля («Стилистически-мертво» — либо штампованно, либо замученно) (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)57
«Народным», в кавычках, то есть: лже-народным. Какое же тут должное и перед чем тут преклоняться? (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)58
Опять кавычки! (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)59
См. первый цветок «Цветника» (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)60
Бенедиктов не прозаик, а поэт (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)61
Кого, например? (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)62
В скобках текст М. Цветаевой.
(обратно)63
Со знанием дела (фр.)
(обратно)64
Пропуск в рукописи.
(обратно)65
Магистр чернил (нем.).
(обратно)66
Кавычки из будущего (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)67
Переписка (нем.).
(обратно)68
Переписка Гёте с ребенком (нем.).
(обратно)69
«Венок юности» Клеменса Брентано (нем.).
(обратно)70
Я не хочу взаимности! (нем.).
(обратно)71
Ты. Ты. Ты (нем.).
(обратно)72
«Хвалить должны мы» (нем.).
(обратно)73
«Эта книга для добрых, а не для злых!» (нем.).
(обратно)74
Петь? сказывать? сочинять? творить? — по-русски — нет (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)75
Записки Мальте Лауридса Бригге (фр.).
(обратно)76
Сады (фр.).
(обратно)77
Оставим это (фр.).
(обратно)78
Время — это я (фр.).
(обратно)79
Мое время — это мы (фр.).
(обратно)80
«От ожидания ничего не теряют» (фр.).
(обратно)81
Обреченное дело (фр.).
(обратно)82
Хорошую мину при плохой игре (фр.).
(обратно)83
Выдержки из статьи того же наименования, которую мой редактор Руднев превратил в отрывки. На эти вещи я злопамятна (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)84
«Земля в работе» (фр.).
(обратно)85
Гордый, когда я себя сравниваю (фр.).
(обратно)86
Униженный, когда я себя сравниваю, неизвестный, когда я себя рассматриваю (фр.).
(обратно)87
В игре (нем.).
(обратно)88
А все остальное — лишь литература (фр.).
(обратно)89
Не имеется (нем.).
(обратно)90
Одержимость (фр.).
(обратно)91
Обладание (фр.).
(обратно)92
Но намерение есть всегда (фр.).
(обратно)93
Маяковский (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)94
Одержимые (фр.).
(обратно)95
Счастлив тот, кто мог их изведать (фр.).
(обратно)96
И уж никогда — вам! (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)97
«А Пруст?» — «Но Пруст ведь умер, а мы говорим о живых» (фр.).
(обратно)98
Годы исканий (нем.).
(обратно)99
Поприще открыто для таланта, и даже не открыто, а даровано (фр.).
(обратно)100
Их цель была — цвести, а мы хотим трудиться незаметно (нем.).
(обратно)101
Бессмыслица (фр.).
(обратно)102
Орудиями, бутафорией (фр.).
(обратно)103
Беру любой пример. Смерть поэта:
Лишь был на лицах влажный сдвиг, Как в складках прорванного бредня.Слезный, влажный сдвиг, сдвинувший все лицо. Бредень прорван, проступила вода. — Слезы. (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)104
Приглашение в путь (фр.).
(обратно)105
Солнце выявит это! (нем.).
(обратно)106
Лишь в чувстве меры мастерство приятно (нем.).
(обратно)107
Мастер и шедевр (нем.).
(обратно)108
Орудиями, бутафорией (фр.)
(обратно)109
Мольба
(обратно)110
Темный взор, на мне покойся, Покори меня всего (нем.). (обратно)111
Не ниспровергатель! (нем.).
(обратно)112
«После размышлений о судьбе женщин во все времена и у всех народов я пришел к заключению, что вместо слова приветствия „здравствуй“ каждый мужчина должен говорить женщине: „Прости меня“» (фр.).
(обратно)113
У счастливых не бывает истории (фр.).
(обратно)114
Игра слов: полотно означает и полотно, и железную дорогу. Смысл: железные дороги разрушены, и ими нельзя пользоваться (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)115
Тосна и Дно — исторические железнодорожные станции. Через одну приехал Ленин, а на станции Дно царь отрекся от престола (примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)116
Здесь говорится о молодых террористах Народной Воли, которые делали бомбы (примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)117
Сказки нашей жизни и бытия (нем.).
(обратно)118
Ему не до этого (фр.).
(обратно)119
Предок Пушкина был приговорен к смерти Петром Великим (фр.).
(обратно)120
Есть в «Истории Пугачевского бунта» и Гринев, но там он подполковник и с Пугачевым не встречается (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)121
Боясь, чтобы он внезапно не умер от страха (фр.).
(обратно)122
Пропуск в рукописи.
(обратно)123
Пропуск в рукописи.
(обратно)


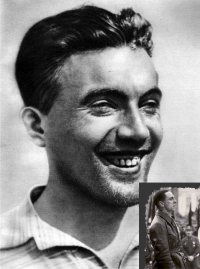
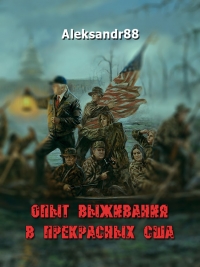
Комментарии к книге «Статьи, эссе», Марина Ивановна Цветаева
Всего 0 комментариев