Борис Черных Избранное в двух томах Том II Старые колодцы
Очерки
Иная жизнь
Далеко-далеко на востоке, в маленьком городе жил некогда Илья Павлович Митрохин, был он человек ординарный и тихий, в ординарности своей и канул бы в Лету, но случилось нечто, это нечто преобразило его быт, быт стал бытием.
В бытийном-то качестве Илья Павлович и заинтересовал меня, и не только меня, но и местечковых сожителей. А одно весьма патриотическое ведомство, вне забот коего устои народной жизни рухнут, посвятило Илье Павловичу специальное расследование, неприметное, – под стать предмету расследования. И все ближе к дому Ильи Павловича подступало дальнее погромыхивание.
Герой мой не придавал этому значения, потому что эпоха ввела посулы, схожие с нынешними. О правах человека напрямую не говорили, но косвенно как бы напоминали: живите спокойно, пришло желанное времечко. Но скоро погромыхивание обступило усадьбу, и Илья Павлович искренне подивился: о нем ли судачат и заботятся силы, судя по всему, доброжелательно настроенные? И если – о нем, то нельзя ли призрачный этот капитал пустить в оборот не для наживы, а на пользу дела?
А слава, перешагнув заплот огорода, пошла в раскат и в разлив по городу, так что Илья Павлович захотел вновь оказаться в безвестности и забвении, хотя, не новичок в жизни, он должен был давно смириться с превратностями судьбы, да и классика лучшие страницы посвятила непредсказуемости российских судеб. «Так, впрочем, чаще всего и бывает в нашей (видите, в „нашей“! – Б.Ч.) жизни. Целых лет двадцать человек занимается каким-нибудь делом, например читает римское право, а на двадцать первом – вдруг оказывается, что римское право ни при чем, что он даже не понимает его и не любит» а на самом деле тонкий садовод и горит любовью к цветам», – извольте, Михаил Булгаков, в романе «Белая гвардия».
Илье Павловичу Митрохину в конце концов приписали именно белый цвет, в то время как он был сиреневым с макушки до пят.
Искушенному читателю покажется – слишком поздно я раскопал эту историю. Скажу: вовсе не поздно, почти четверть века тому назад раскопал. А что выношу ее на свет именно сейчас, тому есть причины. Притом, кажется мне, в нынешних страстях обществу нужна пауза, передышка. Опамятование, если угодно. Авось цветочный рассказ мой хотя бы на час приглушит неумеренные стенания сограждан.
Но вернемся в ту давность, когда я работал в молодежной газете Приморья. Экзотическая Миллионка, теплые огни Золотого Рога, сухое вино, красивые женщины, нагишом купающиеся в ночных заливах, мало ли услад в юные годы. Но октябрь 1964 года пооборвал зеленые лепестки непрочной хрущевской оттепели.
Очерк об Илье Павловиче цензура сняла на третьем витке. То есть два отрывка явились свету, а потом Чернышев, первый секретарь крайкома, вызвал на ковер редактора и грозно молвил:
– Беляков начали славить?!
– Илья Павлович не беляк, – кротко отвечал редактор.
– Нам лучше известно, кто он! – И очерк «Гладиолусы» утонул в редакционном архиве.
Шли годы. Время от времени я просматривал старые записи в блокнотах, но всякий раз оказывалось, что не пробил час.
Весной этого года я вернулся в Приморье, чтобы восстановить в памяти забытую историю.
Отец Ильи – Павел Андреевич Митрохин служил объездчиком Иманского лесничества и ютился в небольшом домике под Иманом. Надворные постройки просты: баня, сенник, сарай для коровы, конюшня. Сыновья лесника, старший Илья и младший Ефрем, рано начали трудиться, сначала на домашнем подворье, а после по найму, у зажиточных.
В разгар национальной усобицы атаман Калмыков мобилизовал уссурийских казаков на трудгужповинность. Прихватив фураж, в таратайке, юный Илья на пятнадцатый день дунул дремучими лесами домой.
В 22-м Иманский ревком, зная, что на хате у Митрохиных прятались от калмыковцев окрестные жители, рекомендовал Илью, которому шел двадцать второй годок, стать управляющим таможней.
Когда раскаты Гражданской окончательно затихли, Илья Митрохин, сметливый от природы, стал счетоводом (бухгалтером – не хватило грамоты). В этом качестве он пробыл долго. Добросовестность и деловитость Ильи Павловича отметили сослуживцы и начальники, приняли его в партию, он посолиднел, женился, перебрался в город попрестижней – Уссурийск, выстроил дом на улице Пинегина. По заданию горкома выступал не раз с политкомментариями на текущие темы. Избрали Илью Павловича и в партбюро, здесь он тоже оставался деловитым и пунктуальным.
Но волны невиданной волевой энергии шли из центра России на Дальний Восток, и самая страшная волна докатилась.
Был взят опричниками командарм Василий Блюхер, затем в череде арестов взяли Ивана Петрова. Если Блюхера счетовод Митрохин знал по легендам и песням, то Петрова встречал ранее самолично, беседовал с ним, чаи пивали в молодости. У Ивана Григорьевича была незаемная слава: комиссар партизанского соединения, он отличился беспримерной храбростью при штурме Волочаевки (помните: «штурмовые ночи Спасска, волочаевские дни»?).
В Уссурийск та страшная волна вошла вечером. Стояла оттепель, капало с карнизов. Сослуживцев Ильи Павловича, будто на военные сборы, собрали под ночь. Разумеется, позвали его самого. Оказалось, не сборы, а собрание, чтобы демократически осудить на распыл маршала Блюхера и комиссара Петрова. Представитель горкома с трибуны объявил маршала и комиссара врагами народа. К дикой невероятности добавил другую: «Пособники японского империализма», – наивный Илья Павлович не догадался, что патриотическим ведомствам спущена количественная разнарядка по японским агентам, и счет кровавый требовалось срочно открыть.
Собрание пошамкало губами и проштемпелевало: «Быть по сему. Враги и шпионы». Затем в городе согнали еще одно собрание: тут ветераны Гражданской, потеряв остатки достоинства, соглашались с нелепым обвинением в адрес героев.
На первом собрании Илья Павлович чувствовал себя потерянным, дома, вернувшись, горестно размышлял о происходящем, а на втором собрании неожиданно (для себя неожиданно) подал голос.
– Я не верю в то, что Иван Григорьевич Петров мог стать пособником японских буржуев. – Всего-то и сказал.
Слушая совершенно нормальную речь Ильи Павловича, собрание ветеранов впало в абсурдное настроение, а К-й Михаил Дмитриевич, приятель старинный, крикнул, как бы спасая Митрохина:
– Ты не в своем уме!
Но опричники считали, напротив – в своем. На Илью Павловича организовали донос, переправили в горком, и карусель закрутилась.
Отныне началась иная жизнь Митрохина.
Слепому понятно, Илью Павловича должны были взять. Если маршалов и комиссаров берут, то кто посчитается с ним, маленьким человеком? Илья Павлович приготовил сверток со сменой белья и насушил сухарей. Дни и недели ждал гостей, потом месяцы. Но в механизм государственной гильотины попал песок, жернова притормозили тяжелый ход.
Илья Павлович остался на уссурийских улицах под вечным надзором. Для окружающих невзятие приговоренного к взятию казалось не только загадочным, но и оскорбительным. Значит, могли и они остаться чистыми, непорочными, сошло бы и им с рук или не сошло? На всякий случай те, кто ранее с Митрохиным здоровался, здороваться перестали. Кто приятельствовал – более не приятельствовал. Родной брат Ефрем публично, на страницах газеты, отрекся от старшего брата.
Глухое одиночество скоро обняло служащего горфо. Он захандрил, затосковал, занеможил. В крайне болезненном своем состоянии не разглядел, однако, что так же захандрили, затосковали, занеможили и те, кто руку ему более не протягивал, кто обходил его на улице. Лица соседей и сослуживцев обескровились, голоса потускнели, речи утратили первородство. Психиатры, возможно, знают, как точно назвать эту болезнь, связанную с утерей лица. Но доверять психиатрам не следует...
Ноша отверженного на миру оказалась не по плечу иманскому казаку. Уж лучше бы взяли, распнули, растерзали. Душа невинно убиенных отлетает в рай. Бедный Илья Павлович бродил по двору, ничто не занимало его слабый ум. Он пробовал увлечься домашней суетой – руки не держали лопату, молоток не угадывал по шляпке гвоздя.
Не потеряв в достоинстве, Илья Павлович опадал в теле. Начались корчи в животе, судороги стали сводить ногу. Тут, добивая, вызвали его на профилактическую беседу, потребовали покаяния. Должно бы наоборот быть – перед ним покаялись бы, отпущения грехов испросили бы. Но нет. Под страхом смерти потребовали окончательного унижения. Он покаялся, в чем – плохо понимал, но покаялся. И к пятидесяти годам сделался семидесятилетним стариком. Милосердные эскулапы спровадили его на инвалидную пенсию, протянет-де недолго.
Встал и потребовал разрешения обыденный вопрос: не о том, как жить, а как доживать век. Матрена Фоминична, жена, тоже сама не в себе, советовала предать забвению прошлое (кабы было оно прошлым!) и стараться начать новую жизнь. Иной она не назвала её. Есть ведь дрозд на черемуховой ветке, свежий наст снега на огороде. Есть запах лебеды и укропа. Есть река Уссури, утоли мои печали, Уссури...
Между тем в городе все мало-помалу забывали да и забыли Илью Павловича, будто его и не было на этих улицах. Дети считали его блаженным, но не трогали старика, не обижали, не дразнили.
Однажды Илья Павлович приковылял на рынок. Там, стоя среди грубо сколоченных рядов, он увидел маковку церкви и ранних грачей, облепивших голые дерева. Еще не осознавая до конца, что с ним происходит, Илья Павлович прицепился к цветочным семенам, щедрой россыпью опавшим на прилавки. Он купил знакомое с детства – горемыки. Легло на сердце: горемыки...
И, когда притащился домой, не упал на топчан, а, перемогаясь, потеснил в оконных горшках герань, высеял горемыки, пролил мягкой водой. С нескрываемой радостью наблюдала за мужем Матрена Фоминична и улучила минуту, подсунула ему журнал «Цветоводство», ранее чуть ли не презираемый за отстранение, за уход. Илья Павлович наугад открыл, и повело к благодати: «Осенью у гладиолусов наступает период глубокого покоя», – такое могло быть сказано и про него, Митрохина. Он вчитывался в страницы и нигде не нашел упоминания о классовой борьбе или о происках империалистов. Австралийские мальвы и тюльпаны из Голландии нигде не объявлялись космополитами. Так Илья Павлович сделался читателем пустого, по прежнему его представлению, журнала. Эх, если бы он догадывался, куда стежка эта приведет...
Городские надомники подсказали адреса, и Илья Павлович списался с селекционерами-самоучками, отослал им семена окультуренных полевых цветов уссурийской долины, в ответ получил сорта срединной полосы России, посеял грядку, наблюдал за всходами. Иная жизнь обретала почву. А конвертики писем по цепочке шли с семенами самых диковинных растений (иногда письма были вскрыты наглой рукой и на живинку заклеены). Оказалось, страна – от океана до океана – жива, но жива цветами, птицами, березовыми околками, а идеология этой полевой, васильковой страны пустопорожня и холодна. Тут я ничего не выдумываю и не додумываю. На годы репрессий пал расцвет голубеводства. Не только мальчишки, отцы и даже деды, нутром знавшие, сколь легкомысленно занятие голубями, предались странной забаве. Они спасали душу вживе. Тогда же начался всплеск в цветоводстве, к лютикам и настурциям припали изможденные и измордованные народы необъятной державы. Современные Пимены в кельях не заметили поразительного перекоса в увлечениях россиян, во всяком случае, летописи молчат о перекосе.
Илья Павлович прежде всего оборудовал подвал, чтобы клубни и луковицы могли спокойно дремать в умеренной прохладе зимой. Он побродил по округе: собрал лафтаки стекла и утеплил крохотную оранжерею; утеплив, стал с конца января выносить туда горячую золу из поддувала, оттаивал и парил впрок почву. Все волоком, стеная, но силы начали прибывать. Матрена Фоминична принудила его, как маленького, пить каждое утро молоко (тогда еще не нанесли удара по городским подворьям), молоко исцелило недуги.
Самозванец-цветовод скрестил далекие сорта гвоздик, дождался результата. Новички оказались стойкими к ночным температурам, а лепестки долго не опадали в вазах (пришлось раскошелиться на простенькие вазы). Дом на Пинегина постепенно окутывала дымка: одежда и шторы, старый пружинный диван пропитались цветочной пылью. Запах, едва уловимый и нежный, поселился и реял в комнатах и на веранде. Когда Илья Павлович выходил в город, легкое облачко сопровождало его по улицам, входило в магазины и в дома, светилось над ним.
Уверовав в себя, в новое призвание, Митрохин решил покуситься на гладиолусы, царственный вид которых вынуждал его до сих пор держаться от них на почтительном расстоянии. Илья Павлович холил и лелеял гладиолусы, догадываясь, что человеческая неделикатность (правдивее сказать – произвол) чужды изысканным особям, и краткий их век возвышеннее долгого людского века. И замыслы их – у цветов не может быть умысла – миротворческие. Гладиолусы не предадут человека на заклание, не обманут, не донесут на него. Опричнина невозможна в хороводе цветочном. Поникнув головками, они молча и всегда в гордом одиночестве уходят в небытие, избегая круговой поруки и жертвоприношения. Да, целая философия открылась моему герою.
Дитя воинственного века, пленник ложных упований, Илья Павлович рискнул выпестовать новый сорт гладиолуса: темный, почти черный. Траурный цвет подсказал имя – убиенного Ивана Петрова. Есть же иван-да-марья, есть анютины глазки, почему бы не быть Ивану Стойкому? Но курился еще фимиам тоталитарному режиму, и пришлось Ивана Стойкого зашифровать псевдонимом неблагозвучным, зато прозрачным – «Волочаевский комиссар». Что и говорить, не обладал утонченным вкусом отставной чиновник горфо. Зато сути он остался верен.
Впервые вынеся труд свой на городскую выставку цветов, он снискал признание общественности, бросившей его в минувшие лета на произвол судьбы. Незлобивый Илья Павлович воодушевился, и через три года собрание цветоводов края приветствовало оригинальные сорта гладиолусов. Смущали лишь имена оранжерейных пришельцев. Но грянул 1956-й, разомкнул уста Митрохина, и таинственные имена-псевдонимы были рассекречены. Сразу вспыхнул, даже воспалился интерес к забытому на домашней деляне безумцу. Тотчас же и усомнились в безумии его. На волне эйфории Илью Павловича восстановили в партии и возвели в сан красного партизана, несуразный для человека, окончательно ставшего сиреневым. Но слава в раскат и в разлив пошла по Уссурийску, и дрогнул Илья Павлович, поддался пионерам, те нацепили ему на грудь алый бант, чтобы с бантом этим прошел Митрохин по первомайской площади. Вот еще один опрометчивый поступок.
Завистливые глаза следили за поднявшимся из пепла Митрохиным, зависть же, как известно, – лишь смягченная форма алчности. Завистники припомнили главное, что делало Илью Павловича чужаком в стае бескрылых: не писал доносов, не подлизывался, хуже того – оскорбил всех, не соглашаясь с коллективным приговором в адрес врагов... Теперь-то, может быть, и не врагов, но тогда врагами объявленных. И хуже некуда – удалился из мира в схиму, в домашний монастырь. В монастыре же вынянчил идею проникнуть в сектантские ряды ревнителей революционной чистоты (малое участие в той усобице они считали индульгенцией на всю долгую и греховную жизнь).
И затеялась новая карусель. Время действия заревое, похожее на нынешнее.
И сейчас повыползали из комфортабельных щелей ревнители чистоты массовой селекции народного сознания. Вы слышите их голоса? Пробу негде ставить на этих ревнителях. Конформисты, еще три года назад они не давали живым слова сказать живое и по согласованию с ведомством славили ничтожных кормчих и присных вокруг, бильярдные шары подносили им на дачах и, сомкнув бесталанные ряды, уничтожали благоуханный сад, в котором что ни цветок, то на выбор, как в оранжерее Ильи Павловича Митрохина: Виктор Некрасов, Александр Твардовский, Александр Солженицын, Андрей Сахаров, Андрей Тарковский, Мстислав Ростропович. И твой росток в тени великих крыл топтали каблуками...
Перед внезапно сошедшимися из ниоткуда завистниками художник Митрохин оказался безоружен. Матрена Фоминична дельно посоветовала расстроить ряды противников, поименовав подлыми именами выведенные сорта георгинов, но Илья Павлович счел предложение циничным. Правда, на рынке сами покупатели предлагали Илье Павловичу поднять цены на его, Ильи Павловича, знаменитый теперь товар; и давно было пора построить новую, просторную оранжерею, с печью, зольным сусеком, и купить бы Матрене оренбургский платок...
А ветераны сходились в секции, в штабы. Немощные в поступке, они непрерывно заседали и в протоколах исходили ядом. Процитирую подлинные образчики их речей:
«Илья Митрохин с занятием города Иман войсками атамана Калмыкова поступил в таможню...»
«И.П. М-н имел звание (ох, нравится им слово „звание“! – Б.Ч.) чиновника».
«Мне известно, что Илья М-н и его отец, притворившийся лесничим, состояли в активе калмыковской банды» (вот уже и «банды»! – Б.Ч.)
«Илья М-н чистку не проходил». Верно, верно – посредством доноса не прошел Илья Павлович чистки, за что и был вычищен из партии. Но стукач за давностью лет не помнит, а может быть, и не ведает о том.
«За антипартийное поведение М-н исключен из партии». Еще одна проговорка: нравственный поступок Митрохина, оказывается, антипартиен в силу своей нравственности.
Пожар разгорался на пустом месте, но языки пламени не были красными – они были того цвета, какими были с тридцать третьего, виноват, с двадцать девятого года – коричневыми и единственно коричневыми. Таковыми они являются и нынче: там, где провозглашается охота на ведьм, френчи или партикулярные платья охотников, отражая их субстанциальную сущность, всегда коричневые.
С истинным удивлением Илья Павлович обнаружил, что Гражданская война не закончилась для них, она желанна и необходима. Она – бессмертный дух Льва Троцкого! – перманентна. Надобно изыскать врага – инакомыслящего, инакоговорящего, инакоцветущего, даже инакоотцветающего, даже и молчащего инако; а нет подходящего – выдумать, сочинить и, коль не удалось потушить его во младенчестве, в курной избе под Иманом или на улице Шатковской в Урийске (не путать с Уссурийском), спалить коричневым напалмом и корни прочь из земли, а пепелище засыпать хлоркой, чтобы кровь невинная не проросла розой или гладиолусом.
Городские вертухаи с олимпийским спокойствием наблюдали за погоней и травлей. Вертухаи знали истинный подтекст травли (вознесшийся не в меру художник должен быть остановлен), и сама атмосфера преследования устраивала вполне – изничтожение художника шло от имени общественности. Надо бы, в духе времени, дать слово гонимому, но застеснялись. Илья Павлович попытался предать гласности чудовищные мотивы травли – цензор, сам страстный цветовод, отказал.
Ветераны приняли несколько резолюций. Пока я не прочитал эти резолюции, я продолжал реалистично воспринимать обстановку в городе; хотя дыхание абсурда веяло в лицо, не хотелось верить, что абсурд овладел Россией на всю глубину бесконечных ее пространств. Ну где-нибудь в Урюпинске – там понятно, господа Головлевы и поручики Киже по тем землям хаживали, оно и не в диковинку. Но в благословенном Краю Восходящего Солнца...
Я прочитал несколько заявлений К-го Михаила Дмитриевича (того самого, что крикнул некогда на собрании Митрохину: «Ты не в своем уме!»). Витиеватый слог и смысл ускользающий, но в одном заявлении прорвалось: «Почему И.П. убегает от наших имен, когда дает названия цветам? Мы тоже воевали, питались травой и по лесам скрывались» (простодушно-то как!). Человек в почете, пенсионер, всегда желанный на чиновных этажах. Но мало почета и этажей, устланных коврами, если старинный приятель твой, обретший призвание художника, – правда, подпольно обретший, в домашнем затворничестве, – плодит сомнительные метафоры на цветочном фронте: гладиолус, посвященный Рютину, тогда мало кому известному, называет «За правое дело», Сергею Лазо – «Несожженный»[1], – Вячеславу Молотову – «Не все коту масленица». Коробит слух? Но есть и другие названия, уже достаточно утонченные (вкус – дело наживное): «Очей очарованье», «Мартовский снег», «Вдали от забот»... И снова почти выкрики: «Не сдамся», «За себя постою».
Лист 28 (на Митрохина заведено «дело»). Протокол 14 заседания бюро секции ветеранов Гражданской войны и бывших красных партизан (и правда – бывшие, давно переставшие ими быть) при исполкоме.
«Постановили:
Признать странным, что Митрохин, выводя новые сорта цветов и присваивая им имена героев революции, делает это совершенно произвольно, по собственному выбору».
Лист 30.
«Слушали: заявление (внеочередное! – Б.Ч.) бывшего партизана К-го М.Д.
Постановили:
1. Секция категорически возражает против отдельных моментов в работе Митрохина по выращиванию гладиолусов и присвоения им имен отдельных товарищей. (А товарищи все на погостах, под крестами и звездами, и в номерных могилах, безымянные... – Б.Ч.)
2. Работу цветоводу И.П. Митрохину можно проводить, но только под контролем соответствующих органов, а не произвольно».
Карусель, более похожая на гильотину, остановилась, кажется. Сформулировано и принято историческое решение. Митя Карамазов воскликнул бы здесь (стихийный был человек): «У, жуткая вещь – реализм!»
Против собрания, распинавшего Василия Блюхера и Ивана Петрова, смог Илья Павлович встать тогда ватными ногами. Но абсурду цветовод сопротивляться не смог и занеможил окончательно.
Скоро случилось то, что и должно было случиться. Утром Митрохин вышел во двор и заметил строчку шагов, обошедшую вокруг теплицы. Следы были махонькие и с копытцем. Так могла бы овца встать на задние ноги и пробраться сюда. С надветренной стороны овца остановилась, ощупала передними копытами окна, содрала замазку в пазах, отогнула гвоздочки и вынула стеклины, поставила аккуратно к стене и улетела. Следы обрывались на обратной тропе, последние отточия были глубокими, так как надо было оттолкнуться перед отлетом.
Нашествие «овцы» произошло в начале ночи – отроческие стебельки цветов скукожились и оледенели. Труд нескольких лет жизни оказался уничтоженным в одночасье.
Илья Павлович, прежде чем силы покинули его, навестил двух старых женщин, немых соратников, раздарил клубни георгинов и луковицы гладиолусов, а также семена володушки и ирисов, попрощался молча, вернулся домой и умер.
Я бродил по Уссурийску с женщиной нового поколения. Завязь весны пьянила улицы города.
А женщина, с печальной складкой у рта, с замедленным взором, вместе со мной возвращалась в былое, которое было не ее былым...
Апрель – май 1989 года
Уссурийск – Владивосток-Иркутск
Весенние костры
В моем письменном столе хранятся ятаган, кривой турецкий кинжал – давний его подарок, путевые тетради и фотопленки его десяти экспозиций. Вернулись вещи ко мне при странных обстоятельствах. Сестра из дома прислала письмо. «Был перед госпиталем Питухин, – говорилось в нем. – Оставил свои бумаги и пленки. Сказал, что „ему (то есть тебе) будет интересно“. Он сильно сдал. Походы, видно, его измотали. Потом я запросила госпиталь. Мне ответили, что его с осложнениями перевели в другой госпиталь. Прошел год, и вот я пишу тебе».
Я вытребовал посылкой все к себе, и предчувствие тоже кольнуло меня, когда я прочитал в его дневнике: «Вся жизнь вместилась на вокзалах, я жил годами в поездах…Не оттого ли так устало мерцает огонек в глазах? Не оттого ли, оттого ли все тяжелее дома жить? Не оттого ли тянет в поле бессмысленно с ружьем бродить». Перемена в этом человеке, словно разбитом усталостью, так не вязалась с тем, прежним Питухиным, который некогда у Заболоцкого выписал стих: « И если смерть застигнет у снегов, лишь одного просил бы у судьбы я: так умереть, как умирал Седов»[2].
Я тут же написал во всякие военные инстанции, но ответа не дождался: диковинной, наверное, казалась моя просьба сообщить адрес офицера такого-то и, следовательно, дислокацию его части.
И вот случайная командировка на Дальний Восток снова привела меня на тихую улицу Шатковскую, в родимый город Свободный, где долгие зимние часы одинокого отрочества я делил с квартирантом, военным топографом Питухиным. Бывший наш дом был заселен чужими людьми, я не решился войти в него. Но под теми же березами, опушенными легким февральским снегопадом, я дал обещание написать о человеке, который был первым моим учителем.
Я встречал людей, апостольски следовавших по стопам своих учителей, исповедовавших их догматы неукоснительно и истово. Я встречал людей вообще без наследственной традиции, людей без веры, космополитов, не знающих родства. Те и другие – жалки. Первые – откровенные рабы; вторые – талантливые или бесталанные дилетанты в жизни, перекати-поле, склоняющие выи перед любым мало-мальски крепким характером, заушательски не соглашающиеся с господином случаем, но остающиеся игрушкой в его руках.
Я вернулся во Владимир. Стоял кроткий апрель. Клязьма еще не вскрылась, но снег уже сошел, высох; и в старом парке, где некогда Герцен с Натальей гуляли под липами, однажды я услышал запах первых костров. Жгли прошлогоднюю листву. Детвора со всех окрестных школ, осененная куполами Успенского собора, прыгала через огонь. Дворники в белых передниках, похожие на раздобревших снегирей, бесшумно и быстро сгребали новые кучи.
Помните ли вы свои весенние костры? Как, скинувши кепчонку,– помните? – вы разбегаетесь и что есть мочи отталкиваетесь от земли и, как Ваня-дурачок, поплыли, поплыли над костром.
Помните ли? – вы идете по улицам вашего небольшого дальневосточного города, и ничто для вас не существует, а лишь тот крепкий вечерний запах догорающих костров...
И еще – помните? – в постель вы ложитесь, совершенно измаявшись, а от белой простыни, от подушки тоже почему-то пахнет костром, прогревшимся тополем, мамой.
На Дальнем Востоке костры – давняя традиция, некий обряд освящения весны. Мы собирали хрусткую картофельную ботву, разжигали высокий огонь. Питухин, если он еще был в городе, не отказывался прыгать через костер первым. Когда он разбегался, белая рубаха пузырилась, и диво было видеть Питухина, выплывшего из огня живым и невредимым.
В мае мы ходили по городу с подгоревшими бровями, и сосед, дядя Петрован, чтобы образумить Геньку, моего приятеля, купил ему настоящие брюки под ремень. А до того мы ходили в сатиновых или теплых шароварах на резинке. И Питухин, пошептавшись с мамой, купил мне шерстяные брюки и подарил свой узкий скрипучий ремешок.
Чудной нам попался постоялец. Как и все офицеры, он много курил; у него была серая заношенная шинель – «ШЭКС», шинель экспедиционная; коньяк на ужин и иногда на обед. Но когда он нес льняную голову свою по провинциальному Свободному и серебряные погоны тлели на его прямых и сильных плечах, было в нем что-то похожее на Георгия Седова, когда тот замышлял дерзкое путешествие к Северному полюсу.
Владимир Михайлович Питухин попросился к нам на квартиру, когда я учился в пятом классе. С гарнизонными офицерами население восточных городов уживается хорошо и привычно. Офицеры обычно снимают маленькие флигели или комнаты и вскоре становятся почти своими в семье. И когда офицеров переводят в другое место – жизнь у них неоседлая,– то еще долго идут письма и всяческие поздравления, с днем рождения, с Рождеством и т д.
Так было и у нас. Во время войны в нашем городе была кавалерийская часть, на квартире у нас стояли тогда веселые и бесшабашные люди. Неподалеку была тогда база Амурской флотилии, город пестрел черными бушлатами и бескозырками.
Потом пришла пора исследователей, топографов и геологов. И в наш дом вошел Питухин. Девятая школа, где я коротал зимы в ожидании весенних костров, не много занимала у меня времени. Но пришел топограф Питухин, и время мое затрещало по швам. Питухин ввел жесткий распорядок дня; он обрабатывал результаты экспедиции, черкал что-то в толстой тетради в коленкоровом переплете, ходил молча часами. До поздней ночи в комнате горела самодельная настольная лампа. Я большей частью читал, но иногда получал от Питухина странные задачи на географической карте. Например. Экспедиция Н., вылетевшая самолетом, потеряла радиосвязь с землей на третьем часу полета. Место вылета – Новосибирск. Курс – строго на северо-восток. Определить широту и долготу квадрата предполагаемой катастрофы. Далее. Н. и двое уцелевших товарищей пошли на юг по компасу. Компас давал отклонение на одном градусе тридцать километров (компас оказался поврежденным при падении самолета). Средняя скорость движения группы – 10 км в сутки. Время движения – три месяца (компас уводил людей в тайгу, ненастная погода мешала хотя бы приблизительно вести отсчет по солнцу). Им пришлось зазимовать. Погиб еще один. Н. был в отчаянии. Но тут на них наткнулись аборигены-охотники. В каком это произошло квадрате, на какой восточной долготе и северной широте?
Вот это были задачи! Я и в топоотряд ходил смотреть на офицеров, обросших черными бородами, как на прообразы легендарного Н. Я стрелял на полигоне из стрелкового оружия не в фанерные мишени, а в медведей, в кабанов, в сохатых. Сладкий запах сгоревшего пороха туманил мне голову.
Вечерами в наших комнатах часто толпились офицеры. Приходил медленный и тяжелый Борейко[3] – так я звал его, а на самом деле Николай Михайлович Игнатьев; вбегал Леня Леонтьев, бедокур и непоседа; позднее появился Джага – так звали молодого лейтенанта Бориса Шампарова. Имя таежное «Джага» привязалось с легкой руки проводника в камчатской экспедиции, да и осталось. Говорили, полковник Никитин, начальник топографического отряда, так и звал его: «Лейтенант Джага».
Были и другие офицеры – теперь безымянные за давностью лет.
Джага в полевой сумке всегда имел запас коньяка. Он говорил, что это у него наследственная слабость. Леонтьеву приносили гитару, на кухне переставала стучать швейная машина «Зингер», к нам выходила мама. Мама любила казачьи песни, на которые Леонтьев был мастак.
Джага вздыхал, ему не повезло с проводником.
– Оказался угрюмым и жестоким. Знаете ли вы, что такое с пяти метров расстрелять в гнезде орлят? Они на крыло еще не стали, а он их в упор. Маяться пришлось весь маршрут.
«Угрюмый проводник», «маршрут», «увалы» – какой, в сущности, незатейливый язык, но сколько в нем притягательной силы для пятнадцатилетнего мальчишки в любую эпоху. Мне казалось, Пржевальский сойдет сейчас с портрета, присядет вместе с нами, пошебаршит усы и поддакнет Джаге.
Они все – Питухин, Игнатьев, Леонтьев, Джага – почти одновременно закончили Ленинградское топографическое училище, и много в их разговорах было примет города – Дворцовая площадь, Медный всадник, Нева... Они клялись, что вместе когда-нибудь соберутся и поедут на Иссык-Куль поклониться праху Пржевальского. Выполнили ли они свою клятву, не знаю, но в пленках топографа я неожиданно обнаружил три кадра: скромная могила Пржевальского, обнесенная железной оградой, памятник и уголок музея. Питухин читал стихи. Стихов он знал много (я не догадывался, что среди читаных были и его).
Запомнилось: «Мой старый фрак» Беранже и «К временщику» Кондратия Рылеева.
Питухин был потомственным помором. Как-то наш злополучный сосед, дядя Петрован, сильно ругался и назвал Геньку сволочью. Питухин усмехнулся:
– А ты знаешь, Годунов (такую кличку он дал мне), «сволочи» – это доброе слово. В Архангельской губернии мужики по суше ладьи свои волочили, и потому их звали сволочами.
Топографом он решил стать после армии, после фронта (на фронт он ушел добровольцем семнадцати лет, в сорок третьем). Ему повезло – не только потому, что училище было на Петроградской, но и потому, что еще был жив Берг. Питухин напросился на встречу к старику.
У Берга была большая и пустынная квартира – видимо, следствие блокадных лет, и Берг любил поговорить с будущими географами.
Лев Семенович Берг оставался живой легендой, наследником потрясающих успехов русской географической науки в XIX веке.
Окончив Московский университет с дипломом первой степени в 1898 году, он был практиком – зоологом, натуралистом и путешественником, а потом, когда здоровье не позволило кочевать, стал теоретиком и историком.
Еще в 1908 году за классическую монографию «Аральское море» он был удостоен Географическим обществом Золотой медали имени Петра Семенова-Тян-Шанского.
Берг садился в кресло напротив Питухина и говорил:
– Ну-с, продолжайте ваш рассказ. В прошлый раз я, к сожалению, не смог дослушать...– Берг был непоправимо ранен временем, ему шел восьмой десяток.
Курсант Питухин описывал Бергу природу Архангельского края, обычаи поморов, рассказывал о фронте.
Вскоре Берг умер. Питухин не смог принести цветы на его могилу, потому что началась страда экспедиций: чукотская, зейская, камчатская.
Все экспедиции, наверное, начинаются одинаково. Позднее мне приходилось участвовать в геологической и археологической партиях. У топографов начало было похожим. Много праздничной суеты, хлопот. Тусклые полевые погоны вдруг преображают офицеров; у них исчезает подпрыгивающая походка, потому что на ногах уже не сапоги, а мягкие ичиги. Плац в топоотряде пустеет. Озабоченные солдаты увязывают вещмешки, упаковывают продовольствие, чистят лошадей, лоснящихся нагулянным за зиму жиром. И в канун отправления отряда целая часть города, словно старинный посад перед уходом воинов, дымит кухнями, гремит ведрами у колодезных рам – готовит проводы, потому что уходят свои, кровные, родные, уходят на лишения; но как уходят – с гиком, в горьковатой веселости. И «Прощание славянки» на последнем построении медными трубами разрывает сердца горожан, и город как будто немеет.
Питухин уходил из города кротким и тихим. Однажды я подсмотрел в его дневнике: «Уходить из Свободного тяжело, будто из родимого дома. А в городе все так же будет дымить хлебозавод, разнося вокруг теплые запахи опары. Но идти надо – снова и снова, чтобы не зарастала тропа, проложенная не нами; увы, мы идем по проторенным тропам, но и то честь: идти вторым». Питухин осознавал себя наследником Роборовского, Потанина, Берга, но не декларировал этого. Он был так же одержим в поиске, он был так же неутомим в походах, хотя фронтовые ранения и профессиональные болезни все серьезнее осложняли его бытие. Он воспитывал свой интеллект, постигал культуру за домашним столом, и любимым изречением у него было: «После хлеба образование является первой необходимостью человека». Он знал, конечно, что офицеры – участники знаменитых и незнаменитых экспедиций в дебри Центральной Азии или в Полесье – воспитывались на Плутархе, Шекспире, Гёте. Они частенько не догадывались о противоречиях, раздиравших уклад Российской империи. Но, прозревая для себя в 14 декабря гибельный пример, они уходили – не убегали ли? – в дальние пределы и страны. Строки поэта как нельзя лучше передавали их немудрящую философию и жизненный идеал:
Домик с зелеными ставнями, Снова согрей и прими. Грежу забытыми, давними, Близкими сердцу людьми.Но каким исполином рядом с этими прекрасными, но камерными строками жил стих, громкоголосо читанный Питухиным тогда, в дальнем пятьдесят втором году:
– Сволочи! – Я бросаю слово в грязную одиночку, И ненависть лавой в груди моей клокочет, – стих о Греции. В Греции было тогда плохо. Казарменный режим душил мысль, поэзию, науку. И в запредельной России неведомый лейтенант читал этот стих, ненавидя тиранию, как ненавидит ее афинянин. Но за Грецией – вставала Россия, уставшая в безмолвии мертвых зон от Камчатки до Балтики. И доброе поморское слово «сволочи» в устах лейтенанта Питухина вдруг становилось острым.
Краем уха я слышал в разговорах топографов, что то ли уж век такой у нас: ядерная физика, химия,– географическая наука отошла на второй план, а топографическая служба, ранее приписанная непосредственно к Генеральному штабу, тоже переживает сложное время; или, сокрушались топографы, своими алмазами и нефтяными угодьями геологи затмили их, первопроходцев?
Но слышал я имя Арсения Кузнецова. Кузнецов был именно военным топографом. Он погиб, изыскивая трассу на Совгавань; карту нашли у него на груди; по этой карте пошли строители. Арсений Кузнецов жил в холодную пору тридцатых годов, но с величайшим достоинством нес звание военного топографа. Посмертное признание его подвижнического труда вошло в учебники и в легенды. Вспоминая Кузнецова, Джага вздыхал:
– Вот уже прожил гору лет, а еще ничего не сделано для бессмертия.
Джага был честолюбив. Леонтьев стучал длинными пальцами по портрету Пржевальского и говорил Игнатьеву:
– Тезка твой избрал тропу изгоя. Не о славе, не о бессмертии мечтал человек, а о свободе, потому как чем меньше человек имеет, тем он больше свободен.
Питухин в дымном и шумном застолье почти не принимал участия. Работник, постигший тщету скорого исполнения желаний, он понимал, что застолье – только приправа к серьезному, целомудренному опыту жизни. Я видел иногда улыбку, которой он сопровождал пылкие речи Джаги и резонерство Леонтьева. Но никогда он не попрекнул друзей своих обидным словом. Мне это было непонятно, и однажды я спросил его прямо, зачем он терпит беззаботность товарищей. Питухин рассмеялся:
– Эх, Годунов, не знаешь ты, какие это прекрасные люди. Они не получили классического образования, верно, но они добры, человечны, открыты. Они не отягощены большими заботами, но зато они искренни в участии. Притом, учти, они военная косточка, но бурбонами не стали, не поднаторели в доносах.
Вскоре, однако, я заметил, что бутылки из-под коньяка исчезли в нашей квартире. Питухин продолжал все так же вставать в пять утра и до ухода на службу в топоотряд успевал прочитать полкниги или исписать несколько страниц мелким бисерным почерком. А после службы снова садился к столу.
И настал черед Сихотэ-Алиньской партии. Шел 1956 год. Я заканчивал школу. В голове была сумятица от надвигающихся экзаменов по математике, безвестность будущего волновала. И Джага говорил не ко времени:
– Хочешь в экспедицию на Сихотэ рядовым?
Я, разумеется, хотел. По военному делу, по географии, по естествознанию у меня всегда было пять.
Я не задумывался тогда, какой это тяжкий, изнурительный труд – топография. Буколические дымки на привалах, лесные запахи, настоянные на дикой смородине и черемухе, прятали от меня непарадную суть этого труда.
В Сихотэ-Алиньской экспедиции Питухин вел дневник. Я заново перечитываю его страницы:
«Завтра утром мы встанем. Ты сядешь шить кимоно. А я в сапогах, заплатка к заплатке, пойду к Шаману. Это высокая и холодная гора. Мне надо положить ее на карту».
Строчки эти записаны последовательно, не столбиком, хотя они кажутся мне стихотворением. И еще одно, трудное признание:
«Тысячи красивых мужчин окружают тебя. А я живу в палатке, в длинной долине Сеенку. Ты лежишь в постели, слушаешь городские крики и хочешь закрыть окно. А я, упав на ветки стланика, осмысливаю бытие».
Владимир Клавдиевич Арсеньев как-то писал:
«Красота жизни заключается в резких контрастах, как было бы приятно из удэгейской юрты попасть в богатый дом...
После долгого питья из кружки дешевого кирпичного чая с привкусом дыма с каким удовольствием я пил хороший чай из стакана! С каким удовольствием я сходил в парикмахерскую, вымылся в бане и затем лег в чистую постель с мягкой подушкой».
Но пусть вас не обворожат счастливые, почти эпикурейские строчки, навеянные городом, его долгожданностью.
«Посох достал я с чердака,– написал в том апреле Питухин...– Я опробовал себя, трижды перепрыгнув через высокий костер на нашем дворе, далось мне это нелегко, молодость – признаемся в тридцать лет – ушла. Потому и достал я посох. Вот и начало нового годичного круга. Начну не спеша очень нужное в жизни движение».
«Движение» – почти формула, почти девиз.
Арсеньев прошел путь от села Троицкого на Амуре до Императорской, ныне Советской, Гавани по рекам Анюй, Тотто и другим в 1908–1910 годах. В 1927 году он почти повторил этот маршрут, на четыреста километров разойдясь с будущей тропой моего топографа. Но если первая экспедиция Арсеньева была снаряжена специально Русским географическим обществом в честь 50-летия со дня официального присоединения Дальневосточного края к России и ее руководитель уходил в путешествие, как поэт, то единственной задачей экспедиции Питухина было положить на карту речки, ручьи, низменности, горы, уточнить данные аэрофотосъемок, дать наименования. Черная, но необходимая работа.
Что мы знаем сегодня о Сихотэ-Алине? Что там живут остатки племени удэге, или туземцы, как называл их Арсеньев? Что там водятся тигры? Ну, а еще? И оказывается, все еще очень мало.
В долину Сеенку проводник-удэгеец отказался вести отряд:
– Моя туда не ходи. Там злой Шаман и сердитая вода дерется.
Отряд повел Питухин. Они продирались сквозь тайгу, шли через болота. Там, где тяжелая поклажа затягивала лошадей в топь, выручал Дзоциев, молодой двадцатилетний солдат родом из Дагестана. Дзоциев был человеком страшной силы, руки его легко ломали подкову. А длинная, сухая спина его несла груз в сто килограммов, если другие выбивались из сил. Дзоциева в отряде звали «батя», он был не по годам степенен и мудр…
Помимо экзотических красот и деловых записей, Сихотэ-Алиньский дневник позволил заглянуть в быт военной топографической экспедиции, увидеть ее будни.
С фотографий на нас смотрят юные бородатые люди: Харт, Матвеев, Белозубов, Абылгазиев, Попов, Бутыльский. Русские, татары, белорус, кавказец в одном маленьком отряде.
Харта-Растегина, в отряде его звали Паганелем (он не расставался с большой поцарапанной лупой и мечтал после армии стать зоологом), командировали с Романом Бутыльским на Шаман, самую высокую вершину северных отрогов Сихотэ-Алиня. Они должны были жить на вершине долгие недели, их наблюдательная станция измеряла высоту других, малых вершин и глубину урочищ и марей, потом эти измерения позволили составить карту рельефа.
Горное половодье, заполнив ущелья и тальвеги водой, отрезало надолго от отряда, и они перемигивались ночными кострами с нижней станцией. А в ненастье и костры молчали.
Питухин с большой симпатией описывает этих юношей. Бутыльский, к примеру, физически не мог существовать, не работая.
Харт по совету командира решил загадку странного ночного воя в окрестностях Шамана (этот-то вой и пугал случайных охотников в этих местах). Отыскав «эпицентр» воя, в жуткое место попал любознательный Харт: огромные скальные обнажения создавали перепад на пути сквозняков; попадая сюда, ночные ветры с моря отзывались утробным гулом, эхо кроило его по-своему, делая то пронзительным, то низким, как октава океанского лайнера.
Питухин сумел увидеть в Сихотэ-Алине не только экзотические картины природы. На месте бывших лагерей, где томились люди, в том числе и невинные, тысячи невинных, у оставленных, будто про запас, бараков он, сидя на пне, записывает исповедально: «Сподобился видеть тяжкие следы недавнего былого, молчал.» Многое роднит их, русских офицеров, но иной, дореволюционной эпохи, с нашими топографами. Энциклопедичность познаний, тон письма, доброта отношений в самом отряде. Как знать, может быть, позднее ими заинтересуются издательства – хотя бы специализированные: географическое или военное[4].
Ведь историей топографической службы, начиная с первого промера в 1868 году ширины Керченского пролива (между городами Тамань и Керчь) и до наших дней, мне, непосвященному, кажется, никто всерьез не занимался.
В нашей комнате, помимо иностранцев Ливингстона и Брема, Джеймса Кука и Нансена, стояли толстые тома отчетов и путевых дневников Лисянского и Крузенштерна, Беллинсгаузена и Потанина, Козлова и Витковского, Обручева и Певцова – представителей большей частью армии и флота. Поэтому не случайной оказалась работа Питухина «Страницы истории военно-топографической службы».
Одно удивляет, когда я заново просматриваю содержимое своего письменного стола: кто он, топограф – натуралист, поэт, историк?
Я знаю, он ходил по земле без компаса. По звездам узнавал время – с ошибкой в три-пять минут.
Он писал новеллы. Читая их, я вспоминал рассказы Сетон-Томпсона.
Он писал тайные движения женьшеня. В рукописях есть отдельная работа, она так и называется: «Женьшень».
А вот строчки из дневника под названием «Совесть»:
«Дайте мне право думать, что „совесть“ – категория худо исследованная. Опускаясь в пропасти и поднимаясь на вершины, теряя друзей и вновь обретая их, я часто останавливался в неведении и раздумье: совесть – какой хрупкий барометр. Малейшее движение воздуха – и уже колебания, и беспросветность, и безнадежность. Но вдруг столько солнца и тепла. На весь мир.
Как трудно становятся плохими люди, совестливые по своей натуре, с какими мучениями, с какими самоотречениями!
Но с каким возвышенным челом служат они потом своим идолам. Изредка, опускаясь в давние тайники, они плачут о невозвратимом и – ожесточаются».
Он отлично стрелял в цель.
Он любил слепые дожди. Он считал, слепые дожди помогают человеку не стареть. Об этом мне потом рассказывали топографы.
Я написал, что многое роднит Питухина с предшественниками по армейской службе.
Но я хорошо вижу в нем и новое. Он был начисто лишен барственности, попросту он уже не знал ее. В лесу он не мог идти налегке, поровну с солдатами делил поклажу, даже Дзоциев не мог у него отобрать рюкзак. Он и в дневнике признавался: «Делю тоску разлук тяжелых,– мне лучшей доли не найти,– по городам, станицам, селам с друзьями в избранном пути. Делюсь последней папиросой, единственным глотком воды...»
Из Сихотэ-Алиньской экспедиции я получил от него целое послание, уже на Иркутский университет: «Видишь ли, Годунов, история российского офицерства богата высокими и иными примерами. Именами иллюстрировать не буду, хотя можно поступить проще, взять героев литературных произведений – от Швабрина, Грушницкого, Алексея Вронского до Ромашова и Сани Григорьева, они дадут обширную картину нравственных поисков или бездуховности. Ты должен заметить, лучшие из них любили не мундир, полагали себя гражданами на военной службе. Но в час беды все они становились в ряды народного ополчения, чтобы застоять Отечество грудью или погибнуть. И в этом мы им наследуем.
Ты можешь кое в чем упрекнуть моих сослуживцев, но прежде ты должен понять эпоху, а потом и Джагу, и Леонтьева, и Игнатьева. Нам досталось суровое время. В военные годы мы знали, как мы нужны стране и как страна нуждается в нас. А потом, потом, Годунов, жить было тяжко – но мы избрали солдатскую лямку и не отреклись от нее. Я надеюсь, твоему поколению будет легче. Хотя все непредсказуемо и очень шатко в России»…
Однако я хочу цитировать дальше. Слишком долго это письмо дожидалось своего часа.
«Я рядовой человек, последний из могикан-географов, которому суждено нанести на карту сто ручьев и сто болот – так мало рядом с великанами, наследником коих я считаю себя.
Итак, смиряюсь – маленький человек. Но, может быть, с большим человеческим достоинством».
Нам не довелось больше встретиться. К тетрадям и пленкам была приложена записка, датированная 16 мая 1966 года:
«Мои бумаги побереги. Так, на всякий случай... В сорок лет гуляю по госпиталям. Ревматизм, полиневрит и прочая чертовщина. Отпылали мои весенние костры. А твои отпылали?
В. Питухин, армейский капитан, действительный член Географического общества СССР»
Чистая лампада
Прикасаясь к большому явлению в Искусстве, каждый должен давать себе отчет, имеет ли он право на прикосновение.
Один пил вино с художником и теперь имеет право сказать: «Мы пили вино высокими стаканами». Высокое вино.
Другой катался в лодке с художником.
Третий однажды на премьере видел автора, забрасываемого белыми цветами…
Я не был близким другом Александра Вампилова. Больше того, мы были иногда в антагонизме, ибо Вампилов не понимал, как это человек, вооруженный опытом прошлого, сохраняет веру в некое переустройство общества на нравственных началах.
Воспоминания мои будут субъективными.
Однажды в майский день мы вынесли стулья из редакции «Советской молодежи»[5] и, встав на них, ждали явления народу Фиделя Кастро Рус. Мы – это электрик Владимир Яналов, прораб Зоя Пшеорская, плотники Виктор Грошев и Александр Крымский. Было тепло. Кубинские и наши флаги трепетали над карнизами домов.
Толпа неистово взликовала, когда машина с Анастасом Микояном и Фиделем Кастро покатилась на нас. И Александр Вампилов сказал: «Массовое действо. Пора бросать чепчики».
Правда, «кричали женщины „ура!“ и в воздух чепчики бросали».
На четвертом курсе в университетской газете я печатаю рассказ «Юнкер Карецкий». Меня интересует эволюция юнкерского мятежа в Иркутске. Гражданская бойня.
Со мною знакомится Александр Вампилов, я приглядываюсь к нему – смуглый, полуизможденный парень в сером пиджаке. Он курит сигарету и скупо хвалит меня, или не меня, а юнкера Карецкого.
В январе глубоко личные переживания продиктовали этюд «Люся выходит замуж». Хочу напечатать его в молодежной газете, но девицы (тогда было много эмансипированных девиц в редакции) восстают. Меня выручает Вампилов. Он появляется в дверях, когда я готовлюсь назвать девиц дрянью. Он читает этюд, мы выходим в коридор. Он снова хвалит меня, на сей раз меня, называя этюд стихотворением в прозе.
Знакомство состоялось и окрепло. 27 февраля 1961 года запись в дневнике: «Вампилов – Санин. „Феодал с гитарой“. Чувство языка. Смеялся. Феодал с гитарой… Сцены из нерыцарских времен».
Когда возникло в Иркутске творческое объединение молодых, и Александр Вампилов спросил, почему я не поставлю на обсуждение свои рассказы, я ответил отказом: обстановка в Объединении претила мне. Там готовились и росли художники, они говорили о запахах, о цветах, о нюансах, о характере. Я не понимал поиска, начатого Вампиловым. «Стечение обстоятельств», тонкая и довольно смешная книжка, обещала поверхностного сатирика. Рассказы «Тополя» и «Станция Тайшет» казались вторичными. Увы, я торопился с выводами, но встреча на берегу Байкала приоткрыла глубину мышления Александра Вампилова.
Август 1962 года был горячим, как в прифронтовой полосе. Я избран секретарем комитета ВЛКСМ строительства Байкальского целлюлозного завода: у меня девятнадцать первичных организаций, промбаза, микрорайон будущего города. Я изучаю пешком строительство, но больше езжу на дежурных машинах. Солнце жарит дороги, пыль забивает легкие, но возле Управления строительства тишина – березовая роща водит хоровод, в кабинах спят шоферы. Ветра нет, но благодатная лесная тень спасает от жары.
Я иду от столбовой дороги к конторе, по тропе навстречу мне двигаются парень и девушка. Она светловолосая и вся в белом. Он тоже в белой рубашке, пиджак через плечо перекинут – Саня Вампилов.
Пасхальная эта картинка до сих пор перед глазами. В березовой роще сквозит солнце. Тишина. И идут двое, стройные и юные. Не люди, а символы на берегу прекрасного озера. (Я привык видеть грязные спецовки парней и неприхотливость в одежде девчат.)
Мы здороваемся и садимся на поваленное дерево. И спрашивает Вампилов:
– Ну, как твои, Боря, потешные полки?
Я ищу спасения в диалектических связях: потешные солдаты Петра, потом гвардия Преображенского и Семеновского полков, костяк армии и лоно вольнодумства. Каре на Сенатской площади.
Я отвечаю оптимистично:
– Потешные полки дерутся.
– Во славу уничтожения Байкала?
– Почему же – возрождения! Мы возродим жизнь на его берегах, построим дома и цеха. Мы позовем художников, чтобы достойно отобразить бодрую жизнь на этой земле…
– А источник вы сохраните? – Он даже не спрашивает, а констатирует.
Я молчу. Мне кажутся странными суждения пришельца в белом.
– Мы ищем пристанище – пожить, подышать озоном, – говорит Вампилов, разряжая неловкую паузу.
И девушка Люся робко улыбается.
А мне чудится упрек: напоследок, пока цел источник, приехал он сюда с подругой. Холодно я советую им ехать в Выдрино или Утулик: там патриархальная тишина и по вечерам играет гармошка.
Но на прощание Вампилов вдруг просит миролюбиво:
– Ты в тетрадь пиши свою эпопею. – «Эпопея» произносится с той дозой иронии, на которую он был мастер.
Проходят недели и месяцы, у меня открываются постепенно глаза. «Пиши в тетрадь эпопею»… Зачем писать? Как документ близорукости? Как дневник современника, избравшего торную дорогу?
Противоречия, обуревавшие меня, я плохо передаю в очерке «Пронин думает о жизни». Вампилов хвалит очерк. Я пытаюсь узнать, за что хвалит. Оказывается, всего лишь за один абзац, вот он: «Ночью случилась гроза. Серые наросты ворон опали с криком, и пришло лето…»
В 1963 году я вернулся в Иркутск и стал работать в обкоме комсомола. Уже в Байкальске поиски концепции мироощущения поставили меня в положение одинокого лыжника. Будто я вышел вместе со всеми с соратниками, а потом ушел вперед (или отстал?) и заблудился в лесу. В обкоме одиночество усугубилось и вылилось в полное почти отшельничество…
Диковинная это была эпоха. Борьба с абстракционизмом и вызов тоталитарному режиму в Китае, разоблачение преступлений культа личности Сталина и догматизм, проникавший во все поры государственного организма.
Меня интересовала гласная оппозиция догматизму. Хорошим инструментом в достижении этой цели было творческое объединение, но оно оказалось разгромленным.
Я отдавал себе отчет, что истинным вождем молодого Иркутска был Вампилов. Я нашел его.
Вампилов сказал:
– Надо найти лояльную почву для контактов с партийными руководителями.
Формулировка явного политического оттенка «лояльная почва» меня удивила, передо мной был другой Вампилов, зрелый муж, уже не юноша. Думаю, и он понял истинные причины моей заинтересованности в реорганизации ТОМа.
Смехотворна была первая реакция секретарей обкома на мое предложение восстановить ТОМ, больше того – конституировать его решением бюро обкома. Степаненко в кабинете шепотом произносил имя писателя Юлия Файбышенко, у Гетманского[6] в глазах темнело, когда он говорил об «этих демагогах-писателях». Вот я сказал – смешно. А и печально: как легко мы делаем «врагов» из своей интеллигенции… На мое предложение секретари ответили тяжким покачиванием головой. Пришлось прибегнуть к соображениям престижного порядка. «Если не мы, так сельский обком возьмет на себя руководство ТОМом», – и шпилька угодила в больное место.
ТОМ начал новый круг. Мы вошли в бюро; Шугаева, рвущегося на пост формального лидера, избрали председателем. Скоро я понял, что Вячеславу Шугаеву фирма ТОМ требуется для рекламы и самоутверждения. Если Вампилов мечтал о творческом обсуждении писательского ремесла и искусства и – да! – пропаганде наших взглядов, иные этого не хотели, а может быть, и не были способны на это: красноречия, гениальной памятливости Юлия Файбышенко явно не хватало для создания подобающей атмосферы.
Но несколько событийных вечеров состоялось. Приведу для примера аргументированный разгром антихудожественного «творения» Леонида Ханбекова; автор навсегда оставил худое перо, отдавшись административной карьере[7].
Вампилов принимал во всем равное участие. По его совету я написал статью, в которой критиковал литературность рассказов Бориса Лапина; и тут далеко вперед смотрел Саша. Несколько лет спустя на читинском семинаре окончательный разгром Б.Лапину устроит бескомпромиссный Виктор Астафьев.
Но отыскались противники и у Саши. Цензура, с благословения Антипина Е.Н., секретаря обкома партии, сняла в газете сцену из его пьесы, и Вампилов узнал, что в декабре на областной конференции «Молодость, творчество, современность» его собираются критиковать весьма сурово, «в назидание»…
– А это, как ты понимаешь, вовсе ни к чему мне нынче, – выстраданно говорил он, придя в обком комсомола.
Вампилов оказался прозорливым.
Писать доклад поручили мне. Я написал его либерально, поощряя творчество молодых. Примеры (доклад без примеров не доклад) я отыскал самые положительные. Но доклад мой секретари обкома забраковали: в нем не было четкой «классовой позиции», то есть зубодробительной критики.
В неумелые руки взял перо Борис Гетманский и написал свой вариант доклада, нашпиговал его цитатами и суровым морализаторством[8]. В качестве козла отпущения был избран Вампилов. Я уговорил – стыдно, но надо признаться в этом – заменить Вампилова прозаиком Альбертом Гурулевым. Гурулев напечатал в «Советской молодежи» рассказ «Ель», вкусный эскиз к рассказу об одинокой старухе. Вот я и предложил раскритиковать Гурулева «за мотивы печали», «за уход от героической действительности»… Что не сделаешь во имя спасения Александра Вампилова?! Мое предложение приняли. Драматург наш приободрился, а Гурулев недолго был озадачен, но потом сказал с горечью:
– Все же хоть такое, но внимание.
Я казнил себя, но молчал. Теперь я прошу прощения у писателя Гурулева.
После я редко видел Вампилова, и собственные мои переживания в эти годы так уплотнены, что я не решаюсь всегда точно датировать встречи и беседы с Александром Вампиловым.
Помню маленькую заметку за его подписью. Вампилов пишет о фильме Козинцева: «Гамлет – откровенный тираноборец, и эта трансформация героя поучительна и актуальна. Резонер и нерешительный человек бросает вызов силам зла…» Цитирую по памяти и думаю, что заметка была опубликована ранее 1964 года.
Кажется, в это время Игнатий Дворецкий читал в Доме писателей свою пьесу «Мост и скрипка». После чтения кто-то посетовал: милиционер в пьесе показан неблагополучным. Тотчас поднял руку Вампилов и оспорил это мнение. «Движение характера, – говорил он, – предполагает именно такого героя, и сглаживать характер не следует». Позиция Вампилова – хоть штрихом сохранить дыхание жизни – примечательна.
Зима не перепаде в 1965 году. Вампилов и Шугаев возвращаются из Москвы.
– Француз Рекомболь считает, что твой (мой.– Б.Ч.) Ленин придумал революцию. Сидел в лондонской библиотеке и думал: «А не сделать ли и в России революцию, мероприятие презабавное». – Он говорит шаржированно, отстраненно и даже имя француза явно выдумал, но ему любопытна моя реакция.
Удачна ли поездка в Москву?
– Ты тут локти обдираешь, а они курицу едят, – безадресно и поэтому непонятно.
Видели Твардовского и говорили с ним. Неужто и Твардовский «курицу ест»?
– Мужик ничего… А вот Липатов пьет водку и икрой заедает. Но по какому праву? По праву клоуна…
Нет, Вампилов не в духе. Но тема «Твардовский и “Новый мир”», прочно сшитая великолепным языком Вампилова, стала на много дней главной в журналистском и писательском мире Иркутска.
Оказывается, при всей своей величественности Твардовский всерьез говорил с молодыми литераторами из Сибири. Как он курит, как молчит, как афористично высказывается; как даже пьет вино – по полному праву: классик и вождь посконной России, – все знали мы о Твардовском из первых рук, впитывая сочный и грубый юмор и непробиваемую мощь его логики. Журнал Твардовского сделался духовным руководителем настолько, что печатание Преловским стихов в «Октябре» у Кочетова воспринималось как ренегатство.
Разговор о поэзии. Хвалит стихи в «Советской молодежи» Юрия Артюхова и Славы Эпельштейна, вспоминает Блока, спрашивает, что люблю у Блока. Слушает. Потом читает свое:
– Похоронят, зароют глубоко, Бедный холмик травой порастет, И услышим: далеко, высоко На земле где-то дождик идет…Читает безыскусно, но в безыскусности – душа ранимая.
На два часа я получил пьесу «Прощание в июне» и, сидя в редакции, читаю. Вампилов ждет, что я скажу. Пленительное свойство у Вампилова – он хочет знать мнение своего товарища, он доверяется на мгновение, но доверяется полно.
– Пьеса написана мастером, – говорю я Александру Вампилову. – Можно поздравить тебя.
– Не врешь? – пытливо он смотрит в глаза. – Впрочем, ты ведь никогда не врешь, опасный ты человек.
– Только странно, – говорю я.
– Что странно?
– Очищение Колесова с привкусом авторской заданности странно…
– Говори, говори!
– А я уже сказал. Привкус есть. Но пьеса совершенна.
– Ничего себе – совершенна. Нахал! В штатском!
– Да мне показалось. Что же поделаешь?
– Ну, нахал, – он качает кудрявой головой, и мне жаль, что я огорчил его.
Дважды мы сходились, чтобы поговорить. Мои экстремистские речи не нравились ему – в них преобладало политическое направление, а он, как не раз передавали мне, надеялся, что я засяду за стол. Эта его вера нашла трогательное подтверждение в таком факте. Однажды мы из редакционных столов переносили в библиотеку всякий хлам – в связи с ремонтом, что ли? – и в столе обнаружили целое хранилище Сани. Там были блокноты, старые кирзовые сапоги, его рубашка. В этом собрании на глаза попалась вырезка из районной газеты – то был мой давний рассказ «Кочевник». Позднее в журнале «Юность» я рассказал о человеке, послужившем прототипом кочевника.
В одной из бесед Вампилов сердито ругал моего приятеля А.Попова. Оказывается, в университете шла дискуссия о так называемой дегероизации литературы, и Попов, аспирант кафедры философии, ссылаясь на Ульяновых, говорил молодым писателям: «Чем же Ленин не герой? Его не спрячешь, не снивелируешь. Он по самому большому счету герой, он совестлив и честен, и литература это отразила…» – и так далее.
Возражать против этого было бы опасно. И Вампилов решил, что прием, примененный Поповым, незаконен и двусмыслен.
Приступ черной меланхолии привел однажды Вампилова в редакцию, и одновременно пришла Ольга. Я уговорил его отослать Ольгу домой и пображничать. Он берет Ольгу под руку, ласково смотрит в ее красивое лицо и уводит по Киевской в тишину. Проходит час, он возвращается.
– Мы ждем дите, надо же понять Ольгу, – грустно говорит он.
Мне становится стыдно за мое поведение. Но мы все равно едем за плотину, в скучнейший поселок ГЭС, к сестрам М. По дороге мы говорим не о жизни – о женщинах.
– Горько это, Боря. Говорила: «Я люблю тебя. Ты с другой, а я люблю тебя. Ты далеко – я люблю тебя. Ты приходи когда хочешь, хоть через пять лет, я тебя пожалею. Пришел через год. Стучусь. В общежитии на Пятой Армии[9] живет. Открывает. «Ах, Саня, что же ты не предупредил меня? Ну, проходи…» Прохожу. Сидит фраер на табуретке. И она уже любит его, а не меня! Глаза у нее виноватые. Я мнусь, потом говорю: «До свидания или прощайте, как угодно». У нее виноватые глаза, но она смотрит на парня, он ей дорог… Я ухожу, иду по этой церкви. Иду и плачу.
Была душа – вынули душу. Не любил я ее, но она жалела меня. И вот сидит парень…
Через час у Сани в руках гитара.
Я на Верхней Охте квартирую. Две сестры хозяйствуют в дому, Самым первым в жизни поцалуем Памятные детству моему, – он читает Межирова и не по-сибирски вычленяет «а»: «поцалуем».
Семья, любимая жена, ожидание ребенка и горечь измены Н., прелестные глупые сестры.
Для ригориста, сторонника условной морали, ситуация фантастическая и опасная. Но чем лучше те, что умом постигли разврат, износились в партийном блуде, в словесном вожделении?..
Ни разу, однако, в разгульные часы и минуты я не замечал в Вампилове пошлости. Изящный в своих проявлениях, он был рыцарски великодушен не только к товарищам, но и к случайным знакомым; и только в крайних ситуациях раздражение прорывалось у него – но изысканно и тонко и оттого остро и убийственно.
В нем не было произвола – вот что главное. Гармония личностных начал исключала произвол. Если он решался на приговор, то почти всегда взвешенно. Так он однажды не вытерпел менторский тон иркутского газетчика Р. и сделал ему едкое замечание, и Р. понял серьезность позиции Вампилова. В другом случае помню, как высмеял разгульное хлебосольство Евгения Раппопорта, коим хозяин умело формулировал чрезмерные литературные претензии…
Анатолий Преловский после гибели Александра Валентиновича сетовал на некую странность, которая развела его с Вампиловым, а между тем достаточно знать тенденциозный и коварный характер Преловского, чтобы односторонность его начинала раздражать и требовать протеста. Я не решаюсь назвать поэзию Преловского тенденциозной, но мне пришлось слышать от Вампилова суровое суждение о старшем товарище по цеху: «Плохой, из рук вон, драматург, но поэт старательный».
В январе 1970 года я запомнил счастливого Вампилова. Зимние каникулы в разгаре. Я приехал в Иркутск и зашел, как всегда, в колыбель нашу – в редакцию – и застал там Вампилова. С каким-то подобострастным человеком он читал статью в университетской газете – о премьере «Старшего сына». Статья написана в восторженном тоне, автор ее, очевидно, перед драматургом. Вампилова смутили чеховские эпитеты, он отказался читать этакий компот; поднялся навстречу мне, мы поздоровались. Разговор наш был недолгим, ибо я спешил к сыну, а Саня – Саня не спешил никуда, потому что только что вышла в свет «Утиная охота».
Он попросил у кого-то ручку и подписал последний экземпляр журнала. При этом он смеялся, узнав, что Юлий Файбышенко на иркутян надел эполеты: Вампилову достались генеральские, Машкину – полковничьи… В этой табели я выбрал себе высшее кубинское звание – майор. Саня улыбался, когда сочинял дарственную надпись:
«Боре Черных, майору, которого к моему удовольствию знавал еще старшиной, на добрую память. А.Вампилов. 8.1.70 г. Иркутск».
Весной 1972 года мы увиделись в Москве, совершенно случайно. Иркутский историк И.С.Вахрушев и я пришли на Центральный телеграф, и в большом зале Александр Вампилов, желтый и небритый, потряс меня крепко за плечо. Я потерянно узнал его.
– Первая моя пьеса наконец-то пойдет – тьфу, тьфу! – в столице. Сижу работаю. Надо кое-что выписать.
Мы обменялись телефонными номерами. Через день или два он позвонил под ночь:
– Ты, верно, звонил, а меня не было, мытарили, пришлось пить. А завтра окно, давай встретимся, лучше утром – никто не будет мешать.
Назавтра мы встретились в маленькой комнате гостиницы «Будапешт». Над столом у Сани висела афиша Ленинградского драмтеатра – «Два анекдота» в постановке Александра Товстоногова. Оказывается, Вампилов написал «Провинциальные анекдоты»; но провинцию идеологи отменили, и название пьесы пришлось менять.
Мы сходили, не одеваясь, в кондитерскую, купили снеди, Саня попросил коридорного принести чай.
– Этот Юван Шесталов, что встретил нас у выхода, великий национальный писатель. Однажды в тусклые минуты я подумал: «Провинциальный драматург Вампилов». А почему бы не стать национальным писателем? Бурятская кровь во мне течет? Течет… Покатилась бы жизнь как у Бога за пазухой… Теперь, слава Тебе, Господи, это ни к чему. Но разве я не прав был десять лет назад, когда говорил: «Оставь политику»?.. Сеятель сеет, а всходы гибнут на корню. Владимир Войнович хотел на трибуну выйти. Усомнился в таланте, Робеспьер… Пока был жив Твардовский и «Новый мир», дыхание теплилось. Но теперь поря осесть, взять перо и до упаду сидеть за столом. Перо – вот оружие на Руси, в любую погоду.
Он рассказал о премьере в Ленинграде и о старшем Товстоногове:
– Живет без партбилета, а дело делает и врачует, врачует… А у нас в Иркутске, не поверишь, пятачок… Как бы ты поступил, Боря, сейчас? Ты старой закалки экстремист. Как бы ты поступил раньше, я знаю. А нынче?.. У нас там сущее столпотворение! Все борцы и меня в рекруты зовут. Женя Суворов – ему бы истину уяснить и писать. А он – в суете, до сорока лет.
Чем дальше и горячее он говорит, тем большее раздумье овладевает мной.
– Когда-то все творческое объединение было пятачком, – сказал я.
Вампилов усмехнулся.
– Ну. Помитинговали. Но потом сели за стол. И, согласись, кое-что написали.
– Ты не думай, – сказал Вампилов, – я не хочу уезжать из Иркутска. Мне Ленинград предложили, с хатой. Но это чужой город. Рубцова знаешь? Он жил в Вологде. Но сумел бы он сохранить себя в Москве?
– Но он не сохранил себя и в Вологде, – сказал я банальную истину.
Вампилов вздохнул.
– Однажды мы с Петькой Пиницей[10], – вдруг вспомнил он, – Петька приезжал в Иркутск, шли мимо дома твоего. И сын твой стоял в окне… Тебе надо вернуться в Иркутск.
Меня ранил этот зрительный образ: сын мой Андрей стоял в окне…
Тут телефонный звонок заставил его собираться в театр на переговоры. Мы вышли в полусумрак улочки, где стоит «Будапешт», потом выбрались дворами на широкий проспект и – расстались.
В июле мне удалось получить командировку в Сибирь. Я встретился с сыном; мы жили, как я и обещал, в палатке на берегу Иркута, слушали ночные всхлипы парома, шли нудные дожди, вода в реке прибывала, просветов в свинцовом небе не было. Мы удрали от дождей в город.
Адриан Митрофанович Топоров просил меня передать письмо Валентину Распутину, но и Распутина не было в Иркутске. Вскоре вернулся с Байкала Вампилов. Мы пошли с Андреем к нему в гости.
Нас встретила Ольга, сильно возмужавшая женщина. Дочь Елена, раскосая и темнолицая в отца, усадила нас в кресла. Мы недолго ждали Саню, он звонил в Москву, где уже шли репетиции. Он вернулся возбужденный и радостный, и мы пошли искать вино. В магазинах действовал вечерний запрет, пришлось идти в кафе. Там давка. У стойки пьяные мужики выклянчивают водку. Чтобы не влезать в чудовищную толпу, мы попросили официантку, и она принесла нам бутылку шампанского.
Пока мы охотились за вином, Андрей, с разрешения Сани, рассматривал книги и отыскал Сервантеса. Погас свет, и тут между нашими детьми была маленькая борьба. Лена, как шаманка, стала выкликать духов, пугать Андрея:
– Сейчас придет Бабай и схватит тебя. Сейчас придет Бабай…
Андрей темноты не боялся. Еленино пугание было забавно ему.
Ольга рассказала, как на Байкале хозяйский мальчик, вконец запуганный шаманством Елены, не спал ночами. Андрей подтвердил неожиданное дарование младшей Вампиловой, и Саня слушал эти байки с нескрываемым наслаждением.
– Отец, пришли мне «Дон Кихота», – попросил Андрей.
– А не рано? – я посмотрел на Саню.
Саня сказал:
– Дон Кихот отговаривает сына читать Сервантеса. Себя стесняешься? Пусть почитает, как ты воевал с ветряными мельницами… Слушай, а что с ними творится – Андрей в очках, у Ленки тоже плохо со зрением?..
– Много лет назад я взял у тебя Гарсиа Лорку и не вернул. Еще когда ты жил в Ново-Ленино, – вспомнил я.
– Я переболел Лоркой. Теперь я хочу садить огород.
– Он прямо заболел этим домом в порту Байкала, – сказала Ольга. – Мы решили купить дом. Там одних дров на три года хватит. Но у нас не хватает денег, и можно опоздать – хозяин продаст дом.
– Деньги найдем, – сказал Вампилов, – огород будем садить.
– Мне пора вылетать в Москву, а письмо Топорова я не сумел передать Распутину, – сказал я.
Вампилов обещал передать письмо и спросил, как я познакомился с Топоровым.
Я рассказал.
– Мы с Валентином как-то читали его «Крестьяне о писателях». Гениальная книга. Язык первозданный.
Вампилов прочитал письмо (Адриан Митрофанович не стал, разумеется, запечатывать конверт).
– Ядовитый старик, – усмехнулся Вампилов. – Щедринской породы. «Честные писатели всегда на Руси бичевали злочинцев».
Потом он вдруг сказал, будто решившись:
– Меня сильно огорчил Слава Шугаев. Последняя моя пьеса[11] была снята из номера с его помощью, может быть косвенной, но с его помощью. Антипин, как всегда, выступал дирижером, а Слава солистом. И рассказ Димы Сергеева выкинули. Я-то ладно, переживу, но Дима заработал право печататься… Пусть румяный критик разложит на части рассказ, но опубликованный уже. Конформист, сказал я Славе, конформист ты, Слава… Я понимаю, Мольер стелил Людовику постель, но «Тартюфа» до сих пор запрещают ставить на сцене… Некоторые же умудряются стелить постель и не умеют писать правду. Хотят преуспеть там и тут. Но Шугаев просчитался. Ему лучше уехать из Иркутска…
Мы заговорили о Зилове. Я назвал его прекрасным человеком. Это удивило Вампилова и обрадовало.
– Некоторые считают его монстром. – Он взял с полки журнал «Театр». – Вот что пишет некая дама…
Он прочитал отрывок, написанный в ослепленном состоянии, – Зилову отказывали в гражданстве. Мой спекулятивный ум подсказал и здесь «выход»:
– Но все-таки это лучше, чем замалчивание творчества[12].
– Лучше быть распятым, зато публично?.. А дама пишет: он злодей, он монстр… Потом, лет через сколько-то, поставят и будут играть не нас, не Зилова, а злодейство, а?! Или этакого Хлестакова закрутят…– размышлял он вслух.
Больше всего поразило в речи Вампилова – он отстранялся от своего детища и понимал, что те, кто будут ставить, играть, «закручивать Хлестакова», – они все это будут делать самоуверенно, игнорируя многозначительность героя и сложную позицию автора. Может быть, после него, когда автор уже не сумеет вмешаться…
– Я встретил недавно бывшую свою жену. Не задалась жизнь. Разошлась с мужем. Ребенок без отца… Прекрасная женщина – и не везет. Бьется как рыба об лед.
Сейчас, когда я пишу эти строки, фраза эта, сказанная вне связи с общим ходом разговора, выступающая из него как алогичность, прочитывается по-новому.
Безмерная вампиловская доброта видна в его отзывах о товарищах, которые работали рядом с ним менее успешно, в меру отпущенного таланта.
– Как живет Петр Иванович Реутский? Пьет вино и пишет стихи. Хороший он человек, мы его любим… Сергей Иоффе? Поэма «Командир» была недурственным началом, а потом суета одолела Сергея. Надо работать, он еще может отвоевать пласт.
Но рядом с этим отзывом – узнаю: в Москве Вампилов беседовал с Анатолием Жигулиным, упрашивая того облегчить прием Иоффе в Союз писателей.
Национальный вопрос:
– Актер в Ленинградском драматическом подходит ко мне: «Ты еврей?» – «Да, если угодно, я еврей, только бурят, монгол». – «А почему они говорят о тебе: „Он наш“? – „Кто они“? – „Кто? Евреи!“ – „Это для меня тайна. Пожалуй, я больше монгол, чем еврей“. Успокоился парень, в „Старшем сыне“ играл удачно…
– Чулимск – Илимск? Нет и да. Чуминск? Наверное, нет. Черт его знает, здесь есть какой-то потайной ход, вот и название пришло…
– Я думаю, как лучше обустроить твое возвращение…Вот придем мы к Антипину, а он не в духе или делает вид, что не в духе. И говорит: «Нечего ему делать в Иркутске». Мы говорим: «Есть».– «Ну, так вы и приглашайте его. А я ни при чем», – и откивает. А может и по-другому решить: блудный сын все равно возвращается домой!.. Надо прикинуться, Боря, блудным сыном. А Евстафия нарядить отцом… Постель для начала постелив. Что делать, иногда приходится постель для Людовика стелить… Или поставить в условия свершившегося факта – ты вернулся. И затем строить мосты…
– За стол мы тебя посадим. Это все чушь – ты не Толстой. Ты Черных. Твоей жизни десятерым хватит. У тебя – опыт, его надо записать, на серой бумаге стройно и последовательно изложить…
Главное совершено. Эта мысль пришла ко мне после прочтения «Утиной охоты» более чем за год до трагедии на Байкале…
Догадывались ли современники, с кем они рядом жили, курили свои сигареты, пили вино и соки? Оберегали ли они Дарование, Талант?
27 марта 1973 года в газете «Советская культура» появилась статья Антипина, секретаря Иркутского обкома партии по идеологии: «Третий сезон не сходят с афиш пьесы безвременно ушедшего из жизни одаренного драматурга А.Вампилова „Прощание в июне“ и „Старший сын“…»
Этому иезуиту, святоше Антипину история дала право тоже быть современником художника – с первых шагов и до последнего мгновения Е.Н. Антипин был черной тенью, неусыпно сопровождавшей писателя.
Провинциальный Бенкендорф, небесталанно игравший охранительную роль при одном из лучших отрядов отечественной литературы, продолжает и сейчас фарисействовать. Это его стараниями снимались прямо с газетных и журнальных полос пьесы Александра Вампилова; это его указующий перст не давал Вампилову многие годы пробиться на сцену в родном городе. Это Антипину принадлежит последний укол в сердце, которое разорвалось в байкальских водах. Пусть говорят иные об эпохе, микроклимате. Но существует и персональная ответственность заплечных дел мастеров, кои преуспели в своем ремесле…
1973
Добавление
Мне не дает покоя фигура Зилова… Только волшебник, волхв может по наитию поставить за дверьми любовницу, и Зилов, этот неправильный человек в правильном мире пошлости и цинизма, Зилов, страдая, будет кричать не ей, а жене-мученице (и зал будет содрогаться, ибо безнадежная правда в этом монологе):
– Я сам виноват, я знаю. Я сам довел тебя до этого… Я тебя замучил, но клянусь тебе, мне самому противна такая жизнь... Ты права, мне все это безразлично, все на свете… Что со мной делается, я не знаю… Неужели у меня нет сердца?.. Да, да, у меня нет ничего – только ты, сегодня я это понял, ты слышишь? Что у меня есть, кроме тебя? Друзья? Нет у меня никаких друзей… Женщины? Да, они были, но зачем? Они мне не нужны, поверь мне… А что еще? Работа моя что ли? Боже мой! Да пойми ты меня, разве можно все это принимать близко к сердцу! Я один, ничего у меня в жизни нет, кроме тебя, помоги мне! Без тебя мне крышка… Уедем куда-нибудь! Начнем сначала, уж не такие мы старые… Ты меня слышишь?
И другая женщина, юная и не искушенная в жизненных бедах, отвечает: «Да». Она соглашается ехать на… охоту.
– Только там, – страшные слова кричит он ей, нет, не ей, а жене («там» – на безлюдье), – чувствуешь себя человеком.
Этот монолог и вообще вся мизансцена написаны кровью писателя – в них все мы, в них я и мои товарищи – в одиночных камерах своих квартир.
Чацкий говорил монологи перед глупыми людьми (кажется, это заметил еще Пушкин). Но поставьте себя на его место, и вы тоже станете кричать в «хохочущий сброд». Вы попадете в глупое положение, над вами будут смеяться… Но молчание может удушить.
Опыт драматургии не позволяет современному писателю, если он наделен беспощадным талантом, повторять прошлое.
Арбенин ревнует и отравляет свою жену. Ленский стреляется. Катерина бежит к реке. Средневековые страсти царствуют в золотом веке нашей литературы.
Вампилов не может в Зилове повторить предшественников, но вовсе не потому, что боится повторения. Время изменилось!
И умный и безусловно честный человек, Зилов играет в поддавки – он пьет с ними, Аликами, водку он будто бы болтает с ними, – но он всюду отсутствует. Он формально здесь, в этой сцене, в этом акте. Но присмотритесь, прислушайтесь, если вы способны прислушиваться, – его нет с ними. Он – вне этого круга, вне этого порочного, бездуховного общества; но тлен коснулся и его лица.
Камю в «Постороннем» дал типаж выпадения личности из общества, из эпохи, из самое себя. Распад достиг той разрушительной стадии, когда человеку следует самоуничтожиться, самоустраниться.
Таков ли Зилов? Ничего подобного! Не он выпал из общества, а общество выпало из нравственного круга, и он – притворяющийся циником Зилов – с сарказмом клеймит его и проклинает.
Но, как Печорин, уехать в Персию не может. Зилов умнее своих литературных предшественников на целое столетие.
Прекрасный человек погибает на наших глазах. Вот так и мы, поставленные в ложные обстоятельства, играем придуманный водевиль. Фарс стал частью жизни. Естество утрачено, мы участвуем в игре. Роли расписаны. И если Бог наделил нас умом и порядочностью, мы сыграем даже не роль, а присутствие в игре. Так взрослые играют в детей с детьми, притворяются и шепелявят, чтобы облегчить детям бытие среди враждебного взрослого мира.
Мы выматываем свои силы, играть в водевиль не хочется. Но если все играют, то что остается, как не устремиться и нам в это шествие масок.
Когда иудеи приводят Иисуса к Понтию Пилату, Пилат выглядывает в окно, как собственник автомобиля.
Иисус повторяет: «Я пришел свидетельствовать об истине».
Пилат, все не отрываясь от окна: «Что есть истина?..» – и, не дожидаясь ответа (ответ ему не интересен, ибо истина во дворе – собственная легковая машина), уходит.
В «Утиной охоте» Пилат – прокуратор Кушак.
Однажды Александр Валентинович произнес фразу:
– Ваше поведение с достаточной остротой для советского человека не сообразуется.
Я запомнил ее.
В деревенской школе на Тамбовщине я вел у ребят факультатив по искусству. Вот как рассуждали юные критики, распознающие природу слова.
Юра Ивахник, крестьянский сын:
– Это говорит маленький начальник своему подчиненному. Этот начальник хочет походить на большого начальника. У него никак не получается, он надувается, как гусь, и шипит.
Тоня Гридасова, дочь учетчицы:
– Он мнения о себе куда там, а сам вот какой, – ноготь показывает. – Противный тип.
Саша Струков, сын учителя:
– Глупый, изо всех сил притворяется умным.
Одна фраза, так и не реализованная Вампиловым за письменным столом. Художественная и социальная фактура настолько уплотнена, что эта фраза становится одноактной пьесой.
Не требовать должности, молчать, уходить от теневых бесед с власть имущими – означает быть в оппозиции.
Времена изменились. Но те же моральные постулаты диктуют единственно моральный путь. Согласитесь, странное и гадкое впечатление производили бы сотрудники «Нового мира», соратники Твардовского, если бы их имена продолжали мелькать в советской печати.
Но всегда и везде были люди, которые демонстративным непротивлением злу насилием делались духовными вождями.
Педагог Станислав Теофилович Шацкий, высокоталантливый певец, отрекся от голоса и Большого театра. Ему казалось глупым каждодневно упражнять горло, когда сироты просили обыкновенной ласки.
Альберт Швейцер оставляет пропахшую духами Европу, теологию и орган и лечит прокаженных в джунглях.
И нынче многие люди не хотят петь арии или писать о сталеварах. Но общественного поприща нет, или – точнее они не видят, или не верят в него; и Зиловы мучают жен, агонизируют, умирают. И куда-то все порываются уйти…
1978
Крестьянские дети
Летом по утрам снятся Юрке Смолинскому диковинные сны. Бугор за Ниловой пустошью будто проваливается в бездну, роща возле Церковного пруда теряет листву, и ветер несет снег, кладбище с черными крестами над могилами кочетовцев становится белым.
В избе тихо и сонно. Посапывают сестры, отцово место на кровати пустует. Ухватом громыхнула на кухне мать.
Все привычно: запахи, вещи, звуки – зыбкие знаки утра. Зачем, однако, белый снег посреди лета пригрезился?
Юрка с печи спрашивает мать:
– Зачем, мам, все белое снится?
– Чего-о? – удивленно смотрит на Юрку мать. Самой Антонине Петровне давненько не снится ничего – день проходит в колготне, ночь в забытьи.– А у бабки Домны поди расспроси, она разгадывать сны мастерица.
В домике на берегу пруда взрослыми шагами меряет горницу Серега Уваров, мужчина на двенадцатом году. Сереге в Ахматову лощину коров гнать на выпас. Холщовая сумка за спиной, кургузый армячок на плечах. Недлинный, но громкий – когда пугнуть надо – кнут, с крепким кнутовищем, под мышкой...
Серега Уваров третье лето подряд ходит в подпасках у Коляши, старшего брата. Так судьба распределила – всем мальчикам и девочкам в Большой Кочетовке спать до позднего утра, разгадывать цветную дрему, а у Сереги с Колей главные хлопоты летом и главный заработок.
Придет осень, они и осень прихватывают, пока за Серегой не явятся строгие учителя – в школу, дескать, пора.
Подвязавшись ремешками, братья выходят на улицу. Пруд дымится, рыбешка плескается. Сейчас самый клев, но братьям не до того. Рожок – Коляша ладно на рожке играет – поет над Кочетовкой: «На выпас, на выпас...»
Сереге эти утренние минуты нравятся. Коровы смирно идут по сухой дороге, кнута и окрика не требуют. Буренки здороваются друг с другом, трутся мордами.
Пыль пробилась из-под копыт. Стадо в сборе и мерно, с достоинством движется за деревню.
Серега на ходу проверяет, добры ли сегодня хозяйки. Две поллитры парного молока, огурцы с теплой гряды, шмат соленого сала. У Коляши картошка, спички и махорка.
Дождя не будет, как не было его вчера и позавчера. Лето стоит злое – уже в десять утра сушь перехватывает горло, дышать нечем, полдень жжет босые пятки. Войдешь в болотце – оно по колено, обмелело, и вода кислая, в пузырях.
Подпасок в эти дни и часы отдыхает, спрятавшись в шалаш. Вот чем хорошо засушливое лето: сморившись под солнцем, стадо громко дышит, не желая идти в бега. Коровы выхудали, селяне дуются на Серегу и Коляшу, а это уж не дело – быть в найме у сердитого хозяина.
Но уговор остается уговором – осенью получат братья по шесть рублей с головы и по рублю за гуливанье, за случку. Восемьсот рублей принесут в дом, мать купит им по костюму, справит обутки. В пятый класс Сергей придет ничуть не хуже других: в черном пиджаке и в новых ботинках на микропоре.
Однако прежде уроков будет застойная тишина летних вечеров. Деревенская гармошка, что бродит с весны вокруг клуба, теперь замолкла. Мужики хмуры и неразговорчивы – второй год нет урожая; женщины нервны и возбуждены. Одни дети остаются детьми, и я наблюдаю их забавы.
Так-то и познакомился я с Тоней Кудасовой... Увидел ее впервые на лугу возле школы. Как и все, Тоня отдавалась игре, но раза два стрельнула в мою сторону тревожно и пристально.
Завезли в Кочетовку игру из Тамбова (а может, из Гамбурга?) «штандарстоп», но добавили свое: выбирают женихов и невест.
Девочки в конце кона зажимают на руке пальцы, кто сколько, два или три, в разных сочетаниях. Например, мизинец и большой.
Смолинский угадывает:
– Указательный!
Выходит Тоня Кудасова, тоненькая девочка. Она загадала указательный, и Юрка выбрал ее в невесты. У Тони черная косичка на плечо упала, светлый бант готов, как бабочка, сорваться и улететь. Тоня нравится Юрке, но холодок в ее глазах и взрослость отпугивают мальчишек.
Играли прошлое лето за селом в прятки, но нынче боятся темноты. Я выпытываю у Сереги Уварова причину страха. Оказывается, Копузей (Копузей – кличка деревенского скомороха Николая Михайловича) рассказывал, что в посадках поселились тюремщики. Никто их, конечно, не видел, но Серега утверждает, что Копузей врать не умеет. Проверено, дескать, не раз...
Однажды Юра Смолинский позвал меня на рыбалку. Когда-то мальчиком проводил на пруду ночи Александр Андреевич, Юркин отец. Нынче пруд усох, камыш на обнажившихся берегах свиристит, будто жесть, но и этим летом пруд главная услада кочетовских пацанов. Здесь они играют в салки и в войну. На берегу место для сборищ с утра допоздна.
Прихватив ведро и котелок для чая, идем на пруд, делаем таганок, собираем дровишек.
Клев поначалу бойкий.
В сумерках братья Уваровы пригнали стадо из Ахматовой лощины. Подошел к нам Серега, высоким голосом обещал принести закидушку с колокольцем.
Густая темень потихоньку подступила к селу и накрыла его, окна на том берегу недолго горели – уставшие мужчины и женщины рано шли на покой. Костер наш, загоревшийся было, потух.
Я собирался задремать, положив под бок брезентовый плащ, но тут явился Серега, приказал встать:
– Надо размотать закидушку, наживку насадить и бросить. Умеешь бросать?
– Умею,– сказал я.– Уж как-нибудь брошу.
Я приноровился, сделал шаг вперед и зафуговал болванку, к которой крепился конец закидушки, в темноту. Серега похвалил меня, привязал к нашему концу лесы колоколец – он нежно звякнул в его руке – и молвил:
– Юра, я пойду до дому, а то Коляша раскричится. А вы утром, как запоет, не сразу вынайте.
– Да иди ты, иди! – сердито сказал Смолинский. Ему досадно,– малыш наставляет его, восьмиклассника, при постороннем.
– Я и пошел.– Серега вытолкнул уголек из костра, придымил бычок, невесть откуда явившийся, и исчез.
Мне не спалось и не лежалось. Небо было усыпано большими, с кулак величиной, звездами. Незаметно я задремал и на заре сквозь дрему вдруг услышал мелодичный хрусталик. Он качнул тишину, захлебнулся, потом позвал, будто со сна, долго и тонкоголосо. Колоколец то умолкал, то начинал новую песенку. Помня совет Сереги «не сразу вынать», я не торопился будить Юру.
Полоска света расползалась за темным пятном школьного сада.
Неожиданно от дороги послышался приглушенный голос Александра Андреевича Смолинского:
– Ордынцы, где вы запропастились?
Я отозвался.
– Не выдюжил я, Иваныч! Дай, думаю, на зорьке посижу. Эге, а Юрка-то мой спит?!
Александр Андреевич снял пиджак и накинул на сына, тот не очнулся.
– Давай задымим, что ли? Знаешь ли ты, Иваныч, сколько я поработал на своем веку? За сына и за внуков, если они народятся! Не дай бог никому. В сорок первом батьку взяли на фронт.
А мы остались. Мне одиннадцать, братке и сестре три и четыре года. Батьку как взяли, так и канул. В сорок третьем открытка пришла от Клевшина, вместе они уходили. Пишет, что эшелон въехал на станцию Мотыли чи Копыли, за Воронежем, а там немец. А они, наши-то, безоружные, их в часть везли, обмундировали, а оружия не дали. Ну, немец построил их поротно и погнал. Клевшин удрал с этапа, а батьки и след простыл. Матка меня главным в доме сделала, а сама все пропадала на поле да в коровнике. Шла раз домой через пшеницу, намолотила ладонями карман зерна, прямо со стебля. Ее и застукали. Да по военной статье и выдали... Остался я за хозяина. Ни бабки, ни дедки. Дедку еще до войны в колодце прибило. Знаешь на порядке, где Илья Голодный живет, колодец повиликой обтянуло? Деду памятник. Чистил он этот колодец, и уронили ему бадью прямо на темя. Там ведь не увернешься, не прыгнешь в сторону. Как в танке.
Изба у нас была черная, тараканы бегают. Посадил я малолетних родственников против себя, говорю: пищать будете, посрываю головы. Они видят, матки нет, никто не заступится. Молчат.
Пошел по домам. Не попрошайничать! Кому сараюху вычистить, кому завалинку засыпать, кому картошку выкопать. Смотрю, день прошел – живем, два – не померли. Холода подходят. Дверь в пазах разошлась – сбил топором. Трубу глиной обмазал, вторые рамы вставил. Зимовать будем, говорю родственникам.
Про запас с деревенских беру и капусту, и картошку, и свеклу.
Вдруг тетка городская приехала, с бумагой. Кличут меня в детдом. Как же, щас штаны сниму! У меня самого воспитаннички – не отдавать же их в приют. Не отдал. И сам не пошел. Три года отдубасил. Крышу перекрыл, козу завел и доил...
Помню, как-то стою во дворе и вижу – матка моя идет, не идет, а бежит. Я в избу, кричу: «Сойдите на улицу, жалуйтесь матке, плачьтесь, где вас обидел... Больше не родитель я вам! Спать лягу, до утра не встану, не поднимете. В школу пойду, книжки читать научусь – не оторвете меня от книжек».
В школу так и не пошел. Сеял и косил, печи клал и навоз вывозил в поле. После трактор освоил... Теперь Юрка ткнется к машине иль к рубанку, я как шугану его: «Марш на стадион, за меня поиграй, за батьку своего, за детство его окаянное»…
Наш утренний улов невелик, полведра. Я доволен. Смолинские – нет. «Разве это улов?» – разочарованно сказал Юрка.
Приближалась пора занятий в школе, но ночи не приносили прохлады. Похоже, и осень отстоит под солнцем. Оно вроде и ничего, если думать об уборочной, да урожай-то нынче какой? Не уродилась капуста, завяли на кусту помидоры и огурцы. Иные хозяева спасали огороды с пруда, но и пруд совсем обмелел.
В один из августовских дней пришли женщины к школе, сильно шумели, потом разошлись по классам, запахло свежо и резко гашеной известью, и пахло долго.
Шестнадцатого сентября на рассвете застучало о крышу, будто кто-то в сапогах стал бегать по ней. Я вскочил, вышел на улицу – дождь сек округу и сад! Легкий туман курился над пашней и огородами.
Натянув плащ, пошел я к школе, миновал ее, побрел к пруду. В избах на берегу зажглись огни.
Бабка Домна вынесла Божью матерь, с непокрытой головой стояла на улице. Возле других домов тоже были люди. Все молчали. Только дождь, большой и высокий, долдонил все громче и настырнее, потом разом остановился, как по команде.
В школе объявили праздник. Директор сказал на линейке:
– Надо жить сегодня по-особому. Сто тридцать дней засухи миновали. Будем писать сочинение «Первый дождь в Кочетовке»...
У меня урок в восьмом классе. Так получилось. Школьный историк заболел, и директор, мой старый товарищ, зазвал меня вести уроки с четвертого по восьмой класс: «Поживешь еще в Кочетовке – и тебе, и нам польза». Что ж, я согласился. Наступила такая пора в моей жизни, что торопиться вроде некуда, и крестьянские дети угрели мое сердце, истомившееся по родному углу, по всамделишным нравам.
Не торопясь ищу журнал. Слышу запах прибитой дождем пыли – окно в учительской открыто; вижу, как ходят по сырой дороге грачи. Звонит звонок, трель гуляет по двору, вкатывается в коридор. Гомон недолго стоит в коридоре. Иду в класс.
Ребята встают, я здороваюсь.
– Посмотрите на улицу,– прошу,– откройте окна. Послушайте, подышите.
Клен с надломленной вершиной стоит в палисаднике умытый, мы видим чистую бронзу его листьев. Ветра нет, облака медленно плывут в небе...
Наверное, это первое сочинение в их жизни, когда нельзя припомнить строчку из учебника, а приходится брать ощущения прямо из жизни, из утра, и писать их.
Я наблюдаю. Шариковая ручка Юрки Смолинского летает над бумагой, сам он весь ушел, врос в парту. Сосед Юркин, шалун несусветный, сосредоточен и тих. Потом я прочитаю в его неровных строчках, как он кормил свежей травой кроликов: «Кролики хрустели и просили еще добавки. Я давал им понемножку, и они смеялись. Я чуть не опоздал в школу».
Отказалась писать сочинение Тоня Кудасова. Тихо просидела два урока, сдала пустую тетрадку.
В учительской я спросил:
– Тоня не захотела писать про дождь. Как это понять? Два урока о чем-то дальнем думала, и вот результат...
Мария Филипповна, старая литераторша, полистала ее тетрадку и вздохнула.
– Причина серьезная.
Вот уж не гадал, что пройдет три месяца, и мы сойдемся крепко с Коляшей, старшим братом Сереги Уварова, на праздники будем пить вино и рассуждать о политике. У Коляши забота – жениться и Серегу довести до ума. Должность пастуха, правда, малопочтенная нынче для молодого парня, но прибыльная. Коляша частенько навеселе, в клубе затевает драки. Два раза его били легко – «учили», в третий раз схлопотал посильнее и отлеживался. Приходил к нему начальник колхоза, мужик тугодумный, усовещал, на Серегу показывал: «Плохой пример подаешь». Коляша хотел стерпеть, но вдруг закричал:
– Никитке ноги ломать буду, дай подняться!
Председатель плюнул и ушел, но, видно, передал Никите Копылову, допризывнику, остерегаться. Никита поймал возле школы Серегу и велел наказать брательнику в клуб не ходить одному.
Узнал я об этом, беседовал с братьями и уговорил замириться. И точно – на седьмое Коляша и Никита пришли ко мне в обнимку...
А в школе симпатии мои отданы Юрке Смолинскому и Сереге. На уроках из пестрой толпы Серегина взрослость проступила явственней, а Юркина инфантильность как бы притухла. Оно и неудивительно: нынче редкая семья в Кочетовке без отца, а в полных семьях достаток уничтожил раннее становление характера.
Однажды Серега Уваров пришел в школу сердитый и нахохленный. Молчал, в точку глядел. Я из духа противоречия решил вызвать его. Он встал, к доске не пошел.
– Не учил, что ли? – спросил я. Молчит. Я спросил его по прошлому уроку – память у Сереги цепкая, уж что-нибудь да ответит. Снова молчит.
Я рассердился и поставил двойку. Событие из ряда вон – никогда не ставлю двоек, чтобы не породить ненависти к истории. А тут поставил. Но что-то покоя не давало – наведался домой к нему.
Мать вздохнула:
– Да ведь Дозор сдох у него. Щенок , белошерстный. Сдох ни с того ни с сего.
Пришлось мне извиняться на уроке перед Уваровым.
У Юрки Смолинского таких переживаний никогда не было, нет и, наверное, не будет...
С первым снегом ушла на вечный покой бабка Домна, хоронили ее всем селом.
– Вот и сны твои дурные сбылись,– сказала Юрке мать, но Юрка уже и сны забыл, и рыбалку нашу с колокольцем, а о бабке отозвался простодушно:
– Старая была, чего жить-то дальше? – и схлопотал от отца щелчок. Через час я видел Юрку веселым, как прежде. Он задирал ребят, егозил. Одним словом, вел себя обычно.
Когда объявил я чтение книжек вслух, Юра пришел одним из первых, но хорохорился: неинтересно-де. И все-таки история Белого Бима – Черное ухо, бесхитростно рассказанная Гавриилом Троепольским, взяла в полон и Юрку: сидел не шелохнувшись. Свет потух – терпеливо ждал, когда лампу семилинейную заправим. Пришла на чтение и Тоня Кудасова. Я обрадовался, не знал, куда усадить ее.
– У вас один журнал, а у папы весь «Бим» в подшивке,– обмолвилась она.
Действительно, мы раздобыли в районо лишь начало, продолжение я решил искать в деревне. Попросил Тоню принести, но она замялась и не обещала. Пришлось идти самому.
Морозы уже заковали церковный пруд, и грязь застыла на дорогах. Василий Васильевич сидел дома, валенки подшивал.
Я спросил:
– А где же Тоня дотемна гуляет? На дворе хоть глаз выколи.
– А Тоня со мной не живет,– сказал Кудасов.– Тоня с матерью живет, неподалеку.
Я прикусил язык, попрощался и ушел. Приезжему не сразу открывается потаенное.
Поссорившись с женой, Василий Васильевич оставил ей дом и хозяйство, а сам женился на монашке. Чем взрослее становится Тоня, тем все труднее видеть ей отца (а Кудасову скоро шестьдесят стукнет) рядом с монашкой. На одной улице живут, через пять домов, а смотреть в глаза друг другу не могут.
Вскоре довелось познакомиться и с Тониной мамой. Позвала меня в гости сама Тоня. Странно как-то позвала, будто чего не договаривая. Но настойчиво. Я не посмел отказаться.
Сели мы за стол, чай пили. Тоня молчала.
– Помогаешь ли ты маме? – спросил я по-учительски строго и дежурно.
– На ферме я не нуждаюсь в ее помощи. А домашнее хозяйство вместе ведем. Игорь баловнем растет, а Тоня девочка серьезная. В школе, правда, обижаются за ее характер, но я-то знаю, она участливая. Когда суд приехал в Кочетовку и все говорили, что меня посадят, одна Тоня сказала: «Ты мама, не виновата, поэтому будь спокойна». Спокойной я не сумела остаться, но суд не признал меня виновной в том, что темные люди, взломав замок, ограбили сельмаг... Я была продавцом. Ездила к родне на Волгу, вернулась, а магазин настежь. Вот вы новый человек в деревне, скажите мне: до каких пор будут меня звать воровкой?
Тут Тоня опустила плечи. Игорь молча смотрел на меня.
– Пошла я учетчиком на ферму. А там доярки в молоко воду льют, за надои борются. Я говорю: «Негоже, девчатки вы мои милые». А они мне: «Молчи, воровка»... Как жить дальше? Потом стали следить за мной. Я в Токаревку, они за мной. Я в Тамбов, они за мной...
– Кто они? – спросил я.
– А это уж вам лучше знать,– пряменько, но поверх меня и далеко глянула Александра Васильевна.
– Мама,– попросила Тоня,– не надо, мама.
– Надо, дочка!.. В поезде следят... Я везу сувенир, а это не сувенир, а ключ от магазина...
Александра Васильевна встала и принесла ключ всамделишный, но из бронзы, в стеклянной шкатулке. Вязью выведено слово «Волгоград».
– Они сувенир хотят отобрать у меня...
Я молчал, постигая в отчаянии всю трагичность положения этой девочки и этого малыша, живущих с полубезумной, хотя и доброй мамой.
Скоро Тониной маме стало плохо. Пришла в школу, к директору, говорила бессвязные речи, поймала за рукав меня в коридоре, сказала шепотом:
– Сувенир-то закопала... В палисаднике землю топором разняла, ямку вырыла и в ватку укутала ключик, никто не увидит, не выведает... А они что решили: раз магазин сгорел, то я подожгла его. А если на коровнике пожар?
Среди вздора вдруг выклик исстрадавшейся души:
– Заберут меня, Тоне с Игорем елку на Новый год сделаете? Поставите елочку, а?
Александру Васильевну отвезли в Тамбов, в больницу, Тоня осталась одна. Мы уговаривали ее перейти в интернат при школе, она наотрез отказалась:
– Сама проживу!
– Ну, хоть Игоря давай поселим в интернате.
– Не дам. Пусть дома живет. Картошка и капуста у нас есть, а из муки я оладьи умею печь.
На миру, без войны, родилась в Кочетовке новая семья сирот, при живых родителях. Одно утешение – жизнь для Тони, как и для Сереги Уварова, явилась всеми сторонами сразу, и они выдюжат, как выдюжил в свое время Саша Смолинский, Юркин отец. Но утешение это горькое.
Не вытерпев, я зашел как-то к Тоне в гости. Она стирала. Игорь кастрюлей носил воду из колодца. В избе было чисто. Топилась печь.
Через день привезли зеленые елки к колхозному клубу. Я вел урок в пятом. Ребята повскакали с парт, загалдели. Я велел всем одеться – пальтишки висят прямо в классе,– повел их к грузовику, на котором стояла колючая роща.
Серега Уваров хозяйственно осмотрел елки и приценился:
– Рубля три, не меньше, стоят.
Перед самым моим отъездом женился Коляша, в жены взял молоденькую учетчицу. На свадьбе гуляло полдеревни. Мать Юрки Смолинского выводила дробь возле правления колхоза: Теща на свадьбу Пирог пекла...
И женщины подхватывали:
Пирог пекла, Стекла натолкла. Угощала: Ах, милый зятек, Проглоти чуток, Не жевамши!..Тут же крутились дети, бедокурили, насмешничали.
Серега Уваров сидел в кошевке, был слегка выпивши, на брата и невесту его смотрел преданно, как собачонка. По всему видно было: и гордился событием, и жалел, что кончились Коляшины веселые денечки. Может, и в Ахматову лощину больше не гонять им деревенских коров, не жечь костры на болоте, не спать, раскинув руки, в тесном шалашике под металлический звон комаров...
Тамбовская область
Мальчик-ковбой из Техаса Попытка воспоминания
– Мальчик, тебя как звать?
– Чарли.
– А сколько тебе лет?
– Много. Четырнадцать.
– А где ты живешь?
– В Техасе.
– Кто твои родители?
– Ковбои.
– У вас есть лошади?
– Наивный вопрос.
– И у тебя тоже своя лошадь?
– Да,– сказал он с гордостью,– ее зовут Ланни.
– Ну, хорошо. А вот этого дяденьку ты знаешь?
– Это полковник Смит.
Полковник Смит колыхнулся огромным телом, его лицо радостно опало: «Какой славный парнишка. Никто не знает, а он знает, что я полковник».
– Ладно, Чарли. А это кто?– я показал на замшелого мужичка с отекшими веками. Мужичок крепко спал после двойной инъекции.
– Что вы пристали, кто да кто. Это фермер Брэдли. У него стадо в тридцать семь коров и сто пятьдесят акров земли. Мы соседи.
– У тебя есть друзья?
– Еще бы. Мы все дети ковбоев и сами ковбои.
Тут ввалилась компания подростков в подтянутых шароварах на резинке, в широкополых соломенных шляпах. На шее у каждого повязан цветной платок.
– Знакомьтесь,– жестом показал Чарли,– это Джимми по кличке Крокодил (мальчики рассмеялись). А это Бешеный Стэнли.
– Почему бешеный?
– Потому что только бешеный мог укусить быка. Да, а этот слоненок по имени Кинг. Вы не смотрите, что он малой. Он самый сильный. У вас в России таким был Никита Кожемяка, удавивший половца[13]. Кинг, подними полковника!
– Полковника не трогайте, ему плохо,– сказал я.
Полковник взъярился:
– Затвердили, «полковнику плохо». Иди, Кинг, подними меня. Не бойся, я не сахарный, не рассыплюсь.
Мальчик-крепыш подошел к кровати полковника и легко приподнял ее. В полковнике было не меньше ста килограммов, да железная кровать тянула килограммов на пятнадцать. Сила Кинга произвела впечатление.
– Сколько же тебе лет, силач?
– Скоро пятнадцать.
– Ого, почти возраст пятнадцатилетнего капитана!
– Вы о сыне Гранта? Бездельник в матросской куртке!
– Бездельник? Он плыл через океаны в поисках отца.
– Все равно бездельник.
– А вы не бездельники? Дурака валяете.
– Дяденька, с ковбоями не шутят,– молвил Чарли.– Вы схлопочете по шее.
– Ладно, ладно, Чарли, теперь скажи, а кто, по-твоему, я? В очечках, с мундштуком в желтых зубах?
Чарли снисходительно посмотрел на меня и отвечал:
– Клерк.
Я расхохотался, ибо ответ был стопроцентно точен. Писатель-клерк, кто же еще.
Тут Джимми выглянул в коридор и воскликнул:
– Хок!– компания сорвалась и убежала, а по коридору поползли динозавры в белых халатах. Динозавры шипели:
– Опять! Где они взяли шляпы?! И кто им разрешил шлындать по чужим палатам?..
Динозавры ворвались к нам и грозно вопросили меня:
– Потворствуете безобразию?
– Потворствую. Но в чем безобразие? Кинг приподнял полковника на двадцать сантиметров от пола. Силушку некуда девать. В чем же безобразие?
– Как? Пацан поднял лежачего больного!
– Я не больной, черт побери!– взревел полковник.
– Успокойтесь, Гаенко. Нам лучше знать ваше состояние.
– Состояние,– прохрипел Гаенко.– Вы меня довели…
– Не довели, но доведем,– рявкнул старший из динозавров, и они удалились.
Теперь надо сказать,что действие сей крохотной пьесы развернулось в психоневрологическом диспансере города И-ска, время свершения пьесы 1978 год. А мальчики – Чарли, Джимми, Стэнли и Кинг – все из Г-го предместья, некогда основанного уральскими казаками, к 1978 году вполне обустроенного, с широкими улицами, покрытыми асфальтом, с палисадами. А средняя школа в Г-во та община, которая поторопилась отречься от мальчиков. Разумеется, я не мог не полюбопытствовать у докторов, почему школа отреклась. Мне не должны были отказать. В этом отделении я сохранял особое положение. Меня не трогали, не обследовали, не дергали по пустякам. Не навязывали медицинские препараты, хотя робкие попытки делались: «Б.И., надо успокаивающее недельку попринимать. Пустячок, неделю»,– однако я и без того оставался спокоен.. Пласт жизни, тяжелой, смурной, в трудах и испытаниях, иногда изнурительных, отошел, и мне казалось, я не уклонился исполнить положенное мне Провидением. Родил сына и дочь, сходил на баррикады. Под баррикадами я имею в виду вот что: начитавшись Герцена, Плеханова и само собой Владимира Ильича (от корки до корки все пятьдесят томов), в 1965 году написал письмо съезду комсомола, назвав его «Что делать? Некоторые наболевшие вопросы нашего молодежного движения». Я предложил махонькую поправку в переустройство общества. Разумеется, я был свирепо бит, лишился партбилета, но достоинства не потерял, напротив, чувствовал себя в нравственной силе. Я шел по жизни, осознавая, что Голгофа впереди. И я понял, у меня есть перо. Сам Борис Николаевич Полевой вызвал меня к себе после очерка «Весенние костры»,– очерк о военном топографе Владимире Питухине и о городе Свободном (тогдашняя цензура запретила называть город, Свободный остался в очерке под грифом С.),– усадил напротив и сказал, пыхнув сигаретой: «У тебя перо, бъющее сердце навылет! Я велел строки не трогать в “Кострах”. Работай, и все состоится». Я и работал втихомолку. В последние годы я успел написать «Старые колодцы», или исследование «История одного колхоза», где не сфальшивил и не слукавил, спрятал подальше, ибо в стране не было смельчака-редактора, который бы решился печатать «Колодцы». Почему я и был спокоен.
Но и доктора, к коим доставили меня чекисты в воронке, понимали, что перед ними не отрок-ковбой Чарли, и пребывали все время с виноватыми глазами, вежливыми до приторности… Да, но мальчики. Что они успели натворить? Письмо съезду комсомола не написали. В журнале «Юность» и в «Литературной России» не печатались. Дерзкие публичные речи не произносили, «Старые колодцы» не сочинили и не спрятали в тайник. Может быть, они баловались наркотиками? Или с кастетами у подъездов в сумерках стояли?..
С настырными вопросами я пристал к заведующему отделением диспансера. Крупный и добродушный еврей, но весь в комплексах, каждодневно он демонстрирует пациентам увлечение пудовыми гирями. Психов, стало быть, пугает, осознавая, что они не совсем психи, поймут-де. Завотделением вскипятил чайник. В обеденный перерыв, когда коллеги его удалились, мы присели накоротке. За решеткой окна тенькают синицы, зав походя, сквозь железные завеси, ссыпает синицам хлебные крошки. И молчит, обдумывая, как дипломатичней повести себя, но, махнув толстой, волосатой рукой, говорит:
– Б.И., вы славянин, и на том стоите. Так представьте, славянин, в окраинной школе, хотя Г-во отнюдь не окраина, но тем опаснее, появляется группа сильных подростков, а их семеро, это мы сюда забрали четверых, а трое остались под надзором органов. И все семеро (великолепная семерка, усекаете?!) одержимы культом Америки, или скажем прямо, буржуазностью…
– Но ковбои не буржуазность…. – фраза эта прозвучала несколько косноязычно, но по сути точно: скотоводы, дельцами ковбои никогда не были.
– У них и кодекс чести есть, сродни казаческому,– добавил я.
– Заблуждаетесь,– отвечал зав,– сто пятьдесят лет тому назад ковбои несли знамя своеобразной чести. Впрочем, казаки ваши (пардон!) тоже хороши. Могли за так убить соперника.
– Мушкетеры льют рекой кровь, а мы все читаем и читаем Дюма.
Зав издалека с прищуром посмотрел на меня. Я поежился. Я совсем запамятовал, что я пациент психушки, и даже в этой беседе меня слушают двойным слухом.
– Так эта семерка стала диктовать советской школе заокеанский стиль. Малыш Кинг навязал старшеклассникам обращение к девочкам «Моя мадонна», ни больше, ни меньше…
Я тихо усмехнулся:
– Мадонна – Богоматерь.
– Бога мать!– воскликнул зав. – Они вкладывают совсем другой смысл в это понятие.
– Какой?
– Догадайтесь, Б. И.
– Не могу.
– Две мадонны уже понесли. В девятом классе.
– И что же дальше?
– Дальше они выпустили стенную газету «Манхэттен», напичканную сплошь американизмами, вражескими идеалами, где свобода нравов на первом месте. Правда, директриса успела сорвать газету. Но экая буря разразилась. Ведь в школе объявили конкурс стенных газет, а «Манхэттен» вдруг сняли. Произвол-де!
– Интересно, в самом деле. Объявлен конкурс стенных газет. Условия конкурса наверняка невнятные. И мальчики перестарались в творческом раже. Но последствия со стороны учителей?! Репрессии?
– Снять разнузданную газету, вы полагаете, репрессии?
– Похоже на первый этап репрессий.
– Далее парни провели несанкционированный митинг с требованием убрать из школьной программы обществоведение. Потом они предложили заменить в эмблеме школы, на фронтоне, профиль Павки Корчагина на профиль Веньки Малышева.
– ??
– Ну, этот тип из Нилинской «Жестокости». Который застрелился. Застрелился потому, что, по повести Нилина, плененный в Гражданскую войну повстанец был арестован и этапирован. В то время как оперативный сотрудник Малышев обещал повстанцу, в обмен на добровольную сдачу, свободу. Совестливого Веньку Малышева на место бессовестного-де Корчагина. Каково?!..
Разговор с завом крайне заинтриговал меня. Но более всего занимала концовка. Чем все это завершилось? Бузой? Школьным бунтом?
– Нет,– спокойно отвечал зав.– Спектаклем. В прекрасный майский день, тому полтора месяца, теплынь на дворе, к школе явились тридцать подростков, наряженных ковбоями, с пистолетами на задницах…
– То есть?
– Сделали деревянные кобуры и деревянные пистолеты, черные, лакированные. Брезентовые ремни само собой. Где-то добыли старую кобылу, в поводу привели. Привязали у парадного входа школы, потоптались для антуража. Сбегается вся школа. Уроки сорваны.
– Да, сюжет.
– Теперь смотрите, что далее ждало бедных учителей. Школьный буфет пацаны переименовывают в бунгало, или как там на диком Западе? Хотя Техас это юг Штатов? Но потом что? Казино? Ночной жокей-клуб?.. Не дай бог зараза эта пойдет буйным цветом по школам. Но мы их остановили.
– Но почему таким способом, дичее дикого Запада?
– А что иное можно придумать? Они же не уголовники. И они у нас на профилактике, понимаете? Мы наблюдаем за ними в условиях частичной изоляции, и только.
– Но выводы делаете?
– Неадекватность поведения налицо. Они смещенно видят мир. Значит, есть серьезный психический сдвиг.
– Но разве этот самый сдвиг опасен для общества?
– С выводами погодим. Но себе, похоже, судьбу они надломили.
– А если бы талантливый педагог включил в эту самую игру (условно говоря, ковбойскую) всю школу?
– Б. И., вы на Севере включили всю школу в игру и создали всего лишь Республику Советов депутатов учащихся! А что получилось?
– Получилось бы, и великолепно, если бы не насели перестраховщики – из области, из района, из тайных ведомств.
– Но модель Республики Советов – наша. А ковбойская вольница, с чуждыми индивидуалистическими установками, уводит ребят на обочину. Между прочим, школьный комсомол сразу пал.
– Таков комсомол.
– Не таков, смею вас заверить, – зло посмотрел на меня зав, но опомнился и сказал: «Простите».
Он выдохнул это слово «простите» и неожиданно признался: «На меня давят. Им мало, что вы здесь, в отстойнике. Они хотят крайнего диагноза».
Я промолчал.
Вечером я беседовал с ковбоями. Они смиренно слушали мои увещевания. Но Чарли признался, за всех: «Скучно в школе, Б. И. Скулы сводит». – «Но кроме школы есть дом. Есть любимая девочка. Есть город. Стадион и прочее». – «Но главное время мы проводим в школе. Это наш штат».
Чарли был прав. Школа – страна единственная, там наше главное гражданство в годы отрочества и ранней юности. Пройдут десятилетия, позади останется институт или университет, моря и горы, пылкие любови, борьба за жизнь. Но ковчег спасения, в памяти и наяву, – школа. О да, я идеалист и старый романтик, у меня привязанности не меняются. Никогда. Если 9-я средняя школа была моей колыбелью (где, скажу честно, временами казалось чудовищно одиноко и грустно) – 9-я колыбелью и осталась, смею думать, не только для меня одного, а и для моих однокашников. Почему? Потому что школа – остров бескорыстия. В школе о карьере не думают. Но, сказал я ребятам, кто вам обещал, что жизнь будет сплошным праздником и карнавалом? На свете счастья нет, но есть покой и воля, давно завидная мечтается мне доля, давно усталый раб замыслил я побег в обитель тихую трудов и чистых нег. Пушкин это, ковбои. На свете счастья нет…
Поздним утром вокруг нашей палаты забегали маленькие динозавры в белых халатах. Они вынюхивали что-то, с любопытством смотрели на меня, словно видели впервые, а прошел целый томительный (для меня томительный) месяц моего отбывания рядом с полковником Смитом и фермером Брэдли (на самом деле лейтенант ГАИ и начальник ЖЭКа, оба погоревшие на взятках), и динозавры всегда враждебно следили за каждым моим движением. Скоро прошелестела державная группа с казенными лицами. Они остановились в проеме снятой двери (в психушке двери палат снимают напрочь) и скорбно смотрели на меня. Два часа спустя я понял, что скорбное их настроение было адресовано не мне: они себя жалели, а не меня. Все пошло прахом. Все их построения, химеры, титанические усилия раздавить старовера.
Скоро я был позван к заву. Он встал навстречу, пожал руку, но тоже как-то грустно. Он сказал:
– Они внезапно отступили. Вы сейчас пойдете на волю. Но один совет, если вы воспримете его. Дайте им передышку. Пожалейте их. Они устали,– он усмехнулся, – смертельно устали, с семнадцатого года.
Во! Я должен дать передышку прохиндеям. Они прессуют тебя двенадцать лет, и они устали.
Собрав вещички в авоську, я пошел к ковбоям, попрощался. Я назвал Чарли мой домашний телефон и попросил об условной фразе. Если станет слишком тяжко, Чарли должен сказать: «Опять грачи улетели».
На свежем воздухе я перевел дух. Было сказочно красиво в академической узкой улочке, сквозило солнце. Через июльские купы берез. Но невыразимая печаль захлестывала сердце. О такой ли жизни мечтал я в 1956 году, прощаясь с 9-й школой и друзьями? И сколько я еще вынесу окаянную ношу? И сколько выдержит Андрюша, сынок, боком-то удары и по нему…
Тихохонько плелся я по городу. Возле памятника Ленину в газетном киоске я увидел кипу известинской «Недели». В куртке я нащупал мелочь, купил «Неделю», сел подле вождя на скамью, стал листать. «Гибель Титаника», мой рассказ, шел на двух полосах, с отменной иллюстрацией. Так вот почему выпустили меня из психушки. Миллионный тираж «Недели» напугал опричников.
«Гибель» приняли к публикации давно, но я просил придержать рассказ до подходящего случая. Помню, грузинка, начальница отдела литературы, посмотрела тогда на меня с изумлением. Обычно авторы жаждут увидеть себя напечатанными, а этот, из Сибири, просит не торопиться. Но за моей спиной был Искандер, он нас свел, грузинка согласилась положить рассказ в редакционный стол. И случай явился, мои друзья сработали аккуратно. Но невольно подумалось, почему в малом городке Урийске у майора Советской Армии, в сущности, совершенно космополитическое прозвище Титаник? Почти ковбой... Причем майор стал со временем откликаться на Титаника. Фронтовик, он признал над собой власть инородного имени. Что с нами происходит?
Через полмесяца ночью раздался телефонный звонок, я поднял трубку и услышал о том, что грачи у л е т е л и. Горестные мои детушки. Утром я пришел в диспансер и потребовал, чтобы уколы остановили. Зав отвечал: «Парни стоят на голове», – «Пусть стоят». – «Да вам-то, Б.И., легко, со стороны», – «Не со стороны». – «А лучше я вышвырну их к чертовой матери, пусть родители занимаются чадами», – «Правильно. Пусть родители. Пусть улица. Река Иркут. Стихия. Пусть школа». – «Школа-то больше всех озабочена. Учителя приходят, просят о милосердии». – «И отпустите. А уколы что. Сверзят мозги набок».
Зав позвал к себе динозавров в белых халатах. Он показал им «Неделю» с моей дарственной надписью и безотносительно сказал:
– Ковбоев в прерии выпустим?
Динозавры согласно кивнули. Зав приказал привести ковбоев. Их привели. Лица мальчишек казались синими. Зав объявил им о своем решении.
– Сэр, – Чарли прижал руку к груди, – мы бесконечно тронуты вашим мудрым решением. И вам, господин клерк, благодарны.
Но я видел по заторможенным лицам, что мальчикам не до шуток…
Прошла вечность. В 2001 году, возвращаясь с Урала, проездом, я остановился в И-ске на пару дней. Из той четверки я нашел только Кинга. Крепыш осел, постарел. Он гараж превратил в слесарку и подрабатывал мелким ремонтом. Он не сразу признал меня, но признал. «Аа, – протянул и вздохнул, – Превратили всю страну в Бродвей. На Большой (это центральная улица в И-ске, имени Маркса. – Б.Ч.)не осталось ни одной русской вывески», – «Вы начинали», – упрекнул я. «Да те наши забавы просто лепет по сравнению с нынешним обвалом». – «А что с ребятами?» – «Что положено. Нарожали детей. Теперь их черед играть в ковбоев. Но они почему-то не хотят. Играют в комиссаров и по-моему всерьез. Собираются спасти родину от окончательного погрома».
Кинг, когда я уже уходил, вдруг вспомнил:
– Недавно, Б.И., к нам пожаловали гости из Техаса. Их привечали как дражайших, в школьной столовой накрыли столы. И позвали нас, вспомнили ковбойские шалости. Мы что, надели светлые рубашки, пошли. Американцы встали шпалером и дружно исполнили свой гимн. Теперь наш черед. Мы тоже встали и молчим. Нынешнее поколение не знает русский гимн. Тогда наша семерка выступила вперед, и мы исполнили гимн, но тот, советский. Американцы, правда, не врубились…
– Странные вы были ковбои. Гимн СССР знали на память.
– Советские ковбои, – рассмеялся Кинг.
Мы расстались, видимо, уже навсегда. В Благовещенске, сойдя с поезда, я добрался до дома, выпил, закурил в одиночестве. Не спалось. В полночь я услышал позывные:
– Говорит амурская радиостанция «Манхэттен». По заявке слушателей передаем песню «Возле школы твоей я купил героин», – да, открытым, наглым текстом. В городе с благословенным именем вещает чудовищно гадкая радиостанция.
Господи, забери меня в Дубки[14].
г. Благовещенск на Амуре Март 2003 года
Таинственный сундучок
Однажды на собрании Ярославского мемориала ко мне подошла строгая пожилая дама и спросила, готов ли я познакомиться с некоторыми домашними ее разысканиями. Пришлось полюбопытствовать о характере и содержании разысканий. Елена Ивановна Дедюрова – так зовут даму – протянула тетрадные листки, исписанные аккуратным учительским почерком. Вот что я прочитал там.
«He так давно я заглянула в нижний сундучок шифоньера в маминой комнате и обнаружила книги и фотографии, также письма и дневники. Вынув все на белый свет, я прочитала внимательно содержимое сундучка и пришла в крайнее замешательство. Дело в том, что в нашей семье принято с почтением называть имя Высокопреосвященного митрополита Агафангела. Не раз я ходила с мамой на Леонтьевское кладбище, где в склепе под церковью нашел он свое успокоение. Между строк, и всегда почему-то на улице, вне дома, – позже я поняла, мама боялась быть подслушанной, – она коротко говорила, что ей довелось быть сестрой милосердия при Агафангеле. И каким-то образом последние годы митрополита сопрягались с Ярославским белым мятежом 1918 года. Подрос мой сын, он стал расспрашивать маму, бабушку свою, об Агафангеле, однако она выдержала характер и никогда не проговорилась ни мне, ни внуку о сундучке с таинственными документами.
В 1994 году мама занемогла. Я позвала знакомого священника для исповедования и причастия. «Что, я умираю?» – спросила мама. Я объяснила ей, что она давно не причащалась, и мама поняла меня. 27 апреля 1994 года она скончалась, всего за несколько дней до Пасхи. Говорят, в это время открыты ворота в рай.
И вот мамы нет. Но остался этот, в такой бережной тишине хранимый, сундучок»...
Я вслушался в имя – Агафангел. Огненный знак, а не имя. Знаменье из прошлого, а может быть, из будущего? Что знал я об Агафангеле ранее? Единственное. В завещании последний, не сломленный большевиками, русский патриарх Тихон своими заместителями назвал троих старейших иерархов, среди них Агафангела. По неясным причинам митрополит Агафангел отказался стать преемником Тихона, и после кончины Тихона местоблюстителем Патриаршего Престола оказался Петр Крутицкий (Полянский), затем воспоследовало сильнейшее давление властей, и церковь возглавил митрополит Сергий. Тяжкие испытания пали на всю русскую паству.
До последнего времени было принято вскользь говорить о потрясениях нашей церкви; будучи нравственным центром национального бытия, она оказывалась как бы на обочине. Но безвестная в миру старуха Алевтина Владимировна Преображенская смиренно несла и донесла память о том, кто мы и откуда пошли. В течение шестидесяти лет А. В. Преображенская не выдала тайны, притом доброй тайны. Да, тайна сих письменных свидетельств прострельно добрая, она источает прямо-таки благостный свет. Вообще тезис, или постулат, о втайне творимом добре – древен, полагаю, и в добиблейские времена он был в силе. Но, высвобождаясь из условностей (в том числе и необходимых, подчас консервативных), мы постепенно вошли в смутные обстоятельства. Но не случайно еще в 18-м столетии страдалец, мирно пропутешествовавший из Петербурга в Москву, застеснялся, когда ему пришлось на миру сказать: «Я оглянулся окрест, и душа моя страданиями человечества уязвлена стала», – и пошел по этапу в Сибирь.
Итак, Елена Ивановна Дедюрова, подняв из забвения домашнюю тайну, смутила не только свое сердце – она смутила и мое сердце. Готовя эту публикацию, я горестно думаю о том, что Высокопреосвященный митрополит Агафангел не будет понят и принят сонмом нынешних воцерковленных. Ибо Агафангел идет к нам и к ним, вооруженный всего лишь кроткой улыбкой любви, а они (и мы тоже) ждут бойца о насупленным челом. Но, думаю я следом, может быть, невоцерковленные примут Агафангела проще и, может быть, оттуда, из пока колеблющихся пред алтарем, придет свет в порушенные храмы…
В пятидесятые годы прошлого столетия в селе Мочилы Кормовской волости Вишневского уезда Тульской губернии в семье деревенского батюшки родились погодками и росли шестеро мальчиков, русоголовых и непоседливых. Отец учил их грамоте и счету, приваживал к пахотным и конюшенным делам. Все вместе братья вставали на утренние и вечерние молитвы. Скоро отец начал пристраивать сыновей к ремеслу, освоив которое, те сумели бы подняться на ноги. Но среднему, Саше, он наметанным глазом определил – быть прямым наследником отцу и перенять со временем Мочиловский приход. Саша поехал учиться в духовную семинарию. Между отцом и сыном установилась переписка. Вот что Лаврентий Иванович писал Саше 4 июня 1868 года: «У меня мерин охромел тому третья неделя. Посылаю три рубля серебром, коими распорядись, отдай за остальную меру крупы хозяйке в харч 1 р. 28 коп., остальное возьми для себя на что нужно. Хоть купи чаю и сахару да дай так по 5 копеек и Коле, и Саше. Родители Ваши Священник Лаврентий и Анна Преображенские». Приписка: «Птичек не успели приготовить, потому что вдруг услышали, что едут. В случае большого притеснения касательно муки, то не дадут ли Глуховы взаймы, но не деньги, денег у меня нет»... Примечайте деталь – денег у батюшки нет и, судя по всему, не предвидится и далее.
Отец наставляет Александра, чтобы тот одевался теплее, кушаком обвязывал бы горло. И повсюду: «Благодарим Бога и тебя за хорошие твои успехи». Тут же роняет сугубо бытовое: «А резиновых калош не покупай – пустая обувь»... И новолиберальное, хотя и обыденное: «Чай пить тебе не запрещаю – кушай на здоровье, не пожалею для тебя и никогда не откажу в этом удовольствии, зная, что он служит пищею. Прощай, прощай, милый Саша, будь здоров» (12 ноября 1871 года).
Перечитывая эти строки, я немедленно вообразил не только внешний облик автора писем, но и характерные черты родительского сердца, и повседневную озабоченность хлебом насущным.
«Быть в Тулу невозможно. Прежде невозможно было по времени поста, потом по случаю возки соломы и ремонта кровли дома. Сейчас же возка соломы и пахота пара... Благословляю тебя рукою своею грешною именем Господа на хорошие ответы экзаменические» (июнь 1871 года).
«Домашние обстоятельства идут по обыкновению – то сидим почти без хлеба, потому что от сильного дождя молотьбы нет, то... Извини, Сашенька, что денег посылаю мало, только три рубля, право, обеднял, распорядись ими, как и куда знаешь» (октябрь 1872 года).
«Саша, если у тебя останутся деньги, купи мне пеньковые перчатки – большие, на мои руки» (апрель 1872 года).
«Посылаю за тобой лошадей. Ради Бога не перегоняйте к станции, делайте для них терпимые (переходы)... Приехавши в Венев, возьмите у Николая Ивановича Глухова покупку – маслину, да посмотри, все ли он отправил, особенно чтобы судак был крупный, а не мелкий... Потом заезжай в Грыбовку к Петру Ильичу и возьми мои теплые сапоги, которые отдавал валять... Прощай. Твой Лаврентий Иванович. Февраля 12 дня 1873 года» (Приписка – «Тульской духовной семинарии ученику 11 класса Александру Преображенскому».)
В 1873 году отец делает первую проговорку о пошатнувшемся здоровье: «Мною было замечено, что ты отправился из Дома (с большой буквы! – Б. Ч.) с грустными печатками сердечными.
Извини меня за холодное провожание, потому что в то время было самому не до себя... Но все кончилось (кровотечение, как можно догадаться, от физической надсады. – Б.Ч.) благодарность Всевышнему» (май, 1873), – следом: «Здоровье переменчиво, кой-когда прихворну... Больше писать нечего, да и голова что-то дурна от разных фантазий» (июнь 1873 г.).
В приведенных строчках много сказано о той жизни, о тяготах тех. Вот еще сокрушительная правда – «Чтобы лошади не пришли понапрасну, это составит лишний хозяйственный расход», видно, как зажат суровыми обстоятельствами отец многодетной семьи. И косвенно узнается ложь советских учебников о попах-мироедах. Они были тружениками, священники, не только на ниве духовной. А у крестьян не было никого ближе, чем сельские батюшки, вместе бедовали, вместе праздновали.
«В Похожем сего июня 10 числа был сильный пожар, сгорело дворов до 150 до последнего дерна, в числе других несчастных не миновал пожар и духовенство, у которых все строение погорело до последней чурочки», – опять проговаривается и летнем письме от 1875 года отец, не сразу раскрывая случившуюся катастрофу, но в процессе писания письма решается на прямое признание: «К нам в Мочилы долетали тучи горелой соломы, пожар начался в 1 часу дня и окончился в 10 часу ночи».
Пожар подкосил Лаврентия Ивановича. Сыновья оказались сиротами. Здесь было бы уместно процитировать письма Саши Преображенского. Но прежние, ранние, письма пожрало, очевидно, пламя пожара, а поздние сохранились, они написаны в совсем другие времена, впрочем, не менее трагические, когда уже не Мочилы и Похожее горели, а полыхала вся Россия. Но надо отдать должное породе Преображенских. Жена Лаврентия Ивановича и мать шестерых сыновей взяла бразды управления пошатнувшимся хозяйством в свои руки и вместе со старшими сыновьями подняла усадьбу из праха. И письма пошли Саше, но писанные уже рукой вдовы.
В 1877 году будущий митрополит учится в Московской духовной Академии (того хотел покойный отец, и сын не нарушил его воли), а восставшая из пепла мать пишет: «Крышу у дома переделала, купила соломы 20 копен по 50 копеек и покрыла, теперь нигде не протекает, перестроила сарай и конюшню, взяла земли десять десятин с лугами на 5 лет ценою за все 43 рубля в год, еще посеянного десятину ржи, заплатила заранее 17 рублей, но не знаю, как Господь пошлет урожай» – чувствуется сила в слове, дух восстановлен и являет мужество: «Я по милости Бога здорова. Ржи навеяли мало, только одиннадцать четвертей, из двадцати копен, овса обмолотили только десять мер, и хочу продать, цена у нас три рубля за четверть, яблок продала двенадцать мер по рублю двадцати копеек за меру, здесь, дома, что еще тебе сказать? Да, у нас скоро будет освящение Храма, певчие из Михайлова, потому там подешевле веневских (певчих).
Затем, милый Саша, будь здоров, да пошлет тебе Бог силы и крепость. Целую тебя нещетно раз. Остаюсь многолюбящая мать Анна Преображенская. 14 сентября 1878 года».
В одном из писем мать невольно перекликнется с письмом покойного мужа: «Ты поехал от меня в таком грустном положении, я никогда не провожала тебя такого». И я подумал, что юный Александр Преображенский с болью отторгается от родного дома и близких. Но во имя чего придется и, собственно, уже пришлось, уйти из дома и в какие Палестины?
Александр Преображенский блистательно завершает Академию. Он кандидат богословия. Недолго он преподает древние языки в Раненбургском духовном училище, избирается помощником смотрителя Скопинского духовного училища, женится, у молодых родится первенец. И тут удар настигает Преображенского: сын и юная жена умирают скоропостижно. Испытанию, посланному свыше, Александр Преображенский отвечает достойно. Он навсегда порывает связи со светской жизнью, теряет родовое имя и становится иноком Агафангелом. 10 марта 1885 года архиепископ рязанский Феоктист посвящает инока в сан иеромонаха. Начинается долгая работа отца Агафангела на пространствах России. Фраза эта несколько выспренная, тогда как труд, который будет исполнен Агафангелом, окажется не только праздничным, но и рутинным. В Томской духовной семинарии инспектор отец Агафангел великолепно справляется с возложенными на него Святейшим Синодом обязанностями, и его назначают ректором Иркутской духовной семинарии. Он, игумен, возведен в сан архимандрита. А 14 июня 1889 года ему Высочайше повелено стать Епископом Киренским и викарием Иркутской епархии. Десять должностей и работ придется совмещать Агафангелу в Восточной Сибири, он не отказывается ни от одного поручения, тянет воз исправно. Иркутяне, спохватившись, воздают ему должное в последний момент, когда пришло новое назначение. Агафангел в самом деле заслужил высоких похвал уже потому, что инородцам посвящал много времени, зная: Сибирь станет опорой России, если инородцы породнятся с русскими духовно.
Но истоки подвижнического поведения Агафангела, истовых трудов его были не только в следовании догматам. Вот речь священника, донесенная до нас домашним сундучком Алевтины Владимировны Преображенской. С этой речью пастырь обратился к иркутской пастве: «Живо помню, как будучи еще учеником низшей духовной школы, я любил часто и подолгу оставаться на кладбище, и здесь, среди могил и крестов – безмолвных, но красноречиво свидетельствующих знаков, что вся персть, весь пепел, вся сень здесь, – со слезами на глазах молил Господа, чтобы он, милосердный, сподобил меня быть служителем алтаря и приносить бескровную умилостивлительную жертву... – Когда, по окончании училища, представилась полная возможность поступить в одно привилегированное столичное учебное заведение, я с настойчивостью, непонятной в отроке, и несмотря на советы, убеждения и принуждения, отказался и вступил в рассадник духовного просвещения. Годы шли, возрастало тело, укреплялся дух, но – увы – не возрастало, не укреплялось, а скорее умалялось желание послужить церкви Христовой. Дух времени, модные идеи, свободная наука туманили неокрепший ум, пленяли воображение, и я готовился сделаться не врачом духовным, а врачом телесным. Уже готов был я стучаться в двери светского заведения. Но здесь было сделано мне первое предостережение. Серьезная продолжительная болезнь заставила на цельй год прекратить всякие занятия. Когда и после этого я не забыл своего намерения, явилось второе предостережение – смерть моего родителя.
Тогда я согласился быть преемником своего отца, сельского пастыря. Но готовился иной путь»...
Далее отец Агафангел рассказывает, что он «пошел скитаться по стогнам градов и весей», но внезапная смерть юной супруги и младенца уведомили героя, что избранный путь – «не мой жребий». Тогда, «преклоняясь перед неисповедимою волею Божией, я поспешил оставить мир и взять свой крест и приобщиться к миру иноческому»... Речь Агафангела поразила слушателей откровением, но епископ не дал передохнуть внимавшим и вдруг сказал, что теперь-то и «начинаются настоящие скорби, ибо слишком горд и надменен своими познаниями стал ум; слишком ослабли нравственные узы, связующие волю, слишком много явилось непризванных учителей, слишком многоглаголивы стали уста их. Чтобы смутить гордый ум и подчинить его слову Божию, нужно иметь ум Григория Богослова; чтобы обуздать волю человеческую и направить ее по заповедям Евангелия, нужно иметь силу Василия Великого; чтобы заградить непризванных учителей, надобно иметь красноречие Иоанна Златоуста... Мне ли не трепетать пред высотою подвига»...
Речь, но скорее проповедь, Агафангела кажется программной (и не случайно она сохранилась, вовсе не случайно) еще и потому, что он, будто обращаясь ко всей России, не утаил беды, влекомые «иноземцами, склонными к огульному порицанию всего русского и родного». Задолго до знаменитого коллективного выкрика «Вех»[15], по существу предсмертного, ибо уже шел на Россию вал и остановить его было невозможно, мировая война лишь усугубила кризис, – за двадцать лет до веховского протеста этот священнослужитель в далеком Иркутске понял именно смертельный исход борьбы и неизбежное, неуклончивое участие в борьбе на стороне р о д и т е л ь с к о й: ежели отец его, сельский батюшка, умер в духовных и пашенных трудах, то куда сыну преклонить сердце, как не ко кресту на могиле отца...
Далее Агафангела ждал Тобольск. В Тобольске он учредил кассу взаимопомощи, улучшил быт воспитанников общежития при духовной семинарии, неустанно помогал школам народного образования, организовал чтения для общественности. Заложил в Кургане храм Александра Невского в память Александра II – и замыслил еще немало богоугодных дел, но последовал указ ехать в Ригу, «где ветры инакомыслия потрясали веру отеческую». Там, в борьбе против воинствующего католицизма, владыка учредил миссионерский комитет и устроил миссионерские курсы. Вот что писала газета «Прибалтийский край» в «Рижском дневнике» за 21 августа 1910 года: «В тяжкие годы революционного движения высокопреосвященнейший Агафангел, как истый пастырь, помог многим и словом, и делом, не отличая православных от иноверцев. Каждый в лице владыки мог найти защиту, и ни один десяток иноверцев, по недоразумению попавших в водоворот революционного движения, обязаны заступничеству владыки... Слышно, латышские приходы собираются преподнести владыке адреса, об этом поговаривают и среди местных старообрядцев.
В бытность высокопреосвященнейшего Агафангела местные старообрядцы не ощущали каких-либо притеснений со стороны православного духовенства, и за все это время не произошло ни одного недоразумения между старообрядцами и православным духовенством на религиозной почве. Дай Бог побольше таких епископов на святой Руси... Благодарные потомки со временем сумеют оценить и понять труды владыки», – прямо-таки в наше время адресованы последние строки. В Прибалтике Агафангел «имел дерзновение ходатайствовать за осужденных на смерть».
Но владея миротворным смычком, владыка не уставал заниматься прагматическими вещами. В Вильно Агафангел создал столовую и школу для обездоленных русских детей, повторяя, как истинный сеятель добра, что «школа есть главная пособница церкви в деле насаждения и укрепления в народе начал Христовой веры и евангельской нравственности. Семена слова Божия дают добрый плод тогда в особенности, когда сеются они в детские души». Видимо, было что-то святоотеческое в душе этого пастыря, что заставляло тянуться к нему сердца, и стоило стронуться ему с места, как раздавались вопли и сожаления. Но усталость давала себя знать, поэтому последнее назначение Агафангел принял с великой благодарностию – дорога выпала наконец-то домой, в коренную Россию. Ярославщина пленила его речными окоемами, устойчивой жизнью маленьких городов и сел. Он свиделся с родными и близкими. Но грянуло тяжелое испытание – война с германцем, и на закате лет митрополит оказался вовлеченным в неусыпные труды и дни. Агафангел не смог усидеть в епископской обители и все время проводил в дороге. Летопись называет места, куда ступала неунывная нога Агафангела. «В Югской пустыне (это 17 верст от города Рыбинска) владыка совершил всенощное бдение в Успенском храме монастыря. Вечером беседовал с пятью священниками ближайших к Югскому монастырю сел. Священник села Болобанова доложил, между прочим, владыке, что в его приходе строится новый храм, главный строитель – крестьянин Болобановского прихода»...
«...Совершил Божественную литургию в Толгском монастыре, праздновавшем в текущем году 600-летие своего существования».
«...В Епархиальном училище состоялся выпуск воспитанниц. Владыка совершил благодарственное молебствие. 14 воспитанниц VI класса, сироты, получили подарки: несколько смен белья, 2 платья, драповое пальто, теплый платок, шляпу, ботинки и галоши»... И так далее – Ростов, Борисоглеб, Романов...
Его сердце иногда не выдерживало нагрузок, тогда он недолго отлеживался и вновь пускался в дальние и ближние обители, творя везде добрые дела и молитву. С ним пытались соперничать за влияние на умы пропагандисты социал-демократии, они часто ходили по следам Агафангела, но всегда проигрывали заочное сражение, а в очное боялись вступать.
Несмотря на военное лихолетье, гражданские и военные власти тем не менее видели бессонный подвиг, свершаемый Агафангелом. К 1918 году митрополит был увенчан множеством наград. На одном из снимков мы видим Агафангела с братьями Иваном (он по правую руку от Агафангела) и Владимиром. Скоро дочь Владимира, Аля, оставшись сиротой, станет помогать дяде в совершении крестного пути. День этот близится. Уже большевики прорвались к власти. Сила государства надломилась, страна покатилась в пропасть.
Ему было шестьдесят пять лет, когда отчаявшиеся русские люди подняли в Ярославле мятеж против большевиков – добрая половина паствы митрополита Агафангела встала в ряды мятежников, лучше сказать, восставших (или сочувствующих им). Агафангел понимал, что в кровавой междоусобице брат пошел против брата, сердце его трепетало, однако это было сердце православного священника, и он благословил праведных, но не предал анафеме красных.
Итоги той битвы оказались опустошительными. Центр старинного Ярославля лежал в руинах, разбиты храмы и прекрасные, классической архитектуры, здания. Людские жертвы исчислялись тысячами. Из города начался исход несогласных с большевиками. Политические репрессии приобрели дежурный характер, шли расстрелы. Агафангела власти не трогали, у него был слишком большой авторитет. Но следом за мятежом и жесткими волевыми выводами Ленина и Ко начались гонения на саму Церковь, и это тоже понятно: внешние (или дальние) фронты, на которых действовали добровольческие армии, – они были полюсами открытого противостояния, а внутри метрополии единственной и несокрушимой силой, скреплявшей гонимых и несогласных в тихий хор, по-прежнему оставалась Церковь Православная. Большевики приступили к закрытию монастырей и изъятию церковных ценностей. Протестовавших пастырей арестовывали и высылали в Сибирь.
Патриарх Московский и Всея Руси Тихон удерживал, сколько хватало сил, церковный ковчег на плаву, но ЧК и компартия прибегли к расколу Церкви изнутри. Чекисты создали группу так называемых обновленцев. В пропагандистских целях эта группа провозгласила себя «Живой Церковью» и объявила о сотрудничестве с атеистическими властями. Тихон ответил призывом ко всем иерархам и пастырям противостоять ереси. Он назначил своими преемниками трех иерархов, в том числе старейшего митрополита Агафангела. Тихон думал о том, что будет, если завтра его арестуют, и Церковь окажется обезглавленной. ГПУ действительно взяла под арест Патриарха. «Живцы», – пишет журнал «Московская Патриархия» (№3, 1994 год), – во главе с протоиереями Красницкйм и Введенским захватывают жилище Патриарха и канцелярию церковного управления.
И тогда митрополит Ярославский и Ростовский Агафангел прорезает голос, он напрямую обращается с посланием к Архипастырям и всем чадам Православной Русской Церкви, там есть поразительные слова:
«Возлюбленные о Господе Преосвященные Архипастыри. Лишенные на время высшего руководства, вы управляете теперь своими епархиями самостоятельно, сообразуясь с Писанием, священными канонами; впредь до восстановления Высшей Церковной Власти окончательно решайте дела, по которым прежде испрашивали разрешения Святейшего Синода, а в сомнительных случаях обращайтесь к нашему смирению...
Честные пресвитеры и все о Христе служители алтаря и Церкви. Вы близко стоите к народной жизни, вам должно быть дорого ее преуспеяние в духе православной веры. Умножьте свою священную ревность. Когда верующие увидят в вас благодатное горение духа, они никуда не уйдут от своих святых алтарей».
В Толгский монастырь, где находился Высокопреосвященный, прибыл красный протоиерей Красницкий с требованием подписать воззвание «инициативной группы духовенства» – эта сколоченная на Лубянке группа обвиняет Тихона в том, чем надо бы гордиться истинным русским священникам: в контрреволюционной деятельности. Агафангел ответил чекистскому провокатору резким «нет». Тотчас вступило в действие ГПУ: допрос, обыск, домашний арест. Затем арест всамделишный. У стен Спасского монастыря, где Агафангела содержали под тройной охраной, толпы ярославцев собирались, демонстрируя любовь к своему Архипастырю. Напуганные власти переводят Владыку в каземат Ярославского ГПУ, а оттуда, по готовому сценарию, в столицу, на Лубянку. В эти же дни без суда и следствия расстреливают викарных епископов Ярославской епархии.
Предписанием ГПУ (назовем имя сотрудника ГПУ, подписавшего приговор, – Чапурин) Агафангела ссылают в Нарымский край, в глухой поселок на Томи. И – чудо! – там рядом со старцем оказывается юная племянница Аля Преображенская. Аля берет на себя домашние заботы. «Истинно верующая Аля служит старику как апостолу, видно, она понимает, сколь высок его подвиг. Но едва ли понимает собственный подвиг, хотя родные пишут Алевтине Владимировне: „Так угодно Богу, чтобы именно на твою долю выпало трудное и тяжелое путешествие в Сибирь и счастие разделить с Преосвященным его изгнание“. Подпись – С. Литвинова (тетка Али).
Издалека за ними смотрят любящие глаза. «Сначала немножко промелькнуло в газетах, а теперь опять ничего не знаем», – спустя два года пишет снова она же, С. Литвинова. Агафангел заболевает но перемогается, ему надо вернуться к церковным делам, в Россию, он ничего не знает, что происходит в Патриархии, почту фильтруют и пропускают лишь невинные письма. Но уже позади Гражданская война, и умер Патриарх Тихон, и жизнь народная как бы входит в русло, предложенное ей насильниками, но НЭП (хочется сказать – пресловутый, ибо он и есть пресловутый, ибо построен на обмане и на уловке политической) еще дышит на ладан. Разгромив все, что поддалось разгрому, власти припудривают лицо; играют в новые игры, и больной Агафангел неожиданно получает обратную «визу» – Архипастырю разрешают вернуться в Ярославль; Агафангел догадывается, что все идет по готовому сценарию. Но он же понимает, что ему, единственному остающемуся на призрачной свободе местоблюстителю Патриаршего престола, доведется сказать последнее вещее слово, и оно прорастет зерном.
Едва добравшись до родных мест, Агафангел обращается к pусскому духовенству и мирянам с посланием о своем вступлении в управление Русской Церковью. Юродствующие во Христе раздувают страсти. Митрополит Сергий, уже обвыкший на захваченном престоле в роли самозванца, грозит Агафангелу смутой, которую якобы несет законное звание Высокопреосвященного; душа Агафангела страждет ,колеблясь, он отступает за стены Толгского монастыря, отказывается от местоблюстительства во имя единства церкви! Даже и сейчас, когда пишутся эти замедленные строки, понятно, какое мучительное решение принято Агафангелом. Но другого пути сохранить Церковь от раскола нет.
Современным ревнителям новшеств в нашей Церкви будет полезно поразмышлять над сими строками – прошедшая через ад наша Церковь, говорят, не сохранила себя нравственно. И в адовой атмосфере мужественный Агафангел соглашается на трудный компромисс, соглашаясь же на все будущие испытания и провидя, что придет день, и новые революционеры от алтаря станут упрекать старослуживых пастырей в грехах, коими покрыты все мы, яко струпьями. Агафангел сумел преподнести еще один урок героического стояния на миру. Но скоро некому будет стоять. Героизм имеет свои пределы, за которыми он перестает быть нравственным.
А митрополит Сергий шлет к больному старцу посланцев увещевает, пишет ему.
Есть резоны в Сергиевых увещеваниях. Например, пассаж: «...Во имя нашего общего упования и блага Св. Церкви прошу Вас и молю, не разрывайте общения с нами, не переходите на сторону наших врагов...» – Агафангел ответил на это молчанием. И сохранил целостность Церкви, и сохранил себя, но приуготовил физический уход с арены: сердце его не выдержало напряжения борьбы.
В последние недели у изголовья Агафангела снова становится светлый ангел – Аля Преображенская, его племянница. Аля выдерживает стойко длительные бдения у одра. Таинственный сундучок ее сохранил дневниковые страницы, написанные теплой девической рукой. Старец держится стойко, но учащаются ночи, когда невозможно сомкнуть глаз, когда надо держать наготове кислородные подушки. Аля Преображенская не просто помогает Агафангелу достоять, она еще и духовно любуется пастырем, который уплывает в иные миры, она называет его Святым...
Агафангел умер 3(16) октября 1928 года. При огромном стечении прихожан – свидетели называют до 50 тысяч – Агафангела хоронят в склепе Леонтьевской церкви. Скоро советские власти посмертно отомстят Владыке за любовь народа к нему: церковь отдадут под склад, а склеп завалят мусором. Поэтому взрослая Алевтина Владимировна Преображенская уже вместе с дочерью Еленой десятилетиями будет ходить к Леонтьевской церкви и молча у стены вспоминать прошлое. Алевтина Владимировна не забудет никогда слов, сказанных при погребении одним из протоиереев: «Его (Агафангела) последние годы напоминают нам библейское. Ибо когда спросит нас, где были вы и где есть, – мы ответим: „Мы на месте, и мы стоим“.
И ныне у нас, воцерковленных, есть основания сказать: наши пастыри на месте, и они стоят.
Ярославль, декабрь 1995 года.
P.S. Ныне прах Владыки захоронен не Леонтьевском кладбище. – Примечание 2005 года.
Краснодеревщик
Несколько упреждающих цитат.
«Когда власть не опирается на интеллигенцию, она превращается в насилие рано или поздно…Некрасивая власть становится безобразной. Выступал юноша-танкист, который назвал трех „великих людей“ – Елену Боннэр, Хазанова и Ельцина, и это стало образом революции: Боннэр, Хазанов, Ельцин»…
Н.Михалков о событиях августа 1991 года.«Они не знают Ильина, они не знают Бердяева, они не знают Струве (далее называет имена Леонтьева, Мережковского, Соловьева, Розанова). Они не знают всего, что создано русской философской мыслью как резюме исторического пути державы. Слово „перестройка“ я нашел в бумагах Александра I, которые подготавливал ему Сперанский. А мы считаем, что это слово, которое придумал Горбачев. Это все было!»
«Выросли целые поколения людей, которым не стыдно сделать плохо. А как учат детей, на чем их учат? Учат, что история начинается с 17 года, с Ленина, что Толстой – „зеркало русской революции“, что Герцен – демократ»…
Н.Михалков о нравственности в России.«В России все гигантское – гигантские просторы, гигантские глупости, гигантские таланты, гигантское хамство и гигантская нежность. А выедешь из Костромы в Финляндию – все есть, а удивляться нечему. Можно удивиться один раз, очень быстро понять – и все. Дальше технология, технология, технология».
Н.Михалков о России, земле обетованной.«Когда я прихожу в Париже или в Италии куда бы то ни было, я себя чувствую человеком, который давно это все знал. Поверьте, это не снобизм: „а это мы видали, это мы знаем“, „а у нас лучше“…Просто я вижу, что на Западе уровень мышления и ассоциативный уровень настолько поверхностны»…
Н.Михалков о Европе, о Западе.«Продолжается борьба западников и славянофилов, основанная на идеях Киреевского, демократов и так далее. По сегодняшнему образу жизни – довольно бессистемная борьба, потому что принципиально изменились обстоятельства. Но борьба эта необходима, потому что вызревает вот этот новый тип мышления: континентальное, евразийское сознание. Полагаю, разворот к востоку, к Сибири невероятно помог бы обретению национальных идей».
Н.Михалков о поиске национального пути.А теперь приступим. С некоторых пор в нашей жизни присутствует великан. Он не досаждает своим великанством и не взывает к почтительному обмиранию. Как старый и битый солдат наполеоновских войн притягивал к себе односельчан, хочется посидеть с ним на бревнах, покурить и помолчать в ожидании, что он поделится пережитым, – так Михалков вызывает жгучий интерес у соотечественников, особливо в провинции, и «Сибирский цирюльник» добавил огня в полымя.
В день выборов в Государственную Думу (а голосовали мы за Примакова) решили мы потратиться на четыре билета и посмотреть во Дворце профсоюзов «Цирюльника», тем паче накануне замечательный актер местного драматического театра Юрий Николаевич Щербинин успел сказать о новом фильме Михалкова запальчивую речь:
– Там, знаете ли, такая Русь – душу щемит. Есть сцены с явным китчем. Но выходишь из зала – боль и радость в сердце…
Мы и пошли.
Итак, мы пошли во Дворец профсоюзов, и с нами увязался Митя. Было опасение, что Митя не выдержит трех с половиной часов просмотра. Но Митя не просто усидел, а смотрел взахлеб, лишь в одном месте ладошками закрыл глаза – застеснялся. Намедни привез я из Москвы календарь с Александром и наследником, кадр из «Цирюльника», повесили мы в кухне над столом, у Митиного кресла. Митя пьет чай и нет-нет да и глянет на Никиту Михалкова в роли русского царя. И Цесаревича все рассматривает.
Впрочем, все это лирическое вступление.
Никита Сергеевич Михалков претендует на то, чтобы формулировать популярно, но и жестко, основополагающие идеи бытия России. В кинофильмах он делает это опосредованно. В беседах, в интервью, в статьях, с трибун – прямо, искренне, подчас грубовато и противореча иногда тому, что говорил эпоху назад. Но тогда и сейчас в его речах (в кинолентах тем более) отсутствует конъюнктура. Нигде нет любования собой, нет кокетства и подлизывания к сильным мира сего да и к собратьям по цеху. Даже с теми актерами, с которыми во время съемок приходилось разругаться в пух и прах, Михалков предпочитает раскуривать «трубку мира». Вот, например, Никита Сергеевич в минуту откровения с любовью говорит о Станиславе Любшине, «переполненном невероятными воспоминаниями», – и далее кусочек из «невероятных воспоминаний» Любшина в интерпретации Михалкова: «Я вхожу в самолет, за мной идет замминистра, а передо мной священник-батюшка. Думаю (ведь Советская власть еще была), как так сделать, чтобы они не поняли, что я верующий? Ведь коммунисты вокруг. Думаю, я ничего никому говорить не буду, просто перекрестился и так пошел…» Смеяться ли тут, горевать, но какая пронзительная правда в словах Любшина и какая удивительная память у Михалкова, чтобы вдруг благодарно, взволнованно вынуть из ее тайников этот кусочек и одарить им слушателя, чтобы тут же признаться, как они вечером рассорились с Любшиным смертельно.
Да, Михалков обескураживает коллег разглашением секретов полишинеля, то есть вовсе и не секретов, но в светском обиходе замалчиваемых. Так узналось о заговоре против михалковских «Пяти вечеров». Враги режиссера загодя сговорились, чтобы Государственную премию дать не первостатейной ленте «Пять вечеров», а банальной – «Москва слезам не верит». Похожая коллизия, кстати, случилась с шукшинской «Калиной красной». Тогда в противовес Василию Шукшину (его кирзовым сапогам!) выставили обыкновенную, хотя и добротную, киноленту «В бой идут одни старики» Леонида Быкова. Явилась к Быкову теплая компания для дипломатического разговора, но Быков раскусил черный замысел (умысел!) и наотрез отказался перебегать дорогу Василию Макаровичу. Но Валентин Черных – не Быков. И Никита Михалков, не желая быть «дорогим гобеленом» в дурном спектакле, снял свой фильм с беговой дорожки, в финале которой заведомо побеждали аутсайдер и обыденность.
Почему Никита Михалков раздражал и раздражает известные круги до нервного тика? Что ставят ему в упрек? – А гениальность. Да, гениальность. Воспользуемся парадоксальной мыслью Достоевского, чуть перефразировав ее: «Ты талантливее меня, следовательно, я должен тебе отомстить». Мир искусства перенасыщен тщеславием, подчас самым, самым заурядным.
Раздражает открытый характер великана. Но это у маленьких завистников на вооружении подпольные и анонимные гадости. И революция наша потерпела поражение еще и потому, что готовилась и пестовалась подпольно. Люди с подпольным сознанием – ущербные заведомо. Ничто не ново под луной. Еще Федор Михайлович распознал подпольные лики и подпольное сознание. Между прочим, серьезная угроза текущего дня – не загонит ли новый режим творчески состоятельных, думающих, честных в кухонное инакомыслие? Признаки этой угрозы налицо. Недавно один высокопоставленный чиновник сказал мне полушепотом: «Голосовал-то я за Явлинского, просто в пику разношерстной компании, но разве этим, – он показал в сторону резиденции Полномочного представителя Президента на Амуре, – можно признаться в этом?!..»
Ситуация опасная, и прежде всего – нравственно опасная, мы уже пережили опыт мнимого единомыслия и «кухонной» свободы.
Михалков не отмолчался в те судьбоносные дни. В журнале «Континент» (1992, №70) он резко отреагировал на поведение Ельцина в послепутчевое время: «Вы можете себе представить Владимира Ильича Ленина, как бы к нему ни относиться, который на пятый день революции уехал в Крым отдохнуть… Это возможно? Тут что-то не так, это продолжение того самого разложения, которое рождено большевизмом». И далее – о том, что он, Михалков, «не хочет иметь дело с Грядущим Хамом»: «Я увидел, что Президента (т.е. Ельцина) окружают хамы», – и здесь же можно прочитать, как на ступеньках Белого дома Жанна Бичевская пнула Людмилу Зыкину. Жаль, Эдмунд Иодковский упустил возможность сказать собеседнику, что в годы застоя Бичевская открыто пела белогвардейские тексты с эстрады, и с нее как с гуся вода, в то время как Валерий Агафонов, истинный творец и исполнитель именно этих песен, был загнан в угол госбезопасностью и влачил нищенское существование. О, «мы многого еще не сознаем, питомцы Ельцинской победы» (у Есенина – Ленинской). Но поведение Бичевской в августе – от обратного – напомнило мне поведение великого князя Кирилла, нацепившего в феврале семнадцатого года красный бантик. Это великий-то князь…
Прямые речи Михалкова не были оппозиционными, они были конструктивными, а еще исповедальными. Но они раздражали московский и питерский бомонд еще и потому, что их произносил «выкормыш» коммунистической системы, ибо только дураку неизвестно, что Никита Сергеевич вырос в семье придворного поэта, да, любимого детворой (за «Дядю Степу»), но автора «Гимна Советского Союза». Но мало кто знал, что подлинная питательная среда, поднявшая Михалкова-художника, – дедовская и материнская, с «темной комнатой, где коптились окорока и лежали антоновские яблоки, стояли кожаные болотные сапоги, засыпанные овсом, чтобы не потрескались, вывешивалась после охоты дичь» (журнал «Искусство кино», 1995, №9). Детство – всегда неисчерпаемый колодец. Ему досталось благополучное детство, Никите. Посочувствуем ему.
За что же не любить сына Сергея Михалкова, если священные слова и величественные звуки того Гимна (война!) не забыты народом и каждым, кому сегодня за пятьдесят? Не забыты и мной. Не забыты моими земляками в том городе, где восемнадцать лагерей БАМлага создавали особую атмосферу. Стыдно и страшно сказать, атмосферу «союза нерушимого республик свободных», коих «навеки сплотила великая Русь». И все рухнуло в одночасье.
Понимает ли глубину нынешней социальной катастрофы режиссер Михалков? Воспитанный, взращенный в неге почитания и сейчас взявший по праву великого мастера высоты, в том числе материальные, отдает ли он отчет, где мы есть? – Представьте себе, понимает и отдает отчет. Более того, поставивший исполненные поэзии фильмы, он в «Сибирском цирюльнике» не просто разрешает себе, сибариту, правду, но, принимая заказ столетия, создает сокрушительную картину подавления личности. Генерал, начальник училища, растаптывает бедного юнкера Андрея Толстого, оболгивает юношу, обрекая на отвержение и на этап, а уж на этапе о каких правах человека можно сетовать...
Сейчас, иллюзорно прочитывая прошлое, мы склонны думать, сострадая нашим предтечам, монархия – панацея от всех поздних зол. Но в огромных томах «Российского архива» (каждый объемом до 70 печатных листов) есть настолько неожиданные публикации, что остается диву даваться: да знаем ли мы историю родимого Отечества?! «Победоносцев над Россией простер совиные крыла». Кто автор этих строк? Блок. «Нас радовало известие о простоте быта, господствующей в армии. Теперь понаехало туда собрание роскошествующих, празднующих и пустословящих людей. Одно это какое впечатление должно произвесть на нашу армию… Я даже пропускаю и не читаю в газетах описания встреч и приемов: тяжело, Боже мой, когда мы перестанем праздновать». Кто автор? «Совиные крыла». Вот это да. Цитирую IX том «Российского архива», 1999 год; Константин Победоносцев пишет графу Сергею Шереметеву с театра Русско-турецкой войны…
Или еще, из переписки: «Тут, в Питере, что ни человек – то чиновник, а как противны стали теперь здешние чиновники, большие и малые».
Н.С.Михалков впервые оглашает эти письма «реакционера» Победоносцева. Нет, монархия погибла не в семнадцатом году.
Она погибла столетием ранее, – может быть, тогда, когда Николай Павлович плакал на допросах мятежников, он понимал резонность многих доводов и мог, даже не простив, а мягко покарав, привлечь их к сотрудничеству, но поступил – вопреки. Царская гордыня.
Именно эту Россию попытался воссоздать Михалков в последнем своем фильме, и, в пределах экстравагантного сценария, это удалось ему. А что не удалось – удастся позже. Почему я уверен, что удастся? Потому, что Михалков прозревает мистически сокровенное в нации, он знает цену отечественной интеллигенции (по Леонтьеву – «интеллигенция русская слишком либеральна, то есть пуста, отрицательна, беспринципна, сверх того, она мало национальна именно там, где следует быть национальной»). Вот почему Никита Михалков говорит о «бацилле русского ревизионизма. Это подкупающее и соблазняющее желание – все и сразу. Рай на земле. Характер-то у народа – фольклорный», – но теперь из недр фольклорного народа вышла почти вся интеллигенция, гибрид диковинный.
Но и фольклорный народ никуда не делся, разве пить стал больше и безнадежнее. Почему безнадежнее? Потому что вожди не умеют сказать этому большому ребенку вдохновляющие слова и подкрепить их делами. Мы, русские, всегда нуждались в добрых напутствиях Отца, то есть Вождя…
Но Михалкову дано и другое, что делает его национальным выразителем ожиданий: «Я не религиозный фанатик, не сумасшедший, не сектант, но я знаю, что это был закон („законом в России всегда был только Бог“), пред которым равно были бессильны и голы и император, и Достоевский, и последний бродяга. И в этом равнозначны. Тут принципиально важное отличие России от любой другой страны». Тревожный вопрос – осталась ли Россия богобоязненной. Но вот в газете «Десятина» (экое милое название, от земли, от пашни идет) Валентин Распутин обронил не столь утверждение, сколь вопрос: «Удалось ли превратить Россию в атеистическое государство, если после падения коммунистического режима народ пошел снова в храмы…» – разумеется, «пошел» не означает, что он останется в храме. Но погодим с предположениями. Многое будет зависеть и от Церкви. Окажется ли она на высоте общенационального духовного запроса или уйдет в торжественные литургии, сродни театральным. Священники наши должны опроститься, а они впадают в гордыню. Опять эта гордыня…
Но и театру, по Михалкову, грозят беды, если он, театр, не проникнется состраданием к поверженной истине, если наша актерская школа, лучшая в мире (так считает Михалков) не вернется к Москвину, Шаляпину, Михаилу Чехову. «Я не плачу в своих ролях, я оплакиваю моего героя», – цитирует Михалков Федора Шаляпина в Сочи, на «Мастер-классе», и в этом признании Михалков видит власть драматургического текста над актером и момент глубокого самосозерцания, то есть высочайшего профессинализма.
Но этот Гулливер не желает жить в стране лилипутов и создает уникальный прецедент. Не отрекаясь от кино, решается возглавить Российский фонд культуры. Мне известна лишь одна сторона деятельности Фонда – издание «Российского архива», толстенных томов с первоисточниками по русской истории.
«Российский архив» наследует лучшие традиции «Русского архива» П.И.Бартенева. Но чтобы начать издание «Архива», Михалкову пришлось создать студию «ТРИТЭ» (Товарищество, Творчество, Труд). Студия приступила к глубокой исследовательской работе. Приглашая к участию в альманахе, «Российский архив» помещает не только уникальные тексты, но и простонародные, с языковыми изъянами, зато подлинные. Да, вот неожиданность, во втором и третьем томах довелось мне прочитать о некоторых причинах размолвки Александра II и графа Муравьева-Амурского, и новоопубликованное заставляет иначе оценить персоналии, во всяком случае, не столь апологетически, как хотелось ранее.
Не забудем, Никита Михалков возглавил и Союз кинематографистов, но везде он хотел бы не упустить вожжи из рук. Не зазнается, не вознесется ли наш любимец? Да поздно зазнаваться и возноситься. Прежде всего, он работник, особый – краснодеревщик. А краснодеревщиков у нас можно пересчитать на пальцах. Сословие вырублено. Сословие людей чести.
Здесь, прощаясь с читателями, я уместно припоминаю сюжет с этим очерком. Я опубликовал его на Амуре, затем областная газета попала к доктору филологических наук Алексею Леонидовичу Налепину, сподвижнику Никиты Михалкова по Российскому фонду культуры, а он показал очерк Никите. А тут как раз был Международный съезд Пен-клуба, куда я был зван. Я поехал, чтобы разругаться с так называемыми демократами, Битовыми и Ко. Повод не надо было искать. Из провинции приехали на съезд талантливейшие прозаики и поэты, Битову не чета. Но их не допустили к трибунам. И я взорвался: зачем было звать нас из российской глубинки? Для антуража? Мое гневное слово опубликовала «Независимая газета». А я – я уехал в Российский фонд культуры, где мне назначил встречу Никита. Мы встретились и договорились о том, что «Краснодеревщика» мы печатаем там, где определит Михалков. Но, сказал я, должен я остановить публикацию очерка в «Литературной России», где «Краснодеревщик» уже и принят, и набран, причем, они, заразы, перестали платить гонорары.
– Эт как так?!.. – вскричал Михалков. – Вы им труды ваши, они их тиражируют и продают по России. И это вся благодарность автору?..
Я съездил в редакцию «ЛитРоссии», остановил публикацию. Мне клятвенно обещали: да, да, коли обещают вам гонорар, то ради Бога, ради Бога.
Я доложил Никите Михалкову: «Литературная Россия» не будет печатать очерк». Никита дарит мне кассету с «Сибирским цирюльником» и добрыми словами о прозе моей – оказывается, читал.
Проходит неделя. Друзья звонят в гостиницу (я еще в столице) и поздравляют с выходом «Краснодеревщика» в… «Литературной России».
Я уезжаю домой. Жду гонорара за гангстерский поступок «ЛитРоссии», и – жду до сей поры. Вдруг приходит «Литературный альманах», из Москвы (№1, 2001 г.), там опять публикуют «Краснодеревщика», без спроса. Времена!
Однако отвлекаясь от текущих треволнений и завершая редакторскую работу над вторым томом моего «Избранного», я думаю – в какую странную эпоху выпало мне забираться на гору моего семидесятилетия. И понимает ли мой благотворитель и старый товарищ Глеб Олегович Павловский: откуда мы попытались выпутаться? Но куда впутались? Явится ли Владимир Путин нашим Рузвельтом? Хватит ли ему решимости положить конец коррупции? Поймет ли он, наконец, что мы, русские, заслужили иной доли, нежели та, которую захотели нам уготовить воры – олигархи, в массе своей инородцы?..
Сумма вопрошаний ведет к сложным ответам. Но с вершины моих лет я уже плохо вижу дали, их призревать придется моим сыновьям, а может быть, внуку Ивану и правнуку Степану.
Март, 2007 год
Истина Пирогова
Недавно гостивший в Благовещенске выдающийся учитель России Шалва Александрович Амонашвили подарил мне свои книжки, среди них изданную в Киеве – «Истина школы». В «Истине» я прочитал строки:
«Мы стоим у парадного входа в школу. Смотрите, какая вывеска: „Средняя общеобразовательная Школа имени Пирогова“.
Необычная Истина Пирогова!
Что же внутри Школы? Давайте вообразим.
В руках ребят учебники о Пирогове – о его героической жизни полевого хирурга и его открытиях в хирургии и не только. О том, как он нашел высший Идеал, который долго искал, – нашел его в Библии…
По всему видно – дети любят Пирогова и гордятся им.
А учителя живут со своими учениками по педагогическим воззрениям Пирогова, на уроках претворяют его идеи.
Еще – музей Пирогова. Всюду висят изречения Пирогова. Ежегодные Пироговские Чтения… Всего не назовешь.
Истина Пирогова утверждается в каждом уголке Школы…
Это воображение наше. Но, может быть, оно скудное. Хотя видел я школу имени Добролюбова, где никто не знает, зачем им это имя.
Педагогика есть общечеловеческая культура мышления, а мудрость педагогическая есть общечеловеческое достояние. Общечеловеческая мудрость питает корни Школы. Но корни сами по себе тоже мудрые: они из общечеловеческой мудрости взращивают Школу Национальную. Это есть Истина Школы».
Николай Пирогов родился в 1810 году. Отец его, чиновник военного ведомства, постарался дать сыну хорошее, притом специальное, образование. В четырнадцать лет Николай Пирогов поступает на медицинский факультет МГУ. Через четыре года его отправляют в Дерптский университет. Дерпт – это Тарту (Эстония), город с неоспоримым интеллектуальным авторитетом. Там юный Пирогов готовится к профессорской деятельности. Через год ему вручают золотую медаль за конкурсное сочинение «Что наблюдается при операциях перевязки больших артерий?».
Карьера Пирогова на медицинском поприще блистательна. В двадцать два года он становится доктором наук. К нему прислушиваются светила российской науки. Он уходит добровольцем в Севастополь, осажденный англичанами и французами, проводит тысячи операций во фронтовых условиях. Но здесь настигает его горькое открытие: он увидел высших командиров и прежде всего главнокомандующего русской армией князя Горчакова в самом неблагоприятном свете. Казнокрадство, нерадивость и пьянство, разврат. Цитирую письмо Пирогова жене: «Сердце замирает, когда видишь перед глазами, в каких руках судьба войны». Николай Пирогов, наблюдая гибель солдат, матросов и офицеров и особливо бессмысленную смерть на редутах лучших русских адмиралов Истомина, Нахимова, Корнилова, подставлявших себя под картечь противника, подает в отставку. Зная его принципиальное неприятие выродившегося генералитета, Александр Второй сплавляет (другого слова не ищу) Пирогова за пределы армии. Но рапорт об отставке и увольнение с оперативной службы совпадают с выходом журнала «Морской сборник», где опубликована статья Пирогова «Вопросы жизни». Господи, что тут началось в обществе!
«Морской сборник» опекал великий князь Константин Николаевич. Придворные тотчас прочитали «Вопросы жизни» и, представьте, прониклись исповедальной речью знаменитого хирурга. Сказочным образом Пирогова назначают попечителем Одесского учебного округа (а это области Херсонская, Николаевская, Крымская, область Войска Донского). Пирогов полон духовных сил и не отказывается от назначения, он хочет послужить Отечеству.
А его «Вопросы» кругами идут по городам и весям и производят невиданное, соборное, ощущение: самые радикальные силы (революционные, тогда их называли нигилистическими, ибо они прокламировали атеизм) и самые консервативные (позже их нарекут, незаслуженно, реакционными) примиряются в главном постулате автора: школа нуждается не в пресловутых реформах (о коих нынче, в наши дни, столько крику), – а в отцовском, сердечном, со стороны верховной власти, отношении к ней, российской школе. Но отцовское, читай родительское, отношение – это сердечное отношение самих педагогов к детям.
Куницыну дань сердца и вина, Он создал нас, он воспитал наш пламень. Положен им краеугольный камень, Им чистая лампада возжена.
– Пушкин! О своем лицейском учителе.
Николай Пирогов в «Вопросах жизни» заявил себя традиционалистом, не покидающим историческую колею. И неудивительно. Он хорошо знал уклад русских школ. Монастырских, церковно-приходских, наконец, и домашних, семейных.
«Школьное благочиние», этот ветхий трактат, Пирогов читал еще студентом: «Младоумный и маловозрастной отроча в детских глумлениях борзо скоча», – и смеялся, ибо сам в детстве любил борзо играть в войну. Ровесники уважали лихачества мальчика Пирогова. Но чуть позже отрок Пирогов начал преважно исполнять роль лекаря. Отец и мать одобрительно посмеивались над младшим сыном, исполнителем роли врача.
И старославянским текстам юный Пирогов внимал:
«Нагим тя на свет твоя природа пустила, носи же бремя нищеты, пока твоя сила» И еще: «Не обещайся дважды, что хочешь творити, да не будешь ветрен, хотя вежлив бытии». А и еще сентенция, она пригодится Николаю Ивановичу, когда он взойдет на педагогическую кафедру: «Не очень верь люди лестных, словати хвалити; сладостно птичник (т.е. птицелов. – Б.Ч.) поет, хотя птиц ловити».
Пирогов вчитывается в старинные наставления родителям, многое прямо ложится на его сердце: «Имашь дети, а денег у тебя немного, (тогда) в рукоделие отдай, знайдут денег много». Здесь я уместно напомню участникам педагогических чтений: Иван Яковлевич Чурин, купец, поднявшийся из нищеты (он был последним ребенком в семье, после смерти отца ему в наследство ничего не досталось), создал в Иркутске сиропитательный дом, возвел для девочек-сирот настоящий дворец (я был в сем дворце), учил грамоте и ремеслам (швейному, лекарскому). Попутно Чурин помогал церкви и строил, вместе с другими купцами, театр Драмы. Я, Черных, хотел было наглядно показать современным богатеям многолетние труды Чурина. В Благовещенске Иван Яковлевич построил красивейший на всем Дальнем Востоке торговый центр, классических форм. Позже там было речное училище, Дом пионеров, а сейчас Эстетический центр. Ни мемориальной доски, ни памятника ему нет. В 1895 году Чурин похоронен в Иркутске у стен Харлампиевской церкви, Почетный гражданин города и любимый сын Православной общины. Но большевики снесли крест на могиле, срыли могильный холмик, залили асфальтом. А церковь отдали под общежитие университета, где я жил, бражничал. И все мы, студенты, ходили по могиле Чурина, не ведая о грехе[16]...
Вернемся к Пирогову. Вот завет из 17-го, русского, века: «Кто умеет молчать, тому в бедах не бывать». Николай Пирогов не умел молчать. Таким его воспитал отец, правдолюбец.
В «Дневнике старого врача» Пирогов благоговейно вспоминает родительские причуды. Быт они, тятя и маменька, строили приоткровенный. «Дом наш у Троицы, в Сыромятниках, просторный и веселый, с небольшим, но хорошеньким садом, цветниками, дорожками. Отец, любитель живописи и сада, разукрашал стены комнат и даже печки фресками доморощенного живописца Арсения Алексеевича, а сад – беседочками и разными садовыми играми. Помню живо изображения лета и осени на печках в виде двух дам с разными атрибутами времен года. Помню игры в саду в кегли, в крючочки и кольца, цветы помню с капельками утренней росы на лепестках».
У Пироговых не витал дух торгашеский или деляческий, но случались недоимки, родители жили умеренно. А сердечная обстановка – та почва, на ней взрастает личность нравственная, благодарно-памятливая, с пространственным заглядом вперед, и оттуда, из метафизического далека, читающая нынешний день. Позже, когда он напишет поразительный по прозорливости трактат «Быть и казаться», Пирогов будто из порубежья 20 и 21 столетий увидит, как потомки, потеряв духовные ориентиры, превратят даже подмостки Государственной Думы в театральные. Но я, кажется, забегаю в даль, которая еще только пробрезживает в моем Слове.
Знаете ли вы, как в раннем детстве Коля Пирогов легко узнал алфавит и научился бегло читать? По картинкам-карикатурам на французов и Наполеона. К картинкам были смешные подписи. Крестьянин с вилами догоняет убегающих оккупантов. Идет текст:
Ась, право, глух, месье, Что мучить старика? Коль надобно чего, Спросите казака.
Буква «А» – «Ась» позналась мгновенно.
«Карикатуры над кичливым, грозным и побежденным Наполеоном вместе с другими изображениями его бегства и наших побед рано развили во мне любовь к славе моего отечества. В детях, я вижу, это первый и самый удобный путь к развитию любви к отечеству» (цитирую тот же «Дневник»).
Традиционализм и историзм мировоззрения и педагогических установок Пирогова питались мощной рекой детства и отрочества и новейшим бытием страны. Сейчас у российских детей, даже из бедных семей, не пропала, не должна пропасть память о великой и трагической истории нашей, уже не в 19, а в 20 веке.
Прямо в сегодняшнем дне, в пику пошлейшим телевизионным шоу, всем этим Лолитам, есть ли у соотечественников воля сохранять и возвеличивать национальное и человеческое достоинство? Да, трижды да. Я верю в это.
Эпоха педагогических опытов Пирогова чрезвычайно напоминает смуту конца 20 начала 21 столетий. «Нам необходимы негоцианты, механики, врачи, юристы, а не люди», – говорит аноним Пирогову в «Вопросах жизни».
Нам нужны торгаши, негоцианты, бизнесмены, о, да, юристы, а уж затем и другие, – вопиет наше время.
Там, после воцарения Александра II, Россия сломя голову побежала в капитализм, полагая, не без оснований, что феодализм в крайних проявлениях (торговля крепостными и церковный раскол) тормозит движение страны.
А теперь куда стремится Россия? Коррумпированная, теряющая нравственные нормы (совестливости, стыдливости, честное признание заблуждений и ошибок)? Современная Россия худо слушает предтеч. Из старых педагогов, прежде всего, не слышит Пирогова.
«Односторонний специалист есть или грубый эмпирик, или уличный шарлатан», – это слова Николая Ивановича.
И далее: «Если последователи торгового направления в нашем реальном обществе с улыбкой намекают нам, что теперь не нужно вдохновения, то они не знают, какая горькая участь ожидает их в будущем, пресыщенных и утративших священный дар, единственную нашу связь с Верховным существом.
Все – и те, которые в нем не нуждаются, – ищут вдохновения, но только, подобно дервишам и шаманам, по-своему…
Без вдохновения ум слаб и близорук.
Через вдохновение мы проникаем в глубины души своей и, однажды проникнув, выносим с собой то убеждение, что в нас существует заветно-святое».
В «Вопросах жизни» Пирогов, насмотревшись на язвы физические, но также и нравственные, сурово пишет о женщине: «Торговое направление общества менее тяготит над женщиной. В кругу семьи ей отдан на сохранение тот возраст жизни, который не лепечет еще о золоте.
Но зато воспитание обыкновенно превращает ее в куклу…Мудрено ли, что ей тогда приходит на мысли попробовать самой, как ходят люди. Эмансипация – вот эта мысль. Падение – вот первый шаг».
И еще: «Если мужчину, который не жил отвлечением, холодит и сушит…опыт, то пресыщенный, охолодевший, обманутый жизнью, он редко скрывает то, что он утратил безвозвратно. А женщина вооружается притворством. Ей как-то стыдно самой себя, пред светом высказать эти горькие следствия опыта. Она их прикрывает остатками разрушенной святыни. Инстинкт притворства и наклонность нравиться помогают ей выдержать прекрасно роль под маской на сцене жизни. Подложная восторженность, утонченное искусство выражать взглядом и речью теплоту участия в искании победы. Ей дела нет тогда, как дорого окупится эта победа, когда, достигнув цели, сделается опять тем же, чем была.
Вы ищите. А жизнь между тем приближается к закату.
Вопросы жизни еще далеко не все разрешены для вас. Вам так хотелось бы снова начать ее: но что однажды кончилось, тому уже продолжения впредь нет»…
Статья Пирогова, повторяю, повергла в мучительные и благотворные раздумья все сословия общества, и что удивительно – даже придворные круги. Но логика исторических событий второй половины 19 века была сложна.
Александр II, освободивший массы крестьян от крепостничества, убит так называемыми народовольцами. По России пошли гулять эмансипэ. Инесса Арманд, любимица Ленина, бросает детей мужу, уходит с головой и телом в революцию. Это крайний, но чрезвычайно характерный пример, куда подалось образованное общество.
Церковь не удержала Россию в границах пристойности. А поскольку у истории действительно не бывает сослагательного наклонения – то церковь и не могла удержать. Наши курсистки (у Крамского в «Незнакомке», если взгляд у вас беспощадно-реалистичный, видно, куда и зачем столь победительно едет эта дама, начитавшись французских романов) создали в обществе ту атмосферу, когда казаться, а не быть, стало повальным бедствием. Мне припоминается, как некие особы интриговали Ивана Тургенева, вошедшего в славу, пытаясь склонить его к адюльтеру. Но сам Тургенев, помещик и демократ, по всей Европе таскался (простите вульгарное словцо) за Полиной Виардо, замужней женщиной. И Виардо было лестно, что столь знаменитый прозаик как собака предан ей…
Пирогов регулярно, будучи попечителем Одесского, затем Киевского учебных округов, издавал Циркуляры. Не пугайтесь ужасного бюрократического слова. Все дело в том, каким смыслом его наполнять. В Циркулярах Пирогов убедительно и страстно (он всегда был страстен в трудах) доказывал свою правоту, и не в кабинете, не потаенно, а открыто. Почитайте Циркуляр «Об увольнении от учительских должностей лиц, не способных к педагогическому труду». «В случае нерадения к своей обязанности учителей в виде наказания переводили из гимназий или дворянских уездных училищ в обыкновенные городские, уездные училища. Сию последнюю меру я нахожу вредной, ибо в уездных училищах нужны точно так же, как и в средних учебных заведениях, способные и занимающиеся с любовью к своим предметам учителя, и крайне несправедливо делать эти училища исправительными местами для провинившихся учителей высших учебных заведений. Оставление таковых лиц в учительских должностях лишь потому, что они обязаны прослужить известное число лет, не приносит заведениям никакой пользы, а – напротив, вредит успехам учения». Что делать? «Увольнять, не стесняясь», – полагал попечитель.
Пирогов не был чиновным руководителем. Его редко заставали в резиденции. Он наезжал без предупреждения в дальние углы губерний, сидел на уроках, внезапно появляясь в школах. Ночевал у рядовых учителей, бывало и на полу, ел, что подадут, допоздна беседовал с педагогами, не давая сна ни себе, ни хозяину. Он был жаден до сукровицы жизни, Пирогов. И всегда неустанно отмечал добрые примеры учителей, благодарил их.
Когда из-под пера Николая Ивановича вышла статья «Быть и казаться», событие это опять повергло публику в шок. Родителям так хочется увлечь детей чем-то высоким, вызвать у них жажду постижения прекрасного. И нынче мы увлечены театром, ах, они вещают о сокровенном, Табаковы и Пугачевы (но вещают сыто).
Нам навязывают, а большей части постсоветского общества уже навязали, мысль, что Истины историческая и поэтическая проповедуются со…сцены платными лицедеями. Но это еще что! В нынешней России державно позволено гастролировать по стране и выкаблучиваться на государственных подмостках, извините меня, даже педерастам. Пример? Когда пресловутый Борис Моисеев пожаловал в Благовещенск, ему отдали зал филармонии. Писатели, а также группа казаков, православная община и просто здравомыслящие земляки выставили у филармонии пикет протеста. Немедленно прислан был наряд офицеров УВД. В поддержку нам? Нет, в защиту педераста.
Прости нас, Николай Иванович. Но тормоза отказали не нам. Тормоза перестали действовать в Твою эпоху. В «Быть и казаться»[17] Ты самолично, будто на скрижалях, выбил: «Если мы, при нашей общественной методе воспитания, много способствуем, – хотя бессознательно и действуя по крайнему разумению, – развитию в ребенке лжи и притворства, то иезуиты (католики), не довольствуясь этим, уже сознательно доводят двойственность до степени клеветы». – Но – «чтобы судить о ребенке справедливо и верно, нам нужно не переносить его из его среды в нашу, а самим переселиться в его духовный мир. Тогда, но только тогда, мы и поймем глубокий смысл слов Спасителя: „Аминь глаголю вам, аще не обратитеся и не будете яко дети, не выедите (не войдете) в царство Небесное“.
Быть и казаться? «И не выходя на театральную сцену – и без того, на одной сцене жизни – он (ребенок) скоро научится лучше казаться, чем быть», – пишет Николай Иванович, резонно полагая, что в театре бытия наставниками у детей выступают взрослые3.
Вопрос ребром, но не мой вопрос, а Пирогова: «Неужели все попытки нравственной педагогики, все успехи, все стремление человека к совершенству – одна только пустая игра слов, один обольстительный вымысел?»… Или чистый ум?[18]
Показательно, торгашеская наша эпоха всполошенно кинулась к Пирогову. А к кому еще, к Чернышевскому и Добролюбову?
– К топору зовите Русь! – призывал Чернышевский Герцена. Позвали Русь к топору. Результат? Тот, что мы переживаем с времен Гражданской войны: землю у крестьян отняли снова (это называлось коллективизацией), Павликов Морозовых настрополили против родителей. Православную церковь уничтожили и приказали забыть предание, прежде всего национальное[19].
И, кажется, другого не дано России.
Нырнул я в Интернет. Ну-ка, современные технологи, откройте истину. Вы настаиваете на повальной компьютеризации школы. Сомнительное приобретение, в духе Чернышевского, прогрессиста.
И что вы думаете? Интернет одарил откровениями о Пирогове. Некий Л. Троцкий (тень Льва Давидовича восстала?) в огромной статье пишет ничтоже сумнящеся: «Научные его открытия… не имеют в себе ничего синтетического, лишены полета». И ложь прямая: «Паче всего предлагал он учиться у Европы, которая старше, богаче и умнее нас». «Пирогов не был демократом». «К обществу он на всем своем жизненном пути подходил через ворота государственности».
Л. Троцкий говорит о беспочвенности Пирогова. По Троцкому, беспочвенности большей, нежели у антогониста Николая Ивановича – Добролюбова. «Утопизм его (Пирогова) – в крайней умеренности, которая делала его программу политически беспредметной». «Он ищет всегда прислониться спиной к существующему, прочно сложившемуся, прочно отложившемуся»…
Явно враждебный русскому Отечеству, Л.Троцкий считает, что «материальная и духовная скудость русской культуры, особенно тогдашней, сыграла с гуманистом Пироговым жестокую шутку». И: «История поставила перед ним резкую дилемму: либо признай „ярко-красные бредни“ с их непримиримым отрицанием суеверий и всего на суевериях основанного, – либо же, наряду с биологией, антропологией, анатомией, потрудись очистить местечко для официальной демонологии, среднего нет, ибо и в философской области у нас посредине – „трень-брень“ и ничего больше»…
Не правда ли, красноречиво проговариваются новоявленные ничевоки. Скудость русской культуры – это богатейшие россыпи (залежи!) народного фольклора, это величайшее музыкальное наследие. Это величайшая в мире (равной нет) художественная литература. А историки Карамзин, Погодин, Соловьев, Костомаров (тяготевший к украинской ветви славянской культуры), Ключевский! Наконец, крупнейшие ученые-естественники (здесь одного Менделеева достанет, чтобы потягаться с мировыми авторитетами). А в философии Соловьев-младший, Константин Леонтьев, Иван Ильин, отец Сергей Булгаков и отец Павел Флоренский.
«Трень-брень» – это сам Л. Троцкий.
Татьяна Петрунина из журнала «София» (София – не имя, а глубочайшее понятие: мудрость и всепонимание смысла мировой и православной духовной культуры) попыталась ответить новоявленному Л.Троцкому в том же Интернете:
«По мнению Пирогова, остается один путь – воспитать человека. Целью этого воспитания должна быть не передача каких-то профессиональных знаний и умений, не воспитание „негоциантов, солдат, моряков, духовных пастырей или юристов“, а воспитание личности, ее волевых и нравственных качеств, воспитание внутреннего человека: „Не спешите с вашей прикладной реальностью. Дайте созреть и окрепнуть внутреннему человеку; наружный успеет еще действовать: он, выходя позже, может быть, не так ловок… но зато на него можно будет вернее положиться; он не за свое не возьмется“, – цитирует Татьяна Петрунина великого подвижника. И далее:
«Пирогов был сторонником, как он это называл, „общечеловеческого“ воспитания. Независимо от талантов и склонностей, каждый ребенок должен стать человеком в полном смысле этого слова. Для этого необходимо дать детям, прежде всего, гуманитарное образование. Причем, под гуманитарным знанием Пирогов понимает знание, необходимое для каждого человека, „humanora“, знания, которые передаются от поколения к поколению и остаются навсегда „светильниками на жизненном пути и древнего, и нового человека“. С этим трудно не согласиться, т.к. именно гуманитарные науки позволяют воспитать личность, воздействовать на нравственные качества человека, образовывать не профессионала, а человека. Таким образом, поставленные цели воспитания требуют определенных условий. Педагог их определяет так: во-первых, ребенок должен иметь какие-то интеллектуальные задатки и способность чувствовать, иметь от природы – притязание на ум и чувство, во-вторых, необходимо дать свободу для развития этих задатков. И третьим необходимым условием воспитания истинного человека является религиозное воспитание, которое дает нравственную основу личности, придает смысл ее существованию. Человек, по сути дела, на протяжении всей своей жизни стоит пред вопросом – кто он такой? И единственный способ узнать – это заглянуть в свою душу, познать „внутреннего человека“…
Татьяна Петрунина, дитя переломного времени, делая правильный шаг в сторону религиозного воспитания, тут же оступается об интеллектуальный порог и делает выступку в сторону г-на Троцкого. Это живо напомнило мне Ярославский – всероссийский – семинар одаренных старшеклассников, одаренных в филологии. Там ребятам предстояло пройти два тура. В первом туре они должны были написать классное сочинение под названием «Сравнительный анализ поэзии Пастернака и Бродского». Тот, кто успешно сравнил бы наследие Пастернака и Бродского, проходил во второй тур и переезжал в Москву.
Пытался я убедить организаторов семинара дать параллельные темы: сравнительный анализ поэзии Есенина и Твардовского, Рубцова и Кузнецова. Нет, отвечали мне, Министерство просвещения утвердило-де интеллектуальную программу семинара. Вся глубинка была провалена уже в первом туре. Бродского русская провинция не знает.
Средний европеец, явление которого губит национальную культуру, продолжает властвовать над континентом. Еще Константин Леонтьев убедительно писал о среднем (никаком) европейце. А уж в Интернете куда ж нам без среднего?..
Резонно спросить, долго ли продержался в попечителях Николай Пирогов. В феврале 1861 года Александр II посчитал, что он, Государь, сделал уже достаточно для русского общества и уволил, по доносу, Пирогова.
Николай Иванович пришел с прощальным визитом к студентам Киевского университета, а затем написал к ним обращение. Он документировал факт: «Я ухожу, но вот мое слово к вам, юноши». Письмо это сохранилось. Хочу привести его: «Я принадлежу к тем счастливым людям, которые помнят хорошо свою молодость.
Еще счастлив я тем, что она не прошла для меня понапрасну. От этого я, стареясь, не утратил способности понимать и чужую молодость, любить и, главное, уважать ее.
Нас всех учат: «Почитай старших». Да и не учась, мы бы все это делали: мы имеем стариков отцов, и каждый из нас чем-нибудь да обязан старшему… Мы все это хорошо знаем; но не все знают, что и молодость должно уважать.
Она является к нам с ее страстями, вспышками и порывами. Между тем кто не забыл свою молодость и изучал чужую, тот не мог не различить и в ее увлечении, в ее порывах грозной борьбы духа за дорогое человеку стремление к истине и совершенству. Попечителем я поставил себе главною задачею поддерживать всеми силами то, что я именно привык любить и уважать в вашей молодости. С искренним доверием к ней, без страха, без задней мысли с полною надеждою на успех я принялся за трудное, но высокое и благородное дело. И мог ли я иначе за него взяться, когда, помня и любя время моего образования в четырех университетах, я живо вспоминал и те устремления, которые меня тогда одушевляли; вспоминая, уважал их в себе. Я невольно переносил их и на вас и в вас любил и уважал то же самое, что привык любить и почитать в самом себе. И теперь, расставаясь с вами, я объявляю гласно, что во все время моего попечительства ни разу не раскаялся в образе моих действий…
Я был приготовлен к тому, что не вдруг поймете меня вы и еще менее поймут ваши отцы и целое общество…
Я знал, что немногие у нас разделяют мой взгляд на университетскую молодежь и на университетскую жизнь вообще. Знал, наконец, и то, что меня будут обвинять в слабости, в неумении наблюдать за порядком и в гоньбе за популярностью. Но все это не могло изменить моих твердых убеждений, не могло остановить моих действий, основанных на любви и уважении к молодости, на доверии к ее благородству мыслей и стремлению к правде. Не верить в это я не могу, потому что не мог сделаться или казаться не мною. Это значило бы для меня перестать жить. Я остался мною и, расставаясь с вами, уношу те же убеждения, которые и принес к вам, которые никогда и ни от кого не скрывал, потому что считал преступным скрывать начала, служившие основанием моих действий.
Надеюсь, вы успели также убедиться, что я основывал мои отношения к вам на том нравственном доверии, которое имел право требовать и от вас; потому что действовал прямо и знал, что на молодость нельзя действовать иначе, как приобрев ее доверие. Я не приказывал, а убеждал, потому что заботился не о внешности, а о чувстве долга, которое признаю в молодости так же, как и все другие высокие стремления духа. Наконец, вы, думаю, уверились, что для меня все вы были одинаково равны, без различия ваших национальностей. В моих глазах университет, служащий вам местом образования, не должен быть местом других стремлений, кроме научных. Поэтому-то я так же искренне желал и вашего сближения с представителями науки в университете, нарушенного, к сожалению, временем и обстоятельствами.
«…Расставаясь с вами, прежде чем вполне успел достигнуть моей цели, буду иметь утешение в том, что оставался верным моим началам, буду счастлив тем, что если и не довел еще ни одного из вас до истинного счастья, то, по крайней мере, ни одного не сделал несчастным.
Итак, прощайте, служите верно науке и правде и живите так, чтобы и вы, состарившись, могли безупречно вспомнить вашу и уважать чужую молодость (Киев. 1861 г. Апрель 9)».
Прошло много лет со дня незаслуженной опалы. Русское общество по случаю 50-летия его трудов вспомнило Пирогова. Николая Ивановича вызвали в столицы, говорили высокие слова, награждали.
Но ему уже ничего этого не надо было. Он устал, рвался в свое село Вишня, ныне Винницкой области Украины, тогда Малороссии. Через полгода после юбилея он умер и похоронен в склепе там же.
Пошел ли впрок исторический урок судьбы выдающегося сына России, хотя бы с опозданием на сто с лишним лет? Я много времени посвящаю современной школе: даю Пушкинские уроки в Тынде, не торопясь, беседую с учителями в Варваровке и Ивановке, в Благовещенске. В моей 9-й гимназии в Свободном я объявил литературные конкурсы на лучшие сочинения о России, о малой родине, о родителях. Но должен сказать правду – идет деградация духовная и нравственная. Как ей противостоять? И кто сможет противостоять?
Наследие Пирогова корневое. Остается припадать благодарно к его томам, которые одиноко стоят на полках в областной научной библиотеке. А в библиотеке Педагогического университета – печальное открытие – вообще нет сочинений Николая Ивановича Пирогова. Впрочем, если БГПУ носит имя М.И.Калинина, то ни к чему в фондах его библиотеки хранить Пирогова…
Сентябрь – ноябрь 2006 года, Благовещенск.
В основу публикации положен доклад автора о Н.И. Пирогове
на первых региональных Педагогических чтениях
в Благовещенске (ноябрь 2006 года)
Три сотки
Дом на Шатковской, рубленый на скорую руку в двадцатых годах, – родной мой дом. Я бы припал щекой к темным бревнам, пропахшим солнцем и укропом. Но снесли колыбель в одночасье, чтобы на том же месте поднять казенное здание санэпидемстанции. Когда доводится бывать в Свободном, иду в город с железнодорожного вокзала пешком и стою молча, будто на погосте, возле станции, стараясь не видеть белых стен, а видеть четыре замшелых окна, и в кухонном окне мамин лик, в очечках, дробные морщины и кроткую ее улыбку.
До Шатковской мы ютились на К-й, в доме на две семьи. Двадцать пять квадратных метров, и там теснились мама с отцом и нас четверо. «Нас» для солидности говорю. Мне, последышу, было в ту пору год, да два, да три года, места занимал мало. Зато братьям исполнилось двенадцать и четырнадцать лет, а сестре Ге -ре тринадцать, самый подвижный возраст. Хорошо лето и теплынь на дворе, улица в ромашке. Автомобилей тогда может штук пять бегало по Сталинской. А К-я безопасная, тихохонькая, скамейки у палисадов. Белый разлив черемухи.
Зимой доставалось, в духоте. Папа еще поднимался, выходил подышать свежим воздухом, теперь-то я думаю, нам давал передышку. Мать открывала форточки, выскваживала тлетворный дух – отец болел туберкулезом. Однажды он попросил меня на колени, мама поднесла. А руки у отца были холодны, я помочился на него. То было последнее тепло, омывшее отца, он счастливо улыбнулся и – отошел. В день смерти папы одиннадцать месяцев исполнилось мне, голову я держал слабо, хворый уродился.
Маму из жалости взяли в горжилуправление домкомом. И тоже, верно, из жалости скоро дали квартиру на Шатковской. Две комнаты и большая кухня. Мама на кухне поставила ножную машину «Зингер», подарок бабеньки Груни, стол широкий раскройный. На зиму мостили мы кровать в углу, к печке тянулись. Когда я подрос, а братьев и сестру разнесло по свету, я изловчился и сварганил в третьем углу, у входной двери, курятник, с выдвижным дном, чтобы убирать помет. Но мама, чистюля, выдержала запахи куриного помета одну зиму, после лета и осени, к холодам, велела порубить куриц.
В доме на Шатковской мы зажили оседло, знали, вековать будем здесь. И крыльцо-то оказалось свое у нас, не как на К-й. Огород. То есть как бы все наше, собственное. Сарай-дровяник тоже свой, в непогоду мог я пилить и колоть дрова в сарае, под навесом, крышу топором не доставал. И дворик радовал глаз. Четырнадцатилетний, слепил я во дворике летнюю печурку, поднял навес, правда, не ошкурил стояки, но они простояли за смерть мамы…
К концу войны с германцем остались мы с мамой вдвоем. Старший брат Гена из Среднебельской колонии ушел на западный фронт, в штрафбат. Брата Вадика увели семнадцатилетним не восточную границу, в Ворошилов-Урийск. Сестра уехала в Малую Сазанку секретарем при штабе Амурской военной флотилии. Тяготы постепенно легли на меня, хотя мама запрягала осторожно, однако без всхлипываний и жалений. Теперь я стараюсь втягивать своего младшего, Митю, в хлопоты на загородной усадьбе, но все кажется, маленький, в десять годков, не притомился бы, не надломился. Но есть добрая примета. В нынешнем июне мы взяли с собой в Луговое Митиного приятеля Женю. Готовясь к больнице и догадываясь, что скоро мне не вернуться не усадьбу, я затеял ремонт двери на веранде. Призвал Митю, он пришел браво, держал фанерные листы, бил гвоздочки и вообще вкусно суетился. Но вдруг вспомнил и кликнул Женю. Женя скривил веснушчатое лицо – он, вишь, приехал отдыхать (от городского отдыха), на Бутунде купаться, в футбол гонять. Митя прошипел, чтоб я не слышал: «Ленивый ты, Жэка», – сердце у меня счастливо екнуло. На картошке, при посадке, мы даем Мите посадить его рядок, ерунда. Но с этого рядка возьмем два куля картошки, и первую свежую картошку надо отварить с Митиного рядка. «Вкусна твоя картошка», – хвалим не нахвалимся…Но все это сущая безделица по сравнению с теми, военными и послевоенными обязанностями, что пали тогда не меня. Почему на меня, а не на меня и не на маму? Потому что мама, не разгибая спины, сидела, обнявши «Зингер», кормилицу главную. Но и огород спасал. Велик ли он был? Соседям нарезали по пять соток, а нам почему-то три. У них почва черная, а у нас желтая, глинистая. Удобрить бы, но навоз на вес золота. Единственное могли позволить – песок. В ливни его намывало ручьями с верхних улиц Свободного. Смесь глины и песка не сильно липла к босым ногам, уже хорошо. А еще пошли приличные урожаи морковки и репчатого лука. Под лук и морковку можно бы занять побольше грядок, но тогда картошку стесним.
Три сотки. Не разбежишься. Но жилы они вытягивали. Прежде, чем посадить, потом вырастить и убрать урожай, надо к весне сохранить на посадку хотя бы ведер пять. Но подпол зимой промерзает. Приходилось засыпать толстые завалинки, сантиметров семьдесят шириной и под самые окна, почти метр, и метров тридцать продольно. В сухую, разумеется, погоду, иначе схватит землю в завалинке морозом. Осень, слава Богу, стоит в Приамурье ядреная, штыковой лопатой брал тридцать кубометров за неделю. Но свирепая зима к январю пробивала и эту толщу. Годам к пятнадцати я набрался силы и убедил маму утеплить подполье изнутри. «Да тут тебе на лето хватит возни», – вздохнула она, но согласилась.
Подняв половицы пола на кухне, я разобрал гнилые стенки в подполье, расширил площадь и углубил, заново поставил стенки из крепких досок так, чтобы в проем засыпать шлак или опилки. Побегал по округе – шлаку не нашел. Но на конном дворе визжала лесопилка, там дядя Артем разделывал бревна, а у дяди Артема жена, тетка Настя, платье сатиновое заказала маме. Они и сговорились – за опилки мама пошьет платье. Владик Кириенко, дружок, дал тачку, я перевез опилки, лопатил под солнцем, ведрами сносил в подполье. Но поздно подсказали мне утрамбовать за, зиму опилки сели, и холод протек в погреб…
Мать смотрела на мои труды удоволенно, но иногда выгоняла в городской сад (в моих рассказах Есаулов, там и правда рос большой дуб по прозвищу Есаул) к волейбольной площадке, на которой законодательствовал Митя Меньшиков, кумир свободненской ребятни. Митя рос могучим парнем и бил с первой линии смертельные мячи, колом. Возле Мити и я подучился.
Но огород, экая бесконечная эпопея в дождь и в вёдро. На случай пасмурного лета мы высоко поднимали гряды. Чаще случались жары. Картошка как-то претерпевала, но мелочь требовала ежедневного полива. А тогда летний водопровод не выстилали по огородам, видимо, труб не было, я носил воду с вокзала. На огороде стояли у нас две железные бочки, одна для подкормки, там закисали коровьи лепехи. Я собирал их на Шатковской, когда пригоняли с лугов стадо. Совком поднимали блины в ведро. Запахи свежего г… не смущали, смущало то, что я всегда был единственным мальчишкой, который не брезговал этим занятием. Побрезговал бы – мама упрекнет со вздохом: «Не уродят на глине помидоры, сына», – шел я за коровьими ошметками.
Помидорную рассаду мама вывела свою. Семена высеивали рано в ящики. На подоконниках, в солнцепек ярко-зеленые стебли быстро крепли, и в начале мая мы переводили помидоры в теплицы, закрывая рамами, отнятыми у окон. Потом высаживали в грунт. Зная, что будут заморозки, мама из газетных лоскутов тачала чехлы, к ночи я наряжал помидорные гряды в бумажные сарафаны. А днем от палящего солнца закрывали гряды березовыми ветками. К июлю у соседей на грядах чахлые кусточки, а у нас навалом идут крупные бурые помидоры. Чтобы облегчить стеблям нести по десятку плодов, часть мы срывали, доспевали они на окнах или в потемках, особливо в старых катанках. И тут, в середине июля, наступал передых. Время полива отходило, плечи коромыслом не надо обдирать. На очереди прополка и окучивание, морока тоже, но полегче…
Не знал я тогда, хотя читал неумеренно много, и глупейших книг, вроде «Кавалера Золотой Звезды» Бабаевского, проглотил сотни[20], но, опять же, «Кавалером» меня наградила за какой-то подвиг Анастасия Степановна Шиконина, директор (9-й школы, где я счастливо учился, нет, не на пятерки, но и не легкомысленно. Учителя любили меня, наверное, за смиренный нрав и за начитанность. Я мог достать из тайника отроческой памяти то, что сказал мужикам, например молодой Дубровский, прощаясь с родительским, сгоревшим, домом и уходя в разбойники…
Да, так вот не знал я того, что власть надо мной клочка земли и этого подворья окажется благотворной и самодовлеющей. Изнурял ли я себя? Еще бы. Однажды соседи, видя, как, пошатываясь, я несу в десятый раз полные ведра воды с вокзала (а это полкилометра туда и полкилометра обратно, т.е. десять км ежевечерне, с двадцатью кг на плечах), – соседи вызвали маму на крыльцо и стали усовещать: «Запалишь парнишку, Гутя», – мама заплакала. Но, когда ужинали, рассказала, как тятя, дед мой Василий, поднимал ее зимой затемно и они ехали рубить лес. И с Амура поднимали по сто ведер воды, лошадями, – но девочка двенадцати лет исполняла тяжелую работу, старшая среди сестер. Бог не дал Василию сыновей. И мама сказала мне: «Счастливое времечко было, Боря». Значит, счастливое оно и для меня. Отца нет? Есть отец. Вот, со стены он смотрит на меня. И т а м помнит обо мне, о моих братьях и о сестренке помнит…
Наконец вернулся из армии Геннадий (а Вадик погиб девятнадцати лет в Порт-Артуре). Но Гена страшно удивил, когда брезгливо сказал: «Бабья работа прополка», – и ушел, не стыдясь, в горсад, оставив меня одного на этих трех сотках. Хотел я сказать брату: «Мама девочкой делала мужичью работу, лес валила, косила, лошадей пасла, не стеснялась», – но не сказал, берег брата. Он был не просто фронтовик, Гена-то, а ротный разведчик, языков брал. К концу жизни он выдавал себя уже за дивизионного разведчика, но и тут я никогда не разоблачил брата, а любовался им. Притом гордился даже Среднебельской колонией – туда он угораздил за то, что… Да скажу картинкой: «Перед войной приехал я в Райчиху в горное училище, нас, свободненцев, человек десять поступило, братва. Подались в клуб, а там местные устроили битье. Их сто, а нас…Мы обиделись, пришли в общежитие и обнаружили, что можно спилить прутья железные с кроватей рашпилем. Спилили, за пазуху, и вернулись в клуб. Устроили Куликовскую битву, всех разогнали, но от наряда милиции не ушли. И получили срока, я, заводила, больше всех…» – не мог я не любить старшего брата.
«Иди, голубчик, на танцы в Есаулов сад, а я погожу у родимых грядок, – втихомолку бормотал я. – Не огородник ты, че ж поделать».
Теперь, на закате, скажу спасибо судьбе за то, что она щедро одарила нас, не только меня, тремя сотками. Вспоминаю друзей школьных лет. Толю Фатеева (позже он стал летчиком, но вернулся к земле), Владика Кириенко (он водил тяжелые поезда, но связи с землей не порывал), Саню Гулькина (Рождественского), он был… кем только не был Саня, но остался верным огороду и саду. Витю и Колю Поволяевых. Какие ребята, сильные и добрые. Надежные. Все они сполна познали круговорот времен года. Иных уж нет.
Не надо нам уходить далеко от земли. Все равно вернемся к ней, родимой.
Июль–август 2002
Старые колодцы
Необходимое предисловие к «Старым колодцам»
Петру Цареву посвящается
А ты самих послушай хлеборобов,
Что свековали век свой у земли.
И врать им нынче нет нужды особой —
Все превзошли, а с поля не ушли.
ТвардовскийРукопись «Колодцев» задумывалась в труднейшие годы. Я подошел к перевалу сорока лет, просвета впереди не видно. Заглохлость душила меня и моих друзей. Поступить в ряды кухонных инакомыслящих мы не могли хотя бы потому, что были все плоть от плоти крестьянских или казачьих родов. Провинциальные университеты не поколебали наших традиционных нравственных устоев. Да, мы оступались, оступался и падал я. Но всякий раз подымался, готовый к сопротивлению, но к сопротивлению не властям, а предгибельным обстоятельствам. И в тяжелый час неожиданно приходила ко мне помощь, с непредсказуемой стороны.
Знаменитый председатель колхоза имени Кирова под Тулуном Петр Николаевич Царев согласился, что, если чиновники поверят в написание истории сверхпередового колхоза, я мало того, что свершу запечатленный труд – в стол, разумеется, – но получу передышку в несколько лет. Откуда он взялся, храбрый Царев? А отец его, Николай Карпович, тоже председатель, был репрессирован в 1940 году…
Мы заключили договор. Я обязывался собирать эмпирический материал, работать в архивах, изучать так называемые научные труды и современную очеркистику. Разумеется, открыто. Ибо все будут считать, что пишется история краснознаменного колхоза, позитивная изначально. Жизнеутверждающая. Власти решат: зачем мешать Черныху встать на путь истинный?
Царев положил мне зарплату, а по завершению работы – гонорар, провел свое предложение через правление колхоза. И мы поехали в рискованные дали.
Чтобы запутать след, в «Литературной газете», у Чаковского, я опубликовал парадный очерк о выдающемся председателе коллективного хозяйства. Партийные боссы проглотили очерк как должное. Цареву сулили звание Героя соцтруда, его обихаживали и ласкали. К нему ездили высокие гости, о прибытии коих меня предупреждали. В те дни и часы я отсиживался в Никитаеве в избушке, топил печь, читал русскую классику. Гости убывали. Я выходил из укрытия и опять с толстой тетрадью шастал по деревням и усадьбам.
Год шел за годом. Наконец, после пятнадцатой тетради, я устал, пришел к Дмитрию Сергееву и Валентину Распутину: «Что делать? Я притомился». «Остановить разыскания и сесть к письменному столу», – сказали они в голос.
Совет резонный. Но хождение по деревенским избам стало для меня вроде, простите, наркотика. Со стариками, и не только со стариками, я ненасытно дышал чистейшим кислородом. Потому не раз еще я садился в местный поезд, приходил к моим добрым знакомцам. Иногда мы по рюмочке принимали и пели заветные песни.
Но час пробил. Отрешенно заперся я дома. Жена, догадываясь, что сотворяется в одиночестве, не трогала меня. Минул еще год. Третья редакция рукописи удовлетворила автора. Я отпечатал на старенькой машинке пять экземпляров. Вызвал Царева в Иркутск, просил прочитать и принять в домашний архив два экземпляра. Он взял машинописный вариант, уехал, долго молчал, затем неожиданно объявился и грустно молчал. «Нельзя никому показывать, Боря, – сказал. – Но обязательство свое я выполню».
Скороговоркой Царев доложил избранным правленцам: «Работа сделана». Мне заплатили приличный гонорар. Царев спрятал свои экземпляры дома, а я свои у себя. По истечению времени шпионам показалось странным, что рукопись сокрыта. Стали у Царева настырно требовать «Старые колодцы» «для ознакомления».
Царев под вескими причинами отнекивался. Но затем не выдержал и сжег на костре «Историю», сказав партийным контролерам: «Потерял рукопись». Но автор-де борется за ее публикацию в Москве. В самом деле, я приносил в редакцию журнала «Наш современник» рукопись на двое суток. Ее прочитали залпом и тотчас вернули: «Спрячь», – был тихий совет. Я оставил, на всякий пожарный случай, один экземпляр у Фазиля Искандера. Вернулся в Иркутск. Но и в Иркутске Дмитрий Сергеев, суровый прозаик-фронтовик (кстати, ближайший друг покойного Александра Вампилова), и Валентин Распутин сказали то же самое: «До лучших времен утаи».
Утаил. Во время ареста, в мае 1982 года, «Старые колодцы» лежали в подвале гаража у моего дальнего родственника Сергея Василюка. Там же нашли приют все тетради с рабочими записями.
Да, рукопись я сокрыл. Но над Царевым собралась гроза. Уже когда я маялся на политзоне, Петра Николаевича отрешили от должности, он получил выговор по партийной линии, разумеется, за упущения в работе. Однако Царев не сломался, он перебрался в Иркутск, ему подыскали сносное поприще, с зарплатой все же.
Интересна судьба рукописи «Колодцев», оставленной у Искандера. Следом за мной приехал к нему Дмитрий Гаврилович Сергеев и просил сохранить машинописный экземпляр романа «Запасной полк»: армия, война, народ в бедственных обстоятельствах. Абсолютно нецензурная, по тем временам, книга. Фазиль взял и эту рукопись. Мы умели молчать, Искандер тоже. Но вскоре повесткой Искандера вызвали в Генеральную прокуратуру СССР и предъявили ультиматум: или он сожжет антисоветские рукописи, или следователи прокуратуры придут к нему с обыском.
Фазиль сжег «Старые колодцы», «Запасной полк», а, верно, и еще были у него книги, тот же «Архипелаг Гулаг» Солженицына. Так «Колодцы» оказались сожженными дважды.
В 1987 году я вернулся в Иркутск. Дом мой, в Ботаническом саду университета, тоже оказался сожженным. Но новый глава области, Юрий Ножиков, выдал мне ордер на трехкомнатную квартиру, и там мы свиделись с Петром Царевым. «Ну что, Боря, будем печатать книгу?» – «Будем», – отвечал я. «Новый мир», «Сибирские огни», затем издательство «Советский писатель» предали гласности «Колодцы». Любопытно, издательства «Советская Россия» и Новосибирское, заключив со мной договора, вдруг передумали издавать «Колодцы», уплатили автору неустойку и спрятались.
Много благодарных писем я получил со всей матушки-России, но некоторые злобно ругательные и анонимные. Редакции журналов и «Совписа» собирали отзывы и передавали мне. И скоро старики, исповедовавшись когда-то передо мной, стали уходить один за другим…
Теперь, тоже готовясь к уходу, я делаю итоговую публикацию «Колодцев». Хроника эта, в многоголосии о тяжком колхозном эксперименте, пригодится современникам и потомкам. Как документ неопровержимый. В неопровержимости «Колодцев» главное достоинство.
Возвращение долга, – мысленно говорю я себе. – Долга моим дедам, сгубленным Октябрьским переворотом, и родителям, прошедшим через Туруханскую ссылку (отец заплатил за нее жизнью, скончавшись от чахотки в тридцать восемь лет). Но и долга сыновьям моим и внукам, и правнуку Степану.
Сейчас, вычитывая корректуру «Старых колодцев», я еще раз внял давно мною понятой истине: у Владимира Ленина и его наследников ничего не получилось из прокламируемых ими постулатов народоправства. Повсюду процвела диктатура бюрократии. И нынче она доцветает ядовитым цветом.
Спасибо современным издателям нетленного документа, печатают его. И тоже несвоевременно. Проамериканская ориентация российских олигархов и высоких чиновников опять толкнули державу в объятия бюрократии, не менее циничной, чем советская. Теперь мужику некому пожаловаться – снизу доверху все коррумпировано. Предстоят тяжелые годы.
Здесь я поставлю последнюю точку и позову читателей к роднику.
Благовещенск, Март 2007 года
Разговор у Царского мостика Вместо вступления
Старые колодцы – средостение жизни отжитой и неутоленная жажда по неисполненной судьбе, исполниться которой удастся ли когда на этой горемычной земле...
В Никитаеве, на перепаде главной улицы, у Царского мостика (так его звали в давнюю пору) получился у меня любопытный разговор с Сидором Павловичем Лыткиным, некогда местным мужиком, прибывшим ныне в гости издалека, аж с Урала.
– Про тебя ли говорят, – спросил он, сломав картуз в мощной ладони (припекало), – что ходишь ты по избам и собираешь старинные известия?
– Про меня, – ответил я.
– Без разбору собираешь? Кто что подаст?
– Пока без разбору, – отвечал я, – После по полочкам все разложу.
– Что же, ты полагаешь, верно, память людская сохранила точные факты?
– Полагаю.
– А тогда ответь мне, брали ране урожай в двадцать пять центнеров с круга?
– В счастливые годы, слышал, по сто пудов случалось с десятины, стало быть – шестнадцать центнеров...
Лыткин улыбнулся и сказал:
– Неподалеку, в Бодаре, один звеньевой взял перед войной по двадцать пять, да, и сильно не хвастался. Звали же его Николай Карпович Царев. Знакомая фамилия?
Был май, цвел редкостный в весну семьдесят седьмого года теплый денек. Новый мой знакомый никуда не торопился, мы сидели у мостика на бревне, курили. Собеседник горько усмехнулся:
– Не поверишь, поди? Дед мой Лыткин отважился на такой подвиг – в 1909 году собрал сто восемьдесят пудов с десятины. Сейчас ходил бы в передовиках на всю губернию.
– И куда он подевался, ваш дед?
– Известное дело, помер. Надсадился и помер.
– Кто же принял у него эстафету?
– Отец мой. Но деда не догнал. Не дали. Велели в колхоз вступать. А отец все жилы тянул на одиночном поле...
– И что же дальше, Сидор Павлович?
– Известное дело. Зачислили моего тятю в твердопланники. Лишился он всего, что накоплено дедами было... Ну, а я теперь городской. Прибыл погостить в Никитаево, и смутили мне душу слухи – пишется, мол, история Тулунской землицы.
– Задача моя скромнее. Я хочу написать избранные страницы из былого, а уж дело историков оценить, насколько правдиво мое перо.
– А вдруг – вот, я уж доказал – памяти у народа не хватит?
Я молчал, но собеседник попался мне дотошный:
– А вы обратитесь к письменным свидетельствам! Нырните поглубже. Вдруг всплывет и моя фамилия. Запомните – Лыткин.
Сказать по чести, ранее я знал имя Федора Лыткина[21], о зажиточном земледельце Лыткине и слыхом не слыхал.
– Жили мы при железной дороге, – коротко рассказал мне Сидор Павлович, – В Заусаеве хотели селиться, но прадед раздумал почему-то и отъехал в Шерагул... Да не все ли равно где жить – тулунская землица всюду умела родить, только старание приложи. Однако и в этих селах дальняя наша родня пустила корень...
Такой, в общем-то, обыкновенный разговор у Царского мостика. Вскоре я уехал в Иркутск, засел в Архиве, отыскал кое-что, имеющее непосредственное отношение к моему повествованию. Но задели меня за живое слова уральца; оказалось, давно-давно получали на тулунской земле высокие урожаи хлеба, и не просто высокие, а более того, что берут нынче в хозяйстве имени Кирова, удостоенном союзных почестей: тут тебе и Почетный знак ЦК, и Красное знамя (навечное врученное) Центрального Комитета партии, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Поэтому лыткинский сюжет я постоянно держал на примете. Не оставляя прямых забот, я вознамерился отыскать полезные свидетельства в делах Государственного архива. Скажу сразу, затея моя увенчалась успехом частично. Во-первых, о Николае Карповиче Цареве – отце нынешнего председателя колхоза имени Кирова Петра Царева – я нашел жалкие крохи. Как ни странно, имели они касание к Шерагулу, откуда якобы вышел рекорд ныне безвестного Лыткина. Процитирую эти крохи.
Фонд 1423, опись 1, дело № 22, в деле лист 4. Ходатайство крестьянина Шияна Герасима Григорьевича: «И нет такого в Советском законе устава, который бы говорил о том, держать за полу члена, лишать его желания выдти из коллектива и проч. организаций; и при выходе. Заявления какие-то полудецкие, предрассуждения, а именно: тов. ЦАРЕВ, председатель коммуны, так мне заявляет – „после сева“, хотит изволить отдать мне лошадь; это выходит не что иное, кто-то будет начинать жать, а мне по инициативе тов. ЦАРЕВА придется начинать только что пахать[22]»... и т. д. Ходатайство Г. Г. Шияна о выходе из коммуны датировано мартом 1930 года. Пока оставим открытым вопрос, имеет ли означенный «тов. Царев» отношение к нашему рассказу. Инициалов-то нет.
В зале периодики я листал старые газеты, тут мне больше повезло. В № 107 за 19 ноября 1940 года районная газета «Знамя Ленина» поместила крохотную заметку Н. Царева, звеньевого колхоза имени Сталина[23]:
«...На некоторых массивах урожай был почти в два раза выше. С участка пшеницы в пять га мы получили по 24 центнера с га. С 4-х га ржи взяли по 26 центнеров... Задача в 41 году снять урожай не ниже 18 ц с га».
Прочитав заметку, я приободрился, потому что уралец Лыткин – оказывается – не соврал: брали на местных землях высокие урожаи, правда, на отдельных участках, но мал золотник, да дорог. Переписал я эти строчки в тетрадь, а сам не оставлял усилий найти собственно лыткинский след. И едва не набрел на него. В фонде 862 Госархива хранятся личные дела «лишенцев»– так ранее называли тех, у кого Советская власть отнимала право голоса на выборах в Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В числе лишенцев оказалось около десяти с фамилией «Лыткин» только по Тулунскому уезду, а позже району и округу; но личные дела сотрудники Архива отказались выдать: потомки лишенцев, люди ни в чем не повинные, впрочем, как и их пращуры, добрые труженики, едва ли захотят быть оглашенными. Суровые правила продиктовали этот запрет, и, повздыхав, я угомонился. Но тут знакомый историк, сославшись на докторскую монографию Виктора Григорьевича Тюкавкина[24], посоветовал порыскать по каталогам научной библиотеки университета.
– Должны быть, – сказал историк, обзорные книги по сельскому хозяйству дореволюционной норы.
В самом деле, в 1915 году– в разгар мировой войны! – Петроградское издательство выпустило книгу, составленную специалистом по сельскохозяйственной части В.П. Халютиным. Называлась она «Крестьянское хозяйство в России. Извлечение из описаний хозяйств, удостоенных премий в память трехсотлетия Дома Романовых».
Книжка знатная.
Оказывается, последний самодержец российский, блюдя высшие интересы престола, решил поощрить единоличные хозяйства в стране. Повод отыскался подходящий – триста лет династии. Чиновники департамента земледелия совместно с губернскими земотделами представили к премии 1382 хозяйства, но дело затянулось, вспыхнула война. Правительство изыскало средства лишь на 306 дворов, из которых 144 хозяйства получили первую премию в 300 рублей и 162 хозяйства – вторую, в 200 рублей, по тем временам деньги немалые. Кроме денег премированные получили особые дипломы, официально удостоверяющие успехи крестьян.
В число этих 306 хозяйств вошло два из Иркутской губернии: одно Хомутовское (о нем мы, возможно, расскажем в ином месте и по иному случаю), а другое – шерагульское тулунского уезда хозяйство Иннокентия Иннокентьевича Лыткина.
Иннокентию Иннокентьевичу исполнилось всего 39 лет, когда получилось известие о правительственной награде, возраст не то чтобы несолидный, а и не предельный. Я ожидал матерого хлебороба в годах этак под пятьдесят или чуть более того. Семья у знаменитого тулунчанина была большая: сам 30 лет, жена его 28 лет, сыновья 16, 13, 4 лет, брат родной 31 года, жена брата 24 лет, дочери их 6, 4 и 2 лет. Всего десять человек.
Поскольку перед нами живая история, обойдемся с нею деликатно и перескажем в деталях, что нажили собственным горбом Лыткины, что преумножили Иннокентий Иннокентиевич и младший брат его Степан. Два дома построили Лыткины, амбар великий и амбар поменьше, сарай, крытый дранкой, конюшню с сеновалом, хлев для мелкого скота, отдельный сеновал, крытый наглухо от искры, кузницу деревянную, скотный двор и, конечно, баню. Это не все постройки.
После столыпинского указа о хуторах на заимке подняли братья дом с тесовой крышей, два амбара, завозню, конюшню и, разумеется, баню; был на заимке молотильный сарай, крытый драньем, две рубленые риги.
Оценочная комиссия все постройки в Шерагуле и на заимке оценила в 3555 рублей.
А вот мертвый инвентарь: 8 телег, 15 саней, 4 кошевки...
А вот сельхозмашины и орудия: 4 плуга однолемешных, стоимостью от 11 рублей 50 копеек до 32 рублей 50 копеек, 2 сабана[25] по 5 рублей, 7 деревянных борон с железными зубьями, стоимостью по З рубля, семизарядная сеялка Эльворти – 96 рублей, жатвенная машина Мак-Кормика – 210 рублей, сноповязка – 402 рубля (куплена в 1908 году), сенокосилка «Мак-Кормик»– 145 рублей, конные грабли – 61 рубль, четырехконная молотилка – 200 рублей (приобретена отцом Иннокентия Иннокентьевича в 1893 году), сортировка – 48 рублей, простая крестьянская веялка – 32 рубля, два сепаратора «Корона»– первый стоил 78 рублей, а второй 40 рублей, две маслобойки – по 23 и 11 рублей 50 копеек.
Пахотной земли разработали Лыткины за три поколения 76 десятин, из них под паром держали 28 десятин.
Что сеяли братья? Озимую и яровую рожь, пшеницу, овес и ячмень, просо и гречиху, коноплю. Знали они толк и в культурных травах, засевали клевером и тимофеевкой шесть десятин.
Долог список денных и ночных трудов земледельцев из Шерагула. Особая забота у Иннокентия Иннокентьевича была о лошадях. Пятнадцать голов крепких рабочих лошадей в возрасте от 4 до 10 лет, да четыре головы молодняка держал хозяин.
Крупный рогатый скот у Лыткиных был симментальской породы, для этого отец нашего героя ездил под Новониколаевск, добыл там быка-производителя. Целое стадо мычало скоро на скотном дворе– 15 дойных коров, несколько десятков телок; и овцами не брезговали – 15 голов имелось, были и свиньи. Птицу держали тоже – кур и гусей.
Что брали от животных? Дойная корова каждый удой давала по 1/4 ведра; некоторых коров доили круглый год, от отела до отела. Получали по 15 пудов масла, а то и больше, продавали по 15 рублей за пуд.
Убойного скота считали до пяти голов в год, стоимость пуда мяса была 4 рубля; при среднем весе в 10 пудов выгоняли на рынке до 200 рублей. Шерсти с каждой овцы стригли до 6 фунтов. От 40 куриц брали 2400 яиц в год.
Обильное это хозяйство держалось на изнурительном труде всех членов семьи, исключая малолетних, а какие при этом сберегались духовные ценности – вопрос серьезный; вся книга задумана ради этого вопроса; торопиться не будем, однако. Сейчас черед сказать про лыткинские урожаи.
С десятины в нормальный год снимали: озимой ржи – 120 пудов яровой ржи – 120 пшеницы – 150 овса – 150 ячменя – 150 проса – 150 гречихи – 150 картофеля – 1000 клевера и тимофеевки – 200 (сено), – 15 (семена). Урожайность соломы составляла 400–500 пудов.
В переводе на центнеры и гектары получается вот что: пшеницы, овса, ячменя и др, – до 25 ц с га, ржи – около 19 ц с га и т. д.
Вспомним разговор у Царского мостика. Правдоподобен ли был рассказ Сидора Павловича Лыткина о том, что предок его взял до 30 центнеров с гектара в 1909 году? Вполне.
Следовательно, тулунская земля умела родить хлеб и в достославные времена; так не будем пренебрегать прошлым, воздадим ему должное на этих страницах.
Глава первая Загадывание судьбы
Не раз и не два читателю будет казаться, наверное, сомнительной позиция рассказчика. Так пусть он не торопится с выводами, читатель-то, как торопились порой многие персонажи этой книги-то в двадцатые годы, а то и позже...
Если Лыткин Иннокентий Иннокентьевич умел хозяйствовать, например, – для меня это еще не все. Мне важно: своими руками он жар загребал или чужими?
Прошлое снова возбудило интерес в обществе не случайно. Это как человек вырос, потом состарился и вдруг узнает поразительные вещи о самом себе, о собственной молодости, которые раньше открыться не могли – нужны были дистанция и перспектива. Нынче, когда временная дистанция пройдена, можно с большей основательностью рассудить прошлое.
Наши места не были исключением в стране.
Балаганский уезд... «В районе Зимы Тарской волости появляются банды под лозунгом восстановления земских прав... Население бандам оказывает содействие».
Иркутский район... «По сообщениям Губчека выяснилось, что в районе Тельмы 100 верст северо-западнее Иркутска оперирует банда в 500 человек, имеющая пулеметы, винтовки и дробовики».
«В селе Каменки (под Иркутском) был тайный крестьянский съезд, на котором присутствовало около 2000 крестьян. Съезд носил чисто контрреволюционный характер, были слышны выкрики: „Долой комиссарские декреты, нам нужно выбрать народную власть“.
На съезде был избран самочинно Волревком, издавались на местах разные постановления и распоряжения.
В деревне Табарсук состоялось тайное ночное собрание, на котором обсуждалось о невыполнении разверстки и об уничтожении всех стоящих у власти коммунистов... Все такого рода восстания в большинстве были на почве продовольственной разверстки».
Киренский уезд... «Вспыхнуло восстание крестьян, повстанцы обезоружили продотряд в числе 15 человек. Численность вооруженных и цели повстанцев не известны».
Новая Пустошь... Отряд восставших насчитывает 150 человек.
«В 5 прилегающих к Черемхову волостях на почве продразверстки и мобилизации отмечен ряд волнений среди крестьян».
Сводка от 26 августа 1920 года (по докладу инструктора Щипицина): «Крестьяне относятся к Советской власти неопределенно; не только население, но партийные, советские учреждения ничего не знают, что делается в центре и в деревне, на этот счет циркулирует масса самых разнообразных слухов».
«В селе Кутулик милиция имела бой с бандой силою в 60 человек, есть жертвы с обеих сторон...»
«Секретные сводки» сообщают о волнениях не только в Иркутской губернии, но и под Омском, Новониколаевском, Красноярском, Читой и т. д.
Шесть деревень, вошедших в разное время в колхоз имени Кирова, стояли не на пустом месте, бушевали и над ними сквозняки.
Теперь из тех шести деревень стоит четыре: Заусаево, Никитаево, Афанасьево и Красная Дубрава. Я застал в живых Евгеньевку, ycпел вдохнуть запах ромашки на главной улице села; на моих глазах Евгеньевка разбрелась, разъехалась.
Сейчас я пишу эти строки на хуторе у Александра Дмитриевича Шолохова, ему строят дом на центральной усадьбе колхоза, и ветеран-комбайнер считает по календарю: сколько ден осталось жить в Евгеньевке. Скоро уедет и он.
Шолохов человек пришлый, ему не довелось загадывать судьбу свою, живя в Евгеньевке; поздно он прирос к деревне.
Но и ему по прошествии тридцати лет деревня кажется родной.
Зато жена его Ефросинья Михайловна (в девичестве Жоголева) – коренная, и былое Евгеньевки – это ее, Ефросиньи Михайловны, былое и ее родителей.
Из всех деревень колхоза у Евгеньевки оказался самый короткий век, равный средней жизни человека. В 1903 году первые переселенцы из Белоруссии обратились в земотдел Тулунского (тогда Нижнеудинского) уезда, прибыл землемер Евгеньев, нарезал десяти семьям участки у реки Илирки.
Место белорусам понравилось – заповедная долина, укрытая со всех сторон горами, и река – чистая и рыбная.
Один из поселенцев, Пахом Казакевич, белобрысый мужик с нимбом пророка, любил в конце рабочего дня сесть в тесный кружок односельчан и подзудить их на страстный разговор.
Ефросинья Михайловна, девочкой слушавшая мужицкие беседы, диву давалась, как умел Пахом из явных пороков извлечь выгоду.
Так, удаленность Евгеньевки от Братского тракта Пахом возводил в положительный абсолют:
– Одинокий враг поленится ехать грабить нас, а все враги сообща в леса наши не кинутся сломя голову. Стоять Евгеньевке во веки веков!
Или подступились новоселы колодцы копать, но не добрались до воды – подземные воды залегали глубоко.
– Поссоримся, в колодец не плюнем соседу, – сказал Пахом, и евгеньевцы, разойдясь по избам, смеялись: «Ай, Пахом, миротворец, гадатель на пустом месте». И соглашались с Пахомом.
Следом за Казакевичем приехала семья Павла Баженовича Побожия, уже глубокого старца. Побожия снял с насиженного места указ Николая II от 9 ноября 1906 года, которым был введен льготный железнодорожный тариф и – главное – разрешался выход из общины. Указ закреплял и облегчал формальности переселенческого дела.
Задолго до того царизм пытался чохом осваивать сибирские земли. Например, в 1858–1860 годах сослали сюда, в Нижнеудинский уезд (а Тулун с окрестностями вплоть до 1922 года входил в названный уезд, я уже говорил об этом), десять тысяч солдат-штрафников. Думали освободиться от смутьянов в регулярных войсках и заодно приручить дикие земли. Ничего путного из затеи не получилось – насилие всегда приводило к противоположному результату. Солдаты не пожелали землепашествовать, предались пьянству и воровству. Тогда по всему уезду в один месяц появились на избах и амбарах замки...[26]
Возвратимся к колодцам. Казакевичи, Гнеденки, Побожии сделали заказ в губернию на буровой станок, чтобы пробить глубоководную скважину, но мировая война (войны всегда начинаются не вовремя) перечеркнула их планы и надежды.
Со страхом ждали переселенцы засухи: обмелеет-де и следом умрет Илирка. Зря боялись. С 1903 года по нынешний, семьдесят седьмой, не раз приходили тягостные лета без единого дождика, но и в эти лета Илирка, окруженная хвойными лесами, умела себя оберечь.
До войны, в пору экономического подъема, русское правительство имело возможность увеличивать ссуды переселенцам, заниматься дорожными работами, строительством приходских школ, а при уездах – и больниц. Знать, еще и потому из Поволжья, подверженного частым засухам, и из других районов европейской России, ринулось множество народа: и русские, и чуваши, и мордва. И реклама делала свое дело: переселенцам мнились в Сибири кисельные берега.
Не скопом, но в течение короткого времени в наших деревнях оказались Чубаревы и Жигачевы с Витебщины, Медведевы и Царевы из Белоруссии, Гавриловы из Симбирска, Судариковы с Черниговщины, Сопруненки с Украины... Они привезли особый дух предприимчивости и оптимизма.
Далеко отстояла Евгеньевка от тракта и Тулуна, но события в Петрограде осенью 1917 года без всякого радио или телеграфа быстро сказались в самой глубинке. Приходили солдаты с фронтов, несли почему-то оружие за спиной и большой заряд ненависти к начальству, к городу вообще. Первые декреты Советской власти пугали тоже невиданностыо благ. Побожий, самый грамотный старик на селе, умер, толкователем важных новостей из столиц выступал Пахом.
– Теперь замиримся с германской нацией, – говорил Пахом, – отринем всякое командование и будем жить по собственному разуму. А что не по нас, то мимо нас.
Поначалу так и казалось. Шли колчаковские отряды, застигли врасплох Заусаево и Ермаки (Ермаки стояли и стоят промеж Афанасьева и Никитаева), но до Евгеньевки не дотянулись, а евгеньевские мужики собрали дружину (сорок дробовиков и десять трехлинеек) и готовились оборониться от непрошеных гостей.
Не злорадствуя, слушали вскоре евгеньевцы рассказы про соседей.
В Заусаеве колчаковцы подняли первым с постели Ваньку Завалина, подростка: «Веди по избам!» Ванька пробовал пустить слезу, а колчаковцы ему: «Аванса хочешь?» – и плеткой пригрозили. Повел их 3авалин по Заусаеву. Войдут солдаты в дом, спрашивают молодых парней и верстают в свою армию. А незамужняя девка Дуня Лыткина (видите, снова встретилась нам фамилия Лыткиных) с испугу ничего про брата Егорку сказать не умела. Брат-то убежал на заимку, не хотел он к Колчаку идти. Тогда солдаты велят Лыткиной: «Ступай в сельскую». Так называлась сборная изба, где староста и писарь бумаги писали (стояла изба на том самом месте, где сейчас медпункт новый для заусаевских жителей построен). Девка пришла в сельскую, и другие женщины и мужики пришли. Положили Дуню на лавку, животом вниз, и давай нагайкой хлестать. Закрывала она ладошкой мягкое место, ей палец переломили... В ту зимнюю ночь двадцать семь заусаевских жителей было опозорено экзекуцией.
Ваньку-то Завалина напоследок колчаковцы тоже выдрали[27].
Но смута отошла, наступили-таки мирные дни. В мирные дни наши села не запирали ворота и жили в обнимку с округой: в Тулун и Шерагул ездили торговать и за керосином, в Иннокентьевский завод за спиртом; невест брали в соседних деревнях, а не только на месте. И посейчас живы те невесты.
Рассказывает никитаевская Александра Ивановна Огнева (рассказ Александра Ивановна трижды прерывала для отдыха):
– Родилась и выросла я тут, никогда никуда не уезжала. Родители мои – Иван Васильевич и Фекла Никитична – неграмотные, но до работы жадные, жили мы не богато, но и не бедно. Еще до революции было у нас два коня, две дойных коровы, держали овец и птицу... Не знаю, повезло ли, нет, но у тяти время от времени ноги прибаливали, застудил он их, так его на германскую не захотели взять. Хозяйство наше и в войну не пошатнулось. Когда Ленин стал главным, брат Андрей, он 1896 года рождения, говорит: «Пойду с большевиками, они по пути идут» – и ушел на самом деле. Через два года явился, в военной форме. Не корыстная[28] форма, а все же видно – служивый. Стали дальше жить. Я-то ишо на воле бегала, но к парням приглядывалась. Клуба тогда не было в деревне, летом сберемся до кучи да в березник, а зимой на вечерку откупим дом у хозяев. Кто денежку положит, кто зерна принесет, вот и есть у нас гулеванное место на всю ночь, играем и поем, гармошку притащат – плясать пойдем парами. Работали много, машин не было. Но и плясали!.. А с нами увяжутся и женщины постарше, раньше слова такого «старухи» не было, не попрекали старостью; сидели и они, старые... На Пасху строили качели. Поедут парни в лес, срежут на стояки лесину, а сверху покладут матку. Сами качели вязали из березин, через матку кольца пропустят, на кольцах качели к небу летят. Да еще не одне построят, а три качели, чтоб девок катать. Девок в Никитаеве хватало, по улице в ряд идут – одна другой краше. А то играли – парень крутит веревку, а девки скачут. В лапту играли. Троица настанет – идем на горку вареные яйца катать. А из изб пахнет пирогами. Малость пройдет ден после Троицы, тут Заговенье, теплынь на дворе, – значит, пора обливать водой старого и малого. Парни сговорятся, каку девку схватят, считай – в Курзанке, прямо в одежде по реке плывет. Курзанка река знатная, где и конь не выплывет. На престольные праздники – в Николу[29] иль на Рождество – парадное оденешь, идем в церковь. У самой парни на уме, а стоишь, знамение кладешь.
В другой раз Александра Ивановна, лукаво улыбнувшись, сказала:
– А хочешь, расскажу, как мы долю свою загадывали?.. Открывай тетрадь и пиши. От Рождества до Крещенья две недели сроку, тут загадыванья и ворожба рядом идут. Замкнут девки прорубь на Курзанке и затаятся: кто придет ключ просить – в ту семью старшей из нас замуж идти. А ну как парень нелюбый – кручина поедом ест, будто и взаправду решенная моя судьба... Иль дрова с мороза принесешь, считаешь попарно поленья, одно полено лишнее, все, не позовут в невесты, быть мне одинокой... И так страстно заигрываешься, что и катанок в ход идет: разуешься да пустишь катанок через ворота, босиком выскочишь на улицу. Куда обутка носом лягет – в том краю жених грядущий живет, о тебе думает.
Видно, в те годы все помыслы у девушки – пойти за хорошего парня, вот и колдуют.
На Святки брали еще лучину, мочили в проруби – потом в баню, давай зажигать, у кого первой потухла, той и замуж идти. А после камень из бани берет та, кого лучина указала, и к проруби. Опустит камень в студеную воду – шипит иль нет? Если зашипит камень, значит, свекор со свекровкой злые будут...
Похожее рассказала Евдокия Наумовна Овечкина, по мужу Перелыгина. Родилась Евдокия Наумовна на Иннокентьевском заводе. Никитаевский парень Логон Перелыгин высмотрел Евдокию еще до войны мировой. На фронте он был ранен, рана долго не заживала, он плотничал, прихрамывая.
Евдокия возила по селам барду (за копейки ее торговал завод-животину поить), а то дрова из лесу прямо возом продавала.
Познакомились Евдокия и Логон на заимке – полосы у родителей оказались рядом. А поскольку у Наума Овечкина не родилось ни одного сына, мужскую работу выполняли дочери. Евдокия уже в 16 лет ходила за плугом. Каждый пашет свою полосу – Логон свою, Евдокия свою, хочешь не хочешь, а познакомишься.
Логон был красивый черноволосый парень, и Евдокия была дородной девахой. Пожениться они не успели, хотя в 1913 году ей было восемнадцать лет, а Логону двадцать. А уж когда Перелыгин раненый вернулся, сватать и не надо было, они наперед в письмах договорились, молодые. Для проформы отец Логона, Фрол, все равно приезжал в кошевке, переговоры вел; Евдокия сидела тут же, затая улыбку.
С Логоном Евдокия прожила нелегкую, но все равно счастливую жизнь. Детей у них родилось трое: единственный сын Алексей – в 1921-м, Мария – в 1926-м, Елена – в 1929-м. В последнюю войну с германцем Алексей ушел и погиб. Когда я неосторожно полюбопытствовал, помнит ли она песни своей молодости, Евдокия Наумовна глянула на меня неотцветшими глазами и молвила:
– После Алексея (то есть гибели его, – Б.Ч.) песен решила не петь, ты меня не пытай о песнях.
При этом она сидела, возложив натруженные руки на худые колени. Я подумал, что вот портрет Евдокии Наумовны – руки. Большие узловатые пальцы в буграх, коричневых и затвердевших. А в лице восьмидесятидвухлетней Перелыгиной я разглядел черты былого тогда лишь, когда с фермы пришла внучка, – симпатичная разбитная женщина с округлым матовым лицом. Как только внучка вошла в избу, я признал: такой в десятые – двадцатые годы была и Евдокия...
Рассказала мне Евдокия Наумовна, как девки ворожили на женихов, и тем продолжила рассказ Александры Ивановны Огневой, с которой дружит скоро шестьдесят лет. Дружба их укрепилась с началом колхоза. Гоняли они овец и свиней на отгул в поле. Встанут в четыре утра, еще до поля утрудят себя дома, а днем присядут к пеньку, сон сморит мгновенно.
Очнутся:
– Ох, Санька, где же наши овцы?
– Ох, а свиньи-то! – и бегом по лесу.
Вспыхнув сейчас по-молодому, Евдокия Наумовна говорит:
– Глупые были. – И так сказала, что я перевел по-своему: «Никак не глупее нынешних», – Пойдем в конюшню, принесем оттуда курицу и петуха. А ночь темным-темна, каганец еле теплится: в картофелине кудельный промасленный фитилек горит. Не горит – дымит, на вечерку хватало. Поставим зеркало и чашку с водой. Дыхание спрячем, ждем. Петух шпору почистит и глазом косит в зеркало. Значит, муж будет у той девки, на которую перед Рождеством гаданье ведем, красивый и ладный. А если петух клювом воды прихватит – тьфу, пить станет мужик, непутевый будет.
Курица же к зеркалу подойдет – быть и девке нарядной, счастливой... А то вдруг петух нападет на курицу – муж, значит, драчливый, ходить тебе, девка, в синяках и побои терпеть...
Тут Евдокия Наумовна сделала отступление: «У меня-то хозяин спокойный был», – и на этом она поставила точку, отказалась говорить далее, устала.
Я слушал этих женщин и думал свое: да не оскудеет родник памяти народной, ведь это только кажется, что двадцатые годы рядышком, под боком, – протяни руку и достанешь любой факт, за ним другой, а там и нить потянется.
Конечно, факты фактам рознь. В устах твердого, хозяйственного мужика обыденные цифры и случаи тотчас обрастают особой достоверностью, ведущей читателя к обобщениям. А в устах уютной старушки воспоминальный дым предстает поэзией. Как быть, простите, с поэзией? Как быть с Ярославной, плачущей на крепостном валу?
Весной прошлого года успел я переговорить в Евгеньевке с Филиппом Андреевичем Жигачевым. Не скрою, прокрался и в мужскую беседу эмоциональный лад. Жигачев вспоминал далекие двадцатые годы и краски находил самоцветные не только для описания себя, но и для родины своей – Витебщины, и для Евгеньевки. Покидая отроческие места, взял молодой Жигачев с огорода горсть земли и потом, в нескончаемых мытарствах, сохранил ее. Мы сидели за круглым столом, перед нами во флаконе стояла пепельная эта земля с Витебщины; и горечь сушила рот старику еще и потому, что через десять дней предстояло второе, не менее тягостное прощание – с Евгеньевкой. Два прощания закольцевали судьбу старика, он крепился изо всех сил, чтобы не разрыдаться.
Дорога в Сибирь лежала через Москву. Молодой Жигачев был наслышан о столице, книжки – грамотешка позволяла – читал взахлеб, отца тормошил: «Задержимся в Москве?!» А отец боялся деньги растратить, вырученные от продажи скарба. Однако пересадка предстояла в Москве, отец с сыном пошли прогуляться. Нэп оживил торговые ряды на Тверской и на Кузнечном мосту – глаза разбегались. В магазине «Братьев Клыпиных» (вывеска старинная сохранилась, хотя магазин-то был уже мосторговский) дрогнуло сердце и у отца. Дело в том, что сам он, будучи мало-мальски грамотным в музыке, выучил сыновей петь и играть на тульской гармошке, взятой на вечерок-другой у соседа. И вот в витрине роскошного магазина не существующих уже «Братьев Клыпиных» старший Жигачев увидел сказочной красоты инструмент – меха небесно-голубые чуть раздвинуты, а планки переливаются черным перламутром. Полный строй у гармони – ряд есть минорный, есть и мажорный, а ж о р н ы м назвал его рассказчик; но клавиши устроены, как европейцы любят, поет, когда сжимаешь меха. А неженатый парень Филя Жигач знал толк, когда надо рвануть – именно рвануть – меха. Отец и сын уговорили мастера при магазине перевернуть клавиши, мастер начал и кончил работу через пару часов. Явился в Евгеньевку гармонист и певун.
Филипп Андреевич любил на пару с Иваном, младшим братом, петь простонародное:
Горит свеча, в вагоне тихо, Солдаты все спокойно спят,– классика времен Первой мировой войны.
У Ивана был бас, а Филипп пел тенором, готовым оборваться как струна. Он и сейчас пробовал показать пыл, но Мария Васильевна, жена, откровенно рассмеялась:
– Не тот нынче голос у Жигача, ох, не тот! Выстарился.
Филипп Андреевич сконфуженно опустил седую голову, потом отвернулся и смотрел в окно. За окном дремал на припеке пес, мычала корова и дымила летняя кухня...
Филипп Андреевич Жигачев и Роман Сидорович Гниденко, сосед и старожил Евгеньевки, оба в голос говорили мне:
– Ушел Колчак, мы кумекали – сами царствовать будем. Жить думали и царствовать. Нам ниче не надо было – ни приказа, ни указа. Земля есть, вода есть – воды-то с верхом в Илирке. Здоровье? На здоровье не жаловались. Господ – нету. Че надо ишо мужику? Ниче не надо...
– Собрались сообща и говорим: «Межи перепашем или не перепашем?» Решили – не перепашем. А лес беречь будем? Лес беречь будем, Илирку беречь будем, соседей уважать будем. Праздник настанет – гулять будем. Нет праздника – работать на поле будем. Кто захворает – вызволим из нищеты; не дай Бог, помрет – детей голодными не оставим...
Просто? Просто-то просто, но и сложно...
Здесь, чтобы не оторваться от документальной основы, попытаемся восстановить хронику Тулунского уезда описываемой нами эпохи с помощью документов того же Архива и публикаций.
Глава вторая Хроника жизни Тулунского уезда
Первое впечатление, когда читаешь о тех далеких годах, поражает своей пестротой. Эту пестроту хорошо, даже талантливо передал в составленном докладе Иркутскому губревкому председатель ревкома одной из местных волостей З. И. Петров, суть его доклада не расходится с рассказами старожилов – тех, что мы успели услышать, и тех, кого услышим позже. Вот что Петров писал при керосиновой лампе:
«1919 год. Власть колчаковских начальников, управляющих, старших и младших милиционеров, земских председателей, взяток, запугиваний, порок и проч. мудрости административно-демократического строя[30]. Наряду с этим большевистская агитация, укрывание дезертиров, уклонение от воинской повинности... В общем, серенькие деревенские будни и напряженно-нервное настроение.
Декабрь месяц. Упорные слухи о падении Омска, о ликвидации колчаковской армии, о восстаниях в Иркутске и в других местах и, наконец, появление из Зимы двух делегатов-алатырей. Алатыри разоружают милицию, вооружают земцев, собирают собрание и сообщают, что власть Колчака пала и что власть теперь мы, истинные народные избранники: от эсеров, от эсдеков (имена их многи)...
Поддярживай нас, товарищи.
Мужики, почесавши загривок, спрашивают: «А Советская власть?»
Мы, отвечают делегаты, мы тоже Советская власть.
А нельзя ли без вас, спрашивают мужики. Но делегатам надо срочно куда-то уезжать, и они ничего не ответили на последний вопрос.
В это время из Нижнеудинска Татаринов и Кравцов отбивают телеграмму: «Долой Колчака, долой войну, борьба с большевиками»...
Мужики предлагают поместить Татаринова с Кравцовым в цирк. Один говорит: «Никогда, паря, не видал таких борцов...»
Большинство решает дело проще: «Долой войну, долой Колчака, долой Кравцова и Татарникова, да здравствует Советская власть».
А после этого появляются «коммунисты» из... торгово-промышленных товарищей спекулянтов, затем ходившие и ранее по-уголовному старец с бородой, бежавший из-за Урала от коммунистов, и мальчик 14-ти по 15 году, и заявляют: «Мы партия коммунистов, а вы – контрреволюционное серье, айда к нам под контроль». Мужики онемели и разошлись по домам.
Вдруг, как снег на голову, отряд Каппеля. Партия коммунистов бежит, а мужиков грабят. Отряд Каппеля улетучивается, все возвращается назад, контрреволюционное серье считает на пальцах убытки. После это же серье снабжает Красную Армию подводами, фуражом и довольствием... Спрашивается, как быть серью?..»
Заканчивается этот удивительный репортаж жалобой вполне конкретной: «Мужики устали... Отсутствие указаний, инструкций, законоположений ставит работу в самые тяжелые условия. Бестолковое вмешательство отдельных воинских частей также ставит Ревком в ненормальное положение. Отсутствие плана заготовок, противоречивые требования и наряды, отсутствие твердых цен на продукты и рабочие руки, отсутствие денежных средств сбивает с толку и мешает наладить продовольственное дело».
Что и говорить, сердитое положение, но не настолько, чтобы предаться отчаянию. Переселенцы, хлынувшие через несколько месяцев из губерний, охваченных голодом, внушили тулунцам, как ни странно, уверенность в себе. Оно и понятно – раз ищут у них спасения люди из далеких российских губерний, значит, не так худо дела обстоят в Сибири. По всему уезду застучали топоры. Рязанцы и калужане, воронежцы и туляки строили полуземлянки и шалаши, изыскивали места для поселений и рыли колодцы.
В продовольственном бюллетене от 12 февраля 1920 года, утвержденном членом Сибревкома и замнаркома продовольствия Н. Фрумкиным, можно прочесть о том, что Тулунскому уезду назначено по распределению 40 (сорок) плугов и 700 кожаных ремней. Вскоре создается уездная комиссия, которая занялась организацией восстановления крестьянских хозяйств.
В начале 20-го года село Тулун вдруг подняло голос за автономию, за независимость от Нижнеудинска. Думаю, если бы совсем невмоготу было мужику в то время, он бы едва ли занялся столь неактуальным на первый взгляд вопросом. Дело поставили широко: по инициативе тулунского (тогда писали и говорили «тулуновского») революционного комитета представители пятнадцати волостей собрались на съезд общественно-демократических организаций. Вопрос подняли покрепче, чем думали до съезда, в повестке дня он сформулирован так: «2. О перенесении в село Тулун уездного центра из Нижнеудинска».
Ни больше ни меньше – задумали лишить Нижнеудинск уездных регалий.
Неизвестный теперь для потомков тов. Виноградов «доложил (съезду. – Б.Ч.), что нижнеудинские чиновники противились перенесению уездного центра в Тулун по соображениям, не заслуживающим внимания. Они указывают на отсутствие в Тулуне каменного здания под казначейство».
Представители пятнадцати волостей, не долго думая, тут же решили употребить под казначейство «прекрасное здание винного склада».
Георгий Виноградов предложил участникам съезда принять резолюцию: «Обсудив вопрос о перенесении уездного центра в село Тулун, и, принимая во внимание центральное географическое, экономическое и культурное положение Тулуна, съезд постановляет: немедленно перенести резиденцию уезда из города Нижнеудинска в село Тулун с переименованием последнего в город, с оставлением земельных наделов за гражданами села Тулун.
Резолюция принята 27 голосами против одного, воздержавшихся не оказалось.
Из протокола заседания съезда понятно, что вопрос о перенесении центра в Тулун не раз обсуждался (в протоколе сказано громче – «дебатировался») на уездных земских собраниях. Оказывается, еще в 1890 году вопрос этот был «разрешен в положительном смысле, но нижнеудинские чиновники были против перенесения центра в Тулун из-за своих лично-эгоистических интересов».
Вот такое историческое – без тени иронии пишу эти слова – решение приняли тулунчане в 1920 году. Сама послереволюционная обстановка способствовала ниспровержению устоявшихся канонов и высвобождению инициативы рядовых граждан, государственному творчеству масс. Самостийное решение съезда представителей притулунских волостей признала Москва[31].
В том же, двадцатом году столица изыскала средства и выделила 2 615 170 рублей на открытие крестьянской академии на территории Тулунской опытной станции, задействованной в 1913 году. Не удивляйтесь цифре 2 615 170, то были годы денежной инфляции. Тогда же решили построить и оборудовать реальное училище и учительскую семинарию.
Вообще Тулун, приобретя права гражданства, приободрился и расправил плечи. К сожалению, скоро его постигла беда.
Михаил Моценок, бывший уездный комсомольский работник, вспоминает на страницах альманаха «Ангара»:
«Вырос Тулун в годы строительства Великой Сибирской Магистрали. Железная дорога проходила близ Тулуна. Подрядчики везли лес, хлеб. И не только... Из Тулуна в Братск пролег большак. У Братска действовали два металлургических завода – Лучихинский и Николаевский. Их тогда называли железоделательными. До революции они принадлежали акционерному обществу „Столль и компания“. На заводах плавили не только чугун и сталь, но и катали рельсы. Рельсы везли гужом и сплавляли по Ангаре.
В центре Тулуна высилась паровая мельница с электростанцией. Уезд хлебный, земли богатые. С Украины сюда переселялись целыми семьями, а выращивать пшеницу украинцы мастера...
Октябрь начисто вымел купечество из Тулуна[32]. Летом 1922 года Тулун горел. В сильный ветреный день занялась огнем мельница, и город выгорел, осталась окраина. Школы перевели в село Куйтун. Уездные организации и учреждения ютились в небольших домах...
Впрочем, мы слишком спешим, минуя годы. К рассказу Михаила Моценка вернемся позже, а пока полистаем архивные дела.
Экономические и другие вопросы, вставшие в полный рост, попадали в повестку дня уездных организаций и совещаний. Так, например, съезд Советов Тулунской волости, собравшийся после пожара в Тулуне, слушал осенью 1922 года:
1. О текущем моменте.
2. О волостном земотделе.
3. О лесозаготовках в зиму...
4. О ходатайстве перед вышестоящими органами о понижении разряда урожайности.
На съезде присутствовали представители наших сел – малограмотный Тимофей Гультяев, 24 лет от роду, Павел Долгих от Афанасьева, Трофим Котов, Андрей Огнев (родной брат Александры Ивановны Огневой, вернувшийся из армии 25 лет), Антон Непомнящих; от Заусаева – Евстафий Дьячков (деверь Елены Николаевны Дьячковой, 23 лет), Николай Татаринов и Петр Дьячков (муж Елены Николаевны, 26 лет от роду). Все – с правом решающего голоса, молодые, но матерые мужики, прошедшие школу жизни. Не всем им повезло в дальнейшем, как уже не повезло Михаилу Валтусову из Никитаева, другу Трофима Котова. Валтусов был лишен права избирать и быть избранным в Советы. А пока они ходят по Тулуну и чувствуют себя уверенно, как законодатели. Собрались и на экскурсию (тогда слова такого в обиходе не было) к реке Ии. Через Ию парни из трудармейцев строили железнодорожный мост, действующий и поныне.
А вообще занять чем-нибудь молодежь тогда в Тулуне, по свидетельству того же Михаила Моценка, было нечем. Служили в конторах и в пожарной команде (не спасшей Тулун от огня), работали у кустарей, шили сапоги, катали валенки, варили мыло. Очень немногие умели пробиться на железную дорогу, к путейцам.
Симптоматично – тогда по всей стране прошла эпидемия пожаров. Дело доходило до курьезов. Так, в Тулуне сгорело еврейское кладбище.
Вблизи города имелись природные лесные дачи Никитаевская и Манутская, числились они за государственным лесничеством. Уездный исполнительный комитет («Уисполком») летом 1923 года зафиксировал в письме:
«Дачи эти не имеют никакого присмотра со стороны лесничества, в них произвольная вырубка исключительно на дрова... Дачи имеют ужасающий вид и во всякое время могут подвергнуться пожару».
Уисполком ходатайствовал перед губисполкомом о забронировании дач за городом.
По селам прошли митинги – агитировали за подписку на выигрышный Золотой заем, во имя скорейшей помощи селу же в улучшении посевной кормовой базы.
Продолжалась борьба с сибирской язвой и чесоткой.
Любопытны цифры по агрономии – во всем уезде в 23-м году было 3 агроучастка, в каждом по одному агроному. На 24-й год планировалось иметь 5 агроучастков, в каждом по одному агроному и в четырех из пяти еще и по одному практиканту.
А это медицина: число коек в уезде 125, врачей 6, средний персонал в больницах – 40 человек. По уезду больниц – 3, врачебных амбулаторий – 3, фельдшерских пунктов – 13.
В конце 1923 года завершилось укрупнение волостей и уездов. Тулунский уезд оказался поделенным на 5 районов. В собственно Тулунский район входили волости: Тулунская, Перфиловская, Одонская, Икейская, Шебартинская, Шерагульская, Тангуйская.
По приведенной таблице мы поймем, как были организованы сельсоветы и сколько взрослого народу проживало в 23-м году в интересующих нас деревнях, куда мы скоро вернемся.
В Заусаеве было 132 двора, в Никитаеве 142 двора, в Афанасьеве (с заимками) – 161 двор, в Евгеньевке – 69 дворов (в соседней Натке 52 двора). Нет данных по хуторам Порог (неподалеку от Никитаева) и Дубрава (позже Красная Дубрава, неподалеку от 3aycaeва)...
Сохранился протокол пленума Тулунского уисполкома, на котором с докладом выступил секретарь укома, то есть уездного комитета РКП(б), Воробьев: «Заслушав сообщение тов. Воробьева о последнем неслыханно дерзком вызове, брошенном нам Англией, Пленум Тулунского Уисполкома и совещание Председателей Волисполкомов горячо протестуют против наглости империалистов и заявляют, что советский аппарат готов дать отпор против всяких покушений на советскую рабоче-крестьянскую страну».
В 23-м же году был объявлен первый общегражданский денежный налог для проведения телефонной связи волостей с уездами, и тулунчане начали вносить суммы.
И наконец, в этом же году громыхнул гром: продналог, взимаемый до сего времени мирно, вдруг повелели брать срочно и силой. Правда, силой не физической, а силой экономической репрессии...
Обращает на себя внимание поверхностный характер идеологической работы в уезде. «Партийных ячеек в ту пору было мало, разве только в волостных центрах, да и были они не очень многочисленны. Вся тяжесть проведения различных кампаний ложилась на комсомол, – снова я цитирую воспоминания Михаила Моценка, – Кампаний великое множество, и, главным образом, они проводились зимой. Основной работой считали борьбу с самогонокурением. Уком оценивал деятельность ячейки по числу уничтоженных самогонных аппаратов и вылитых ведер сивухи».
Вот и вся работа. Впрочем, тулунчане пытались заниматься театром, правда, минуя деревню. Михаил Моценок прямо признается: «Деревней занимались мало». И тут же впадает в противоречие, ибо рядышком пишет: «Церковь преграждала деревенской молодежи путь в комсомол... Развертывались битвы...
Сколько энергии, выдумки вкладывалось в комсомольское рождество или комсомолькую пасху! Кто кого? Конечно, больше по душе были «революционные» методы: закрытия церквей, «молебствия», комсомольские ходы с карикатурами, прочие шумные деяния. Были и настоящие методы, действительно революционные, диспуты, дискуссии, антирелигиозные вечера с участием учителей. Но они были на втором плане. В Тулун съехались семьи священников, лишенных приходов: «Успенские, Синявины, Макушевы, Красиковы... В духовных семьях начался разлад... Управделами в Укоме был бывший попович Михаил Макушев, великолепный певец, знаток службы. Связи у него были обширные... Антирелигиозные комедии шли у нас на высоком уровне. Облачение и утварь самые настоящие. Приезжих потрясал отличный хор, со всем великолепием певший ядовитое на церковные молитвы. Менее смелые поповны и поповичи шли в драматические коллективы – русский и украинский. Вечерами Народный дом никогда не пустовал. На сцене шли пьесы Островского, Чехова, Горького, шли с успехом „Каширская старина“, „Василиса Мелентьева“. Украинцы ставили „Наталку-Полтавку“, „Назара Стодолю“, „Запорожца за Дунаем“... Жена расстриженного дьякона Анна Старцева ставила спектакли для детей»...[33]
Но мы увлеклись красочным рассказом, а заговорили было о налогах. Осенью 1923 года сельхозналог взимался еще натурою, а с зимы уже деньгами.
В книге «Бюджеты крестьян Сибирского края в 1923–24 годах»[34] есть важное признание в том, что «уровень хозяйственного благополучия не достиг еще уровня нормального периода...», хотя «в Восточной Сибири в этом (то есть в 23-м) году общие природные условия лучше, чем в Западной Сибири». Возможно, в недостижении «нормального уровня» сказался огромный приток переселенцев. В 1924 году, например, Тулунский уезд был самым большим по числу населения в губернии после Иркутского (теперь Иркутскосельского) района. К слову, население всей губернии тогда составляло 660 тысяч человек, из них в сельской местности жили 520 тысяч.
В фонде 495, оп. I, лист 6-й Областного Архива есть документ, подтверждающий слова Михаила Моценка:
«Преобладающим по роду преступления являются: тайное винокурение, сбыт самогона, хищение...»
И снова о налоге: «К неплательщикам применяются законные меры воздействия: штрафы, отчуждение имущества, предание суду».
1924-й год оставил материалы, свидетельствующие о поиске культурных форм земледелия.
«Одна из причин слабого развитии местного семенного травосеяния (помните, еще Лыткин задолго до революции имел в травосеянии неоспоримые успехи) заключается в не организованном сбыте; в то время как на внешнем рынке цены на клевер повысились на 25 рублей, местные производители семян продавали их по 8 – 10 рублей и даже по 6 руб...
Совершенно необходимо, чтобы минимальные цены были однообразны по всей территории Сибири, предположительно их уровень намечается: клевер красный – 12 рублей, тимофеевка – 5 рублей, пырей американский – 5 рублей, костер безостный – 4 рубля, люцерна желтая – 12 рублей, вика черная – 1 р. 50 коп...
Необходимо уделить серьезное внимание местной дикорастущей флоре, некоторыми представителями которой уже широко пользуется американское хозяйство...
Иметь в виду, чтобы при построении севооборота существующее соотношение между посевной площадью и залежью не изменялось в направлении значительного увеличения посевной площади за счет залежи... Задача введения севооборота в данный момент заключается не в форсировании роста посевной площади, а в замене дикой залежи сеяной».
По стилю этот документ носит директивный характер, но смысл его архизлободневен и поучителен – властные органы всерьез задумались над одним из кардинальных вопросов земледелия.
В 1925 году неожиданно остро обнажилась нехватка мельниц – согласно общереспубликанскому декрету, частные мельницы были одна за другой (а точно в районе наших деревень их стояло более пятнадцати) национализированы, то есть обращены в собственность государства. На самом же деле мельницы забивали гвоздями, без присмотра они скоро приходили в частичную, а потом и в полную непригодность. В марте 1925 года один из бывших хозяев двухпоставной водяной мельницы на реке Икей Сергей Яковлевич Распопин, отдавши мельницу государству, сильно жалел добро (уже не свое, а добро все равно), приходящее в упадок. Он предложил услуги мельника – не собственника, а смотрителя и работника. Переписка по его просьбе заняла несколько инстанций, и предгубисполкома некий Шастин обязал Тулун откликнуться на нижайшую просьбу С.Я.Распопина. Не ведаю, исполнено ли предписание Шастина, но в Заусаеве однопоставная мельница была сдана в аренду бывшему же владельцу крестьянину Ивану Ивановичу Исакову, а в Никитаеве – Григорию Ивановичу Котову, а в Афанасьеве – Павлу Федоровичу Ларионову. Даже Михаил Валтусов, лишенный избирательских прав, и тот получил в аренду собственную мельницу.
Да, а как дела идут в Шерагуле? Оказывается, и в Шерагуле думали о мельницах. Как и следовало ожидать, в Шерагуле была не простая мельница, а паровая. Владелец ее, приятель Иннокентия Иннокентьевича Лыткина – Лапшин, составил стоимостную таблицу построек и узлов, я приведу ее, и мы сможем сравнить цены 1913 года и 1925-го.
Была в Шерагуле еще одна мощная мельница – паромукомольная, в 50 саженях от села, с локомобилем в 12 лошадиных сил, с котлами паровозного типа на колесах класса А. Р. Мальцевских заводов. Мельница эта работала круглый год, производительность ее была 120 000 пудов в год. Мельницы в наших селах, поставленные на речке Курзан, ни в какое сравнение с этими гигантами не шли.
В канун лета 1925 года в Иркутске состоялось совещание, на нем был прочитан доклад о состоянии сельского хозяйства. Раздел «Экономические работы» имеет прямое отношение к этой главе.
«Сельское хозяйство Сибири, – говорится в нем, – помимо неблагоприятных естественно-исторических влияний в некоторых районах (заметьте, как деликатно подчеркнуты „естественно-исторические влияния.“ – Б.Ч.), в ряде случаев переживает глубокий организационный кризис. В связи с глубокими политико-экономическими влияниями последнего15 десятилетия произошло в большей или меньшей мере смешение роли различных частей федерации в народнохозяйственной жизни. Производящие районы местами превратились в потребителей ввозных сельхозпродуктов.
С другой стороны, выявилась недостаточная экономическая рентабельность и техническая отсталость практикуемых приемов ведения хозяйства. Результатом этого явилось снижение производительности вкладываемых в хозяйство средств сельскохозяйственного производства и уменьшение выхода продукции...»
Этот тревожный доклад заканчивается констатацией: «Деревня хочет перемен». Каких перемен? Увы, об этом ни слова. Но в заключение докладчик резюмирует:
«Необходимо вести учет агрокультурных достижений в районе:
1. Количество хозяйств, перешедших к многопольным севооборотам, и площадь, занятая ими.
2. Количество хозяйств, ведущих бюджетные записи, и сводка по ним.
3. Количество хозяйств, ведущихся по планам.
4. Количество коммун, сельскохозяйственных кооперативов, кредитных товариществ, характеристика их организационного состояния, оборотов и отношение населения к ним.
5. Число выходов на хутора, отруба, выселки, переверстка на широкие полосы и т. п., с указанием числа дворов и площадей».
Едва ли этот документ нуждается в комментариях. Все эти пять пунктов составлены на перспективу, так мы с вами въезжаем в следующий, 26-й год.
В 1926 году было введено новое районирование Сибири. С августа 1920 года по декабрь 1925 года была губернская система (губерния – уезд – волость), с января 1926 года по август 1930-го – стала окружная (край – округ – район).
До сентября 1926 года Тулунский уезд входил в состав Иркутской губернии. В связи с образованием Сибирского края и переходом на окружную систему управления 28 июня 1926 года ВЦИК принял постановление об упразднении Иркутской губернии и замене существующего уездного деления окружной системой.
11 августа 1926 года, согласно постановлению губисполкома (от 1 августа 26-го года за №55), Тулунский уездный исполком был ликвидирован, а его полномочия временно переданы окружной организационной комиссии по районированию.
Окружной съезд Советов, проходивший с 26 по 30 сентября 1926 года, избрал Тулунский окружной исполнительный комитет (ОИК) в составе 26 человек.
В созданном Тулунском округе вместо бывших волостей уезда были образованы районы, в которых, в свою очередь, в первой половине сентября были проведены районные съезды Советов, избравшие исполкомы.
На 1 октября 1926 года Тулунский ОИК имел в своем ведении 7 райисполкомов (РИКов): Братский, Зиминский, Кимильтейский, Куйтунский, Нижне-Илимский, Нижне-Удинский и Тулунский.
Каждый райисполком имел соответствующую его району сеть сельсоветов.
При Тулунском окружном исполкоме были созданы отделы:
1. Орготдел (или оргчасть);
2. Отдел местного хозяйства;
3. Земельный;
4. Административный;
5. Здравоохранения;
6. Народного образования;
7. Финансовый;
8. Социального обеспечения;
9. Статистический. Тотчас реорганизовали архивное дело. Окружное архивное бюро сосредоточило за 1920–28 годы 663 единицы хранения, которые были позже переданы в Государственный Архив, после экспертиз осталось 354 единицы хранения, которыми мы и не преминули воспользоваться.
Глава третья Загадывание с удьбы. Продолжение
Мы остановились, прежде чем обратиться к хронике, вот на каком месте. Два евгеньевских старожила планировали будущую жизнь и примеряли, как ее обустроить. Помните: «Нет праздника – работать на поле будем. Кто захворает – вызволим из нищеты, а не дай бог, помрет – детей голодными не оставим. Просто? Просто-то просто, но и сложно...»
Воистину сложным оказалось строительство нового мира на селе.
В Никитаеве двадцать семей, воодушевленные революцией, решили сойтись в коммуну – и сошлись. Согнали вместе коров и лошадей, птицу и ту обобществили. Придумали и стол общий. И вот сидят в конце дня, сумерничают и вдруг немо замрут:
– Галим голос подал!
—Та нет, мой Ветерок шалит! – сидят и слушают своих коней, да разбредутся, и каждый в одиночку к пряслу крадется – корочку, посыпанную солью, своему дать.
В Никитаеве коммуна просуществовала несколько месяцев, а в Заусаеве «Смычкой» совсем насмешили народ. Три недели сроку отпущено было «Смычке», и скончалась она при всеобщем и гласном одобрении, никто даже не пожалел о кончине «Смычки»[35]. А начинали в «Смычке» отважно.
Аграфена Осиповна Архипова, в замужестве Гаврилова, рассказала, как отказывали в обеде тем из мужиков, кто – по мнению председателя – плохо работал; тотчас начались недовольства, вспышки. И разбежались люди.
Не то было в Афанасьеве. В Афанасьеве задолго до революции явился пророк, свой же, местный. Пророк носил обыкновенную косоворотку, подпоясанную веревочкой, и любил подзудить соседей, выйдя с книжкой в руке на скамейку.
– Живете вы скушно, – говорил пророк и ласкал книжку, будто в ней таилось откровение.
Звали пророка Семен Петрович Зарубин.
– Я в плену японском понял, как надо жить, – говорил пророк, – Сойтись всем и сообща пахать землю, урожай тоже сообща убирать. Пекарню, как в армии, сделать, чтоб бабы возле печи не толклись с утра до вечера. Калачи, булки, шаньги – кто что желает. И баню общую сделать...
Афанасьевцы, слушая речи Зарубина, в этом месте дружно смеялись:
– Сумасшедший ты, Семен! Как можно голыми ходить сообща? Как можно угодить на всех чужим хлебом? Как можно без своей земли жить нескушно?
Семен Зарубин сердился и повторял:
– Я в плену понял – в одном бараке спасенье, поврозь – гибель.
По справедливости отметим тогда, в канун Октября, немногие внимали речам Зарубина; но судьба этого человека, плененного японцами в Порт-Артуре и томившегося на чужбине, тянула к нему бедовых мужиков.
Судя по дальним теперь отголоскам, Семен Зарубин читывал социал-демократическую литературу, знаком был с «Манифестом Коммунистической партии». Война с Японией, нелепая и кровавая, подстегнула самосознание мужика.
Вернувшись из плена домой, Зарубин скоро утратил вкус к земле, ушел в Тулун, попросился на железную дорогу.
«Чему на флоте выучился?» – спросили его. «Слесарить», – отвечал он. «Грамотен ли?» Зарубин бойко прочитал страницу из псалтыря и написал заявление: «Грамотен, потому прошусь в рабочие».
Тогда, видя его смекалку, дали матросу задание изготовить пассатижи к обговоренному сроку, по чертежику, и не отступать на долю миллиметра от чертежа. Семен ушел сконфуженный; но знающие люди отыскали мастера-старика. Старик за 12 рублей (немалые по тем временам деньги) согласился изготовить пассатижи и взял слово с Зарубина молчать пять лет. Зарубин поехал в Афанасьево, продал нетель и на вырученные деньги купил пассатижи.
Так он вскоре объявился мастером при железной дороге, ему положили приличную зарплату, дали казенную избу. Стал Зарубин наезжать в родное село по выходным дням, не уставал пророчествовать о народоправстве, но бесило матроса скептическое отношение односельчан к провидению его. Разгоралась иной раз полемика, проще сказать – перепалка, кто-то донес властям, и попал матрос под гласный надзор[36].
Жаль, погиб Семен Петрович Зарубин, не успев испытать задуманного на излом. Я так думаю – первую коммуну в Тулунском округе организовал бы Зарубин, и еще вопрос, погибла бы она до срока или устояла. Люди, одержимые идеей, голову несут на плаху, себя отдают по капле делу, и дело побеждает. Надолго ли побеждает, по естеству ли, – вопрос особый и трепетный. Но вот пример сибирской же прописки, и точнехонько по теме нашего рассказа...
Адриан Митрофанович Топоров в 1915 году круто изменил свою судьбу – попросился добровольно учительствовать в село Верх-Жилинское Косихинского района Алтайского края, ходил на Колчака и снова работал в неказистой избе, источавшей по утрам – когда протоплена печь – лиственничный запах.
Как Пахом Казакевич и Филипп Жигачев из Евгеньевки или как Семен Зарубин из Афанасьева, он обуян страстью зажить по-новому, но, в отличие от тулунских мужиков, Адриан был зело начитан. Речь не о Марксе, собственно, не о Ленине (их книги Адриан читал в пору ученичества, из-под полы, правда, но с карандашом в руках) – знал Топоров основы естествознания и философии, бухгалтерский учет и агрономию, он обладал гибким умом, видел перспективу. Он был в начавшейся эпохе не героем «на час», а кропотливым работником, готовым шаг за шагом отдаваться затее и доводить ее до ума.
Уже в 1920 году фантазеры-энтузиасты из Верх-Жилинского под явным влиянием учителя создали коммуну «Майское утро». О коммуне-то я и хочу рассказать, особенная она была. Если в наших селах выписывали по одной газете на крестком или сельсовет, то в «Майском утре» на полках не залеживались журналы по сельскому хозяйству, ходили по рукам книги Докучаева, Костычева, Вильямса.
При керосиновых лампах коммунары «Майского утра» создали подлинный университет культуры на селе, равный которому по глубине влияния на человека не удалось повторить ни тогда, ни пятьдесят лет спустя. Ни в Сибири, ни в Европейской России.
Да, так оказалось. Единовременно рождались и умирали коммуны по всей Сибири, а «Майское утро» листало привычно календарь и крепло год от году.
Читая книгу «Крестьяне о писателях», можно восхититься исполненными мудрости речами крестьян, судивших непредвзято отечественную и мировую классику, можно подивиться и ахнуть: да как же эти мужики брали в свои руки хрупкие скрипки и в лад играли, как они репетировали Мольера и Гоголя. Воистину, прав Толстой: благо достигается жизнью для духа. А опыт «Майского утра» ценен прежде всего высокодуховным началом.
Но думал я и о другом, постигая топоровский опыт[37]: как они, верхжилинцы, управляли делами, как умудрялись не ссориться с районными властями, как ладили с настырными уполномоченными. Увы, скоро я многое понял – частью из той же книги, а больше узнал от самого Адриана Митрофановича, с которым судьба свела меня в 1972 году. Оказывается, коммуна «Майское утро» в течение многих лет была под обстрелом.
После 1930 года наступило для Топорова полное забвение: он был репрессирован, книга его сожжена, коммуна «Майское утро» уничтожена. Судьба Адриана Топорова заслуживает особого исследования. Скажу лишь: из нищеты и бесправия старого учителя вернул прилетевший из космоса Герман Титов. Оказалось, дед и отец Германа Степановича Титова были коммунарами в «Майском»; и когда учитель пошел по кругам ада (трижды уволен с работы, попал под негласный надзор, семнадцать лет лагерей и ссылки; после смерти Сталина учителю не разрешили вернуться к педагогике и не реабилитировали, и он до самого фантастического ухода в космос неведомого юноши зарабатывал на жизнь игрой в ресторанах на скрипке), Степан Титов дал себе слово когда-нибудь рассказать о Топорове. Случай выпал небывалый...
О судьбе Адриана Митрофановича поговорить бы особо, теперь это, кажется, не возбраняется (имя его вошло при жизни в академические тома «Историй»). Были в его педагогическом поиске и серьезные издержки. Но о коммуне необходимо говорить незамедлительно.
«Майское утро» наследовало лучшие традиции славянских общин, в опыте которых находили много первородно социалистического Герцен и Кропоткин.
Во-первых, коммуна поставила всех членов в экономически непосторонние отношения к производству. Конечный продукт в «Майском утре» распределялся пропорционально:
1. Натуральный, затем денежный налог в пользу государства.
2. Зарплата коммунарам в виде натуральных выплат (шла в общий котел).
3. На воспроизводство основного капитала. Руководство коммуны было выборным и полностью подотчетным коллективу и прежде всего коллективу.
Коммуна совокупным своим продуктом участвовала в здоровых товарных отношениях.
Шли годы, хозяйство крепло. «По коммунарским полям пошел первый в районе трактор, – пишет новосибирец В. Яновский, – коммунары решительно механизировали все, что возможно было в то время механизировать... Именно коммунары из „Майского утра“ после 1929 года, когда уже давало себя знать руководство сверху по шаблону, активно ему сопротивлялись, отстаивали свое право жить по законам самоуправления, по экономически выгодному хозяйственному расчету...»[38]
Опыт коммуны «Майское утро» и ее духовного вдохновителя ценен не только собственно экономическим поиском.
«Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту, который из всего былого и нажитого сделает скучную мастерскую, которой вся выгода будет состоять в одном пропитании, и только в пропитании»[39]. Опыт Адриана Топорова бесконечно ценен своим духовно-гуманистическим содержанием, оно исподволь высвобождалось и становилось главным в жизни коммунаров.
В коммуне пристойно относились к верующим. Терпимо и снисходительно прощали коммунары недостатки товарищей.
Благотворная атмосфера сказалась – крестьяне добровольно спешили на огонек керосиновой лампы в школу, добровольно читали и «судили» книги, добровольно собрали денег и купили пятьдесят скрипок, добровольно играли в скрипичном (!) оркестре и на сцене...
Социальная фантастика, не так ли? Что ж, если дела коммунаров «Майского утра» кажутся фантастическими, значит, сегодняшний наш опыт много потерял из былого и нажитого.
Подлинное народоправство, высвобождая творческую инициативу, рождает на свет праздники, и наоборот, отсутствие условий для народоправства создает предпосылки для скучных мастерских.
В сибирской коммуне «Майское утро» зажглось и воссияло художественное начало, и дух восторжествовал над материальным. Не случайно опасным показался – с идеальной точки зрения – опыт коммуны ревнителям вульгарного материализма, «Майское утро» было уничтожено, а Учитель отправлен за колючую проволоку...
Теперь вернемся на тулунскую землю. Обратимся к документам. В канун коллективизации два села – Заусаево и Евгеньевка – загадывали свою судьбу. Вот позиция Заусаевского сельского Совета от 5 октября 1929 года:
«Пленум Заусаевского сельского Совета одобрил постановление Высших органов, власти о коллективизации нашего с/совета. Повести разъяснительную кампанию... иметь результат не менее 100% всего населения».
Как легко и просто решали свою долю заусаевцы. Неужто и горький опыт «Смычки» не пошел впрок?..
А евгеньевцы после «доклада т. Сизых о решениях пленума Тулунского райисполкома о плане организации крупного колхоза в Заусаевском кусте под названием „Великий почин“, почесав затылки, одобрили решения, но... „по 2 (два) трактора нам так и не дали, а только при машинизации сельского хозяйства мы сумеем достичь намеченных целей“ (цитирую дословно протокол расширенного заседания Евгеньевского сельсовета); и – отказались коллективизироваться.
В райкоме и райисполкоме позицию заусаевских депутатов признали революционной, а евгеньевских – контрреволюционной. А между тем евгеньевские мужики шли в ногу... с Лениным. Они не читали его трудов, но умом дошли до понимания эпохи. Лучше сказать – это тогдашний Ленин понимал чаяния простых мужиков. Чтобы не быть голословным, приведу отрывок из речи Ленина все на том же 10-м съезде РКП (б): «...дело переработки мелкого земледельца, переработки всей его психологии и навыков есть дело, требующее поколений. Решить этот вопрос по отношению к мелкому земледельцу, оздоровить, так сказать, всю его психологию может только материальная база, техника, применение тракторов и машин, электрификация в массовом масштабе». И еще: «...такое дело может, во всяком случае, исчисляться не менее, чем десятилетиями»[40].
Евгеньевские мудрецы (а в сельсовете заседали умнейшие Пахом Казакевич, Максим Краснощеков, сидел здесь – заседание-то демократическое, расширенное – и молодой Филя Жигачев) именно так и решили – не торопиться, не забегать вперед.
Все это так, скажет читатель, но где их взять, трактора и машины. Надобно заводы строить, чтобы делать трактора. А чтобы работали и гудели заводы, надобно возвести электростанции. Кто их возведет нам? Лорд Керзон?
Тогда, может быть, лучше коллективизироваться и артельной лямкой потянуть тяжесть небывалую?.. Замкнутый круг. История разорвала этот круг, и теперь не принято оглядываться назад. Мы будто бы победители, а победителей, как известно, не судят...
Да, очень поучительно сопоставление документов минувших времен.
Кто бы знал, что сохранится в неведомой папке обтрепанный листок – и на этом листке чуть выцветшие доподлинные слова Михаила Жоголева, отца Ефросиньи Михайловны Шолоховой, последней евгеньевской жительницы.
«Жоголев М. говорит, что тов. уполномоченный зовет в машинное товарищество и приобретать машины коллективным путем, но почему же государство облагает налогом так, что частным владельцам машин приходится – хоть руби, хоть жги. Посмотрим сначала, что выйдет из машинного товарищества, которое у нас на участке Натка имеется...» Растерянный «тов. уполномоченный» соглашается с весомым доводом Михаила Жоголева (подождать, что получится на Натке), возвращается ни с чем в Тулун, получает выговор – «не провел линии».
Такие они были, евгеньевские мужики. «Посмотрим на Натку». Натка – неподалеку, в трех километрах. По крепкой дороге, через Дроздов угол, ходил я с комбайнером Шолоховым в Натку, беседовал и там со стариками, да сбилась нынче Натка совсем с пути истинного. Изворовалась, истратилась нравственно. Оказывается, не только человек отдельный, но и целая деревня может сойти с колеи, потерять ориентиры. Смотрел я на никчемный быт нынешней Натки и думал – не тогда ли, не в ту ли пору, когда бездумное согласие бросило Натку в пучину нововведений, жизнью не подготовленных, начался перекос в ее судьбе? Но как все же умны оказались евгеньевцы, выталкивая из своей среды таких заступников мирского дела, как Пахом Казакевич иль Михаил Жоголев.
Впрочем, эта осторожность – «погодим да подождем!» —вообще характерна для крестьянина-сибиряка. Из веку на горьком опыте обучился он быть недоверчивым и даже сверхосмотрительным, подчас явно консервативным. Если иллюстрировать мои слова примером, то вот он, лучше не сыщешь. В конце 19-го столетия иркутский генерал-губернатор граф Игнатьев, оставив официальный пост, вознамерился способствовать привитию лучших навыков в местном земледелии. На собственные деньги он организовал нечто вроде пропаганды передового опыта. На нескольких подводах отправлен был по уездам молодой агроном с помощниками – показывать «практические опыты». Агроном в светлой фуражке с лаковым козырьком, в парусиновых брюках, заправленных в мягкие сапоги, приезжает в Нижне-Удинский уезд, на наши земли. Околица села. Помощники агронома снимают брезент с подвод.
Публика у кабаков или на лавочках у своих ворот. Смех:
– Господа нас учить пахать хотят...
– Детей прокляну, если соху кормилицу бросят.
– Кони без оглобель не пойдут.
– Я с сохой-то между кореньев пройду... А гаек-то сколь! Потеряешь одну, на чем пахать?
Агроном молча отмеряет участок, помощники ставят в борозду коней. Мужики придвигаются ближе.
Двухколесный венгерский плуг Рансона легко врезается в землю. Потом вгрызается в полосу шведский пароконный плуг Говарда. Крестьяне молчат.
Агроном просит снять с подводы двухколесный плуг Эбергарда и Эккерта, берется за поручни, плуг с небывалой глубины 4 1/2 вершка выворачивает корни деревьев и красиво ведет двойную борозду шириной в 11 вершков, только тут крестьяне всплескивают руками, цокают языком и смотрят на приезжих как на небожителей[41].
Годы спустя сибирский крестьянин таким и остался: он должен был на деле убедиться в практической пользе новшества, не верил он на слово, да еще впопыхах сказанное случайным уполномоченным. И мытарства прадедов в России научили крестьянина отмерять по семь раз, прежде чем отрезать.
Под стать евгеньевцам были и неторопливые афанасьевцы. Семен Петрович Зарубин внезапно умер вскоре после ухода Колчака (очевидцы говорят по-разному – кто «от тифа скончался», кто – «убит классовым врагом»), а нового вожака жизнь не родила. Но когда в середине 20-х годов докатилась до Афанасьева мода на коммуны, то жители села постановили горячку не пороть, а прицениться к опыту, нажитому соседями. Конечно, если бы они ведали о делах «Майского утра», их не смутило бы расстояние, но не знали они о топоровской коммуне. В Заусаеве же – загодя было понятно – нечего делать, «Смычка» протрезвила округу. А в никитаевской коммуне все недостатки щупали не раз – до Никитаева ходу один час пешком.
Доходили слухи: в Ергее общинные дела грамотно вершили мужики – и коммуна-де там живет и здравствует.
Решили – ехать в Ергей. Выбрали делегацию. От мужчин выдвинули Ивана Степановича Долгих, от женщин Анастасию Никитичну Белову. Рано поутру (до Ергея тридцать пять километров) отправились ходоки смотреть ергейское самоуправление.
Добрались афанасьевцы к вечеру, сильно проголодались, хотя в дорогу брали шмат соленого сала и хлеб. Хозяева провели гостей в общественную столовую, усадили за долгий стол, сбитый из досок.
Ужин был обильный. После ужина афанасьевцы ждали чего-то из ряда вон выходящего. Они и сами не умели определить, что именно хотели бы увидеть, но ехали и сидели сейчас в предощущении праздника. Ергейцы же, пошептавшись о своем, разбрелись спать. Долгих и Белова пытались расспрашивать председателя коммуны, но тот сослался на усталость и советовал отдыхать. На следующий день делегатов снова обильно накормили, и не обыденным завтраком, а пирогами, видно, старались угодить. Потом провели по деревне. Скукота выглядывала из каждого окошка. У сельсовета висел от руки составленный список штрафников – выходило, каждый третий не сильно торопился на работу, им грозили штрафом. Вся птица, все овцы и даже козы были согнаны на один двор, загаженный и неудобный. Ребятишки ходили по деревне тоже необихоженные, грязные.
В обед зато выставили ергейцы три блюда на каждого, ели до устали; не вынеся пытки, афанасьевцы запрягли лошадку и бежали из коммуны.
Снова собралось взрослое население Афанасьева, делегаты доложили все как на духу:
– Кумпанию в Ергее поисть собрали. Ну и че? – вопрошал Долгих. – Поисть и дома каждый может, в полное тебе удовольствие.
Собрание выслушало речи посланцев и постановило: чем такая коммуна, лучше никакой.
Миром подступались афанасьевцы к новой жизни, сообща вдоль и поперек судили и рядили начало, боясь промахнуться. Государство подстегивало и торопило их, а они не хотели спешить.
Пленяет в евгеньевцах и афанасьевцах одно: не решаясь на авантюру (или на заведомо пустой поиск – что, в общем-то, едино), они свято веровали в новую Гармонию немыслимой красоты. Им казалось, что люди в лиственничных ее дворцах ходят не по-земному, а будто бы все в батистовых рубахах и ублаготворены, ни в ком нет зависти, а есть любовь – к отцу и матери, к брату и сестре, к ближним и дальним. И все взрослые – как один – с песней спешат на общественное поле и с песней идут обратно.
Им мечталось зажить в царстве не царстве, но без взаимных обид чтобы жилось.
Помните, Жигачев и Гниденко планировали: «Ушел Колчак с энтой земли, так мы кумекали – сами царствовать будем. Жить думали и царствовать».
Но царствование без царя – невиданное дело. Без батюшки, который крестит детей и отпевает, – тем более. Без богатеев – тоже тем более. И сейчас мы узнаем, как в 20-х годах мужики разрывались между старым и новым, как они, не умея обрести покой, маялись не телом – душой.
Глава четвертая Старое и Новое
Представим себе на минуту, как в 20-х годах жители этих сел (а было их вместе с детьми ни много ни мало – более шести тысяч человек), прослышав о коммунии, задумав коммунию, решили предать забвению не только прежний опыт хозяйствования, но и разом отринуть нажитые прадедами обычаи и нормы морали. Что тут случилось бы? В Тулуне шел разлом, поповны уходили к комсомольцам, церкви рушили, считая акции эти верхом революционности, – то в Тулуне.
В наших селах старое и новое жили соседствуя.
Пелагея Кузьминична Царева, вдова известного того звеньевого и председателя Николая Карповича Царева, припоминает, что и в 20-е годы народ не забывал песню, срок которой вроде бы отошел, истек. Повязавши черный платок и озорно оглядев малолетних слушателей-внуков, Пелагея Кузьминична тихо выдохнула:
Ехал на ярмарку ухарь-купец...– и вскрикнула следом:
Ухарь-купец, удалой молодец!Я обрадовался – запомнились мне эти никитинские строчки с детских лет.
И Пелагея Кузьминична повела плавно, повела, но скорости прибавила – сюжет песни диктовал ритм:
Заехал в деревню коней напоить, Задумал гульбою народ удивить. Старых он, малых поит вином. Пей-пропивай! Пропьем – наживем! Старые-малые морщатся – пьют, А красные девицы песни поют. К стыдливой девчонке купец пристает. Он манит, ласкает, за ручку берет. Стыдно красавице, стыдно подруг. Рвется красавица с купеческих рук...Пока в песне все следует канону – деревня не понимает загула, пьет – морщится, и девчонка стыдится чужака, а мать по всем правилам строгого деревенского уклада протестует:
– Стой же, купец, стой, не балуй.
Дочку мою не позорь, не целуй. А чужаку с его сомнительной моралью и горя мало, он забыл уж и об ярмарке.
Ухарь-купец тряхнул серебром:
– Нет, так не надо, другую найдем. Столкнулись две морали: одна кондовая и традиционная, зато стыдливая и потому располагающая к симпатии; а другая легкая, плевая, враждебная деревенским устоям. Ишь что удумал купец – за деньги любовь купить.
Песня ведет нас к разлому, который наметился, наверное, в пореформенной деревне, и вот голос разлома:
Красоткин отец это дело смекнул... (то есть опьянил его звон серебра) Старую ведьму ногой оттолкнул: «Старая карга, твои ль тут дела? Пусть погуляет дочка моя».И – эпилог: погасли во всей деревне огни, а в одной избе горит и горит ночник.
Единственная песня, непритязательная, простенькая, а как точно, в образах, передает нажитый народом нравственный капитал, равно и нигилистическое отношение к нажитому.
Загадывая судьбу, знали ли мужики, на что они посягают? Ведали ли, отбиваясь от диктата сверху, что в области заповедной им предстоят испытания нелегкие, искушения немалые?
Понимали они или не понимали зависимость одного от другого: новые формы труда неизбежно привносят и новые формы в быт, в обыденную жизнедеятельность?
Соглашаясь с преждевременной кончиной Старого, далеко ли прозревали они Новое?..
Я рассказывал, как знакомились молодые на пахоте. Пахота, боронование, сев, потом сенокосная пора и – венец всему – осенняя страда. Былинным молодечеством доносит из прошлого при звуках конской уздечки или пастушеского рожка, и умиротворение охватит твою душу... Забывается, что труд крестьянина, поставленного в метафизическую зависимость от неба, был подчас обморочным, натужным.
Рассказывает Михаил Петрович Непомнящих, коренной афанасьевец, мальчишкой попавший батрачить в соседние Ермаки.
– В три часа самый сон, но слышу кованые хозяйские сапоги. «Запрягай!» Выметнусь на улицу. Взрослые мужики – у них сила, а я супонь ногой затягиваю. Котов подойдет, хозяин, даст по дуге, а она набок. Тяну снова изо всех сил. Погода сумеречная, не было б дождя. Нахлестываю коня. В шесть утра, уже со снопами хлеба, возвертаемся домой, на гумно.
«Выпрягай! Завтракать!» – час передыху, и снова: «Подымайсь!» – хлеб обмолоченный грузим на подводы, гоним в Тулун иль везем дрова, целую поленницу.
К восьми часам вечера дома. Ужинаем. Команда «Ложись!», а ты и без команды носом клюешь.
С 1920-го по 1970-й набралось у Михаила Петровича пятьдесят лет полевого стажа. Был четырехгодичный перерыв, а и те четыре года Непомнящих стоял на другом поле – за артиллерийским орудием: в войну – там ни дождь, ни снег не помеха, трудись, мужик. Да, запамятовал, был и еще перерыв – передохнул Михаил Петрович в каталажке, хотя и каталажка с полеводческими заботами связана впрямую.
Михаил Петрович все 20-е годы проработал на чужом поле, но и свое поле оставляет зарубку в памяти немалую.
Аксинья Марковна Пугачева вышла замуж за старшего брата Михаила Петровича – Николая. Тот познакомился с Аксиньей на посиделках, пришел свататься, а Аксинья Марковна... да послушайте ее сами:
– Отец мой служил мельником у Михаила Николаевича Валтусова, никитаевского богача. Жили мы при мельнице, за деревней, нравилось мне то местечко. Дом просторный, и речка Усть-Итейка звонкая, а войдет в Ию – тише становится. Был у нас огород, картошку рассыпчатую выращивали.
Завели корову и лошадку английской породы. Помню, каппелевцы шли, стрельба поднялась, ранили Карчика. Бежим мы по лугу и издали видим, как встал Карчик на колени и будто прощается с белым светом. Терпи, милый Карчик, подмогнем мы тебе. И правда, выходили лошадку, долго она служила нам... Утром проснусь, в доме тепло, а на улице колготня, сани скрипят – с окрестных сел мужики рожь и пшеницу на помол везут, все счастливые, веселые. После я поняла – больно хорошо было у нас на мельнице. Часть помола, по договору, шла в пользу Валтусова, а Валтусов часть от той части выдавал нам. Жили, не бедовали.
Родители друг дружку любили и берегли, не обижали и нас, малых. Так прошло четыре года, и позвал нас хозяин на новую мельницу в Никитаево. Хватит, мол, дикарями жить, на отшибе. Никитаевская мельница двухпоставная, высокая и мощная. Притулились в деревне, народ кругом, а мне тоскливо – охота на луг, где Карчик милости нашей дожидался. Видно, не зря тосковала я – погиб скоро тятя, захворал и быстро умер. Пришлось мне наняться в прислуги к Якову, то был обыденный крестьянин. Две коровы, кони, земля у дяди Якова, фамилию его не помню. Платили четыре рубля в месяц, да вдруг и я заболела, в чужом-то доме. Как вспомню тятю и домик на берегу Иткейки, боль садит в живот. Матушка, молюсь, забери меня, впроголодь, а подле тебя жить буду. Тут сосватал меня Николай, приехал в чистой рубашке, верхом. А я прямиком ему:
– Я уж не деушка, Коля.
И он прямиком мне:
– Что из того, что ты не деушка, – деушка, дескать, чем лучше. Изловчились мы, купили в Афанасьеве зимовьюшку, перенесли на эту улицу, нынче заглавную, двух детей родили. Взяли Николая в Красную Армию. Сама я пахала свою полосу, свекровь и Михаил, деверь, помогали. А вернулся со службы Николай – на пару-то мы всласть поработали. Эх, и любила на волюшке я вилами поработать. Косить я научилась поздно, в семнадцать лет, зато сразу во вкус вошла. День не проморгался, а ты в поле, по росе еще накосишься – трава и коса влажная, шибко дело идет. Кто посильней, с замахом, того наперед поставим, а слабого – в конец. Мене наперед не доставалось, а и в отстающих никогда не была. Солнце взошло – передых. В речке камень-плитняк. Плиточку отломлю и поточу косу, поточу-поточу, а плиточку в фартук. Да чирки осмотрю, хватит ли на неделю? А там снова поднялись мужики, бабы завязывают в узел волосы, чтоб не лезли в глаза, – и до заката вжик, вжик, вжик, вжик!
Лежит трава, усыхает, тутушки запахи лови. Зубровка трава была, куда она нонче подевалась?.. Я ведь, милый, еще хожу по полям – вспоминания покоя не дают. Нет зубровки... Иль слепну я? Иль нюх потеряла... Зубровку-то с корешком потянешь, корешок красный, а ссохнется – в узкую трубочку обернется. Сырая ли, сухая зубровка – духмянет! Спасу нет... На Успеньев день, двадцать восьмого августа, жать начнем, снопы вручную вязать. Сноп толщиной в обхват. Семь снопов стоймя, а три поверху, семь – стоймя, а три на крышку. И снизу нет сырости, и сверху от дождя прикрывает. Вдруг отколе крик на все поле: «Ребята, Боженька тучу гонит, торопитесь...» Куда там, от Бога не убежишь! Сыпанул на березник, корой и небом запахло, но слушать теперь запахи некогда – мечешь снопы до кучи. А дождь вышел на поле, потоптался с краю и прямиком – к нам. А я... Ух ты ж, Борис Иванович, не могу я более для тебя вспоминать сегодня, не могу...
Так один свидетель далеких 20-х годов шел за другим, менялись тетради, истончался мой карандаш, но не услышал я праведного крика:
– Да почто мне морока эта, каторга далась! Бросил я все и махнул на прииски!
Ни одного подобного свидетельства из 20-х годов привести не могу, нет их у меня.
Правда, Семен Петрович, Зарубин-то, отравившись ностальгией в японском плену, бежал в Тулун, к паровым двигателям, но Зарубин – статья особая: он, будучи еще матросом на эсминце, уверовал в машину...
Послушаем рассказ Марии Макеевны Терлецких, которая замуж во второй раз пошла за Василия Зарубина, племянника Степана Петровича. Про лен рассказ.
– Недавно младшая моя дочь Катерина, – начала простенько, бесцветно Мария Макеевна, – из магазина явилась:
«Красивое пальто продают, давай купим». А я ей: «Ты еще старое не поносила толком». Надулась дочь. А я говорю ей: «Мишка, брат, из заключения придет. Скопим ему малость деньжат, а?» Мишка-то у нас по дурости попал в лагерь.
Молчит Катерина. А после обеда собралась и пошла. «Куда, Катька?» – «К подруге». Возвращается в новом пальто, за сто тридцать рубликов. У кого заняла, не сознается. Сыми деньги с книжки, велит мне, а Михаил, дескать, не скоро еще на волю выйдет, и че о нем думать, ему и там неплохо, на всем казенном! Во!
– Сняли, конечно, со сберкнижки? – не вытерпев, спросил я.
– Сняли, – покорно ответствовала Мария Макеевна. – А в сорок четвертом... да, в сорок четвертом поехала я на базар, продала пару овечек и купила вязи белой.
– Бязи?
– Ну да, такая крепкая вязь, стоймя стоит. Обносилась я, однако, и не стерпела, купила на кофту, сшила сама, сразу и одела. А Анна Дмитриевна Королева, соседка, вдруг бегит, вся нервная: «Мария, дай скорее твою кофту поносить». Я еще пошутила: «Тебе сорок лет, че франтить-то?» А она отвечает: «Мария, зять прибыл, невдобно в телогрейке перед ним, дома-то тепло, а телогрейку не сымешь, мужик ведь». У Анны муж был на фронте, так ей, бедной, и стесняться было кого – себя, что ли? – в старой сорочке ходила по избе. Я велю ей: «На спине пуговички расстегни, сама я не сумею». Она расстегнула, я сняла кофту и нарядила в нее соседку. Сама залезла в телогрейку. Иди, говорю, Аня, Бог с тобой. День минул, два минуло, жду я, когда чужой зять уедет. Так охота новую кофту поносить!
– А лен вырастить – тугоумная забота, – не останавливаясь, продолжала женщина, – В мае, по теплу, лукошко через плечо и рукой бросашь, бросашь. Семя мелкое, веером падает. Старались погуще сеять – тогда лен сплошной стенкой подымался, ростом поменьше, зато дружный. Потом дождик падет, зацвело поле синеньким, будто васильки распустились, только запаха нет. Когда отцветет – торчат желтые головочки вокруг стебля. Август настал, дергаем лен с корнем, в любую погоду, лучше в дождь. Если хорошая погода, можно косить сено или рожь жать. А лен подождет, ему и поздний дождь нипочем. Получается лучше по дождю, раз уж другого не осталось... На чистом поле стебли льна, вместе с головкой и корнем, оставляем до октября – мокнет и сохнет лен, и снова мокнет. В октябре придет хозяйка на поле, поднимет стебли граблями, навяжет снопы, и увозят лен домой. А дома мужик сколотил полати в бане. Стелем лен и сушим – сильно протопим каменку на ночь, утром он сухонький. В шесть рук мнем стебли на мялке. Кoстра отпадет, а куделя остается – синяя. Сбиваем куделю в горстки и – на печку, снова сушим. Пыли в избе – не прочихаться. День на ночь отлежала куделя и стала совсем сухая. Тогда беру трепало и треплю, рот и нос тряпочкой закрою, а пыль в глаза лезет. Потом в руки гребень, с доски сделанный, большущий, и ну чесать, ну чесать. Тут получаются два сорта. Лучший – кужель, а похуже – обдирки.
Прялку наготове держишь, начинаю прясть – нить тяну и заматываю. Кужель – тоненькая белая нитка, а обдирка потолще. Много мотков намотаю и кужель прямо на мотках – в кипяток, прокипятишь, вынаешь, на доске побьешь палкой, прополощешь в Курзанке. Нить кужельная делается прочная, как вот нитки двадцатого размера, ой, даже суровей, рукой не порвешь... А обдирки кипячу иль нет – мое дело, как сама пожелаю. Сушу на веревке, нити запутаются, опосля возни хватит в клубок смотать. Сколько-то ден пройдет, спина пристанет, зато знаешь – детишки через год в новых рубахах в школу пойдут. С пяти соток получаешь шестнадцать килограммов кужели, а обдирок не менее восемнадцати. Слушай главное. Из клубков на стену снуют куделю. Деревянных гвоздей натыкают и снуют, петляют, основывают, чтобы не путалась. Ходишь по стенам, щупаешь их, хороша куделя! А дале навойка, то есть нитки наматывают на станок основу, а потом поперек, да нить к нити прибивают плотнехонько... И так сидишь днями, коров накормишь, дитяткам скажешь – похватайте че есть, а мамане некогда.
И сидишь, сидишь. А глаз радуется – полотно по полу ползет, шириной до метра, а длиной метров сорок... ой, долго, долго сидишь – тута в спине не раз заболит. К марту успеешь – хорошо, а нет – к апрелю. Там уже солнышко светит, трава просекается. Размотаешь холст на свежей траве, чтобы под солнышком отбеливался. На речку снесешь, прополощешь, палкой побьешь, в кипятке прополощешь (вода после холста желтоватая), снова палкой бьешь. Месяц маешься – к реке и обратно – и вальком изо всей силы хлобыщешь. Руки устанут, на куски тогда порежешь, метров восемь–десять кусок, кусками таскаешь выбеливать.
После того холст мягонький и светлый. А прочной-то! И к телу-то приятный, не то что ваши рубахи резиновые, задохнуться можно в ваших рубахах. Скатываешь холст – в сундук. А уж новый июнь на дворе, и снова лен посеяли, впрок...
Мария Макеевна, пока вела рассказ, ходила по кухне, показывала все операции, руками махала, била, мяла, полоскала. Пот выступил, умаялась. Села, говорит: «Наработалась». Но следом:
– Теперь праздник слушай. Просишь у соседки «Зингер», машинку с костяной ручкой, иль у батюшки. На всю деревню – одна-две ручных швейных машинки. У мамы моей, Екатерины Миновны, машинка имелась, в ту мировую продали, – ремень кожаный, тонкое в два следа шила. Игла не ломалась. Сама мерку сыму, раскрою, рубаха навыпуск готова, только поясок вяжи. Иль платье себе сготовлю, да по самому подолу бисером обошью – чтоб перефорсить всех, в молодости задача правильная. А в семье у меня двое сердобольных родителей да шестеро детей, всех одевали пристойно. Верхнюю одежу как делали? А пряли из овечьей шерсти. Полусак накроешь сверху шерстью, а основу из льна, мужики, дело известное, в полушубках. С обуткой дело хуже было – одни сапоги на семью, кто первый схватит, тот и бежит. А босый дома скучат...
Речь Марии Макеевны, как видите, не уснащена красотами, зато венцом будет мажорная сцена: нынче в избе у Зарубиных уютно и богато. С разрешения хозяйки я записал столбиком:
Сервант – 150 рублей, купили в Тулуне.
Шифоньер – 148 рублей, брали в Тулуне.
Буфет ручной работы – 80 рублей.
Другой буфет – 80 рублей.
Зеркало в рост, трюмо – 90 рублей.
Приемник коротковолновый – 70 рублей.
Стол полированный – 36 рублей.
Стиральная машина «Белка» – 100 рублей 50 копеек.
И, разумеется, телевизор – 212 рублей.
Койки с пружинными матрацами и мягкие стулья. Коврики и крахмальные накидки. В общем, дом – полная чаша. Хорошо, если бы Михаил Васильевич Зарубин, сын Марии Макеевны, опамятовался в усольской колонии, вернулся домой и зажил по-человечески. Что ему мешает жить разумно?
А вот труды и дни семидесятипятилетнего Ивана Дмитриевича Татарникова. В позапрошлом году у Ивана Дмитриевича стало худо с глазами. Он промывал глаза травяным отваром, и будто полегчало. Перемогаясь, стал снова наведываться в подеревную[42], где прошла добрая половина его жизни, водил фуганком по сухому бруску дерева, лаская мозолистой ладонью выточенную рукоятку для граблей или косы, но резь в подлобье не умирала, захватывая новые места – стучало в висках, отдавало в затылке.
Иван Дмитриевич выходил на припек, сидел, смежив веки, слушая вызванивающую капель по весне, а осенью рокоток трактора, поднимающего за околицей зябь. Однажды он набрался сил, вышел к Братскому тракту, попутным автобусом доехал до районной поликлиники. Участковая докторша осмотрела глаза и сказала: «Лечиться надо, дедушка. Придется два раза на неделе ездить в гости к нам». – «Я ить не тутошный, – отвечал Иван Дмитриевич, – Пешком топать далеко, а на легковушку денег не накопил».
Он еще и шутил.
– Приезжай, деда, на колхозной машине, – велела докторша, – Заработал, поди, чтоб довезли тебя в поликлинику?
Иван Дмитриевич отвечал:
– Поди, заработал.
Накануне обговоренного докторшей дня старик, конфузясь, пришел к Виктору Казакевичу, внуку Пахома Казакевича, бригадиру афанасьевскому.
– Лошади на вывозке навоза, а машину из-за тебя гонять не имеет смысла, – сказал, будто отрезал, молодой и сильный Казакевич. Слышал бы эти слова Пахом...
Помня наказ врачихи, старик еще раз явился пред очи Казакевича, но на сей раз молчал, мял шапку, и снова бригадиру было позарез некогда, он даже не посмотрел в сторону Ивана Дмитриевича.
Татарников вернулся ни с чем домой, сидел долго за кухонным столом и, скопив слюны, плюнул под ноги: «На кой ляд сдалось мне то леченье! И так доживу!»
Доживает, не ходит больше на поклон, бережет время у младшего Казакевича, и свет медленно – по капле – убывает в его глазах. Однако и сейчас невидимым магнитом тянет старика в подеревную.
Особый уют в избушке отстаивался десятилетиями. Правда, раньше мастерская у Татарникова была помельче, а в этой два верстака, один из них колесный – просторный, хоть скатерть стели, зови гостей и пируй. Печь железная гудит, над печкой полати для сушки материала.
Полный набор плотницких и столярных инструментов. Тут тебе и фуганки, чтобы ровнехонько отфуговать брус, а то после не свяжешь. Рубанок-то – он хорош для грязной работы, после топора.
Из веку брал Иван Дмитриевич для рам и дверей мягкую сосну, а на оклады, то есть венцы, шел листвяк. Да, еще по стенам – сверла, стамески, молотки, три плотницких топора, ножовки, пила лучковая, деревянный циркуль.
Примостившись на верстаке, Иван Дмитриевич медленно вяжет речь:
– Хомутами, вишь, пахнет, люблю деготный запах... Скоро лошадок совсем не станет... А сани – сани, паря, сложить умеючи надо. На полозья матерьял березовый идет – береза гибкая, а на обода и сосну можно распарить. Сани я любил мастерить. Если разогнаться, то в три дня сани готовы. Сам собой – для балы, копыльев, облока заготовочки должны быть готовы раньше...
За всю жизнь изготовил Иван Дмитриевич столько саней и телег, и починил столько хомутов, и граблей смастерил – на весь нынешний колхоз имени Кирова хватило бы, если бы вдруг в колхозе враз сломалась вся техника...
Жаль – нельзя читателю воочию увидеть подеревную, вдохнуть застойный дух десятилетий, которые нарубцевались на бревнах избушки.
Здесь, в подеревной, подступается к тебе высокий смысл бытия дедов, сызмальства научившихся работать и не умеющих отдыхать. Но если бы Господь Бог подарил малую часть сущего: огород и избушку на задах, старика на припеке, с которым можно – о прошлом – молчать, и того довольно.
Глава пятая Старое и Новое. Продолжение
Могли ли все эти люди, изработавшиеся на полосе или в подеревной, жить безнравственной жизнью? Были ли греховны их помыслы и поступки в пору становления нового строя? – праздные вопросы с заранее известным ответом.
Другое дело – несли они, Жигачевы и Казакевичи, Непомнящие и Терлецкие, Татарниковы и другие, в себе самих черты нового, осознавали ли себя носителями новой морали, буде таковая родилась?
Припомните рассказы Александры Ивановны Огневой и Евдокии Наумовны Перелыгиной. Почему они не рассказывают нам про комсомольские собрания, про красные обозы, что ли, про товарищество в труде?..
Молчат об этом и герои последней главы. А мы ждем – вот они запев сделают: Революция! Долой стариковские заповеди! До основанья разрушим тот мир и примемся новый строить! Кто был ничем, тот всем станет!..
А герои вместо необычайного обычайное вспоминают, а читатель-то поди раздражен. Уклон – правый? левый? – заподозрил. И невдомек читателю – о новом я достаточно рассказал: в девках праздновали Огнева, Перелыгина иль Аксинья Непомнящих, а девичество их пало на 20-е годы. Если праздники их похожи на праздники дореволюционной поры, то я тут ни при чем, тут по-другому надо вопрос ставить. Если работа была изнурительной, то, может быть, надо еще и результат посмотреть той работы. Так ли уж он плох и безрадостен, результат-то?
Не случайно, начав предыдущую главу о нравственности, повернули мы к работе. Там, где человек много работает, да не из-под палки на чужого, а на себя, – там и ищи нравственную жизнь. Да что там говорить – иные из этих мужиков и женщин на чужих горб гнули, а во сто раз нравственней соседа, мастера Гриши, третье лето подряд забивающего в городе козла под моими окнами. И дом для Гриши – не дом, и работа у него – постоянная, на отлете...
Там, где человек ненарочно работает, он и веселится, и сердится ненарочно. И если жизнь не придумала новых песен, он и «Ухарь-купец» приспособит, а то и частушку пустит, слеза прошибет от той частушки:
Вы не бойтесь, девки, дегтя, Бойтесь мазаных ворот, Вон его несет нелегка, Проклятущий наш идет... Точнехонький адрес у частушки: 20-е годы – Никитаево. Суров обряд деготный, да не отменишь его декретом.
Деготный опыт, каким бы диковинным и дальним ни казался, есть тоже часть наследия и забвению не подлежит.
Будем любить прошлое, со всей горечью его, ибо на прошлом, как на дрожжах, мы взошли.
Оно верно – в характерности примера и факта есть подлинное зерно для художника, но мы не тщимся в книге этой поступить в ряды, обескровленные изгнанием из страны наипервейшего и мощного мастера. Будем скромнее, я множу примеры для будущего Толстого или Достоевского, коли нынешнему угла на родине не нашлось: раз за разом собираясь в костер, примеры лучше осветят былое, нежели, быть может, собственные мои рассуждения.
Аграфена Осиповна Гаврилова, в девичестве Архипова, помянутая мной (когда о заусаевской «Смычке» речь шла), слыла некогда знаменитой свинаркой, ее премировали поездкой на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, районная газета «Знамя Ленина» писала о ней в высоких тонах.
Но, рассказывая о минувшем, Аграфена Осиповна проскочила мимо славы своей, а все норовила поделиться другим.
В молодости Аграфена Осиповна была смуглой, глаза стреляли раскосинкой, языком востра. Ни дать ни взять – Гришка Мелехов в юбке... Сейчас лицо ее стало шире, раздалось, обескровилось, глаза округлились. Сняла косынку, реденькие волосы укатывают затылок.
Муж ее, Николай Александрович Гаврилов, был одним из первых председателей артели имени Семена Зарубина. Гаврилов, пусть пухом будет ему земля, отличался редкостной добротой.
– Как я счастливо жила с Гавриловым, на словах не опишешь... Замуж пошла в его дом и оказалась двенадцатой в семье. Венчались. Перед венчаньем приехали гости, посидели у нас дома. Подружки песни пели, дожидаясь жениха. Явились жених с дружкой и крестным, вина выпили и – по коням, к церкви помчались. Священник, отец Петр, встретил нас на ступенях. Службу я и не слушала. Отец Петр ушел за алтарь, вернулся и кольца подает. На золотые колечки денег мы не собрали, зато были счастливы и с серебряными... Благословил нас батюшка, повел вокруг аналоя.
И тогда уж свадьба... Было на мне платье из сатина, увальфата по-нынешнему – сзади до пола. Ботиночки черные. На Николае Александровиче рубашка кремовая, подпоясанная плетеным ремешком, черный пиджак и сапоги кожаные с легким скрипом...
Такая же счастливая печаль заволокла глаза старух из Красной Дубравы Марии Ивановны Долгих и Александры Андреевны Болохиной, когда они вспоминали праздники 20-х годов.
Вернемся в Никитаево. Вдовствует там который год женщина завидной судьбы (потому и завидной – вся жизнь прошла в великом труде и хлопотах) Ломакина Надежда Егоровна, по отцу – Татарникова. Фамилия Татарниковых коренная в местных селах, а Ломакины прибыли из Тобольской губернии в 70-х годах прошлого века.
Михаил Ломакин высмотрел Надю Татарникову, но свататься не решался. Пройдут годы, Михаил Федорович станет властным человеком, никитаевцы изберут его председателем колхоза. А тогда, безусым парнишкой, он дохнуть боялся на Надю. Наконец Ломакины заслали сватов, но мать не дала согласия выдать дочь за Михаила. Скоро сваты снова настырно стучались в тесовые ворота. «Сват не сват, но добрый человек». Сама Надежда уговорила матушку, дело порешили.
Свадьбы тогда в Никитаеве шли зимой или на Троицу, сразу за посевной. Ломакины явились к Татарниковым после Крещенья, в лютые морозы. Уборочная страда уже отгремела, хлеб обмолотили и укрыли в закрома; женщины пряли и ткали, рассказывали по вечерам у керосиновой лампы сказки.
Подружки Надежды Егоровны, прослышав о свадьбе, собрались на девичник, принесли немудрящие подарки. Невеста стала причитать:
Ты во баньку пойдешь, Милый тятенька, Да вспомянешь меня, Да вспомянешь меня: Рубашка-то у тебя Заносилася...И погодя:
Твои рученьки пристанут, Милая маменька, И на помочь к тебе Никто не придет, —с привыванием, однако в меру, потому что жених глянулся невесте, и скрыть свою радость она не в силах.
Конечно, все мы склонны к некоторой идеализации прошлого, а уж старики – тем более, такова вообще природа человека: он забывает плохое и грустное, а вспоминает счастливое, отрадное. Так и тут – старухи всех пяти сел, каждая поврозь, но в лад, говорили:
– После революции замуж насильно не отдавали нас.
А случится такое – не спорь с судьбой и смирись. – Экая, право же, гармония в этих словах. Насилия не чинили, а если чинили – ничего не попишешь, терпи.
Каждый раз я невольно улыбался, когда старухи так беспомощно и мило хвалили свое время.
Из многих историй лишь одна попалась заведомо невеселая, но и то с какого боку посмотреть на нее. Произошла она в Какучее, там жених жил. За нелюбимого какучейского жениха дала согласие идти девка с хутора Сатхайского, дочь лесничего. Свадебный поезд поехал к венцу, по дороге невеста говорит:
– В лесок сбегать надоть мне на минутку.
Минутка прошла, десять минут прошло. Кони копытами о дорогу бьют, жених нервничает. Наконец минул час. Пошли подружки в лес:
– Анюта, Анюта! – А Анюты след простыл. Оказывается, ждал ее в лесу другой жених и умчал к венцу другой дорогой. О, что тут было! Сваты и родители в обморок упали, потом кинулись в Какучей, а там свадьба идет...
Впрочем, быль эта имела место еще до революции, а мы ведем речь о 20-х годах. Обряды в двадцатых годах сохранились в тулунской деревне нетронутыми: крестины, венчания, рождественские или пасхальные праздники шли чередом. И потому корить венцом Михаила Ломакина и Надежду Татарникову – с высоты 70-х годов (ох уж и высота промозглая) – не будем; оба они, волнуясь, шли к венцу...
Надежду Егоровну нарядили в белое маркизетовое платье, в шевровые ботинки (подвенечное платье она хранила до рокового сорок первого, но лихая година поприжала – променяла платье на крупу и пшеницу).
Запомнила невеста, во что и лучшая подружка одета была, – в кофту из гипюра, воротник кружевной широкий до пояса был. А Михаил был в маркизетовой же косоворотке, которая сильно красила его, в вишневом пиджаке и мягких сапогах с подковками.
Вошли в церковь, друзья и подружки приняли верхнюю одежду – зипуны и полушалки. В церкви протоплено, пахнет лампадным маслом.
За спиной у жениха и невесты стал весь свадебный поезд: родные, крестные, товарищи; любопытных тоже хватало.
Жених и невеста звякнули о блюдечко кольцами; священник вынес сверкающие короны и поставленным голосом произнес:
– Венчается раб Божий Михаил, – и следом: – Венчается раба Божья Надежда.
Короны возложил на головы, после спросил каждого в отдельности:
– По согласию ли идешь?.. – и надел кольца на средний палец правой руки; молодые трижды менялись кольцами.
Вышли из церкви, дружка скомандовал – «в кошевки!», и поезд помчался к жениху...
Ломакины гуляли неделю, дым коромыслом стоял, – дома и у крестной, и у дружки, и у боярина. Боярином дядю звали; а если два дядьки объявлялось, то по возрасту звали их боярином Большим и боярином Меньшим.
Тут был простор танцам – польке, барыне, пятерке (в круг переплетались по пять), танцевали под балалайку[43]. Жених пил мало, за грань не переходил, и Надежда только пригубила рюмочку – и так была хмельной.
Но всему свой срок, кончилась свадьба, впряглись Михаил и жена в работу, пошли чередой лета и зимы. В тяжелый час продаст Надежда Егоровна золотое обручальное кольцо на тулунском рынке...
Снова окурил нас воспоминальный дым, и многим моим читателям кажется, наверное, – никакие стихийные поветрия не властны очернить высокий лад народной жизни.
Но автор – человек непредвзятый, ему дорога Истина в разном обличье, поэтому он не собирается рядить прошлое в золотую парчу, прошлое было всяким.
Давайте еще раз обратимся к рассказу Михаила Петровича Непомнящих. В 20-х годах стал он увальнем-крепышом, легко брал на закорки куль пшеницы, прямо от земли, и мог бы претендовать на хороший заработок у деревенских богатеев. Богатеи разные были люди – по характеру, по уровню, если можно так выразиться, нравственности. Еще совсем недавно слово «богатей» или «зажиточный» означало нечестный, безнравственный человек, а слово «бедняк» было первым признаком порядочности. Опрометчивые суждения рождала эпоха.
Многие мои старики, а среди них и Михаил Петрович Непомнящих, знали зажиточных, которые были высокоморальными людьми, яростно трудились всю жизнь, с зари до зари, во имя Урожая не жалели собственного здоровья. Таким, верно, был шерагульский Иннокентий Лыткин, таким был евгеньевский Максим Краснощеков, горбом наживший кучу добра, такими были Исаков в Заусаеве и Дмитрий Татарников в Никитаеве.
Все они не прятали нажитой опыт, приходили на помощь соседу и следовали буквально всем заповедям общинного уклада. Чинить ли поскотину, ремонтировать насыпь, сообща валить лес для деревенской школы – всюду участвовали на равных. Они были активистами в сельсоветах, хотя семьи у зажиточных насчитывали всегда по десятку ртов, и время они считали на минуты. Так, отыскал я однажды в бумагах Архива несколько строчек о Федоре Татарникове, великом труженике, крепком хозяине. Односельчане избрали его председателем Никитаевского сельсовета, но потом вынуждены были отпустить с поста, потому что «нет рабочих рук, хозяйство приходит в упадок». Две строчки осталось, но каких многозначительных.
Михаил Петрович Непомнящих, окрепнув физически, стал пахать самостоятельно, хозяева относились к подростку, а следом юноше Михаилу с должным... хотел написать «уважением», но осекся, – с должной заботой. Поили, кормили, одевали. Раз Михаил обратился к хозяину:
– Дядь, купи сапоги. А то я большой и все в чирках хожу.
Зарубин, однофамилец Семена и Василия Зарубиных, в ближайшее воскресенье привез из Тулуна сапоги, не шевровые, конечно, но крепкие, велел тут же примерить и радовался обновке вместе с работником.
Но в 1925 году нанялся Михаил Петрович к Ивану Солдатских, в Ермаки. Однажды выдался тяжелый пахотный день; прилег Михаил в хозяйском армяке у костра, и сразил его сон намертво. Когда армяк черными пятнами пошел – не проснулся. А проснулся от резкой боли, полоснувшей плечо и спину. То великовозрастный сынок Ивана Солдатских огрел его кнутом и, не давая подняться, бил до бесчувствия: знай, негодяй, как в чужом армяке засыпать у костра!.. Кстати или некстати, жив и поныне тот кулацкий отпрыск, пенсионер уж, из Ермаков уехал в другое место. Имени его не назову, теперь это совсем ни к чему.
А в самом Афанасьеве, наискосок от нынешнего сельмага, жил Гаврила Долгих, прижимистый старик. Раз в году он бывал добр, вот и созвал батраков как-то на Рождество, велел супруге накрыть стол, сам сел посередке, выпил заодно и речь сказал про мир на миру. Осенью же, после уборочной, когда подоспело время рассчитываться с работниками, Гаврила долго манежил батраков и не уплатил Михаилу обговоренного. Михаил подступался стребовать положенное, но каждый раз мешало ему то самое застолье, на котором Гаврила речь о взаимном уважении говорил. Но не только стеснение, а и робость испытывал Непомнящих: зажиточных в родном селе было много, и держались они спаянно. Вот и казалось юному Михаилу, что выступит он не против Гаврилы, а против всей деревни.
Надоумили его братья Беловы, дружки Семена Зарубина: «Обратись в суд, пущай рассудят вас, ежли про правду не забыли в суде». Но Михаил постеснялся в суд ехать, а набрался храбрости и спросил сам Гаврилу про долг. Гаврила выпялил карие глаза и меленько тявкнул:
– Че-че? – Надвинувшись, сухой дланью (правая рука засохла у него) Гаврила неожиданно опрокинул с крыльца Михаила.
Тогда, разозлившись, Михаил подал в суд на обидчика. Суд приговорил кулака к уплате долга в... тройном размере, приехал судисполнитель, вызвал Михаила к кулаку.
– Доставайте, Гаврила Никитич, денежки, платите наличными, – строго велел исполнитель.
Гаврила, побагровев, вынул рубли, отсчитал, протянул Михаилу.
– Пересчитайте, Михаил Петрович, – велел исполнитель.
Негнущимися пальцами перебрал бумажки Непомнящих. Ему, батраку, было чего-то стыдно; и через пятьдесят лет, рассказывая эту историю, было неловко старику, хотя по прошествии стольких лет он должен был бы понять свою правоту.
– Распишитесь вот здесь, – попросил исполнитель.
Михаил был неграмотный и поставил Н, заглавную букву своей фамилии. Это все, что он умел.
Гаврила усмехнулся. Исполнитель уехал. Михаил, держа на отлете деньги, пошел домой, дома сидел, думал.
– Бог лес не уравнял, а людей и подавно, – сказал он про те думы свои. Так он считал тогда и так, хоть это и странно, считает сейчас. Судебный же исполнитель уравнял его, голоштанного, безграмотного, с богатым и грамотным хозяином Гаврилой Долгих.
Усмотрев неправильность, встал Михаил и так же, будто пакость нес в руке, держа на отлете рубли, явился к кулаку.
– Ну тебя, Гаврила Никитич, подальше с твоими деньгами, – и сунул все, до единой бумажки, хозяину, ушел со двора и более не нанимался к Гавриле.
Как отнеслось Афанасьево к размолвке? Деревня осудила батрака. Зазорным считалось обращаться с жалобой за пределы общины, потому холодок людского отчуждения дохнул на Михаила.
История эта, согласитесь, не хрестоматийно высвечивает эпоху. В истории этой, как в своеобразном фокусе, отразилось стародавнее: уничижительное отношение к себе бедняка и нежелание тяжбы, – и новое нашло также выход: проснувшееся самолюбие и благородное неприятие неправедных денег.
Хоть с какого боку зайди – хозяин выглядит в ней, в этой истории, традиционно несимпатичным, мироедским, а работник, пусть наивный он и нерешительный, вызывает теплые чувства. Я уж и не говорю о классовых категориях, которыми привычно орудуют публицисты, стоит им услышать тривиальный сюжет о хозяине-сквалыге и увальне батраке.
Вот то же Афанасьево. В самый разгар нэпа никто в Афанасьеве не нуждался в одежде или в пропитании, кроме – по словам Непомнящих – четырех или пяти батраков из невезучих семей (сам-то Михаил потерял рано отца-кормильца, поэтому выбилась семья из колеи). Но потаенно, а подчас открыто, выступала на передний план деготная сторона.
Религия более не сдерживала нравы, дети начали вступать в пререкания со старшими, ссорились соседи и призывали к управе тулунских судей.
Сохранилось крохотное свидетельство в Архиве, как не могли сообща найти истину родные брат и сестра, и общество вынуждено было прибегнуть к крайней мере – вмешательству. Потрясла Афанасьево кровавая трагедия в семье Брусникиных. Николай, сын, зарубил отца, тот пилил отпрыска: плохую-де невесту сыскал Николай. А невеста была хоть куда, Валька Травникова, из крепкой и хозяйственной семьи.
В Никитаеве видная деваха Наталья С-на, рано поутру выйдя за ворота, увидела деготь, обильно выступивший на плахах. Содрогнувшись приговору, Наталья отыскала в конюшне вожжи, незаметно ушла в березник и повесилась. Гибель ее никитаевцы восприняли как должное и пережили быстрее, нежели афанасьевцы пережили поступок Михаила Непомнящих, искавшего чужой защиты от притеснений кулака.
В это же время надолго повергло в недоумение Евгеньевку таинственное исчезновение Марии Казакевич, матери Пахома Казакевича.
Баба Мария, как звали ее односельчане, была неунывна и востра на язык и однажды при народе огрела соседа кличкой «Огляк!»[44]. Старики прицокнули восхищенно языком и утвердили новое прозвище. Через два месяца баба Мария бесследно пропала. Пошла в гости в Байкал – так называлась деревня неподалеку от Евгеньевки, недолго гостила и пошла домой. В Байкале ее чинно проводили, а в Евгеньевке не ждали скоро Марии и сразу не хватились. А когда хватились, баба Мария растворилась в черных лесах: ни голоса, ни паутинки.
Пахом поднял Евгеньевку, прочесали опушки и чащобы, лес молчал и тайны не выдавал. Догадки плодить евгеньевцы не захотели, Огляка подозревали недолго (какой спрос с недотепы); но Пахом узрел в необъяснимом исчезновении матери предзнаменование невиданных бед и испытаний. Позже, когда по окрестным селам летала на сытых конях кардойская банда, вспомнили о Марии и поставили в связь с кардойскими молодцами исчезновение дерзкой женщины, но скоро отказались от фальшивой версии.
Разные по масштабу и природе своей события и явления глубинно прописаны в той эпохе, не поддаются они буквальному толкованию; и я не рискну выносить приговор прошлому еще и потому, что гибельные и иные примеры умножатся со временем...
В 20-х годах шла в наших деревнях потеха из-за девок. Так, Наталья С-на стала жертвой деготного обычая, транзитом въехавшего из дореволюционной деревни, но одновременно читатели обязаны отметить высокую трагедийность поступка юной Натальи С-ной: так переживать – до отрешения себя – за честь свою погубленную умели, может быть, только раньше.
Ну а как, решившись жить, мыкала новое свое состояние обманутая девушка? Замуж ее молодые парни не брали. В Пороге жила деваха Анна Г-а, обещал сосватать ее парень по имени Григорий. И не сосватал. Осталась Анна одна, парни на нее уже не смотрели, подружки сторонились. Пять лет ждала Анна судьбы, то есть вдовца. Дождалась-таки.
В Никитаеве закрепился дурной обычай травить старых дев. Двадцать три – двадцать четыре года стукнуло девушке, жениха не нашлось – считай, конец света. А если она некрасива и с причудой (кошек любит) – быть ей предметом злого внимания: в колодец глины насыплют, бадью поднимут на трубу печную. А то окна выхлещут... И не в рождественские дни, когда колядованья идут чередой и тут хочешь не хочешь, а терпи насмешки и проделки, а в буднюю ночь зимы или лета.
Не будем приукрашать и замужество, вначале счастливое. Пелагея Кузьминична Царева афористично передала правду о том замужестве:
Во саду четыре дуба, А на дубу моя дуба. Лучше деверя четыре, Чем золовушка одна.Бытует в народе и такое поверье – раньше замков, дескать, не держали на избах. Оказалось то верным не для всех деревень. В Евгеньевке, точно, подопрут палкой дверь и в поле бегут. А заусаевцы и никитаевцы навешивали замки. Малым детям оставят в бане молока и хлеба, а избу замкнут до позднего вечера. Кого же остерегались жители старых Заусаева и Никитаева? А бродяг, нищих, которых стало много в период мировой и Гражданской войн. До сих пор не забыты клички тех приблудных и обездоленных. Был, например, Каталык, осевший в бане по-черному. Тогда бани ставили далеко от дома, зато близко от воды – прямо на берегу Курзанки, и по неделе не заглядывали в баню. Каталык обосновался в одной из них. Был он безобидным и растил двух сирот, также приблудных. Сердобольные никитаевцы помогли хозяину построить новую баню, а Каталыку разрешили обосноваться в курной избушке.
Нищим Гераськой пугали детей: «Вот в сумку посадит тебя, если выть не перестанешь». Гераська ходил по селу оборванный и грязный, людям в глаза не смотрел и оттого наводил ужас на баб.
Осталась и кличка – Вонока. Вонока блажил не круглый год, а только осенью. Будто дали, просвечивающие в лесах осенью, навевали ему мысли – осенью Вонока становился злоязычным провидцем, походку обычную свою менял на припрыгивание и кривлялся, не понять – здоров ли, болен. Так, кулаку Михаилу Валтусову (мы поминали его) он при народе однажды, перекосив лицо, под сумеречным небом прошипел:
– Тебя никто не любит. Жена тебя не любит, дети тебя не любят. И я, Вонока, не люблю тебя.
Валтусов, всегда барственно спокойный и сдержанный, побелел и молча почти бегом ушел домой.
С Вонокой никитаевцы старались жить в ладу, не решались ссориться: беду напророчит...
Глава шестая Перекос
Сгодами я все больше сомневаюсь в нашей правомочности предвосхищать будущее, когда прошлое не преодолено и не осмыслено всерьез. Что это за спешка такая выдумана – убегать от самих себя и каждый раз хвост свой ухватывать в зубы?
Да, едва прописались мы в 20-х годах, начали жить и здравствовать, праздновать новые праздники, не отвергая силком старые... Едва начали мы наживать опыт, опомнились от войн мировой и Гражданской... Подумывали о том, как потихоньку изживать силу рутинной привычки... Разбуженное в наших дедах достоинство личности едва обозначило протест против домашнего (самого цепкого) произвола Гаврилы Долгих; едва крестьянский мир взялся судить себя сам... – и грянул 1930 год, не имеющий аналогов в мировой истории.
Но и 30-му году предшествовали события из ряда вон, мы притормозим еще в 20-х годах, чтобы галопом их не проскочить. Они неоднозначны, мажорны и печальны, они противоречивы, эти события, но, какие бы они ни были, они суть пережитого нашими героями.
Ну, прежде всего снова обратимся к хронике. Ранее мы сказали, что в 1926 году произошел поворот от мирных взаимоотношений государства с деревней к отношениям субъективным.
В письме от 15 мая 1926 года Тулунский уездный исполком (УИК) декретировал:
«Препровождаю при сем представленные произведенным обследованием Евгеньевского и Заусаевского сельсоветов уполномоченным Бурденюком два списка:
1) на недоимщиков Евгеньевского с/совета по с. х. налогу и
2) на недоимщиков того же сельсовета по страховым платежам, – уисполком предлагает принять меры к срочному погашению недоимок в означенном с/совете и вообще обратить внимание на работу в области проведения налоговой кампании как в Евгеньевском с/совете, так и в особенности в Заусаевском, в коем по отзыву тов. Бурденюка работа эта проводится очень слабо.
Пред. УИКа Луконин».
В этой же описи рядышком хранится «отчет о командировке тов. Бурденюка». Маята уполномоченного, его заботы, даже его характер передает этот отчет. И все написанное рукой Бурденюка имеет прямое отношение к нашим селам.
«Уисполкому с. Тулун[45], Тулуновского уезда. Я был командирован по сельхозналогу по удостоверению от 7.IV.26 года по Заусаевскому и Евгеньевскому сельсоветам. Приехал в Заусаевский сельсовет, первым потребовал в них поселенные списки и лицевые счета неплательщиков как по сельхозналогу, так и по страховке. Оказалось нижеследующее – всего с. х. налогу с недоимкой было 3449 рублей 53 коп., уплачено к 12 апреля 1.1 часов дня 2855 руб. 39 коп., осталось за населением 693 руб. 74 коп.
Страховки было с недоимками 1001 руб. 99 коп., поступило 623 руб. 92 коп., осталось не уплачено 378 руб. 07 коп.
Я собрал членов сельсовета, сделал им информацию, дал им формы описи имущества и 9 апреля взял с собой предсельсовета и уехал по его участкам. Вечером я с ним в Малой Кондари делал описи имущества (здесь и далее Бурденюк показывает добросовестную работу – вечерами и ночами-де описывал у мужиков добро, – Автор). Хотя некоторые и говорили, что мы уплатили. Но если у него не было на руках окладного листа, то мы делали описи имущества.
9 апреля ночью мы были в Большом Кондарике, где я позвал члена сельсовета и сельисполнителя и Заусаевского представителя. 10 апреля они начали делать опись имущества, а я уехал в Евгеньевский сельсовет. Когда приехал, собрал членов и ревизионную комиссию, пришли, была халатность предсельсовета, которую я оформил протоколом. С. х. налогу было 1597 руб. 03 коп., уплачено 624 руб. 84 коп. Осталось за населением 232 рубля 06 коп. Страховки было с недоимками 496 руб. 49 коп.[46], уплачено 264 рубля 10 коп, осталось за населением 232 руб. 39 коп. Я дал задание, чтоб 12 апреля со всеми описями был в Тулунском ВИКе, что было им и сделано: 12 апреля в 12 часов дня он, т. е. предсельсовета, был в ВИКе, с деньгами. 70 рублей привез, а остальные описи имущества. 11 апреля я приехал обратно в Заусаевский сельсовет, где захватил инструктора Тулунского ВИКа тов. Чалых, где его оставил, сам поехал в Тулун, привез денег 129 рублей с коп. И здесь на уездном съезде ККов (очевидно – крестьянских комитетов) был избран кандидатом в Тулунский УКК-ов и делегатом на губернский съезд ККОв, поэтому я свою задачу, порученную мне, считаю невыполненной. Мне приходилось вести беседы с крестьянами, почему они не платили за это время. Они мне говорили, что нас никто не тормошил, и другие дожидались цены на хлеб[47].
При сем препровождаю протокол №13 от 10 апреля Евгеньевского сельсовета и список недоимщиков с/х налога и страховых платежей.
Уполномоченный по с. х. налогу Бурденюк».
И точно, в описи подшит протокол заседания Евгеньевского сельсовета от 10 апреля 1926 года:
«Присутствовали: Краснощеков С. Е. – председатель сельсовета и члены сельсовета М. П. Гультяев, Л. П. Дегтярев, Ф. К. Бушунов, М. А. Краснощеков, член ревизионной комиссии Соколов К. Д.
Повестка
1.Ударная работа по сельхозналогу и страховым сбором за 1925/26 г. г.
2.По рассмотрению лицевых счетов по с. х. налогу и страховых сборов и о состоянии делопроизводства. 3. Разное.
Слушали – постановили:
Краснощеков С. Н. сообщил, что вынуждали (т. е. конечно, «выжидали». – Автор) поднятия цен на хлеб весной с. г., а также могущей быть скидки по примеру прошлых лет, хотя объяснили им, что никакой скидки в настоящем году быть не может»[48].
Трудности с взиманием налога вынуждают припомнить, а какие налоги и как брало государство не рабоче-крестьянское, а то, самодержавное?
С крестьян взималась подать на волостные расходы, на обеспечение священников, на жалованье писарю. Платежи казенные состояли из:
оброчной подати,
подушного оклада,
губернской повинности, – по каждой из этих статей семья вносила до 2 рублей в год.
Шли копейки на пожарный инвентарь и межеванье.
Кроме того, платили на тюрьму и больницу в уезде, в фонд погребения безродных, сельскому фельдшеру (один фельдшер на 3–4 села), рассыльному.
Кроме того, в распоряжение волости каждое село давало несколько подвод (это называли гужповинностью).
В целом из всех этих податей складывалась средняя постоянная цифра, в меру отягощавшая сибирского крестьянина. Были недоимщики и тогда, до революции, но по разным причинам – один заболел, другой состарился и тоже обессилел, третий запил. В отчаянных случаях община приходила на помощь, пьяниц наказывала высылкой на дальние работы или прогоняла совсем, дети от непутевых родителей шли в чужие семьи – к богатеям, к мироедам, – как правило, прислуживать и батрачить.
После революций, когда угар анархического своеволия прошел, когда минула пора суровой и беспощадной продразверстки, крестьяне снова начали платить налоги, натурой, а следом и деньгами. Сохранился и старый принцип самообложения: надо было ремонтировать сельсовет, или почту, иль магазин, платить пастуху и землемеру, – тут мужики быстро собирали копейки и рубли.
Не отказывались они и от трудовой повинности, дружно выходя на прокладку дорог и строительство мостов, заготавливали лес для пожарной каланчи и т. д. Жертвовали с явной пользой для себя на кооперацию – по продаже, например, домашних продуктов району и городу.
Все эти pаботы, совокупно исполняемые, способствовали товариществу на селе.
Уместно припоминается великолепное – с гиком, с пылом! – построение миром клуба в Никитаеве. По тем временам событие это грандиозное, оно говорит о том, что 20-е годы были отнюдь не пасмурными, хотя холодных ветров хватало.
«Сложимся по копеечке, а кто зерна принесет, купим угол, вот и есть у нас гулеванное место», – помните, не забыли эти слова Александры Ивановны Огневой, теперь-то уже не Огневой, а Сопруненко? Клуб молодые Сопруненки строили уже семьей.
Откупать угол оказалось в 20-х годах несподручно, нравы раскрепощались, молодежи хотелось свободы, а какая ж свобода в чужой избе, под присмотром стариков? И уездная столица пример подала – тулунчане смотрели в Народном доме первые советские кинофильмы, никитаевцы немедленно заручились согласием УИКа и РИКа: построят клуб – киноаппарат будут присылать время от времени. Поинтересней казалась такая перспектива, чем случайный заезд ухарь-купца. Собрали всех взрослых, сделали расклад – каждая семья уронит в тайге по десять лесин, ошкурит и вывезет в деревню. Федор Татаринов, отпущенный с поста председателя сельсовета, на сей раз не отрекся от роли прораба. Установили сроки.
Дело пошло споро, коллектив сложился сам собой. Женщины стали готовить обед для мужиков, несли плошки и чашки к сельсовету, выставляли горячее – получился общий стол, уже праздник. Но за общим столом мужики не засиживались – торопились сруб кончить к зиме.
У Федора Татаринова проекта на бумаге никакого не было, но уговор был – строить просторно, на полную длину лесин. Чтобы не только кино «казать» можно было, но и закут отгородить для избы-читальни.
И работа всем миром покатилась яро. Скоро поняли мужики: поднажать чуток – и успеют к ноябрьской годовщине.
И точно в первых числах ноября стеклили окна и сцену подняли на полметра, доморощенные печники в разных углах две печи поставили. Оштукатурить же стены не сумели, и клуб зимовал, оглушающе источая запах смолы.
Шестого ноября густо набилось народу в клуб, мужики помялись, помялись и враз закурили – махорочный дым будто в небо уходил под высокий потолок.
На сцену вынесли стол, накрыли белой скатертью, поставили скамейку для исполкома сельсовета. Приглашен был и гость из райисполкома по фамилии Самойлов, его тоже попросили пройти на сцену.
Никитаевцы же сели прямо на некрашеный пол.
Сохранились две странички в укромной папке; по всем правилам освоенного уже канцелярского стиля, завезенного из Тулуна, приняли повестку дня.
1. Об открытии Никитаевского Народного дома (мода называть клубы Народными домами, вовсе не худая, пошла издалека тоже).
2. Доклад о пятилетнем плане советского строительства.
3. Разное. ...Заслушав приветствия, общее собрание постановило:
1. Просить РИК присвоить Никитаевскому Народному дому имя XII годовщины Октября.
2. Избрать комиссию из пяти человек:
а) Клоков Владимир Васильевич,
б) Татаринова Просковья Дмитриевна,
в) Выборов Илья Данилович,
г) Логинов Евгений Степанович,
д) Сопруненко Вера Борисовна[49], Кандидатами избрать:
а) Абакумову Анну Георгиевну,
б) Умарова Алексея Осиповича.
3. Поручить комиссии установить порядок в Нардоме и изыскание средств на содержание и обеспечение Нардома»...
Пятилетку никитаевцы одобрили: «Прочный союз рабочих и крестьянства – оплот рабоче-крестьянской армии и флота...» Решили участвовать в дополнительной сдаче хлеба – в так называемый Красный эшелон для Дальневосточной Особой Армии по принципу: один фунт отчислений с каждого пуда товарных излишков...
Здесь и далее опять видна умелая рука уполномоченного РИКа – момент использован ловко и удачно. Едва ли, однако, никитаевцы собирались плясать под чужую дуду, но читаем далее.
Далее никитаевцы, в целях создания продовольственного фонда, постановили отчислить к 20 ноября с каждой полдесятины бедняка по 3 кг, середняка по 7 кг, «с кулацко-зажиточной части» – по 13 кг.
Кроме того, в фонд кресткома (кресткомы решали бедняцкие дела, прежде чем передать их сельсовету) с каждой посевной десятины бедняка решили брать по 3 кг, с десятины середняка – 6 кг, кулацко-зажиточной – по 11 кг. А в фонд неприкосновенный на случай неурожая: с бедноты по 10 кг единообразно, 16 кг – с середняка, 22 кг с зажиточных крестьян (каждая доля с посевной десятины).
Многое в этом документе заставляет задуматься: так, при беглом подсчете (взятом в сторону уменьшения!), одна деревня Никитаево единообразно и безвозмездно должна была отказаться от 800 пудов хлеба, а все наши деревни – от 3000 пудов. Хлеб этот, разумеется, не вместился бы в общественный амбар, и тешить себя иллюзией не следует – он должен был поступить на государственный ток...
Закончим, однако, цитирование документа: по суровому настроению уполномоченного райисполкома совсем недавно избранного председателя кресткома А.С.Пушмина заменили другим, да другого не нашли, прямо так и записали. Но А.С.Пушмина все равно вывели из кресткома за то, что он якобы подкулачник.
Вот этот пункт уже совсем опасный: и термин сам, бездоказательно пущенный в оборот, – «подкулачник», легонькое, вполсилы словцо, но отравное; и согласие – в новом, самим же отстроенном Народном доме – отдать Александра Пушмина на распыл... Не есть ли это роковой признак Перекоса, исподволь, как крот, вырывшего ходы под наши деревни?
Нет, далеко не все устроит убежденного демократа в праздничном документе. Я прям-таки с опаской перечитал его трижды и только потом переписал в тетрадь.
А рядом, в Афанасьеве, в канун 1930 года мужики пытались решать незатейливые крестьянские дела: о ремонте моста через ключ Сатай, избирали в селькрестком (приставка «сель» непроизвольно выскочила у писаря) пятерых, в том числе знакомого нам Иллариона Николаевича Белова, давнего приятеля Семена Зарубина, и незнакомых Семена Логинова и Петра Устинова. Избрали. Вскоре, всего лишь через 3 месяца, хотели постановить «выселить из пределов Афанасьевского сельсовета Семена Логинова, Устинова, Долгих», обвинив их в... терроре деревни. Но народу на собрание пришло мало, 78 человек из 300 взрослых, а за выселение Логинова голосовали всего 20 человек, а остальные кандидаты вообще не прошли на высылку.
Что и говорить – тоже многозначительный документ, вызывающий недоуменные вопросы: почему мир приветил трех террористов, избрал их в крестком? И почему так скоро вроде бы собирается выгнать их, но согласия сам же, оказывается, не дает на это? Или 100 мужиков, переживших угар двух войн, боятся трех и вправду разбойников?.. Нет, и здесь, в Афанасьеве, что-то неладно. Кто-то посторонний навязывает мужикам, как им жить и что решать. Кто?
Одновременно заседали мужики и в Евгеньевке, тоже решали хозяйственные вопросы. Архив сохранил нервный, даже злой выкрик Пахома Казакевича.
«Протокол №5 общего собрания граждан Евгеньевки 11 марта 1926 года, присутствовало 47 домохозяев из 70-и. Повестка: 1.О проведении посевной кампании.
2. Об организации Красного обоза.
3. О создании фонда по лесам местного значения... По пункту 2 член сельсовета Казакевич Пахом говорит, что пошли они подальше с ихним обозом, т. к. приедешь с Красным обозом в (Тулун) и жди до вечера, пока что примут хлеб, а могут и не принять».
Постановили несколько странно, этак раньше не постановляли евгеньевцы:
«Не везти ни одного фунта на базар (то есть для собственной наживы не везти. Это бы ладно, по-государственному решили, но далее, далее...)
...Мы будем следить друг за другом и доносить в с/совет на тех граждан, кои будут замечены в вывозке хлеба на базар, для принятия соответствующих мер».
Через пару месяцев еще отчаянней закрутилось.
«Протокол №10 заседания Евгеньевского сельсовета от 22 мая 1929 года.
Постановили: каждый член сельсовета должен подумать, кто же должен являться явно – кулацким хозяйством, и на следующем заседании должен сказать, кто должен являться кулацким хозяйством».
Вот оно, открытое и грозное свидетельство Перекоса, хотя теплятся еще в этом документе моральные заповеди евгеньевских старожилов – из последних сил не поддаются они нажиму из Тулуна, никого не предают, а в немоте взывают к небу: «Кто же должен являться?..» Евгеньевцы пытаются сохранить единство.
До сентября месяца район еще трижды требовал разоблачения «кулацких элементов», а Евгеньевка тянула и отмалчивалась, платила сельхозналог, сообща решала насущные проблемы – правила мосты через Илирку, крепила поскотину. Чуть было не создала животноводческое товарищество, но гуртом, вспомнив былую мудрость, вновь записали:
«Население не понимает важности означенного товарищества, решили разъяснять, а посля создавать».
В двух этих строчках хорошо, на мой взгляд, видна природа сибирского крестьянина – он хитрит и ловчит, обучился писать бумаги, полные уверток. Можно понять евгеньевцев – зажиточные были среди них, но кулака не было ни одного; оторванные от других сел расстоянием, евгеньевцы научились жить в дружбе, терпеливо сносили наезды уполномоченных, подписывались на займы, платили враскачку увеличивающиеся оброки и налоги; но обнажатся страсти и в этом заповедном углу... Крик Пахома Казакевича – не случайный крик.
Хочу нарисовать поэтапно картину Перекоса, в очередной раз воспользовавшись крохами, подаренными хранилищем областного Архива. Ноябрь 1923 года.
«Секретно. Председателям волисполкомов Тулуновского уезда. При проведении трехнедельника по ликвидации недоимок обратить внимание на взыскание трудгужналога за 1922 год, причем в первую очередь сделать нажим на лиц, имеющих 3-х и более лошадей, взыскав с них налог полностью к 15 апреля. Всю налоговую работу поставьте ударной. Подтяните сельсоветы. Помните, что для контроля за вашей деятельностью будут посланы уполномоченные от УИК.
Предуисполкома Мохов. Секретарь УИКа Часовитин».
Мохов сообщает, что губисполком установил предельный срок уплаты не 15 апреля, а 1 июня с. г., с обязательством, чтобы к 15 апреля было взыскано 50%. 14 мая 1923 года. «Срочно-циркулярно
Никаких отсрочек для уплаты не давать, а на неуплативших начислять пеню в 100% к 1 февраля, в 200% – к 1 марта. У лиц, злостно уклоняющихся, описывать имущество и описи представлять в УФО (уездный финансовый отдел) для назначения продажи с торгов имущества... Настоящее распоряжение является последним... Виновных в бездеятельности и халатности привлекать к судебной ответственности за неисполнение чрезвычайного задания».
В мае же 23-го года председатель Тулунского волостного исполнительного комитета Кузнецов и секретарь ВИКа Покровский предписали всем сельсоветам, в том числе Афанасьевскому, Евгеньевскому (с Наткой), Заусаевскому (с Дубравой), Никитаевскому (с Порогом) и т. д.:
«Последний раз предлагается взыскать недоимки, числящиеся за сельсоветами. На лиц, могущих уплатить, но не желающих, составьте акты с указанием имущественного и хозяйственного положения для привлечения к ответственности».
Разъяснение уездного исполнительного комитета:
«Предположим, что плательщик должен был внести 100 рублей к 30/IV, а внес только 4 ноября, в таком случае с него следует взыскать пени: за первые 15 дней июля 10% – т. е. 10 руб. за вторые – 15% т. е. – 15 руб. за август по 25% за каждые 15 дней, всего – 50 руб. за сентябрь– 50 руб. за октябрь – 50 руб.
За 4 дня ноября, как за полные 15 дней, 25%– 25 руб. Всего 200% – 200 рублей.
Неполные 15 дней считаются за полные. Таким образом, плательщик должен уплатить 100 рублей налога и 200 рублей штрафа (пени), а всего 300 рублей[50].
Настоящее сообщается к точному неукоснительному исполнению и руководству. Вр. Предисполкома Одинцов. Зав. УФО Миронов
Зав. налоговой частью Иванов Делопроизводитель Ивановский».
В русле нашего рассказа и скупые строчки Хроники:
«...Надо отметить скрытие населением оружия казенного образца и случаи избиения председателя Перфиловского волисполкома Дубровина – коммунара на почве недовольства единым сельхозналогом кулаками деревни Манут...»
И еще:
«...настроение и отношение к соввласти удовлетворительное, если не считать некоторого недовольства в связи с ускоренным выполнением сельхозналога при настоящем бездорожье». (Это 1924 год.)
И еще:
«...Настроение населения в данное время возбужденное благодаря высокому налогу, краткости срока, уплаты 20% его и дешевизны цен на хлеб...
Надежды на скидку и льготы...»
(Это 1925 год.)
И еще – по 26-му году – героический рейд уполномоченного Бурденюка по нашим селам, повторяться не будем.
И еще: из личных анкет председателей сельсоветов.
Владимир Оржеховский:
– Большой вред в отсутствии твердых сроков в соблюдении уплаты. Объявленные сроки то отменяются, то вновь объявляются. Для выполнения налога недавно был 3-дневный срок вместо 3-месячного.
Михаил Максимович Засорин:
– Расчет ставок налога по земле, едокам, скоту не всегда согласуется с действительной мощностью хозяйства.
Анонимные ответы председателей сельсоветов на вопрос: «Есть ли преимущество продналога перед продразверсткой?»
– Не заметил.
– Есть, но незначительные.
– Тяжелый налог.
– Не по силам мужику.
(Это 1927 год.)
И еще:
«...Открытое недовольство страховкой. Этот вопрос является самым основным неудовольствием крестьян, которые говорят открыто, зачем нам» Советская власть навязывает то, что нам совсем нынче не с руки и материально тяжелое. Пусть страхует себя тот, кто может и желает.
Залепо Лука, середняк, с иронией говорит: «Надо же служащим дать службу, поэтому и выдумали страховку, а мужик знай плати». Всякие разъяснения по этому вопросу ни к чему не приводят. Население страдает от безмолья, т. к. мельницы частные позакрывали». (Это тоже 1927 год.)
И еще из 1927 года:
«На участке Добчур вопросов не задавали, а захватывая слово, выступал, например, гражданин Никита Мороз, середняк: „Нас грабят, я знай плати налоги, при царе было легче“».
После того дьявольского набега Бурденюка прошло два года, и вот, например, как вели себя наши милые евгеньевцы – в 1928 году.
Посеяно по Евгеньевскому участку (собственно Евгеньевка плюс Натка и 22 хутора) – 700 десятин.
«Платить должны сельхозналог 2466 рублей, сложено 419, осталось в конце года к уплате 2017. На конец года выполнено 1986 рублей. Страховки причиталось 1041 – выполнено 826 рублей. По распространению 4 займа укрепления крестьянского хозяйства внесено 125 руб. вместо 750.
Самообложение на вывозку лесоматериалов для постройки школы: 805 бревен – вывезли 765. Самообложение на ремонт мостов – выполнено. Отобрано самогонных аппаратов 15, добровольно сдали 2».
Обратите внимание – вовсю старались евгеньевцы не быть должниками перед государством, но то, что казалось им от лукавого (подписка на очередной заем), выполняли вразвалку: спустили план подписаться на 700 рублей, а они подписались на 125; зато по другим статьям их не упрекнешь, даже самогонные аппараты начали добровольно сдавать, невидаль явная.
Заглянем в Никитаево. Из протокола:
«...Неретин: дела с хлебозаготовками идут слабо. Нужно женщинам поддержать Красный обоз. Кто-то: По самообложению несвоевременно вносят план. В том видна недоверчивость к советской власти, говорят о неправильном использовании самообложения».
Заглянем в Заусаево. Из докладной, неизвестно кем составленной:
«Лесоустройство прошло за счет зажиточного населения. Были случаи укрытия объектов обложения. Некоторые зажиточные не молотят хлеб, задерживают хлебосдачу». (Это 1929 год.)
А ведь и так случалось – степень обложения оказывалась столь великой, что подчас сильнее била по бедняку и середняку; многие крестьяне, не только зажиточные, всякими правдами и неправдами укрывали иногда объекты обложения: производили фиктивный раздел имущества, записывали меньшее число десятин, показывали уровень урожайности более низкий, нежели на самом деле. Ухищрения появились разные, но все равно они мало помогали укрыться, спрятаться от обложения.
И наконец, 1930 год. Некая станция назначения, куда поезда въезжали не по своему хотению.
Пока проиллюстрирую 30-й год одним документом, красноречиво передающим атмосферу той поры.
«В Тулунский РИК от Автушко Григория Андреевича, с. Едогон. В феврале месяце с. г. местным сельским Советом в порядке трудгужповинности я был мобилизован на лесоразработки и для выполнения таковых отправлен на местное тагна.
За моим отсутствием сельсовет совместно с уполномоченным РИКа т. Богдановым почему-то конфисковал все до основания мое имущество, не говоря о живом и мертвом инвентаре, изъяли семенной и продуктовый хлеб, который мне выдан был тем с/советом на месячное довольствие, изъяли даже картошку и капусту... А семью, состоящую из жены и малолетних детей, выгнали из дома, поместив в дом на краю села без стекол, разломана печь и дверь, и пр. Через 20 дней я вернулся с работы, ничего не зная о происшедшем, заехал в свой дом, где при входе увидел сидящих граждан Ковалева Филиппа и Резниченко Дмитрия, бездельников, которые изрядно выпивши...
Я приехал в указанное помещение и увидел жалкую трагедию – плачущих детей голодных и в доме 20 градусов мороза. Не прошло и 2-х дней, я подвергаюсь аресту, не успев устроить семьи, в каковом положении нахожусь до настоящего времени. ...Трудового права (очевидно, избирательного права) я не лишался, хозяйство мое средняцкое, обыкновенное: деревянные постройки, необходимый инвентарь для обработки земли, две лошади, одна корова, семь овец и четверо едоков. Налог платил вовремя».
Теперь, после писаных свидетельств, послушаем живые голоса очевидцев.
– В Афанасьеве, – рассказывает знакомый нам Михаил Петрович Непомнящих, – жил Сафрон Зарщиков. Семья у него была – семь ртов. Три десятины земли, два коня, корова; он на средняка едва ли тянул. В тридцатом году обложили его твердым налогом, как единоличника. Получалось так – выполнит план, семья по миру пойдет. Не выполнит, загребут Сафрона. Он, не долго думая, отвез, что успел, на Тулунский базар, продал и умотал в город Улан-Удэ...
Обложили и Григория Устинова, бедняка. Был у нас Филат Устинов, богатый. А Григорий – однофамилец, по кличке Пшенов. Одна лошаденка, одна коровенка. Одна десятина земли и трое детишек...
Ульяна Фадеевна Петрачкова, 86 лет, как-то я поминал ее:
– Жила я в Карманутах, сама вела хозяйство, мужик помер. В тридцатом годе говорят – человек с района прибыл, в Парижскую коммунию записывать будет. А кто не запишется – придут из сельсовета, ходок заберут, коня заберут, корову заберут... Напугались мы, пошли записываться... Случай дурной был у нас, Гриша Семенов повесился – у него все отобрали, он пошел к Феклошихе, самогонки выпил и... Песню глупую тогда сочинили. Стоит, дескать, елка у ворот, почто никто не подойдет, а это Гриша напился да повесился...
Константин Данилович Травников, тоже афанасьевский мужик, сначала разузнал, о чем со мной говорила мать его Анастасия Иннокентьевна, 1900 года рождения, а после поймал меня на ферме, присели мы в укромном месте, Костя (так он представился) и велит:
– Пиши-ка, Иваныч, пиши. А то маманя постеснялась все довести до твоего ума... Прадед мой поднял на Курзанке плотину и мельницу, потом деду моему передал вместе с коровой и мерином. В двадцать четвертом году отобрали мельницу. Дед собрал силенки и купил молотилку. В тридцатом году забрали молотилку. Батраки? Батраков у деда никогда не было, хотя вел он дело удачливо. Стал дед жаловаться. В тридцать втором прислали справку, что «раскулачили по ошибке» и, дескать, считается он, Иннокентий Степанович, отныне середняком... А маманя моя зря постеснялась груз этот с души снять, до сих пор, значит, боится...
Василия Федоровича Шахматова 30-й год застал в Челябинской области. Так послушаем и его:
– В селе Карандашево собрали мы в церкви семей двадцать, вместе с детьми, и погнали на станцию Шумиха, в ссылку. Я молодой был. Велят гнать – враги, дескать, я исполнил. Сосланные писали письма потом с Урала и Амура, с годками я списался, стыдно чего было... Но ведь кто знает – не шли люди в колхоз.
А вот никитаевцы вспоминают. Александра Ивановна Огнева-Сопруненко:
– В двадцать шестом году закрывали у нас церковь, сразу холодно стало в деревне. Саму церковь-то под хлебный амбар велели запереть, а иконы отвезли в гортоп... Скоро начались коммуны, мы в них не ходили, отсиживались. После так и сказалось – правильно не ходили. А в двадцать девятом пристали уполномоченные с ножом к горлу: «В колхоз ступайте». Мы уперлись, думаем: че получится? А вдруг ниче не получится?.. Но стали отбирать у нас всякие домашности. Раз телегу угнали в сельсовет и не вернули, потом лошадь взяли, тут убирать посев надо, а лошадки – вывезти хлебушко – нету. А следом твердый план поднесли – вноси налогу в пять раз больше. Прошлый год сдавали два центера с десятины, а тут в пять раз боле. Мы и закуковали. Урожай взяли всего тринадцать центнеров... Говорю Григорию Латыгину, активистам: «Вы же ленивцы, лежебоки, ни холеры не заробили. Один хвост на дворе у вас. Зачем нас, трудящих, грабите?» Правда, лень наперед их родилась... Им и поручили чистить сурьезных мужиков... Кричать-то кричала, а Андрея за рубаху держала, чтоб беды не наделал... Андрей в Гражданскую ушел добровольцем в Красную Армию, ему восемнадцати лет не было, так он справочку выпросил в сельсовете, горячий был... И вот увезли у нас все. Ночь пришла, легли спать, а сами молчим все и думаем, думаем – про то, как дальше жить. Полночь уж, Господи, давай поспим... А нету снов.
Арину Васильевну Татарникову Перекос застал в солидные лета, ей было сорок пять лет. Набедовалась в жизни – отец ее, Камышов, был сослан в Сибирь, жили в Тулуне, молоденькая Арина прислугой служила у купцов, замуж вышла за Степана Татарникова; муж пошел на японскую войну, вернулся, пожили, пошел на германскую, вернулся, пережили Гражданскую. Только вошли во вкус безбедной крестьянской жизни, как стали теснить Татарниковых налогом. Срубил Степан Татарников однопоставную мельницу, ее отобрали, забили крест-накрест гвоздями.
– В тридцатом, – рассказывает девяностодвухлетняя Арина, – навалились и враз все взяли: свиней, телегу, таратайку, землю, корову. В бане ютились, пережидали беду. Степан скоро помер, не вынес горя.
Судариков Иван Александрович, брянский, жил в Куйтунском районе, в 1929 году позвали Ивана Александровича в сельсовет.
– Я член сельсовета, зовут – иду. Повели нас. Кулачить будем, говорят. Пришли. Старик слепой и старуха. Взрослый сын и жена его. Четверо ребятишек. Ясно запомнил всех. Один конь был – взяли коня, корову и нетель увели, хлеб выгребли. Уехали на их телеге. Деревня наша Мингатуй называлась... В том же году я уехал в Новый Брод, стал секретарем сельсовета, повез отчет в исполком, а там велят: «Колхоз пора делать, сейчас отчет сдашь, и поедем». Я плечами пожал. Бруев, начальник орготдела Лесхимсоюза, увязался со мной. Собрали двенадцать хозяев, записали в листок. Бруев объявил: «Кто не пошел, у тех земля отымается». Тут новые, двадцать два хозяйства, пришли.
Надежда Егоровна Ломакина, мы с ней тоже познакомились раньше:
– Муж отделился от отца, свекра моего, в 1929 году. Бедой запахло, свекор и говорит: «Меня разорят, так хоть ты в своей избе жить будешь». Далеко видел Федор Васильевич. Скоро отобрали у него все, из города прибыли какие-то и войну начали. Согнали семей пять, с малыми ребятами, на мельницу, охрану поставили. Тайно мы детишкам молока носили. Михаил горько плакал – за отца переживал. Тут поднесли налог и подчистую грозили оставить. Тогда Михаил записался в «Максима Горького», а свекра когда выпустили из-под стражи, уехал он в Биробиджан, больше не видели его...
Алексей Степанович Татарников, сын Арины, ему сейчас всего пятьдесят пять лет:
– Я был мальчиком, когда отцу велели добровольно вступать в колхоз. Отец не пошел, приказали ему сдать сорок три центнера зерна... А нас шестеро малых, у отца с мамкой, не могли справиться с планом. Тогда все у нас отняли... Мельница, забитая, сгорела, а плотину прорвало льдом и разворотило... Мыкались мы, отец сторожем устроился в Тулуне, я дрова пилил по дворам. Три кубометра распилишь ручной пилой и поколешь – глядишь, тебя покормят и денежку дадут...
Забегая вперед, скажу: Алексей вырос богатырем, брал восемь пудов на плечо. Ушел в 41-м воевать, заслужил грамоту маршала Говорова, орден Славы, медали всякие; но не об этом он рассказывал мне, сидя за чашкой чая.
– Ходил я по людям, надоело, пришел в родную деревню. Время пахоты, тепло. Мужики в поле. Я стал перед ними и молчу, хочу сказать, а давлюсь. Возьмите, хочу сказать, в колхоз меня, устал я ходить по чужим местам. Сказал. Иван Умаров, противный такой мужик, кричит: «Да че от него пользы, от пацана?..» А Михаил Ломакин, переживши свое горе, говорит: «Дед и отец могутные у Лешки, скоро и он выправится – мы за ем не угонимся, попомните, мужики». Так стал я малолетним колхозником, и старался, старался угодить, чтоб не прогнали меня.
А вот голос краснодубравской Марии Ивановны Долгих, 1902 года рождения:
– Я давно замужем была, жили в Сатае. Вдруг гром – силком гонят в колхоз, а нет – кулачат. Мы кинулись из Сатая в Заусаево, и тут кумпания зачалась. Тогда мы кинулись в Дубраву и сколь еще пожили своим умом...
Тимофей Егорович Горюнов – коренной заусаевский житель – делился пережитым деликатно. Сначала выдал директивную установку, одобрил ее, похвалился участием в классовой борьбе и службой в милиции.
– Прикатил уполномоченный РИКа Купченко, старый, с лесозавода, дали ему задание просветить наши головы. Собрал он бедняков. Задача, велит, простая – подвести к раскулачиванию. Мы молчим, смирные. «Не ясна задача?» – спрашивает. Мы молчим, нас-то че подводить. Кто богатый – того и подводить. Тогда он список вынат...
Горюнов и приятели прошли железной метлой по Заусаеву, и не только по Заусаеву. Добрались до заимок, до хуторов. В числе раскулаченных лишь три человека были воистину богатыми и лишь один применял наемную силу. Осип Татарников – звали кулака. Осип держал пять батраков, было у него 20 лошадей, 15 коров и нетелей. Горюнов и приятели одного зерна выгребли подвод двадцать. Правда, у Осипа было три взрослых сына, между которыми – на четыре хозяйства – хотел Осип поделить свое добро, да проморгал срок. Отобрали у него два дома. Куда он сам подевался? Бежал в Томск и там кончил самоубийством.
А тридцать середняков, лишенных нажитого добра, пошли кто куда – по городам и весям страны, подались и в колхозы, местные и дальние. Годом спустя иные отправились в места отдаленные... Так среди них оказался хромоногий Семен Жуков, вечно ходил – на одной ноге сапог, на другой чирик, прижился у него недоумок Гриша («Глиша», – звал себя недоумок), пахал и сеял, питался вместе с Семеном за одним столом. Но зачислили Жукова в кулаки и прогнали за 150 километров от Заусаева, а старуха его осталась одна с девками.
Алексей Данилович Медведев век свой доживает (ему восемьдесят четыре от роду) в Заусаеве, а родом он из Белоруссии. Родители его числились крепостными помещика Мисевича, мальчишкой Алексей Данилович воровал яблоки в помещицком саду. Хотя кругом земли были обширные, озера и степь, крестьяне страдали от безземелья. На девок вообще земли не нарезали. В 1907 году Медведевы поехали в Сибирь за благами, обещанными Столыпиным. Попутно хочется сказать о Петре Аркадьевиче Столыпине. Вот строки из Всеподданнейшего отчета, написанные в 1904 году, когда Столыпин был саратовским губернатором:
«...Доказательством того, насколько крестьянин нуждается в земле и любит ее, служат те несоразмерно высокие арендные цены, по которым сдаются ему земли в некоторых уездах. В хороший год урожай с трудом оправдывает эти цены, в плохой и даже средний – крестьянин даром отдает свой труд. Это создает не только обеднение, но и ненависть одного сословия к другому, озлобление существующим порядком...
Жажда земли, аграрные беспорядки сами по себе указывают на те меры, которые могут вывести крестьянское население из настоящего ненормального положения. Естественным противовесом общинному началу является единоличная собственность. Она же служит залогом порядка, так как мелкий собственник представляет из себя ту ячейку, на которой покоится устойчивый порядок в государстве. В настоящее время более сильный крестьянин превращается обыкновенно в кулака, эксплуататора своих однообщественников, – по образному выражению, мироеда. Вот единственный почти выход крестьянству из бедности и темноты, видная, по сельским воззрениям, мужицкая карьера. Если бы дать другой выход энергии[51], инициативе лучших сил деревни и если бы дать возможность трудолюбивому землеробу получить сначала временно, в виде искуса, а затем закрепить за ним отдельный земельный участок, вырезанный из государственных земель или из земельного фонда Крестьянского банка, причем обеспечена была бы наличность воды и другие насущные условия культурного землепользования, то наряду с общиною, где она жизненна, появился бы самостоятельный, зажиточный поселянин, устойчивый представитель земли...»[52]
Как видите, у П. А. Столыпина вполне демократическая позиция; умелая защита этой позиции перед Николаем и правительством привела вскоре к тому, что община стала стремительно разваливаться, и тысячи крестьян возмечтали о самостоятельном хозяйствовании. Вот и Данила Медведев, собрав нехитрый скарб и снарядив в дорогу дочь и трех сыновей малолетних, оказался после первой русской революции в наших местах.
На Половине, против Утая, им нарезали участок, дали пособие. Работали Медведевы с утра допоздна все – и взрослые, и дети. Корчевали березняк.
Подросли Алексей, он был старшим, и Никита и вскоре помогали отцу, как взрослые.
Алексей был невеликого росточка, сухой, но жилистый и – как показала долгая жизнь – необычайно выносливый. К разделу Данила Медведев приготовил сыновьям пять коней, трех коров и двадцать овец, но женить отпрысков не успел, скончавшись внезапно в 1913 году.
Нам придется после возвращаться еще раз к судьбе старшего из братьев Медведевых, а сейчас скажу только, что Алексей женат был, по возвращении с мировой войны, на признанной красавице Надежде Кузьминичне Фурмановой. Фурманова – девичья фамилия Пелагеи Кузьминичны Царевой, матери нынешнего председателя колхоза имени Кирова, мы встречались с ней на этих страницах, вдовы Николая Карповича, пока знакомого нам заочно.
К 1930 году у Алексея Даниловича было сильное хозяйство; когда, по долгому раздумью, он понял – колхоза не миновать, он ввел на общественный двор трех жеребцов. Упрямого и умного Медведева избрали председателем артели «Сеятель».
Вроде миром обошелся переход к новой жизни, но Алексей Медведев задумал оборонить артель от набегов дежурных уполномоченных – сначала потребовал не вмешиваться в коллективное хозяйствование, а потом поехал в Тулун, набрался смелости и сказал секретарю РИКа: «Толку от ваших товарищей мало, а вреда много. Лучше пущай они приезжают, когда мы урожай снимем, раз в году. Примем как дорогих гостей на обжинках».
Смелость обошлась боком – в Половину приехал очередной уполномоченный с письменным циркуляром и Медведева скинул с поста, обозвав ходовым ругательством «подкулачник». Алексей Медведев потребовал на собрании слова, рассказал, из какой бедняцкой семьи выбился его отец, Данила Иванович, полукрепостной помещика Мисевича, и как он, Алексей, вернувшись с войны, сам укрепил хозяйство и никогда не прибегал к найму чужих мужиков или соседей.
Уполномоченный отвечал:
– Это не меняет дела, по нутру ты подкулачник.
Медведев плюнул публично под ноги уполномоченному и ушел домой...
Теперь пристала пора вновь возвратиться в родную Евгеньевку. Почему родную – на пепелище ее жил я неделями. Все никак не верилось, что под угольями этими тлеет такое красочное былое, некогда полное задора и мускульных сил.
Роман Сидорович Гнеденко:
– В 1927 году прошло у нас переземлеустройство, удобно всем старожилам и новичкам нарезали полосы, в пять десятин. С района шли напасти, но нас не одолели. Царствовать, по чести говоря, не получилось, лихие налоги соки тянули, но все одно жили – через раз тужили. Весной 1930 года приехал чернявый такой из себя, глаза острые, Самуилов, собрал нас до кучи: «Че-то вы, говорит, засиделись на завалинках. Товарищество вам не надо, уполномоченных самогонкой спаиваете. А пора сообща хлеб содить, пора». Мужики самосадом пускают в него и молчат. А он как закричит: «Загоним кнутом, раз в вас вредство такое! Всех уговорили вокруг вашей глупой Евгеньевки, а тут кнут возьмем».
После крика часть мужиков решили попробовать и сбились вместе. Отец же мой упрямился и не соглашался сойтись. Тогда землю у нас отрезали (я был молодой, и меня отец еще не отделил) и далеко дали два неудобных лоскутка. Раз отец говорит: «Мой городок-то уж под землей, а тута в городок не сойдемся. Силком городок нельзя строить»... После той еще войны у отца левая рука почти не работала, только большой палец шевелился, тяжело ему приходилось, но я помогал ему во всем и заменял отца. А он терпел и нам велел терпеть. Отстанут, дескать, отвяжутся.
Самым крепким хозяином в Евгеньевке считался Максим Абрамович Краснощеков, покладистый и тихий мужик. Но он не пошел в колхоз, его зачислили в кулаки и вместе со старшим сыном Степаном сослали в Туруханский край, откуда они не возвратились. Жена Максима скоро умерла от горя. А семья у них была такая к 30-му году: три взрослых сына, взрослая дочь, двое малых детишек, старуха мать. Земли разработали Краснощековы шесть десятин; потом, учитывая, что сыновей он, Максим, собирался отделять, прирезали еще три десятины. 4 коровы, 3 коня и птица имелись. Максим был всю жизнь кузнецом, кузню поднял. Наемных мужиков никогда у него не было, падал от усталости, но сам дело вел, а тут сыновья подросли... Отобрали у них все: взяли кузню, в колхоз увели лошадей и коров, а потом и дом отняли. Дом этот сохранился до сих пор.
У Ермилы Архипенки отобрали двух коней и двух коров, отрезали землю, последние годы Ермила подметал улицы в Тулуне. Вот его-то дом, Ермилин, пятнадцать лет спустя достался чужому пришельцу Шолохову. И так судьба уготовила – дом этот оказался последней жилой обителью Евгеньевки...
Интересна фигура Алексея Аксютеца (дед Мишарин и Григорий Латыгин в Никитаеве из той же породы). Алексей сеял одну десятину, его мало заботила земля. Промышлял по лесу – петли ставил на зайцев, западни рыл косулям.
Разные люди рассказывали об Аксютеце, во всех рассказах герой лежал на русской печи, редко выходя из дому– по нужде да дров заготовить. Но враль, как многие охотники, был отменный. Изба у него прохудилась, он и избу не хотел починить.
В 1930 году, принюхавшись, куда ветер дует, Аксютец заделался активистом, вступил в колхоз, тотчас потребовав себе чужую избу. Именно Аксютец с уполномоченными ходил по дворам, описывал имущество, выгребал хлеб, грабил «подкулачников».
Анна Андреевна Казакевич (тогда она была Шалыгиной, по первому мужу, а девичья ее фамилия Нестеренко) говорила:
– Таки, как Аксютец, горя много принесли Евгеньевке. Доносили любое слово и сами беду делали. У Краснощековых забирали все и стали одежду отбирать, тут жена Максима заплакала – на зиму ниче не остается. Мы слышим – плачет она, а подойти боимся... Сыновья-то Максима сообща решили с отцом вместе и отреклись от него, а Степан сказал – поеду с отцом, нельзя старика одного оставлять. Степан-то сам выбрал дорогу... Мы-то как жили? Налог поклали великий на нас – мясо, хлеб, шерсть. Тянем, в колхоз не вступаем, но приезжают и все отберут, да разбазарят после...
Уехал Иван Гультяев из села, бежал. Подался и Филя Жигач в Тулун – слонялся по артелям, обучался диковинным песням:
– Ни кирпичики, ни куплетики На заводах сейчас не поют. А поют сейчас песню новую, Как девчонки в нарсуд подают.Частушки сочинял в масть настроению и эпохе бездомной:
– Не от чая полиняла Моя чашка чайная. Не от работы похудала Моя семья печальная.И грустно подыгрывал на московской гармони, скоро продал и гармонь, о чем жалеет до сих пор. Ефросинья Михайловна Шолохова-Жоголева:
– В 1929 году угнали отца на лесозаготовки, он застудил там печень и умер, мать осталась с четырьмя детьми.
Два старших брата, Борис и Ефим, говорят: «Управимся, мама, без колхозу, мы большие». А на нас раз – и план наложили, все-все, что могли, сдали. И вот слух: «Красная метла по дворам пойдет». Братья спрятали два последних мешка ржи, но на печке сохло у нас полкуля. Думаем, скажем – это все, что осталось. Не отберут, думаем, последнее. Но явились, вверх дном все подняли, нашли рожь в кулях, и ту, что на печке сохла, забрали. Алексей Аксютец даже зернышки шапкой смел с лежанки. Тянули до лета на одной картошке. А летом мать говорит: «Пойдем в колхоз, че делать. А то план снова принесут»...
Мария Васильевна Нестеренко, по второму мужу Жигачева (с Филиппом Андреевичем сошлись, когда он вдовцом после Отечественной войны оказался):
– Вызвал моего отца в сельсовет уполномоченный и спрашивает: «Какую цифру выберешь – 24 или 350?» Отец молчит. А уполномоченный: «Ты, я вижу, прикинулся непонимающим. Разъясню. В колхозе налог 24 рубля в год. А не пойдешь в колхоз – плати сразу 350 рублей. До утра тебе сроку на думованье. Утром сам не придешь, мы явимся с описью». Папа уполномоченному ответил:
«Пойду старуху (то есть маму мою) на колхоз уговаривать. Где ж таки деньги, 350, взять?» Уполномоченный одобрил тятю, а тятя не домой пошел, а по дворам – и до ночи собрал эти триста пятьдесят рубликов, в долг. Кто десятку, кто меньше – больше, в сберкассах деньги тогда не хранили. И вот утром уполномоченный на двор, а отец ему на протянутой руке несет деньги и говорит: «Ноги чтоб твоей не было возле дома моего». Тот взыграл, а сделать ниче не может... Конечно, в следующий раз поднесли отцу похлеще сумму. Так и Василий Степанович Гнеденко, дядя Романа, распродал все, придут за описью, а он деньги – в зубы им. Вносил раз, два, три, нищий остался, только тут пошел в колхоз. А Пахом Казакевич, горе с Пахомом...
Пахом Казакевич, депутат сельского Совета, уговаривал мужиков не соглашаться на артель, но после многократных угроз со стороны тулунских гостей замолчал и затаился. Игнат же Гнеденко и Фаддей Краснощеков, родной брат Максима, не выдержали напора чернявого Самуилова, в ноябре 1930 года созвали шесть семей и учредили артель. Под диктовку уполномоченного из райисполкома составили 6 ноября протокол: «...Учитывая преимущество коллективного хозяйства перед единоличным, решили обобществить амбары и по 1 конюшне. Дойные коровы остаются в личном пользовании по одной до шести едоков, а свыше шести едоков допустить две коровы. Мелкий скот, свиньи, овцы, козы, птицу не обобществлять...»
Осмотрительность даже здесь, у последнего рубежа, не покинула евгеньевцев – обобществляли сами себя осторожно, не то что заусаевцы или никитаевцы.
«...Вступительные взносы приняты за правило:
до 100 рублей – 2%
от 100 до 200 рублей – 3%
от 200 до 300 рублей – 4%
от 300 до 400 рублей – 5% и т. д.
Из стоимости обобществленного имущества членов артели зачислить в неделимый капитал:
до 300 рублей – 25%
до 400 рублей – 30%
до 500 рублей – 35%».
Под нажимом же приняли решение перепахать межи – это было почти неосуществимо при существующей чересполосице, когда сошлись всего до десятка хозяйств, но было понятно: сегодня десять хозяйств, а завтра и другие будут вынуждены идти в колхоз. Записали. Обязались письменно «сдавать товарную продукцию планово...» Решили взыскивать друг с друга за невыход на работу без уважительных причин. Нелепое это для крестьянской психологии решение приняли согласно Уставу сельхозартели, присланному из райцентра.
Терентий Поползухин сказал, что этак будет по уму, как на производстве, взыскивать-то, а Гнеденко отвечал: «Ты из тулунских рабочих бежал к нам. А мы тута без всяких бумаг работали. У нас не залежишься, когда день год кормит».
Уполномоченный категорически потребовал внести этот пункт в протокол; так впервые евгеньевские мужики поняли, что отныне не столь веление земли и собственная совесть призовут к труду, а угроза выговора, наказания и даже – во как! – исключения из артели. Они воспрянули было духом: исключай, можно снова зажить по-старому, но уполномоченный разъяснил, что будут они «поражены в правах», и холод вошел в душу каждого. Когда вечером Игнат Гнеденко пришел к Пахому Казакевичу и рассказал о собрании, тот взвыл:
– Че же вы делаете, а?! Сами себе петлю на шею вздеваете? Не, я останусь до последнего сам по себе, а вы тащите хомут, раз вздели его...
На следующий день Поползухин и Савченко увезли протокол в райисполком, а Казакевич – благо, зимнее время позволяло – стучался непрошенно в избы, присаживался у порога и вопрошающе смотрел на товарищей.
– Ты чего, Пахом? – не выдержав, спрашивали односельчане.
Пахом нахлобучивал собачий треух и, уходя, говорил:
– Попомните, будет лес слабый и народ слабый будет тоже...
На беду, пророчество это слышал и уполномоченный. Через полмесяца поступил в сельсовет указ взыскать с Пахома Казакевича налог в 1000 рублей. Пахом, немедленно отделив сына, не дрогнул, продал скот и зерно и внес налог. Через месяц обложили Пахома еще на 1000 рублей. В неистовстве мужик отрекся от советов родни, продал дом, перешел жить в баню. Зиму перекантовался. Весной у него отобрали полосу и последнего молоденького жеребца.
Пахом лег на лавку в бане и перестал выходить на улицу. Иван пытался увести отца к себе домой, Пахом отвечал одно:
– Попомни, сынок, будет лес слабый...
Скоро он отказался принимать пищу, а пил только воду. Он сделался страшен, и никто уже не пытался войти к нему.
К лету Пахома не стало. Смерть его потрясла Евгеньевку. Через сорок шесть лет о добровольном уходе Пахома Казакевича мне расскажут оставшиеся свидетели Роман Гнеденко, Фрося Жоголева-Шолохова, Филипп Жигачев; родня же Пахома – сын его, престарелый инвалид Иван Пахомович и внуки хранят гробовое молчание. Они будто обет дали не выносить семейную тайну на суд людской.
Казакевичи вообще с потаенной страстью переживают жизнь. Как и Пахом, добровольно – на моих глазах – ушел из жизни Василий Казакевич. Но об этом – в главе, посвященной 70-м годам...
Может быть, так сурово и беспощадно расправлялась судьба только с мужиками наших деревень?
Может, заповедный наш угол по медвежьим законам жил? Чтоб не было такого сомнения, предлагаю простой выход: послушать голоса чужих сел, хотя, признаться, мы не раз попадали в дальние пределы края – то на Алтай, то в Челябинскую область, заглядывали в соседний Куйтунский район, да и по окраинным селам бродили – Кармануты, Половина, Утай и др. Но давайте не поленимся еще раз довериться Хронике.
Прежде всего вспомним Шерагул. Сейчас уместно процитировать полностью письмо Шияна Герасима Григорьевича, это как раз год великого перелома иль перекоса. Бесстрашный тон шияновского письма был подогрет известной статьей Сталина «Головокружение от успехов», опубликованной в «Правде» 2 марта 1930 года. Теперь даже студенты-второкурсники знают: Сталин был напуган бременем ответственности за катастрофические перегибы, волнами шедшие из конца необъятной страны в конец, и «Головокружение от успехов» – это ловкая попытка переложить вину с больной головы на здоровую. Тем не менее эта статья внесла сумятицу на несколько месяцев в ряды рьяных «кооператоров», сумятица задела и наши села. Часть мужиков наотрез отказалась оставаться в колхозах и выделилась.
Так, Герасим Шиян 20 апреля 1930 года продиктовал сыну-грамотею (сам Герасим был безграмотным) отважные строки: «Я вошел в артель “Пахарь”[53] как член семьи Осипа Герасимыча Шияна, то есть нахожусь на иждивении сына. В коммуну мы ввели источников дохода на сумму семьсот рублей. Исходя из этих соображений, я, Шиян Герасим Григорьевич, имею от роду 56 лет, что характеризует о неспособности моей быть в семье коммуны и нести трудовую дисциплину, плюс к тому я недоволен слухом.
1. В апреле первых числах я подавал заявление на предмет исключения меня, так как вступление меня было положа руку на сердце сказать под угрозой распродажи имущества.
2. Зная твердо о том, что подневольный член коммуны не даст совершенно никакой пользы в общей семье тоже также; живая коммуна может быть лишь только при добровольном вступлении члена; при выбытии из колхоза каждый член вправе требовать возвращения своего взноса. И последнее, основное. Нет такого в Советском законе устава, который бы говорил о том, держать за полу члена, лишать его желания выйти из коллектива и прочих организаций; и при выходе. Заявления какие-то полудецкие предрассуждений, а именно: тов. Царев, председатель коммуны, так мне заявляет – “после сева”, хотит изволить отдать мне лошадь; это выходит не что иное, кто-то будет начинать жать, а мне по инициативе тов. Царева придется начинать только что пахать.
РИК! Я нашел нужным обратиться к вам и просить за исправление опять же линии партии одернуть тов. Царева, да бы он не задерживал мою лошадь, которая как и прочим требует усиленную поддержку. Это для того, чтобы я, Шиян, мог работать и по силе возможности спомощи изкормиться. Сын мой с 6-ю едоками остается. А также дать пользу и государству как единоличный сектор; в противном случае я буду вынужден вступить с ходатайством туда, куда будет следовать. К сему подписуюсь за неграмотного расписался Шиян Осип».
Густое письмо. Сколько в нем достоинства и сколько веры не только в правоту свою, но, если угодно, и веры в социализм, веры в правильную «линию партии». Сколько высокой патетики: «РИК! Я нашел нужным обратиться к вам»...и абсолютное, бесшабашное бесстрашие, конечно, наивное: «Вступлю с ходатайством туда, куда будет следовать».
К сожалению, не знаю, чем окончилась эта баталия (хотя догадаться нетрудно – ничем), но точно знаю, что Николай Карпович Царев, муж Пелагеи Кузьминичны и отец Петра Николаевича Царевых, – это вовсе не тот шерагульский Царев. В эти же месяцы и дни Николай Карпович был одним из инициаторов и учредителей артели «Сеятель» в Половине, помощником Алексея Даниловича Медведева.
А неизвестный Царев в Шерагуле не усидел, скоро вместо него стал председателем Мурашев. Может быть, малость забежим вперед и послушаем «заявление» Мурашева?
«О снятии меня с работы» – так оно называется.
«На руководящей работе в колхозе я достаточно сильно потрепал свое здоровье, не имею возможности использовать ни одного дня для отдыха.
Я надоел всей публике потому, что я предправления и все какие бы не были распоряжения исходят все от меня.
На почве этого получается некоторое недовольствие и падает трудовая дисциплина, вторая причина, что у меня много родства, на этой почве также получается много конфликтов.
На основании вышеизложенного приходится много нервничать и переносить всевозможные упреки и оскорбления.
И в данное время я по своей слабости здоровья не могу работать на руководстве. Настаиваю с 15/VIII снять меня с работы, в противном случае самовольно проведу перевыборы и уйду с работы в бригаду. 9/VIII. Проситель А. Мурашев».
Шерагул, Шерагул... Что-то не везет нам в Шерагуле. Но не одним Шерагулом знаменита Тулунская земля. Вот Изэгол. Вдова Ульяна Мироновская жалуется в письме: отобрали все, даже одежду... «куфайку, двое брюк, стол, шкаф, кровать, подушки, коня, корову, поросенка».
У вдовы трое детей. Старшему 16 лет, близнецам по 11 лет. А вот Перфилово. Кондратий Андреевич Романкевич с 1903 по 1915 год был рабочим, слесарил на железной дороге, потом осел в деревне. «Машин, – пишет он, – не имел – ни сложных, ни простых – никогда в жизни, хотя мечтал о них, т. к. думал хозяйство поставить рационально».
Двое малых детей, жена у Романкевича, и вот вдруг лишают его избирательных прав, как эксплуататора, а он им никогда не был и не мог быть, и подносят твердый план...
А вот Гуран. Потомственный крестьянин Мельников Василий Тарасович заявил письменно в крайисполком:
«После русско-германской войны 1917 года я вернулся домой ранен и кантужен, хозяйство мое разореное было. Отцу 80 лет, жена с малолетними детьми. Посев в то время был 2,5 га. Я приступил к хозяйству в 1918 году. Не пользуясь наемным трудом, постепенно до 1927 года хозяйство поднял и посев увеличил до 6 га и 2 лошади. В 1927 году я продал лошадь и корову и в рассрочку купил молотильную машину. С 29 по 30 год меня стали считать зажиточным как имеющего машину, тогда как я за машину все деньги платил. По договору от сельсовета я сам молотил, брал три рубля с тысячи пудов, заработал за зиму 50 рублей, оплачивая свой труд и ремонт машины.
Но по неурожайности не смог выполнить полностью хлебозаготовок, за что был осужден на 1,5 года лишения свободы, но кассационная жалоба отменила лишение свободы и перевела непринудительную работу на год, которую отбыл. В 1931 году у меня была изъята лошадь, 1 нетель и мелкий скот. По моему заявлению районная комиссия и с/совет установили меня в правах середняка.
В настоящее время 12 марта 1933 года организован колхоз «Путь партизана», в который я внес оставшуюся лошадь, весь инвентарь и молотильную машину, полностью засыпал план весеннего сева и проработал до 20 июля... Задания хлебозаготовок выполнил 21 центнер, денежные налоги и все задания с/совета выполнял в сроки.
19 июля по указу о числе колхоза меня провели в кулаки и сельсовет произвел опись имущества и подписал денежный налог в сумме 4803 руб. 11 коп.
У меня 9 душ, раб. рук 2, отцу 95 лет, жена 50% инвалидка физического труда, сын 17 лет, сын 12 лет, сын 6 лет, сын 2 месяца... Прошу не оставить моего мелкого семейства погибнуть голодной смертью и беспризорным юношам».
Такое в общем-то сдержанное письмо. Через полгода Мельников получил бумажку: «Ваше имя из кулацких исключено и признано трудовым. Председатель райисполкома Петров, секретарь райисполкома Никулин». Это все, чего добился проситель, – бумажки.
А вот Бадар, где позже председательствовал недолго Николай Карпович Царев и где родился нынешний председатель колхоза имени Кирова Петр Царев. Жанр документа тот же – эпистолярный:
«Москва, Красная площадь. От Карнаухова Николая Емельяновича, Нижнеманутского сельсовета Тулунского района, село Бадар... Я был взят в Красную Армию в 1929 году. Служил в 1-м Дальневосточном артполку орудийным наводчиком, прослужил 10 месяцев, а потом дома отца обложили индивидуальным обложением, меня вдруг из армии уволили и зачислили в тыловое ополчение, потому что раздельного акта у меня с отцом не было и поэтому меня решили голосом, но я в 1930 году уехал от отца на производство и работал там по настоящее время. С отцом никаких связей не имею, живу самостоятельно, имею жену Варвару Александровну, сына 4-х лет, второго сына 11 месяцев...»
Через месяц молодой Карнаухов получил письмо из райисполкома: «По документам и спискам райфо ни отца, ни вас в числе кулацких хозяйств по вашему сельсовету нет. Саушкин, Никулин». Видимо, обиженный орудийный наводчик был удовлетворен и таким исходом, ибо в бумагах архива нет более никаких жалоб.
А вот Новый Бурбун. «Рассмотрев материалы раскулаченного хозяйства Оводнева Н.Я., считаем по существу это правильным, но учитывая преклонный возраст Оводнева (80 лет), а также и то, что на его иждивении находится внучонок, оставшийся от убитого сына во время восстания против белых, работавшего в качестве начальника штаба, предлагаю Вам возвратить дом или предоставить другое жилище и обсудить вопрос о возможности привлечения его и внука в колхоз. Об исполнении сообщите нам к 20/VII с. г. Замзав Бюро жалоб комиссий советского контроля при Совете Народных Комиссаров Союза ССР Киселев, контролер Семенов. 22 июня 1934 года №Д-20-56».
Снова Перфилово. На сей раз жалоба от исключительно добросовестного хлебороба, который всерьез внял призыву улучшать культуру земледелия, вести его по-научному. Послушайте: «В перевыборную кампанию 1927 года я сельской избирательной комиссией лишен избирательных прав со всем семейством, как держащий одного годового рабочего. Это решение комиссии считаю в корне неправильным по следующим мотивам:
1. Я не эксплуататор, никогда не делал кабальных сделок и наемной силой стал пользоваться недавно по необходимости.
2. Мое семейное положение таково, что только 3 человека трудоспособных, а остальные 8 дети и старые.
3. Я не даю своих машин в эксплуатацию, а только держу для собственного хозяйства.
4. Показательное хозяйство я первый во всем Совете организовал и веду опыты, что отнимает у меня все время.
5. Я первый завел пчел (это у нас редкость)[54] и пропагандирую это дело.
6. Симментальский рогатый скот вырастил с большим трудом уже после революции, и теперь многие соседи улучшают породу скота.
7. Породистых лошадей завел первым в деревне, а теперь есть у соседей, т. к. держу племенных жеребцов.
8. На с. х. выставках премировался как хозяин культурник. В прошлом году получил «борону Зигзаг» и селекционные семена (в качестве премии).
9. При моей малограмотности все опыты по улучшению хозяйства отнимают много времени, поэтому я держу одного рабочего. Лишение прав на меня подействовало крайне тяжело. До сих пор я считал, думал, надеялся увидеть плоды своей работы не только у себя, но и у соседей, а теперь меня отнесли в лагерь врагов Советской власти.
Прошу Вас провести расследование, т. к. ходатайство перед местным прокурором оказалось безрезультатным, и восстановить меня и мое семейство в правах голоса.
Прилагаю удостоверение № 566 от 4/IV.27 года. Орлов Сергей».
Дочитаем и удостоверение.
«Выдано предъявителю сего гр-ну села Перфилова Орлову Сергею Наумовичу 53 лет в том, что он действительно имеет в селе Перфилово свое сельское хозяйство.
Имущественное положение Орлова следующее:1 дом с надворными постройками, рабочих лошадей 6 голов, жеребят по году 2 головы, дойных коров 5 голов, нетель 1 голова, овец 1 голова, свиней 6 голов. Посеву имеется 26 десятин.
Сельхозмашин: самосбросов, сенокосилок 1, конные грабли 1, молотилки 1, веялок – 1; кроме изложенного гр. Орлов имеет 4 цевов рамчатых.
Семейное положение Орлова: жена Мария 51 год, брат Андриан 35 лет, его жена Арина 27 лет, его дети: Евгения 16 лет, Александра 14 лет, Иван 12 лет, Анна 5 лет, Татьяна 7 лет, Анатолий 9 лет, мать Мария 89 лет.
В данном хозяйстве проводятся культурные начинания и улучшения, как-то: построены теплые скотные дворы с датскими кормушками. Имеется породистый рогатый скот симменталы.
Лошади тоже породистые. Проводилось травосеяние.
Данное хозяйство имеет одного годового рабочего, что сельсовет и удостоверяет».
В письме, адресованном РИКу, сельсовет сообщает:
«Посев ржи – 4 десятины, пшеницы – 8,75 десятины, овса – 5 десятин, ячменя – 1 десятина, гречихи – 0,25 десятины, картофеля – 0,30 дес, конопля – 1,12 дес, зелени– 3 десятины, огурцов... (непонятно)...
Наемный труд применялся для обработки посевной площади, каковую личным трудом своих трудоспособных членов семьи обработать гражданин Орлов не мог. Лишен избирательных прав гр-н Орлов был за эксплуатацию постоянного наемного труда.»
Секретарь Вишневская
Наконец, еще заглянем в Шерагул, коль Архив предоставляет такую возможность. Правда, сюжет этого письма уводит нас далеко в 30-е годы, но начало всему именно тридцатый год.
«Мой муж Максим Максимович Домашенко середняк, семейное положение жена и трое малолетних детей, поступил в артель колхоза „Новый быт“ Каразейского сельсовета Куйтунского района, где и работал до 1933 года, в этом же году был вычищен с колхоза по неизвестным причинам на почве личных счетов, подведен под индивидуальное обложение и лишен прав голоса. В 1933 году осужден на 5 лет лишения свободы с конфискацией необщественного имущества. Находясь в срочном заключении, мой муж Домашенко умер в городе Тулуне в райбольнице.
Причем необщественного имущества изъято – корова, две свиньи, весь картофель. Заработанный хлеб на трудодень не выдали ни одного килограмма. Я осталась на произвол судьбы голодной смерти с детьми... При этом прикладываю свидетельство о смерти мужа. Все оправданные документы на мужа находятся в крайсуде».
«Свидетельство о смерти 9 ноября 1933 года.
Выдано о том, что Домашенко Максим Максимович умер в 1933 году 30 числа октября месяца, о чем в книге записей актов гражданского состояния о смерти 2 ноября 1933 года произведена соответствующая запись.
Место смерти: Тулун, больница.
Возраст и причина смерти: 31 год. Воспаление головных мозгов».
Читаем еще. Письмо председателя Тулунского райисполкома Петрова (кажется, это уже третий или четвертый предрика за 3 года) и все того же секретаря РИКа Никулина Шерагульскому сельсовету: «Ни в списках лишенцев, ни в списках кулаков по линии Райфо хозяйство Домашенко Максима Максимовича нет. Однако жена Домашенко Ольга Карловна возбудила ходатайство перед крайисполкомом о восстановлении ее в избирательных правах (муж умер). С возвращением прилагаемого заявления сообщите РИКу, был ли подведен и когда именно Домашенко под категорию кулаков и лишен ли он и его жена избирательного нрава.
В утвердительном случае почему не было представлено сельсоветом в Райфо никакого материала о признании хозяйства кулацким».
Ответ из Шерагула:
«На Ваше отношение от 23/VI.34 # 10-8 Шерагульский сельсовет сообщает, что хозяйство Домашенко Максима Максимовича в кулаках не числится, числится как зажиточное крестьянское. Хозяйство распродано за невыполнение хлебозаготовок 26/VI.34 г.» – то есть через полгода после смерти единственного кормильца семьи.
Поверх этого письма председатель райисполкома Петров наложил резолюцию: «О.К.Домашенко объяснено и выдана справка...»
Глава седьмая Надо жить дальше
Раньше, рассказывая о тулунских событиях 20-х годов, упомянул я, как горячо протестовали мужики-активисты против «дерзкого вызова англичан», они клялись дать отпор против всяких покушений на рабоче-крестьянскую страну. И вот покушения начались, застонала обширная земля – уезд за уездом, но нигде не прорвался наружу гнев, нигде уголья не разгорелись в пламя, спалившее бы обидчиков.
И читатель вправе усомниться: что за кроткие дети крестьяне? Или автор, сам бесхребетный, нарочно рисует их непротивленцами? Не может быть, чтоб мужики не пытались оборонить себя от произвола...
Но припомните – обороняли, как умели: в период продразверстки даже оружие брали в руки, а после обучались ненасильственным методам – писали письма (архивы в стране забиты миллионами их писем, правда, доступ к ним ограничен), выходили из артелей, бежали в леса, как кардойцы, или даже решались на жертвенный уход из жизни. Мало этого? А другое и не придумаешь...
Когда уже была закончена работа над этой рукописью, я дал ее почитать одному грамотному человеку, и он посожалел, что я не обратился к давнишнему опыту местной борьбы крестьян за поруганное достоинство. Упрекнул он меня в некоем полуутаивании крестьянской правды. Не мятежные Яик и Дон имел он в виду; и задним числом решился я вставить местный материал – авось ляжет в строку.
Оказывается, сибирское пашенное крестьянство умело миром оборонить себя. Викентий Николаевич Шерстобоев в книге «Илимская пашня», снискавшей лучшую славу сибирской школе историков, предваряет капитальное исследование такими словами о классе крестьян: «Предлагаемая работа построена на понимании процессов развития пашенного дела, как частицы истории русского крестьянства – главного носителя нашей государственности, культуры и национальности на протяжении многих веков»[55].
Именно так у Шерстобоева – главный носитель...
Хочу взять пример из Шерстобоева еще и потому, что тулунские земли северным крылом граничили некогда с бывшим Илимским воеводством. Трудно придумать пример, более близкий в прямом смысле слова.
Глава IV: Общественная жизнь крестьянства. В этой главе Шерстобоев исследует социальную природу сибирского землепашца.
«Десятские и старосты, – пишет историк, – не всегда годились в защитники крестьянских прав... особенно на выезде. Вот почему во всех важных случаях крестьяне обращались к выбору мирских челобитчиков»[56].
Увы, герои «Старых колодцев» разучились посылать в Москву или хотя бы в Иркутск своих представителей и этим чрезвычайно занизили уровень гласности, и без того теснимой. Конечно, эта форма самозащиты носила частичный характер, а все ж! Впрочем, и раньше крестьянское самоуправление «касалось, по существу, лишь вопросов урегулирования повинностей. Но воевода вынужден был считаться с мнением крестьянского мира, т. е. с коллективными решениями крестьян подчиненных ему волостей. Были случаи, когда решения воевод отменялись Москвой по ходатайствам волостей. Мир защищал одних приказчиков и добивался смены других»[57]. Так было в 20-х годах 18-го века. За два столетия до описываемых нами событий!
В Чечуйской волости крестьяне подняли голос против приказчика Курбатова, тот занимался вымогательством и притеснением мужиков. Курбатова вызвали в волость на разговор, он отпирался. Тогда крестьяне отправили письменную жалобу в Иркутск. Но у Курбатова, видимо, имелась сильная рука. «24 марта 1727 года Григорий Курбатов является в Чечуйский острог, подает подчиненному комиссару, т. е. приказчику волости, Василию Сенотрусову послушный указ и читает при собравшихся крестьянах и служащих людях в земской (т. е. судной) избе указ о своем назначении (управлять волостью)»[58] – вот так поворот событий!
Сам зарвавшийся Курбатов признался, что, «выслушав ея императорского величества указ, оные крестьяне в той земской избе скрычали неоднократно, вельми громко... А именно громко крычали (назвал в доносе 16 имен) и все Чечуйские волости пашенные крестьяне»[59].
Собирается второе объемистое дело и направляется в начале июля в Иркутск уже против крестьян. А Иркутск, по другой, так сказать, линии, продолжал требовать высылки Курбатова на Ангару и угрожал илимскому воеводе штрафом.
Главных противников Курбатова и его самого отослали в Иркутск, скоро пришло сообщение – обидчик крестьян не будет подчиненным комиссаром.
И еще пример, самый что ни на есть актуальный – по налогам: оказывается, как и в описываемую мной пору, но только двести лет ранее ее, «налоговое законодательство было настолько сложно, что вряд ли во всей России нашелся бы человек, твердо и безупречно разбиравшийся во всей паутине налогов, особенно в применении их в отдельных местностях страны. Крестьяне Илимского воеводства с момента создания его платили хлебом, затем были введены денежные сборы... Где-то крестьяне Яндинского острога вычитали из одного указа Петра, изданного в 1724 году: „Кто сверх подушных денег что станет требовать лишнее, то... за оное преступление учинена будет смертная казнь или сосланы будут вечно на галеры с наказанием с вырыванием ноздрей и лишением всего имения...“ Яндинские крестьяне посылают в Иркутск выборного челобитчика пашенного крестьянина Павла Москалева и в заявлении ссылаются на приведенное выше место из указа Петра I: мы платим-де подушные, но с нас еще берут хлеб, поступают, значит, против указа.
И что бы вы думали – в Иркутске согласились с доводами крестьян. Постановлено было вернуть взятое сверх подушных сборов. Но хлеб вернуть невозможно, так как он сплавлен в Якутск, подушные сборы вернуть нельзя, так как они высланы в Москву. Тогда Иркутская провинциальная земская контора находит следующий выход – она предлагает без проволочек Татаринову (Петру, илимскому воеводе) вернуть за взятый хлеб деньгами из местных сборов, в основном от продажи вина.
Это, вероятно, неповторимый в истории налогов счастливый случай. Воевода предлагает таможенному голове дать справку – по какой цене покупалась рожь в Илимске на винное курение. Голова отвечает, что рожь покупалась по 7 и 8 копеек пуд. Воевода требует справку из приказной избы – сколько было взято в государственную казну хлеба с яндинских крестьян – и быстро получает требующиеся сведения. Далее производится подсчет суммы, и воевода Татаринов велит выдать крестьянскому челобитчику Павлу Москалеву «деньгами за каждый пуд по настоящей средней цене... по осем копеек...»
Мы-то с вами, читатель, полагаем – сейчас выпишут справочку мужикам, и будьте довольны, так ведь? Нет, прибыл уполномоченный крестьянин с денежками домой, то-то радости было. «Все дело было решено быстро – челобитная в Иркутск подана 22 июня 1726 года, деньги в Илимске получены 28 июля»[60].
Подчас крестьяне в своих челобитных делали весьма обидные замечания в адрес местного начальства (того же воеводы), и начальство терпело, не взрывалось, не становилось – как горожане говорят – в позу, ибо знало: лучше мир с миром, нежели война.
Но не только тихими средствами отстаивали сибирские крестьяне свои права. Бывало – в рост поднимались, брали в руки оружие. В конце 17-го столетия крестьяне Братского уезда подняли восстание, требуя изгнания приказчика Кафтырева. Петровская администрация не посмела поднять руку на крестьян, а Кафтырев схлопотал наказание – азиатское, разумеется: был он бит кнутом и сослан в рядовые казаки.
Тут ни убавить, ни прибавить, и иначе, полагаю, и не могло быть: утеснения рождали жалобы и протест, протест влек за собой государственное насилие, и мало кто из обиженных бывал удовлетворен.
В свое время князь, а потом революционер-анархист Петр Алексеевич Кропоткин, долго наблюдая сибиряков, пришел к выводу, что «для народа решительно невозможно сделать ничего полезного при помощи административной машины. С этой иллюзией я распростился навсегда»[61].
Вольно князю так рассуждать – а сибирякам жить надобно было, сосуществуя с «административной машиной».
Помнится, позже левые эсеры упрекали большевиков в насаждении социалистической доктрины, и Ленин ответил им публично с трибуны Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета:
– Социализм не создается по указам сверху. Его духу чужд казенно-бюрократический автоматизм: социализм живой, творческий есть создание самих народных масс[62].
О прекраснодушный Ильич!
Кстати, после Октября Ленин имел долгую беседу с апостолом русского анархизма, суть беседы досконально не известна, но понятно, о чем они могли говорить, – о самостоятельности трудящихся масс.
В 1917 году мы на весь мир громыхнули о праве масс на самоуправление, и вот – пример тулунской землицы, возможность наблюдать, как оно пошло на Руси, поехало.
Дело доходило до курьезов. С одной стороны, жесточайшие казенно-бюрократические акты, с другой – трогательные сцены единения не токмо с трудящимися, но и с их детьми. Уникальное свидетельство, подаренное все тем же неисчерпаемым колодцем, сейчас я приведу.
«Протокол заседания детской конференции, состоявшейся 8 января 1929 года под председательством Татаринова Петра и секретаря Мордович.
Присутствовали ученики Заусаевской школы 120 человек и представители от Кандырика (правильно – Кандарика) и Половины. Повестка
1. Отчет (!?!) сельского Совета о его работе.
2. Участие детей в предвыборной кампании.
3. Разное».
Ниже вместо протокола (протокола в Архиве не оказалось) конференции приведены вопросы ребят.
«Вопросы детей: Почему уходят из коллектива? Почему лишают голоса? Сколько семейств может войти в коллектив? Могут ли родственники объединяться в коллектив?
Почему Милковский[63] сказал, что лишено 35 человек, а лишено 90 человек? Зачем надо сводиться в коллектив? Сколько надо в коллективе машин? Сколько коллективу полагается машин? Почему зажиточные не идут в коллектив? Почему у зажиточных отбирают хлеб? Дается ли земля вышедшим из коллектива? Сколько всего организовано Красных обозов в 27/28 годах? Почему бедняку помогают?..»
Устами младенца глаголет истина. Девяносто лишенцев на 130 дворов в Заусаеве – непоправимая правда о времени. Лишенцев-то девяносто, а драм и катастроф в десять раз больше...
Но так ли уж и плохо, что мужик не озлобился на советскую власть, как злились илимские крестьяне на царскую, а страдал молча? И есть ли объяснение безмолвствованию народа (письма – не в счет, наверное)? А оно уже сказано мною – своя власть принялась ломать мужика через колено, не дворянская, не белокняжеская.
Впрочем, своя ли?
Я листал газеты той поры. Бесполезно оказалось искать следы драм в прессе – только отголоски слышны были: из номера в номер краевые и союзные газеты призывали «ударить по кулаку», «не давать пощады»...
18 октября 1930 года вышел первый номер газеты «За коллективизацию», объявлено – «Крестьянская газета». О чем же писали авторы первого номера газеты? Да о чуждом писали. «Выжечь оппортунизм в налоговой работе»... «Качугский суд гладит по головке вредителей»... «Бьем ставку кулака»... «В колхозе „Октябрь“ неблагополучно»... «Сбор семенных фондов идет более чем скверно»...
Развязный тон надзирателей над деревней не изменился в этой «крестьянской» газете и далее.
«Зерноочистка идет из рук вон плохо»...
«Указать прокуратуре и суду на недостаточные меры, принимаемые ими по привлечению к ответственности злостных несдатчиков хлеба»...
«Тракторист-комсомолец Тумуров открыто саботирует».
«Сделать упор на единоличный сектор»...
Ортодоксальная позиция газеты «За коллективизацию» родилась не самозванно. Сталин в статье «Головокружение от успехов» декретировал: «Задача нашей прессы: систематически разоблачать эти и подобные им антиленинские настроения»[64].
Правда, как часто у Сталина, фраза эта закамуфлирована и имеет двойной смысл, будто бы еще и призывающий опричников опомниться от «головотяпства»...
А жить мужику надо было и дальше. Мало ли что писали газеты и говорила Москва, смысл жизни оставался неизменным – бабы беременели и рожали детей, дети требовали молока и ласки, пашня-кормилица, теперь уже не своя, но и не чужая, призывала земледельца по весне и будто признавалась, что и она, как ребенок, погибнет без обихода.
Ефросинья Михайловна Шолохова-Жоголева рассказывает, как после испуга, опомнившись, начали Жоголевы хлеб сеять на колхозных полях и сообща прополку вели.
Первое колхозное лето по заказу стояло, с дождиками в ночные часы; когда пришло время сбирать урожай, новоявленные колхознички были удивлены – пшеница уродила на общественном поле не хуже, чем на своем, бывшем своем.
Затаившись, ждали Жоголевы, как вырешат в правлении, сколько начислят за выхода. К тридцать третьему году уже появились нормы; неустойчивые, год от году они шатались, но все равно – нормы, по рассказам, такие:
Афанасьевцы и заусаевцы приводит на память такие нормы, не названные в Евгеньевке (см. вторую таблицу).
Нормирование коллективного труда оказалось сложной задачей, а без правильного нормирования работа колхоза не поддавалась учету.
Сказать по чести, сибиряки ранее редко когда умели наладить учет в личном хозяйстве. Даже у лауреата Иннокентия Лыткина записей не водилось, на память брал. И в наших селах я встретил лишь один рассказ, в котором мужик карандашом рассчитывал в тетрадке год, начиная с зимы, с вывоза навоза на поля.
От нормирования – дорожка к планированию. Планировать приходилось все: запасы зерна и фуража, будущую посевную и будущую сдачу хлеба государству. Учились мужики прикидку по инвентарю делать – хватит ли кос косарям, исправны ли грабли и в том ли количестве, достанет ли керосину на зимние долгие вечера, когда мужики – в лес по дрова, а бабы прясть и ткать станут? Мудреная задача решалась сообща, долгим сидением в прокуренном правлении.
В нормах, которые я записывал по деревням, есть разнобой, легко объяснимый: единого для климатического пояса справочника поначалу не было, и колхозные вожаки прикидывали на глазок, отталкиваясь от местного опыта, своего или соседского.
Но самым сложным оказалось точно заверстать на какую-нибудь операцию людей: не беда, мало народу придет на свеклу, но беда – много, колготиться станут, а не сознаются в тесноте. А исполнение дела всем пиши. Иль вот как пацанов писать? Они вроде и вполсилы работают, но на бороновании или на прополке проворные их руки незаменимы. Так, например, у Жоголевых после вступления в колхоз кроме матери шли в ноле сыновья-подростки, бежала маломощная девчонка Фрося. Даже младшенький Санька не бездельничал – по дому, правда, работал: свиньям траву рвал, морковку полол под окнами, двор сторожил.
С началом колхозов, по многочисленным свидетельствам, началась нескончаемая череда воровских набегов: тащили муку из амбаров общественных и частных.
Раньше невозможно представить, чтобы поднялась рука на чужое добро. А тут сноровка цыганская явилась: ночью обуют в лапти корову и уведут, а свинье поднесут мешочек с мукой – она ткнется рылом-то, мешок ловко так накинут на голову, мигом задохнется свинья, ее приколют, и в сани – и были таковы.
В Натке, бедная Натка быстрее всех сбилась с пути, семьями промышляли воровством: от тока тянется ночью вереница – отец несет полный куль, дорогу торит в потемках, следом полкуля жена тащит, а следом дети, по возрасту и силе у каждого тара заготовлена...
Вернемся к прекрасным труженикам Жоголевым. В то первое колхозное лето нормировщики промахнулись и насчитали по 8 килограммов на день.
Пока, однако, не развезли по дворам, все мерещилось: не дадут заработанного. И вот в кулях Фросины братья повезли рожь и пшеницу, засыпали полные закрома в амбаре. Картошкой забили подполье и яму на огороде. День прошел, кличут мать в правление, она с испугу простоволосая бежит.
– Ошиблись, Митрофановна, – говорят, и мать побледнела. А Фаддей Краснощеков, это он уводил жоголевских коней на общий двор, тяжелой рукой по плечу ударил: «Не боись, придется еще принять кое-чего».
И привозят к Жоголевым еще два огромных короба картошки, а ее сыпать-то некуда, сгрузили у амбара. Начались морозы, померзла картошка, кормили ею скот.
Зима настала – велели правленцы бабам вязать носки и рукавицы, выносить на Тулунский рынок, чтоб мелкие деньги в колхозной кассе не переводились.
В общем, подфартило – первый год нестрашный оказался. И хотя потом раз за разом, осень за осенью, становилось тяжельше, трудное примирение с новой явью состоялось.
А что же с Филиппом Андреевичем Жигачевым было в ту пору? Он жил в Тулуне, горевал без гармошки. Плотничал на элеваторе. Однажды встретил односельчан, они говорят:
– Не вольно живем, но хлеб жуем, отнята честь – а дом есть, – поговорку запомнил памятливый Жигачев.
«Возвертайся». Нет, не хотел он возвертаться, чтоб чужим оказаться. Но следом Гультяев приехал, специально уговорить. И уговорил: «С твоим умом и характером быть тебе правой рукой у председателя».
Ульяна, жена, взяла в оборот Филиппа Андреевича: «Надоело по чужим углам мотаться. Вернемся!» Собрали на телегу скарб, поехали в деревню. Жигачева скоро сделали бригадиром, а позже и замом председателя (это когда «13 октябрей» стали именоваться колхозом имени Молотова).
Скоро Жигачев с товарищами понял, что приписан отныне навечно к колхозу, ибо в 1934 году правительство ввело паспортную систему, остановив крайним способом миграцию населения. Правда, крестьянам, или, по-другому, колхозникам, паспорта как раз и не достались. Не велико горе, кажись, но таким простым способом многомиллионные массы были окончательно закреплены не двигаться с места на место.
Одновременно государственные институты продумывали и упорядочивали систему налогов. В Афанасьеве, в Никитаеве и в Евгеньевке я записал столбиком, какие были налоги в 30-х годах. Разнобоя не обнаружил. Со двора брали:
мяса – 50 кг,
масла – 10 кг,
шерсти – 5 кг,
яиц – 100 штук,
картофеля – 5 центнеров,
брынзы – 700 граммов от 1 овцы.
Эти цифры затвердились со временем, а начиналось с других цифр. Брали по: 5 кг мяса, 3 кг масла топленого (после 5, 7, наконец 10 кг 200 гр), 30 шт. яиц. Возрос подоходный налог с приусадебного участка, поднявшись до 80 рублей с 80 соток.
Эти налоги, подскочив, перекочевали и в следующее десятилетие. Масла стали брать до 20 кг, молока до 200 литров и мяса до 31 кг. Мясо можно было сдать кроличье или индюшачье, но тогда за 1 кг засчитывали 800 граммов.
Так мне поведала Наталья Федоровна, жена Михаила Петровича Непомнящих. Она же, не моргнув глазом, сказала, что на заем подписывались не силком, но принудительно. Я переспросил и получил перевернутый, но тот же ответ: «принудительно, но не силком». Это означает – в суд не тащили, в тюрьму не сажали, но приусадебный участок отрезать могли и отрезали. Тогда же начались и штрафы – скашивали число трудодней. Лошадь захромала – штраф, седелку утерял – штраф. Диковинные порядки для крестьянина начались.
Каждый квартал райфо через уполномоченных беспокоило селян. Уполномоченные бывали иной раз добрее своих, сельсоветских. Так, евгеньевского Реватова, председателя сельсовета, боялись как огня.
Угрозы, которые раньше слушали единоличники, посыпались теперь на колхозников: «Опишем скотину и продадим, раз налог не несете», – и описывали, и уводили скот. Мигом наши деревни вооружились... коромыслами: лошадей не стало, а автомобили тогда видели в кино лишь. Вот и научились на коромыслах носить продукты на районный рынок: яйца, чтоб не побить, присыпали опилками, а масло или табак – те не побьются и так в цинковом ведре.
Наторговывали раз за разом сумму и рассчитывались с государством. В Тулуне мигом родилось общество спекулянтов, перекупали сельхозпродукты и везли в Иркутск.
Впервые в 30-е годы начали в селах заготавливать помногу таежной ягоды и черемши, тоже несли в Тулун, выручали копейки...
Как ни странно – удаляясь от далеких теперь 20-х годов, мои собеседники тускнели на глазах, медлили с речью, трудно решаясь на особенные детали колхозного быта, плохо припоминали очевидное, например сколько и какого инвентаря насчитывалось в колхозе. По Евгеньевке я выудил с натугой – 40 плугов в колхозе имелось, жаток всего две, конных сеялок всего одна, косилка конная тоже одна. А коней евгеньевцы не разучились холить и в колхозе – 80 голов отборных лошадок было и 60 голов молодняка.
Зато оживление вызывал у стариков вопрос о председателях. Тут мигом слетала сонливость и начинался жаркий перечет:
– Погодь, погодь, он же бежал от нас или взяли его под арест? – приходилось мне выслушивать сложносюжетные рассказы о председателях.
Чтобы уж избавиться от Евгеньевки, ее и возьмем сейчас...
После своих Краснощекова и Гультяева прибыли руководить колхозом чужие. В этом сказалось поветрие, мода на посланцев рабочего класса началась, на матросов Давыдовых, которые в пашенные делах хотели бы разуметь, да опыта не имели.
В 1933 году районные власти прислали Григория Сурмалота, сурового мужика, но евгеньевцы отыскали путь к его доброте через самогон.
В 1935 году районные власти прислали из Бурдуна Антона Любочку, это было вроде насмешки над евгеньевскими мужиками – Любочке исполнилось восемнадцать лет, разум имелся у парня, а характера, конечно, не сложилось. Надует губы, сердится юный председатель, но никто не слушается его.
В 1936 году евгеньевцы выбрали своего Федора Асаенка, но району он не понравился, и прислали из совхоза «Сибиряк» Николая Мукштанова.
Тут вызрел сын Фаддея Краснощекова – Иван, ухватистый, весь в дядю Максима, сгинувшего под Туруханском. Иван со стариками не сладил, пытался ровесников расставить на все командные должности, и старики провели в председатели «своего» – Мирона Кирилловича Башуна. У последних трех в замах ходил Жигачев. Жигачев был властным человеком, его самого чуть не заверстали в главные, но каждый раз Жигачев находил вескую причину – «вмиг поругаюсь с райисполкомом, вам же, мужики, хужее будет», – отставка удавалась.
Ну, а дальше – дальше 40-е. Чтобы после не петлять в громоздком моем рукописном хозяйстве, договорю: в войну все мужики, старые ветераны 1914 года, и молодые, и средние, ушли на фронт, и прислали какого-то Похирку, но имени этого никто толком из оставшихся свидетелей не помнит, лишь говорят, что попал потом Похирка в тюрьму.
После войны, с 45-го года по 51-й год, заправлял присланный райкомом Климентий Шельменок.
В 1951 году колхоз имени Молотова и колхоз имени Кирова слились, столицей оказалось Заусаево. А председателем стал возмужавший сын афанасьевца Иллариона Белова – Николай, но он «крупно разошелся с секретарем райкома», и в 1953 году прислали Георгия Степановича Автушенко... Далее бежать погодим, передохнем. Вернемся в 30-е годы.
В 1935 году, после образования машинно-тракторных станций, колхозные поля стали обрабатывать «фордзоны» и «универсалы». Директор Никитаевской МТС (она обслуживала и Евгеньевку с Наткой) Зверев стал еще одним присланным начальником над мужиками. Недолго они выбирали, кто главнее: председатель сельсовета Реватов, председатель колхоза безусый Любочка иль Зверев. Зверев подмял хозяев и установил «пролетарскую диктатуру», как любил он фасонить.
Поначалу МТС только содержала технику, ремонтировала трактора и по весне как бы сдавала их в аренду колхозам, колхозы же натуроплатой (хлебом) расплачивались за эксплуатируемые машины. Но практика эта показалась сложной. Упростили: механизаторы во всех наших селах, живя дома, перешли в полное подчинение и подданство МТС, получали там и зарплату, и выговора. Хотели упростить, а влезли в еще большую чересполосицу. Путаница с годами усугублялась. Неизвестно было подчас, кто неформальный хозяин на земле, зато расплодилось формальных начальников, все норовили командовать, а мужик оказывался все больше посторонним к тому делу, ради которого родился и жил на селе.
Так, брат Романа Сидоровича Гнеденко – Дмитрий считался бригадиром Евгеньевской тракторной бригады (пять машин), но евгеньевским он перестал быть хоть с какого боку. Председатель велит, просит об одном – другое приказывает директор МТС. Правда, зимой Дмитрий Гнеденко неделями жил дома, помогал односельчанам вывозить лес и чувствовал себя вроде как дома. Но весной он снова оказывался командировочным в родном селе.
Вошел в силу институт уполномоченных. Однажды, наслушавшись про уполномоченных, я, грешным делом, подумал: вот иголочка, за которую потянуть умному и честному историку, так и вся нить потянется – жизнь председателей, до мелочей подотчетная чужому дядьке, и жизнь колхозников, получивших нового бурмистра, надсмотрщика. Старательно читал я толстенные монографии о победе колхозного строя в стране и в Сибири, но и в ученых трудах не встретил правдивого описания этой полумифической фигуры.
В Заусаеве, например, ни одной посевной или уборочной без уполномоченного не проходило. В обед полягут мужики покемарить у костра, хомут в головах пристроят, – уполномоченный, матюгаясь, отберет хомут, государственное добро, кричит, то есть общественное, колхозное... Не твое, одним словом.
Возразить ему – не смей!
В Афанасьево наезжал Бобровников, худой, в длинном пальто, очки кругленькие. Всю посевную ездит по полям в ходке. Возле сеялки остановит коня, заглянет в бункер с зерном и спросит: «Почто клин долго засеваете?» – отвечать надо подобострастно и обещать исправиться. А на уборочной Бобровников кидался: «Колосья-то чище подбирайте, бабы».
Тогдашний афанасьевский председатель Гаврилов, слушая эти окрики, скрипел зубами, но ни разу не взорвался.
Бобровников был неглуп и видел собственную несуразность, вечером, напившись горячего чаю, разомлев (жил он всегда у Гавриловых – на всем готовом, бесплатно столовался), говорил: «Ты, Николай Александрович, добрый человек, а добрым в колхозе быть нельзя. Поэтому дуешься ты на меня зря. Не я, так другой прибудет, похуже, может, Бобровникова... И не по своей воле мы сидим тут. Я бы вот домовничать хотел, а сижу у тебя, как бельмо в глазу», – и долго курил самокрутки.
Утром, едва пробрезжит, уполномоченный шумно плескался у рукомойника и снова ехал в поля. То ли ревизор, то ли начальник – разбери-пойми. Издалека увидят его женщины и ежатся, жмутся друг к дружке. А зоркий Бобровников с ходка узреет, что попкой вниз упала резанная надвое картошка, сойдет на грешную землю, ковырнет сапогом и молча уедет. Долго после женщинам холодно, не могут вслух говорить.
Досаждал Бобровников не одному Гаврилову. Кроме Гаврилова-то председателей в 30-х годах было у афанасьевцев навалом: и Долгих, и Илларион Белов, и Панкратов, и Овсянников, и Мария Белова, бывшая замужем за Данилой Беловым, сам Данило-то кузнецом работал. Заодно приведу неполный список председателей в Никитаеве: Тимофей Распопин и Духович, чужой, Гаврила Екимов, чужой же, и Середа, тоже приезжий, и Кубрецов, посторонний, и Михленко, присланный, Ломакин (свой), и Умаров (свой), и Игнатенко – из Воронежа переселенец.
Не обойдем и Заусаево: остались в памяти стариков имена – Поликарп Савенков, Иван Денисов, сын Прохора (но эти оба ходили недолго в председателях коммуны); и Богданов, и Федор Ковалев, и Яков Анохин...
О председателях – сказ особый, закончим об уполномоченных. Не хотел я брать в свидетели минувшего Ивана Петровича Князькина, из позднеприезжих он, из Чувашии. Но, оказывается, и в Чувашии уполномоченные не давали мужикам спуску. Одного, по фамилии Нестеров, хорошо запомнил Князькин. Любил Нестеров собрать народ и рассказать про всякие события, но следом – через мировую обстановку – перейдет к делам колхозным и тут отыщет классовых врагов, и контру, и волков в овечьей шкуре, собрание оцепенеет, каждый, затаившись, припоминает: «Грабли-то на деляне оставил прошлую весну, быть и мне во врагах». «Страху нагонит, о-ей», – смеясь нынче, говорит Князькин. В Заусаеве привык себя хозяином считать некий Кобзев. На редких гулянках ему, а не председателю первую рюмку подносили.
Кобзев вставал в Заусаеве раньше всех и ложился спать позже всех.
Бывало, женщины проколготятся поутру, прибегут к конторе на полчаса позже, Кобзев велит бригадиру: «Этой не записывай выход». Так мне сорок лет спустя рассказывала о Кобзеве Елена Николаевна Дьячкова.
После еще устрожилось. Уполномоченные райисполкома сменились уполномоченными райкома партии, партийцы ездили с кобурой и стучали наганом по столу. В 1938 году бригадиром в Никитаеве был родной брат нынешнего бригадира Сергея Александровича Желтобрюха. Плановую сдачу бригада завершила, потребовали из райкома сверхплановой, бригадир уперся. Явился уполномоченный, достал оружие из кобуры, положил на стол и спросил, поигрывая ногой: «Так кто в Никитаеве соскучился по лагерю?» – намедни восьмерых взяли. И Желтобрюх-старший мигом согласился сдать сверх нормы пшеницу, рожь, овес[65].
Сохранилась фамилия Овсянникова, уполномоченного по Никитаеву; Овсянников ночевал у Ломакиных, а потом у Игнатенков и как тень следовал за председателями.
Сказав суровое слово, следует и участливым словом помянуть горемык уполномоченных: почти все они за совесть и за страх делали то дело, к которому их приставили не по собственному хотению.
Попробуем, однако, отойти от остроугольных вопросов колхозного бытия и взглянуть пошире на 30-е годы, на ту жизнь, которая шла переменчиво и шатко, но постепенно затвердилась.
Первая строка – о Николае Александровиче Гаврилове. Жаль, конечно, что не застал я его в живых, но общий хор афанасьевцев нарисовал образ пусть не апостольский, но настолько удивительный, что я диву даюсь – мог ли он, земной Гаврилов, быть столь добрым и отзывчивым как раз в годы ужесточенных схваток и злобы друг на друга.
У Гаврилова кличка была Барма, пошла она от манеры его плохому оценку вывести: «Барма» – никудышно, мол, худо, из рук вон. Афанасьевцы вообще мастера клички давать. У Михаила Петровича Непомнящих второе законное имя Лепешин, а у Семенова Алексея Ивановича – он женат на приемной дочери Гаврилова – Леха Моргач... Или был такой Сизарь, вовсе не голубиного характера мужик. И Пшенов был... Фамилии иногда забывались, а прозвища – нет.
Гаврилов Николай Александрович по приезде в Афанасьеве ходил в солдатской рубахе, очень смущала эта военная рубаха односельчан. И молчание Гаврилова – непробивное, застойное – тоже плодило антипатию. Бобровников в штатском, блестя очечками, наорет – тут все ясно, хотя после его крика дрожат руки и не проворят работу. А председатель все молчит да молчит. Но скоро зоркие глаза деревенских приметили, какие округлые и добрые черты лица у Гаврилова и как он тихо беседует с отъявленными крикунами: те наскакивают на него, а он увещевает. После уполномоченного Гаврилов, нe отменяя его указов, вел дело совсем по-другому: не выслеживал, не ругал, не корил. Может, он просто понял, что довольно надзирательских глаз тулунского посланца? Может быть...
Однажды прибыла переселенческая семья, ободранная и голодная. Гаврилов велел женщинам принести немедленно в контору еды; пока они бегали, Гаврилов снял с себя гимнастерку и сидел в чистой исподней рубахе. Афанасьевцы прибегли назад (у кого хлеба горбушка, у кого соленые огурцы) и ничего понять не могут: новенький сидит в гавриловской гимнастерке, а председатель в нательном...
Позже еще было – отдал погорельцу новые сапоги Гаврилов и босиком пришел домой.
Явь эта, становясь легендарной, дошла и до Тулуна, там стали смотреть на Гаврилова как на блаженного, скоро отыскали придирки («контроль за народом слабый держит») и освободили. Гаврилов работал полеводом, потом ветфельдшером, но ни на грамм не переменился: был тих, немногословен, от работы не бегал и жене отлынивать не позволял. Еще в пору председательствования он велел Аграфене Осиповне не помышлять о послаблении, больше того, сказал: «Супруга деревенского начальника должна трудиться пуще рядовых», – она, родимая, и пласталась то в поле, то на ферме! Зато уважение к Гавриловым сложилось на селе необоримостойкое, а от них перешло к дочери приемной Евдокии и к Лехе Моргачу. Евдокия и Леха Моргач и сами заслужили почет, исправно работая на любой работе.
Гаврилов любил в отсутствие Бобровникова наведаться в Маврино, на заимку. Там основались крепкие мужики, сбили артель под руководством Василия Васильевича Зарубина и зажили по-семейному. По малости той артели («2-я пятилетка» – нарекли ее) не положено было ей иметь постоянного надзирателя из района, получалось, жили мавринцы вольготнее афанасьевцев, почему Гаврилов, запрягая мерина в ходок, пивал частенько квас у Зарубина.
Не только Зарубин мне о том рассказывал (мы уж бывали в гостях у него– помните в его избе рассказ про лен?), но и Иван Дмитриевич Татарников. Тот и другой отменные молчуны, мне пришлось потратить немало усилий, прежде чем они заговорили о делах общественных. Как я и догадывался, Зарубин и Татарников бежали на заимку в 30-м году. У Ивана Татарникова потрясли отца в Никитаеве, все отобрали, и избу, в той избе нынче почта и квартира почтальонши. А Зарубин загодя отделился от отца-лишенца и, не дожидаясь беды, перебрался в Маврино, немедленно основал артель – это был единственный способ уцелеть. Сохранилось трогательное свидетельство их начала:
«Вторая пятилетка» на 20 января 1934 года. Состоит дворов, семей и одиноких вместе, числом тринадцать. В них трудоспособных числом двадцать два. Вступило в колхоз дворов 1 (один). Вышло 3 (три). Земли 70 десятин, коней 20, коров 20, свиней 30. Построили обчими силами скотный двор». И подпись – детская, ясная: «Зарубин».
Гаврилова быстро спихнули с председательского поста, а Зарубин шесть лет командовал в Маврине. Но в пору репрессий, приобретших массовый характер, что-то случилось с Василием Васильевичем, он всеми неправдами вымолил паспорт и бежал на прииски, в Бодайбо; но мне об этом сам не пожелал рассказать. После Зарубина стал вожаком в артели Татарников, но вскоре «Вторую пятилетку» слили с колхозом имени Семена Зарубина.
Любопытно, как в крохотном Маврине мужики решили вопрос о зимней прибыли: по договору нанимались возить на санях грузы из Нижнеудинска в Бирюсу – лес, мороженую рыбу, муку, говядину. Прибыль явилась ощутимая. В Маврине впервые в наших деревнях начали красить полы – из жибрея получали олифу; в соседнем Афанасьеве крашение полов привилось спустя десятилетия.
Помянул я, что Гаврилов спровадил жену работать на ферму. Общественное животноводство в наших селах поднималось туго – ни в Заусаеве, ни в Афанасьеве, ни в Никитаеве не было хороших помещений для скота, не догадывались еще кохозники об автопоилках или о конвейерной уборке навоза. Весь труд ручной, с ведром да навильником.
В 80-х годах на Афанасьевской ферме было уже до 1000 голов свиней; за каждой свинаркой числилось до ста голов.
Аграфена Осиповна Гаврилова вела 120 поросят. Морочливая забота досталась ей: принять малышей, не дать поросли погибнуть, выкормить и выгулять.
Портной помнит фасоны своей поры, повар помнит блюда, плотник – рубленные им дома, а Аграфена Осиповна запомнила мельчайшие детали работы на свиноферме. Виновато улыбнувшись, она стала рассказывать про удивительную свиноматку. Каждый опорос свиноматка приносила по 20 поросят. Титек было у свиноматки тринадцать, на всех детенышей враз не хватало, так Аграфена Осиповна смену установила или кормила из соски, а чуть поправятся – из корытца, да все тепленьким старалась, от простуды берегла. Свиней она уберегала от болезней – себя нет, не уберегла. Ломит косточки постоянно у старухи, а недавно, летом, вдруг равновесие потеряла и упала, разбившись, в огороде, два месяца отхаживала ее родня.
Доставалось женщинам и в поле. Мелкая пахота, не разрушая гумусный слой, извека способствовала засоренности полей. На своей полосе мужик оберегал пашню, выгоняя всю семью, от мала до велика, пропалывать хлеба или картошку. В колхозе, когда уничтожили межи и пока не было или не хватало машин, молочай и осот полезли дурняком. Всем колхозом выходили в поле, кулюшку драли, полынь то есть, молочай драли, но на скорую руку, будто для чужих старались. По холодку до солнца сорная трава мягкая, а на солнце делалась тугой, да в колючках, корень тянешь – не вытянешь, рвали верхи. А рученьки все равно в крови, спасение – смола. Смолу добывал конюх Митрий – гнал из бересты деготь, заодно и смолу. Между прочим, деготь помогал не только от мошки, но и от болей в желудке, испытанное народное средство в тулунских местах.
Клавдия Никифоровна Белова, одна из рассказчиц, так припоминает колхозную работу 30-х годов:
– Одне говорят, много умели по своему дому че делать. Кто бы спорил, а я не буду. И я умела кой-чего. А в колхозе выучилась еще больше делать. Дома у меня было две коровы, а на ферме стало пятнадцать. Дома у меня такого не случалось, чтобы коровки с голоду мерли, а в колхозе – кожа да кости, в зиму-то где взять еду? Почки березовые сберем, а то на Фадееву иль Заряеву заимку гуртом поедем, с крыш соломы нахватам; она уж черная, солома-то. Коров много на ферме, а надаивали мало... Ой, а за телятами ходишь. Оне, бедные, полягут на болоте, а встать не могут от слабости. Обнимешь, да наплачешься с имя, оне же ласковые малые, по-человечески смотрят на тебя. Подниму я одну телочку, бегу к другой. Ноги нынче ноют и гудят от болота того...
Одна среди многих своих ровесниц Белова выучилась писать и считать. Дома у нее и сейчас для памяти висят цифры: 30-40-50-60... чтобы практиковаться, не забывать счет.
Болезные и хворые, сохранили эти женщины много тепла в сердце... У Клавдии Никифоровны речь ровная, уютная, незлая. Зеленый платок, купленный в Тулуне, она уронила на плечи, похвасталась старинным серебряным колечком, после не удержалась, похвасталась и пенсией; действительно, по сравнению с другими старухами, пенсия у нее большая – так она считает – 33 рубля 56 копеек. В 60 лет, после 45 годов крестьянского беспрерывного труда (никаких тебе ни отпусков, ни санаториев в Крыму), начислили ей 12 рублей ежемесячно, для деревни 60-х годов событие; после добавили 8 рублей; а сейчас, считает Белова, кабы ноги держали, жить и подавно можно.
Во второй половине 30-х годов в колхозах учились поощрять за образцовую работу. Пусть с опозданием, но вняли: не только окриком и штрафом или угрозой тюрьмы можно заставить человека прилежно трудиться, но, оказывается, и похвалой или маленькой премировкой. С промтоварами тогда стало неблагополучно, воспользовались и этим, стали их распределять: положительной доярке выпишут чек на резиновые сапоги, свинарке отрез на юбку – простенькой материи, полеводке – шаленка достанется; глядишь, и гордость взыграет, и настроение подымется.
В Заусаеве надоит доярка в год дополнительно 250 литров молока, сдаст государству, квитанцию ей на руки, ту квитанцию отоваривали: десять метров тюли на окна. Сохранит телятница поголовье телят – получай галоши.
Похоже и в других деревнях. Аксинья Марковна Непомнящих четыре года подряд брала премировки в Афанасьеве: сначала получила бязь, потом по талону выдали ей мелкий товар в пустом магазине, катанки достались раз; а позже выдали койку с пружинной сеткой (впрочем, койку-то дали уже в 50-х годах, до того спали на полатях и на деревянной кровати). Рассказывая сейчас о премировках, Аксинья Марковна сидит, покачиваясь от нутряных болей, на пружинной этой койке, с выметанным лицом, совсем уж дряхленькая. А в 30-х и в 40-х годах она была женщиной, на которую засматривались и парни, и мужики.
Василий Мартемьянович Татарников помоложе наших мужиков и старух, 1914 года рождения, – он ясно припомнил, какая мощь (громко сказано!) была в колхозе никитаевском «Обновленный путь» в середине 30-х годов.
Однолемешных плугов «Антроп» – 30 шт.
Жаток – 3 шт.
Конных сеялок – 4 шт.
Сенокосилок – 2 шт.
По молодости лет Василию понравилось сообща работать, но скоро он понял, что в одиночку, дома, дела шли намного интереснее и спорее, он стал ссориться с колхозным начальством всякий раз, как видел непутевость, а в 1939 году рискнул подать заявление на выезд, но «пашпорта не дали и даже говорить со мною не схотели, так остался я колхозником на всю жизнь и на пенсию ушел – тут только понял: сам себе хозяин».
Перо мое притомилось. Помянул я ранее Антона Любочку насмешливо и спешу исправиться: попраздновали при нем евгеньевцы вволю, короток праздник тот был. А заусаевцы при Федоре Филатовиче Ковалеве не только бегом работали, но и отдыхали – тоже, правда, бегом. Ковалев приедет в дальние поля. «А что мы, не посидим вечерком? За чаркой-то, а?» – браво так спросит да ходок свой отдаст, а сам в руки вилы возьмет, до самого поздна не остывая работает с народом, к вечеру посланцы на ходке приедут из села – бутыль самогону, закуску привезут, пирушку у костра устроят. Ковалев выпьет стопку, еще одну и спросит: «Не подведете меня, если чужой нагрянет?» (чужой – значит уполномоченный). Все дружно заверят его, что утром встанут пораньше.
– Ну, тогда и песню не грех спеть, – говорит Ковалев и начинает натужным голосом «По диким степям Забайкалья»...
Отзывчивость жила в первых председателях, в народе тем более: по всем деревням рассказывали, как, поссорившись на ферме, вечером мирились, а то столы в правлении сдвинут, пельменей настряпают, котлет наготовят и гульнут напропалую, балалайку найдут и вызовут на пляс уполномоченного, и перепляшут, конечно.
А кто захворает, того подменят без пререканий. Сейчас-то, если простуда хватанет, не допросишься подменить себя, а тогда – тогда кой-чего помнили.
Нравился никитаевским женщинам воронежский Игнатенко. Он приезжал в поле и всегда говорил: «Косовицы, отдохните. У нас в России женщины не косят, а вы у меня молодцы», – вот и вся хитрость, ласково поговорил, покурил, побалакал и уехал. Работалось после него – шибко! В Никитаеве всерьез справляли коллективные праздники – планировали, какую закуску готовить, и брагу ставили загодя. В бочке от Порога привезут тайменей живых, бабы тесто заквасят, пироги рыбные испекут. Гармониста упросят меньше пить на гулянке, чтобы песням подыгрывал. Сейчас поют в деревнях все реже, а иногда и совсем рта не раскроют – уставятся в телевизор на расфуфыренную Зыкину, между делом выпьют; и умирают старинные песни. А тогда, помнят никитаевцы, красивый Ломакин, косоворотку расстегнув, начинает:
Тега, тега, гуси серые, домой.И сразу встрянет десяток-второй голосов, закроют Ломакина:
Ах, зачем ходил я бережком Ко любови, ко чужой?..И Ломакин счастлив, лишь глаза затуманятся, отца когда припомнит.
Поутру, хватив огуречного рассолу, снова впрягаются и весь сезон без выходных ходят в общей упряжке. Пролетариат по воскресеньям у речки пиво пьет, кино смотрит, о мировой революции спорит, а крестьяне-колхознички знай работают.
Собравшись с духом, хочу здесь рассказать о Пелагее Кузьминичне Царевой-Фурмановой. Нынче бездумно почали заново слово «династия»... Династия сталеваров, династия учительская; просится в мир и царевская династия хлеборобов. Скажу скромнее – фамилия эта, пустившая корень в Белоруссии (Невельской уезд, Далысская волость) в достопамятные времена, в начале века, не усидела в родном нищем гнезде и кинулась в Сибирь.
Пелагея была девочкой, когда Кузьма Фурманов, отец, подсек первое дерево на Утае. Николай Царев был подростком, когда и его отец выгрузился вместе с Фурмановыми из теплушки на неведомом полустанке с бурятским названием Тулун, и тоже помогал мужикам корчевать лес.
Так оказалось, что с сановитого этого имени Царев я начал повесть свою, и вот мы вернулись к Царевым.
Представьте себе крепкую, дородную женщину лет сорока с небольшим, она сидит на скамейке, вольно поставив в теплых чунях ноги, и зорко смотрит, чтоб чужие гуси не обижали ее утят, только что она накрошила им травы. Увлекшись беседой, женщина вдруг обнаружила, что чужаки согнали-таки с места утят. Схватив хворостину, Пелагея кинулась бегом и метров десять под горку промчалась, достала хворостиной вожака гусиного, рассмеялась, но вдруг, обнявши поясницу, сказала:
– Опеть не то сделала. – Значит, побежала зря, забылась.
Такой я узнал Пелагею Цареву в возрасте восьмидесяти трех лет. Мы провели с ней немало вечеров, я исписал толстую тетрадь, сейчас воспользуюсь записями.
Ехали белорусы сюда в позднюю пору – надвигалась осень. Поезд тащился двадцать один день. Сразу по прибытии поставили шалаши, неделю-две жили, как цыгане, у костров, пока не срубили бани. А уж в банях зиму зимовали и рубили избы – в лесу стон стоял от лихой работы. Кузьма Мартыныч, отец Пелагеи, был кряжист – помнит она случай, когда лошадь не могла вывезти лесину из сугробов, отец сбросил комель с саней, вывел кобылу с санями на большак, потом вернулся в лесную сутемь, взгромоздил комель на спину, выволок лиственницу на большак же, привязал к саням ремнем, посадил сверху Пелагею и поехал домой. Непомерной силы был человек. Но железного его здоровья на Сибирь не хватило, он надорвал себя и умер в 1914 году. Не впервой слышу я, как порвав мышцы и жилы, умирали здоровые мужики, не соизмерив свои силы с тайгой. Но и умирая, Кузьма хрипел: «На воле помереть хорошо». В Белоруссии Фурмановы работали на помещика Трубчинского, хозяина желчного.
В девках Пелагея Кузьминична неустанно помогала матери в домашних хлопотах.
Кузьма собирался рано выдать дочь замуж, а Пелагея все жениха не могла выбрать по сердцу, отец так и не дождался свадьбы. Наконец высмотрела она Николая Царева, но взяли Николая в армию. Отслужил, тут война с германцем смяла еще на четыре года любовь, угнали жениха на войну, а Пелагея ждала его. На гулянки ходила, с парнями перешучивалась, само собой. Но ждала жениха.
На фронте Николая Царева заверстали в кавалерию, в бою под ним убили лошадь, Царев сломал ногу. Помучился он с ногой, походил по госпиталям. Наконец, в 1918 году, вернулся кавалерист в Сибирь, тут они соединились навеки. «Вместе по тайге шастать сподручнее», – сказал Николай.
В семье Царевых Пелагея оказалась шестнадцатой.
– Помню, – говорит, – ведерного чугуна не хватало на обед, когда сядут четверо взрослых братьев Николая, и сам он пятый, и еще одиннадцать человек взрослых и детей за грубо сколоченный стол.
Посредине стола чаша – в диаметре полметра, у каждого деревянная ложка, только успевай таскать картошку или капусту.
Девять лет прожила Пелагея в этой удивительно дружной семье. Начались колхозы, Николай Царев вместе с Коноваловыми, Симоновыми, Медведевыми организовал первый в Половине колхоз «Сеятель». Скоро риковский землемер перемерил землю, отошла половина совхозу «Сибиряк». Какое-то дальнее чувство подсказало мужикам не ходить в совхоз, наивные были – верили: в колхозе – не в этом, так в другом – должны подарить им волю. Кинулись в деревню Новую, тоже сплошь переселенческую, а там уж пашут вовсю, и жилья нет. Тут часть подалась в совхоз, а наши белорусы снялись в Бодар, а вовсе ни в какой Шерагул. В Шерагуле другие Царевы жили, тоже забредшие издалека в эти места.
В Бодаре Николаю Цареву достался сухой и крепкий дом сосланного мужика-твердопланщика. И колхоз в Бодаре имелся, именем вождя назывался. Вот тут-то они и осели. Здесь у них родилось пятеро ребятишек, здесь Николай и Пелагея хлебнули мурцовки вдоволь. Но здесь они и прославились на весь район своими рекордами. Во имя 30-х годов я рассказал и предысторию царевской семьи. Нас ведь интересуют 30-е годы.
Пелагее дали участок под огородные культуры. Огурцов пять гектаров, помидоров два гектара, капусты четыре, пять – картофель, росли на участке морковь, свекла, лук. Много ухищрений применяла Пелагея Кузьминична на 20 гектарах: впрок с бабами навозят кучи навоза, в марте месяце кипятком поливают, чтобы навоз скорее перегорел. Собирали по дворам и на общественном курятнике птичий помет. До 40 кулей помета разносили на гектар картошки, добавляли малость калийной соли. Урожаи скоро пошли: до 400 центнеров картофеля (иногда 418!), огурцов до 500 центнеров, помидоров до 400 центнеров. Эти результаты перекрыли рекорды Тулунской опытной станции, знаменитой с царских времен не только агрокультурой, но и урожаями.
Капуста у Пелагеи вырастала по полпуда вилок, «живот надорвешь – в короб бросать», – созналась она. А техники не было, все вручную.
– Первый комбайн, Иваныч, пригнали в Бодар, мы, бабы-то, ровно дети за покойником, бежали за имя...
Каждый год премировали Пелагею Кузьминичну 25-ю рублями, крохотная награда, но и она морально поддерживала на первых порах.
Николай Карпович Царев ничуть не слабее занимался опытами на зерновом участке. Строптивый Царев частенько попадал в опалу у председателя, но слава грела Царева, и забывались огорчения. И председатели считались с четой Царевых, оно и понятно; 300 процентов плана у Николая Карповича и Пелагеи Кузьминичны перекрывали доход свинарника, а свинарник в округе был не на последнем счету.
Пелагею-то я и спросил однажды: «Где лучше работалось в тридцатых годах – на своем поле или на колхозном?» Многие старики отвечали на этот вопрос, редко кто выбирал колхозное поле. Как все Царевы, Пелагея Кузьминична сказала: «Тут враз тебе не ответишь, дай подумать», – и думала не один день. Надумав, завязала покрепче косынку и говорит: «Писать будешь или устно примешь мои слова?» Я, колебнувшись, отвечал: «Писать буду, нельзя мне не писать». – «Ну, раз писать хочешь, пойдем на кухню, молоком напою...» – так она не первый раз призывала меня к неторопливой беседе в летнюю кухню, здесь идут ее восьмидесятые годы: тут она птице и ребятишкам еду готовит, топит с зари до зари печь и по субботам баню (в баню ведет боковая из летней кухни дверь).
Безропотно выпил я эмалированную кружку парного молока. Пелагея с великим удовольствием смотрела, как гость допил, предложила еще, я отказался. «Теперя разве мужик пошел, – критикнула она, – банку молока одолеть не могут. А молока не пьешь – болезни вьешь... Ну, пиши...»
– Я тебе так скажу. Оно и на своей полосе хорошо было, и после было бы неплохо, когда б не мешали нам усякие мудрецы...
Помолчала.
– Начали подряд всех кулачить, у меня приятельница Глаша имелась. У Глашиного отца четыре коровы да четыре коня на дворе, средняк, средняцкое хозяйство, а семья большая. Птица, поросята хрюкали, овцы табуном ходили. И ни одного тебе батрака, все своим горбом тянули, с раннего детства Глаша роздыху не знала. Когда эти пришли да все до нитки отняли – согнали скот и птицу, зачистили в амбаре, а самих в колхоз вписали, Глашка-то – ей, как и мне, за тридцать лет было – и шепчет мне: «Слава тебе, Господи, теперя я меньше мантулю, в колхозе-то. Почто мы, дурные, так много робили, ой, дурные, дурные». Пишешь?..
Дальше вела речь Пелагея:
– Оно верно, дюже непонятно, когда работаешь у колхозе, а в животе пусто и в кармане... Да ведь теперя-то не так, это мы за спасибо работали, а то и спасибо не скажут... Но и у вас, Борис Иваныч, дела не шибко идут. Я по Пете-то все вижу: не шибко. Все оттого, что много развелось, которые господнего Ленина у груди подлой носят... А колхоз-то... че, можно и в колхозе служить. В городе-то у вас поесть нечего, а мы тута на еду не жалуемся...
Глава восьмая Газетная хроника
Заглянем в газеты той поры, чтобы послушать, какими словами тогдашняя власть говорила о великом переломе. Не преминем посмотреть и окрест, заглянем в тот же Шерагул иль в Бодар, а может, и дальше. Крайне поучительно: сравнить то, что говорили старики, с тем, что об их делах думали в райцентре и далее.
Крестьянская краевая газета «За коллективизацию» дважды в неделю неустанно писала о деревне. Тон у нее с годами не переменился:
«...Районы Тасеевский, Рождественский, Тулунский, несмотря на то, что они резко отстают в выполнении годового плана (хлебозаготовок), за последнюю пятидневку насчитывают заготовки в единицах тонн...»
«Указать прокуратуре и суду (бедные прокуратура и суд!) на недостаточные меры, принимаемые ими по привлечению к ответственности злостных несдатчиков хлеба...»
«Зерноочистка идет из рук вон плохо...»
Скоро редактора Эл. Прилуцкого сменил «Вридредактора Н. Лагунов», почитаем, что говорила газета при Н. Лагунове:
«...С хлебозаготовками положение тревожное...»
«Хлебозаготовки по Харатскому сельсовету Иркутского района идут преступно слабо...»
«...Правление Усольского райколхозсоюза предлагает обеспечить себя семенным фондом из урожая тридцать второго года в достаточном количестве с созданием страховых фондов в размере 15%... Получается кулацкий лозунг: „Сначала себе, а потом государству“... Турущев, председатель райколхозсоюза, за правильную эту линию без обиняков назван кулацким трибуном.
«...В Тулуне не сумели подхватить большевистские образцы работы нижнеудинских буксировщиков... Тулунский район отстает по хлебозаготовкам...»
«В Заларях за урожайность борются на бумаге...» Поэт, молодой тогда Константин Седых решил сказать свое слово в крестьянской газете:
Люблю свое я производство И из колхоза не уйду... У нас надежные ребята И дел больших невпроворот. Егоров избран делегатом На краевой колхозный слет.Строчки одинаково беспомощны поэтически и социально, но это не смутило ни автора, ни редакцию, напечатали.
Замначальника политотдела безымянной МТС т. Тагер оставил бесхитростное свидетельство нежелания крестьян доносить друг на друга:
«Досадно порой, – пишет Тагер, – что колхозники иногда не видят притаившегося врага. Черт возьми, думаешь, разве мы одни в состоянии узнать кулаков».
Красноречиво проговорилась эпоха!
А вот и Шерагул объявился, не заставил себя ждать. «Кто такой Тычков?» В колхоз «Пахарь» Шерагульского сельсовета послан животноводом коммунист Тычков. Он заявил, что бык слишком большой и коровы не растелятся. И предложил зарезать 12 штук. Уже 8 коров зарезаны под предлогом, что они не могут растелиться.
Тычков пьет. Где он берет деньги на водку, темное дело...»
Полистаем газету – месяц, второй, третий. Снова Шерагул. «Притупление классовой бдительности со стороны правления, засоренность колхоза „Пахарь“ классово-чуждыми элементами, вредительство пробравшихся в колхоз кулаков привели колхоз к развалу... Расхлябанность партийной дисциплины дает себя чувствовать на каждом шагу. Многие партийцы, вместо большевистской работы в колхозе, ищут возможность под всякими предлогами уйти из колхоза или занять тепленькое местечко... Председатель колхоза Лаптев (Царева помним, Мурашева помним, а тут и третий явился – Лаптев)... Лаптев своими бездействиями окончательно развалил колхоз. Коммунисты – Галкин, Сухарев, Сметаненко, Сурин показали худшие образцы в работе – прогуливали, симулировали... Партячейка не может отличить лодыря от ударника... Молочно-товарная ферма и скотный двор в безобразном состоянии. Скот заморен, большой процент гибели. Удойность коров безобразно низкая».
Так выступала, не утруждая себя анализом, солидная газета. Посмотрим следом районную «Знамя Ленина», выходившую раз в пятидневку. В райгазете тональность чуть помягче. Про тот же, например, Шерагул «Знамя Ленина» писала так: «...выполнение производственной программы по заготовке и вывозке леса на пункте Шерагул находится в глубоком прорыве». Заметьте – в «глубоком», но ни «в преступном», ни «в контрреволюционном».
Наши колхозы, вместе с сельсоветами, фигурируют в общерайонных сводках не на плохом счету. Так, евгеньевцы в №10 (147) за 20 февраля 1934 года хвастаются, что они полностью готовы к севу, а афанасьевцы в апреле того же года по севу яровых идут вторыми в районе, никитаевцы – пятыми; заусаевцы, правда, отставали: из более чем 40 сельсоветов потерялись во второй половине списка.
Но в мае 1934 года «Знамя Ленина» начинает развеваться и стрелять по ветру.
«Очковтиратели из Никитаева» – так называлась зубодробительная заметка в №31 (161) за 30 мая 1934 года. Очковтирателями оказались председатель сельсовета Чаплин и уполномоченный райкома партии Горчаков. Заметка откровенно рисует атмосферу слежки за сельсоветскими работниками. О Чаплине сообщалось, что 23 и 24 мая он гостил у своей тещи на винзаводе, а следов Горчакова-де вообще обнаружить не удалось... А между тем... «А между тем в никитаевском колхозе „Обновленный путь“ качество обработки сева в ряде случаев не только низкое, но и вообще никакого нет. Так, сеяльщик Басов Егор 0,40 га засеял... воздухом, гонял сеялку по полям пустой, а семена украл. Сеял он на виду у стана, у бригадира Котова. Понятно, вредитель Басов скрылся, а Чаплин об этом возмутительном факте даже и не знает... Ко всем фактам следует добавить, что в колхозе увели несколько голов скота...»
Не вовремя начала газета объявлять успехи: весной ходили в передовиках афанасьевцы и евгеньевцы, и никитаевцы тоже, а хлеборобы Заусаева были за чертой передовиков.
Когда подошла пора цыплят считать, газета забыла свой парадный крик и, нимало не смущаясь, сообщила, что Заусаево по зернопоставкам вышло на первое место в районе, а Афанасьево... оказалось на последнем.
В одном номере «Знамя Ленина» хвалит евгеньевцев: «Привели мощный Красный обоз с хлебом и картофелем в количестве 94 подводы», а в следующем номере печатает постановление (совместное РК ВКП(б), РИКа и Политотдела МТС): объявить выговор председателю Евгеньевского сельсовета т. Хмелеву и Никитаевского т. Перфильеву (Чаплина уже запрятали куда-то) – за срыв хлебосдачи.
Тут же поставлено на вид уполномоченному по Заусаевскому с/совету тов. Кобзарь за слабые темпы заготовок зерна по единоличному сектору «при наличии всех возможностей».
Через полмесяца, однако, в сводке по единоличному, а и по колхозному секторам на 1-е место вышли именно Заусаево, Никитаево, Афанасьево. Напугались, видно.
Иногда газета роняла любопытные картинки быта; правда, читать надо как бы от обратного, ибо впрямую прочитываются все те же, кажется, хлебные проблемы. Вот письмо, читайте: «Рассчитал, что хлеба у меня будет излишек до 20 центнеров. Весь излишек хлеба продаем государству, а для улучшения своей жизни куплю велосипед, часы карманные, плащ брезентовый, а также жене куплю пальто с меховым воротником, платье хорошее, ботинки. В избе радио, железную хорошую кровать, куплю всю эмалированную посуду...»
Трогательное признание, правда? В наших селах в середине 30-х годов сохранился бытовой уклад старый: спали крестьяне на топчанах, простыней или пододеяльников и в помине не имелось, подушки набивали соломой или сеном, обходились и без подушек, хотя птица была, могли бы пуховую постель иметь. Накрывались ночью дерюгой, холстом, на полатях жарко спать вповалку. Обедали, не мудрствуя: ставили общую чашку посреди столешницы и быстро поедали щи или картошку... Стирали вручную, редко кто научился кипятить белье, все на скорую руку старались. Так что радио или железная кровать – невидаль в наших деревнях, предметы прям-таки роскоши; газета решила такой завидной перспективой заманить мужиков на дополнительную сдачу хлеба...
Сейчас собрался я процитировать заметку о никитаевских колхозах, но взгляд мой пал на фамилию редактора газеты: означено «Вридредактора Б. Бляхов», а несколько месяцев назад ответредактором был некий В. Орлов, а еще раньше, за месяц, ответредактором был В. Соколов. Попозже снова мелькают имена руководителей газеты, каждый раз новые: В. Курилович, П. Евгеньев... Редакторов меняли, как купеческие дочки меняли раньше варежки... А заметка в декабрьском номере газеты за 1934 год такая: «В колхозах Никитаевского сельсовета нужно отремонтировать 130 штук плугов. Требуется сменить лемеха, порезные доски, ножи, пятки от валов. У единоличников более 200 неисправных машин. Но в правлениях и сельсовете нет тревоги за их ремонт».
1934 год оставил недобрую мету в памяти народной – в этом году убит Киров и по стране прокатилась волна репрессий. Давайте оставим тяжелый этот период и перейдем в год, последовавший за принятием Конституции СССР. Может быть, там прочитаем светлые страницы.
В февральской газете и правда читаем: «Колхоз имени Кирова (Заусаево) организован в 1934 году»... Вот, собственно, начало нынешней артели, которую артелью уже никак не назовешь – скорее, сельскохозяйственной фабрикой.... «До нового устава с. х. артели в нем было всего лишь 1748 гектаров земли. Тогда плохо был организован труд, чувствовалась расхлябанность в дисциплине, обрабатывали землю почти без машин, слабо, да и колхозники жили небогато, – рассказывает бригадир Дьячков...»
Да, мы снова попали к старым знакомым. Помните Елену Николаевну Дьячкову, рассказ ее о колчаковцах. Так бригадир Дьячков – это муж ее, Евстафий Александрович. У них отношения, у Елены и Евстафия, диковинные были. Евстафий вступил в достославную «Смычку», а жена наотрез отказалась стать колхозницей; они – супруги-то – разъехались в разные углы хаты и по вечерам друг друга досаждали всякими упреками. Малые дети, их двое тогда было, ничегошеньки понять не могли.
Но «Смычка» день ото дня умирала, как и колхоз «Победа» («Эй, „Победа“, че спишь до обеда?»); пришел урочный час, и Евстафий замирился с женой. Пошли они вместе в «13 октябрей», но в 1934 году не стало и «13 октябрей», а родился колхоз имени Кирова, который со временем собрал всю округу – «Семена Зарубина» и «Обновленный путь», «Молотова» и «Максима Горького».
Но пока заусаевцы, вняв трагической гибели Сергея Кирова, сошлись одним селом в одну артель. Вот и послушаем заусаевцев дальше, они, кажется, хвастаться решили. А мы-то как раз и ждем успехов, довольно было мороки у мужиков, пора бы и о добром начать повествование.
«Наша земля» – особый подзаголовок районные газетчики вынесли наперед, упреждая рассказ старика по фамилии Безотчества.
«После того, как приняли новый сталинский устав артели, нам прирезали дополнительно 2995 гектаров земли. Это возможность расширить посевы. В прошлом году посевная площадь колхоза составляла 800 га. В 1936–37 году она составит более 1000 гектаров. Засыпаны полностью семена. Нынче зимой ржи посеяно на 120 га больше, чем в прошлом году, 100 га посеяли сортовыми семенами. Теперь земля за нами закреплена навечно, а закрепленная земля – это наша земля.
Появились на полях тракторы, комбайны, сложные молотилки МТС. Тракторами в 1936 году вспахано в колхозе 1380 га.
Убрано комбайнами 64 гектара. Сложными молотилками намолочено 4519 центнеров хлеба, – говорит дед Даниил Иванович Безотчества.
5 кг на трудодень
Кто не работает, тот не ест, – записано в новой Сталинской Конституции, В прошлом году в артели имени Кирова получили хлеба по 3,4 кг, а нынче по 5 кг и по 53 копейки. Кто работает хорошо, тот и получает больше. Возьмем к примеру Дьячкова Ивана Михайловича[66]. Ему исполнилось 75 лет. В колхозе он знатный человек. За год заработал 418 трудодней, получит 21 центнер хлеба и 221 рубль деньгами.
Примерным конюхом считается Безотчества Даниил Иванович. Несмотря на старость (ему 62 года), он по-хозяйски ухаживает за лошадьми, сохранил весь молодняк, заработал 444 трудодня.
Старые люди – знатные колхозники – Жить стало лучше, жить стало веселее[67], а когда живется весело, то и работа спорится. Мне вот исполнилось 84 года. Я все лето работал, работаю и теперь. Правда, другой день останусь дома отдохнуть, но подумаю, что работы в колхозе много, сердце заболит, собираюсь и опять иду. Весной пахал, летом помогал убирать хлеб, следил за качеством работы в колхозе, выполнял по силе возможности хозяйственные работы. Пока есть силы, надо работать усердно, – заявил дед Анохин...»
У читателя, я думаю, не вызовут саркастической усмешки престарелые герои, но, полагаю, газета саморазоблачила себя и время, выдвинув на авансцену стахановцев в возрасте 84 лет. Куда же подевалась молодежь, уместно напрашивается вопрос. Далее газета называет нескольких женщин, которые «прилежно трудятся», но следом идет рассказ «Мало получишь – вини себя», в нем фигурирует «молодая, здоровая женщина Настасья Татарникова»: «Любит языком поболтать, а на работу никуда...»
Про молодежь мы так и не нашли ни единой доброй строки. Зато есть точные данные по общественному животноводству: на 1 января 1936 года овец было на колхозной ферме 79 голов, а к 1 января 1937 года – 142 головы, а поголовье крупного рогатого скота возросло к январю 37-го же года с 37 до 81 головы.
Урожаи, по признанию газеты, оставались невеликими, уступая в полтора раза урожаям на частных полосах. Так, пшеницы взяли вкруговую по 9 центнеров с гектара, ржи – 12, а ячменя (ячмень ранее давал до 20 центнеров) всего 13 центнеров. А год-то был незасушливый, благоприятный. Сбруя, деревянные бороны, сеялки не ремонтированы, «навоза вывезли всего 400 возов, а к сбору золы, птичьего помета не приступили, не проводили снегозадержание».
Автор этой огромной статьи не пожелал себя назвать не зря – статья слеплена из случайных и противоречивых фактов, а выводы сделаны явно тенденциозные, то есть оптимистические, с легкой примесью критики. Если судить по этой публикации газеты о колхозе имени Кирова (а некогда, помнится, – мы цитировали тогда материалы Архива, – ему пророчили название «Великий почин»), – дела в артели шли неважно.
В Гуране, пишет та же газета, «некоторые колхозники приобрели патефоны, варшавские кровати – одним словом, стали жить культурно». Детали эпохи язвительные – появление патефона и железных кроватей возводилось в явление Культуры на селе...
4 марта 1937 года газета информирует районных читателей о том, что некий Багин И. Ф., «заведующий отделением совхоза „Сибиряк“, уехал в отпуск и в отпуске встречался с друзьями, многие из которых оказались троцкистами. Подумать только, у мужика, впервые вырвавшегося – зимой! – ненадолго из деревни, оказались приятели-троцкисты. Эх, Багин! Даже не заглядывая в „Сибиряк“, можно поручиться: приговор газеты смертелен для него.
А вот опять Шерагул. Посмотрим, что нового на сей раз случилось в знаменитом селе. Оказывается, теперь в Шерагуле плохо выпекают... хлеб. Семен Зарубин, слышишь ли, ты говорил: общественная пекарня высвободит время у женщин? «Пекарня № 8 (зав. Татарников) выпекает недоброкачественный хлеб – сырой, закалый».
Через день, в №52 (463), «Знамя Ленина» сообщает о классово враждебных элементах в колхозах района, в том числе в «Обновленном пути» Никитаевского сельсовета. Заикнувшись о классово враждебных элементах в Никитаеве, газета ведет линию дальше: через 20 дней сообщает о плохом ремонте уборочной техники и намекает, что дело тут нечисто.
В июле же 37-го года газета сожалеет о том, что «в Никитаеве продано семь домов и несколько амбаров. Село принимает запустелый вид. Сельсовет не принимает никаких мер».
Разумеется, процитированное – далеко не все, что отыскал я на страницах тулунской газеты. Но, верный замыслу, я продлю ненадолго, до Отечественной, хронику районных событий. Возьмем 1940 год. 18 июня 1940 года читателей газеты пригласили почтить память Горького, четыре года назад «злодейски умерщвленного троцкистско-бухаринскими бандитами». В том же году со страниц «Знамени Ленина» оповещено о постановлении правительства: впредь колхозы будут сдавать государству яйца в соответствии с закрепленной за ними землей.
В №63 за явно фальшивой подписью «Колхозники» райгазета подстрекала призвать «к строжайшей ответственности саботажников хлебопоставок». Казалось бы, сколько лет можно «саботировать» хлебопоставки (ранее – хлебозаготовки), второе десятилетие длится спектакль...
Давайте прочтем полностью заметку Николая Карповича Царева, пришел черед, частично приведенную нами в предисловии. В ней, в заметке этой, было обещание хотя бы маленького праздника. Напомню, опубликована она была в №107 за 19 ноября 1940 года.
«В этом году, – говорит звеньевой Царев, – мое звено получило 1700 центнеров зерна со 1244 гектаров посева, т. е. в среднем по 12,9 ц с га. На некоторых же массивах он был почти в два раза выше. С участка пшеницы в 5 га мы получили по 24 центнера с га. С 4 га ржи взяли по 26 центнеров... Увы, не успев создать звено, начинают растаскивать его, посылая того или другого члена звена на другую работу. Задача в 41 году снять урожай не ниже 18 ц с га».
Да, у каждого времени свои рекорды. 13 центнеров с каждого из 124 гектаров в 1940 году считалось победой Николая Царева, но 24 центнера зерна с 3600 га пашни в 1977 году сын его Петр Николаевич, председатель колхоза имени Кирова, воспринял как рядовое событие.
В том же номере 107, неподалеку от крохотной заметки Н.К.Царева, редакция призывает «принять меры к злостным неплательщикам»... чего бы вы думали?., – займа! очередного займа...
Но эту страницу мы обязаны прочесть благоговейно.
Помните ли Аграфену Осиповну Гаврилову, жену бескорыстнейшего Николая Александровича, который босиком однажды пришел домой, подарив сапоги нищему. Аграфена Осиповна так и не оставила работу в животноводстве, да и грамотешки-то у Аграфены не было никакой. Раз бабы пожалели ее и упросили учетчицей побыть на ферме. Так Аграфена, милая, пока добежит до правления колхоза, все невеликие числа перепутает в голове. Самого Гаврилова с председателей за мягкотелость сняли, он работал ветфельдшером, специально курсы кончил в Тулуне. В канун войны непредвиденный зигзаг снова усадил его в председательское кресло...
Шестого марта 1940 года в №22 (784) райгазета под рубрикой «Кандидаты на сельхозвыставку» напечатала информацию, заголовок такой: «От 38 свиноматок 380 поросят».
И текст: «В свиноводческой ферме колхоза имени Зарубина Афанасьевского сельсовета в истекшем году выращено 380 поросят от 38 свиноматок. Все они хорошей упитанности.
Особенно большие успехи по сохранению и выращиванию их имеет Аграфена Осиповна Гаврилова, которая выходила 14,6 деловых поросят.
Недавно свиноматка белоанглийской породы почему-то принесла 6 недоразвитых поросят. Тогда опытная свинарка, уже 8 лет работающая на ферме, т. Гаврилова берет их и уносит к себе на квартиру. Там она поила поросят молоком от своей коровы, ухаживала за ними, как за детьми. Муж Николай Александрович – колхозный ветфельдшер – также помогал ей. Теперь поросята не только бодры и здоровы, но и в течение десяти дней достигли веса 3 кг каждый».
Что ж, порадуемся за Аграфену Осиповну, а заодно и за ее поросят. Но, по совести говоря, редко баловала газета читателей добрыми словами. Тот же колхоз имени Семена Зарубина долго еще оставался мишенью вздорной критики. Через месяц, 9 апреля, редакция не придумала ничего лучшего, как заступиться за... лошадей в колхозе имени Зарубина. При этом язык заметки, подписанной якобы селькорами, выдает подлинных авторов с головой: «Лошадь... будет иметь решающее значение... – так начинается заметка. – Этого не хотят понять в колхозе им. Зарубина. Здесь на лошадях разъезжают кому не лень. Только в один день 8 марта для поездки на гулянки в Мугун и Перфилово было использовано 5 лошадей».
Заметьте, все тот же характер доноса практикует редакция районки – доноса своих на своих, односельчан же. Видимо, эта заметка переполнила чашу терпения афанасьевцев, они решили широким фронтом переломить дурное к себе отношение. Мария Максимовна Белова, жена Данилы, женщина грамотная, взяла в руки перо. В оное время ее – за эту же мягкотелость – освободили от обязанностей председателя сельсовета, но по прошествии времени женщины, сговорившись, поехали в район и настояли, чтоб она, Мария Белова, была депутатом областного совета: во имя укрепления женской прослойки райком дал на это согласие. При этом ни у кого не возникло сомнения: должны ли райком и райисполком решать – быть Беловой депутатом облсовета или нет. Понятия о народоправстве оказались прочно забытыми...
А вскоре Белову вновь назначили председателем сельсовета. Она и выступила в газете сама, а также притянула к делу мало-мальски грамотных мужиков – Котова, мужа, комсомольца Серафима Юрченко. Сообща они и грянули песню «Как колхоз имени Зарубина готовится к уборке урожая».
«...Посеяли все семена исключительно на хорошо обработанной земле. Сев провели организованно, быстро и высококачественно. Всходы были прекрасные, но за ними требовался настоящий, любовный уход... Прополото 435 га зерновых на два раза.
...Теперь результаты налицо. Замечательные хлеба растут на наших обширных полях»... И далее – о полной готовности техники к жатве, и что амбары подготовлены – даже побелены и продезинфицированы.
Упреждая любую критику, Белова демонстрирует всеобъемлющую работу сельсовета и колхоза: газеты и журналы-де выписаны, и баня есть на станах, ясли для ребятишек открыли на период уборочных.
Моторист Николай Котов докладывает о готовности жаток.
Данила Белов, никогда не державший в руке пера, пишет сам про себя: «...в прошлом году был избран и имел счастье побывать на всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Сейчас работаю на сенокосилке, норму выработки систематически перевыполняю».
А был горчайший час – с братом Илларионом уходил из колхоза и Данила, мыкался по разным углам в Тулуне, после вернулся домой, в неуют, прижился, лихом не поминая Семена Зарубина...
Далее слово потребовал конюх Федор Савин. Дескать, намедни вы ославили нас за лошадок, а «лошади изо дня в день поправляются... вода в колоде не выводится... чистым дегтем смазываем, давая им возможность быть спокойными (мошка поедом ела)... В уборочную будем их кормить зеленным овсом, а также и зерном».
Ныне матерый, а тогда безусый Серафим Юрченко ломким голосом вторит взрослым: «Во время ненастных дождей мы не сидели сложа руки, а заложили 40 тонн силосу... На этом не думаем останавливаться».
Атака афанасьевцев увенчалась успехом – газета перестала походя клевать мужиков и руководителей колхоза имени Зарубина.
Но в ноябре 1940 года среди 20 колхозов Гуранской МТС афанасьевцы заняли по обмолоту лишь 14-е место, а по сдаче зерна государству – 16-е. Прохвастались. А вот заусаевцы помалкивали и выбились на 9-е место; евгеньевцы же взяли 8-е место...
Как и архивные свидетельства, газетные рубрики и заметки оставляют пестрое впечатление; протоколы и другие документы архива вызывают больше доверия, нежели газетные публикации. Но оба источника, тем не менее, сливаются в общий хор? коллективно рисующий портрет времени – именно 30-е годы.
Глава девятая Предварительные итоги
После того, как материал предыдущих глав оказался сгруппированным, много вопросов становится ребром, среди них прежде всего вопросы: 1. Что же такое социалистическое народоправство? 2. Добились ли наши мужики того, о чем возмечтали, вняв речам Ленина в далеком марте 1921 года?
Намерен я обговорить эти вопросы немедленно, ибо дальше чрезвычайные события (кровопролитная война с германским фашизмом) отодвинут актуальность поднимаемой проблематики.
Конечно, и в этой главе я буду стараться отвечать на эти вопросы как публицист, а не как теоретик.
Оставаясь на скромных позициях очеркиста, для начала позволю себе усомниться в собственной правомерности строить далеко идущие рассуждения и выводы на базе двух десятилетий из жизни четырех деревень Тулунского захолустья, на материале противоречивом. Чтобы как-то избавиться от сомнений, придется прибегнуть к испытанному методу – обратиться все же к помощи... теоретиков.
Осмыслению философского классического наследия Ленин посвятил годы мировой войны. Двадцать девятый том Полного Собрания Сочинений Ленина свидетельствует о многосторонности интересов вождя будущей Октябрьской революции и добросовестном познании открытого в сфере чистой науки – Логики. Фрагмент «К вопросу о диалектике» невелик по объему, но глубок[68], он-то и понадобится для подтверждения ортодоксальной правоты, выстраиваемой мной на столь малом фундаменте, как история четырех деревень.
«Раздвоение единого и познание противоречивых частей его... есть суть... диалектики... На эту сторону диалектики обычно обращают недостаточно внимания: тождество противоположностей берется как сумма примеров, а не как закон познания».
И далее: «Тождество противоположностей... есть признание (открытие) противоречивых, взаимоисключающих, противоположных тенденций во всех явлениях и процессах природы (и духа и общества в том числе»)[69].
Прервем цитирование этой мысли Ленина и обратимся еще раз к противоречивым, взаимоисключающим, противоположным тенденциям описываемой мной эпохи.
Вначале послушаем устные предания. Они трагичны. До сих пор в наших деревнях были редки случаи исключительного насилия, но с декретированием колхозного строя, в канун и после принятия Конституции СССР 1936 года, резко возрос репрессивный характер власти. Так, в Никитаеве жил старик по фамилии Емельяненко, приятель Федора Ломакина, советчик по всем пашенным делам: он знал лучшие сроки сева и начала уборочной, мог предсказать погоду на лето еще зимой. Был у Емельяненко допотопный календарик, он вел по нему счет ненастным дням в разные десятилетия своей жизни: считал он себя стариком, а было ему лишь за пятьдесят. Никитаевские председатели охотно выслушивали советы Петра Никодимыча, и редко когда он ошибался.
В годы Первой мировой войны Петр Емельяненко был ранен на полях Галиции и навсегда запомнил фамилию Лупекин: сослуживец Лупекин струсил в бою и предал своих немцам. В 1936 году на выборах в областной совет Емельяненко узнал, что сын означенного Лупекина баллотируется кандидатом в депутаты. Он и взвился, Емельяненко:
– За предательского последыша голосовать не желаю, такова моя воля.
Мужики посмеялись – нашел-де, чем народ удивить: и правда, раньше многие не ходили голосовать. В отдельные выборы в наших деревнях – по сводкам РИКа – не являлось до 20–25 процентов избирателей, кстати, и в Шерагуле подобная картина наблюдалась. Народ, до того не знавший, что такое представительная демократия, равнодушно, не враз принимал очередные выборы. Ну, выборы да выборы.
Вот и в 36-м году Емельяненко позволил себе вольготно отнестись к человеку, которого судил своим судом, вполне возможно, и неправедным: сын-то, Лупекин, почему должен за отца отвечать?
Но имел ли право (конституционное) никитаевский вольнодумец отказаться от голосования? – Конечно. Право избирать – право, а не обязанность. А имел ли право Емельяненко высказывать свои соображения о кандидате? – Безусловно, имел абсолютное право, впрочем, даже и обязан был предупредить односельчан о совершаемой – возможно – ошибке. Но к вечеру, к концу голосования, приехал на коне милиционер из Тулуна, арестовал мужика, и исчез правдолюбец навсегда и бесследно. Осталось у него пятеро внуков (сын-то его ранее погиб), внуки пухли от голода и влачили жалкое существование.
В 1937 году в том же Никитаеве взяли сразу восемь человек – по обвинению во вредительстве и шпионаже в пользу... Японии, а также и в противлении районным якобы властям. Среди них оказался Андрей Сопруненко. У Андрея Борисовича было пять родных братьев и две сестры, семья слыла дружной, спаянной. Приехали Сопруненки до революции еще с Украины, так не покладая рук и работали, жили в достатке, и в колхозе дела у них ладились. Но Андрей был несдержанным. В Гражданскую войну по горячности своей он увел у отца самовольно двух коней, взамен оставил старых кобыл, и воевал на стороне красных. Потом Борис Давидович женил Андрея на Шурочке Огневой, думая, что остепенил сына. Ан нет, Андрей, работая добросовестно на колхозной ниве, стал пылко требовать, чтоб и другие так же работали. На собраниях вставал, в пух критиковал правленцев и уполномоченных за очевидные промахи. И от него решили избавиться. И избавились... Ушел на Колыму об руку с Андреем Филат Пушкин и Костя Назаров ушел, и Николай Татарников, и Гриша Назаров, – все работящие мужики.
Ушло восемь, вернулся – через восемнадцать лет – один Андрей Борисович, изможденный, разбитый. Уходил – не знал и вернулся – тоже не знал, почему и зачем его взяли, зачем везли в пароходном трюме к бухте Нагаево, там гнали по тундре и, пригнав, велели самому строить колючий заплот и потом сидеть за проволокой.
А брали его мартовским вечером – постучался в окно посланец сельсоветский: «Дойди до конторы, срочное дело». Андрей Борисович телогрейку накинул – снег еще лежал, холодно было, в сельсовете сняли с него кожаный ремешок: «Арестован, допрыгался», – сказал милиционер.
Час минул, второй, Александра Ивановна, уложив детей спать, побежала к сельсовету, но дорогу ей преградил вооруженный человек: «Гуляй домой, тетка», – она пошла, спотыкаясь, домой, до утра глаз не сомкнула. Утром, в сумерках, собрала узелок, отрезала кусочек от печатки хозяйственного мыла, положила полотенце, в полотенце спрятала фотокарточку, на фотокарточке они всей семьей сидели рядышком, сама она и Андрей; дети – Валерка, старшенький, двадцать пятого года рождения, Валька, любимая отцова дочь, двадцать шестого года, девятилетняя Вера и семилетний Кеша. Незадолго снялись в Тулуне – ездили на рынок, и шальная воля привела их к засыпной будке фотографа.
Александру Ивановну снова не пустили к мужу, и она, передав узелок, ждала на улице – что же будет? Вскоре заскрипели розвальни, из сельсоветской двери выгнали на мороз восьмерых мужиков, усадили спиной друг к другу. Возница свистнул, и след кареты простыл. Восемь вдов стояли у прясла и крестили дорогу.
Следствие шло коротко. Вопросы следователи задавали дикие – это уж потом, вернувшись, по памяти рассказал Андрей Борисович. Были, например, такие вопросы: «Выезжая в Тулун, встречался ли с людьми китайской национальности?» и «Зачем держал дома три отточенных топора?»
Вопросы повергли Андрея Сопруненко в полное недоумение. Про топоры он ответить мог: у каждого уважающего себя хозяина всегда к зиме – для работы в лесу – заготовлены отточенные топоры. А китайцы – китайцы торговали невозбранно и в Иркутске, и в Тулуне. Случалось, покупал у них земляные орехи и Андрей Борисович, раз случилось, выпил ханшину (больно хотелось чужой водки попробовать). Все, что говорил на следствии Андрей, жадно записывалось писарем, – и Сопруненко подивился всеядности опричников: «Ну, че тут писать, про топоры-то, иль про ханшин?..» И ошибся – клеили ему связь с империалистами Востока, и приклеили. А что приклеили – ни самому, ни жене его не выдали.
Через год пришла на Никитаевскую почту странная телеграмма, будто из Хабаровска, в телеграмме два слова – «жив, здоров», – но и тех слов Александра Ивановна не умела прочесть по безграмотности. Девки на почте прочитали ей, и она пошла домой, задавливая ком в горле.
– Радуйтесь, дети, – крикнула пресекшимся голосом, войдя в избу, – жив наш тятя...
Дальше молчание – до войны, и через войну, и после войны. Ушел на фронт и не вернулся старший сын Валерий, выросли младшие дети. Но ни они, ни дети Пушмина иль Назаровых, – никто не знал, где сгинули отцы.
Девятнадцать лет спустя Андрей Сопруненко, прижавшись спиной к печи (он после зоны все время мерз), рассказал семье, как в Ванинском порту опустили в корабельные трюмы несколько тысяч человек... Он и песню там, на Колыме, раздобыл: «Я помню тот Ванинский порт и вид пароходов угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы». Пригнали в Магадан, серый поселок на берегу Охотского моря. По хилому лесу колонной долго шли; там навеки простился Андрей Борисович с Филатом Пушминым. Филат выбился из сил, его, обескровленного, бросили на лесной тропе.
Сопруненко повезло – он выдержал дорогу, не замерз на привалах, когда из палаток выносили оледеневшие за ночь тела товарищей; работал на шахте, мыл золото, видел вице-президента Соединенных Штатов Америки – тот, говорят, прилетал проверить, могут ли русские золотом оплатить самолеты, поставляемые для единоборства с вторгшимися немецкими ордами. Вице-президент был розовощек и приветлив, заговаривал с рабочими, полагая, очевидно, что это уголовники, подвергшиеся трудовому перевоспитанию.
Потом начальник шахты, горный инженер, взял Андрея Борисовича плотником в мастерскую при шахте, в тепло. Плотничать Андрей Борисович умел и любил. Погодя, присмотревшись к крестьянской основательности мужика, начальник шахты сумел устроить его домработником. Так выжил на севере дальнем Андрей Сопруненко[70]...
Иван Александрович Судариков, много позже (как раз Сопруненко вернулся из колымского плена домой) назначенный председателем колхоза «Обновленный путь», в 30-х годах жительствовал безвыездно в Куйтунском районе. Кой-какие организаторские способности и грамотешка сделали его активистом, был он на виду. Однажды тесть его, тоже белорус – вместе ехали в Сибирь, поссорился на гумне с соседом. И черт-те что, откуда беды ждать?! Мало ли ссорятся соседи, а потом мирятся и живут лучше, дружнее прежнего... Тут же закрутилась страшная карусель – сосед показал на тестя, прибыли из Куйтуна вооруженные люди, и тесть бесследно исчез. Судариков, наслышавшийся в округе о таких историях, молчал. Вскоре призвали Сударикова в райком: «Коммунист?» – «Ясное дело, коммунист». – «Порви связь с врагом народа». – «Че рвать-то, раз нет тестя на воле?» – «Тестя нет – дочь врага есть, твоя жена».
Вышел Иван Александрович на улицу и, забывшись, пешком отправился домой, очнулся, добежал до райкомовской коновязи, сел в телегу, стегнул лошадку, а сам все думал и думал. Он понял, что ждет его в случае неисполнения указания. Дома, вернувшись, стал редко бывать – на людях старался показываться, шустрил, холодок в сердце затая. Через неделю подал в суд на развод по политическим мотивам. Прямо так и написал: «Не желаю жить с дочерью врага народа». Суд немедленно, даже не приглашая стороны на заседание, удовлетворил его просьбу. Подросток Яков и девочка Аня оказались без отца. Яков вырос, ушел на фронт и пал смертью храбрых в 1943 на Курской дуге, а дочь Анна выучилась и по сию пору учительствует в том же Куйтунском районе.
Сам Судариков скоро чуть не угодил в лагерь. Назначили его замдиректора МТС в Какучее, а тут шел набор председателей в отстающие колхозы, перебрасывают Сударикова на колхоз, он, зная, что не вытянет колхоз из неурядиц, отбрыкивался как умел. Но на беду, по халатности бригадира, провалились под лед два трактора. Сударикова вызывают на районный коврик: «Из партии вылетишь – раз, засудим – два. Или пойдешь председателем?»
Так Судариков, припертый к стенке, сдался и стал председательствовать в разваленном колхозе.
Угодил в лагерь Алексей Данилович Медведев. В 1935 году приписали ему вражеское проникновение в колхоз «Сеятель» и отправили под Читу. Сорокалетнего потомственного крестьянина, дважды раненного ветерана Первой мировой войны приставили к тачке породу возить. Алексей Данилович всегда был легкотелый, тачка с грузом тянула много больше его самого. Но сноровка выручила – скоро он освоился и с тачкой, и возил гравий к полотну строящейся железнодорожной ветки, не отставая от товарищей по несчастью. Перед войной Медведеву зачли безропотное исполнение каторжных обязанностей, выпустили на волю, и он пошел, уже с сыновьями, выросшими без него, снова на фронт...
Был взят и Николай Карпович Царев. После удачного бригадирства (до того, как мы знаем, ходил он в передовиках – звеньевым, с женой Пелагеей соревновался) назначили его председателем в Бодаре; просился на фронт – не пустили, в годах, мол. Ему было, и правда, уже за пятьдесят. Осенью сорок третьего года повез он сдавать картошку, по госпоставкам. Три короба сдал, а четвертый не взяли – картошка прямо с поля, залитого дождем, оказалась грязной. Тогда Николай Карпович пообещал привезти остатки нормы завтра, а грязную картошку, чтоб не везти назад, сдал в столовую, по квитанции. Назавтра Царева арестовали за нарушение госпоставок картофеля и увезли в Тулун. Больше ни Пелагея Кузьминична, ни дети ее (а было их семеро и восьмым беременна была – Петр Николаевич родился уже после исчезновения отца) никогда не видели Николая Карповича. Отныне родимой было ни до рекордов на деляне, ни до «Ухарь-купца». Пласталась с зари до зари...
Раньше я, кажется, проговорился о Михаиле Петровиче Непомнящих – как он в каталажку угодил. Началась война, он ушел на фронт. Трижды раненный вернулся артиллерист с поля сражения домой. Пока добирал силы, потерянные в госпиталях, сторожил колхозное добро, дежурил осенью в полях. Ночи в Сибири, известно, холодные. Михаил Петрович запасет хворосту, воды от Курзанки принесет, подкопает картошки и сварит в мундирах. Небогатый ужин, а все не пусто в животе.
Раз распалил он костерок, полкотелка (солдатский, с фронта, котелок приволок) засыпал картошки, на огонь поднял. И дух уже пошел разварной. Вдруг стук копыт, Шахматов на коне, председатель новый, тоже недавно с фронта явился, уцелел, как и Непомнящих, – их ушло-то несколько десятков, а единицы вернулись.
– Где взял картошку? – Михаил Петрович, услыша вопрос, поперхнулся, но отвечал правдиво:
– Известное дело, из-под куста взял.
Шахматов, не говоря ни слова, исчез. Утром Михаила Петровича арестовали в поле, он только закемарил после бессонной ночи.
Милиционер не дал домой зайти, погнал в Тулун. Шел Михаил Петрович под конвоем и не верил, что ведут его в тюрьму. Началось следствие. Обещают пять лет отсидки, тягают на допросы, выпытывают нелепые подробности; а Михаил Петрович, миленький, все не верит – как во сне – что это с ним происходит. Останется в тюремной камере один – думает и надумает: пужают его. И усмехался тогда он тайно: кого на испуг берут?! Кулаки пугали – а не испугали, фашисты били – не убили.
Наводчиком сорокапятки он многократно отбивал танковые атаки. Раз восемь «фердинандов» распечатал. Нет, не один, а с расчетом своим. Идут они, наглые, прямиком на позицию Михаила Непомнящих, покачивают хоботами орудий. Сержант кричит: «Стреляй, паскуда!» А Михаил Петрович подпускает их ближе, ближе, потом поджигает последний в колонне танк, чтобы раньше времени панику у немцев не породить. И сразу бьет в головной. Тут-то они заметались на высокой дороге – ни назад, ни вперед. А Непомнящих прямой наводкой хлещет их, матюгаясь в беспамятстве распоследними словами... Через неделю ночью приходит на батарею ординарец комполка: «Ты Непомнящих?» – «Так точно, я». – «На вот тебе». В руку сунул что-то и ушел, торопился, видно. Михаил Петрович разжал кулак – орден на ладони. После получил артиллерист серебряную медаль «За отвагу», потом еще орден, потом еще медали...
Следователь на одном из допросов долго смотрел на стриженую голову арестанта и говорит: «Ты правда танки бил?» – «Истинная правда, гражданин следователь, бил, в книжке про то написано».
Орденская книжка Михаила Петровича хранилась дома, за иконой.
– Какие, – спрашивает следователь, – просьбы есть, солдат?
– Никаких, – отвечал Михаил Петрович, – Только не могу я, гражданин следователь, без работы жить. Оздоровел, сидючи в камере, руки зудятся, работы просят...
Истине не противореча, надо сказать – с мальчишеских лет батрачил и набрался Михаил Петрович силушки – 45-миллиметровую пушку как ребенка в коляске один, подхвативши станины, таскал с позиции на позицию.
И разрешили Непомнящих побелить собственную камеру, он исполнил с невиданным усердием. Тогда разрешили ему побелить стены в коридоре тюрьмы. Принесли извести негашеной, Михаил Петрович развел раствор и хорошо, аппетитно гоношился. «Настоящая, с усталью работа, Иваныч, это не тити-мити», – сказал он тридцать лет спустя после тех событий.
Полгода прошло. Собрался суд. Перед началом судебного заседания в присутствии стражи разрешили Михаилу Петровичу детей приласкать – Наталья Федоровна привезла их на свидание с папкой: двенадцатилетнюю Марию, девятилетнюю Валентину, Витьку-пятилетку и новорожденного Костю. Он всех их в зале суда потискал.
Дали ему последнее слово. Он встал, руки сделал по швам:
– Одно у меня слово, граждане судьи, к Шахматову. Судить меня будут, Шахматов, и посодят. Живи спокойно, пока я сидеть буду. А когда вернусь – уж тут, Шахматов, не жить ни тебе, ни мне!., – и в выпуклые глаза Шахматова прямиком смотрел.
Судьи закричали, остановили речь Михаила Петровича. Удалились на совещание, совещались часа три. Вышли, докладывают:
– Именем Российской республики считать Непомнящих Михаила Петровича виновным и осудить на полгода. Засчитать ему шесть месяцев предварилки и освободить из-под стражи...
С тех пор мир не берет двух афанасьевских стариков – Николая Федоровича Шахматова и Михаила Петровича Непомнящих. В родительский день рюмку на кладбище выпьют и идут – через могилы – друг на друга. Шахматов-то, будучи председателем, семерых отправил на скамью подсудимых...
В 1956 году вернулся в Афанасьево печник Патрушев. Афанасьевцы обрадовались – наконец-то печи будут отремонтированы, тепло в избах станет. Большинство афанасьевцев вернувшийся из заключения Патрушев интересовал как печник и как он умеет класть печи. А меня интересует еще одна сторона вопроса: как случилось, что печника Патрушева, плотника Сопруненко, батрака-артиллериста Непомнящих, полевода Царева, пахаря Медведева пожирала машина, называемая социалистическим государством? По какому такому праву?.. Раньше я считал виновным в репрессиях Сталина и его приспешников, теперь я начинаю думать о недостаточности вины некоторых... В самой глубинке, в быту повседневном деревенском, случались вещи, которых предвидеть Сталин не мог.
Примеры, которые я дал обещание множить и множу, не придумываются, однако, мной, а сами ложатся на бумагу. Возможно, они отяжеляют повествование, но и не дают разгуляться авторскому своеволию и произволу. Приходится диву даваться, как предшественники мои в России, выполняя документальную работу по воссозданию прошлого, умели уйти от фактической основы и сочиняли социальную фантастику; за редчайшим исключением все новейшие историки и публицисты норовят прослыть оптимистами, то есть лжецами. Но общественное здание, выстроенное нашими отцами, там и туг обнаруживает изъяны – не лучше ли, пока не поздно, думать об изъянах и прозревать катастрофу, нежели закрыв глаза выдавать желаемое за сущее?
Социалистическое народоправство – по крайней мере в теории – и мысли не допускало, что придется подавить половину нации, причем самую трудолюбивую ее часть, и держать в черном теле долгие десятилетия. Ни основоположники марксизма, ни Плеханов, ни Ленин, ни Киров, ни Бухарин, ни Грамши нигде единым словом не обмолвились, что после взятия власти пролетариатом – классом угнетенным и униженным, растоптанным будет крестьянство. В России (а Тулунский уезд – глубинное, характернейшее явление России) картина подобного Перекоса опустошительно. Мы еще вернемся к этой теме, когда станем вершить окончательные итоги. А сейчас, предваряя, напомню, что в 1940–1947 годах соотношение сельской и городской части населения в СССР было 2:1, а в двадцатых годах 3:1, даже 4:1.
О социальном прогрессе судят, известно, не только по тиражу газет, выпускаемых в год (уже и до этого додумались статистики), но прежде всего по динамике хозяйственного роста.
Опрос жителей, работающих на пашне в наших деревнях в 10-е, 20-е, 30-е годы, позволяет сделать неопрометчивый вывод о падении урожайности зерновых и картофеля, о понижении удойности молока, о снижении численности поголовья скота в полтора и даже в два раза. В Никитаеве к 1940 году пшеница давала лишь шестьдесят процентов с га от урожая 1928 года, предколхозного года, а в Евгеньевке урожай по всем зерновым упал в два раза. Эти данные ложатся в строку общегосударственных показателей, приведенных в официальных справочниках. На всякий случай приведу несколько цифр.
Скот. В 1916 году в стране было 58 млн. голов крупного рогатого скота, а в 1937 году – 47 млн. голов. Или, например, овец: в 1916 году было 89 млн. голов, в 1928 году – 97 млн. голов, в 1937 – 57 млн. голов. Если до колхозов мы настригали (1929 год) 183 тыс. тонн шерсти, то в 1937 году – только 106 тыс. тонн...
Зерновые. Здесь хитрые статистики не сообщают данные по 1937 году или 1940 году, но динамика прослеживается и по другим десятилетиям. Например, в 1909–1913 годах Россия брала 5,8 ц с га яровой пшеницы в среднем, а в 1963 году мы взяли 5,9 центнера. Любопытно, с 1913 года по 1964 год мы почти в два раза увеличили посевные площади, соответственно увеличив и сбор урожая, а Соединенные Штаты Америки сократили на 4 млн. га посевы, но почти в два раза подняли валовый сбор[71]. Ну и т.д. Здесь не место глобальным цифрам, просто я не имею права, рассуждая о Тулунском захолустье, упускать из виду общероссийский масштаб: сопрягая малое с великим, в отдельном и малом я усматриваю общезначимые проблемы.
Так мои деревни и колхозы, микрокосм, могут свидетельствовать о колхозном движении по стране в целом, и у нас есть все основания в микрокосме видеть частицу макрокосма.
Народоправство только тогда имеет право называться таковым, когда не на словах, а на деле гарантировано самостийное здравствование общин (коллективных хозяйств по-новому), когда государство берет на себя только правовую охрану самостийности и служит посредником в экономических отношениях частей целого. Зарождение подобных тенденций мы наблюдали в период НЭПа, но скоро диктат и насилие возобладали. Чем это закончилось – мы пронаблюдали в тулунских деревнях.
Тонкость инструмента качественно нового насилия мы едва ли сейчас в силах постигнуть. Я слышал усмешки серьезных людей, претендующих на интеллигентность, когда рассказывал им, например, о такой странной, на первый взгляд, мере отчуждения личности, как невзятие в армию. Во все века рекрутировали молодежь, это было бедой или горем для рекрута и семьи. А тут... да послушайте еще несколько историй, записанных в наших же селах. Евгеньевского парня Николку Медведева, сына середняка, на службу в Красную Армию не взяли: у него, оказывается, двоюродный брат («сродный» – говорят в деревне) был «твердопланщиком», за невыполнение очередного плана осужден по статье 107 Уголовного кодекса РСФСР, и Николка остался нерекрутированным... А заусаевский Сашка Татаринов сам участвовал, вместе с Тимофеем Горюновым, в раскулачивании и в колхоз записался, но дедушка у Сашки угодил в «кулаки», то есть в твердопланщики, и отставили парня от почетной службы.
Афанасьевского парня Федора Травникова (чей сын Костя исповедовался на этих страницах – за дедов и родителей) также не взяли ни в артиллерию тебе, ни в пехоту, даже в обозные: отец-де кулак. Но мы уже знаем – никаким кулаком отец его не был.
А Кешу Иванова, бедняка с заимки Маврино, отвергли от солдатчины – «дядя и брат твердозаданцы, а он имеет связь с ними».
Казалось бы, велика беда – гуляй на воле. Ни штрафа, ни ссылки, ни тюрьмы. Но клеймо поставлено – с клеймом жить невозможно, и судьбы этих ребят на долгие годы оказались поломанными.
Эпохой раньше страшно было не пойти в колхоз – ждало разорение или гибель в отдаленном краю. В 30-х годах стало опасно быть выкинутым из колхоза, акценты насилия поменялись местами, и мужик головой вертел от полного отчаяния.
Макар Харитонович Рыбаков жил на выселках, но считался евгеньевским, колхоза имени Молотова артельным мужиком. Вот бесхитростное его письмо, подаренное Архивом:
«...утром дал лошади овса и зашел домой позавтракать, в это время ко мне приехал мой зять, который служит в лесозаводе, участок Неверовка, на казенной лошади, и ему было отпущено 4 ведра для лошади. В это время явились предколхоза Габец (совсем незнакомая фамилия, никто из евгеньевских не помнит такого, стало быть, залетная, недолгая птица. – Б. Ч.) и член правления Романов и предложили мне этот овес принести в колхоз, что мной и сделано, и до тех пор овес был невыдан, пока зять не приставил справку из лесозавода. Это на меня зделали под кладку конюх Лысов Павел и Шлапаков Ксенофонтий, за то, что я сказал, почему у нас обортировались несколько кобылиц, потому что кобылицы были запущены на гумно и там наелись отходов разных, а конюха были пьяные. Это было 25 декабря, по старому в праздники Рождества».[72]
Макара Харитоновича, автора этого письма, выбросили из колхоза. Никакого собрания или заседания правления колхоза в помине не было – даже для блезиру, как говорят в народе, не пытались соблюсти демократические нормы. Мужик сразу занедужил, он знал – это погибель.
А в Бодаре Авдотью Григорьевну Пехову на восьмом месяце беременности выгнали из колхоза за... пьянство мужа.
А вот краснофлотец Я.А.Гайворонский с корабля пишет на землю: «Мою семью выкинули из колхоза за то, что мой брат написал заметку в колхозную стенгазету о пьянстве членов правления». А вот никитаевский сюжет: «Кляузами исключен из колхоза. Исключен неправильно, так общее собрание не обсуждало... Прошу Р. И. комитет (райисполком) не утвердить мое исключение, так как пятилетний стаж колхозника должен цениться особым вниманием. Засем изложенное в моем заявлении подтверждают и заверяют колхозники данного колхоза „Обновленный путь“ Воробьев Василий, Салабочикова, Москалева Мария, Чесноков Николай, Перфильева Васса, Никитин, Можинов, Зенков, Комышовы Петр и Степан» (всего 74 подписи). Имя просителя Иннокентий Назаров, брат Кости Назарова, который уйдет вот-вот по этапу и не вернется.
Есть и вовсе жестокие – дальше некуда – репрессалии: у афанасьевской Евдокии Ларионовны Мурашевой отобрали приусадебный участок, осталась баба без овощей на зиму; а у сторожихи Никитаевской школы больной Евдокии Терентьевны Мальковой сельсовет отнял две собачьих шкуры, шесть овечьих и одну телячью – все ее богатство...
Атмосферу, микроклимат в наших колхозах достаточно полно передает протокол собрания артели «Обновленный путь», уже колхоз-то в силе был.
«Говорил председатель правления колхоза т. Середа (тоже неупомянутое имя, его следует приплюсовать к долгому списку никитаевских председателей)... приступили к посевной кампании, где производились полнейшие безобразия... Кладовщик Лопатин относится халатно, занимается пьянкой. Просить милицию... Татарникова Трофима взять на заметку... Татарникова Николая за присвоение 2-х мешков оштрафовать на пять трудодней, Татарникова Петра за присвоение 1-го мешка оштрафовать на 5 трудодней. Кичигина Константина, Татарникову Аксинью на заметку взять. Татарникова М. И. взять на заметку.
Распопину Марию за присвоение 2-х кулей оштрафовать на 5 трудодней.
Карасева Андрея за присвоение оштрафовать. Татаринова Ивана Федоровича за 2 тяпки оштрафовать... Выступление тов. Колоколова: возчики тащили муку с мельницы. Выступление тов. Николаева – поехали молотить с водкой...
Постановили: «ввести 8 человек новых в правление» (среди введенных М. И. Татарников, «взятый на заметку»)... вызвать на соревнование другие колхозы и колхозников... посещать курсы ликвидации неграмотности, за непосещение налагать штраф...»
В этом документе что ни строка – то крик о неразумной жизни, в которой обессиленно барахтаются никитаевцы. Казалось бы, в Тулуне – он в 12 верстах – знают и понимают маяту в наших деревнях. Ничего подобного! В Тулуне идет свой спектакль: Тулунский район, собираясь соревноваться с Тайгуйским, обязался «построить в г. Тулуне баню с пропускной способностью 40 человек в час» и «полностью ликвидировать неграмотность в районе».
Баню построили, а неграмотность ликвидировали на бумаге, – в последней главе я приведу сводку, из нее мы узнаем: почти все старики в наших деревнях остались неграмотными.
«Меняет свое лицо кулацкий пьяный Тулунский уезд...»
«Развертывание здоровой критики и самокритики в колхозах через стенные газеты...» – такие речи услышали бы мы, побывав на районном слете колхозников. Будто инопланетяне заседают в Тулуне. А ведь в том же Шерагуле... Угораздило меня повстречать у Царского мостика Сидора Лыткина, теперь я будто прикован к Шерагулу. Районный прокурор Я. Казанцев дважды упоминает бесхозяйственность. В одном случае «бросили лошадь, и она абортировала», в другом – «за производство ремонта элеватора в Шерагуле отвечал Козлов... относился халатно... следствие по делу закончено, Козлов предан суду по ст. III УК РСФСР...»
Районная газета сообщает с гордостью, что некоего Кушнарева за невыход на работу вывели... откуда, вы думаете? – из рядов бывших красных партизан! Воевал, бедолага, но оказывается – вовсе не воевал...
В 1940 году газета вдруг всполошилась – в одном из колхозов[73] мужики снова пристойно начинают жить. Усмотрев в этом правый уклон, газета пишет: «В 140 хозяйствах до 200 коров, свыше 400 свиней, до 1000 овец и больше 4 тысяч кур и гусей... Такое раздутое личное хозяйство отражается на трудовой дисциплине». И газета подстрекает карательные органы заняться Гураном. Я нарочно взял произвольно по нынешнему колхозу имени Кирова 140 хозяйств и обнаружил, что в них насчитывается до 300 коров, 200 нетелей, 100 свиней, овец, правда, стало меньше, но птицы так же много...
Но – довольно заниматься фактографией. Мы посулили подвести предварительные итоги. Они неутешительны. Полное забвение интересов народа привело к тому, что страна встретила войну обессиленной нравственно и материально. Приходилось слышать, что колхозы помогли нам выстоять в борьбе с немцем. Статистика – упрямая вещь – говорит другое: голод, обвально захвативший тыл с первых месяцев войны, не отпускал стариков, женщин и детей до самого сорок седьмого года.
Медведев, ветеран Первой мировой войны, рассказывал мне (а рассказ его подтвердили многие старожилы): вернувшись домой с фронта, он обнаружил полные закрома хлеба, словно и не было войны с германцем. А в эту войну... В следующей главе я коротко расскажу о новых испытаниях, выпавших на долю моих героев. А сейчас закончу «Предварительные итоги», и без того понятные своей беспросветностью.
Итоги двух десятилетий надо смотреть в трех областях: в сугубо земледельческой, в экономической и в социальной.
Крестьянские хозяйства, в большинстве своем середняцкие, растеряли лучшие навыки в земледелии: оставили зяблевую вспашку, многолетние травы перестали высевать. Почти не удобрялась земля хотя бы органическими удобрениями; многополье сменилось трехпольем, потом двухпольем; только в конце 30-х годов стали возвращаться к испытанным методам. Урожайность пала. Оно и неудивительно: росла засоренность полей, трехразовая обработка полей заменилась двухразовой...
В экономической области годы нэпа способствовали хозяйственному расчету, но мы пронаблюдали, как тулунским крестьянам мешали торговать, год от году теснили свободные товарные отношения; наконец, государственный диктат поставил крестьян в посторонние отношения к земле, что не замедлило сказаться на отношении мужика к делу.
В области социальной мы увидели следствия экономических просчетов: нет, расслоение крестьян не привело к так называемой тихой гражданской войне, призраком которой запугивал противников коллективизации Сталин. Конфликты батраков с кулаками были единичными. Моральная поддержка беднейших слоев деревни со стороны государства вынуждала кулака быть сдержанным.
Но когда мужика загнали в колхоз и вынудили работать из-под палки, это немедленно отозвалось в морали – на тридцатые годы падает резкий рост числа преступлений в быту и на производстве.
Все эти «черты нового» взяты мной не только из тулунской глубинки. Я жил месяцами в десятках деревень в Европейской России (Владимирская, Псковская, Московская, Тамбовская области), на Украине и в Молдавии, в Сибири, наконец, и на Дальнем Востоке (Новосибирская, Иркутская, Магаданская, Амурская области, Хабаровский и Приморский края) – и всюду, по крупицам, не уставал систематизировать факты. Факты общесоюзные не расходятся с тулунскими, повсюду мужик оказался в положении постороннего к делу, ради которого жили его прадеды и родители и ради которого он явился на свет.
В быт, в избы не пришли книги (опыт Адриана Топорова – счастливое исключение, но и Адриан пошел по этапу). Ни радио, ни электрическое освещение также не посетили тулунские деревни в описываемую эпоху. Техника, призванная «революционизировать» народ, к концу 30-х годов не вытеснила ручной труд, даже не потеснила его серьезно.
Всеобщее начальное образование коснулось лишь единиц, о семилетнем не говорю. Подробная таблица в конце книги передаст полную картину.
Таким образом, я обязан сказать главное – приблизились ли мои герои к идеалу в решающей области: состоялось ли освобождение труда? И – следовательно – состоялась ли духовная эмансипация крестьян? Решив эти вопросы, революция могла бы торжествовать победу.
В конце 20-х годов в тулунской деревне началось последовательное и все более разрушительное отрицание освобождения труда. Гнет частного капитала был заменен гнетом капитала государственного. Крестьянина ранее защищала община, мир, теперь его никто не мог защитить от произвола. Хозяин – прежде всего хозяин своей судьбы – исчез, умер, на смену ему явился человек Посторонний. Духовную защитницу и покровительницу народа – православную церковь – стеснили и почти уничтожили.
Жизнь пошла наперекосяк. Но, может быть, читателю покажется: автор-то только и ждет новой беды... То ли злорадствует он, автор, то ли радуется: чем хуже, дескать, тем и лучше... Скрытый уклонист – автор-то, вот и упражняется в тенденциозности: переврал рассказы стариков и старух, судьбы извратил, а газетные вырезки перекроил по-своему. А архив... в архиве автор попросту не работал, там ведь особое разрешение надо, в архиве-то; кто пустил его туда, отщепенца? Не может быть такой осечки...
С другой стороны – какой резон ему врать и чернить действительность? Иль он, автор, не знает, что с ним прокуроры Казанцевы сделать могут? Не догадывается? Исключено. Знает, все до конца знает. И все же скрипит пером. Зачем? Чтобы способствовать, пусть позднему, торжеству истины.
Но погодим грустить – впереди у стариков еще останние деньки.
Глава десятая Война
Предощущаемая война потребовала новых вложений в развитие тяжелой индустрии, поэтому ожидаемого облегчения (а о нем поговаривали в конце 30-х годов) мужики не получили.
Колхозы «Обновленный путь», имени Молотова, Кирова, Зарубина накопили маломальский опыт в организации труда и технологический. Возросла энерговооруженность хозяйств... впрочем, понятие энерговооруженности родилось в 60-е годы, а тогда говорили просто о наличии техники. Правда, техника эта оказалась в чужих руках, эмтээсовских. А над МТСами появилась еще надстройка, политотделы, новоявленные командиры...
Война «спишет» грехи 30-х годов и оправдает тоталитарное управление экономикой, больше того – она бросит этакий провидческий отсвет на тогдашнее руководство страны, но теперь – спустя десятилетия – мы знаем, во что обошлось забвение нравственных заветов...
К 22 июня 1941 года в Тулунском районе уже начался сенокос, травы стояли сочные, дни с перепадающими слепыми дождями были ясны и теплы. Все предвещало урожайный год.
В правлении колхоза имени Семена Зарубина этот роковой день – 22 июня – начался буднично: к Гаврилову, вторично назначенному председателем артели, рано собрались бригадиры: Данила Белов, Иван Татарников, Николай Шахматов, Иван Козик. Договорились, как побежит день. На Маврино должны телят гнать, Белов обещал увезти кучи навоза от коровников, бабы на заимках требовали крупы и грозили забастовкой – Гаврилов поручил это дело Шахматову.
В восемь утра председатель разрешил себе пойти домой и позавтракать. Дома сморила его неожиданная усталость, он лег и задремал, а проснулся в испарине – ему приснилось: будто он в полосе, к нему идет отец в форме солдата николаевской армии, в руке держит трехлинейку и говорит: «Война началась, сынок, ухожу...»
Николай Александрович, как рассказала мне тридцать шесть лет спустя Аграфена Осиповна, беспамятно вскочил и сильно тер лицо, будто отгоняя наваждение, уже не лег, надел пиджак и пошел в контору. Там он включил громоздкий приемник, но чертыхнулся – движок работал в редкие часы по ночам, электроэнергии не было. Телефон молчал – связи тоже не было. Скоро мужик, прискакавший из Тулуна, подтвердил сон Гаврилова – война. Гаврилов велел движок завести, настроил приемник на Москву, сквозь хрипы из эфира пошли обрывки чужих мелодий и наречий, но скоро пробилась Москва – повторяли речь Молотова: германская авиация на рассвете бомбила города Киев, Харьков, Ленинград...
В контору набился народ, слушали радио молча, без истерики. Гаврилов попросил мальчика привести коня под седлом – вдруг стало душно в правлении и нестерпимо захотелось в поле. Он снял со стены карту СССР, свернул вшестеро, затолкал в полевую сумку и поехал на заимки.
Далее рассказывает Клавдия Никифоровна Белова:
– Солнце пекло стоймя, но мы правили литовки, собираясь косить. Не давали покоя пауты, мошка попряталась, а от паутов отбоя не было. А тут Анастасия Травникова кричит: «Бабы, кто-то едет». Мы думали – Шахматов, поскакали пехом на луг, боялись Шахматова. А оказалось – Гаврилов. Он молча сошел с коня, попросил воды напиться, подошел к березе, сломил прут да листочки обдергал и хвостиком этим стал нам показывать по карте, какая у нас великая страна. Мы слухаем его и понять не можем: зачем он привез в поле карту, не гонит на покос и беседу ведет? А он говорит дале: «На своих двоих Расею обойти невозможно, но немцы на машинах...» Тута мы задохнулись, слухаем и молчим. А Гаврилов говорит: «До нас-то он никак не дотянется, но все мы теперь будем тянуться к нему, чтоб стакнуться и прогнать».
А Аксинья Марковна Непомнящая боевая была, спрашивает: «А что, Николай Лександрович, сколь месяцев потребуется, чтоб прогнать его?» Гаврилов отвечал: «Неразумный ты человек, Аксинья, штатская женщина. А я отвечу как военный» (и тут все вспомнили, что Гаврилов пришел из военных, и гимнастерку его вспомнили, которую он отдал переселенцу)... Ну, и ответил... много, говорит, крови прольется, еще неизвестно, выдюжим ли, боюсь сознаться... И мы, мужики, уйдем, а вы останетесь, жалко мне вас, но вы раньше времени не плачьте... – посмотрел на нас и поехал, но скоро оглянулся – а мы стояли, оглушенные, и враз заплакали...
Никто из знакомых нам мужиков не дрогнул в невиданном этом испытании, не спрятался по справке в тылу.
Заусаевский Федор Ковалев поднимал роту в атаку и был убит в первые месяцы войны. Сразу после гибели припомнили заусаевцы его – справедливый был председатель: сам зарод наметает, а и отматюгает кого, и вечером у костра выпьет, и песню споет...
Медведев с сыновьями пошел на войну. Одного сына убило под Кенигсбергом, а второй горел дважды в танке, но остался жив, до Берлина дошел.
Горюнов Тимофей... У того нога неисправная была, служил на железной дороге, тоже не без пользы войну прожил. Зато родные братья его добровольцами ушли и не вернулись.
Евгеньевские Роман Сидорович Гнеденко и Филипп Андреевич Жигачев оттрубили от звонка до звонка, и повезло – уцелели. Гнеденко прихватил и Восточный фронт. А Филипп Андреевич шастал по Румыниям и Польшам, Венгриям, смотрел взахлеб крестьянскую жизнь за границей, завидовал: без всяких тебе колхозов справно живут мужики. Про Венгрию Жигачев рассказал мне целую повесть, но времени сейчас передать ее нет. Когда же вернулся Жигач домой, ждала его на последнем уже пределе разбитая усталостью жена. Дети не узнали его, старшая Надя только разглядела в военном родное. Жена вскоре скончалась (рассказывая о ней, сильно заплакал старый солдат)...
Ушли сыновья раскулаченного Краснощекова и геройски погибли. В общем, Евгеньевка не ударила в грязь лицом.
А среди афанасьевцев объявились дезертиры – имен их называть не могу, родне горе лишнее. Дезертиры отсиживались на заимках, в зимовьях. Но, к чести десятков фамилий, которые прописались ранее в моей книге, среди них не оказалось ни одного труса. Храбро сражался на войне жестокий Шахматов Василий Федорович; вместо того чтобы в тюрьму садить фронтовика Михаила Непомнящих, лучше бы он за стопкой померился с ним наградами: у того и другого по два ордена и медали всякие. Шахматов ходил и в Китай, общался с японцами, с американцами (кто больше выпьет рисовой водки – соревновались, победу, разумеется, одержал сержант Шахматов с друзьями). Сбегал раз даже из любопытства в одно заведение...
Иван Петрович Князькин был в плену, работал на каменоломне, бежал из плена, прошел допросы у особистов – остался на свободе.
Николай Илларионович Белов, сын того Белова, приятеля Семена Зарубина, всю войну оберегал восточные берега и через семь лет вернулся домой, чтоб после Шахматова возглавить колхоз.
Гордость колхоза краснодубравский Петр Николаевич Болохин, воюя с японцем, дошел до Цицикара, разминировал поля. Тогда он не догадывался, что придет день – и объявят его победителем шерагульского хлебороба Лыткина, ибо краснодубравцы возьмут урожай в 36 центнеров с гектара и перекроют все тулунские рекорды. Будет это – о-ей – не скоро! Но в семье Болохиных трое ушли на войну – отец его Иван Дмитриевич, младший брат, Серега, и сам Петр. От отца пришло только три письма – и сгинул старый солдат. А Сергей раненый приходил домой, отлеживался, ушел снова и пал в бою в сорок четвертом.
Не забудем впопыхах и Андрея Борисовича Сопруненко. Он, в лагере-то магаданском, ни разу к врачу не сбегал за всю войну – выходит, и он воевал. И семь никитаевцев, что сложили невинные головы за колючей проволокой, должны быть благодарно помянуты...
Чуть не забыл я Костю Травникова, из Афанасьева.
Это у него кулачили деда, а отца не взяли в ряды Красной Армии. Костя отбухал пешком от Смоленска до Берлина и вернулся домой с трофейной гармонью...
Помянем и ратный подвиг Алексея Татарникова, чей отец был разорен, а он, Алешка, мальчиком выпрашивал на коленях разрешения стать колхозником. Впрочем, я уже говорил про Татарникова.
Геройски погиб единственный сын Евлокии Перелыгиной.
Теперь выбиты имена павших на скромных памятниках в Никитаеве, Заусаеве, Афанасьеве – долог горестный список.
Женщины в наших деревнях достойны прижизненной славы, трепетной темы не коснусь походя. Скажу лишь – все, кто назван в этой книге, все женщины до смертельной устали трудились на фермах и в поле, но мужьям на фронт правды никогда не писали: что в голоде живут сами и ребятишки босиком очередную зиму встречают... Нет, помяну, как и в годы войны, когда ни одного мужика не осталось в округе, опускалась под землю чистить колодец многострадальная Александра Ивановна Сопруненко. Женщины посадят ее в бадью, опустят вниз, и оттуда, глядя в прореху на лафтaк неба, думала Александра Ивановна: «Господи, спасибо Тебе, родимый, что детям моим чистой водой голову помыть могу...»
Как не вспомнить и подвиг детей в войну?! Восьмого марта 1941-го Лешке Семенову исполнилось четырнадцать лет, но он уже два года работал прицепщиком, грянула война, прошел трехмесячные курсы, сел на трактор «Т-22», гусеничный, ребра колотил, потом перешел на «НАТИ». Войну отбухал с ровесниками Мишей Михайловым, Василием Ивановым, Ильей Зарщиковым и Михаилом Платоновым. Работали впроголодь сутками, ночевали в поле. И девки, совсем юные, рядом были: Катя Михайлова, Маруся Смоловская, Зоя Травникова. Зоя в пятнадцать лет села на трактор, в девятнадцать – война шла к концу – осколком металла в кузне поранило ей глаз, сорока процентов зрения лишилась девка. Обратилась она к тулунской врачихе, а та: «Таких инвалидов не бывает у нас, иди работай», – и снова работала Зоя Даниловна заправщиком, учетчиком. Замуж не вышла.
Брат Зоин – Костя до фронта успел тоже покайлить.
Алексей Иванович Семенов, в просторечии Леха Моргач, рассказал, как работали на двух хозяев: зимой на МТС, а летом – на колхоз, но за сохранность трактора отвечали головой перед МТС. А то закинут парней в чужие деревни, на прорыв, родину забудешь – Афанасьево. В 1976 году бывший директор МТС Константин Степанович Тетюриков приехал, пенсионер уже, но депутат РСФСР, и говорит Алексею Ивановичу: «Состарился ты, Алексей». – «Состаришьсся», – спокойно отвечал ему Семенов, за плечами которого тридцать семь лет трудового стажа из пятидесяти прожитых на белом свете лет.
Мальчишкой начал работать Василий Макеевич Терлецких, семнадцати лет, в 43-м, ушел на фронт, добрался до Берлина, был тяжко ранен, отлежал в госпитале четыре месяца, и двадцати лет ему не было, как стал он ветераном Отечественной.
Признаться, сам я с Терлецких не говорил, поручив это дело Наде Фоминых, афанасьевской библиотекарше; позже, читая ее тетрадку, обнаружил удивительные строки: Василий Макеевич, не сразу сосредоточившись, всякое-разное говорил Наде, а она, молодчина, писала. Так нашел я подтверждение шахматовской жестокости. Это как Непомнящих вместе с Шестопаловым в поле дежурили (Михаил Петрович Непомнящих про Шестопалова не говорил мне, забыл, видно), одну ветку вырвали да в котелок, на костер. «Там было пятнадцать картофелин, – пишет Надя. – Шахматов с разбегу пнул котелок и уехал, приехала милиция, и мужиков забрали. Но самое удивительное в желтой этой тетрадке – как Василий Макеевич, нынче многоопытный комбайнер, вдруг заговорил об играх предвоенных. Понимай так: от игр мальчики эти пошли на трактора и встали к орудиям войны.
В чижика и в бабки играли, на качелях качались. «Самая захватывающая игра, – пишет Надя Фоминых следом за Терлецких, – команда на команду, в лапту. Выберем матки, а матки наберут команды, вот и схватимся. И хочется ушить тряпичным мячом врага...»
Тряпичным – резиновых не было.
Нынче прекрасный пастух в Никитаеве Андрей Егорович Пиляев, человек с обостренным чувством собственного достоинства, пятнадцати лет принял в 1941-м мужицкую ношу, не уронил ее до сих пор.
Краснодубравский Егор Семенович Аксютец, считающий нынешнюю жизнь сказочно счастливой, встретил пацаном войну, с тех пор роздыху не знал, но диво дивное – оба они с женой Марией Ивановной, раскрасневшись, рассказывали, как дружно встретил беду народ и как на редких гулянках Марья Ивановна девчонкой подыгрывала вдовам и солдаткам на балалайке, дар такой у Марии Аксютец имелся – балалаечный...
Всю войну ходил по никитаевским дворам, побираясь, Юра Пимаков. Теперь Пимаков, наверное, забыл ту пору... Нет, едва ли забыл, невозможно это забыть. Сам я расспросить не решился мужика, старые раны бередить боюсь; доверюсь рассказу соседей. Отец Юры помер, когда тот малым бегал под стол, жили они, полусироты, с матерью. Мать возила муку к пекарне, один раз не удержалась, насыпала в карманы крупчатки – голодно невтерпеж было, она и думала сухих лепешек прямо на чугунной плите напечь. Ее застукали и сразу посадили. Юра с братиком и двумя сестренками остались на воле. Мать увезли в Иркутскую тюрьму, а Юра все военные годы ходил по Никитаеву, постучится (деликатный был мальчик), войдет и сядет на пороге:
– Тетя Дуня, дай картошечку, – и одна штанина у Юры целая, а вторая порвана.
Сердобольные женщины поделят свою пайку хлеба, молока в банку нальют – так не дни или месяцы прошли, а годы, долгих пять лет. Сталинградская баталия выиграна, подошли наши к Варшаве, взяли Берлин, а Юра с сестрами и братцем все ждал мамку. В доме у них все описали и забрали, хорошо, русскую печь нельзя было описать и полати. Детей Пимаковых отказались взять в детдом – не сироты, дескать, мать, мол, живая у них есть, а то, что отсутствует, – так это временно. Но в детдом они и не хотели идти. С лета готовились мальчонки к зиме – стаскивали хворост на двор, огород садили, пропалывали и окучивали и с помощью деревни выжили, все выросли. И приехал я, чужой летописец, издали смотрел на Юрия Пимакова, и боль саднила меня, не решился я подойти к нему и не подошел.
Зачтется ли детям безымянный их подвиг в Великую Многострадальную?..
В 1943 году летний пожар добавил горя афанасьевцам – полдеревни дымом ушло в небо, но и тут не сдались женщины, сбившись в стаю и грея друг друга.
Молох войны уничтожил многих, немногие вернулись. Погибшие остались в памяти односельчан и все еще задают разные вопросы оттуда, из небытия.
Вот и меня тревожит один вопрос: что же это за удивительный народ – русские? В погибель гнула их судьбина в 30-м году и все годы рокового десятилетия, но стоило грому грянуть, мужик наш перекрестил ребятишек, жене велел: «живи, пока живется», ушел и ожил, задвигался у пропасти на краю; и мы увидели вдруг лица, утратившие покорность, а исполненные силы и величия.
Нет ли в самом деле здесь загадки?
Дивизии генерала Власова состояли большей частью из добровольцев – факт безотрадный: русская армия воевала против своих. И от наших деревень два делегата затесались в РОА... Честолюбцев, неудачников, наконец, просто враждебных новому строю людей, да еще и невинно пострадавших, если не простить, то понять можно – они искали прибежище для реализации несбывшихся надежд.
Но почему многократно обиженные и поставленные в унизительное положение полукрепостных тулунские мужики не бросили оружие или – как власовцы – не повернули его против командиров? – тяжеленный вопрос. Ссылаться мы не смеем: фашист страшнее, мол, отечественных опричников. Не следует и лгать: наш мужик, Никита Моргунок и Вася Теркин, был-де уже социалистом до мозга костей. Действительность каждодневно отучала, а не обучала крестьян от социалистических верований. Они и православную веру успели частью растерять...
Так что же случилось вдруг в 1941-м? Может быть, мощным толчком пробудился инстинкт национального самосознания... Или мужик, идя на войну, предвосхищал послевоенные перемены, послевоенное потепление... Все эти соображения и доводы хороши для братьев-интеллигентов, которых хлебом не корми, а дай подискутировать об особой избранности русского народа, о дальновидном терпеливом характере русского... Тут есть, конечно, и верные зерна – терпеть мы обучены. Женщины, например, в тулунских деревнях – они ведь не только мужиков дожидались, беду перемогая. Силы теряя, они воистину терпели лихолетье.
Но мужики... Скажу, что думаю о моих героях: война – не вообще война, а война на передовой – раскрепостила мужика. Под пулями врага мужики вдруг вспомнили, что тут-то как раз и не надо бояться – здесь пуля оборвет жизнь, но надсмотрщика тебе здесь не положено. Рядового и командира уравняла в окопе близкая гибель, и сразу сложилось и окрепло предсмертное это братство... И никакие особисты не властны были уничтожить на фронте мужицкую спайку.
В 1956 году прочитал я в «Литературной Москве» стихи, чьи – не помню: «в год затемнения и маскировки мы увидали ближних без личин...» – так и на войне сердца освободились от подозрений.
На войне мужик в гибельных обстоятельствах обрел себя, вспомнил себя. У него и времени оказалось тут больше – в дождь он подчас сидел в блиндаже, а не на гумне хлеб молотил, в снегопад грелся у буржуйки или у плеча товарища.
Михаил Петрович Непомнящих сказал:
– Кабы знал, что после фронта в тюрьму угожу, я б, Иваныч, дальше воевал и бил бы танки энти...
– Да с кем бы ты воевал дальше, Михаил Петрович? – подивился я, не сразу поняв подспудную горечь его слов.
– С кем? С мировой буржуазией! Тама меня человеком считали, командир за ручку здоровкался. Ты, говорит, освободитель Расеи, Михаил, держи голову прямо...
Сибиряку еще один невиданный прибыток явился на войне. Европейские тихие морозы, да ежели еще с солнцестоянием, оказались милы ему – не то что немцу иль избалованному теплом славянину-южанину.
Да, работать на войне было рискованно, но ему, крестьянину, привыкшему к обморочным заботам с малых лет, ратная служба пришлась по плечу. Потому, чем дольше длилась война, тем увереннее втягивался в нее и осваивался с ней и в ней мужик, по точному слову живого классика – утверждался[74]. Немец же, напротив, не добившись скорой победы, дальше хотел воевать с комфортом и с выходными днями, немец мечтал о белых простынях, о которых наши мужики и не слыхивали. Немец, не только мещанин, но и рабочий, видел сны в окопе: как он ест с фарфоровой тарелки пышную котлету; а тулунский мужик, привыкший из горячего котла хлебать в поле и из общей семейной чашки, а в семье народу было не меньше, чем солдат в отделении, – он и тут хлебал из медного котелка с аппетитом, да еще и надбавки просил, лишь бы баланда была погорячей да погуще. И спал он привычно на жестком, без пуховой подушки...
Что и говорить – в разных условиях оказались на войне мы и иноплеменные враги. Но их никто и не звал, сами, не постучавши для приличия, вошли в наш дом. И еще я думаю – скосило свинцовой метелью много наших, ой как много, но живые вернулись отдохнувшие и жадные до хлеборобской круговерти. Издалека-то посторонние заботы в колхозе стали казаться родными, и взлет после войны оказался в первые годы высокий. Вот ведь как неожиданно повернулось...
Глава одиннадцатая Новые времена
Прошло много лет с той поры, когда вернулись уцелевшие бойцы по домам, выросли и стареют их сыновья, а уж и внуки работают – одни в колхозе, другие на стороне.
Внук Иллариона Белова, например, в Афанасьеве стал бригадиром тракторной бригады, сменив Василия Казакевича, внука Пахома Казакевича. В мае 1977 года Василий, как и прабабка его Мария, ушел навсегда в тулунские леса...
Выросли дети у Фроси Шолоховой, внуки Михаила Жоголева. Я застал младшего, Василия, еще в родительском гнезде, он был женат, работал самостоятельно на отцовском комбайне. Да, а с отцом его, Александром Дмитриевичем, мир не взял нас: долго прислушивался Шолохов к моим разговорам со стариками, ревновал к Фросе, поскольку я больше беседовал с Фросей – она-то местная. И как-то не выдержал. Отозвав меня на дальний пенек – летом ссора была – Шолохов прямиком сказал:
– Я как коммунист скажу: нехрен слухать стариков, оне наговорят... Ишь, и то плохо, и энто...
– Кого же слушать, Александр Дмитриевич? И притом они и о хорошем рассказывают.
– Меня слухай, – велел Шолохов. – Я сталинскую правду тебе расскажу.
– Да ты же ведь и не жил тогда здесь, явился после войны.
– Все одно! – закричал Шолохов. – Меня слухай, а портунистов не слухай.
Я усмехнулся, это взбесило шестидесятилетнего мужика. Усмехнулся же я потому, что вспомнил, как накануне Шолохов напился, стал гонять Фросю и невестку, Васину жену, по двору и кричал:
– Бабешки! Коммуниста не принимають...
Фрося, легкая на ногу, отвечала:
– Портунист ты, а не коммунист.
Шолохов бежал с палкой за женой, а Ефросинья Михайловна – не будь дура – ко мне спряталась, в домишко, некогда бывший первой евгеньевской школой, а теперь, когда Евгеньевку закрыли, ставший для трактористов и комбайнеров заезжей избой на сезон. Шолохов рассердился на весь белый свет, зауздал кобылу и поехал в Котик, купил там литр водки, распил со случайными собутыльниками, на обратном пути заблудился и уснул в телеге. Ночью ему показалось, что он дома, он разделся до исподнего, а под утро – весь опухший от комариных укусов – проснулся посреди огромного пшеничного поля. Распряженная кобыла ходила рядом. Домой Шолохов явился притихший и жалкий. Но день пробежал, два, снова голос подает:
– Портрет Сталина видишь у меня на стене?
– Вижу.
– Не сыму!
На портрете (из «Огонька») Сталин изображен в белом легком кителе, через руку плащ переброшен, смотрит в поля, а в полях видны точечки тракторов, линии электропередач и безликие фигурки людей. «Утро нашей Родины» – называется известное полотно. В мои школьные годы эта картины висела в кабинете директрисы.
– Да кто же требует снять Сталина со стены? – удивился я.
Шолохов помолчал, потом отвечал:
– Они клевещут на себя. Че тут писать? Жил у нас Михалка и помер. А не помер – ты и его вписал бы? А че о нем писать?
Прозвище Михалка было у старика Михаила Степановича Асаенка, некогда крепкого хозяина, в сорок лет вступившего в колхоз. У Михаила Степановича родились две дочери и поздний сын. Сын после войны уехал из Евгеньевки, вернулся с женой, пожил недолго, родил сына и уехал, бросив семью. Воспитывать внука стал Михаил Степанович. Сын вернулся в деревню с новой женой, нажил двоих детей – через три дома от первой жены, бросил и вторую семью и окончательно исчез. Михаил Степанович вырастил и этих внуков. Кормил и одевал. Овцу живую на плечи поднимет, в Тулун на базар снесет, продаст, а к вечеру дома уже – с гостинцами.
Состарился Михалка, зато внуки вымахали, как дубки, крепкие. И стал к Михалке наведываться Шолохов:
– Каку ты жисть прожил, Михалка? Безыдейную.
Девяностолетний старик виновато моргал глазками и соглашался с Шолоховым.
– Я те как коммунист скажу, – наступал Шолохов, – Фома грабли делал, от Фомы память останется. А от тебя что останется?
Фома – это Фома Степанович Поплевко, серьезный грабарь, да ведь что его равнять с Михалкой: каждому свое.
Михалка, седой, с выцветшими глазами, сидел и плакал. Хоронили Михалку не дети – внуки: со всеми почестями, с поминаниями, и оградку красивую сделали на кладбище. Теперь нет оградки и кресты почти все поломаны – трактористы выпьют весною и на машинах по пустой деревне, по могилам...
Да-а... Стареют дети у Михаила Петровича Непомнящих. Минувшим летом постигла беда старика – младший, Виктор, повесился. Гонял на отгул стадо в Евгеньевку, с женой помириться все не мог (пьет жена беспробудно) и избрал исход. Афанасьеву вообще что-то не везет: Виктор Михайлович Непомнящих был седьмым самоубийцей в последние полтора года[75].
Сыновья Жигачева все ушли в город, а внук один шофером работает в колхозе, исполнительный, трезвый парень.
Александра Ивановна Сопруненко живет одна-одинешенька. Если занеможет, младший сын Иннокентий подсобит, прибежит, печку истопит, воды принесет от колодца, а когда и забудет, совсем не заглядывает к матери.
В одиночестве живет Надежда Егоровна Ломакина, и другие старухи маются каждая сама по себе – повелось теперь отделять стариков на отшиб. У Алексея Даниловича Медведева сын в Риге (второй погиб), жена померла, но сошелся Алексей Данилович с Верой Григорьевной, в девичестве Родионовой. Родионовых когда-то разорил Тимофей Горюнов с сотоварищи. Горюнов и сейчас живет неподалеку от Медведевых. Но, как и раньше, у Медведевых ладный и чистый дом, а двор – загляденье; у Горюнова развалюха изба, крыша течет, ограда покосилась. А ведь Горюнов намного младше Алексея Медведева. Медведеву-то восемьдесят пятый год идет. В Заусаеве ночую я всегда у Медведевых, зимой в избе, а летом они отдают мне баню...
У Пелагеи Кузьминичны, одной из немногих, старость обеспеченная, приходится, правда, с внучкой нянькаться, но Пелагея без работы и не может. Зато у Пелагеи сын Петя... ладошку приставив к глазам, высматривает его Пелагея Кузминична, а он не оставляет председательские заботы, с пяти утра в круговерти.
Петру Николаевичу Цареву 34 года. Он стал председателем колхоза имени Кирова в 23. С малых лет, без отца, помогал матери в поле и на огороде, закончил Тулунский техникум, отслужил армию, стал в «Парижской коммуне» бригадиром, и позвали его, мальчишку, в Заусаево. На собрании Царев соврал мужикам, набросив себе пять лет, – боялся, раскричатся, провалят. Пацан-де.
При Цареве-то колхоз выбился в люди. Но Царев уже не на пустом месте начинал.
Спасибо Александру Дмитриевичу Шолохову, сохранил он в тумбочке, под портретом Сталина, записную книжку Георгия Степановича Автушенко, 1924 года рождения, местного, тулунского мужика.
Автушенко – предшественник Царева, а перед Автушенко громадиной этой (колхоз собрал не все, но четыре из шести деревень в 1951 году) руководил Николай Илларионович Белов, человек по многим статьям крупный. Даже правдивость Белова отмечена талантом большого, человека.
Я обещал раньше особо сказать о председателях. Белов один из них. Разное мне говорили люди об этом человеке, но каждый раз я замечал: в последние годы Белов полюбил-де горькую. И если бы он не полюбил ее, то – так вытекало из устных рассказов – «мужик он хваткий и ума палата».
Белов понравился мне своей основательностью. Шахматов, предшественник его, хитрил и приукрашал прошлое, а заодно и себя. А Белов, поднявшись с постели (стенокардия мучает), сказал:
– Если к завтрему полегчает, будем говорить в десять утра. – И точно, в десять утра мы сели за кухонный стол, а поднялись в обед.
Еще трижды говорили, и Белов, посмотрев зорко в глаза, повелевал: « А, была не была, пиши». Но не исповедовался он, а размышлял, припоминая хлопотное свое время.
– Грамоте я выучился до восьмого класса в Афанасьеве и в Тулуне. После войны вернулся, снова заведовал читальней. Хулиганить парням не разрешал, газеты читал мужикам, позволял иногда танцы провести. В общем, не сильно тяжелая работа, стал я вроде как мучиться. Вдруг вызывает меня Иван Тихонович Егоров, первый секретарь райкома партии: «В „Заре“, говорит, в Какучее мужики председателя скинули. Он перед уборочной собрал их и давай накачивать. А они ему: „Ты поросят на сторону продавал“. А он: „Не имеете права без райкома критиковать меня“. Они свалили его на пол, печать колхозную отобрали и выгнали». Усаживает Егоров меня в бобик, едем, дорога худая, но прыгаем. В Какучее старик один отозвал в сторону: «Тебя привезли руководить? Не бери обузу. У нас кто поруководит полгода – каждому десять лет дают...» Егоров собирает по деревне народ, а я на попутной машине и – деру! К отцу явился: «Нет меня, отвечай». Через неделю вызывают в райком. Я, хоть и не коммунист, еду. «Ты что это, мать-перемать?» А я заготовил такой ответ: «Писать, считать умею, воза класть могу, а народом руководить не учен». Меня и словили: «Не умеешь – научим». В Иркутск отправили на три года. Школа называлась по подготовке руководящих кадров колхозов, на Некрасова, 2, в крыле горно-металлургического института помещалась. Батюшки зеленые, двадцать три предмета выучить наизусть надо. А голодно было. Я бурятам нанялся помогать – решу контрольную, они мясом накормят. С математикой у меня браво шло. Да и по другим предметам катилось. В конце учебы объявили одну четверку, «Жизнь растений с основами ботаники» – четверка за эту Жизнь досталась, зато остальные пятерки. На практике был я в родном колхозе. Снова зовут в райком, я уже коммунист: «Будем садить председателем в Заусаево. Сольем с Афанасьево. Сегодня собрание». Вечером еду верхом в Заусаево, народу собралось много – всех объединение интересует. Четыре часа говорили потом, в двенадцать ночи, голосование. Открытое. Большинство – за меня, меньшинство за Румянцева, он ране меня тут председательствовал, а до колхоза в милиции служил лейтенантом. Так 19 июля 1950 года стал я председателем объединенного колхоза имени Кирова. Обидно, афанасьевское название не осталось, но где же тягаться Семену Зарубину с самим Кировым... А через год велели принять и Евгеньевку в общий котел, и колхоз имени Молотова стал бригадой колхоза имени Кирова. Помню, поехали в Евгеньевку, солнце закатилось. Белоножку привязал у правления, говорю Степану Краснощекову, он счетоводом был: «Дай счет N°5». Это лицевой счет колхозников – что получают на трудодни... Не приведи Бог жили евгеньевцы: в 1951 году 280 граммов хлеба на трудодень. Стали надои смотреть: от группы в двенадцать коров за два месяца надоили 146 литров, 200 граммов в день, хуже козы. Пошли на конный двор. Конь подвешен. На ферме корова подвешена. Шесть свиноматок не ходят... Что же, говорю, худо-то так, мужики. А один высокий, белый, Жигач прозывали его, отвечает: «Не от нас наша жизнь зависит».
Тогда вышло постановление Совета Министров – 15% от сданного государству хлеба выдавать колхозникам. Я своему счетоводу Леониду Гаврилову велю: «Лучше считай, чтобы не обидеть народ». Мало, однако, получается. Я приказал: «Дадим по два килограмма на день». В тот год район недосдал 2000 центнеров. Раскидывали по хозяйствам. Я не могу наскрести еще 500 центнеров. Осталось на семена, на фураж и вот малость на трудодни. А Егоров: «Добренький какой, по два кг хочешь дать каждому».
В Шерагул, кричит, задвинем тебя, там в «Чапаева» запоешь не так...
И точно, привозят сюда какого-то Конусенку, собрание собрали. Из райкома посланец велит народу голосовать за него, а народ по-другому решил – чтоб Белов остался. Я-то, дурень, сижу и молчу. Мне бы самоотвод, а и злость взяла – за что меня снимать? Ну, за что?! Госпоставки я выполнил, а район нет, так почему я должен за район отвечать... Я и молчал, не отводил себя. Мне потом это в вину поставили: «Линию партии нарушил». Егоров посылает комиссию к нам, те все ходят, вынюхивают и считают, что порезал я устав сельхозартели. Тогда мода такая шла. Зовут на бюро. Еду – «Исключить из партии, сдать под суд как врага колхозного строя». Тут же сидит из обкома представитель, думаю, хоть слово скажет, нет, молчит. Вечер поздний, тихо за городом. Ковыляю на лошадке домой, к отцу заехал, рассказал ему. А отец велит: «Вернись в Тулун, у райбольницы старый прокурор живет, обратись за советом, теперь он на пенсии храбрый». Я – в Тулун, нашел прокурора, мнусь у порога. А он ровно священник: «Не таись, всю правду расскажи». Я коньяк и шампанское достал, говорю, выпьем чуть-чуть, а то я стесняюсь. Он рассмеялся. Мы выпили по стопочке, я рассказал все, как есть. Он сразу сел за отдельный стол и от моего имени бумагу написал, на Маленкова, в Москву, конверт отыскал, запечатал. Иди, говорит, к поезду. Не вздумай на почте бросить, за твоими письмами следят. А транзитным дойдет... Письмо бросил я в почтовый ящик московского поезда третьего мая 1952 года, семнадцатого мая приезжает в колхоз Алексей Иванович Хворостухин, первый секретарь обкома партии. Вижу – через поле черная легковая идет, у нас таких машин нет. Я – под козырек. Рядом с Хворостухиным второй секретарь райкома Иванченко.
Хворостухин руку на плечо мне положил:
– Ну, как дела? Когда отсеешься?
– На утро, снега не будет, осталось семнадцать гектаров.
А весна тяжелая была, холодная. Проехали по полям. К одному только подобрались, Хворостухин спрашивает: что на этом поле сеять будем? Овес, отвечаю, но не будем, а уж кончили.
Хворостухин – Иванченке:
– По многим хозяйствам проехал и заметил, что пшеницу хуже сеют, чем он посеял овес.
Тут как раз солнце выглянуло, Хворостухину оно понравилось, он улыбнулся.
Осенью решением бюро обкома отменили решение райкома, но оставили выговор. Я заявление на стол Егорову: «Отпустите меня, потому что все равно зло затаили». Зимой меня отпустили... Оказался я в тридцать два года молотобойцем, а потом бригадиром в Евгеньевке...
Далее Николай Илларионович Белов поведал историю, как он с помощью водки спас мужиков от голодной зимы; слушая басовитый голос, повествующий быль о 50-х годах, я ни разу не прервал Белова. Послушайте и вы.
– Уполномоченных хватало. Иной раз по двое, по трое явятся: один за картошку, другой за пшеницу отвечает, а третий – за подписку на заем. Лезут в дело, сами же мало че понимали. Я и надул одного. Он служил замполитом Никитаевской МТС, сам из учителей, звали его Тимофей Отрохов... Да, а как раз уборочная была. На перекрестке дорог в Евгеньевку и в 3-е отделение совхоза «Сибиряк» массив сильный был, взяли до 16 центнеров с гектара. И тут Егоров нагрянул. Увидел ворох хлеба, походил вокруг и велит: «Знатная пшеница, сдай государству». Я в ответ: «Иван Тихонович, этот ворох последний, что на трудодни осталось». А Егоров: «Интересы государства превыше всего». Промолчал я. Утром по приказу Егорова прибыл Отрохов, исполнение наблюдать. Среднего росточка, белоголовый, кирзовые сапоги, в телогрейке. Приехал в ходке МТС, тогда МТС держали лошадей. Не успел с ходка сойти, спрашивает:
– В заготзерно начали возить?
– Начали, – отвечаю. А у самого думы, что колхозникам на трудодни давать. Пшеничные отходы?
Прошу Отрохова проехаться по полю, а сам собрал бригадиров Павла Поплевка, Дубравского, заусаевского Ивана Андреевича Сенько, ныне покойного, и Шахматова. «Людям хотите помочь с голоду не пухнуть?» – «Да, мы готовы помочь, но как?» – «А так. Отрохова увезу водкой поить, а вы за день, сколько можете, уберите пшеницу на склад. Не меряная она. Но чтоб с весу прятали. Георгий Алексеевич Дятловский, заведующий током, будет взвешивать. Поняли?» – «Поняли».
Отрохов скоро явился – не запылился. Подобострастно докладываю: «Видишь, – мы на „ты“ с ним были, – грузят подводы. Пока они до Тулуна и обратно и снова повезут, надо отобедать». Отрохов поверил мне: за обед не управятся, подгоним после обеда, отвечает. Сели мы в его ходок, в Заусаево поехали, я тогда на квартире жил, у старичка, налогового агента райфо. Звали старичка Евдоким Кондратьевич Серпилов, шустрый старичок. Я велю Евдокиму втихаря: «Мигом за бутылкой». Он как тут и был. Сели мы за стол, по маленькой выпили, закусили, разговор заплели, заплели. Еще выпили. Смотрю, клонит Отрохова от еды и выпивки ко сну. «Может, отдохнешь?» – «Отдохну». Я уложил его на свою койку, накрыл одеялом. Подождал. Спит. Я – в поле. К вечеру с Отроховым подъехали к Дятловскому. «Георгий Алексеевич, вывезли на заготзерно?» – спрашивает Отрохов. Тот, не моргнув глазом: «Так точно». Отрохов говорит – надо доложить Егорову. Едем в сельсовет, звонит, докладывает, просит разрешения домой вернуться. Егоров разрешает.
А мы составили ведомость на спасенное зерно, смололи и быстро раздали 250 тонн. Снова собрал бригадиров: «Сболтнете – вместе в лагерь пойдем». И вот сколько лет прошло – больше двадцати? Молчим. Правда, теперь-то нас бы, может, и не покарали за людскую заботу... А может, и нынче досталось бы...
Белов встал, прошелся по горнице. Половицы скрипнули под ним. Богатырского сложения фигура, мощные руки, уверенный голос – и такая суетливая история с хлебом, спасенным для крестьян... Припомнил я, как и предшественник Белова, жестокосердый Шахматов, попадал в переплет. Однажды влепили Шахматову выговор за то, что раньше райкомовских сроков посеял горох, а когда осенью горох оказался лучше всех в округе, в райкоме и не вспомнили про зряшное наказание.
После Белова стал председательствовать Автушенко. Впервые в колхозе оказался вожак, который более десяти лет бессменно руководил хозяйством. Один этот факт вызывает пристальное к себе внимание.
Записная книжка, сохранившаяся у Шолохова, не передаст характер человека, который добросовестно работал в беспокойную хрущевскую эпоху. Но кое-какие детали мы узнаем из жизни Автушенко.
«Уплочено за сапоги 390 рублей», – читаем в одном месте.
22 мая 1954 года запись: «Рюмин Василий Иванович работает в Ермаках – с марта месяца. Вернуть в колхоз».
Ермаки – рабочий поселок.
«Срезать трудодни сторожу. Пьет».
«На собрании сказать – “Шахматов, составляйте акты на тех, кто выходов не имеет”» (на работу).
«Жигачеву выписать стекло, 114 руб.».
«Выписать муки 50 кг Филатовой Фекле». «В МТС просверлить жернова к мельнице». «66 литров молока должны Дьячкову».
«Исправить дорогу к ферме», – записная книжка толстенная, а рабочих записей мало; видно, Автушенко не любил писать, доверяясь памяти. Но сохранились данные по планируемой урожайности в первой, Заусаевской, бригаде: со 137 гектаров посева хотели взять в 1954 году по 16 центнеров озимой ржи, с 240 га взять по 15 центнеров овса, пшеница должна была уродить до 18 центнеров с каждого из 300 гектаров. Просо, гречиха, горох – всего по 10. Лен – 4 центнера. Картофель (с 22 га) – по 160 центнеров. Однолетних трав хотели накосить по 24 центнера с 10 га, и столько же многолетних, но с 59 гектаров.
К сожалению, по другим бригадам планы свои Автушенко почему-то не сообщил, но вот что посеял (фактически) колхоз:
пшеницы – 869 гектаров,
овса – 816,
ячменя –195,
гречихи – 72,
проса – 2,5,
гороха – 20,
картофеля – 39... В графе «Личный состав работающих на животноводческих фермах» (заметьте, язык сталинских времен, военный – «Личный состав») встречаем знакомые фамилии: доярку Дьячкову, сторожа Горюнова, пастуха Ивана Казакевича (сына Пахома), Наталью Непомнящих и многих других. Впрочем, вот и истинная урожайность отыскалась, на странице 136:
озимая рожь – 10,6 ц с га (планировали 16 ц),
яровая пшеница – 16,7 ц с га (планировали 18 ц),
овес– 12 ц с га (планировали 15 и),
ячмень – 12,4 ц с га (планировали 17 ц),
гречиха – 1,3 (по всем планировали 10 ц).
горох – 2,4
просо – 0.
Картофеля взяли мало – 47,6 центнера с га, а планировали 160 центнеров. Капуста уродила: 25,8 ц с га, огурцы 89 центнеров.
Незавидные урожаи. Посмотрим, как Автушенко завершит свою карьеру. В 1965 году по тем же культурам колхоз имени Кирова взял:
пшеница – 19,00 (было 16,7),
ячмень – 19,00 (было 12,4),
овес – 18,00 (было 12),
горох – 9,98 (было 2,4),
картофель – 81,1 (было 47,6),
овощи – 54,00 (было 32),
однолетние травы – 19 (было 24),
многолетние травы – 13,00 (было 24).
Было бы интересно сравнить себестоимость продукции на начало и конец автушенковской деятельности, но мы не найдем в его записной книжке данных начала (этого показателя не было у той поры), но заглянем в финал:
себестоимость зерна – 4–15 (в руб.),
–”– овощей – 12–80,
–”– картофеля – 6–38,
–”– сена однолетних трав – 5–13,
–” – сена многолетних трав – 5–13,
–”– молока – 22–50,
–”– привеса к. р. с. – 154–30,
–”– привеса свиней – 167–80.
Разумеется, многое познается в сравнении. Нет у меня под рукой данных по себестоимости начала работы Автушенко, зато есть данные по урожайности, по животноводству. По зерновым и картофельно-овощным культурам прогресс (эх, выскочило словцо!)... разница ощутимая в урожаях, но по пшенице за 12 лет поднять урожайность с 16,7 до 19 ц с га – это далеко не победа. Упали урожаи по травам – следствие хрущевской «антитравной» политики.
Выросли удои молока, но в других графах по животноводству... толкли воду в ступе.
Все же автушенковские показатели без сильного стыда можно обнародовать, и Царев действительно начинал не на пустом месте. Сам же Автушенко к 60-м годам, хотя и было ему всего сорок лет, стал сильно уставать и злоупотреблял горькой. На людях пить стеснялся, поэтому прятался в дальний угол – в Евгеньевку. Александр Дмитриевич Шолохов составлял ему частенько компанию, почему и книжка Георгия Степановича оказалась однажды забытой в чужом дому и ждала своего часа.
То ли Автушенко был добр, то ли эпоха стала теплее – никто не рассказал мне о его грубости или насилии, а уж про тюрьмы вообще не вспоминали. Если Шахматов посадил после войны семерых, если Белов бывал резок, а то и локтем в гневе мог двинуть (невинный грех после шахматовского), то Автушенко рядом с ними кроткий человек. Разумеется, за работу он спрашивал, и штрафовал, и голос повышал – куда денешься в колхозе без этого... Но простим и самому Шахматову беды: он умом-то всегда понимал, что круто берет, но считает, иначе тогда и нельзя было. И если бы он не был крут, то с ним бы круто поступили, как вот с Николаем Илларионовичем Беловым.
Хочу рассказать об Иване Александровиче Сударикове, из новых председателей он прошел самую долгую школу жизни, многие страницы ее трагичны: припомните 1937 год в его жизни, разрыв с женой, после угрозу тюрьмы, гибель отторженного сына в войну...
Родился Иван Александрович в 1904 году в Брянской, ранее Черниговской, губернии. Он помнит ясно родное село Верещаки – белые хаты, деревянную церковь, просторную площадь.
Из 750 дворов родных Верещаков у Судариковых двор был беднее бедных: отец Александр Павлович помер, когда дети еще малые были, а в 1919 году умерла Марфа Семеновна, мать. Тиф косил людей косяком в теплых российских краях. Болел и Ваня, но судьба вызволила его из лап смерти. Изба Судариковых освещалась лучиной да каганцом масляным.
Мальчишкой-подростком встретил Иван Судариков годы революции и Гражданской войны. Приходили красные, потом гайдамаки, потом снова красные.
Но мир установился, переделили землю. Досталось Ивану полторы десятины, мало; стал батрачить – пас коров и коней, вывозил назем на поля. В 1922 году, восемнадцати лет от роду, женился. Жил у тестя Якова Ивановича Иванишка, крепкий он был мужик, так издалека кажется сейчас Сударикову: крупорушка имелась, маслобойня, две коровы. Венчали молодых в Верещакской церкви, скоро они отделились. Кинулся Иван Судариков по вербовке денег заработать в Донбасс, на Северный рудник. Там по тем временам (это середина 20-х годов) прилично получал – чистыми 30 рублей на руки. Фунт колбасы в Донбассе стоил тогда пять копеек. Пятидневка, шестичасовой рабочий день. Техника – обушок, сани... Собрал Судариков 800 рублей, на побывку явился. А тестя уговорили уже ехать в Сибирь, с тестем поехали и молодые Судариковы. С 1928 года жизнь Ивана Александровича оказалась связанной с нашими краями.
Церковно-приходская школа еще в детстве вооружила грамотой будущего колхозного активиста, почему ходил он то в секретарях сельсовета, то в председателях промколхоза «Колесник». Промколхоз процветал, снабжая округу ходовым товаром – колесами, бочками, столярными изделиями. В 1937 году промартель имела свою полуторку с деревянной кабиной. Но скоро перебросили Сударикова в артель «Новая жизнь», оттуда в Какучей, оттуда в Зиму на артель кинули – лыжи делали для фронта. Фронт. Под Ржевом ранило; полгода в госпитале. Затем запасной артполк, учил парней пушкарному делу. После войны – снова Какучей, до 1957 года. В 1957 году райком направил коммуниста Сударикова в «18-й партсъезд» в Никитаево. «18-й партсъезд» объединил «Максима Горького» и «Обновленный путь». До Сударикова председательствовал в Никитаеве Андрей Томашев, да проворовался, приехал суд из Тулуна, в никитаевском клубе, некогда Народном доме, заседал. Все жители участвовали в небывалом для села зрелище. Жители Никитаева по-разному судили Томашева и товарищей его: одни сочувствовали явно, другие были его приятелями и процесс встретили враждебно, а третьи хотели бы правду рассказать, да боялись. Но ревизия поставила все на место – обнаружилось 78 тысяч рублей недостачи, а прокурор Рылов сказал, что «три раза по 78»...
По тем временам «18-й партсъезд» был немаленький колхоз: под пшеницей 860 га, под овсом 400, ячменя – 50 га[76]. Травы занимали около 100 гектаров. Стадо общественное было слабовато – всего 45 дойных коров и... три свиньи (накануне рожа опустошила свиноферму, что поставили тоже в начет Томашеву). Имелись и овцы – 60 голов, птицеферма на 800 несушек. Конный парк насчитывал пятьдесят сытых лошадей (не впервые я слышу – лошадей содержали в добром обиходе, по всем деревням. Видно, традиция требовала того). Бегал «ЗИСок», единственный на колхоз. Поля колхоза обслуживались Гуранской МТС: пахали, сеяли, обрабатывали межрядья.
Когда Судариков принял дела, на расчетном счету колхоза не было ни копейки, хуже того – собралось 700 тысяч рублей долгу. При Сударикове грянула реорганизация– эмтээсовскую технику передали колхозам; наконец-то, через четверть века, поняли, что техникой должны владеть колхозы. Долг возрос еще, ибо государство не бесплатно трактора отдавало колхозам. Но у Сударикова оказалось 10 тракторов и 3 комбайна «Сталинец».
В первый год колхоз, руководимый новым председателем, сдавал по три фляги молока в день, а осенью 10 центнеров хлеба с гектара. 1957 и 1958 годы стояли засушливые, урожай был около 12 центнеров с гектара, так что на трудодни не оставалось, засыпали семена и оставляли малость на фураж. Никитаевцы сносили беду благодаря подсобному хозяйству – и с долгами рассчитывались, и сами себя кормили, как умели, с огорода.
Помощником у Сударикова в полеводстве была девчушка агроном Гололобова. Пока жили МТС, советами помогал эмтээсовский агроном Маркин. За полями, правда, хорошо ухаживали, глубоко пахали и глушили сорняки. Пытались вести безотвальную обработку полей, да бросили. Пошла дурная волна из Москвы – перестали сеять клевер, ни одного гектара не осталось, навалились на зеленку, с кормами стало хуже. Судариков пытался на селекционной станции разжиться семенами люцерны, добыл, да засуха помешала взять урожай.
Зоотехника не числилось, покойный теперь Михаил Федорович Ломакин служил при Сударикове завфермой, но был он уже порядком уставший и, говорит Иван Александрович, заглядывал частенько в рюмку. Держится, бывало, держится, но мужики, свои же, замутят самогоном. В конце 58-го прислали молодого зоотехника Лысенко, но парень косорукий оказался, заворовался. Привесы были: 400 граммов у крупного рогатого скота и 250 граммов у свиней. С одной коровы не надаивали 2000 литров молока в год...
Много ли успел сделать Судариков, прежде чем слили «18-й партсъезд» с колхозом имени Кирова? Нет, срок отпущен малый, в три года что успеешь... Но с именем Сударикова никитаевцы связывают славные страницы. Иван Александрович положил силы, провел в деревню электрический свет и радио; впервые у доярок оказались сносные условия – воду качали из колодца электронасосом и зимой (особенно зимой) стало в коровниках светло будто днем. Эпопея, затеянная Судариковым, оказалась нелегкой вдвойне, потому что мужики смирились с керосиновыми лампами и враз заворчали, когда председатель позвал их на маленький подвиг: провода тянуть, столбы ставить. И не все согласились, чтобы в их домах повесили лампочки, – пожара боялись. Зато потом, когда брызнуло ярко из окон клуба, сельсовета, домов, стали бегать вокруг Сударикова, а он чуть важничал, говоря: «Вы же сами противились доброму делу...»
Сейчас, наверное, смешно и слушать эту историю; а Судариков облазил Братские ГЭС и ЛЭП, вымаливал обрывки провода. Но и маялись после – от дизеля, от движка брали энергию. Дежурил на дизеле знатный электрик, бывший тракторист Николай Дмитриевич Е-ко. Этот Е-ко выпить любил. Выпьет он сверх нормы – замигали и погасли лампочки в избах, на фермах кричи кукареку, да и что толку кричать: жди, когда протрезвится дизелист...
А радио тянули, конечно, от Тулуна. Репродукторы по пять рублей штука закупили, обчистив тулунские магазины.
Когда Иван Александрович Судариков, лежа в постели (худо себя чувствовал), рассказывал эти страницы, блуждала по лицу его улыбка; я понимал, ему приятно – такое добро должны запомнить односельчане. Урожаи не поднял, надои – тоже; зато пришел в дома свет. И вся долгая и временами несуразная жизнь Сударикова должна, по-моему, через свет этот просматриваться. Кстати, век свой доживает последний никитаевский председатель в доме, некогда принадлежавшем кулаку Михаилу Валтусову, и дом этот – тоже страница истории деревни...
На виду всех ныне живущих и здравствующих старых председателей – Зарубина и Татарникова, Жигачева и Шахматова, Белова и Сударикова, под пристальным и суровым их оком начал свою биографию Петр Царев, последний отпрыск фамильного древа Фурмановых и Царевых, белорусских переселенцев, еще в начале века ходивших в крепостной зависимости.
К Цареву я подбирался долго, немало чаев выпил, вечера напролет говорил, в работе месяцами наблюдал, одного и с товарищами его, в райкоме слушал и на областных активах, читал его статьи и о нем в областных иркутских газетах, даже в книжках уже[77]. Надоел расспросами Пелагее и жене Нине, да и самому Петру Николаевичу.
Но каждый раз, оставаясь с чистым листом бумаги наедине, я в тупик приходил: не ложился он в строку, Петр Царев.
Плакатно писать – человека скомпрометировать, да и себя; да и не умею я плакатно писать.
Однажды я и сказал: не могу я писать о тебе, Петя, не ухватистый ты. Он посочувствовал и забыл тут же о немочи моей.
А сейчас приспела пора – не отступиться. Но и тут я вон какую цепочку потянул: вокруг да около ходил, о родителях рассказал, о предшественниках поведал...
Припоминаю я разные встречи с председателями, с которыми приятельствовал и даже очерки печатал о которых. Эх, и легкомысленные вещи говорил я подчас. На Одесщине как-то познакомился с матерым Чорбой, Чорба отобрал у меня блокнот и ручку и нарисовал две схемы. Одна называлась: «Связи неправильные», другая – «Связи правильные».
Эта схема первая.
А вот другая, «связи правильные»:
Видите, разница существенная. Обратите внимание на односторонность связи второй схемы: колхозное собрание – председатель, и на двустороннюю связь: правление колхоза – председатель.
Сказал мне по секрету Чорба: «Настоящий председатель колхоза только тот, кто сумеет поставить себя по схеме второй», но, продолжал Чорба, пока на всю страну едва отыщется десяток председателей, которые живут с приближением к идеалу, с приближением, делаю ударение. А все остальные крутятся, как уж на сковородке, пытаясь забронировать право на самостоятельность и подотчетность единственному верховному судье – народу, то есть, по Чорбе, колхозному собранию; но – тут свидетельствуют десятки колхозов, изученных мной эмпирично, – народу-то никто не подотчетен у нас, а и народ холопствует.
Один из знакомцев на Владимирщине, известный председатель, как-то попал в счетную комиссию по выборам в Верховный Совет СССР. Стали считать голоса, поданные за Героя Социалистического Труда Акима Горшкова (он ходит в России в основоположниках колхозного строя). Что же оказалось? Своя деревня, свой колхоз дружно проголосовали против Акима; избиратели один за другим вычеркнули имя его из бюллетеней. Но Аким стал депутатом Верховного Совета. Подтасовали итоги.
Эта доподлинная правда открыла мне глаза на механизм «выборов» в Советы. Но то, что мужики могут совокупно не принимать председателя как председателя, а он сидит себе преспокойно в кресле и почивает на лаврах, тут-то задумаешься горько... Петр Николаевич Царев в отличие от Акима Горшкова пока пользуется доверием большинства колхозников. Подворный опрос по всем четырем деревням показал: мужчины и женщины принимают, пусть с оговорками, Царева. Но уже есть и другие симптомы...
Он начинал с тех цифр, которые приведены ранее.
За десять лет цифры эти (не по всем видам продукции) скакнули вверх. Сделаем подробную выписку из документов (взяты они в Иркутском областном управлении сельского хозяйства).
Общая земельная площадь колхозных угодий 19 479 га, в том числе сельскохозяйственных угодий 9423 га, пашни 8656 га. В колхозе трудоспособных 614 человек. Направление хозяйства – зерновое–мясомолочное. Сведем в сравнительную таблицу прежние и царевские показатели.
Данные по животноводству:
Сравним себестоимость выпускаемой продукции:
Во всех этих показателях есть не только противоречия, но и явные несоответствия. Например, урожайность овощей резко возросла: казалось, себестоимость должна понизиться, а она возросла почти в два раза. То же самое с зерном: урожайность подняли с 18 центнеров до 24, себестоимость должна была уменьшиться, а она возросла... И это внушает тревогу: а есть ли подлинный экономический рост хозяйства? Не превалируют ли, как выражаются ученые, масштабы над подлинным, экономическим прогрессом?
Вот по молоку картина ясная: подняли надои на 1 фуражную корову с 1900 до 3213 кг молока, соответственно себестоимость снизилась в четыре с лишним раза, то есть молоко стало дешевле.
По большинству других показателей напрашивается аналогия из... авиации: самолеты стали выпускаться с конвейера все в большем количестве, скорости возросли, но в полтора раза и возросла стоимость билета. Нелогично? Разумеется. Но в авиации понятно: там государство решило откровенно обогатиться за счет ни в чем не повинных граждан, которые некогда предпочли поезд телеге, а теперь самолет – поезду.
Но как бы там ни было, колхоз имени Кирова достиг некоторых высот при Петре Цареве. Теперь уже стабильно, каждый год, получают земледельцы с огромной площади (пять тысяч гектаров) по 23–24 центнера в круговую. Не ахти какие почвы достались кировчанам: серые лесные – 40%, дерново-подзолистые – 38%, болотные – 10%, лугово-черноземные – 31%, пойменные – 2,6%. Но, установив рациональную структуру пашни и структуру посевов, кировчане сделали шаг вперед. Они стараются, чтобы пшеница в структуре посевов занимала 35–40%, а овес и ячмень – 15–20%. В последние годы, под пристальным оком Царева, под контролем главного агронома Виктора Зуева, введены и освоены лучшие типы севооборотов.
Разработать севообороты – полдела. Внедрить агросистему севообороте сложнее, но агрономы выполнили эту задачу. Очищение почвы от сорняков, оптимальные сроки внесения удобрений, семеноводство – все эти технологические вопросы решены в течение также последних лет. Высоки надои молока и привесы на фермах крупного рогатого скота и свиноводческих, ведется большое строительство – прибыль помогает без задержки получать кредиты, и на наших глазах благоустраиваются деревни, вырастают животноводческие комплексы; постоянно расширяется машинный парк – по энерговооруженности колхоз может потягаться со всей Иркутской областью кануна коллективизации.
Гарантированный заработок вместо мифических палочек на трудодни пришел в дома рядовых колхозников. По хозяйственным книгам я подсчитал поголовье домашнего скота и птицы в четырех деревнях: на 400 дворов приходится более тысячи голов скота, только учтенного, и несколько тысяч голов птицы. Похозяйственные книги не учитывают домашнюю обстановку и утварь, а также силу надворных построек, но подворный обход помог мне составить неопровержимое представление о достатке, в котором живут ныне колхозники. В районной сберкассе мне не сказали (так, дескать, велит закон) общей суммы денежных вкладов, зато вот любопытные данные, взятые на почте в Никитаеве: каждый месяц уходит денежных переводов на сумму более 2300 рублей и столько же приходит. В год никитаевцы отправляют более 400 посылок и получают 800.
Только в один месяц никитаевцы и афанасьевцы получают 421 экземпляр журналов и 6116 экземпляров газет. По Заусаеву и Дубраве я не вытребовал данных у Котикской почты, но и там картина наверняка такая же.
В каждом доме, разумеется, есть телевизор и в большинстве домов электроприемники. Об электроосвещения не поминаю, керосин и свечи забыты, лучину помнят глубокие старики.
Одним словом, мы имеем право говорить о нашей деревне – сытая деревня.
В сытой деревне есть свои решенные проблемы и есть противоречия, о них стоит поговорить. На протяжении всего повествования, небесспорного, но искреннего, я не раз спотыкался на этом вопросе: во имя чего мы затеяли невиданный в мире опыт так называемой коллективизации?
Рассказывая о крестьянском труде на той, одинокой, полосе, я давал возможность читателю поразмыслить о духовных ценностях, которые рождались и сохранялись тогда. Но не случайно я процитировал в своем месте из Александра Герцена: «Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту, который из всего былого и нажитого сделает скучную мастерскую, которой вся выгода будет состоять в одном пропитании и только в пропитании».
Вещие слова русским эмигрантом сказаны в письме «К старому товарищу». Там же он написал: «Твердыню собственности и капитала надобно потрясти расчетом, двойной бухгалтерией, ясным балансом дебита и кредита».
В моем колхозе только при Петре Цареве двойная бухгалтерия и баланс дебита и кредита заняли место бездумного, безоглядного движения, которое оказалось топтанием на месте. Сорок лет ни заусаевцы, ни афанасьевцы, ни никитаевцы не умели вырваться вперед, опередить забытые показатели 20-х годов. И вот пришел Петр Царев. Что же это за человек?
Работа и вызревание таланта хозяйственника Царева пали на годы, последовавшие за мартовским Пленумом ЦК КПСС. Сейчас документы и саму идею Пленума безраздельно приписывают не тому человеку. Н. С. Хрущев должен быть назван также автором решений марта 1965 года. Это он в конце своего странного царствования понял необходимость кардинальных перемен в сельском хозяйстве; человек одаренный, он понял – пусть с опозданием – здравость тех идей, которые, увы, провозгласили без него.
Петр Николаевич Царев, тогда юноша, пришелся ко двору эпохе, крестьянские навыки и ум, знания, почерпнутые в техникуме и институте, сметка природная – все свое призвание хлебороба и бойца он вложил в дело.
Старая гвардия ветеранов не долго поспешала вслед быстроногому Цареву – Беловы, Юрченки, Судариковы уступили место молодым. Молодой главный инженер Валерий Григорьевич Фоминых (его жена Надя помогала мне в сборе материала), молодой Виктор Андреевич Зуев, молодой зампредседателя Николай Михайлович Вологдин, молодой парторг Юрий Васильевич Псарев (затем – Кузнецов), молодой председатель сельсовета Нелля Петровна Куроедова – эти люди взвалили на себя ношу и повезли, в коренники поставили Царева. Все они имеют высшее образование, явление в тулунской деревне невиданное. До Царева ни один из председателей (а их прошло перед нами с добрый десяток, а то и два) не имел той вооруженности знанием, какую имеет Петр Николаевич и его соратники.
Незаменимую роль в подъеме экономики колхоза имени Кирова играет бухгалтерская служба во главе с многоопытным Н.А.Горбатенко.
Нынче есть в управленческом штате экономисты с высшим образованием, но долгих два десятилетия анализом хозяйственной деятельности колхоза занимался только бухгалтер Горбатенко, на его совести несметная работа, и планово-расчетные операции, и вычисление себестоимости готовой продукции.
Добросовестная и въедливая работа главного бухгалтера не раз отмечалась правлением колхоза и сыскала уважение товарищей.
Необходимо особо отметить таких специалистов, как Зуев или Николай Вологдин. Они многому учатся у председателя и со временем, несомненно, сами возглавят крупные хозяйства[78].
Мужики и бабы всех поколений вносят лепту в общее дело: и механик А. Н. Шаров, и главный энергетик В. А. Новиков, и заслуженный механизатор Российской Федерации В. Е. Михайлов, и брат его картофелевод А. Е. Михайлов. И старый комбайнер А. Д. Шолохов – справедливость требует отметить и его. Не забудем назвать имена умнейших бригадиров С. А. Желтобрюха и И. Ф. Табакова, П. И. Болохина, заведующего фермой крупного рогатого скота Н. Д. Королева.
Отметим красной строкой механизаторов В.М.Башуна и Н.А.Курбатова, доярок А. В. Макович, Е. Л. Терновых, Е. Н. Аксенову, Л. В. Решетник... Всех не перечислить!
Но – но уровень образованности в деревне остался чрезвычайно низким, где-то чуть выше пятого класса, если в среднем поделить. И такая диспропорция не может не сказываться. Да и велика ли цена семи или восьми классам, надо еще проверить. Думаю, немногие имеют понятия и знания на уровне тех классов, что выставила в документах школа. Кстати, гуманитарная оснащенность соратников Царева и его самого оставляет также желать лучшего: все они заядлые хозяйственники, инженеры, агрономы, экономисты, но все они поверхностные педагоги, исключая Царева, обладающего интуитивным талантом учителя, мыслителя. Постоянные хлопоты, текучка, масштабы физических усилий, соизмеримые с масштабами огромного хозяйства, съедают свободное время, и они мало занимаются самообразованием, пренебрегая такими областями знания, которые – наряду с экономикой – вскоре станут решающими: история, социология, собственно педагогика.
Поэтому сейчас можно наблюдать поразительные сцены: молодые вожди разучиваются слышать негромкую жизнь стариков, забывают их горький и иной опыт, обижают их невниманием, непониманием их простых запросов. Возрастают случаи жестокосердия, но не того, шахматовского, а дежурного.
Самое печальное, соратники Царева полагают, что в колхозе главное – энерговооруженность, в то время как определяющими являются производственные и бытовые отношения. Плохо представляют молодые эволюцию колхозного строительства и превратно, в силу привнесенных обстоятельств, толкуют основы народоправства; впрочем, они и не понимают его проблем во всей глубине. Не раз я наблюдал, как принимались решения, противоречащие сути народоправства. Например, кричащий пункт в «Мероприятиях по укреплению трудовой дисциплины в колхозе имени Кирова на 1977»: «Правление колхоза, партком и исполком с/совета отмечают, что дети некоторых членов колхоза нерегулярно посещают занятия, плохо учатся в школе или совсем ее бросили и нигде не работают. При начислении дополнительной оплаты родителям будет учитываться успеваемость детей. Родители, дети которых плохо учатся или совсем не учатся, могут быть лишены дополнительной оплаты полностью или частично». – Здесь следствия поставлены впереди причин.
Воспитательная, идеологическая, политическая работа отдает формализмом. Вот факт – я опросил десятки рядовых колхозников, педагогов, специалистов, даже учащихся (ребят опрашивал классами), и никто не мог сказать, какие лозунги и плакаты висят на бригадных конторах, у клубов, на сельсовете. Плакатам же и парадным цифрам несть числа, они меняются время от времени, но никто ими не интересуется. Да ведь так и по всей стране.
Среди четырехсот журналов, получаемых ежемесячно, нет «Проблем мира и социализма», «Педагогики», «Вопросов истории», «Вопросов философии», «Нового мира», «Нашего современника». Зато в глазах рябит от «Экрана», «Советской эстрады», «Крокодила»; «Здоровья» и т. д. – изданий небесполезных, но вторичных. По библиотечным формулярам я узнал, что качество чтения художественной и научной литературы оставляет – мягко сказать – желать лучшего. Имеющийся книжный фонд используется едва ли на 10 процентов и бессистемно. Учителя утратили роль духовных поводырей. Обидно вдвойне, ибо в деревнях живут талантливые люди – певцы, актеры, художники, сказочники. Разросшийся объем труда не позволил мне привести примеры народного творчества, кроме песен...
Спиртное становится страшным спутником всех слоев населения: пьют женщины, пьют дети, пьют старики... Но еще классик не случайно обронил слова: «Мужик, идущий повеся голову в кабак и возвращающийся оттуда навеселе, может многое объяснить, доселе необъяснимое, в истории государства Российского»[79]. Уровень нравственности понизился – это видно по семьям, разрушающимся на глазах. Случайные связи, случайные браки, случайные дети и случайные родители несчастных детей. И никогда не было столько самоубийств. Церковь пала под прессом безбожного государства.
Винить здесь кого-то конкретно нельзя: ни Царев, ни Куроедова, ни молоденькая завклубом в Никитаеве Люда Данилович (громче – «заведующая Домом культуры») не осилят махину, именуемую Надстройкой.
Так во имя чего мы затеяли коллективизацию?
Нелля Петровна Куроедова, председатель сельсовета в Никитаеве, педагог по образованию, женщина совестливая, резонно считает, что именно сейчас, когда достигнуто благополучие и сильна техническая оснащенность колхоза, пора все задачи, сугубо производственные и духовные, решать комплексно, не отдавая предпочтение материальным заботам. Не секрет, что роль учителя на селе оказалась заведомо приниженной, тракторист с шестью классами позволяет себе выкаблучиваться перед женщиной, которая учила его грамоте, проверяла его тетрадки и старалась удержать на уроках. Не секрет, что нашу трудовую интеллигенцию, плоть от плоти народа, на властных этажах все еще считают людьми второго сорта; так протягивается из 30-х годов неправильное отношение к людям, призванным помогать народу хранить и приумножать исторические традиции.
Опыт коллективизации, доставшийся нам дорогой ценой, должен бы нынче взывать к полному самоуправлению, когда не только структуру посевов, но и все другие внутренние дела пристало решать коллективу через выборных и подотчетных ему вождей.
Да, именно сейчас материальная база в колхозе достигла уровня, при коем можно предпринять небесполезные – и обязательно соборные усилия, чтобы возродить здоровую моральную атмосферу на производстве и в быту. Какие это шаги – разговор специальный. Но то, что они диктуются временем, абсолютно неопровержимо, мы уже подошли к роковой черте. Не случайно и сами правленцы во главе с Царевым заказали мне Историю колхоза: они захотели увидеть не только прошлый день с его драмами и трагедиями, но и определить перспективы, – это внушает добрые надежды.
Коль скоро я повел такую речь и надеюсь на возможные духовные перемены в колхозе, значит, и историю колхоза имени Кирова, тяжелую и драматичную, я понимаю как нелегкие, но все-таки поиски национального идеала. Я и сейчас вижу пути, какими надо идти, чтобы мужик все более забывал посторонность, болел сердцем за дело...
Многое я не сказал – сроки, на труд мой отпущенные, истекли и силы иссякли.
1974–1978
Тулунский район Иркутской области –
город Иркутск
Озими Письма из провинции
Марине Павловской
И страждут озими от бешеной забавы…
А. Пушкин. «Баллада о доме»Письмо первое Баллада о доме
Весной минувшего года в Ярославской городской газете я прочитал о том, что продается в Даниловском районе дом, отыскал объявителя, намереваясь осесть на хуторе и дописать заветное («Минувший год» – 1992-й. – Б.Ч.) Помнил я обещание свое рассказать Тебе – в лицах – драму, частью которой была и Ты.
Дом, давно лелеемый мной, мог стать явью еще в 70-х, когда Валентин Распутин водил меня по порту Байкал. Стоял тогда сухой полдень, стрекозы садились на плечо, в мареве тонули горы. Мы чуть было не выбрали особняк на семи ветрах; вид открывался с холма далекий и солнечный. Но притяжение Дмитрия Сергеева, писателя-фронтовика, победило притяжение Распутина, избу на Байкале я не купил.
Прошло девять лет. В камере штрафного изолятора, коротая холодные ночи, я рисовал будущую мою обитель кусочком проволоки на бетонном столе. Стол охранники окрасили коричневой краской. Слегка царапая поверхность, я чертил домок, не думая о последствиях, хотя они грянули: за порчу лагерного имущества к десяти суткам изолятора подполковник Федоров добавил еще семь. Но дело было сделано – дом с высокими окнами смотрел с бетонного стола и угревал косточки. Оно, конечно, безумие – внутри ада рисовать картины радужного грядущего. Но – рисовал, но – планировал.
И вот по реабилитации, весной 91 года, я получил материальную компенсацию, раскидал долги. На руках осталась толика. И тут объявление в городской газете. Я отыскал Серафиму Николаевну К-ву, подавшую объявление. Оказалось, четверо покупателей уже претендуют на дом. Один с Северного Кавказа не торговался. Соперничая с конкурентами, он готов добавить пять тысяч.
В очередной раз пересчитал я денежку. Поставивший себя в неприязненные отношения с государством, я никогда не имел на руках таких денег – шесть тысяч! подумать только! – но хозяйка просила десять тысяч, и немедленно. При этом говорила, что там один сад окупит расходы мои в сезон.
Делая вид состоятельного человека, я поехал смотреть дом. В дороге я неожиданно понял, что мои шансы предпочтительнее, и вот почему. В Ярославле, Марина, я оказался волею случая. Местный Совет объявил всероссийский конкурс на замещение поста главного редактора новой губернской газеты. Бездомный, я написал в Ярославский Совет о готовности участвовать в конкурсе, вызван был телеграммой, и консервативным большинством избран редактором. Почему консервативным, об этом как-нибудь позже. А сейчас вернемся на тракт Ярославль – Данилов.
Мы едем на «Жигулях» втроем. За рулем Сеня, зять Серафимы Николаевны. Сеня отслужил в Афганистане военным топографом. «Жигули», впрочем, и дом, на смотрины которого я еду, – двухгодичный, или трехгодичный, заработок Сени в фронтовых условиях.
По дороге мы чуть потолковали о том, о сем. Серафима Николаевна трудится завпроизводством в областной типографии, где мы печатаем новую газету, и кое-что обо мне знает. А благодаря союзному и местному радио, «Известиям», среди типографских гуляла неблагая весть о бывшем политзэке, и Серафима Николаевна сказала:
– Борис Иванович, если дом понравится, мы продадим его Вам, – мне оставалось только благодарить хозяев.
В Саркове, притрактовом селе, оставили мы легковушку, чтобы далее идти пешком. У Кравцовых, деревенских, я выпросил резиновые сапоги с суконными портянками. Я натянул их и был готов к путешествию. Тропа повела через льняное поле, не паханое еще, в лес, полный запахов прели и талой воды, гомоном птиц. Чем глубже уходили мы по тропе, тем все больше нравилась мне заброшенность хутора, тишина, первородство трав, вышедших из-под снега. Соперники же мои шли с явным недоумением: зачем их влекут в глухомань? И как добираться сюда зимой или в долгое ненастье летом?
А меня заняла и стала точить диковинная дума. Убежденный противник афганской войны (разящие строки о том есть в приговоре), отбояривший за противление войне, сжимая тощий кошель, я иду вслед фронтовику, который получил отнюдь не гроши за то, что вызвался добровольцем в пекло, рисковал жизнью, как рисковал и я, уходя на другую передовую; и он заработал не только орден и медаль, но и деньги, вложил в этот дом, чтобы нынче я передал ему праведные рубли за его, праведное ли, богатство. В России не заскучаешь. Но мы шли, учтиво вежливые, и каждый думал о своем.
Внезапно лес расступился, поля в золотой стерне возрадовали глаз. Вскоре на покатом холме черно увиделись крыши двух или трех изб. С тоской подумал я – вспомнив лагерные мечтания – какую из старых изб суждено купить мне, чтобы, не мешкая, копать огород, а по вечерам сидеть у стола.
Украдкой я посмотрел на афганца. Он симпатичен, Сеня, с матовым белозубым лицом, с синими глазами. У меня родилось ощущение отцовское: парень давно понял, в каком тупике пребывал он, и вырвался из тупика невредимый, зарубки на сердце остались, но мир на земле, золотая стерня убегает, трубно зверь кричит из лесу посреди России, не в чужих горах...
Скоро миновали мы, следуя нижней тропой, худые дома, и из-за риги и огромного древнего тополя наплыл с холма терем. Я остановился и всмотрелся. Терем тоже, но свысока, смотрел на меня. Нет, подумать не мог я, что в заброшенном селе, на отшибе может сохраниться лиственичный дворец, ни в сказке сказать, ни пером описать. Афганец оглянулся и грустно смотрел на пришельцев: зачем мы тут, на тропе, посторонние люди?
Серафима Николаевна, вздохнув, призналась:
– Кабы не даль, да еще брести от тракта, дом наш не отдала бы в чужие руки.
Чужими руками хозяйка подчеркнула жестокость происходящего.
Взяв топор, я вошел в испод, именно вошел, ибо дом на высоком фундаменте, и двери в рост ведут туда. Я простучал обухом каждое бревно и всякий раз слышал звон. За тридцать лет грибок не подточил ни одного бревна. Затем поднялся на чердак, там стояли кадушки, набитые пухом птицы. На стропилах висели листы самосада. Я помял лист и услышал дух моршанской махорки – Ваня Додонов, с Тамбовщины, угощал моршанской на зоне.
Сойдя, не утерпел я и порылся в хламе огромного сарая, прирубленного к дому. Сарайные окошки тусклы, но скоро взгляд пообвык, я обнаружил старинные оклады, в позолоте и серебре, они красивы и тяжелы. Здесь же конская упряжь и ботала. Я потрогал – ботала издали мягкий и густой звук, вернувший меня на родимую улицу Шатковскую, в город Свободный.
Хозяева затопили печь, приготовили чай. Чечен отказался пить чай, отвел меня в дальнюю комнату.
– Ти, – молвил он, – купишь етот дом? Но у тебя одна жина? И «Волги» у тибя нет.
– Волга у меня есть, – сказал я, – это у тебя нет Волги.
– Дарагой, моя «Волга» лучче. Но если ти не купишь дом, я куплю. У меня три жины, они справятся тута. До свидания, дарагой...
За чаем мы договорились, что найду я деньги, кровь из носа.
Назавтра звоню Фазилю Искандеру. Он не отказывает мне в житейских делах, мы говорим с ним в открытую, как и положено мужчинам. Но совпало, что в Подмосковье присмотрели Искандеры усадьбу, надоело ютиться по казенным дачам, а «усадьба в Подмосковье, Боря, стоит не десять тысяч, сам понимаешь, – сказал Фазиль и добавил: – Пусть они потерпят, я найду для тебя четыре тысячи. Да, а что “Совпис”?»
Я объяснил Искандеру, что книга, пока единственная в жизни моей, выходит в издательстве «Советский писатель» к концу года, а сейчас апрель, и «дом уведут, как уводят в твоей Абхазии, Фазиль, доброго коня», – Фазиль горячо сочувствовал. Но я понял – придется пасть ниц перед другом отроческим, он – предприниматель, он не откажет, поди. Не отказал.
И началось обморочное лето. Опять я вернулся к самому себе, забытому, ибо взрастить огород в Даниловском уезде – это не на газетной полосе приплясывать. А дожди все падают на землю, но мы то и делаем всю жизнь, что выгребаем из ненастья.
Местные крестьяне с усмешкой слушают мои вопросы, когда я иду к ним, но не отталкивают. Две беды ждут хуторянина, если верить мужикам: на картофель падет колорадский жук и пожрет ботву. А устоит ботва и вызреют клубни, – явится вторая угроза: дикие кабаны. Испытующе всматриваюсь я в лица мужиков (не разыгрывают ли, не подтрунивают ли?), но, совершая набеги в ближнее Серково за молоком, увидел стайку девчонок – посреди поля они обирают картофельную ботву цыплячьими ручонками, выносят нечисть на тропу, давят босыми ногами. Боже, обереги хутор мой от заморской напасти!
А небо все никак не проморгается, все плачет, и на капусту села тля. Пытаюсь согнать оккупантов раствором золы, но не тут-то было. Тогда вдруг припоминаю – на чердаке у меня табак, и догадываюсь, зачем. Лезу на чердак, снимаю табачные листы, запариваю. Я надеюсь настоем самосада выжить тлю, и что же – на ночь глядя тля уходит неизвестно куда, а поутру облепливает гряды еще гуще вчерашнего, издевается надо мной. В отчаянии пришел в Некрасовскую библиотеку, поднял документы за прошлое столетие, попутно вычитывая любопытные приметы былого, и отыскал варварское свидетельство: даниловские мужики побарывали тлю... керосином. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Да нравственно ли применять против тли ядерное оружие? Не лучше ли отступить, сдаться на милость природы? У нее свои установления, свое дыхание, негоже вторгаться в природу произвольно. Притом, злополучный керосин-то был, наверное, кондиции почище нынешнего. Но ноги все равно влекут на рынок, к лавке, где покупаю я бачок горючего. Завидев дворец мой, вздыхаю, ибо понимаю кощунственность поступка. Но омерзительный вид нашествия подзудил испробовать забытый дедовский способ: я наливаю плошку жидкости, нюхаю – Россия ты моя, не избыть тебе керосиновой горечи – подношу к нежным лепесткам капусты, закрываю глаза, выплескиваю на гряду, мысленно осеняя капусту знамением...
А клубнику видимо-невидимо осадили лягушки. Со школьных лет я помнил, что нормальные земноводные не едят домашней ягоды, но то нормальные земноводные, а ныне, в десятом поколении, плодится порода советских лягушек. Впрочем, когда вызреют на огороде красные виноградины помидор (сорт тамбовский, скороспелые) и вороны станут воровать помидоры, мне придется признать, что Октябрьская революция возымела действие и на ворон. Стало быть, и вороны у нас советские, говоря языком ленинградского репортера – «наши».
Но по утрам к овсяным просыпям выходит лосиха с лосенком, стоит по грудь в тумане, краем поля крадется лиса к помойке, по ночам слышу трезвон (картофельный участок увесил я гирляндами консервных банок, обнаружив запас банок в сарае), выпроваживаю палкой кабанов, явились, не запылились, – жизнь идет на закат, Черных, но это и есть жизнь, а не та, что длил ты в городских коридорах. И если каждый из нас, русских, вернется домой, на подворье, если вспомнит себя в грушевых аллеях сада, – то благо. Демократы тщатся наладить бегущий день, но бегущий день пришел из ночи минувшей. А в той ночи я хочу видеть, пусть призрачно, лики пращуров, и доподлинно надо мне знать, кого выбрал в жены прапрадед Яков и почему на второй срок станичники не избрали деда моего Василия атаманом. И зачем второй дед, Митя, привез из-за Аргуни китаянку, уж не затем ли, чтобы потом, на рубеже 25-го года, рассориться с советской властью впрах и уйти за кордон?..
Дом и хутор пробросили тропу в минувшее. Я по-новому увидел себя, лицо частное. Но оставалась нечастной боль моя за Россию; и русскую партию – а в ней мои деды и прадеды – увидел я из глубины. На страницах «Российской газеты» в июле сказал я вот что: «Мы подошли к краю, а за крайней чертой надобны конструктивные усилия. Стенания надоели. Но прежде, чем взять в руки мастерок, следует определиться в чертежах и планах. Однако коллективное сознание начинает протестовать в очередной раз. Утраченная соборность нации, более прокламируемая, чем въяве существовавшая, принуждает сословия и классы, партии и движения патриотически подбочениваться, и всяк кричит, что только едиными усилиями вытащим мы Россию из болота.
Так ли это? Мне представляется – сумма вопрошаний, скопившихся в усталом обществе, подводит к другому выводу: в час военного лихолетья можно отстоять Отечество сообща. В нынешних обстоятельствах надобны частные усилия частных лиц. Крамольна эта мысль, но, полагаю, последовательное ее воплощение вернет – нет, не государству-Левиафану, не правителям, а прежде всего каждому из нас утраченное достоинство.
На чем строилось достоинство человека в нашей стране недавно? «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза – читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза!» – фальшивый пафос (а пафос обычно фальшив) строк Маяковского очевиден, и горе государству, возомнившему себя поборником свободы, на корню подсеченной постулатом общности, в принципе невозможной. Ибо там, где лицо не имеет материальной силы быть частным лицом, там быстро процветут и утвердятся обезличенность и бесчеловечность. Подлинная же общинность, полагаю, не размывает, а возвышает личностное.
Частная жизнь, воплощаемая по частным, пусть даже и несовершенным, чертежам частного лица, способна к воспроизведению ценностей, о которых не принято думать в тоталитарном государстве. На первое место среди этих ценностей следует поставить частную собственность.
Зная, что мы слабы и ходим на помочах великих, посмею и я сослаться на Александра Исаевича Солженицына, но цепочку он тянет оттуда, из дореволюционных времен.
«Нельзя создать правового государства, не имея прежде независимого гражданина» (П.А.Столыпин) – и – «Независимого гражданина не может быть без частной собственности» (А.И.Солженицын).
Чтобы поддержать голос, идущий из Вермонта, мы дали возможность на страницах провинциальной газеты высказаться лучшим ее авторам, но поступили при этом скромно – пошли следом за создателем трактата «Как нам обустроить Россию». Мне довелось подвести черту под этим недежурным разговором, я назвал итоговую статью «Возвращение к ладу», и я вдруг подумал о риторичности моих и наших посылок. И вот почему. Из положения лиц, умеющих строить фразу и сочинить статью о нравственном долженствовании, собрать бы силы и перейти в лица, созидающие дело.
Слово, разумеется, тоже дело, если это слово сильное или изысканное. Но можно поступиться словом, хотя бы временно, если обстоятельства позволяют вернуться к собственной елани (деляне) или в подеревную.
Сподобился я добыть кусок земли уездной вместе с домом. Чтобы купить дом, пришлось влезть в долги. Но опоздал, кажется, и я взять должное в нынешний сезон. К тому же весна в Верхнем Поволжье отстояла с тяжелыми дождями.
Легко говорить: «обустройство России надо начинать с себя, со своей деляны, с избы или хутора», но трудно и тяжко воплотить это в жизнь, тем паче, если чиновник, воспитанный в лоне чудовищной государственной машины, не умеет быстро вырешить в пользу частного лица положенное этому частному лицу. И пока с державных трибун раздаются голоса обанкротившихся идеологов, зовущих пойти туда, не зная куда, найти то, не зная что, мы будем пребывать в межеумочном состоянии. Образованцы, возглавившие Советы в глубинке, все еще и мысли не допускают о том, что русский должен стать собственником и, следовательно, частным лицом. Да оно и понятно, в частной собственности есть главная оборона свободы частного лица.
Давно замечено, сколь претенциозны нищие наши сограждане (нищему иного и не дано, как носить нищую свою особость).
Частное же лицо, владеющее собственностью, просто и мудро в движениях.
Человек, получивший возможность стать частным лицом, независим в достоинстве своем, – у него, и у семьи его обеспечен тыл, у него есть куда отступать в час невзгоды»...
«Куда отступать в час невзгоды» – так назвал я свой Манифест, но, публикуя его, запамятовал о горьком опыте Гарина-Михайловского, прекрасного русского писателя, но и путейца-инженера отменного, и земледельца. В качестве земледельца уважал я Гарина особо и сопереживал ему, когда внял страшной угрозе: завистливые глаза следили за писателем, едва сел он на землю, и свели на нет все его усилия остаться вне борьбы политических партий. Усадьбу Гарина дважды спалили.
Всегда наличествуют силы, коим неугодны ни наше достоинство, ни база этого достоинства (собственность), – и темные силы ждут часа, чтобы нанести удар, по возможности смертельный... Но в тот день, когда «Российская газета» опубликовала мой противоречивый документ, я оказался вдали. Амурский войсковой атаман Георгий Шохирев позвал на Казачий Круг. Отказать Шохиреву я не мог, голос его – голос малой родины, скромный, но необоримый и близкий даже в далекости его. И две великие русские реки – Волга и Амур – сошлись в моем сердце, когда самолет поднял нас с братом во Внуково и понес над истерзанной Россией. С атаманом мы тоже говорили о земле и, дети провинции, о глубинке, о свойствах нашего мировосприятия. Вот и Георгий Николаевич стал настырно требовать, чтобы я рассказал о себе, коли катком проехал по нашей фамилии жестокий век. И опять я вернулся, Марина, к давней надежде Твоей – не промолчать о пережитом, исповедаться. Однако Шохиреву я отвечал: «Э, погоди, дай окопаться на хуторе, душе дай отойти от волнений дня»... – тщетные надежды. Страшный удар подстерегал меня у Волги.
Письмо второе Ботанический сад и его обитатели
Дай мне окопаться на хуторе, отвечал я, прежде чем сяду за письменный стол. Кому отвечал? Да себе, разумеется, прежде всего себе. Но главное сомнение точило в предощущении главной моей работы: достаточно ли далеко я отошел от переживаний минувшего, чтобы сохранить беспристрастный тон в рассказе о былом? Воспоминания вообще хороши тогда, когда не примешиваются к ним побочные цели (скажем, выставить себя перед публикой крупнее того, что ты есть и кто ты есть), – но поэтическая истина устоит ли перед соблазном выступить еще и в одежке истины исторической? Вопросы все старые, ими задавались наши предтечи.
Но когда, припертый к стене, я удалился в Ботанический сад и поставил первый опыт на земле, не думал, что мой опыт ляжет на бумагу. Задача тогда была бесхитростной – выжить. Выжить не позволили.
Начну с цитаты. Читатель свободен в выборе: читать или не читать заявление узника Красного корпуса Иркутской тюрьмы. Есть толика безумия в пожелтевших листах[80] , но я не в силах переменить опознавательные знаки эпохи. Сохранилась дата написания: 2 февраля 1983 года. Мытарства восьми месяцев позади. Я возвращен, по этапу, из двух богаделен – Омской и Серпов. Черные розы тюремных ночей опять у моего изголовья. Гебисты теребят за рукав, они надеются, что я ненароком оброню признание вины. Но они мучают не только меня, но и вампиловцев. Противостояние нравственно безупречных молодых людей, рожденных Ботаническим садом, и опричников длится более полугода. Дубянский и Ковалев наглеют, страна под пятой Андропова, ужесточается режим содержания в камере.
Дубянский и Ковалев, с одной стороны, и я, с другой, – мы выпускники юридического факультета Иркутского университета. Нашими наставниками были Павел Викторович Лобанов, некогда узник того же Красного корпуса, цивилист Геня Исаевна Ческис и Вадим Петрович Пертцик, тайный агент комитета госбезопасности. Однокашники, теперь мы по разные стороны баррикад. Сговорившись с Александром Нефедовым, главным оперативником тюрьмы, гебисты ведут меня по камерам отпетых уголовников, затем выдергивают (так на их языке) на улицу Литвинова.
– Ну-с, Черных, вам все еще мерещатся аллеи Ботанического сада? Подпишите вот это, и вы снова окажетесь под сенью любимого вяза...
Под сенью Ботанического сада (под сводами духовного лицея) печаль струилась и сияла радость, – позднее стихотворение Тали Смирновой нейдет из памяти, и лица ребят наплывают сквозь ветви поникших ракит.
Под сенью Ботанического сада (под сводами духовного Лицея) печаль струилась и сияла радость. От юности неистовой пьянея, мы жили своевольно и строптиво: любили небо, звезды и деревья, любили книги – презирали чтиво, и понемногу пробовали перья. Дышалось вольным воздухом отрадно.
И в бедном романтическом жилище свой лик запретный нам являла правда (воистину – находит тот, кто ищет). А в кабинетах нелюди читали тетради наши, и статьи, и письма. И красною чертою отмечали достоинства исполненные мысли. И дело двигалось на загляденье споро...
Кабы дело двигалось споро...
Поднявшись в камере на верхние шконки, я вижу – сквозь жалюзи сочится слабый свет. День пасмурный, дрема окутывает. Отлежаться бы, закрыв глаза, забыть пустоглазые лица гебистов,
И дело двигалось на загляденье споро. И делу дан был ход. И очень скоро вступили мы в круговращенья ада под знаком Ботанического сада.Взрастить сад посреди Сибири – тугоумная забота, но и в холодной Сибири культурная традиция сохранила приемы и способы насаждения садов посреди короткого, хотя и ослепительного, лета. Расчищались елани, корчевались леса, натаптывались тропы, строились заимки, торилась дорога. Подражая метрополии, русские принялись украшать быт палисадом – рядом с березой зацвела черная смородина, яблони-дички радовали глаз белым кипеньем по весне. Неохотно поначалу приживалась груша-уссурийка. Завозили колонисты саженцы из Поволжья, но после крещенских морозов саженцы зачастую гибли. Пращуры не сдавались, они скрещивали привозные сорта с местными. Не скоро, но зацвели сады по всей Сибири – на Алтае, под Омском, у Красноярска.
Томсоновским садом прославился Иркутск, у него было и второе имя – Иннокентьевский, по названию станции, теперь это Иркутск-2. Ныне Томсоновский потерял былую осанку, и неблагодарные потомки забыли даже его имя. С первого дня следствия я опрашиваю заключенных, охранников, потом, раскрепощаясь, веду опрос среди оперативных работников КГБ, не преминул выведать кое-что у следственных, – все поджимают губы. Зэки в молчании несут отвержение и боль, а опричники, отмалчиваясь, невольно выдают тайну: отныне в сфере их интересов Ботанический сад университета.
Ботанический сад заложен в 40-м году энтузиастами-биологами. Дикая дивизия, переброшенная из Забайкалья, взяла штурмом сад, но скоро солдаты и офицеры помогали голодным ботаникам чем могли. Именно в 41–45-е годы сад обрел силу и широко культивировал лекарственные травы и таким образом вносил ощутимый вклад в победу над врагом. Командир дивизии построил в сосновом бору и теплую избу для себя и своей пэпэжэ. Никак не думал он, что однажды его блиндаж возьмут штурмом боевики комитета госбезопасности. Но не буду забегать слишком вперед...
Шли годы и десятилетия. Дендрарий сада втягивал в себя древесные и кустарниковые виды обширных пространств, появились и залетные породы деревьев, что свидетельствует об известном вольнодумстве ботаников. Во времена краткой хрущевской оттепели в зимних теплицах появилась плеяда субтропических растений, и пока в качестве садовника рядом с кактусами не оказался инакомыслящий имярек, космополитические веяния биолого-почвенному факультету сходили с рук...
Так незаметно, Марина, мы въехали вместе в пространное заявление, адресованное зимой 1983 года на имя прокурора Иркутской области. Ждали палачи сердечного признания в том, как я дошел до жизни такой, – уж скоро суд, а строптивый садовник упорствует в странностях своих, и надо выбить из него слова признания. Возможно, более никогда мне не доведется сказать то, что я только что сказал и скажу еще. Нелюди едва ли услышат, но написанное пером и переданное – через администрацию тюрьмы, в этом секретность хода – в прокуратуру области сохранится в архивах. Россия очнется (очнется ли?) и поднимется (поднимется ли?) – и строки мои вернутся, чтобы свидетельствовать о власти земли, да, власть земли не покинула сирого в каземате. Все прошлые и все будущие реформаторы только потому и гибли, и погибнут, что не желали и не желают слышать земли[81]. Они пытаются поставить вместо обычая и обычного права закон, писанный умным и даже честным чиновником. Но для русских законы испокон писались землею; и смею думать: когда государство вытолкало меня за порог, оно надеялось, что, сын города, я приду в центральную котельную, там и зарплата сносная, а не эти нищенские девяносто рублей в месяц.
Неистребимо тянуло меня к земле. Примеривая, по Сеньке ли шапка, я уходил в заповедные Тулунские леса и сотворил там чудную книгу, ныне главами она вышла в «Новом мире» и целиком опубликована в «Сибирских огнях»[82].
Однако и в Тулунском далеке чувствовал я бульдожье дыханье на затылке.
На что надеялся я, покидая городские улицы надолго или навсегда и перебираясь в блиндаж командира Дикой дивизии? – Я надеялся на огород. Вот так простодушно и скажу, утаив другую часть правды: и там они не оставят меня в покое. Значит, никакой надежды и не было. Но родители мои под Туруханском взращивали огород тоже без тени надежды на дедушку Калинина, а позже и под Кемеровым, но взращивали, ибо установления жизни и земли сильнее установлений государственных.
Помолимся. Надежды нет. Но жить надо и тогда, когда нет надежды.
Выкосив бурьян с приусадебного участка, я заложил его в приготовленные ямы, натаскал хвороста, утоптал, затем развел костер и поднял над костром двухсотлитровую бочку с водой, довел до кипения, пролил кипятком, закрыл слоем черной земли и поднял теплицы, назавтра прямо в грунт посеяв всю мелочь, но также огурцы, капусту, помидоры. Способ в холодной Сибири почти повсеместный, хотя и неподъемный для ленивого. Результат можете не любопытствовать. И учтите – для запамятовавших говорю – здесь я передаю дух и букву того заявления, что пошло сначала по коридорам Иркутской тюрьмы, добралось до Чупина, начальника, под микроскопом изучалось и сочтено безумным, ну, а коли так, то и было передано беспрепятственно прокурору области...
В тот же сезон пересадил я к избушке моей сирень и сливу, чтобы окружить благоуханием усадьбу. Затем испросил разрешения у директора сада, тогда пришел сын мой Андрей с друзьями, и перенесли они ржавеющие листья жести. Я накрыл жестью двор, чтобы в непогоду заниматься плотницким ремеслом. Советов мастеровых я не чурался, но кое-что взял из забытого. Так, перебирая кирпичи дымохода и готовясь к зиме, я неожиданно открыл, что все дымоходы в печи я знал, и понимал назначение Верхнего Касьяна, на Амуре Касьяном зовется отвод, дающий ход дыму в сильные морозы, но начисто я потерял в дороге житейскую дружбу с Касьяном. Одна осечка случилась, когда накрывали двор. Саня Лопин, один из любимцев моих, приехавший на каникулы из МИФИ (дословно – Московский инженерно-физический институт), по доверенности руководил покровом, да нижний-то лист железа положил не сверху вниз, а снизу вверх и тянул полосу до конца, кончив крышу, обнаружил сбой. С тех пор в дождь в том месте прикапывало слегка, но оказалось, что это даже и приятно – всякий раз я вспоминал милое лицо Сани. Худа без добра нет. Не знаю, какой физик получится из моего ученика, но совершенно точно знаю – человек получится превосходный, с маленькими сбоями, с осечками, и жена его думает иногда, откуда дождит и сквозняком тянет. Да все оттуда, с делян Ботанического сада, где еще мальчиком Саня работал со сверстниками, вместо того чтобы мерить подворотни.
Скоро пришлось подумать о домашних настойках. Гости стали наведываться все чаще, хотелось приветить их, но крохотной зарплаты хватало на хлеб, соль, крупу да на постное масло (сливочное я в те годы исключил из рациона навсегда). Притом со мной была Андреева овчарка. Она сыграет свою роль в обороне блиндажа, когда штурмовики обступят усадьбу. Чтобы прокормить огромную собаку, надобно рыбу всегда во льду держать, а с рыбалкой сорвалось. Значит, и здесь минус в бюджете: ежесуточно отдай на два килограмма минтая или бычков байкальских, дешевая рыбешка и презренная, но шестьдесят копеек в день придется потратить только на рыбу, а еще мучное прикупи. О винах ли тут говорить?
Но во время инвентаризации складского имущества нашли мы с завхозом огромные бутыли из-под химикатов. Я взял бутыли в аренду, поставил под струю летнего водопровода, затем промыл щелочью, снова держал под ручьем; и ждал с нетерпением поспевания ягод и фруктов. Лучшие вина дали рябина и жимолость, в Европе жимолости нет, к сожалению. Пасечник Ботанического сада однажды сообщил рецепт времен великого князя Владимира, на меду. Мед покупал я у пасечника по малой цене и ставил еще одно, элитарное, вино, но первый заход едва не кончился смертью. Да, едва не окачурился я, когда покусился на ранетовое дерево, излюбленное место дислокации садовских пчел. Александр Иванович Ижболдин, так звали пасечника, нарядил меня в маску, в маске я пришел к ранету, поставил лестницу, взобрался и стал обирать ветви, тяжелые от крупных плодов, ярких, будто маленькие солнца. И вдруг на меня напала пчела, прокусила руку. Я имел неосторожность отмахнуться и был наказан, тотчас окружили тучей пчелы, я попытался бежать, но лестница упала, я прыгнул с дерева, кисейная накидка в полете сорвалась с лица, и началось сражение. Обезумев, я мчался по аллеям сада, но пчелы настигали и жалили, жалили. Дома я погрузил лицо в бочку с проточной водой, боли отпустили, но вскоре возобновились. Я сделал компресс и забылся сном, но яд, принятый в избытке (в малом количестве пчелиный яд полезен), сделал свое дело. К утру я стал похож на безобразного бея с неведомых тропических плантаций.
На второй год мои урожаи превзошли урожаи соседей в округе, в том числе и у садовских земледельцев. Но если садовские, развращенные экологической атмосферой в обществе, кормили огород нитратами, я грамма за все годы хозяйствования не пустил в почву, результат получил двойной: земля стала платить сторицей, и ушли боли, которые давно осаждали предреберье.
Я сбил множество деревянных ящиков, сортировал полученный урожай и только затем опускал его в подвал, в подвале мы держали всю зиму +1, +2, не выше, поддержание необходимой температуры в подвале тоже входило в обязанности садовника. В мае овощи были свежи, как в сентябре. Не буду поминать, что друзья не раз пользовались моими запасами, о родне не поминаю. Родня преисполнилась почтения – она догадывалась о крепких корнях, староказачьих, но теперь въяве поняла, что род наш знал толк в земле. Само собой, я не испытывал нужды в пропитании, хотя и перешел на вегетарианскую пищу. Резонно спросить, хватало ли сил, чтобы корчевать сливовый участок или выгребать из старых теплиц грунт, подносить торф. И домашнее хозяйство вести, не покладая рук. Что ж, на плантациях Ботанического сада я работал не больше, но и не меньше бедных наших алкоголиков, с тою великой выгодой для сада, что на меня круглые сутки можно положиться. Зимой, например, всегда была исправной отопительная система, снабжавшая теплом лаборатории и вечнозеленые растения.
И наконец, я оставил город, битком набитый конформистами. Я перестал раздражать бывших друзей опростившимся видом человека, который ничего не просит, ни на что не надеется, но, кажется, ничего и не боится.
Но боли за Отечество, за невиданный опыт, названный социалистическим, не оставили в Ботаническом, и мне предстояло медленное умирание в провинциальной глуши. Согревало одно – в смешанном лесу русской литературы я останусь слабой ветвью, но и то честь: унести в гортани горькое дыхание березовых рощ Михайловского и тополиных околков Кутулика...[83]
Таким патетическим, да, впрочем, и безумным заявлением на имя Н. С. Речкова, прокурора области, отправленным из камеры следственного изолятора, я прощался с отжитым и взрывал мосты туда, куда в злом отчаяньи они собирались сплавить меня: за рубеж. Еще недавно в запасе у гебистов была психушка, но Омск и Серпы перечеркнули надежды опричников. Доктора признали меня абсолютно здоровым.
Оставались – этап и лагерь. И тихие, с глазу на глаз, беседы с Христом. Мысль моя западает, я боюсь забыть рассказать Тебе об одной тонкости, постигнутой мной также в застенке. Глебушка Твой едва ли в Лефортове имел возможность поставить похожий опыт, хотя задача у него и у меня была единой: устоять, – но слишком разными были условия содержания под следствием. Когда я окажусь сам в Лефортово, покоем повеет на меня. А здесь я вынужден длить редчайшую и смертельную попытку распознать лицо врага. Жестко – врага, но точно. О, я еще не раз отступлю, оступившись, еще не раз, исполненный милосердия к врагу, буду жалеть их детей, чье будущее они приговорили сами, и говорить не устану об их чадах малых, в сиротстве по миру бредущих; и никому не признаться в том, что отец твой палач. О, горе нам, в эти дни забыли мы о страшном сиротстве детей, чьи отцы мечутся по стране, и никто не приветит их. А удалиться в сад они не смогут, сады исторгнут палачей. Так тонкость заключалась в страшной ранимости этой «железной гвардии Феликса», в умопомрачительной их сентиментальности. Они взяли власть в стране, оседлав Россию, и это мы должны чувствовать безнадежность и слышать прощальную музыку. Но что-то надломилось в лицах палачей весной 1983 года, или в обществе всеобщее презрение обняло их, – лица их мечутся, они начинают пить люминал прямо в кабинете. Или по своим каналам они уже получили весть о том, что Андропов смертельно болен, и завтра...
Но мной заявлена темa Ботанического сада. Удалимся, покули возможно, на его деляны. Невольно одергиваю себя: удалиться – не слишком ли громко сказано? В Европе, будучи недовольным общественной жизнью, есть возможность уйти от дел, стать частным лицом, панегирик в адрес которого я имел наивность высказать ранее. В Соединенных Штатах литератор уходит на Уолденские пруды, сидит бирюком, пестуя неприязнь к городу – никого не интересует Генри Дэвид Торо, пока не напишет он «Уолден, или жизнь в лесу», но сравните мое и его бытование на обширных пространствах, и вы поймете, что там его частная жизнь – норма, здесь моя – героизм, хотя в герои я не подавал заявки. Но всем ходом дней, течением самоотверженных лет я попадаю в изгои; и чтобы не скомпрометировать себя, приятели бывшие, теперь они на разных ступенях социальной лестницы, на всякий случай обходят меня на улице, они боятся быть замеченными рядом с обездоленным и бросить тень на свою репутацию. Так уход в Ботанический сад положил сразу черту между мной и Валентином Распутиным. Поэт Сергей Иоффе стал мистически бояться, что я однажды попрошу у него в долг, а отказать он не сможет, хотя бы потому, что богат, и знает, что я знаю о его богатстве, сделанном и за мой счет, ибо мои рукописи, более сильные и страстные, отвергаются издательством, а его, слабые и индифферентные, печатаются книга за книгой, и оттого в глазах Сергея Иоффе стоит всегда горестная поминальная свеча по мне.
Нас многого лишили. Но когда лишают права уйти в скит, в спокойное, почти благостное отвержение, в Ботанический сад с его несомненной духовной наполненностью, – что же делать, Марина?
Но представь, я принял решение остаться на городских улицах, в обществе прокаженных решил прикинуться прокаженным тоже. Режим стерпит меня? Не поперхнется одежкой моей, запахом редьки и незлым, но прямым словом?
Однажды осмелился я нарушить заповедь номер 1 и пришел в Иркутский союз писателей, в роскошный особняк на улице Степана Разина, мне захотелось одним глазком посмотреть на живых писателей, приехавших из фашистской страны. Одичавший в саду, я думал о том, как они прорвались сквозь таможни Португалии и что ждет их по возвращении – каменоломни, садовничество или даже и в садовники не возьмут. В общем, мне понадобилось увидеть людей более стойких, скажем, чем я, и преисполниться мужества стоять и далее. Португальские писатели, не оглядываясь по сторонам, что тоже выглядело удивительным (я сразу представил Иоффе или Марка Сергеева, они непременно осмотрят аудиторию, примериваясь на ту степень правды, которую не опасно отмерить для слушателей и для себя, и в обтекаемых словах, метафорами, сомнительными хотя бы потому, что заготовлены заранее, исправят должность трибуна), – не оглядываясь по сторонам, португальцы сообщили: «Мы находимся в оппозиции к режиму Салазара», – и далее последовала смешная перепикировка. – «В открытой или потаенной оппозиции?» – «В открытой». – «Вы говорите о неприятии режима в частных речах?» – «Мы издаем журнал и газету, разумеется, и говорим, не только в частных, но и публичных речах». – «Ваш журнал распространяется по негласной подписке, из-под полы?» – любопытство распирало нас («нас» – слишком обязывающе. Скажу точно – меня и Дмитрия Сергеева).
– Наш журнал и наша газета продаются на улицах Лиссабона с лотков, чтобы народ мог покупать открыто то, что мы считаем нужным сказать народу, – запомнил я ответ.
В фашистской стране они имеют возможность не только удалиться, но и остаться, и прежде всего остаться самими собой. Мне не дали остаться, и я удалился, чтобы в удалении быть самим собой, – экий невинный лепет провинциала.
Ботанический сад всегда был учреждением полузакрытым. Вторжение артиллерийской дивизии в войну не в счет. Когда Александр Вампилов в пьесе «Прощание в июне» привел сюда юного Колесова, драматург не успел понять полузакрытости сада, но в столь молодом возрасте Вампилов понял полузакрытый характер системы, не терпящей открытых, здесь уместно сказать славянски открытых натур. И ректор университета положил изгнать одаренного ботаника Колесова. Действие пьесы, в том числе на делянах нашего сада, происходит на рубеже 50–60-x годов. Именно в те годы изгнан из Иркутского университета юный Леонид Бородин. Неужели будущая 70-я статья УК РСФСР провиделась ему в той знаменитой 70-й аудитории, где сходились мы на общие лекции по истмату или политэкономии[84]? После Бородина университету на берегу Ангары уже не пребывать без жертвоприношений. Но я плохо знаю замолчанную старшим поколением череду арестов и гонений в дохрущевские времена.
Пройдет немного лет, из стен университета с волчьим билетом выпроводят филолога Геннадия Хороших (ректор Бочкарев произнес тогда историческую фразу: «Университет не нуждается в Хороших», – и аудитории заполнили, не скажу плохие, но поникшие и притравленные, с потухшей искоркой в глазах). Прошла эпоха, ныне один из признанных этических столпов Иркутска – Геннадий Константинович Хороших. Но, чтобы сохранить себя, ему довелось десять лет простоять у бурильного станка. Зато теперь он ходит по городу с поднятой головой. И, скрадываясь, скользят как тени предавшие некогда Хороших, иные подались в демократы и делают вид, что не помнят о том публичном изгнании одного из лучших студентов ИГУ.
Три ректора университета: Рогов, Бочкарев и Козлов по эстафете спешили донести в органы на Юрия Шервашидзе, светлейшего князя абхазского. Замолчу пока подробности гибели светлейшего (душу Искандера травить не хочу – он мальчиком был разлучен с Юрой Шервашидзе)...
Когда впервые я пришел в Ботанический вместе с учениками – а случилось это, дай Бог памяти, в 76-м, – мог ли я догадываться о катастрофе, которая настигнет нас? Мог. Но выбора не оставалось, и мы пришли по найму на лето, готовили под озими дальние участки, выпалывали гряды, а вечерами у палаток читали вслух Лескова и репетировали сцены из «Гамлета», Саня Лопин играл принца Датского (а принцы должны ли уметь работать кровельщиками)?
Удушье мучило. Отголоски борений, связанных с мощной позицией Твардовского и руководимого им журнала, с жертвенным поведением Солженицына, тлели под слоем золы. Драматический и театр юного зрителя ставили Вампилова, но «Утиная охота» лежала в сейфе. Выпавший из эпохи Зилов преподал бы со сцены урок дискомфортности: каждого, кто не примет условия общепринятой игры, ждет... утиная охота, где страждут озими от бешеной забавы, и будит лай собак... – но не дубравы будит лай собак, а политзаключенных на зоне.
Замысел «Озимей» вырос из лая сторожевых собак.
А теперь вернемся опять в Ботанический. Я помянул мимоходом директора сада. Фигура его загадочна. Михаил Васильевич Курочкин окончил некогда с отличием географический факультет Томского университета и в описываемую эпоху был уже изрядно уставшим человеком. Но был неизменно кротким с научными сотрудниками сада и со мной; тогда я начал разгадывать и разгадываю поныне: почему госбезопасность сделала ставку на всеми презираемую женщину Галину Беловежец и отступилась от Курочкина? Ах, сколь неучтиво вопрошание мое! Слышал бы о моем вопрошании сам Курочкин. Мы проводили с ним часы в беседах и чаепитиях, до основ мироздания никогда не поднимаясь, чувство меры у директора сада превосходное. Выживет ли японская вишня, зимой теряющая половину ветвей? Возможно ли к корневой системе сосны приживить саянский кедр (оказывается, столь странный опыт заложен в дендрарии)? Озимый чеснок, созданный неукротимой фантазией Толи Королева, устоит ли в нынешнем феврале? – сумерничая, мы бормочем у печи или в котельной. Но в кротком взоре Курочкина я прочитываю деликатный вопрос: «Выживешь ли ты, дружок, на корневой системе Ботанического сада? Озимый ли ты по характеру?»
Иногда я угощаю Михаила Васильевича рябиновым вином, он махонькими глотками пьет из тонкого фужера и спрашиваетутверждает: «Дар к домашнему укладу потомственный у вас, Борис Иванович? Или привнесенный бурями? Чудное вино»... Накануне ареста директор приходит затемно, ждет у калитки (смущаясь, он как-то сказал мне, что мой дом прослушивается), протягивает пачку чая с жасмином, медлительно смотрит в лицо и уходит. Грустный вестник беды, не могущий изменить хода событий. Но после ареста Курочкин делает заявление в саду о том, что придет день, «и все рухнет, как карточный домик». Галина Беловежец вспрыгнула тотчас: «Это настроение, чуждое для советского Ботанического сада!» – и читатель припомнит к месту, что где-то слово это слышал. Напомню. На плантациях первого Письма мной открыта советская лягушка. Пришел черед советским кедрам.
Михаила Васильевича уволили из директоров под смешным предлогом – в нетрезвом состоянии он бродил по грушевой аллее, полная луна сияла над садом, и Курочкин повторял: «Все рухнет, как карточный домик». За карточный домик уволили.
А Королев, а братья Королевы все окапываются в Нахаловке. В майские праздники той трагической весны Анатолий Королев царски одарит меня клубнями черных гладиолусов, я высажу клубни в открытый грунт, за неделю до вторжения непрошенных гостей гладиолусы выбросят вверх траурные стрелы, но во время тотального обыска гебисты вырвут гладиолусы из гнезд и оставят умирать на грядах.
Королевы пришли в город из Куйтунского района. Не ломая шапки ни перед кем, они задумали взять Иркутск осадой. У братьев оказался могучий дар оседлости. В Глазковском предместье, на отшибе, где паспортный контроль ослаблен, они высмотрели участок заболоченной земли, огородили бросовыми прутьями и принялись творить дивные дела: от угольных котельных стаскивали шлак, собирали битый кирпич, железные патрубки, проволоку. Затем братья привезли цемент – на цемент потратились – и в десять дней возвели шлакоблочные стены, накрыли горбылем, чтобы в дождь вести работы. Не успев оштукатурить комнаты, поставили к зиме русскую печь, вмазали в нее котел, вварили трубы. Морозы застали юных братьев в теплой большой конуре, по ночлежкам уже не придется скитаться. Когда же я пришел в званые гости, они принимали меня в дому, отделанном по всем правилам искусства: стены покрыты листвяком, листвяк они прижгли для красоты паяльной лампой, пахло магнолиями – они цвели в кадках у окон. Шторы на окнах. Плафоны струят мягкий свет. На столе в горнице кринка с парным молоком. Фантастика? Для обленившихся городских мужиков, что ныне стонут по России, оно и фантастика. Но разве не фантастика мое выживание с 90-рублевой зарплатой посреди ледяных пространств Сибири?
Рядом с домом братья построили в два этажа теплицу, стены и потолок закрыли ломаным, бросовым же, стеклом, от домашнего котла пробросили трубы и стали круглый год брать свежие овощи. Младший из Королевых, Михаил, договорился с рестораном «Арктика», к дому подкатывал уазик и забирал у Королевых в январе зеленый лук, редис, огурцы по ресторанным, разумеется, ценам.
Заболоченный огород Королевы забросали каменьями и сверху навезли суглинка, помешали с навозом. Устойчивые урожаи помидор стал брать на этом нелепом огороде селекционер от Бога Анатолий Королев. Да будет врать, скажут чалдоны, помидоры не вызревают в Сибири в открытом грунте. Так, соглашусь я. Но Толя проделал одну операцию – при посадке ронял стебли к земле, и вповалку помидоры стали вызревать на корню.
Осевшая в Нахаловке по соседству семья устроила натуральный обмен: Королевы снабжали соседей овощами, получая взамен парное молоко; корову и молодняк соседи держали втихомолку, когда приходил участковый, запаивали его сливками.
Тоскуя по открытой жизни, я убегал порой к Королевым. Всякий раз меня угощали молоком и никогда вином или водкой. А вы, господа, говорите, что Россия погибнет. Пока есть в России братья Королевы, – будет стоять Отечество наше, только бы не мешали народной жизни идти своим руслом, по своим обычаям.
Но не одними Королевыми славен Ботанический. Пятого марта 1982 года сотрудник Иркутского КГБ Кононов получил сообщение, написанное ботаником сада Галиной Беловежец: «В разговоре с А. Королевым Б. И. Черных высказал мнение, что земля должна находиться в частной собственности», – канун драмы. Создатель озимого чеснока Толя Королев пока не догадывается, что попал в поле зрения тайных служб. А под арестом я открыл, что оперативная служба комитета ведет расследование, как попал в коллекцию Ботанического сада североамериканский серебристый вяз, сомнительный одним происхождением своим, именем своим опасный...
Письмо третье Темные силы
Почему под надзором оказался североамериканский вяз? Под гласным и негласным надзором в Иркутске находились Сперанский и Лунин, – Сперанский исполняя обязанности губернатора края, – поляки и Петрашевский, князь Кропоткин, и в наши дни князь Шервашидзе. Но под надзором североамериканский вяз...
Когда я вернулся с зоны, первым делом навестил Ботанический, чтобы убедиться, не сбежал ли серебристый мой. На месте. А вот дом и усадьба снесены ураганом. Развеяли в прах.
В 1978 или 79 году чекисты праздновали 60-летний юбилей организации. Они сняли нарядный зал в городе, там до октябрьского переворота заседала Дума, по пригласительным зазвали множество гостей, отмеченных безусловной лояльностью. Разумеется, сошлись здесь – в открытую – респектабельные доносчики, это был их день.
Заигрывание КГБ с Валентином Распутиным подошло тогда к роковой черте. И областное руководство повелело во что бы то ни стало призвать лауреата Государственной премии на 60-летие, Распутину вручили, с расшаркиваниями, пригласительный билет. Размыслив, Валентин решил, что слишком одиозным будет появиться ему, деревенщику, среди стукачей, и доложил мне, как бы отчитываясь в вольнодумстве, что не окончательно-де покинуло оно его. Я и раньше замечал, что он прибегает ко мне, будто к волевой опоре. И если просил я его не делать опрометчивого шага, Валентин из вредства (а характер у него настырный, не уступающий моему) все же поступал иногда наоборот, зато после соглашался: «Ты оказался прав, не следовало вступаться в затею».
Сейчас, упреждая мое пожелание, он сказал, что на слет стервятников не явится, «хотя, – сказал, усмехнувшись, Распутин, – они не ударят в грязь лицом. Первоклассные книги будут там продавать». Книги оставались нашей страстью.
– Если на то пошло, за книгами могу сходить я, – сказал я. Мы переглянулись и рассмеялись. Молодость еще собирала отжинки в нас, и я смотрел на Валентина, как на великолепный экземпляр стихийной породы, он тоже отдавал должное моей нестреноженной натуре.
В урочный час я был у театра музыкальной комедии. На входе дежурили бравые прапорщики. Я протянул глянцевый билет, рысьи глаза скользнули по билету и скользнули по моему лицу. Но я носил пушистую шапку и, входя с морозной улицы в помещение, снял очки, этого оказалось достаточно, чтобы молодые прапорщики не признали меня. Далее предстояло пройти в гардероб, снять пальто и шапку и таким образом предстать разоблаченным перед публикой. Не сорвалось бы намерение мое добраться до лотков в фойе и посмотреть книжный развал. Я охотился тогда за «Вечерними огнями» Афанасия Фета. Дважды я видел «Вечерние огни» на черном рынке, но цены кусались. Авось, повезет здесь.
Я разделся и прошел в танцзал, заполненный декольтированными дамами и мужчинами в вечерних костюмах. Приоделся и я в приличествующий моменту пиджачок, поношенный, зато вельветовый, и в накрахмаленную рубашку с галстуком.
Лотки стояли развернутыми, но я застеснялся сразу обнаружить истинную цель моего проникновения на маевку, да и не хотел подавить искушения прогуляться по расфранченному фойе. Но, чтобы насладиться забытой светской аурой, пришлось надеть очки. И опять, как намедни с Распутиным, я хохотнул, ибо явление Робинзона Крузо прямиком с необитаемого острова под райские кущи выглядело комичным, если не сказать крепче. Но Саня Вампилов не просто одобрил бы нашу затею, а и восхитился бы: яркая драматургия события наличествовала здесь и грозила взорваться непредсказуемым финалом. Персонаж попал в волчье логово, и выводок закрутит сейчас карусель: позволить Борису Черных видеть в лицо отборную гебистскую агентуру недопустимо. Хотя, с другой стороны, позвали бы отщепенца, допустим, в Скотланд-Ярд, там, в респектабельном обществе, неужто я был бы нежелательной персоной? Но страх пропитал общество, и прежде всего тайную полицию. Среди самих опричников крепло убеждение, что они заняты непристойными делами. И фарс с 60-летием ГБ задуман в качестве малой компенсации за моральный и невосполнимый ущерб, испытываемый опричниками денно и нощно. Это все равно, что палачу платить премиальные, затем звать еще и на палаческий пикник в связи с юбилеем Робеспьера (или Бурбонов, в зависимости от обстоятельств). Но я знал и другое – стервятники не ждали меня на свой пир, поэтому одноактная пьеса имеет шансы быть сыгранной.
Любопытствуя, я прошел к буфету. Э, да они сыто устроились! Заливной омуль, телячьи языки, красная икра. Болгарские и румынские вина и коньяк, почему-то грузинский. Сладости стояли прямо на столиках, и Робинзон Крузо присел, чтобы попробовать на язык пирожное. Шоколадное пирожное тает во рту. Я запиваю его можжевеловым соком. Во время трапезы открыто смотрю на сливки иркутского общества. Есть лица не без телесного приятства, о духовном приятстве не рискну говорить.
К моему столику подсели два юных лейтенанта в парадной форме с золотыми позументами. Они надкусили пирожное, стрельнули восторженно друг в друга глазами и празднично, почти рождественски посмотрели в мое лицо. Я улыбнулся им. Но один из лейтенантов поперхнулся, опустил карее око, снова поднял, вперившись в меня, и сказал приятелю:
– Коля, прости, я сейчас, – бдительное сознание сработало, лейтенант узнал меня, видимо, по фотографии (наподобие тех фотографий, что расклеиваются милицией «Их разыскивают органы правосудия», портрет мой запущен в ряды КГБ). Ну, узнал да и узнал. В конце концов эти пирожные я не украл, я заплачу за них, допью, не торопясь, можжевеловый сок. Интересно, в Ботаническом у нас есть можжевельник? Земную жизнь пройдя до половины, кажется, заблудился и я в можжевеловом лесу (Из Данте: «Земную жизнь пройдя до половины, Я заблудился в можжевеловом лесу» «Божественная комедия».)
На свободный стул за столиком приведен еще офицер, этот смотрит в глаза мои с прямой ненавистью. Я встаю, чтобы расплатиться за яства на чужом пиру. Краем глаза вижу, троица встала и следует за мной. Я протиснулся к богатому лотку, простреливая книжный развал взглядом, нет ли «Вечерних огней», и увидел Александра Блока. И слава Богу: если здесь Александр Блок, ничего дурного со мной не случится. Я поднял двухтомник Блока, но смотрел в зал. Считанные минуты остаются в моем распоряжении, я куплю «Записные книжки» и буду читать в саду, чтобы внять можжевеловым истинам. Я протянул деньги прелестной лоточнице. Сконфузившись, девушка отвечала:
– Простите, но нам запретили продавать книги сейчас. Только после торжественного, – ох, и здесь дела из рук вон плохи: они боятся, что верноподданная публика разбредется и зал окажется полупустым.
Но слушая вполуха ответ маркитанки, с А. Блоком в руках я внятно услышал вкрадчивый шепот:
– Борис Иванович, как вы оказались здесь? – по тональности, по фистуле шепот был ведомственным.
Я ответил бодрым шепотом:
– Пришел на праздник.
– Вас пригласили? – снова тихохонько.
– Да, у меня пригласительный билет.
Пауза. Но снова:
– У вас, Борис Иванович, не может быть пригласительного билета на наше торжество.
– Отчего же? Ваше торжество – торжество народное, значит, и мое тоже.
Опять заминка. Три офицера, оставляя Робинзона Крузо в полукольце, отправляют четвертого за инструкциями. Мы стоим вольно, я листаю Блока, но смотрю в фойе. Толпа утончается, звенит призывная трель – публику приглашают в зал. Как на киноленте, я вижу множество примелькавшихся лиц в городе, некоторые узнают меня и немедленно отворачиваются, застигнутые врасплох моим явлением. Наконец, на дальнем плане я вижу полковника Анатолия Ивановича Степаненко, заместителя начальника областного комитета госбезопасности.
– Если Степаненко возжелает ухода моего, я, пожалуй, уйду, – говорю я румяным офицерам, издалека наблюдая старинного приятеля-неприятеля.
Степаненке докладывают диспозицию и приносят ответ: «Анатолий Иванович настоятельно просит вас оставить театр». Театр военных действий.
– Что-то неблагополучно, ребята, в государстве Датском, – приоткровенно вздыхаю я (Саня, «Провинциальные анекдоты» твои не игрались с большим блеском на сцене, нежели въяве играем мы). – Друг мой по комсомолу всегда был рад приветствовать меня.
– Вы не верите нам, Борис Иванович? Что ж, полковник Степаненко даст понять издалека, что он настаивает на вашем уходе.
Словно на батальном полотне, но где фигуры вдруг ожили и задвигались, я вижу: к полковнику подлетает нарядный адъютант, докладывает наглое условие ретирады и отодвигается, высвобождает лицо Степаненко для – теперь это удивительно точно прозвучит – для моего лицезрения.
Симпатичные, в ямочках, жандармские щеки полковника пунцовеют. Ну, сыграй, сыграй, такова твоя доля, сизый. Уж много лет мы знаем друг друга, и всю-то жизнь ты занят не жизнью, а ролью сохранить добродетельную мину при жизни. И вот сейчас карьеру твою низвожу я к зыбкому рубежу, завтра получишь ты державный выговор за сегодняшний прокол. Но что сделал бы я на твоем месте? Я подошел бы, сказал, протянув руку: «Рад видеть тебя, Борис. Проходи. А, ты хочешь купить „Записные книжки“? Да ради Бога („Бога“ с прописной). А посмотри, здесь есть и „Избранное“ Вампилова. Ты оказался прав, предрекая ему славу, а я зря выпытывал у тебя о настроениях драматурга. Клянусь, дурного я ему не хотел. Ты не веришь мне? К уходу Вампилова мы не имеем никакого отношения. А вот Гарсиа Лорка, „Романс об испанской жандармерии“, чудная мелодия. Купи! Впрочем, покупаю я и дарю тебе. Знаю, рано или поздно ты, Боря, поднимешься, тебя будут печатать союзные, не провинциальные, журналы. Хочу, чтобы пылинка не омрачила нашей дружбы»...
Монолог прерываю. Холодное лицо функционера КГБ перекашивает гримаса, он вздымает очи и разводит пухлыми ладонями: «Прости, – говорит с другого конца сцены, но молча, – мы должны расстаться немедленно и теперь навсегда. Ты невозможно живой человек. Мы не договаривались, что ты будешь таким живым. Мы всех уже усмирили в Иркутске, и только ты»...
Офицеры выводят меня из парадного к экипажу. Черная «Волга». Я отказываюсь сесть в машину.
– Не бойтесь, Борис Иванович, – сочно басит старший лейтенант, – шофер подбросит вас до дому с ветерком.
Я сдаюсь. Не трястись в трамвае, а там еще в гору пешком, и холод собачий на улице.
Но водевиль они доигрывали завтра и послезавтра. По всему городу начинается поиск лица, которое посмело передать пригласительный билет антисоветчику. Распутин, надо отдать должное ему, молчит. Удалившись к озябшим деревьям в саду, молчу и я. А Иркутск в эти дни высвобождается от страха. В редакциях газет, на телевидении, в театрах, в университете стоит негромкий смех, врачующий души. Смех сопровождает оперативные действия наличного состава Иркутского комитета госбезопасности, брошенного на розыски пригласительного билета. Отголоски трагикомедии друзья мои приносят под кроны соснового бора, мы тихо радуемся: растормошить холодный сон сограждан, вернуть им улыбку, – и то дело. Я не в силах одарить прозой читателей, к издательствам не подпускают меня. Телячьи языки и заливной омуль дать иркутянам не в силах. Но народ жив, пока смеется. Конечно, Степаненко считает неподобающей живость народа, но нашелся чудак, задевший за душу, и душа очнулась...
«Темные силы» – назвал я письмо третье. Да где же они, темные силы? – скажет читатель. – Уж не эти ли напыщенные офицерики? Этот дурак – полковник?
Первый допрос А. И. Степаненко, тогда в звании капитана, учинил мне в 1966 году. Пять лет жизни остается Александру Вампилову, еще нет у Вампилова российской известности, и исход в частную жизнь предощущается гипотетически (Зилов в «Утиной охоте» кричит, надрывая душу: «Только там чувствуешь себя человеком», – там, на безлюдье), но мы задыхаемся в одиночных камерах своих квартир. И главный вопрос А. И. Степаненки, тайного шефа интеллигенции, о Вампилове: что пишет он? Вижу ли я в будущем, и каким вижу, Александра Вампилова? – вопросы смутили меня. Ссориться с ведомством я не хочу и готов сказать о лояльности. Но Вампилов?! Быть может, я тороплюсь посадить его на божницу, куда поднял давно Леонида Бородина.
Воздавая должное юному Вампилову, я не мог тогда предположить, что через пятнадцать лет молодежь Иркутска сойдется и назовет свое товарищество его именем, а Санины пьесы войдут в сокровищницу отечественной драматургии, и меня – по ветреному свею – поведут за созданное Вампиловское книжное товарищество. Но почему в рождественские дни 1966 года вопрос Анатолия Степаненки столь одиозен? Или прощупывается готовность к компромиссу? Гебист знает, что песня моя спета, да. Исторженный из обкома комсомола и молодежной газеты, иду я по чиновным этажам с безнадежным персональным делом о фракционной деятельности.
Стоило ли всесибирского грома Письмо в адрес 15 съезда комсомола? Соблюдая традицию, Письмо я назвал «Что делать? Некоторые наболевшие вопросы нашего молодежного движения». Единственный крамольный тезис Письма содержит призыв делегировать треть ЦК партии от молодых коммунистов страны. Дерзкая и сильная ветвь придаст Центральному Комитету устойчивость от ожирения и будет способствовать реформистской смелости. Напомню читателю – Алексей Косыгин замышлял тогда перевести союзную промышленность в жесткие условия действующего, а не прокламируемого, закона стоимости. Свержение Никиты Хрущева сошло с рук Брежневу и Суслову еще и потому, что обещана экономическая, базисная, реформа.
Сочинить пылкое Письмо немудрено. Письму необходимо придать статус официального документа, конституировать его на областной конференции. Я беру на себя риск и договариваюсь с комсомольскими деятелями Братска, Ангарска, Иркутска. Начало моей биографии.
И все же почему шефа 5-гo отдела КГБ интересует – еще на взлете – Александр Валентинович Вампилов? Отгадка пришла позже и оказалась простой. Однажды в компании московских интеллигентов Саня в полемике неосторожно проговорил замысел будущей «Утиной охоты»:
– Солженицын написал о том, как в предельных обстоятельствах человек остается человеком. Я хочу написать о другом – умирает, задыхаясь на воле, человек, полный сил и брожения токов, но сломленный необъяснимой усталостью...
Саня, Саня, прощаясь с иллюзиями 70-й аудитории, как опрометчив ты в открытости своей.
Об этом признании Вампилова рассказал мне прозаик Игорь Минутко. С Игорем Минутко бродим мы по Одессе после просмотра в Русском драматическом театре Вампиловской пьесы «Прощание в июне». Что занесло нас в Одессу? На дворе 1973-й год. Мы оплакиваем уход Сани и понимаем – нам придется писать и воспоминания о нем.
Упреждающий удар по художнику готовится исподволь, и ухмылка на лице Степаненки сопровождает допрос. Что же делаю я? Неразумный, я бросаюсь в атаку, называя Саню надеждой русской литературы и «не трогайте его, Анатолий Иванович, если не хотите запятнать себя». Гебист удовлетворенно пыхтит сигаретой (или беломориной, тогда он задымливал меня беломориной), позывные сходятся в узел: Вампилов потенциально опасен и надо остановить его.
Это был заговор против литературы. Мутные лица заговорщиков вереницей тянутся из прошлого, я всматриваюсь лишь в самые одиозные.
Так будем свидетельствовать. Дадим возможность историку будущего по моим протоколам нарисовать портреты современников, с кем об руку пришлось нам обживать провинцию и умирать в провинции.
Не знаю, по чьей инициативе в канун моего ареста А. И. Степаненку перебросили в Монголию (и что он там делает, не умея связать двух слов на чужом языке? За посольскими сотрудниками следит?), и подполковнику Г. С. Дубянскому вменили засучить рукава. Вернемся в кабинет Дубянского...
Мы пьем ритуальный чай перед допросом. Я сижу за отдельным столиком, столик привинчен к полу, чтобы подследственный не мог бросить столик в подполковника или в окно (а окно выходит на улицу Литвинова, иркутяне, обремененные тяжкими заботами, шествуют по улице. Мне бы ваши заботы, милые).
Дубянский ищет педагогические подступы ко мне, и я прошу его рассказать о себе. Оказывается, мальчишками мы приходили в летние дни на Урийскую барахолку – туда, где идет высокое и печальное действо урийских рассказов моих – я, чтобы вдохнуть воздух свободы... В сталинскую эпоху барахолка таила в себе сокровенные искры свободы... Дубянский, из состоятельной семьи, приходил сюда за покупками, которые могли мне только присниться. В 1949 году за рыболовные снасти дяди Ильи я выменял двухлитровую кринку соевого масла, а мальчику Дубянскому купили велосипед с красными шинами. Как, подпрыгиваю я, велосипед с красными шинами, единственный на весь город, был тогда у старого еврея Гольдфейдера.
Земеля ты мой.
Потом Дубянский поехал в Иркутск, чтобы стать студентом юридического факультета. Выбора у Дубянского (и у меня несколькими годами позже) не было: от Тихого океана до Томска единственным университетом был тогда Иркутский. И слетелось сюда орлиное племя Бородиных и Хороших, Вампиловых и Распутиных. Стервятники слетелись тоже.
Второй следователь косноязычной скороговоркой говорит о себе: «Следователь ОВД[85]», – на скорости; из ОВД получалось по Юрию Домбровскому: «ОВОД»[86]. Правда, прозвище Овод в «Факультете ненужных вещей» дают сломленному в борьбе и ставшему осведомителем арестанту. Овод – Владимир Ковалев, росточка махонького, с комплексом физической неполноценности, но крепкий боровик, выучился, как и мы с Дубянским, у Пертцика и Ческис (Лобанова выжили с юридического быстро, это тоже довольно странная история – Лобанов давно стал своим для улицы Литвинова. Видимо, противобрежневские парадигмы Павла Викторовича отозвались на страдальце). В 1987 году потерявшие страх однокашники Овода расскажут мне: Ковалев по затемненности ума, стесненного к тому же нежеланием лишний час провести в губернаторском доме (в резиденции Муравьева-Амурского, генерал-губернатора Восточной Сибири, размещена Научная библиотека университета, колыбель провинциального младогегельянства), невероятно обидчив и злопамятен. Упертый в азбучное, он боится воздуха абстракций. И то, что из сотен сотрудников разбухшего аппарата областного КГБ именно Ковалеву выпало стать Оводом, знаменательно. Да позвали бы Юрия Шаманова, отозвав с поста начальника Братского отделения госбезопасности (кровушки попортил братчанам циничный и умный Шаманов), или Николая Гудкова, уполномоченного по Политехническому институту. На самый крайний случай доверили бы особый участок Юрию Гуртовому, стремному коню, это Гуртовой переполошил весь Иркутск поисками пригласительного билета и Гуртовой же искал компромат на североамериканский вяз в Ботаническом саду, – но выбрали в Оводы попугая. Бедная Россия, бедная провинция. Но терпи, садовник, вслушивайся в глупые речения, на ходу не забывай и Овода допросить, да не дерзи ему, боком бы не вышла дерзость.
Когда Овод косоруко представился подследственному в досточтимом своем качестве, я сделал демарш: письменным заявлением вызвал прокурора области, явился Н. Ф. Луковкин, зампрокурора по надзору за КГБ. «Проводите ли вы, Николай Федорович, – спросил я, – инструктаж со следственной группой? Если проводите, почему Владимир Иванович столь неумел в обращении с подследственным? Почему он грубит? Почему задает глупые вопросы? Вот пристал, зачем женщины чистили мой дворик от снега. Что ж, по сугробам ходить было?»
Н. Ф. Луковкин отвечал гримасой: «Да где мне взять другого ОВД? А если я найду доку, все равно он Канта не читал и Ленина цитировать на память следом за вами не сможет». – «Зачем же затеяли дело, если сил нет на него?» – «А я его затеял? Они его и затеяли!» – «Требуйте, чтобы не шел напором, и тогда мы сочиним повесть, потомки взахлеб читать будут». – «Не воображайте много о себе», – проворчал зампрокурора области и ушел раздраженным.
Результат? Овод сник, стал покладистым, да ненадолго, глупость родилась раньше Овода, сорвался он скоро на истерический крик и угрозы: «Иносказанием мы не позволим заниматься вам, не на симпозиме», – я поправил его: «На симпозиуме», – через десять минут в наручниках меня повезли из КГБ в тюрьму, там держали в грязном боксе, вырешивали степень мщения, кару определяли, затем вели по долгим вонючим коридорам и втолкнули в камеру, где ждали меня рецидивисты с полосою лба такой же узкой, как у Ковалева, с хищными глазками.
– Ну ты че, антисоветская рожа, – вопросил убийца, шедший на вышку за расчленение трупа любовницы, – че ребят наших мучаешь? – Я невольно рассмеялся. Дурная игра всегда вызывает у меня смех. Странно, смех мой вызвал симпатию у оголтелой компании. По-своему это объяснимо: они, получив указания и инструкции, ждали страха и паники с моей стороны, а тут на тебе, смеется.
– Мужики, все наоборот, – сказал я. – Это ваши ребята отпетые антисоветчики.
– Че говоришь! – вскричал атаман. – В КГБ антисоветчики?!
– Отпетые!
Они посмотрели друг на друга и задумались, наконец вожак осторожно сказал:
– А кто ты есть? Комиссар че ли?
– Угадал, Василий Иванович. Меня в дивизию к тебе направили комиссаром.
– Че ли Фурманов?
– Он самый.
Истосковавшиеся по вестям неординарным из мира заоконного, господа уголовники искали забвения, я оказался находкой для них, патриотические настроения только мешали рецидивистам вникать в простые истины, принесенные политическим, пришлось потратить несколько уроков, чтобы перевоспитать мужиков. Но вожак ворчал, держал роль Чапаева, пытался назидать и сказал решительно в конце: «Не меня, а тебя надо подвести под вышак». – «А тебе самое время научиться петь Варшавянку», – отвечал я ему.
Свидания же наши с Оводом не приносили радости.
– Почему у нас ничего не получается? – сожалеючи задавал я вопрос Ковалеву. – Андропов уволит вас. Все-то у вас невпопад, и скучно, и угрюмо. Иль вы «Казаков» не читали?
И Овод попался в очередной раз:
– Антисоветскую литературу не употребляю.
Я было рассмеялся, но затем открыл, наконец, что действительно русская литература разделена им на советскую и антисоветскую, и Овод здесь неизбывно оригинален. Но как тогда прочитывает он советскую литературу?
– Владимир Иванович, а «Пир Валтасара» вы изучили вдоль и поперек? Согласитесь, у строителей социализма были славные вожди. Нынешние в подметки не годятся прежним. Сталин понравился вам в «Пире»?
– Сталин мне повсюду нравится, – отвечал Ковалев. Но сообразив, что я вывожу разговор на любимого мной Искандера, чья рукопись взята при аресте, зло мигнул и стиснул зубы. Оказалось позже – в приговор эта раблезианская фреска Фазиля Искандера не вошла. Несчастная потуга скрыть от читателя вакхический портрет мудрейшего вождя всех времен и народов нелепа. Ho, будучи под прессом, я узнал от Овода, что Комитет каждый год в декабре празднует день рождения Сталина. И не наш ритуальный чаек пьется на сталинском дне рождения. Солдатская шинель, жесткая койка, неприхотливость в пище поминаются каждый раз ханжески, от сталинской скромности ничего не осталось в сем логове.
Внезапно однажды подступило затмение, я потерял сознание, считанные минуты спустя оказалась рядом врачиха. Когда я пришел в себя, упрекнул следователя по особо важным делам:
– У Комитета, оказывается, своя медсанчасть, с лучшими врачами, с лекарствами, которых на воле не добыть простым смертным.
– За вредность должны быть и условия подходящие, – получил в ответ.
– А у Сталина вредности, что ли, не было?
– Слушайте, заткнитесь вы со Сталиным! – сорвался Овод. – При Сталине вас давно увели бы в подвал.
Еще открытие. Расстрельный подвал, под зданием КГБ и МВД, находится здесь же, в средостении улиц Литвинова и Дзержинского. Замахиваются нынче вернуть этим улицам старые имена, а зря, зря. Да той же улице имени Феликса куда возвращаться? Она называлась именем графа Кутайсова, затем Арсенальской, затем Льва Троцкого. Нет уж, снизойдите, современники, оставьте в топонимике Иркутска тяжелые знаки эпохи.
– М-да, – итожил скоро мой поединок с Оводом генерал С.С.Лапин (два «С» – Степан Сергеевич), – нашла коса на камень.
Генерал привезен в область новым секретарем обкома партии Ситниковым. Практика апробированная. На милой родине моей та же история – Первый (Шарин) привез обласканного еще в Приморье гебиста Клецкина, чтобы жить с КГБ в обнимку. Так и здесь: Василий Иванович Ситников шага не делал без закадычного друга и, когда бежал в Монголию, в так называемые дипломаты, издали посматривал в Иркутск, пытался вытребовать Лапина к себе, но пришел черед бежать Лапину – в Москву, под крыло Крючкова. Шарин с Амура прятался и спрятался под зонтик Лукьянова, в Верховном Совете. Но и Лапин, и Шарин выгоду соблюли – в столице их ждали квартиры и дачи и, что немаловажно, забвение темных трудов. Ситников же завез на Байкал и судью карманного, В. Чернова, все 80-е годы Чернов вел в Иркутске политические процессы, а Лапин об руку с Ситниковым на встречах с народом, в огромных аудиториях, соответствующе комментировали время, призывая массы к бдительности[87].
Итак, решено подследственного привести к Лапину: то ли ему не терпелось посмотреть на жертву, то ли воодушевить хотел следователей дланью покровительственной.
Я всмотрелся в Лапина. Портрет изобличал человека из народа. Крупное лицо, крупные руки, замедленная реакция уверенного в себе человека. Либерализму Степаненки хребет сломан вот этими руками.
С. С. Лапин провозгласил – на словах – гуманность в обращении с инакомыслящими. Сергея Боровского не повели по 70-й статье, вот и гуманность. Выкрутив руки и измордовав, взяв десять подписок, выпустили на волю Сашу Панова, он вместе со мной создавал Вампиловское товарищество, и держали на привязи до 1987 года. Приняли решение исключить из университета моего сына Андрея, но по настоянию, причем публичному, позволили защищать диплом. Гуманность! Но Юрий Гуртовой прыти не сдержал, инсценировал на улице города столкновение Андрея с дружинниками (повязочки одели агенты комитетские), Андрея схватили и сутки продержали в КПЗ. Андрей выдержал испытание, но оскал гуманистов запомнил на всю жизнь.
В перечень двусмысленных деяний генерала С. С. Лапина войдет и встреча с Валентином Распутиным. Именно после этой встречи произошел надлом в мировоззренческой ориентации Распутина, и горожане будут долго гадать, что сотворено с писателем и кем, будут ходить слухи о том, что некие уголовники избили его в подворотне собственного дома. Но драма оказалась непредсказуемой: именно он, будучи не в себе, нападет на веселую компанию и падет к ногам шпаны, врачи спасут Валентина, но время отжинок отойдет навеки. По возвращении я приду к нему, бездомный, с просьбой позвонить в областной Совет (не дадут ли комнату в общежитии, буде дом мой в саду сожгли). Он, передернув плечом, как раненая птица, скажет: «Не сердись, но я должен спросить об этом в КГБ». – «Да о чем ты должен спрашивать в КГБ?» – «Они лучше посоветуют, как тут быть». – «Да они, напротив, – помешают». – «Ну, я не могу иначе»... – я ушел растерзанный и больше не приходил к нему).
Генерал Лапин олицетворял триумф комитета госбезопасности на сибирской земле, и в эти дни торжествующий Овод, усугубляя тяжкое мое настроение, сообщил, что беда вошла в Твой дом, Марина (гэбисты арестовали Глеба), а в Ленинграде взяли Ростислава Евдокимова, внука каперанга, талантливого филолога, и идут аресты в Киеве.
До тюремных камер докатилось безумное известие – новый шеф КГБ Федорчук в бронированном автомобиле выезжает к Манежу и хватает за руку парней: «Студент? Поч-чему не на лекциях?!» И неопровержимо узналось: идут облавы в Иркутске. Внезапно во время сеанса зажигается свет, люди в штатском перекрывают выходы из зрительного зала, и начинается опрос: кто, как, почему во время рабочего дня столь вольготно чувствует себя? И далее: почему пьет кофе и ест мороженое? Завивает волосы и бреется в парикмахерской? В три пополудни позволяет себе заказать рюмку коньяку в «Арктике», в «Сибири» и даже в «Интуристе» поч-чему? По какому праву до обеденного перерыва женщины шастают по Соломона Урицкого (Торговый центр Иркутска)? – Все это идет на мертвенном фоне гражданского авиалайнера, сбитого вместе со стариками и детьми над водами Татарского пролива... О чем мы будем говорить с господином Лапиным?
– Борис Иванович, а как вы относитесь к Юрию Бондареву? – и выслушав мой ответ, окунается в велеречивость.
– Бондарев концептуально прав, у нас есть право гордиться достижениями, – генерал делает провокационную выступку. И чтобы там, вдали, иметь возможность, иметь право сказать то, что я сейчас скажу, я говорю ему там, в тот час:
– У нас нет достижений, Степан Сергеевич. Гибель русского народа и Православной церкви...
– А я принципиально не согласен. Новая общность советских людей. Интернациональное братство. Любовь передового человечества к стране победившего социализма.
– Вы называете то, что есть, победившим социализмом?
– Бесповоротно, дорогой Борис Иванович. Потому-то, кстати, мы сочувствуем вам. Предубежденность былая ушла, мы поняли – вы советский человек, но со своеобразным взглядом на мир. Да, а Ежи Ставинского вы читали, конечно?
– Читал, и вы знаете об этом. Но к польской «Солидарности» Ставинский не имеет отношения.
– Мы хлеб не зря едим. Нам о Ставинском известно другое. Ну, держитесь, Борис Иванович. Вы симпатичны мне. В вас есть корневое, характер у вас русачий, морозоустойчивый.
– Я не русак, я гуран, Степан Сергеевич.
– Гураны – забайкальские казаки? Дак то ж чистейшие русаки!
– Мы помешали кровь с местными народами, потому и стали морозоустойчивыми.
Встав из-за стола, мы пошли к выходу из кабинета. И уже на флажке Лапин добро усмехнулся, мужицкое начало высветилось и проступило наружу:
– Борис Иванович, а почему вы считаете, что евреи из одной с вами камеры – осведомители КГБ, так сказать? Неужели вы антисемит?
– Зная, что я не антисемит, вы пытаетесь через ваших евреев кое-что разведать у меня. Но работать они не умеют, милостивый государь.
– Да вы заблуждаетесь, уважаемый Б. И. Оперативная служба тюрьмы ведет свою работу, в том числе среди евреев. Мы не касаемся их епархии. Своих забот полон рот. Ну, не гневите душу, Б. И., я рад был беседовать с вами, – Лапин протягивает толстую руку простолюдина.
В приемной чистолицый моложавый человек цепко всматривается в меня. Глаза его совершенно безжизненны. Я притормаживаю и всматриваюсь в маску. Запомнить бы. Не знаю, зачем, но запомнить бы.
Много лет спустя на собрании ученых в Академгородке я внезапно признаю в выдвиженце (ученые рьяно выдвигали чистолицего кандидатом в депутаты России) того человека, что сторожил мой выход в приемной генерала Лапина, но воспрепятствовать ему не смогу. Он станет депутатом России.
Письмо четвертое Светлые силы
Среди гэбистов оказался один человек – с ним установились у меня нормальные отношения, нацеленные будто во времена другие, мы оба делали прикидку: я, если доживу, пригодиться Петру Мазанникову в качестве дядьки, Савельича; Петру Николаевичу – начать с чистого листа историю службы, первейшей и единственной задачей ее да будет благо русского государства, благо, понятое в гармонической увязке со свободой частного лица.
Но темные силы попытались отвадить Мазанникова приятельствовать со мной и настропалили парня быть дурным. Тогда я взял в руки перо.
Том 2, лист 5 уголовного дела № 2308. Приложение к протоколу от 20 июля 1982 года: «Настоящим принужден заявить отвод Мазанникову П. Н. Мотивы отвода суть следующие. Нарушение презумпции невиновности, заведомо тенденциозный и неэтичный подход к подследственному. При всем при том уверен, что в дальнейшей работе своей, набравшись ума и культуры, Петр Николаевич Мазанников станет добросовестным и лояльным работником. Борис Черных».
Мотивы отвода – неискренние. Мазанников обнаружил в себе качества не хуже, нежели те, коими обладали тот же Анатолий Степаненко или Юрий Шаманов (перечеркнуть лучшее в них не могу). Уместно припоминаю Михаила Асеева, именно Асеева гэбисты пятидесятых годов и втянули в провокацию против юного Леонида Бородина. И когда с Бородиным посчитались, Миша Асеев, милый парень, ушел с историко-филологического факультета на юридический. У нас он сразу вписался и стал своим, его определили комендантом общежития, мы неплохо зажили под зонтиком, и только к концу учебы открылось, с кем мы водили дружбу, кто постоянно выручал нас то пятеркой, то буханкой хлеба. А двойничество в натуре Асеева дало корень и проросло. Но все равно природное, сибирское, прорывалось и довлело в натуре, подпорченной вечным двурушничеством. Однажды он сказал мне, подходя на улице: «Все так и норовят презирать кэгэбэшников, но мало кто знает, что среди нас есть люди не хуже, а лучше вашего брата. Но мы никогда не обнимемся». На что я отпел ему резко, а потом, получив сообщение о гибели Асеева, горько сожалел о резкости, частью оправданной. Но кто выдумал надзирать над согражданами? Кто придумал поссорить славян недоверием к части их? Кто ввел в обиход стукачество?
Отвод Мазанникову я писал с целью высокой: для потаенного исследования моего давно хотелось мне оказаться лицом к лицу с господином Дубянским. В течение долгих лет Дубянский занимался досмотром за моими друзьями, собирал «компрометирующие факты», не брезгуя бытовыми подробностями, многих успел запугать, вызывал на так называемые профилактические беседы, требовал письменных объяснений.
В архиве КГБ сохранились отвратительные бумаги – если в минувшем году, чувствуя угарный запашок, гуртовые не успели сжечь их. И меня, разумеется, возмутило, когда матерый Дубянский решил загородиться необстрелянным Петей Мазанниковым. Ранее я отвел молодого следователя прокуратуры Тихонова, ибо и там усмотрел похожее желание стариков отсидеться за спинами неискушенных ребят. И вот написал отходную юному витязю, а жалко расставаться было с парнем.
Петр Мазанников приходил на допросы чистеньким, в белой рубашке. Золотое колечко с безымянного пальца било в глаза светлым лучом. Костюм модный, наверное, вся родня собирала по рублю, чтобы одеть парня, ведь куда идет служить, в какие высокие сферы! Сам Мазанников постоянно думает о важности происходящего и светится, но скоро начинает тускнеть на глазах, я так думаю, разум и сердце непогашенное еще работают и плодят вопросы, а ответы на них не сыщешь в одночасье: Иногда через коридор я слышу, как Овод пытается отвести тяжкие раздумья Мазанникова и цинически смеется, зазывая Петра Николаевича в смеховую орбиту.
Написать бы о смеховой традиции у опричников. Итожа четвертьвековую школу постижения гэбистских ужимок и гадостей, со временем, коли выкрою время, сяду к столу, чтобы позабавить читателя песенкой удивительной. Всякий раз, припоминая, как смеялся Степаненко или как смеялся мышонок Шаманов (в обкоме комсомола невольно наблюдал за ними), или как смеялся полковник Королев в Магадане, или подполковник Вовк в Благовещенске, или генерал Разживин в Ярославле... – чую, золотые россыпи, да где сыскать издателя, который бы немедленно пустил удивительную книгу к читателю?
В минуту роковую говорю Мазанникову:
– Петр Николаевич, доживете до хороших дней, когда Россия вздохнет свободно. Не отяготить бы совесть. Понимаю, трудно здесь, но от крайнего падения, берегите себя, – на эти слова Овод, присутствующий при моем монологе, презрительно бросает: «Мы не красные девицы, чтобы беречь себя», – и хлопает Мазанникова по плечу. Тот сконфуженно улыбается. Но сколько-то пробежит недель и месяцев, перед судом я получу возможность смотреть «Дело», сшитое гэбистами, и в некоторых протоколах допросов, веденных Мазанниковым, обнаружу совершенно неуместные слова в мой адрес: один отмечает педагогические таланты подследственного, другой признается в том, что меня любили воспитанники, третий говорит – выеденного яйца не стоит вся затея улицы Литвинова.
С глазу на глаз Петр Мазанников выпаливает как-то, словно на всякий пожарный случай:
– А я ведь живу в одном подъезде с Дмитрием Гавриловичем Сергеевым, – молча соображаю я, что значит признание молодого следователя, но не обижаю Мазанникова подозрениями: квартиру-то дали ему в одном доме с достойнейшим сыном Сибири для неумолчного догляда за Дмитрием Сергеевым. Вместо подозрения, готового сорваться с уст, я спрашиваю:
– Веньку Малышева помните? Из Нилинской «Жестокости»?
– Помню.
– Слава Богу, – говорю. – Венька и меня заставил многое понять, когда я был не старее вас.
(Павел Нилин, роман «Жестокость». Вениамин Малышев, сотрудник уголовного розыска, убивает себя, когда открывает, что обманутым и поверженным оказывается человеческое достоинство; в недрах репрессивных органов в 20-х годах уже были заложены тлетворные зерна, им оставалось с годами прорасти и дать всходы. Мужик Баукин, преданный оперативникам в «Жестокости», – пророческий персонаж русской литературы).
– Да то ж когда было, Борис Иванович.
– Сегодня было и есть. Вчера было. Но что будет завтра?..
Более пяти минут нам не дают пробыть вместе. Догадываются волкодавы: коли я умею подчинить влиянию уголовников, то не воздействовал бы и на белоснежного Мазанникова.
У меня же дидактическая установка, хотя и скрытая, но никогда не умирающая: всегда, со школьных лет, я не оставлял усилий воздействовать на человека в положительном смысле. Усилия мои приносили результат, иногда не скорый. Но тем не менее приносили. Зря не послушался я советов Лили, сестренки (она учитель), и не пошел учиться в педагогический. Возможно, судьба моя сложилась бы благополучнее. И здесь, у края пропасти, я начал безнадежную борьбу, и, кажется, бессмысленную, за достоинство... – вот вы, читатель, сейчас удивитесь, но Ты, Марина, поймешь меня... – за достоинство личности опричника, вне спекулятивных соображений...
Сразу и бесповоротно я понял: здесь последний рубеж, и русская интеллигенция, во всяком случае, провинциальная, да будет представлена достойнейшим образом. Образ врага, пестуемый в недрах КГБ, сколько достанет сил, я обязан разрушить. Вероотступника они не создадут прежде всего потому, что вероотступники они, и я верну, должен вернуть, к лучшим заветам эти заблудшие души. Должны они внять: любовь к Отечеству призывает меня быть таким, каков я есть, но нигде и никогда я не позволю низвести поединок наш к противостоянию ненавистников. Благие порывы, благие надежды!
Вижу беспощадным глазом – молодой Петр Мазанников если и любит меня (жертву можно любить любовью истязателя), то прежде всего – как персонаж героической своей судьбы. Мазанникову дадут медаль за меня (а Дубянскому и Оводу – ордена и внеочередные звания), и хотя бы за медаль стоит быть почтительным и вежливым и просить у Бориса Ивановича прощение за неделикатные вопросы. Но могут ли быть деликатными вопросы в стенах этого злого учреждения?
Осенью 82-го года старший лейтенант Мазанников совершает опрометчивый поступок. В его присутствии начальник следственного отдела областного КГБ Герман Дубянский напыщенно, с дрожью в голосе, зачитывает постановление об этапировании в Омскую психушку.
– Вот и вся игра ваша, – роняю я. Дубянский никак не реагирует на горькие мои слова и приказывает Мазанникову отбыть в отведенную комнату, где ждать вызова к автомашине. Все достаточно необычно и тревожно, я не выдерживаю и спрашиваю: « Уж не спецназом ли меня повезут прямо в Омск?»
– Самолетом, ближайшим притом, – ответствует Дубянский. Что-то поджаривает гэбистов, или торопятся сплавить меня подальше и навсегда. Сейчас, невольно поддаваясь забытому переживанию, я употребил вульгарные слова «поджаривают» и «сплавить», и мне стыдно, но не хочу исправить, лишь прошу прощения у читателя, воспитанного как и я на великой русской литературе.
Мазанников выводит в коридор и через коридор в кабинет, похожий на камеру-одиночку. Стол, два стула. Окно во двор, широкая решетка без намордника (намордником называют жалюзи). Здесь я коротал немало часов между допросами и привык к одиночке. Знаю, во дворе комитета никогда курицы живой не увидишь, но зато – небо, пусть в решетку – но просторное и далекое. Ласточки накануне дождя простреливают облака.
Мы усаживаемся, Петя угощает хорошей сигаретой.
– Почему почет такой, Петр Николаевич? Не «Столыпиным» выпроваживают, а Аэрофлотом?
– Если «Столыпиным», – отвечает Мазанников, – начнется утечка информации.
Плохи твои дела, Черных, думаю я, если замыслили спрятать тебя в чужом городе, и без свидетелей. Но могли бы не объявлять и постановления о направлении в Омск. Зачем объявили?
– Петр Николаевич, а зачем рассекретили мое убытие в гости к Верховному правителю?
Мазанников молчит, вырешивая, сказать или не сказать ответ, но говорит:
– Хотелось посмотреть, как вы поведете себя, броситесь ли на колени.
– Вот и вся игра, Петя, – повторяю я.
– Да вдруг это к лучшему, Борис Иванович?
– Нет уж, лучше зона, даже уголовная и карцер, а не психиатрическая больница.
Мазанников подходит к окну, стоит молча, наблюдая за двором, и, неожиданно извинившись, уходит. В дверях клацнул ключ. Шаги Мазанникова замирают по коридору.
Теперь я подхожу к окну, двор привычно пуст. Но внезапно я вижу – две совершенно инородные женщины, измазанные известью, волокут ведра. Следом маляр, в дряхлом комбинезоне, несет кисти. Я подставляю стул, пытаюсь открыть форточку напрочь, форточка отпирается наружу. Бросаюсь к столу, на столе бумага и карандаш. Пишу записку: «Иркутск, люди добрые, отнесите сразу писателю Дмитрию Сергееву. Улица Лермонтова, 97, кв. 34. Дима, увозят в Омскую психушку. Борис Черных», скатываю в комочек и снова жду оказии у окна поднявшись на подоконник, при этом слушаю коридор.
Тихо. Бабы опять несут гашеную известь. Сильным шепотом (вдруг в соседних комнатах люди, и окна приоткрыты, услышат) окликаю: «Бабоньки, бабоньки», – женщины стреляют по окнам, видят изможденное лицо очкарика в решетке окна. Выдернув руку в форточку, бросаю со второго этажа катышок в ноги. Напугавшись, женщины быстро уходят. Идут томительные минуты. Я запер фортку и притаился у оконного косяка. Вечность стучит в висок. Идут на пару мужик и баба. Мужик умело роняет кисть и поднимает ее вместе с катышком. О, Русь моя!
Благодарно машу рукой, мужик вкось ловит в поле зрения мое окно.
Может быть, гэбисты разыграли меня?– вопрос ехидный, придется подождать, прежде чем получу на него ответ.
Слышу шаги за спиной, отхожу от окна.
– Отбой, – сообщает Мазанников, – в порту нет горючего. Дожили. В резиденцию Верховного повезут вас завтра.
Хожу по Колчаковским местам, думаю я молча. Незадолго до ареста сын, будущий историк, добыл из спецхрана стенографическую запись допроса адмирала Колчака. Вместе с Дмитрием Сергеевым, Геннадием Хороших и Андреем – по цепочке – мы читаем бесценные свидетельства. Прост и пространен в ответах Колчак, он понимает – дни его сочтены. И Озими свои хочет оставить для России. Когда насытится она кровью и пробьет час внять горьким истинам – приникнет к роднику и запоздало узнает, что не тем богам поклонялась и даже женщин не тех славила в легендах и песнях. Опереточные, но по колено в крови, Лариса Рейснер, Александра Коллонтай, Надежда Крупская, что и кто вы рядом с русской девушкой Аней Тимиревой? Она осталась с обреченным Колчаком в каземате. В чем же вина ее? Любимого увезли зимней ночью на берег той реки, через которую каждый день возят меня на допросы, и расстреляли без суда. А что же вы сделали с Анной? Уготовили пожизненную пытку – четырежды арестовывали, вели и гнали по дальним этапам, мучили голодом во вшивых бараках. Но без единого стона Анна Тимирева добредет до погоста...
Простите, Мазанников, я отвлекся...
Международным лайнером, шедшим из Сеула на Москву (для сеульского рейса отыскали горючее, я так понял высокую честь, оказанную арестанту), привезли меня в Омск. С охранниками в штатском я все равно осовел от блеска и шума чужой жизни, от итальянской и английской речи. Где-то над Новосибирском нам принесли обед с сухим вином. И тут под говор римлян самое время вспомнить об... Антонио Грамши.
Режим Бенито Муссолини создал политическому узнику А.Грамши диковинные условия содержания под стражей. Я прочитал об этом в 101 камере Красного, когда по моей просьбе тюремная библиотекарша принесла книжку об Антонио, изданную в серии «ЖЗЛ». Мне и сейчас нет смысла стыдиться – итальянская ветвь в социализме, единственная, давно интересовала меня, и теоретик Грамши заставил давно прочитать его «Тюремные тетради».
Но почему-то не догадался я тогда еще полюбопытствовать, каким образом «Тетради», с солидным исследовательским аппаратом, оказались на воле? Неужто в тюремный персонал была внедрена подпольная революционная организация?
Все до обидного просто. В так называемом застенке Грамши имел возможность выписывать и читать европейскую, не только итальянскую, периодику, к его услугам – абонемент государственной публичной библиотеки. Он мог писать и затем написанное передавать во время свиданий родственнице (сестре жены, а жена находилась в Советском Союзе, по советским-то понятиям еще пара обвинительных статей – связь с заграницей). Но дуче пошел дальше – он не препятствовал узнику питаться из внетюремной столовой (скорее всего, ресторана), в рационе итальянца – всегда молочное, свежие фрукты и... сухое вино.
...Сухое вино я отдал охранникам. Я и без того опьянел – надоблачное солнце било в иллюминаторы самолета.
В Омске по лицам иркутских эмвэдэшников я вижу – они сердечно переживают за меня, да и за себя тоже. Ведь это им поручили неблагодарную роль – сдать человека в пыточный околоток. Земляне, одолевая пространства в международных лайнерах и запивая их виноградным вином, не услышат крик обреченного. Старшина Вострюков, в застойных морщинах, полуобнял клешней, когда, в полосатой робе, вывели меня в коридор, чтобы засвидетельствовать окончательную передачу политзэка в руки психиатров.
– Ну, доучивайся, – сказал я Вострюкову, стиснув руку его и втайне надеясь, что многолетний студент-заочник юридического факультета Вострюков проговорится на зимней сессии Гоше Орлову, кандидату наук и старому приятелю моему, о пассажире международного рейса (во время полета выведал я о заочных тревогах старшины и назвал Орлова в качестве безусловного покровителя).
Сутулая крестьянская спина Вострюкова мелькнула и скрылась из глаз. В чужом, неведомом городе я остался один на один с судьбой.
Здесь, у последней черты, я воззвал к Богу. Ранее я боялся обратиться к нему, стеснялся, как стесняюсь говорить сейчас о моей слабости. Когда Александр Васильевич Колчак стоял под пулями в Порт-Артуре и под артиллерийским обстрелом на флагмане, изгоняя «Бреслау» из Черного моря, когда он встал у проруби на льду Ушаковки, – он имел право заговорить с Христом. Имею ли я его сейчас? Но маменька приготовляла меня к встрече с ним, я уклонялся внешне, а в душе-то всегда молился неумелой молитвой.
В Омской обители, упав в белые простыни, стал я усиленно призывать Спасителя.
Камеру, или – палату, куда заперли меня, днем держали на ключе. Ночью, открыв дверь в коридор и закрепив на цепь, милицейский охранник дремал в мягком кресле, наблюдая в щель за поведением узника. Но в палате я был не одинок, соседом выпал человек странный, фамилию помню смутно, поэтому назову его Трусовым (близко к оригиналу). Сойдясь поближе, или во всяком случае настолько, насколько позволяло наше состояние, я узнал, что у Евгения есть веские основания подозревать жену в трансцендентальном превращении. В одну из ненастных ночей Луиза, жена Евгения, обратилась в грифа. Уцепившись когтями, она уселась на спинке кровати, стала чистить вороное крыло. Евгений, наблюдая преображение жены, встал, оделся, и уходя, объявил, что терпеть подобное не собирается. На птичьем языке Луиза выкрикнула сожаление о разрыве супружеских отношений. Евгений сошел под дождь, бродил по берегу Иртыша. Под утро черная птица настигла его, упав на спину, принялась клювом рвать одежду. Евгений сопротивлялся, кричал. А рабочий люд шел на утреннюю смену. Кинулись на помощь Евгению. Он отбивался от спасителей.
Рассказывая свою историю, сосед мой тревожно посматривал на крепко запертую фрамугу окна. Я успокоил его, уверив, что сюда она не прорвется. Он обмяк и успокоился, но стал тревожиться я – мне казалось, психиатры собьют страдальца с нормального ритма возвращения к осмысленному состоянию, если силой начнут вводить препараты. Чтобы хотя бы немного способствовать умиротворению Евгения, я выпросил шахматы. Вторая категория когда-то позволяла мне крушить перворазрядников, но совладать с безумцем я не мог. Но сметая на шахматной доске бастионы противника, Евгений не испытывал удовлетворения. В нервном напряжении его держало опасение:
– Боря, врачи не верят, что она превращается в грифа. Раньше женщины становились колдуньями и ведьмами? В верховьях Иртыша молодуха в облике собаки выдаивала по ночам коров.
– Что ж, – соглашался я, – и у нас на Амуре известны такие случаи.
Но врачи не хотели верить Евгению Трусову. Кажется, не верила и жена, то есть не верила тому, что он видит в ней птицу, считая, очевидно, такое экстраординарное поведение мужа попыткой избавиться от нее, бросить на произвол судьбы, и, жалела его как могла. Я внял доброте Луизы, когда нам стали передавать горячие вторые блюда, блинчики со сметаной, сигареты. Евгений не хотел брать передач; но по слабости характера все же принимал и, оправдывая слабость, говорил:
– Она обратилась снова в человеческое обличье и пытается одурачить психиатров. Но, клянусь, я никогда не подойду к ней.
По животу у нее сизые перья. Я доктора прошу – схватите ее внезапно и осмотрите, у нее бедра заросли перьями...
Днем выводили нас в своеобразную курилку, в туалет, за сигаретой познакомился я с двумя афганцами. Из пепла боев они угодили в военный лазарет, но следом – сюда. Афганцы, оба сибиряки, вели себя чрезвычайно воинственно, они считали, что за службу Отечеству должны им создать привилегированные условия, где бы ни находились они отныне. Соузник мой стал пылко доказывать, что его положение ничуть не лучше, и что ему тоже причитается от государства.
– А ка-ко-е у те-бя по-ло-же-ние? – с дурным подвывом спросил старший из фронтовиков, сержант, награжденный орденом Красной Звезды (боевой орден-то и сбил с панталыку парня, изменив мотивацию ценностей и ориентиров, заложенных Сибирью. Доктор прозорливо понял гибельность награды. Но орден состоялся, отменить его невозможно, и психика парня сошла с колеи, кажется, навсегда).
– К-ка-кое по-ло-же-ние?! – переспросил нервно сержант.
– А такое! К вам по ночам духи влетали, а ко мне черная птица. Духи-то в человеческом обличьи. А мне каково?! – Евгений ярым оком уставился в фанатичное лицо фронтовика.
– А тебе таково! – захлебнувшись ненавистью, крикнул афганец и ударом правой разбил Евгению лицо, тот упал, кровь хлынула изо рта, мы возроптали, нас разогнали по палатам. Пожилая нянька обмыла Евгению раны и смазала йодом, он забылся сном после укола.
Сыновья твои, Россия, потеряли себя и безумствуют.
Назавтра за афганской атакой нас не трогали ни врач, ни санитары. Я принялся за гончаровский «Обрыв», тишина начала нисходить, но Марк Волохов мелким бесом закружился, и недуги страны, словно раны, пооткрывались.
«Напрасно ищем мы корень бедствий национальных в 17-м годе. Все идет из глубины столетий, – думалось мне, – там заварилась взрывная смесь европейских и азиатских установлений, и всякий раз попадаем мы впросак, едва доверяемся европейскому духу. Уж не нарочно ли доктор принес „Обрыв“, – чтобы занедужил я, тоскуя по той России, где дорога к Волге шла проложенными взвозами, но не через обрыв Марка Волохова, бездельника и болтуна».
И на Амуре не могло быть разлома, жили мы богатой, хотя и трудной жизнью казачьих станиц, под строгим доглядом китайцев, и сами строго смотрели на ту сторону, умея взять у той стороны лучшее, но не силой, а обменом и торговлей. Но пришли Марки Волоховы с оружием в руках, изгнали любимых Апостолов. И что сотворилось на великой реке? Да то же, что и на Волге, – никто не слушает велений реки и ее дыхания, одно Красное знамя развевается перед другим; лысые лбы идеологов, выставив наперевес, смотрим в ненависти друг на друга, и не верим дедовским обычаям.
Я прибился к окну. В крохотную промоину, похожую на ясную льдинку, протаившую в окне, можно видеть мир. Мела поземка. Голая ветла за окном просматривалась одиноко, виден по ту сторону пешеходной тропы камень-валун. Heожиданно вышел к камню некто в черном долгополом платье и поднял руку. Невольно я оглянулся. Сжавшись в комочек, Евгений спал, по-детски распустив израненное лицо.
Припав к окну, смотрел я в глаза пришельца. Минуты начали отстукивать высоко и тревожно. Он не обращал внимания на прохожих. Те, догадываясь, кто Он, оглядывались, смущенно притормаживали, и лица светлели у прохожих. Кроткая улыбка Его умягчала взоры любопытствующих, но понятно было – куда прийти ему и было суждено, если не к стенам этого дома.
По мере того, как смеркалось, высветилось над Его головой легкое облачко, будто закатный луч осиял на ущербе. Он немо смотрел в льдинку окна. Благодать домашности обволакивала, и я почувствовал на плече отцовскую руку. Значит, призывы мои к Нему достигли Его.
Он встал с камня. Смежив веки, стоял, потупившись. Крыло вечерней зари спокойно меркло за его спиной. Он поднял взор, посмотрел в глаза мои долго, кивнул и растаял в сумерках, и сразу опала заря.
Вцепившись в решетку окна, я горячо благодарил Его, понимая, что отныне мы под сильным покровительством.
Утром нянька вошла в палату и, опрятно поздоровавшись, подала китайский термос. Я сказал, что она ошиблась, термос предназначен Евгению Трусову.
– Тебе, – отвечала нянька. – Твоя фамилия Черных? Значит, тебе. От жены. Она ждет в тамбуре.
Сейчас принесу чашки, чтоб освободить термос и вернуть. Чего сказать-то бабе?
Проговариваясь и выдавая неразумной няньке тайну моего заточения, я попросил:
– Скажи, я здесь.
– А где ж тебе быть? А, горячее принесла, значит, помнит о тебе.
Уговорив Евгения, я поднял недужного с кровати, мы стали есть, обжигаясь, домашние пельмени.
– Значит, мои знают, где я, – сказал я безумцу. – Значит, те женщины и мужик, побельщики, не побоялись отнести записку по адресу. Значит, Иркутск не упал, и никакой Андропов не повяжет нас, Женя. Он может уничтожить нас, но не повяжет страхом сердца.
Безумец немо смотрел в глаза и кивал согласно. Родимый ты мой.
Через час примчался доктор, и призвали меня немедленно в его кабинет.
– Борис Иванович, как в Иркутске узнали, что вы здесь? – подрагивая бровями, щеками, носом, спросил он.
– У КГБ спрашивайте. Утечка секретов идет с высоких этажей. Но, ради Бога, ничего не бойтесь. Что вам может грозить? Ничто не грозит вам.
– Не грозит? – вскричал Валерий Алексеевич Перистый (наконец-то вспомнил я его имя и фамилию).
– Я не предупредил персонал о том, что никакого Черныха здесь нет. Нет! Нет!
– Да всмотритесь, право. Среди пациентов есть хотя бы один с моим именем? Ну, посмотрите на меня.
– В самом деле? Вы уверены? – Валерий неуверенно улыбнулся.
– И не могли вы предупредить медицинский персонал. С вас взяли слово молчать о том, кто я такой и откуда. В чем же виноваты?
Но нянька приняла безропотно пельмени...
Бедный, бедный доктор. По страшному секрету он сказал, что «они не получат запрашиваемого диагноза», но не рискнул сказать роковое признание вслух и написал слова о диагнозе на лафтачке бумаги, молча подал, но в руки мои не отдал, – чтобы я прочел, – и сжег на спичке.
Я ни капельки не осуждаю его. Жена Валерия Алексеевича принесла двойню, мальчики голосистые и прожорливые, и все помыслы доктора – о маленьких сыновьях. Он мечется по Омску в поисках детского питания. Перевести бы пацанов на коровье молоко, но окрестные крестьяне только в зимние холода везут молоко, мороженное кружками, на рынок, а сейчас на дворе, в степи и на городских улицах ростепели. В бутылочной расфасовке водица, а не молоко, неможно богатырей выкармливать синей водицей. «Ох, мальчики мои...»
Скоро я увидел омских опричников с мятущейся искоркой в блудливых глазах: они повержены в недоумение. Ловко вывезли живого человека из Иркутска в Омск, и можно заживо хоронить, и вдруг – на тебе! Столица Сибири, Москва и западные голоса разносят по миру то, что столь тщательно сокрывалось и пряталось. Времена, ребята, настали другие, непредсказуемые, хотелось сказать мне, но я молчал в ответ на дурацкие вопросы.
Одолев невидимый барьер, скоро доктор пригласил тайного пациента и заявил вслух: «Почитайте. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». Я прочитал диагноз, хотя можно было и не читать. После разглашения ситуации играть с огнем решился бы только отъявленный негодяй.
– Завтра или послезавтра вас повезут в институт Сербского, будут делать вид, что для того и носят на крыльях, чтобы безошибочно диагностировать. Но в Серпах уже едва ли смогут побороть мой диагноз.
Я сдержанно благодарю психиатра и прошу разрешения посмотреть том Ивана Бунина на докторском столе. На самом деле я беру листок бумаги и, пользуясь паузой, пишу: «Я доверяю вам и хочу оставить тетрадку. Лет через десять, коли не найду вас, найдите моего сына и передайте», – доктор кивком головы обещает соблюсти просьбу. Из-за пазухи я вынул тетрадку школьную и отдал ему. Но придется ли мне цитировать запредельный документ? А сейчас говорю понятное в те дни: в стране, повязанной фашистами уже шестьдесят пять лет, страх надломился. Режим еще выкаблучивается, он все еще норовит примеривать звездный мундир на гнилых плечах, но светлые силы одолевают темень…
Так попал я в фантастическое положение. Опять самолет понес меня над страной, а черная «Волга» тащила, как кляча, по улицам Вавилона и втащила в ворота дворца. Они раскрыли зев и следом захлопнулись, тихие офицеры вели по ковровым дорожкам. Я разглядывал, куда попал, в какое подземное царство. Сокамерники сообщили, что в Лефортово. Я благоговейно смолк, услышав шаги Александра Исаевича Солженицына и дыхание, Марина, прекрасного Твоего Глеба (Солженицын далеко, а Глеб рядом). В бетонных двориках я пытался на прогулке вынюхать запахи Твоего дома, но тщетно. Зато в Серпах, когда врачи поставили на выстойку лицом к окну, я всмотрелся в городской пейзаж и поплыл. На балконе дома напротив я увидел незабвенного Лена Карпинского. Лен курил и тоже смотрел в мою сторону. Много лет назад мы сетовали, нет ли в затее поселить Карпинского окнами на институт имени Сербского дурного умысла держать постоянно пред одним из главных оппозиционеров страны зеркало судьбы, пусть гипотетической в принципе, но с точностью расчислить будущее никто бы из нас тогда не взялся.
И вот мы, разъединенные всего лишь сотней метров, провидцы и странники, предпочитающие крепкий домашний уклад странничеству, смотрим судьбе в суровые очи. Боже, как выхудал ты, Лен, и глаза запали. Куришь простые сигареты, один из прекрасных безработных России. Блистательный ум, философическая оснащенность и основательность, – опыт, да, пусть опыт функционера в диковинном государстве, но опыт бесценный. Именно этот опыт вооружил Горбачева и Ельцина универсальным знанием системы. Надо выдержать, Лен, надо устоять; мы еще пригодимся России в лучшем качестве сыновей горемычных, преданных ей до гроба. Мы никогда не удалимся в Палестины, слышите, господа. Мы готовы уйти в скит на время, но вы не дождетесь, что мы уйдем с этих балконов, откуда открывается страшный вид на Зазеркалье. Мы останемся...
А помнишь, Лен, тот разговор, когда «Известия» пришли с сообщением: никому неведомый провинциал из Ставрополья избран секретарем ЦК партии, всего-навсего одним из секретарей? И ты сказал: «Если он поднимется и не сорвется, он начнет реформы».
1977-й год? Или 78-й?
Ранее мы надеялись на Косыгина, потом была зыбкая ниточка: вдруг закусит удила Катушев? Не закусил. Хуже того – они пятились и боялись свежего ветра. Стагнация общества с неизбежностью подвела Россию к пропасти. Они заглядывали туда и содрогались.
– Почему ты уверен, Лен, что именно он начнет?
– Потому что он понимает – в тоталитарном государстве духовное возрождение невозможно. Тоталитарное государство обречено на смерть. Надо мирным путем трансформировать его в правовое. И он понимает это.
– Ты знаешь его взгляды из первых рук?
– Когда я был секретарем ЦК комсомола, а он секретарем крайкома комсомола, мы успели обстоятельно говорить о России. Он понимает, что Россию надо поднять.
Допустим, он сдвинет Россию. Тяжелая на подъем, она сдвинется с места и пойдет. Но куда?
– К миру, Боря. Мы ушли от мира, отгородились стеной. Вернемся к миру и, оставаясь собой, начнем путь национального преображения.
– О, красиво-то как! Но каждому придется принять личное решение. Ты готов к нему. Я готов. А мужики годами, десятилетиями бьют баклуши на общественном производстве. Они согласятся принять решение и пойти на личную деляну, где ты один на один с ветром в поле?
– Выбора не будет.
– А вчерашние соратники объявят его Лжедмитрием, предателем и пр., и пр. Между прочим, придется что-то делать с коммунизмом. Доктрину придется менять.
– Коммунизм придется преодолеть, как преодолевают болезнь. Выздоровление тоже будет нелегким, с возможными осложнениями, болезнь была тяжелой. Но надо сказать правду народу: мы больны и умрем, если не признаем истинного диагноза...
– А ты преодолел болезнь? Ты носил в себе такую святую веру в социализм. Успел ли ты сам внять истине?
– Преодолею. Хотя и тяжелая доля – одолеть хворь, которую успел полюбить и считал здоровьем. Он тоже будет преодолевать болезнь на ходу.
– Господи, каких только собак не навешают на него.
– А главное, потребуют сказать, зачем приходил. Но его уже не будет.
Никому, Лен Вячеславович, я не рассказал о наших беседах. Впрочем, однажды в рабочей камере штрафного изолятора московский сиделец Лев Тимофеев попытается низвести с пьедестала Лена Карпинского, «марксиста и догматика», и тогда мне придется сказать, что он вещает с чужого голоса, и лучше не вещать, по крайней мере, в камере Шизо... А книги, да, страстью нашей были книги, это справедливо больше по адресу Карпинского, нежели Распутина (последний всегда был занят более собой), – сейчас книги, которыми снабжал ты меня, Лен, идут по следственным кабинетам, но я не выдам тайны, откуда и как пришли Джилас и Дубчек в Ботанический сад.
А если суждено нам встретиться, я выведу тебя на балкон твоего дома, откуда ты сейчас смотришь, тоскуя, в космос, и расскажу о шведке Тальке, которая спасла меня в Серпах – спасла в прямом, не в переносном смысле: будучи психиатром, она поставила безошибочный диагноз о начавшемся воспалительном процессе в печени, и в палате Серпов успела уколами вытащить меня из тюремной могилы. Прапрадед ее, плененный Петром Первым под Полтавой, оставил ветвь в чужой державе, и я не нашел суровых слов в адрес Тальке.
Так вернулся я на иркутскую землю окрепшим, почувствовав поддержку невидимых сил. А в стенах тюрьмы администрация неожиданно продемонстрировала презрительное отношение к гэбистам. Видимо, попытка избавиться от политического узника посредством его сокрытия в психушке отвратила тюремщиков от Дубянского и Овода, и до самого суда меня более не испытывали камерами рецидивистов. Однако за стенами тюремного замка продолжался поединок. Пришла пора рассказать, что маяло стороны, точнее – противников, в противостоянии. Но об этом противостоянии и финале драмы я расскажу позже. А сейчас уйдем с кровавой площадки – в ближние леса, ибо заваривается в ближних лесах непредсказуемый тайфун.
Письмо пятое Русские конформисты
Ни при каких обстоятельствах и невзгодах мы не оставим Отечества. Но и никогда – руководствуясь лишь чувством меры – не назовем себя пафосной партией. Хотя глубокая наша преданность русским озимям не вызывает сомнений, надеюсь.
Однажды с Карпинским и его сыновьями вырвались мы за пределы Москвы. Стоял день с нахмуренным челом, сосны в бору взирали на странную компанию мыкающих одиночество мужиков с подростками. С Максимом Карпинским мы пошли за дровами, оставив Лена с младшим растапливать печь в летней кухоньке. Захлебываясь, Максим успел рассказать, как в Свердловске, куда он уехал, чтобы начать судьбу, пришли люди в штатском, пытались выспрашивать об отце, в их криминальном интересе не было высокого вопрошания.
Высокоодаренного мыслителя и функционера изгнали из присутственных мест и подавили, но явились в глубинку, чтобы поколебать сына в предании, в заветах родительских. Вот Россия 70-х годов 20 столетия.
Теперь, оставив позади иркутскую драму, на сквозняке безумной эпохи, пытаюсь я отойти от прошлого, чтобы постигнуть горький опыт, но лица с неизжитыми чертами ренегатов, однако с иным, демократическим, упоением, окружают меня. И я бросаюсь к тем, кто устоял тогда и не прибился к выгоде бегущего дня.
Красноярский историк Юрий Булычев написал и передал мне «Свойства провинциального мироощущения», оригинальный трактат, но более трактата заинтересовал сам Булычев. Недавно мы увиделись вновь. После катастрофы он должен был бы дивиться моим треволнениям – дивился я.
Под нажимом властей Красноярский педагогический институт отказался от услуг самого, догадываюсь, эрудированного преподавателя. Булычев переходит в среднюю школу, но и школа отречется от него, как только ученики Булычева станут задавать родителям неудобные вопросы о смысле жизни.
«Он создал нас, он воспитал наш пламень...» – помните христоматийное? – «положен им краеугольный камень, им чистая лампада возжена».
Юрия Юрьевича изгнали из классной комнаты. Тогда он возжег – уже в прямом, не в переносном, смысле – пламень. В котельной. Ему повезло, котельная работала и работает на соляре. Это не та примитивная кочегарка, по которым мыкались гонимые политологи и художники времен развитого социализма.
Апрель вызвал у Булычева холодный исследовательский интерес. Свое решение остаться в котельной Булычев объясняет значимостью физического огня, этот огонь единит его теплокровной нитью с тысячами сограждан. Он не мизантроп, Булычев, он открытый и добрый человек, бескорыстно раздаривающий богатства души и письменного стола друзьям и приятелям. Прозаик Владимир Крупин, распознавший каким-то образом о бессрочном истопнике, позвал его на Круглый стол в журнал «Москва». Голос провинциала оказался весомым в общем хоре.
Но кто позовет, кто вернет из забвения Вадима Полторака? Уставший от гонений (Владивосток трижды пытался избавиться от строптивого литератора, а затем и Питер), Вадим спрятал в чемодан золотую медаль и диплом с отличием Львовского университета и подался на хутор в Прибалтику.
Пришел 87-й год, я навестил отшельника. Власть земли наложила на него неизгладимую печать. О, это не опереточное удаление Генри Дэвида Торо на Уолденские пруды. Полтораковский замес основательней. Потом надвинулся 1990-й и следом 1991-й.
Латыши поднялись и, увлеченные до самозабвения, поставили вопрос о гражданстве для коренной нации. Русский, украинец, еврей, и никак не латыш, Вадим ругнулся («Задрипанные либералы, язви их в душу»), но с хутора не ушел. Там Дэзя, холмогорская корова, там овчарня и птица. А главное – здесь мальчик Глебушка (за Твоим Глебом, Марина, пойдет ли он по этапу в 2020 году? Россия непредсказуема), на парном молоке мальчик поднимается, словно на опаре.
«Пи-лить, пи-лить», – будто из скворечника слышит отец поутру, выносит ножовку и ставит сына к березовому стволу.
В гостиной, под диваном, пылится чемодан с рукописями Вадима. Лучшую его повесть «Иной мадьяр», с эпиграфом из Швейка «Иной мадьяр не виноват, что он мадьяр», постигла печальная история. «Мадьяр» попал в руки демократической дамы, некогда муж этой дамы оказывал услуги отвратительному ведомству и взят был за то в «Правду» собкором по Дальнему Востоку, вылизывал подметки местным партвождям, выслужил перевод в столицу, жену пристроил в журнал с родственным «Правде» названием. Жена-то возьми и дослужись до зама главного. А тут грянула перестройка, и на стол замше лег «Иной мадьяр». У демократической дамы защемило сердце, но супружеский долг взял верх над соображениями 1990 года. Я тягостно размышляю, стоит ли называть на всю страну имя правдиста-конформиста Вячеслава Пастухова...
Итак, речь о конформизме. Описывая современную провинцию, не миновать грозной темы. Булычевы и Полтораки, зажав сердце ладонью, претерпели произвол и не смолчали, заслыша раскаты грома в Иркутске. Смею думать, они вместе с Бородиным и Хороших, братьями Королевыми, Глебом Павловским и Ростиславом Евдокимовым (бок о бок прошли мы со Славой через Серпы и 36-ю), – соль земли русской, ее украшение и надежда.
Но, сшибая ветеранов с ног, ринулись к трибунам самозванцы. Глядя в желчные их глаза, я спрашиваю себя: эти ли дни мы звали?
Но рядом с фанатиками крутятся перевертыши, умевшие во все времена приладиться к любому режиму и певшие осанну всякому, кто знал не только проломный, но и обходной путь наверх. Мы помним классический конформизм эпохи Муссолини, Гитлера, Сталина. Конформисты постсталинизма не поддаются однозначному прочтению. В самом деле, кто были те, что клеймили на собраниях и потом улюлюкали вслед исторгнутому из Иркутского университета Леониду Бородину?
Кто был рядом с гонимым Карпинским и мной, а назавтра подписал письма с осуждением в наш адрес? Имена их многи. Кто не защитил Булычева и Полторака?..
Теперь приходится слышать и вовсе удивительные голоса, напор их наглеет: голоса утверждают, что остов жизни и даже свод небесный держали ни тетка Матрена, ни дядя Кязым, ни Маленький портной, а эти ускользающие рептилии.
Стоило качнуться в августе 1991-го государственной ладье, опять мы увидели мятущиеся глаза и лица. Живо стоит передо мной пристойный облик старого товарища. Он выжил, отступая и кланяясь порой, в тяжелые годы, но нигде и никогда не позволил себе сподличать и оболгать кого-то. Да, служил в партгазетах, аккуратно платил проф– и партвзносы, печатал и гадости, но сам гадостей не писал. В дни государственного переворота по телефону я беру отзыв о событиях: «Рвется к власти фашизм», – диктует мне Юрий Буртин, близко тому говорит Искандер.
Сдавший при Горбачеве партбилет, старый товарищ 20 августа 1991 года вдруг пресекшимся голосом просит: «Боря, вычеркни слова о фашизме. Они победят, и нам не сдобровать», но я не прислушался к совету, оставил фашизм в строке. Назавтра в губернской газете я не нашел голосов Буртина и Искандера. Страх одолел моего приятеля и оказался сильнее цензора.
Яд и мед в августовские дни помешались в душах современников, но неделю спустя «глаза милых урийцев вошли в берега». Цитируя свой рассказ «Жить и умереть в Урийске» и зная, что мне суждено жить и умереть в России, я готов согласиться, что самый большой конформист – народ, но у народа одна, хотя и неосознанная, быть может, дума – сберечь материк жизни от разлома. Конформист-образованец озабочен только собой.
Поразительная встреча ожидала меня в Ярославле летом 1990 года. Я избран главным редактором новой газеты. Демократическое крыло выдвинуло своего кандидата, увы, с партбилетом в кармане, но уже готового пойти, куда демократы призовут. Я значился под вторым номером и' не склонил головы перед депутатским корпусом, в том числе не расшаркался перед самозванцами, это, как ни странно, понравилось консервативному большинству. Кандидат от демократов был провален...
В перерыве на сессии протиснулся ко мне человек, чье лицо не мог я забыть много лет, и вот – из неведения, из небытия – он тянет руку, поздравляет с избранием, а я не знаю, что делать с липкой его ладонью. Теперь Ч-в – активист Ярославского «Мемориала», «видный демократ», ученый–историк.
В 1966 году жар пыточного огня сжигал нас во Владивостоке, и в самые тревожные недели зачастили в краевую молодежную газету два аспиранта, один из университета, а второй из Рыбвтуза. Первый держался раскованно, второй сдержанней, но того и другого мы все же вычислили, и не ошиблись. Великий грех на душу берешь, приговаривая в душе человека к отвержению.
Первый любил навязываться в собеседники редактору газеты Вале Юдиной. Оно бы ничего, Валя жаловала неординарных гостей. Но следом, раз за разом, Валентину ставили на ковер к первому секретарю крайкома партии Чернышеву и цитировали собственные ее заявления, требуя отчета в антипартийности. Скоро она с омерзением поняла, что цитируют ее разговоры с Ч-м, при этом смещают Ч-кий смысл градусов на десять по... компасу.
Я посоветовал редактору разок не принять Ч-ва. И разразилась истерика.
Второй – Виталий А-в – подвизался на многодумных размышлениях об эпохе, но крохотная проговорка выдала его. Глядя на рейд, забитый подводными лодками и эсминцами, я выразил сожаление о судьбе прекрасного города, запертого, как краб в банке, военными.
– Неужели ты, Боря, пацифист?! – быстро спросил А-в, постановочность этого специфического гэбэшного вопроса разоблачила аспиранта.
Мы откивали тому и другому. Они исчезли из поля зрения, по их исчезновению можно было прогнозировать близкую катастрофу. Катастрофа грянула – газету уничтожили в одночасье.
И вот в благословенные времена Бог занес меня на берега Волги. Ярославль бурлил. Опытным глазом я вижу – бурление поверхностное. По авансцене шастают опереточные фигуры: репортер, требующий суда над КПСС, но живущий в огромном обкомовском особняке, полковник, бывший политработник, внезапно прозревший на старости лет. Демократическая дама, всю жизнь славившая режим, но переметнувшаяся по ветру.
И рядом доцент с бегающим взором. В годы разлуки Ч-в преуспел, в том числе на партийном поприще (при его горячем участии ставилась политучеба – слово-то придумали – в обкоме и в местном КГБ). «Сгинь!» – единственное, что я смог сказать новоявленному либералу, он исполнил привычное для него приказание и сгинул. Ярославль – не хутор, улицы здесь широки и многолюдны, площади раскидисты, а в университетские аудитории мне не ходить за недосугом.
Но некий старожил города стучится в редакторский мой кабинет. «Из губернской хроники вчерашнего дня», – говорит он и кладет на стол номер областной молодежной газеты. Ч-в, читаю я в «Юности» (так называется газета), был тем человеком, который отдал на заклание в КГБ своих воспитанников – студентов исторического факультета ЯрГУ. Ярославские гэбисты прикинулись гуманными – они покусали ребят, потаскали по кабинетам, кое-что изъяли из рукописей, попутно устроили выволочку ректорату. Ч-в отметился особо: выполняя социальный заказ ведомства, поставил двойку за курсовую самому бескомпромиссному из группы студентов. Не мог не поставить: в курсовой опальный студент написал, что восстания крестьян против большевиков были праведными. Никто из ученых коллег не одернул Ч-ва, не попытался усовестить. Боялись. Боятся и сейчас. Обыденная тошнотная повседневность. Тут, что Дальний Восток, что Сибирь, что Золотое кольцо, исторический центр державы. Перевертыши, потеряв румянец, приплясывают на кафедрах, на трибунах, на экранах.
Кстати, еще и потому я почти не смотрю телевизор: «то в Булгарина наступишь»... Но однажды врубил и слушаю: член редколлегии «Дальнего Востока»... член КПСС... член СП РСФСР... патриот имярек заступается за... Андрея Сахарова. Я позвонил девчатам с Приморского телевидения: знают ли, милые, кто он таков, имярек? Знают: писатель, депутат, член редколлегии и т.д. Не поленился, съездил на студию, увидел бегающие глаза ведущей и понял: здесь конформистами свито гнездо давно и прочно.
Лев Князев в оные времена не спускался с этажей крайкома партии, участвовал – но с другого, правительственного, фланга в уничтожении Вали Юдиной и ее соратников, создал фашистскую обстановку в Приморском союзе писателей. Лучшие из лучших литераторов Владивостока ушли из жизни или покинули край, стараниями Князева так и не принятые в ремесленную гильдию. Последний подвиг Князева – он не дал поставить у расстрельного оврага, что на второй речке, надгробный памятник Осипу Мандельштаму... «Еврею нечего делать во Владивостоке», – сказал русский патриот Князев, сам не русский по национальности.
Чувство запоздалого удовлетворения я испытал, когда Борис Можаев, не погнушавшись, аналитически разложил на составные и приговорил графоманскую прозу конформиста.
Спрашивается: нуждается ли общество, чтобы Князевы вступались за честь Андрея Дмитриевича Сахарова хотя бы не на союзном, а на краевом телеэкране?..
Называя имена оборотней, не низвожу ли я всеобщее к частному, не заслоняю ли лавину общенационального бедствия личным, личностным, быть может, субъективным видением мира? А нашествие рептилий именно бедствие, не меньшее, чем, посмею сказать, героизм подвижников. Подвижников всегда единицы, конформистов – тысячи. Но если первые, руководствуясь ортодоксальными понятиями чести, зовут убогих и сирых на недоступные вершины, или на Голгофу, и служат вечным упреком обывателю, то вторые, выработав негласный кодекс низкопоклонства, морально разлагают страну и день за днем, год за годом размывают в обществе нормальные – не Апостольские, не исключительные понятия о добре и зле. Обычному праву конформисты не позволяют укрепиться и ратуют за верховенство права государственного, но национальная жизнь крепится тем и другим, в связке, а самодержавие правовой нормы столь же опасно, как и внеправовой произвол.
К сожалению, отечественная литература высокомерно игнорирует опасную тему, демонстрируя тем самым светскость, и утаивая подлинных героев эпохи. Можно подумать, после 1985 года Россия вернулась в первые века христианства и торжествует приобщение к очищающей тайне. Увы, и церковная жизнь становится светской, церковники не избежали комфортных позывов. Там, у клироса, я вижу Ч-х и К-х, одетых в рясу, и с теми же бойкими очами. Но я надеюсь на православных юношей. Да избегнут они ханжества!
Но вернемся в лоно гражданского общества. А его нет, гражданского общества. Нам предстоит его создать. Чтобы положить ему крепкие основания, понадобится и крепкий созидатель, независимый человек. А его тоже нет, и прежде всего потому, что созидатель наш нищ и гол. Понадобится время, чтобы появился класс собственников.
Так мы опять возвращаемся к исходному пункту не только моих писем, но и всей русской драмы: Россия приговорена к идеологической борьбе и вражде, ибо нищему иного и не дано. А идеологическое противостояние и вечная гражданская война являются питательной средой такого явления, как конформизм.
Там, на Западе, есть свои конформисты, и есть подобающие условия для их вызревания. Наш конформизм качественно другой; беспощадным зрением вижу я питательную почву для отечественных рептилий и перевертышей. И осознаю их анонимную силу.
Академгородок Иркутска – детище хрущевских импровизаций, а приобрел он осанистость в брежневское безвременье. Иногда, в смурные 70-е, долетали до иркутян ирреальные слухи из Академгородка, мы не придавали им значения. Но в Новогоднюю ночь, когда вампиловцы пели, обнявшись: «Крест деревянный, крест чугунный обещан нам в далекой мгле», доктора и кандидаты наук, не поделивши в застольной ссоре пирог обещанных правительственных субсидий, поссорились и приступили – к естественному же у образованцев – выяснению отношений. Вызванный наряд милиции прибыл тотчас (у Академгородка своя милицейская точка). Блюстители порядка застали картину, достойную кисти Босха: ученые бросались друг в друга кремовыми тортами и успели обрести розовые и белые парики, подобающие и манишки, – сладкая публика с головы до пят. Приятели по юридическому факультету, осевшие в милиции, развеяли у меня последние сомнения в том, что именно босховские сюжеты воплотились на ночных полотнах новогоднего Академгородка.
Когда пришли дни свободы, ученые Иркутска, очнувшись, решили сказать гражданственное слово, я не выдержал и поехал за Ангару полюбопытствовать: что столь прекрасно встревожило элиту? Что подняло ее к трибуне?
Высокое собрание заняло огромный конференц-зал, в проходах стояли микрофоны. На сцене у инкрустированных столиков сидели трое – член-корреспондент АН СССР имярек, с другой стороны – некий функционер, председатель, так сказать, дискуссионного Клуба Академгородка. А в центре вальяжно поместился чистолицый и улыбчивый Георгий Жженов. Смелая аналогия? В фильмах, снятых по заказу КГБ, Жженов всегда лучится. Я всмотрелся в него и ущипнул себя: не может быть! Но когда чистолицего представили аудитории, два видеокадра сошлись в один – это оказался тот самый агент КГБ, что дежурил мой выход из кабинета генерала С.С.Лапина. Из партаппаратчиков взрывоопасного Ангарска красавчик перебрался в комитет, предварительно придушив ангарскую интеллигенцию, и в считанные годы свершил головокружительную карьеру. На этом именитом собрании И.В.Федосеев представлял КГБ в качестве прямого наследника С.С.Лапина.
Ученая публика млела, слушая раскрепощенную речь гэбиста: ах, иркутский КГБ (и Федосеев тоже) против преследования инакомыслящих; ах, с Б.И.Черных поступили слишком круто (менее круто ученые допускали); ах, начальник госбезопасности за многопартийность!..
Единственным человеком, вышедшим к микрофону и посмевшим оспорить лживую речь новоявленного, лучше – новообращенного, демократа, оказался я... Но конформистов Академгородка раздражило присутствие отщепенца в привилегированном конференц-зале, где долгие годы спевались они невозбранно с властью, и выпад мой залили розовым кремом и сладкой помадой, наскребли из старых запасов.
Скоро, увидев нешуточный разворот событий, я обратился с кратким письмом в газету молодежную. Письмо мое замотали по столам и кабинетам, и предостережение избирателям не увидело свет: «Ну, Борис Иванович, давайте жить в мире», – сказал, притормаживая бегающие глаза, редактор газеты. Давайте, ребятушки. Жили в мире 70 лет, поживем еще сколько-то.
Внедрение приспособленцев во все структуры новой власти не только в провинции, но и в столице, центростремительно. Скоро они оседлают многоговорящих российских лидеров, спевшись для начала, – а жизнь не успеет поднять к кормилу подлинных вождей, опять мы окажемся в межеумочном положении. На дальних путях не забрезжит этапный вагон, но не у дел окажется орлиное племя, – а кто останется у дел? Сакраментальный вопрос. Останутся Князевы, Чукаревы, Федосеевы. А между тем интеллектуальные и организаторские способности поколений, бескомпромиссных в лучшей части, не исчерпаны, и к ним тянется молодежь. Они призваны быть доверительными лицами переходной эпохи, а не конформисты. И если Звиад Гамсахурдиа в силу личностных характеристических черт бросил невольную тень на тех, кто отбыл свое там, то я отвечу: и тень тени не положил талантливый диктатор на страдальцев. Когда Вячеслав Черновил и Вацлав Гавел держат в руках жезл, – пусть конформисты упрекнут наше товарищество этими именами. Но конформисты затаились. Вчера они блокировались с компартией и ГБ, в апреле 85-го поежились и решили выждать, поддакивая тем и другим и намекая на свой центризм; в августовские дни 91-го попрятались в норы, а к осени и зиме 92-го оказались в качестве озимых демократических страдальцев.
Что ждет страну, когда ее оседлают перевертыши? Где наш Вацлав Гавел, который, не сворачивая с большака, сумел бы обезопасить нравственный выбор страны?
Письмо шестое, и последнее Река с одним берегом
Пророчествовать на Руси стало прибыльным делом. Не могу пророчествовать. Здесь, в шестом письме, я намерен сказать, чем жива Россия вопреки всему, хотя разруха, постигшая нас, превзошла апокалипсические прозрения Достоевского и предсказания авторов «Вех». Ранее я не успел признаться в том, что ксерокопия сборника «Вех» взята была при аресте и послужила дополнительным штрихом при предъявлении обвинения в антисоветской агитации и пропаганде. Ныне драматические события отодвинулись, в повестку дня встали другие задачи. Но застрельщики, или проводники дня нынешнего, ужасающе оторваны от почвы. Под почвой я разумею не огород с баней на задах усадьбы, а обычное право, неписаные нормы которого потрясены, но все равно формируют национальный уклад.
В письме первом я обронил строки о том, что был приглашен амурским войсковым атаманом на казачий круг.
Малая и милая родина на вялотекущем, державном Амуре в отошедшее лето оставила двойственное впечатление. Наслушавшись в метрополии о казачьих играх да начитавшись заполошных московских опасений об урядницкой нагаечке, мы с братом не без иронии вошли в сумятицу событий, подготовленных инициаторами круга.
Зачем Амурское войско поднимается из праха? Куда подевать Советскую власть в левобережных селах, если казачье самоуправление восстановит свое достоинство? Пойдут ли гураны на заимки или останутся в колхозах? На вопросы мои Георгий Николаевич Шохирев отвечал ясно и просто: «Может ли быть река с одним берегом? Во! А они семьдесят лет водили за нос народ, и мы поверили, что у Амура один берег, и тот затянут колючей проволокой».
Уставшая от пустых комсомольских затей, на круг сошлась и съехалась молодежь. В кирхе, отобранной коммунистами у католиков и отданной теперь православным, освятили полковое знамя, верхами провезли по Благовещенску. Жаркий день способствовал славному ритуалу. У гарнизонного дома офицеров толпа приветствовала Шохирева и соратников его криками одобрения, в толпе я видел горожан, одетых нарядно, были и в посконном.
Приготовился ли партаппарат к неожиданному повороту событий в тишайшей из российских земель? Поначалу было ощущение заготовленного сценария, и крутились кадровые функционеры, пресса отмалчивалась, застигнутая врасплох возрожденческим движением снизу. Шохирев вел себя сдержанно.
Скоро круг вошел в непредсказуемую борьбу самолюбий и позиций, и я заметил, как атаман оживился и поднялся, вырос. Диво дивное, из дальней станицы Черняевской, не обученный трибуной лукавым ее прихотям, Шохирев тем не менее чувствовал себя в седле.
Позиций обнажилось две: верхняя, назову ее верховской, хотя верховскими-то были казаки, съехавшиеся из станиц, расположенных выше Благовещенска, и нижняя: нижними оказались делегаты благовещенские, и среди них ставленники партии, – но верховодить попытались большевички, давившие и подавившие на Амуре самостийную, вольную жизнь. На роль кандидатов в войсковые атаманы засланы из кабинетов отменные бойцы, прошедшие выучку в политорганах, среди них преподаватель марксизма-ленинизма местного общевойскового училища, отрастивший по такому поводу усы и длинные лохмы, под батьку Махно. Дородная его фигура, в черной папахе и полковничьих погонах, своеобразно украшала Дом офицеров. Вторым был боевой генерал из Афганистана: генерал явился в штатском, но подтянутость и моложавость генерала внушали доверие. Да вот беда – в казачьих делах афганец был, что называется, ни уха, ни рыла. Глядя на фронтовика, я вспомнил Сеню, ярославца, сбывшего мне терем в Даниловском уезде, и несчастных мучеников Омской психушки. А противостоял кандидатам в атаманы от партии молодой и дерзкий парень, донских кровей, по профессии скульптор (позже я наведаюсь в его мастерскую и открою, что и здесь, в художественной мастерской, прописана афганская тема – скульптор готовил монумент, посвященный войне и ее героям). Сам Шохирев не высказывал малейших позывов к атаманскому поприщу, но именно потому и выигрывал состязание у честолюбцев.
Удержать булаву в достойных руках помог совет стариков. А откуда он взялся, право, столь крепкий в убеждениях и принципах, забытых толпою? С полей Отечественной, многострадальной, но святой, пришли ли эти старики, поднявшие из сундуков ветхие регалии и мундиры, и оказались в рост событию? Совет стариков повел себя круто и пренебрег аппаратными наставлениями и увещеваниями: в обстановке открытой борьбы ветераны предрешили победу над посланцами партии. В иных русских землях, кажется, вышло навыворот. Но и там все вернется на круги своя, если перевертыши не собьются в стаю.
Стояли благословенные, солнечные дни. Мы бродим по городу. С китайской стороны красный цвет полотнищ заметно потускнел, а в Благовещенске полно узкоглазых купцов, цены они заламывают сумасшедшие. На набережной Амура то тут, то там мелькают белые и черные папахи и светятся желтыми молниями лампасы с широких шаровар. Рядом с родителями шествуют отроки в казачьей форме. Здесь и маленький Шохирев, в сапожках и при погончиках, милый мальчонка, не догадывающийся, что над головой отца занесена смертельная секира.
Для моего брата, Геннадия Ивановича, июльские дни на родине были днями позднего прозрения. Фронтовик, всю жизнь носивший в военном билете портрет генералиссимуса, он очнулся, увидев своих ровесников, и вдруг вспомнил о казачьей родословной, и упреки мои, ранее адресованные старшему брату, потухли за ненадобностью.
Я познакомил брата с бывшим капитаном Амурского гражданского флота Владимиром Михайловичем Шатковым. Шатковы из древа кожевенников, чьи упряжь, чемоданы, обувь чистой кожи пользовались спросом в Хабаровске и Харбине.
Шаткова знает все Приамурье не только в качестве капитана сухогруза, но и в ореоле страдальца: в разгар афганской авантюры Владимир Михайлович, спасая сына от участия в неправедной войне, перешел Амур и попал из огня да в полымя. Скоро два китайских офицера бежали к нам, и державы устроили обмен. Здесь Шатковых, отца и сына, ждало испытание на излом: сына отправили за колючую проволоку, а отца заточили в благовещенскую тюрьму-психушку, оба они выдержали пытку, но отец тяжело возвращался в прежнее нормальное состояние. Разум его ясен и чист, но сердце подорвано. Спасает устроенный быт – у Владимира Михайловича крепкий наследственный дом, богатый огород. Толя с внучкой рядом.
Когда-то, в 20-е годы, дед наш, Дмитрий Черных, тоже не вынес красного террора, перешел Амур и поплатился жизнью.
Шатков-старший пристально следит за эпопеей возрождения казачества, он встретил нас счастливым вздохом:
– Не чаял дожить. Поднимается кажется, Россия. И казаки слово свое еще скажут. Напрежде всего они вернут Приамурье к земле, так я думаю.
Да будет по Шаткову. Земля всему голова.
Поднятые Муравьевым-Амурским предки наши пришли сюда из забайкальских степей, оседлали дикие пожни, раскорчевывали леса, возвели тысячи заимок, развели крупный рогатый скот. Когда П. А. Столыпин отстоял идею Амурской железной дороги – а ему противодействовали в этом социал-демократы, – край процвел не только экономически, но и нравственно. В областном архиве я отыскал ежегодные отчеты Войскового атамана правительству: по всему русскому берегу (сотни станиц, посадов, поселков) не было преступлений. Год за годом ни грабежей, ни насилий, ни воровства. Лишь единичные случаи конфузных историй, связанных с ханьшином, китайской водкой, приводятся в докладных. Не знали станицы ни поджогов, ни идеологических расправ. Торговля с китайцами шла через таможни, но казачьи заставы смотрели сквозь пальцы, когда разноплеменные берега осуществляли соседские связи. Не межгосударственный правовой режим господствовал здесь, а обычай, при негласном верховенстве права. Амур бороздили грузовые и пассажирские пароходы. Зейская долина, житница Дальнего Востока, кормила хлебом обширный край. Теперь былое стало мифом. Пароходы не возят пассажиров, подорвано сельское хозяйство, разорваны торговые связи – жизнь обмерла, и холод вошел в дома пограничья. У реки оказался один берег.
Мы прощались с атаманом Шохиревым, не допуская мысли, что расстаемся навеки, он одарил меня удостоверением амурского казака под номером первым, я был растроган. Я сказал ему, что постараюсь вернуться на родину, а он взял с меня слово, что я напишу об амурских казаках работу, которой достойны предки. «Смотри, – напутствовал Шохирев, – не опоздай».
По прибытию на Волгу я не мог забыть его прощальной речи, а утром 19 августа, услышав по телефону о танках на улицах Москвы, с душевным трепетом понял, что Георгий Шохирев провидчески видел угрозу нашим надеждам. Что ж, оставалось стоять до последнего.
Чиновный Ярославль затаенно выжидал развития событий; я посожалел, что отдал руководство газетой в другие руки. Но мы собрались всей редакцией, приняли обращение, написанное мной, – «Нет перевороту». После небольшой заминки твердо прорезал голос председатель областного Совета Александр Николаевич Веселов. Мы были с ним в контрах, он считал, что газета, во главе которой поставили отсидента, ведет себя слишком независимо, но 19 августа подтвердило мою правоту, мы встретились и примирились. Веселов гарантировал, что покуда хватит сил, «Золотое кольцо» будет выходить ежедневно. Мы подняли тираж в розницу. Прекрасно повел себя Юлис Колбовский, заместитель Веселова.
Диковинно – не прерывалась связь с Москвой. Я предложил Лену Карпинскому, чтобы остановленные Янаевым и Крючковым «Московские новости» воспользовались нашими газетными площадями. Лен согласился, мы выслали в столицу гонца и успели дать разворот – эти страницы останутся в истории, как и то, что говорили мы сами.
Вообще эти четыре дня были звездными для провинциальной интеллигенции, но раздвоение положило черту между охранительными и творческими ее слоями. С Львом Дмитриевичем Растегаевым, руководителем Демократической партии, мы вошли в кабинет первого секретаря обкома КПСС А. Калинина. Ставленник номенклатурных кругов города Рыбинска, Калинин в дни путча попытался консолидирвать коммунистов на платформе Крючкова и Ко, отобрал Дом политпросвещения, собрал директоров заводов и потребовал «усилить воспитательную работу в пролетариате», и ему удалось кое-где и кое-что.
На второй день мы попытались пробиться на моторный завод, там десятки тысяч народу, но плотный кордон милиции не пропустил нас на территорию моторного. То же было на судоремонтном и химкомбинате. Но с Расторгуевым мы вошли к первому секретарю обкома, когда дело ГКЧП было проиграно. Я увидел, что они не способны даже достойно уйти. Калинин походил на подавленного червя, мне стало невольно его жаль.
А в редакцию в те дни шли группами и в одиночку доброжелатели и соратники, мы даже не догадывались, что у нас так много друзей. Один из лучших воителей на областном телевидении Саша Цветков признался публике, что наша газета отстояла честь ярославской журналистики, в то время как респектабельный «Северный рабочий», печатая директивы ГКЧП, скомпрометировал себя окончательно.
Но и на Амуре, и здесь, на Волге, сохранялось у меня ощущение двойственности происходящего; пытаясь постигнуть ее природу, я написал статью «Мы вышли из партии, но партия не вышла из нас» – в роковые дни надо было стоять, мы стояли, но далее мы оказались не в лучшей ситуации: победителей, которые должны преследовать побежденных, – я оказался не готов к роли гонителя. Но 19 и 20 августа я, как некогда Николай Михайлович Карамзин, алкал пушечного грома, чтобы он смел красную нечисть с русской земли.
Когда крючковская авантюра захлебнулась, мы с Майей вышли к набережной. Медлительные барки и многопалубные пароходы несли теплые бортовые огни, у пирса торговали шашлыками и пивом на разлив; у памятника Некрасову смеялись дети. А тяжесть в сердце не отпускала. У меня было предощущение тектонического сдвига по всей огромной России, и я не сильно верил, что взошедший на танк с бумажкой в руках Ельцин справится с разломом. С танка не говорят по машинописному тексту. Следовательно, думал я, наш герой не Дмитрий Пожарский. Кто же тогда умиротворит Казань, поднявшую голову в самом центре России? Кто достойно ответит Украине, которая заявила права на священные камни Севастополя? Кто пристыдит пять тысяч евреев в Биробиджане, объявивших, в пику 95 тысячам русских и украинцев, иудейскую республику на Амуре? Но не видя разлома, не желая признать угрозы распада России, нашего родового гнезда, самозванцы от демократов продолжают вопить о правах человека и упрекают государственников Соединенными Штатами. Можно подумать, что в войне Севера и Юга американцы боролись не за единство страны, а всего лишь за права черного меньшинства.
Пришел черед сказать о величии России. Нам, а не отсидевшим в теплых квартирах и креслах патриотам, принадлежит это право. Мы взяли его кровью и мужеством, мы не уронили себя по кочегаркам и Ботаническим садам, по тюрьмам и политзонам. Вернулся бы на родину Солженицын, нации нужен отец. Не медли, отче. Двадцать третьего августа, посетив Москву, я увидел обезумевше счастливый город. Я не выдержал и пошел туда, куда повлекла народная река, – к Манежной и Красной площадям. На Манежной с высокой трибуны кликушески взывали к духу... Тельмана Гдляна. Нашли Козьму Минина! Я немедленно покинул Москву и вернулся на хутор. Зрительный образ мучил меня: у реки остался один берег, и на том берегу с каменного пьедестала говорит следователь прокуратуры, праведник с блудливыми глазами.
Хутор не сразу, но вернул присутствие духа. Иван Кравцов, с весны выручавший то косой, то плотницким топором (топор он давал, вздыхая – «ни бабы, ни топора в иные руки не дается, Иваныч»), прибегавший не раз с жаждой опохмелиться, на сей раз трезв был как стеклышко. Мы осмотрели вначале его угодья, они были тучными, и стояли зароды свежего сена за селом.
– Почему ты, Иван, не выйдешь из совхоза? У тебя все получается, и сыновья выросли? – спросил я его.
– Выйти недолго, – сердито отвечал Кравцов, – а оне в Москве передерутся и погонят снова на обчий коровник. Как быть, Лизавета? «Как быть, Лизавета?» – его любимая присказка, Лизавета – супруга Ивана, сильная, но кроткая женщина, быстрая, однако не суетливая, всегда молчаливая, но стоит Ивану перебрать, она начинает его пилить принародно, на что Иван смиренно отвечает: «Как быть, Лизавета?» – полное признание фатальной безысходности, и Лизавета понимает безысходность, одновременно подчеркивая, что судьбу не переберешь, как старое прясло. А трезвый Иван – чистое золото мужик. Дети Твои, Марина, были бы сейчас с молоком и сметаной, если бы Иваны Кравцовы сделали окончательный выбор и предпочли вольное землепашество. Потому что не сметана и не молоко предшествуют свободе частного лица, а свобода частного лица есть условие изобилия на прилавке. Но ни свободы лица, ни сметаны не будет, – а именно этого пока не поняли самозванцы-демократы, – если крепкая власть в единой и неделимой России не воплотится в явь.
Назавтра Иван пришел с ответным визитом, чтобы оценить мой первый опыт в Даниловском уезде. Я малость смутился, ибо не успел убрать с гряды побитые августовской ядовитой росой помидоры, вызревшие на кусту. Иван немедленно раскритиковал меня. Я сослался на события, отвлекшие в Ярославль и в Москву. Мужик отвечал, что события-событиями, а главное – огород, я не посмел оспорить суконную правду.
Но Иван увидел развернувшиеся огромные уши табака и уцелевшие после нападения тли вилки капусты, оценил и гирлянды жестяных банок, оборонивших картошку от диких кабанов, – и одобрил поселенца. Пока я хвастался огородом, прошли мимо усадьбы смурные мужики, притормозили и осмотрели недобрым взглядом дом.
– Вишь, – высказал предположение Иван Кравцов, – ты у них бельмо в глазу. Живешь вольно, и дом у тебя барский.
– Знаешь, кто такие?
– Известное дело, шебруны.
– Кто, кто?
– Дармовым живут. Настригут белых грибов и на Даниловский рынок. Шебруны и есть.
– Грибы летом. А зимой что они делают?
– Зимой в примаках и берлогах. Легкий народец, не приведи Господь.
Я заварил у летней печурки крепчайшего чая, чаем мы и причастились. Жена подала нам по лепешке прямо со сковороды.
– Может, я бы и ушел с-под совхоза, – продолжая отвечать на вчерашний вопрос, говорил Иван, сворачивая самокрутку (с сигаретами в очередной раз начался кризис), – но опять сумнение. Ране больного отца сын прибирал, а кто теперь прибират старика? Пенсию кто начислит, если я не совхозный колхозник?
– Община деревенская, – отвечал я, – у казаков община создает фонд и ведет одиноких до могилы.
– Вишь, обчина, – думно согласился крестьянин. – А у нас каждый сам по себе. Как быть, Лизавета?
Он откланялся, но за воротами сказал: «Надо жить здесь зимой и баню срубить. Потому и топор тебе дарю, Иваныч». – И пошел шагом к Уздечке, снял на ходу яблоко, оглянулся, красивый. Трезвый Иван всегда красив в неполные свои пятьдесят лет.
Жива и будет жить Россия, покуда есть у нее Иваны Кравцовы.
Я надеялся, что событийный ряд 91 года исчерпан, и сидел до обеда за письменным столом. Майя закатывала в банки соленья и варенья, после обеда приходил я на помощь.
Как некогда в Ботаническом, я сортировал овощи, чтобы зимою знать, откуда что взять. Боясь шебрунов, мы сняли яблоки и рассыпали их в горницах на полу. Тонкий и свежий запах антоновки окутывал, едва мы входили домой. Ночью, потушив свечи, – совхоз отрезал электрические подводы на хутор, – мы бормотали и уходили в сон, чувствуя на губах привкус яблочного налива.
С урожаем получилось не очень щедро, но все же, все же.
Семь отборных кулей картошки, два мелкой (сажал один куль и два ведра), два ведра моркови, и не выкопали пока подходившую свеклу. Пять связок лука и три чеснока, пять банок помидоров (кое-что уцелело после августовской росы).
Клубничного и малинового варенья получилось восемь трехлитровых банок.
Яблок сняли восемь ведер. Не уродились патиссоны, погиб почему-то в завязи горох, и завязь огуречная внезапно сникла, хотя обещания были велики.
Оставались на грядках капуста, табак и частью укроп.
Я скосил мяту, поднял на чердак. Не удержался и заготовил две двухлитровых банки хрена (для гостей приправа, а для меня, к сожалению, отрава).
Завершая сбор урожая, я опять увидел у ручья смурных мужиков, они запалили на стерне костерок и неизвестно что на нем варили. Спохватившись, подзуженные шебрунами, мы сделали запоздалые набеги в лес и приготовили к зиме несколько банок опят.
К восьмому сентября я успел все припасы складировать в холодном подвале с бетонным полом (грызуны не могут проникнуть в подвал). Потом поднялся на чердак и осмотрел слеги, увешенные липовым цветом, тысячелистником, ромашкой и корнем калгана (калган накопал по совету Вадима Полторака, настойкой его можно останавливать нутряные недомогания).
Может быть, мы не обезопасили себя на год, но голод нам не грозит даже при самом тяжелом кризисе, а главное – теперь у нас все свое и экологически чистое. Я был удовлетворен, хотя урожай дался натужно. Мы пили прощальный кофе. Неосознанная тревога подняла меня, я собрал листы рукописи Писем из провинции, черновой вариант, уложил в рюкзак, хотя, честно говоря, не до рукописи было – решили вынести к тракту яблоки. Но дым костра из-за ручья наплывал на усадьбу, шастал по комнатам, мешаясь с запахом антоновки.
На всякий случай мы забрели к Василию Захарову, его изба неподалеку оставалась единственной обитаемой на выселках. Я оставил ему ключи от дома и просил присмотреть за усадьбой. Василий отесывал бревна, собираясь подвести новые венцы.
Через день сосед наведался к нам, вошел в горницу, чистые полы смутили деликатного мужика. Потоптавшись у порога и сочтя запах антоновки лучшим свидетельством благополучия, он вернулся к плотницким делам.
А назавтра утром поднялся над теремом столб огня и дыма, и к обеду жизнь, предощущаемая мной вдали от сует и городской нищеты, ушла прахом в осеннее небо.
Вот и не погостила Ты с девочками в тишайшем из лесов, Марина. А Глебу в хуторском застолье не успел сказать я заветных слов, которые в Москве не смогу произнести.
Перенесши удары более жестокие, я изготовился философически принять и этот удар. Мечтая всю жизнь о загородном доме, я прошел круги ада, чтобы на реабилитационные деньги купить этот сказочный терем и потерять его в одночасье.
Сожгли мой домок в Ботаническом саду иркутского университета, там кому-то мешало вещественное напоминание о судьбе изгнанника. Пришел черед и здесь вдохнуть гарь пожарища...
Я маялся, скитаясь по улицам Ярославля. Надо было удалиться к внукам или к Вадиму Полтораку, или к Шаткову на окраину Благовещенска, но кружил я в заколдованном кругу: Волга, причалы, Знаменские ворота, – повсюду преследовал горчичный запах пепелища, смешанный с нежным запахом антоновских яблок. Приехали дочь с внучкой и дежурили около, когда я уже не мог встать. В лазарете счет пошел на ампулы, из которых янтарная влага часами стекала в вены. Доктор сказал, что меня поднимет сильный характер, и характер поднял меня. Но на смену пришла другая, невнятная тревога. Однажды так было – я во Владимире почувствовал гибель Левы Зильберберга (а он на берегу Золотого рога скоропостижно и необъяснимо уходил из жизни), и я метался по старинному городу.
Телеграмма, или известие, не заставила ждать себя. В ней было четырнадцать слов: «Мой дом и усадьба в Черняеве сожжены маньяком. Лежу в районной больнице. Шохирев».
Я попросил дочь взять из малых резервов деньги, отправить в Черняево и обратился в амурские газеты кликнуть на помощь семье атамана всех, кто откликнется. Зима на Амуре не ровня мягкой зиме на Волге, и надвинулись морозы, а городской крыши у войскового атамана не было. Власти бездействовали. Благовещенцы же мне сообщили, что Шохирев убивается по старинным атрибутам казачьего уклада, он собирал их всю жизнь.
Издалека, не зная всей меры потрясения, я тоже надеялся на сильный характер Шохирева и уговорил себя потихоньку вернуться к столу.
В канун Нового года пришла еще одна телеграмма: не приходя в сознание, Шохирев скончался – на больничной койке.
Глава областной администрации А. А. Кривченко на мой запрос о немедленной помощи семье погорельца все же отозвался: «Необходимое сделано», – необходимое надо было сделать, пока дышал атаман. Но и за то спасибо. Есть надежда, что мальчик в белой папахе, Митя Шохирев, вырастет и продолжит дело отца.
Не жизни жаль с томительным дыханьем. Что жизнь и смерть? А жаль того огня, Что просверкал над целым мирозданьем И в ночь идет, и плачет, уходя.Постскриптум
1. Недавно, но на сей раз из Иркутска, я получил конверт, вскрыл его. Там лежала вырезка из молодежной газеты, первостраничное сообщение:... «В кровавых вильнюсских событиях замешан генерал КГБ Федосеев, депутат России, ставленник Сибири»...
Поздноватое прозрение, ребятушки. Но лучше поздно, чем никогда, – и берега сойдутся у русских рек.
2. Сгоревший дом отозвался долгом в четыре тысячи рублей. Здесь, в горечи, Фазиль Искандер пришел мне на помощь.
Страждут озими… 1993 год.
Моя партия в хоре несогласных (Еще одно, но позднее, послесловие)
Хочу процитировать письмо корреспондента, которого озадачили мои мировоззренческие позиции, былые и особливо нынешние: «Пушкин прожил мало, но мудрец, писал „Я гимны прежние пою и ризу влажную мою сушу на солнце, под скалою“. Вы, песни поете старые, Борис Иванович. Но, ходят слухи, в хоре несогласных Вы ведете свою партию, а именно националистическую. Пишу это слово без уничижающего смысла. Да, пограничный Благовещенск, малая Ваша родина, – не подмосковный Ярославль. Над вами нависает миллиардный Китай.
Однако спасет ли Россию квасной патриотизм, если изнутри точат нас черви и высасывают последние соки? Вожди не обнажают меч, они услаждают себя и окружение велеречивыми посулами.
В чем же Вы находите успокоение? Где выход из тупика?..»
И подпись демонстративная, может быть, псевдоним: Крылатый Иван.
Этот двухтомник, дорогой Иван, мое последнее слово. Жизнь заканчивается. Успокоения нет. Выход? В единстве нации. Единый народ других вождей призовет к кормилу. Он потребует от них решимости стоять, а не прогибаться. Ныне не сорок первый год, а позади у нас не Москва. Россия за спиной и в сердце. Но народу надо подняться из самозабвения, из самоуничижения. Затурканные, заморенные, мы припадаем к зловонным, желтым источникам. В то время, как родники бьют из-под ног.
Иль мало нас?
Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал
До пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая
Не встанет русская земля?
А.Пушкин. «Клеветникам России».Не встанет, если водка и телеящик будут наркотиками опьянять все поколения. А черви водичку не пьют. Они предпочитают нашу кровь.
Борис Черных
Февраль 2007 года,
Благовещенск-на-Амуре.
Приложения
Приложение к «Озимям» Не сгоревшие документы эпохи
Из биографии подследственного
Том 7, лист 3.
Из Постановления бюро Иркутского обкома ВЛКСМ от 17 января 1966 г.
…обсудив информацию Куцева Г.Ф., бюро обкома ВЛКСМ отмечает, что товарищ Черных собрал вокруг себя группу молодых комсомольских работников…
Постановило:
1. Освободить Черных от обязанности литературного сотрудника газеты «Советская молодежь».
2. …
3. Поручить Куцеву Г.Ф. информировать партийную организацию газеты.
Этим было спровоцировано дело по исключению Б.И.Черных из партии – за написание письма XV съезду ВЛКСМ «Что делать? Некоторые наболевшие вопросы нашего молодежного движения» и решение вынести это письмо на обсуждение XV съезда ВЛКСМ.
По требованию Куцева Г.Ф. партийное собрание газеты «Советская молодежь» от 19 января 1966 года исключило Б.И. Черных из КПСС.
Присутствовал секретарь Кировского РК КПСС Камбалин.
P.S.
Ныне Г.Ф. Куцев ректор Тюменского университета и, естественно, активист «Единой России». Забыв о том, что архивные документы хранятся вечно, он трижды публично заявлял, что к исключению Бориса Черных из КПСС не имел касания.
Том 7, лист 15.
Яковлева Елена Ивановна (главный редактор областной газеты «Восточно-Сибирская правда», председатель правления Иркутской областной организации Союза журналистов СССР), г. Иркутск, ул. 1-я Советская, 109.
В Правление Союза журналистов СССР, Заворг творческим отделом т. Цареву Ф.И. Лист 17.
…Есть определение народного суда по гражданскому делу о направлении Б.И. Черных на медицинскую экспертизу, так как есть предположение, что он психически нездоров. Но Б.И. Черных от экспертизы уклонился. Есть и другие документы, компрометирующие Б.И. Черных, о которых можно сообщить устно.
6 января 1978 года
1. Тайна. Я не знал, что было определение нарсуда. И не знал (хотя и догадывался), что Е.И. Яковлева участвует в грязной игре.
2. Б. Черных был таким образом исключен, без всяких оснований из СЖ СССР. Восстановлен в 1988 году.
Заметьте это: «устно» – из Иркутска в Москву. Вывод? Е.И. Яковлева сотрудничала с КГБ.
Том 7, лист 70.
Характеристика из Ботанического сада Иркутского университета. «…С первых дней (Черных) повел себя странно, всегда просил такую работу, чтобы находиться одному, вне коллектива.»
И.о. ректора ИГУ им. А. Жданова: В.Я.Мангазеев, доктор наук. Секретарь парткома ИГУ: П.П. Симонов Председатель МК ИГУ: В.И. Дмитриев
Руководящие указания КГБ.
Том 7, лист 213.
Представление начальника следственного отделения
Иркутского УКГБ Дубянского
Ректору ИГУ им. Жданова А.А.
т. Козлову Ю.П.
…На основании изложенного, руководствуясь требованиями статьи 140 УПК РСФСР, прошу:
1. Принять необходимые меры по улучшению работы партийного Комитета, Комитета ВЛКСМ, кафедры общественных наук и других общественных организаций ИГУ в вопросах политического воспитания студентов, привитию у них марксистско-ленинского понимания советской действительности, внутренней и внешней политики Советского государства и устранения причин, способствующих совершению преступления.
2. Не позднее месячного срока рассмотреть настоящее представление и сообщить о принятых мерах в УКГБ СССР по Иркутской области.
Подполковник Г.И. Дубянский, начальник следственного отдела Иркутского УКГБ
Председательствовал на суде Чернов Т.Н., народными заседателями выступили Дубровина Г.Е., Соколов В.А., cекретарем – Воричева В.П.
24.05.1982 Секретно № 3-175 с. Экз.1
И.о. прокурора Октябрьского района, советнику юстиции тов. Колосову В.И.
При этом направляем для дальнейшего расследования уголовное дело в отношении Черных и Панова, расследование поручено т. Тихонову С.А.
Обеспечить надлежащий прокурорский надзор за следствием и о его результатах сообщите в прокуратуру области к 25 июня 1982 г.
Приложение: уголовное дело.
Зам. начальника следственного управления, советник юстиции В.В.Лебедев.
Просьба С.И.Герасимова к КГБ о помощи (от 26.05.1982 года, № 3, 177 с.) – выделить помощников: следователя и оперативных сотрудников.
Резолюция С.С.Лапина от 27.05.1982 (но зачеркнуто и исправлено на 26.05): «тов. Дубянскому Г.Я. Прошу выделить следователя и 3-х оперативных сотрудников».
Санкция на обыск на ул. Кольцова 9, 93 (у Б.И.Черных) 24 мая 1992 г.
Понятые при обыске:
Андреев Олег Петрович (ул. Лермонтова, 265, кв. 39), Ленский Владимир Аркадьевич (ул.1-я Железнодорожная, дом 15, кв. 1).
Из протокола обыска:
рукопись «Маленького портного», 278 страниц (лист 38, том 1),
рукопись «Маленький портной», 110 страниц (лист 38),
«Архипелаг ГУЛАГ», главы.
«Пир Валтасара» Искандера.
Следователь А.А. (или Н.?) Бутаков.
Обыск у Панова, изъято:
И. Бунин. «Окаянные дни».
A. Платонов. «Чевенгур». «Литературные тетради» Вампиловского товарищества, выпуск 3-й.
B. Розанов. «Легенда о Великов инквизиторе» (1906 г.) А. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». Борис Комаров. «Уничтожение природы», издательство «Посев». о. Павел Флоренский. «Столп веры». Фотокопия «Архипелага ГУЛАГ». Дневники Л. Зильберберга. А. Ахматова. «Реквием». Письмо В. Гураевской. Сказка С. Лукиных «О дурачке».
«К вопросу о судьбах исторической истины в современной школе»
Панова и Черных.
Записка В. Гураевской – Ю. Пушкиной.
Дневники Зильберберга в 6-ти общих тетрадях, 3-х – 96-листовых и 3-х – 48-листовых, которые дал Панову Черных.
Поэма Ахматовой «Реквием» в тетради черного цвета.
Из письма Бориса Палея.
Рецензия Л.Ганиевой на повесть Тендрякова « 60 свечей» и другое.
Понятые во время обыска у А. Панова:
Поскаева Наталья Валентиновна ( ул. Достоевского, д. 14, кв. 59),
Антипин Юрий Иванович (ул. Ломоносова, д.70, кв. 16). Обыск у Андрея Борисовича Черных. Понятые:
Дубровина Любовь Валентиновна, ул. Невского, дом 107, кв. 4.
Разбойникова Ирина Геннадьевна, ул. Невского, дом 107, кв. 8. Эткинд. «Записки незаговорщика».
Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна, на 418 стр. Текст Натальи Смирновой «Прекрасное и насущное». Записки к Наталье Смирновой от В. Гураевской. Письмо Б.И. Черных сыну. Слова Андрея Черных в протоколе: «Обыск противозаконен, как и попытка арестовать…»
Следователь Тихонов.
Письмо С.А.Тихонова прокурору Москвы, государственному советнику юстиции 3-го класса т. Малькову М.Г. от 03.06.1982 года – «О досмотре корреспонденции».
Постановление о наложении ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию.
Следователь прокуратуры Черемушкинского района г. Москвы О.В. Голиченко от 28.06.1982 года за № 08/4 сообщает Тихонову: «Постановление о наложении ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемку направлено начальникам отделений связи № 335 и № 402 г. Москвы. При поступлении указанной корреспонденции Вам будет сообщено дополнительно».
Подобное – в Ленинград: прокурору С.Е.Соловьеву – о досмотре корреспонденции Вадима Полтарака и Юрия Булычева.
А.Ф.Готовский, зам. начальника следственного управления, старший советник юстиции из прокуратуры г. Ленинграда – сообщает о том, что поручение Тихонова направлено прокурору Ленинградской области Никитинскому Ф.Ф.
Прокурор следственного управления советник юстиции Е.П.Погребняк от 29.06.1982 года за № 3-578/82 (лист 67) сообщает, что поручение отправлено в г. Выборг, ул. Крепостная, д. 28.
Лист 120.
Черных Б.И. (11 июня 1982 г.)
Ознакомившись с протоколом допроса, считаю необходимым внести следующие уточнения:
1. Общий тон протокола слишком возвышенный, в то время как суть – спокойна и вполне логична.
2. Тяжелые моменты в своей жизни я, хотя и с сердечными приступами, научился преодолевать, поэтому нельзя выдумывать «манию преследования».
3. Не отражено: полнота объективной истины подразумевает единство и борьбу противоположностей (закон диалектики). Поэтому поиск истины чреват неминуемыми противоречиями.
4. Не точно: «Люди преследуются за превышение нравственных норм». Точно: наблюдается противостояние нравственной и правовой нормы. Возможно, и в этом суть нынешнего этапа в совершенствовании законодательства.
5. Мне не давали печататься не только в газетах, но и в журналах, в издательствах (например, в Иркутском) – не по профессиональным причинам, а по иным, надуманным, политическим.
6. О факультативе в 27-й средней школе смотрите журналы «Семья и школа», «Детская литература». Назову эту работу положительной, такова оценка, кстати, писателей, знавших воочию мою педагогическую деятельность.
Мною написано верно – Черных.
Допросил – Тихонов. В допросе принимал участие ст. помощник прокурора области Луковкин.
11 июня 1982 г.
Допрос Владимира Андреевича Анисимова, педагога и математика из г. Братска.
(Допрашивал П.Н. Мазанников).
Анисимов не захотел давать политических оценок, а сказал о педагогическом таланте Б.И.Черных.
Александр Панов (лист 170, том 1), из допроса.
Б.И. Черных был недоволен тем, что у нас в стране насаждается военно-бюрократический режим…
В разговорах со мной и Лукиных, Черных утверждал, что СССР стремится к захвату и подчинению стран социалистического лагеря, а также коммунистического и рабочего движения. В качестве документа приводил примеры политики СССР в периоды кризисов в Венгрии, Чехословакии, Польше, Афганистане. …Советские войска являются оккупантами, борьба народов этих стран против советского вмешательства справедлива…
Печать лжива, под пятой у партии. Журналисты продажны…
О Суслове – «умер черный кардинал партии…»
О правительстве: лживо и марионеточно…
… позднее я с помощью Лукиных, Турика распознал, что стоит Б.И.Черных, и стал отходить от него в сторону…
Хочу заметить, что в своих разговорах Черных постоянно негативно отзывался об органах КГБ…
«Похвально о деятельности польской Солидарности…»
Основным пунктом его нравственности было неучастие ни в какой государственной службе, которая несет зло людям или является полезной государству…
Его слова: «Если один учитель выпустит из своего класса хотя бы одного ученика, разделяющего взгляды учителя, это уже будет заслугой учителя». «А будет 50–200 молодых ребят – можно начать дело» (подчеркнуто следователями КГБ)…
По мере того, как «Каталог нравственной литературы» будет подготавливаться, его самиздатовским способом нужно распространять среди учителей средних школ, среди преподавателей техникумов и вузов…
«Каталог» (название Черных), по мысли Б.И., должен явиться как бы учебником литературы. Он также говорил, что над «Каталогом» должны работать в разных концах СССР.
Составленный Черных «Круг первочтения» является сокращенным вариантом «Каталога». Он хотел, чтобы библиографический отдел в альманахе «Литературные тетради» занимался подготовкой рецензий для «Круга первочтения», а значит, для «Каталога». Лично меня, а также остальных членов Вампиловского товарищества, Черных заставлял, чтобы мы за лето отрецензировали несколько книг… Я как-то упустил из виду эту первоначальную и, по-видимому, главную часть альманаха для Черных…О книге Комарова «Уничтожение природы» Черных сказал: «Вот пример честной работы журналиста».
Листы 189–190.
Тут же и следом: «Поиски».
О журнале.
Об Искандере…
О Домбровском…
О Гефтере…
О Тамарине…
« Турика привлекла статья в „Поисках“ о Конституции.
(Называет Бориса Леонтьева, знакомого Б.И.Черных)…
Лист 190.
1) Автор статьи Г.О. Павловский.
Игорь Арефьев (лист 205).
По его (Черных) мнению, наше правительство – «Клуб пенсионеров», партия и общество находятся в состоянии стагнации. Это он говорил в отношении экономики и сельского хозяйства…
«Впервые о Вампиловском товариществе я услышал в середине 1979 года…»
« Со слов Черных можно было понять, что наши идеи могут послужить почвой, на которой взойдет русская „Солидарность“. При этом Черных говорил, что года через два-три мы разойдемся, главное продержаться эти годы, а потом жизнь заставит разойтись…»
Л. 207
« По моему предложению, руководством Товарищества должен быть триумвират… Мне же известно, что подобный (же) документ подготовила Гураевская…
Мой документ был обсужден на собрании и принят без всяких письменных замечаний…
Черных играл особую роль в создании тезисов (о судьбах исторической истины в современной школе) и требовал, чтобы деятельность Товарищества я связал с политическими вопросами. Вот почему в тезисах появились формулировки типа «Мы живем в тоталитарном государстве», «Советское общество уверенно движется в никуда», т.е. в тупик…
Предложения Гураевской касались создания учительской организации…
…Вновь принимаемые в Товарищество должны быть «надежными», т.е. не связанными с органами КГБ…
О библиотеке Товарищества…
О взносах (на чай, на книги и др.)…
О реферативной работе… «Я (Арефьев) выбрал темой реферата „Феноменалогию духа“ Гегеля»…
Имена Джиласа и Сахарова…
О книге «Из-под глыб»…
Андрей Грохольский, студент-филолог (из допроса).
Вопрос: Можете ли вы назвать факты негативных высказываний по отношению к советской действительности со стороны Черных Бориса Ивановича и Панова?
Ответ: Нет, такими фактами я не располагаю, я никогда не слышал от Черных и Панова высказываний подобного рода…
Лист 228.
Сергей Михеев, студент юридического факультета ИГУ.
Из допроса, лист 254.
«Я никогда не слышал, чтобы Панов или Черных отзывались негативно о советском государственном строе. О Черных я могу сказать как об эрудированном, интересном, доброжелательном человеке…»
– Вы когда-нибудь видели Панова или Черных у Виноградской?
– Я видел Черных у Виноградской.
Лист 280 (том 1).
Турик Александр Степанович, г.р. 1951, 29 ноября, Сахалинская область, село Воскресеновка.
Панов мне рассказывал о жизни Черных, и у меня создалось мнение о нем, как о человеке заблуждающемся и нежелательном для общения. Я говорил Панову, что нужно избегать Черных…
Затею с альманахом «Литературные тетради» я не одобрил…
(Ныне А.С.Турик один из ярых националистов в Иркутске. Он так и не нашел сил покаяться перед Черных. Примечание 2007 года.)
Источники поступления литературы (антиеврейской. – Б.Ч.), указанное выше, называть отказываюсь по моральным соображениям…
Том 2 (листы 27 и далее).
Допрос Б.И.Черных 21 июля 1982 года (ведет Г. Дубянский, начальник следственного отделения УКГБ, подполковник.)
Вопрос: 4 июня 1982 вам было объявлено постановление о привлечении вас в качестве обвиняемого по ст. 190 прим. 1 УК РСФСР. При допросе вы заявили, что признаете себя виновным частично. Поясните, в чем конкретно вы признаете себя виновным?
Ответ: Прошу дать мне возможность изложить свои показания собственноручно.
Вопрос: Такая возможность вам представляется.
Ответ: В настоящий момент, по прошествии полутора месяцев после предъявленного мне обвинения, свое признание частично моей виновности считаю опрометчивым, и вот почему.
В комплексе оценочных суждений о произведениях художественной литературы входят составными элементами эстетические, философские достоинства произведений. Криминальный, или идеологический, момент инороден с позиции литературоведческой, подлинной, науки и субъективен во времени. Непозволительно также, в литературоведческом контексте, приписывать взгляды героев автору и отождествлять позицию автора с позицией героев.
Среди книг, хранившихся у меня, повести Андрея Платонова и Александра Зиновьева – не равнозначные по совершенству. Назвать эти книги враждебными поэтической и исторической истине нельзя, хотя эти повести несут на себе отпечаток тревожных мировоззренческих исканий и сомнений авторов. Повесть А. Зиновьева в силу жанровых особенностей (это сатирическое полотно – а сатира всегда выставляла на осмеяние человеческие и общественные недостатки) вообще неподсудна никакому суду, кроме читательского или литературоведческого. Я уверен, придет день, повесть выйдет у нас в свет, как и высокоталантливая книга Андрея Платонова.
Сложнее с оценкой книг очерковых, публицистических. «Записки незаговорщика», принадлежащие перу известного филолога, внесшего определенный вклад в становление советско-французских культурных связей, переводчика, чьи переводные произведения (с французского) хранятся в отечественных библиотеках, – это не плод фантазии Эткинда, а итог фактических переживаний; книга честно рассказывает о противоречиях реальной жизни.
Главы книги А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» (а всю книгу я не читал) не позволяют судить с исчерпывающей полнотой о всей книге. Но злоупотребления и тяжелые обстоятельства времен, условно говоря, – сталинских, прорисовывают, устами автора, недостающие черты прошлой эпохи, получившей достаточно суровую оценку ХХ съезда партии.
Еще более сложно с оценкой книг философского плана, принадлежащих мне. Сборник «Вехи», вышедший в России еще до 1-й мировой войны и сохранившийся в каталогах наших библиотек, требует перечтения. Сборник «Из-под глыб» – достаточно красноречивое свидетельство нелегких противоречий современной мысли, ее прихотливых течений. Но этот же сборник позволяет войти в мир этих противоречий и с повышенной эстетической ответственностью анализировать прошлое и настоящее в разных ипостасях, имманентный смысл бытия.
Для марксистски воспитанного человека сборник «Из-под глыб» представляет прежде всего возможность увидеть инакомыслие не поверхностное. И, стало быть, дает дополнительный повод проверить глубину и широту собственных воззрений, постигнуть многослойность и сумму культурных вопросов, которые мы решаем.
Таким образом, хранение выше перечисленных книг и осмысление прочитанного носило творческий характер и теперь, после тщательного анализа (или самоанализа), не позволяет мне признать себя даже частично виновным. Иное, изложенное и предъявленное мне в обвинении, я не признавал и не признаю криминальным и объективным в силу изложенного мною сейчас.
Записано собственноручно.
Черных
Сергей Лукиных,
студент филологического факультета.
Из допроса, лист 239.
У меня сложилось мнение, что главы из книги «Архипелаг ГУЛАГ» носят клеветнический характер, поскольку события и факты, описанные там, явно не соответствуют действительности…
Что же касается журнала «Поиски», то, по моему мнению, статья о Новой советской Конституции, статья в журнале «Поиски» написана Глебом Павловским и носит явно антисоветский характер, т. к. толкование параграфов направлено на то, чтобы исказить смысл содержания и тем самым опорочить основные принципы советского образа жизни…
Кроме того, Черных читал отрывки из собственной повести «Маленький портной», в которой чувствовалось стремление автора утрированно отразить некоторые негативные стороны нашей жизни. Также он читал свои заметки об истории колхоза, в которых видны попытки сравнить прошлое и настоящее развитие сельского хозяйства в невыгодном для современности свете…
Черных заявлял, что советская система землепользования уступает дореволюционной и уж во всяком случае фермерской… Суть его высказываний сводилась к тому, что колхозы следует превратить в частные хозяйства, которые сотрудничали бы с государством. В отношении избирательной системы в нашей стране он говорил, что выборы кандидата предопределены заранее и сам факт выборов превращается в пустую формальность… (называет Федора Боровского, т.е. выдает его следствию в качестве соратника Б.И.Черных, что являлось фактической неправдой. – Б.Ч.)
Заявление от Курохтина Виктора Александровича, проживающего: г. Иркутск, ул. Сибирских партизан, дом 21, кв. 43.
О Геннадии Русских (негативные высказывания), о его жене, такой же «незрелой». «От студентки ИГУ В. Коротеевой мне известно, что Г. Русских дружен с неким Пановым, а позже в разговоре с Г.Русских, с М. Денискиным, корреспондентом „Советской молодежи“, я узнал, что Панов – организатор какой-то группировки людей»…
16.02.1982 (Подпись)
Это заявление получил сотрудник УКГБ
по Иркутской области капитан Караулов
за три месяца до арестов Б.Черных и А. Панова.
В Управление КГБ от Беловежец Г.П. (проживает: Иркутск 5, ул. Гоголя, 2, кв. 9).
Отказ Б.И.Черных подписать соцобязательства… О политинформации…
«В разговоре с А. Королевым Б.И. высказал мнение, что земля должна находиться в частной собственности»… О событиях в Польше…
5 марта 1982 г.
Объяснение получил сотрудник УКГБ Кононов
за два месяца до майских событий 1982 года.
Том 1.
Помощнику Прокурора Иркутской области
по надзору за КГБ Н.Ф. Луковкину
от Черных Б. И.
Заявление.
Прошу Вас отдать распоряжение ознакомить меня с положением о комитете государственной безопасности, чтобы я, зная правовое положение КГБ в системе государственных институтов, мог далее способствовать успешному ходу следствия.
Прошу также санкционировать продолжение содержание меня под стражей, т.к. 2-х месячный срок предварительного следствия истек 25 июля сего года.
С уважением 30 июля 1982 г. Б.И.Черных.
Отказано в удовлетворении Луковкиным.
Заявление Б.И.Черных, следом, с требованием вернуть «Дело»
в прокуратуру. Отказано.
Допрос 9 августа. Лист 66, т. 2.
Вопрос: Ряд статей, помещенных в альманахе «Литературные тетради», содержит клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. Что вы можете показать по этим эпизодам обвинения.
Ответ: Да, я действительно в указанное время выпустил три номера альманаха «Литературные тетради» Вампиловского книжного товарищества, которое создано мной осенью 1980 года. Помощь Панова и других заключалась в работе над их собственными статьями, помещенными в альманахе. Работа по корректированию и редактированию статей выполнена мною. Материалы 4-го и последующих номеров «Литературных тетрадей» изъяты у меня дома при обыске.
В части вопроса, определяющего некоторые публикации «Литературных тетрадей» как клеветнические, могу сказать следующее: «Я не признаю идеологическую направленность вопроса, стало быть, считаю неправильным эстетическую проблематику альманаха подменять политической. Таким образом, я категорически отрицаю ортодоксальность этой части вопроса и отказываюсь на него отвечать».
Вопрос: Далее в постановлении о предъявлении обвинения сказано, что вы в разговорах с членами так называемого Вампиловского книжного товарищества и другими лицами возводили клевету на советский государственный и общественный строй. Что вы можете пояснить по этому вопросу?
Ответ: Считаю, в этой части обвинения следственные органы нарушают конституционные гарантии свободы личности и поэтому не считаю нужным отвечать на этот вопрос.
Из допроса 9 сентября.
Ответ Черных: «Повесть “Садовник” писалась мною с середины 70-х годов. Повествование доведено до 1965 года. В ней я изобразил героя нашей эпохи, каким он мне представляется. В целом о „Садовнике“ говорить рано – рукопись в работе».
Том 2.
Том 2, лист 151.
Протокол допроса.
От 14 сентября 1982 года.
Начат в 14.35.
Лист 151, т. 2.
Окончен в 18.50.
Вопрос: С какой целью вы давали читать…
Ответ: Книгу А. Платонова «Чевенгур», выдающегося советского писателя, я рекомендовал для чтения моим товарищам, как и она была рекомендована мне. Это выстраданное произведение. В нем воплощены надежды автора на благоприятный исход трудных реалий эпохи становления нового строя. Одновременно это честное исследование данности; остается удивляться, что до сих пор книга не издана у нас.
195 страниц № части книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» я давал Панову Александру с единственной целью, чтобы он ознакомился с Достоевским типом мышления, когда трагизм чрезвычайных условий жизни (лагерь, тюрьма, отверженность) рождает страшные, может быть, фантасмагорические картины типа «Записок из Мертвого дома».
Об остальной, перечисленной в вопросе, литературе, не считаю возможным говорить. Она, как и книги Платонова и Солженицына, предназначалась для меня самого, для кабинетной работы.
Статью «Свойства провинциального мировосприятия вообще аморально делать предметом криминального исследования, и я более не хочу говорить о ней.
Допрос 13 сентября. Лист 148, том 2.
Ответ Б.И.Черных: «Сборник „Из-под глыб“ симптоматическое явление современной мысли, мечущейся, ортодоксальной, противоречивой. С точки зрения литературной, сборник не выглядит строго выстроенным, одна мысль пронизывает все статьи и объединяет их – это мысль о религиозном возрождении русского народа. Из всех авторов сборника наиболее сильное перо у А. Солженицына, но удивляет культурность стиля известного математика Игоря Шафаревича. В целом же сборник „Из-под глыб“ – свидетельство глубоких переживаний авторов, испытывающих горькие сомнения в новых нравственных ценностях, привнесенных марксистским учением и практикой. Глубина переживаний и горечь – свидетельство искренности их взглядов, восходящих к переживаниям таких титанов отечественной литературы и философии, как Достоевский, Толстой, Соловьев. На мой взгляд, сборник статей „Из-под глыб“ заслуживает серьезного методологического разбора мыслителями типа Юрия Карякина или Лена Карпинского. Именно честная критика помогла бы правильному ориентированию общественности в сонме нынешних проблем и вопросов.
Дать оценку рукописи классика советской литературы М. Булгакова «Собачье сердце» не могу, ибо так и не прочел ее, откладывая прочтение на поздние сроки. Книга известного советского философа А. Зиновьева «Светлое будущее», а теперь, к сожалению, эмигранта, не выдерживает привередливой критики (рыхлость композиции, затянутость эпизодов), но, возможно, автор поторопился выпустить книгу в свет и со временем придаст стройность этой сатирической повести. Не вызывает сомнений социалистичность взглядов автора, хотя герои повести позволяют себе, как и в жизни, вольности, присущие жанру, имеющему многовековую традицию.
О книге А.Солженицына «Ленин в Цюрихе» и журнале «Континент» по сугубо личным соображениям говорить ничего не могу.
По содержанию 195 страниц книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» судить не могу в целом о книге. Но из изложенного в 195 страницах можно предположить, что книга – плод таланта незаурядного, но потерявшего праздничное ощущение жизни и мира. Впрочем, трагизм судьбы автора (сродни трагизму судьбы Достоевского) – та доминанта, которую он преодолеть не в силах. Остается воспринимать объективно не только проблематику Солженицына, но и его личную трагедию, и видеть правильный исход из противоречий, которые видит сильный, но, к сожалению, односторонний ум…
Книга Е. Эткинда, интересного филолога, который внес соответствующий вклад в советско-французские культурные отношения, значительна тем, что в ней изложен субъективный взгляд автора на нашу филологию. «Записки незаговорщика» представляют определенный исследовательский интерес.
Роман А.Платонова «Чевенгур» честнейшее отражение трудных лет в становлении нового строя, притом отражение талантливое и своеобразное по-платоновски. О предисловии к роману не сужу, ибо не читал (а их немало, этих предисловий, и к советским изданиям). Да и вообще считаю излишним такие книги, как «ЧЕВЕНГУР» сопровождать предисловием. Читатель должен сам судить о книге.
Книгу А.Бека «Новое назначение» прочесть не успел, хотя авторитет автора «Волоколамского шоссе» высок. Вызывает удивление и досаду, что такие книги лежат втуне. Социалистичность Бека несомненна.
«Памяти Каталонии» Д.Орвелла написана в русле хемингуэевского романа «По ком звонит колокол». Такие книги надо издавать у нас в стране и быть может далее оспаривать некоторые взгляды автора, в целом социалистичные.
О статье Ю. Булычева «Свойства провинциального мировосприятия» я делился своими соображениями на допросах ранее.
О самиздатовском журнале «Поиски» мне судить трудно, ибо один или два выпуска, сколько их, точно не помню, – не есть основание для каких-либо выводов. Помнятся статьи Михаила Гефтера с реминисценциями из «Гамлета» и Прыжова о новой конституции. То и другое не выходит из марксистской традиции постижения общественных явлений.
Протокол допроса от 16 сентября 1982 года.
Лист 153, том 2.
Время допроса 14.20 – 18.50.
Вопрос: какую цель Вы преследовали, создавая Вампиловское книжное товарищество?
Ответ: Мысль о создании книжного товарищества имени Александра Вампилова возникла у меня давно, лет 6-7 назад, но реальной она стала в 1979 году, когда идея созрела.
Традиция стара как мир: вместо того, чтобы заниматься пустым времяпрепровождением и тонуть в бытовых частностях, не лучше ли попытаться собраться вместе и осуществить ту «ассоциацию, где свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех» (Маркс, Энгельс – «Манифест коммунистической партии»). Подобных товариществ было немало и в Европе, и в России, и много светлых умов обрело в товариществах почву под ногами. Сложность, однако, в том, чтобы дело не закончилось «выплескиванием» элитарных интеллигентов, а вросло в реальную жизнь как необходимейший элемент ее, притом обыденный, словно дыхание…
Лист 154.
Собирание добротной библиотеки, чтение серьезных книг мировой, русской, советской классики и новых, печатающихся в отечественной периодике, делание сообщений на историко-литературные темы, постижение эстетики въяве, выпуск «Литературных тетрадей», имевших четко выраженную эстетическую направленность, – все это не Бог весть что (хотя уже что-то существенное). Вот, собственно, и есть наше Товарищество.
Я был всегда, в силу врожденной способности, не только художником, но и практиком. Писательское отстраненное покряхтывание, критиканство, неспособность сделать шаг в сторону реальной жизни – не для меня. Я должен делать дело, хотя и маленькое (подчеркнуто следователями).
Посему надеялся и убеждал ребят в том, что мы со временем сумеем создать в Сибири прекрасную сельскую школу, где воплотим наилучшее из наследия Блонского, Шацкого, Макаренко, Крупской и Сухомлинского: в этой школе у нас все будет приближенным к идеалу – сельскохозяйственные плантации и животноводческие фермы, гармоничный учебно-воспитательный процесс и т.д.. Наша школа поставляла бы в институты и университеты юношей от земли, которые возвращались бы вновь к земле. Этот проект не оставлен, и может быть мне помогут выполнить его. Это действительно заманчивая идея. Ну, а Вампиловское книжное товарищество – колыбель этого замысла. Вот почему я хотел, чтобы к нам пришли будущие естественники, агрономы, врачи, инженеры, ибо ехать в село лишь педагогам – не решить сонма задач экономических, хозяйственных, медицинских и т.д. Идеей этой загорелись не все члены Товарищества. Но думаю, дело за будущим, авось, что-то из этого получится ( подчеркнуто следователями КГБ).
Вывод отсюда простой – к подвижническому труду в деревне (навсегда, до гроба) надо готовиться и прежде всего нравственно (подчеркнуто следователями КГБ). Вампиловское книжное товарищество и должно стать тем неформальным университетом, где можно будет всерьез готовить себя к будущей педагогической, практической деятельности… Тот поворот, который наметился с обращением Саши Панова к национальным истокам, к «почве», а значит по сути к Родине, был мною вовсе не «спровоцированным», а явился органично и меня обрадовал, т. к. на примере советской (Московской) интеллигенции я обжигался не раз: много высокопарных речей и прозападных теоретических новаций, – и неготовность, неумение вырастить огород, дать хороший урок в деревенской школе.
Честность и недогматичность сердечных порывов были условием стать членом нашего Товарищества. Стихийность и спонтанность сопровождали приход многих ребят к нам, как и уход их.
Время становления Вампиловского книжного товарищества падало на зиму 1982/1983 гг. «Прекрасное и насущное» – постулат, сформулированный талантливой Наташей Смирновой (ныне Черных, женой Андрея Черных), должен был сыграть организующую роль в этом становлении. Безусловно порочные молодые люди, «с камнем за пазухой», с фальшивинкой, быстро распознаются. Но, кажется, таких ребят у нас не было…
Собрания Вампиловского книжного товарищества проходили в доме Александра Панова. На заседаниях были сделаны сообщения «О судьбах исторической истины в современной школе», «О круге первочтения», обсуждение «Литературных тетрадей», «О мировоззрении Достоевского», «О масонстве – тайной силе, противостоящей открытой жизни». Кто с какой темой выступал, прошу спросить у членов Товарищества и опираться на их т. с. показания. Авторы сообщений и обсуждавшие были озабочены исторической и поэтической истиной в гносеологическом смысле, игнорирующем политичность.
Организационной структуры как таковой Товарищество не имело. В качестве дирижера выступал способный филолог Игорь Арефьев. Но справедливости ради следует признать лучшим дирижером Сашу Панова. Пример его моральный: за ним семья, хозяйство, земля.
Протокол допроса мною лично прочитан, показания с моих слов записаны в принципе правильно.
Замечания по существу допроса и содержания протокола следующие.
Следователь В.И.Ковалев ставил вопрос о том, кто и что говорил на собрании Вампиловского книжного товарищества и не содержались ли в выступлениях политические тенденциозности.
Постановка подобного вопроса антиконституционна по духу, во-первых, и, во-вторых, выходит за нравственные пределы проблематики «дела», и я не стал на него отвечать. Черных.
Протокол допроса от 17 сентября 1982 года. Время 14.20 – 18.50. Лист 156, том 2.
Ответ на поставленный вопрос: идея выпуска «Литературных тетрадей» родилась, если мне не изменяет память, коллективно, через полгода после первого Собрания Вампиловского книжного Товарищества. Разумеется, лучшую лабораторию для филологической учебы трудно придумать, и, что немаловажно, по истечении трех-четырех лет был бы виден маленький итог нашего предприятия. Наконец, ребята мечтали поставить десять, скажем, выпусков «Литературных тетрадей» на обсуждение Иркутской областной конференции «Молодость, творчество, современность» и получить объективную оценку профессиональных поэтов, прозаиков, критиков, философов, историков.
Программа «Литературных тетрадей» – сугубо эстетическая. По всем разделам альманаха предпринимается попытка исследовать природу Прекрасного. Рубрики: «Хроника культурной жизни», «Литературоведение и критика», «Философия и история», «Поэзия», «Проза» – говорят сами за себя. В предуведомлении Александра Жабрея к 1-му выпуску говорится не только о поиске исторической и поэтической истины, но и о риске начинания. Мы боялись тех ревнителей тиши и глади, кто к подобному подступаются с красным карандашом.
Выпуск «Литературных тетрадей» – дело хлопотное. Многие горели желанием лично участвовать в них и позвать способную молодежь на их страницы. Ответственным редактором альманаха согласился быть честолюбивый Игорь Арефьев. Я выступал в качестве ответственного секретаря. К ребятам были обращены конкретные просьбы по всем разделам. Итоги годовой деятельности – три выпуска, раз от разу лучше. Кроме того, были собраны и заявлены материалы на последующие номера.
Авторы статей выслушивали критику, предположения, аргументированные отказы. Шла колоссальная литературная учеба. Печатали по пять экземпляров каждого номера «Тетрадей». Исключение составляет первый выпуск, который вышел тиражом, если не ошибаюсь, в 8 экземпляров. Из первого, второго и третьего выпусков «Литературных тетрадей» можно отличить, на мой взгляд, статьи о романе Булата Окуджавы «Глоток Свободы» (автор Неля Гураевская), о повести Валентина Катаева «Уже написан Вертер» (автор Игорь Арефьев), о «Моцарте в Польском костеле (автор Юлия Пушкина), о „Сиде“ Корнеля (автор Сергей Лукиных). Со временем мы хотели обозреть многовековое эстетическое наследие, и маленькие статьи о Диогене Лаэртском, Монтене, Шекспире, большая статья о Достоевском – тому свидетельство. В планах редакции были статьи о Брехте и Сартре, об Александре Вампилове (статья пишется юным филологом). Авторов гипотетических называть не хочу по педагогическим соображениям. О поляке Ежи Ставинском хотел написать я.
Крупной удачей альманаха должно было явиться становление «Наших публикаций», в коих А. Панов намеревался познакомить читателей и Вампиловское книжное товарищество с наследием крупных русских мыслителей, исповедующих глубоко национальные идеи почвы.
Со временем «Литературные тетради» явились бы, да они уже и сейчас свидетельствуют об этом, подтверждением истинно патриотических убеждений инициаторов и авторов «Тетрадей».
Наш альманах, насколько мне известно, снискал симпатии многих читателей, но и встретил критику, доброжелательную в основном. Мы были готовы напечатать на своих страницах, и начали печатать, недоброжелательные отзывы.
Черновые материалы в основном редактировал я как литератор опытный, но я не избегал помощи добровольных помощников в этом кропотливом деле. Подготовленные к публикации материалы хранились у меня.
На вопрос, у кого находятся не изъятые в ходе следствия экземпляры альманаха, ответить не могу по этическим мотивам. И мне хочется, чтобы уцелевшее осталось «на потом» – для истинных критиков и общественности как свидетельство чистоты помыслов юношей и девушек.
Протокол допроса мною прочитан, показания с моих слов записан правильно, но не полно. Так, не приведена моя очень точная мысль в абзаце, где говорится о ревнителях тиши и глади, вслед за словами «которые к подобным начинаниям подступаются с красным карандашом» должно следовать: «настоящий протокол допроса ярчайше свидетельствует о том, что А. Жабрей оказался провидцем: “Литературные тетради” еще в стадии становления стали предметом криминального исследования». Черных
Том 2, лист 164.
Институт им. Сербского, г. Москва (после Омска) – напротив дома и окон Лена Карпинского: с 11 ноября 1982 г. по 14 декабря 1982 г. Гепатит (начался в Институте) с 18.12.82 по 7.1.83, в т. ч. в Лефортове, где тюремная врачиха констатировала, что Б.И. Черныха можно (больного!) этапировать назад в Иркутск.
Начальник медчасти Иркутской тюрьмы Парфентьев, начальник отделения Огородников, врач Ларев 7 января 1983 года о больном (боли в печени, желтые белки, кожная сыпь по всему телу) сделали заключение: «может участвовать в следственных операциях с вывозом за пределы учреждения».
Борису Черных утром делали уколы и вывозили на допросы в течение полумесяца.
Том.2., л. 162. Допрос 7.1.1983 г., Время с 15.20 до 20.10.
Вопрос о книгах Бердяева и др.
Ответ: Отвечать на поставленный вопрос отказываюсь, поскольку считаю дело в отношении меня инспирированным, вины за собой никакой не вижу.
Вопрос о том, кем «изготовлены» (т.е. отпечатаны и перефотографированы) тексты, повлек ответ: «Отвечать не желаю. Причина отказа та же, что и в ответе на первый вопрос».
Вопрос: При каких обстоятельствах перечисленные в первом вопросе тексты оказались в ваших руках?
Ответ: Этого следствию знать не обязательно, так как указанные тексты никакого отношения к настоящему «уголовному делу» не имеют. Это мой окончательный ответ по их поводу.
Запись следствия:
«Протокол подписать (Черных) отказался».
Том 2, лист 169.
19 января 1983 г. Изнурительный допрос с 14.15 до 18.10 с вымучиванием искомого ответа. (Допрашивал В.И. Ковалев).
Вопрос: Допускали ли вы в разговорах с Пановым Ал. Ник. измышления, порочащие Советский государственный строй?
Ответ: Прошу опираться в этом вопросе на ответы Панова, но подтвердить их, как и в случае с Арефьевым, не могу по следующим мотивам: частные разговоры не могут быть предметом криминального исследования, ибо уголовное «исследование» антиконституционно. Как в случае с Арефьевым, частные фразы, вырванные из контекста объемной широкой мысли, не только не способствуют выявлению истины, но и извращают ее, дают противоположный смысл или размывают его, в конечном итоге обнажая некомпетентность и вульгарность подобных свидетельств, опираются не на сложные связи и опосредования диалектической логики, а на примитивные посылки логики формальной.
Омская психушка. 19 октября 1982 год. Том 5.
Из медицинского заключения: Память (пациента Б.И. Черных) не изменена, хорошо ориентируется и перестраивается по ходу беседы, интеллект высокий, обнаруживает быстроту реакции, выражающихся в репликах, нередко метких и острых. Однако в суждениях и выводах порой излишне категоричен.
Председатель комиссии Беглов,
Доцент кафедры психиатрии Омского мединститута Ларин,
Заместитель главного врача по внебольничной помощи Лещева,
Заведующий экспертным отделением В. Перестый.
Том 5, лист 3.
Из оперативных действий КГБ.
«Невропатолог Пархоменко Л.А. вызвана была в КГБ и полностью все отрицала» (плохое состояние Черных).
Том 5, лист 2.
От 4 августа 1982 г.
Отказ Черных от очной ставки – «пока не буду переведен в камеру с меньшим числом содержащихся в ней…»
Лист198.
Из письма Б. Черных – В. Кустову.
Май 1980 года, лист 198, том 5.
«Письма пиши спокойные, без нервов, я так все пойму, общие вопросы не бойся обговаривать открыто, да и вообще не надо им показывать, что мы боимся их. Пусть они боятся за свое будущее, пусть они живут потаенно».
Александр Лопин (студент 5 курса Московского инженерно-физического института, МИФИ). Том 4, лист 66.
Другой вопрос, что он (Б.И. Черных) иногда допускал резкие, язвительные замечания в адрес наших недостатков, существующих в городе Иркутске и в стране в целом, но никогда не отзывался отрицательно о нашем отечественном и государственном строе…
Маликова Л.И., директор средней школы №22. Допрашивал В.И. Ковалев. 2 ноября 1982 года. Том 4, лист 88.
– В школе на одном из лозунгов были написаны слова Л.И.Брежнева: «Сегодня советские дети, завтра – советский народ». Увидев это, Черных потребовал снять лозунг, не объясняя причин своего требования.
Лист 89.
…Произошел небывалый в моей педагогической практике прецедент. Ко мне стали обращаться родители учащихся 8-х классов нашей и 27-й школы, где Б.И. вел факультатив по литературе, с просьбой обратить внимание на его уроки.
По их словам (фамилии родителей за давностью времени не помню), Черных на своих занятиях пытается привить детям искаженные взгляды и представления на историю развития нашего государства и советской действительности. В частности, утверждает, что великим теоретиком не следует считать Ленина. В СССР повсеместно нарушаются принципы демократии, преподавание в школах идет по формальному пути, в учебниках умалчивается о некоторых негативных процессах развития государства. Это им стало известно якобы из бесед со своими детьми. Аналогичные сигналы поступили и от преподавателей Губашвили Тамары Александровны и Шалыгиной Елены Александровны, наиболее близко общающихся с восьмиклассниками. При этом называют несколько конкретных фамилий ребят, кто может подтвердить подобные высказывания Черных…
Уволили 26 или 27 ноября 1976 года (за «прогул» во время осенних каникул).
Лист 90.
…Мне даже жаль, что его судьба сложилась таким образом. В целом он высокоэрудированный человек, хороший педагог, знание детской психологии позволяло ему вести уроки очень интересно, занимательно. Дети тянулись к нему. Другой вопрос, что он говорил им. Здесь он заслуживает самого сурового наказания…
Из документов 70-х годов.
Из больничной клиники (Октябрьский район г. Иркутска). И.О.Ф. участкового доктора где-то есть в архиве Б.Черных. 2.02.78 г. На дому.
Больной находится один дома, чувствует себя в настоящее время хорошо, в поликлинику на обследование отказался прийти, так как не видит в нем необходимости. С беседы с больным создается впечатление о психической неполноценности. Задает вопросы не по существу.
P.S. Безграмотность медички явная: «с беседы с больным». А заданность – «о психической неполноценности» – в 1978 году, за 4 года до ареста, о чем свидетельствует?..
Из поздних документов
664058, Иркутск, Университетский микрорайон, дом 31, кв. 12, Черных Б.И.
Борис Иванович!
По существу Вашего заявления от 22 мая 1990 года, адресованного в прокуратуру Иркутской области, сообщаем, что в процессе расследования уголовного дела часть изъятого у Вас домашнего архива была передана под расписку Вашему сыну Андрею. В числе возвращенных значится и упоминающаяся Вами рукопись «Маленький портной» (Копия расписки прилагается).
Дополнительные изучения материалов обыска и осмотра изъятого показало, что письма Александра Вампилова у Вас при обыске не изымались. Что касается Ваших рукописей «Садовник» и «Садовник в провинции», то они, так же как и изъятые у Вас произведения А.Солженицына, признаны судом в качестве вещественных доказательств и согласно действующему законодательству решение о их дальнейшей судьбе – исключительная прерогатива судебных органов. Поскольку Верховный суд РСФСР в своем определении от 28 марта 1990 года о прекращении уголовного дела в отношении Вас никакого решения относительно вещественных доказательств не принял, мы неправомочны сами решить этот вопрос. Для этого уголовное дело нами направлено в Иркутский областной суд.
К сожалению, тетради Льва Зильберберга, сочинения Я. Корчака после окончания следствия были уничтожены. В связи с этим приносим Вас свои извинения. Что касается пишущей машинки, то она по решению суда была также уничтожена.
Возвращаем Вам книжку А. Бека «Новое назначение» и три экземпляра «Литературных тетрадей».
Начальник следственного отделения УКГБ СССР по Иркутской области П.Н. Мазанников.
P. S. Они так и называют политическое дело уголовным.
Сочинения великого польского педагога и европейски знаменитого писателя Корчака сожжены. Комментарии излишни.
Нетленные документы эпохи Письмо XV съезду Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи
«ЧТО ДЕЛАТЬ?»
Некоторые наболевшие вопросы нашего молодежного движения
«…И разве мы не переживаем как раз такого момента в нашей партийной жизни, когда у нас есть и камни, и каменщик, а не хватает именно видимой для всех нити, за которую все могли бы взяться („Нитки, помогающей находить правильное место для кладки“).
В.И.Ленин. «Что делать?»
Дважды наша политическая литература выдвигала вопрос «Что делать?»
Николай Гаврилович Чернышевский был первым, кто задался этим вопросом. Его публицистический роман с неумирающим образом Рахметова, готовящего себя к великому делу, – важный документ эпохи 60-х годов прошлого столетия. Роман Чернышевского, однако, не отвечал на тот самый вопрос, что был поставлен в его заглавие. Потребовалось почти полстолетия, чтобы Ленин из плоскости теоретической, из плоскости художественной перевел постановку вопроса «Что делать?» в практическое русло. В феврале 1902 года вскоре и вслед за статьей «С чего начать?» он заканчивает работу, которую можно назвать образцом революционного отражения момента.
Мы не можем святотатствовать, и название нашего письма «Что делать?» – всего-навсего необходимая дань времени, но одновременно это и открыто провозглашенное следование за великими предшественниками: искать, только искать!
В самом деле, так ли уж мы бедны? Есть ли у нас недостаток в камнях и каменщиках? Ответ напрашивается только один – мы достаточно приобрели практического опыта, у нас есть и камни, и каменщики, чтобы обобщить опыт и сделать необходимые выводы. Другими словами, нащупать как раз ту нить, помогающую вести правильную кладку.
Вслед за Лениным мы говорим:
«Мы хотели, чтобы нашу нитку, ежели она проведена правильно, стали уважать за ее правильность, а не за то, что она проведена официальным органом».
* * *
Коммунистический союз молодежи задумывался людьми, стоявшими у колыбели его рождения, как боевая молодежная организация.
Завет Ленина, теперь, увы, формально присутствующий в Уставе ВЛКСМ, был такой: «Союз коммунистической молодежи должен быть ударной группой, которая во всякой работе оказывает свою помощь, проявляет инициативу, свой почин».
Сейчас эта ударная группа превратилась практически в неуправляемую, рыхлую, аморфную массу, в которой ряд платных энтузиастов, как бурлаки, тянут за собой партийный пассив.
Союз по сути давно распался на «вожачков», маленький актив и большой пассив, подгоняемый левой фразой или попросту демагогическим лозунгом раз в месяц платить взнос. Взносы – это почти единственная «платформа», на которой осуществляется связь громадного пассива с не громадным активом. Но сколько миллионов в Союзе молодежи, утерявших и эту прозаичную связь!..
Прочитайте еще раз Устав.
«ВЛКСМ – объединяет в своих рядах широкие массы передовой советской молодежи».
«Комсомол – активный помощник и резерв партии…»
С одной стороны, благие надежды на «передовитость» и «активность», надежды, закрепленные в Уставе. С другой – обмолвка: «широкие массы…»
Но могут ли быть широкие массы передовыми? И что в таком случае передовой, передовое?
Эти вопросы мы хотим разобрать в Письме съезду.
Но давайте договоримся учитывать исторические условия, в которых жил и развивался Союз молодежи.
Подчиненный всецело Коммунистической партии, опекаемый ею, ВЛКСМ, как в зеркале повторял все ее исторически обусловленные ошибки. Потеряв своего лучшего и честнейшего генсека Сашу Косырева, комсомол окончательно утерял самостоятельность, и комсомольскими вождями могли помыкать, как мальчишками на побегушках. В последние годы, правда, частично осознав ошибочность такой линии – «на недоверие» молодежи, отдельные товарищи старательно и хлебосольно раздавали эпитеты: «Наша революционная молодежь», «Наша надежда» и так далее.
Но дело от этого не выигрывало.
Создавался замкнутый круг, по которому можно было бесконечно крутиться белкой и не находить выхода.
Разве случайна такая закономерность последних годов – комсомольские вожаки часто сменяются, не успев истратить своего душевного запала «что-то сделать»? «Трудно работать сейчас, трудно пробивать взносы», – вот основные жалобы.
Но легко ли было работать раньше? Нет, было трудно, но было и интересно!
Комсомол такой, каким он является сейчас, – продукт нашей сложной эпохи. Внешние и внутренние обстоятельства страны в целом сформировали не только организацию молодежи (но и каждого второго!) политическим межеумкой, политическим приспособленцем.
Описывать эти обстоятельства – долгий труд. Не вскрывая до конца их сути (да и сможем ли мы, не зная всего, сделать это), назовем два: половинчатое исполнение решений 20 съезда партии и разногласия в коммунистическом мире.
Правильно провозгласив курс на уничтожение последствий культа личности, мы оказались бессильными довести его до конца. И даже больше того, повсеместно, по всей стране, у власти остались старые кадры, и власть ЦК над средним аппаратом всегда была призрачной насквозь. Поэтому справедливо писал в своей предсмертной записке генсек ИКП Пальмиро Тольятти:
«Создается общее впечатление медлительности и противодействия в деле возвращения к ленинским нормам, которые обеспечивали, как внутри партии, так и вне ее, большую свободу высказываний и дискуссий по вопросам культуры, искусства, а также и политики» («Правда», 9 сентября 1964 г.).
Особая партийная платформа КПК явилась громом среди чистого неба. Особость китайской платформы, увы, остается для нас тайной.
Но уже многими замечено, что конфликт с Китаем в целом положительно сказался на революционном движении, он помог выявить четкие или зыбкие позиции партий или отдельных элементов внутри каждой партии.
Вот об этом хочется сказать подробнее, потому что здесь, нам кажется, гвоздь вопроса. Не секрет, что партийная борьба является признаком потенциальной силы партии. Это приложимо, кстати, и к комсомолу, ибо комсомол, в своем организованном и идеологическом начале, полностью повторяет партию. Эпиграфом к работе «Что делать?» В.И. Ленин взял слова из письма Лассаля Марксу:
«…Партийная борьба придает партии силу и жизненность, величайшим доказательством слабости партии является ее расплывчатость и претупление резко обозначенных границ, партия укрепляется тем, что очищает себя…»
Не будем закрывать глаза на то, что в партии сейчас (в комсомоле тем более) много ненужный людей, людей, вредных ей своей безыдейностью, равнодушием, карьеристов и «молчальников» сталинских времен: людей, политически неграмотных, а значит аполитичных. Как очистить партию – это вопрос времени. Но решение его значительно облегчается, если приток в партию, осуществляемый через комсомол, будет чистым и незамутненным, если в партию придут «элементы, действительно просвещенные, за которых можно ручаться, что они ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести, которые не побоялись бы признаться ни в какой трудности и не побоятся никакой борьбы для достижения серьезно поставленной себе цели» (Ленин. Собр.соч. Т. 45. С. 391–392).
Об этом тоже писал Ленин, но отдельно цитируя его, «последователи» Ленина часто передергивают Ильича. Впрочем, идет сия болезнь от боязни самостоятельно мыслить, от боязни ошибиться.
Вот и получается порой противоположное тому, что хотел сказать Ленин.
Итак, комсомол переживает медленный кризис. Этот кризис заключается в том, что будучи, по теории, передовой организацией, комсомол сосредоточил в свих рядах безусловно передовой актив и… передовой пассив, ибо пассивные тоже в комсомоле!
Может ли быть такая ситуация, что пассивных в политических организациях не будет? Может быть. Это революционная ситуация.
Это «накануне» или уже «мятеж», революционный взрыв.
Может ли быть такая эпоха, когда все вокруг станут активными? Нет! И еще раз – нет!
Так чего же мы хотим? – МЫ ХОТИМ СЕРЬЕЗНО ПОСТАВЛЕННОЙ СЕБЕ ЦЕЛИ, а для выполнения ее потребуется организация на 90 процентов боевая, активная. Быть в нынешнем Союзе молодежи активным – мученье. Быть активным – значит выглядеть этаким бодрячком – своячком.
Марионетка, которую держат за полы кукольного кафтана и которая держит сама себя, – вот что такое нынешний Союз молодежи. Кукольным Микулой представляется комсомол, но некоторым вождям на комсомоле, судя по их речам, – не кукольным, а былинным Микулой Селяниновичем.
Серьезно поставленной себе целью является, на наш взгляд, единственное: добиться полной самостоятельности Союза, но отнюдь не обособления и не отчужденности, той полной самостоятельности, которую мечтал видеть Ленин и при которой взаимная и открытая критика стала бы здоровым и закономерным явлением.
Думается, что достижение этой цели возможно двояким путем: декретированием сверху – нежелательный путь, таящий угрозу новой подчиненности и закрепощения партией.
Есть другой путь, и ОН в принципе СОВПАДАЕТ С НЕОСУЩЕСТВЛЕННОЙ МЕЧТОЙ ЛЕНИНА: ЦК нашей партии должен быть трехвозрастным. Самую молодую его, третью часть, должны составлять молодые коммунисты комсомольского возраста, и эта треть ЦК должна быть под контролем комсомола и выдвигаться через комсомольские, а не партийные организации; или – в крайнем случае – совместно на общем собрании большинством голосов.
Трехвозрастное ЦК представит три поколения, их интересы, их взгляды, их вопросы.
Только трехвозрастное ЦК партии позволит излечиться от старой болезни: представлять, что отныне и навсегда только наша партия может быть самой передовой в коммунистическом и рабочем движении. Справедливость требует признать, что мы сегодня настигнуты и опережены, по крайней мере, тремя компартиями.
Трехвозрастного ЦК можно добиться, если трехвозрастная ступень станет обязательной во всех партийных инстанциях: от партбюро первичной организации и райкома до ЦК.
Следующей ступенью должно быть выдвижение требования о трехвозрастном составе Советов и руководящих органов профсоюзов.
Следует оговориться: тридцать три процента – это обязательный минимум, выдвижение должно быть демократичным, и позволять доводить количество кандидатур до 50%. Тогда появится реальная возможность соревнования кандидатов.
Тогда выявится наконец-то ленинская заповедь: инициатива и голоса снизу, а не декретирование сверху, каким путем осуществляются выборы сейчас – как в партии, так и в комсомоле, и в Советах.
Не приведет ли выдвижение такой программы к отрыву Союза молодежи от партии, к фракционной борьбе и в конечном итоге – к расколу? – Нет, если политика партии будет осуществляться правдиво и последовательно, и в первую очередь будет до конца сказана народу правда о 37–53 годах и до конца доведена борьба с последствиями культа личности. – Да, если политика будет половинчатой и двузначной, каковой она является сейчас.
По мере оздоровления обстановки в партии, комсомоле, Советах можно будет прийти к вопросу о добровольном обмене комсомольских билетов, что положительно скажется на организационном и политическом единстве Союза.
Что нам помешает, или может помешать, выдвинуть такую программу?
Во-первых, страх перед буржуазной пропагандой.
Во-вторых, боязнь «злых китайцев».
Ни того, ни другого нам, молодым представителям комсомола Сибири, не приходится бояться, потому что мы уверены в торжестве идеалов партии, но, однако же, сознаем непоследовательность и противоречивость в ее борьбе за достижение этих ленинских идеалов.
Самостоятельность – это права, которых сегодня комсомол не имеет. Одно из главных прав – быть причастным к политике, осуществляемой внутри и вне страны.
Вот, думается, та нить, проложив которую, мы сможем вести правильную кладку.
1965 год
Тезисы к письму
Место ВЛКСМ в системе социалистического общества
«Без полной самостоятельности молодежь не сможет ни выработать из себя хороших социалистов, ни подготовиться к тому, чтобы вывести социализм вперед. За полную самостоятельность союзов молодежи, но и за полную свободу товарищеской критики их ошибок!»
Ленин. «Интернационал молодежи» (Полн. собр. соч. Т. 30. С. 226)
1. Как активизировать деятельность комсомольских организации и какими мерами обеспечить более полную организационную самодеятельность комсомола на современном этапе социалистического строительства? – эти вопросы встали перед многими членами ВЛКСМ.
2. Организационная самостоятельность комсомола превращается в чисто формальную самостоятельность, комсомол теряет под ногами почву, теряет перспективу и превращается в «мальчишку на побегушках» и не занимается своей главной задачей. А главной задачей комсомола является «подготовиться к тому, чтобы вести социализм вперед» (В.И.Ленин).
3. Нельзя поднять самодеятельность комсомольских организаций, не подняв роль комсомола в управлении общественными делами. Только активное участие комсомола в управлении общественными делами может обеспечить полную организационную самостоятельность комсомола.
4. Какими мерами можно обеспечить активное участие комсомола в управлении общественными делами и тем самым укрепить его организационную самостоятельность?
5. В последние годы своей жизни В.И. Ленин большое внимание уделял вопросам совершенствования политической структуры советского общества. Он разрабатывал такаю структуру политических органов, которая бы позволила успешно бороться против партийного чванства, против бюрократизации партийного и государственного аппарата.
6. В настоящее время по инициативе партии проводится крупная экономическая реформа. Необходимость экономической реформы вызвана объективными условиями развития социалистического общества. Успешное выполнение намеченных экономических мероприятий невозможно без активной деятельности широких народных масс. Активизировать деятельность трудящихся, в том числе и многомиллионную армию комсомольцев и несоюзной молодежи, можно при условии широкого привлечения их к управлению общественными делами. Экономические мероприятия будут осуществлены, если народные массы возьмут их осуществление в свои руки. Совершенствование политической структуры общества диктуется самими объективными условиями. НЕЛЬЗЯ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЭКНОМИЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВА, НЕ СОВЕРШЕНСТВУЯ ЕГО ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ, НЕ РАЗВИВАЯ ИНСТИТУТЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ.
7. В.И. Ленин мечтал о том, чтобы при выборах в ЦК партии учитывался возрастной признак. Он мечтал о таком ЦК партии, 1/3 которой будут составлять 20–30-летние, 1/3 – 40–50-летние и 1/3 – 60-летние. Это придаст высшему органу необходимую устойчивость против «ожирения» и бюрократизации и создаст условия для формирования партийных и государственных вождей, теоретически закаленных, имеющих значительный практический опыт.
8. В настоящее время назрела необходимость претворения в жизнь этого ленинского принципа и последовательного его проведения в деятельности партийных, советских органов, в деятельности всех общественных организаций. В целях осуществления ленинского принципа XV съезд ВЛКСМ вносит для рассмотрения в ЦК КПСС следующие предложения:
1. Внести в повестку дня очередного съезда партии вопрос об изменении Устава КПСС.
2. Внести в Устав КПСС следующие изменения:
а) при выборах делегатов на районные, городские, областные партийные конференции, на съезды партии союзных республик и на съезд КПСС не менее 1/3 из числа избранных делегатов должны составлять члены партии комсомольского возраста и руководящие комсомольские работники.
б) Такое же представительство должно быть обеспечено при выборах в другие руководящие партийные органы, включая ЦК КПСС, вплоть до Президиума.
3. XV съезд ВЛКСМ обращает внимание комсомольских организаций на недостаточную работу в органах Советов депутатов трудящихся и рекомендует:
а) принимать активное участие при выдвижении кандидатов в Советы депутатов трудящихся, включая Верховный Совет СССР, и стремится, чтоб в местные органы Советов депутатов трудящихся, в Верховные Советы автономных и союзных республик, в Верховный Совет СССР было избрано депутатов комсомольского возраста в количестве не менее 1/3 от числа депутатов. б) Такое же представительство необходимо обеспечить при выборах в другие руководящие органы Советов, включая Президиум Верховного Совета СССР.
4. Принимать активное участие при выборах руководящих органов в общественных организациях: профсоюзы, Союзы писателей, Союзы художников и т. д.
5. Редколлегии молодежных журналов и газет, комсомольских издательств должны быть укомплектованы и работниками комсомольского возраста.
Практическое осуществление этих мероприятий встретит широкую поддержку молодежи и в значительной степени активизирует деятельность комсомольских организаций.
Ноябрь 1965 года. г. Иркутск
P. S .
Эти тезисы написаны аспирантом кафедры философии ИГУ А.П. Поповым, другом Бориса Черных, уже после написания письма «Что делать?» Анатолий Попов был отчислен из аспирантуры, хотя Черных авторство тезисов взял на себя, надеясь оберечь Попова от произвола. Впоследствии А.Попов переехал во Владивосток, затем защитил кандидатскую по Гегелю. Был советником 1-го секретаря крайкома партии, затем заведовал кафедрой философии в Военно-морском училище имени адмирала C.О. Макарова.
В лицах
Иркутск. Следствие по «делу» Б.И. Черных, спровоцировано Комитетом госбезопасности задолго до ареста 26 мая 1982 года
Том 3, лист 101.
Татьяна Игоревна Викулина, г.р. 1962, студентка ИГУ: «Я убедилась, что он (Черных) человек исключительной честности и порядочности, каких редко встретишь в наше время…Инкриминируемые ему деяния нельзя рассматривать как правонарушения. На мой взгляд, такую литературу нужно читать широкому кругу читателей, поскольку, чтобы объективно познать историю нашего государства и общества, мало знать официальные издания, необходимо рассматривать явления сквозь призму противоположных точек зрения. Поэтому считаю, привлекать его к уголовной ответственности необоснованно. Исходя из этого, отвечать на вопросы следствия отказываюсь, отвечать на них будет безнравственным шагом с моей стороны. Что касается Вампиловского товарищества – цель его заключалась в просветительской деятельности.
Дата, очевидно, середина июля 1982 года.
Том 3, лист 181
Михаил Денискин, г.р. 1956, корреспондент областной газеты «Советская молодежь», г. Иркутск. Допрошен 23 июля 1982 года: «…Появился какой-то тенденциозный подход к тем или иным событиям политического характера» (Об Александре Панове, арестованном вместе с Борисом Черных).
«…Я обратил внимание, что автор (статьи „Свойства провинциального мировосприятия“, опубликованной в „Литературных тетрадях“ Вампиловского книжного товарищества) допустил резкие выпады против КПСС»…
Допросил П.Н. Мазанников
Маликова Л.И., работник гороно, ранее директор 22-й ср. школы г. Иркутска, 1937 г.р., биолог: «…В школе на одном из лозунгов были написаны слова Л.И.Брежнева “Сегодня советские дети, завтра советский народ”. Увидев это, Черных (преподаватель истории 22-й школы) потребовал снять лозунг, не объясняя причин своего требования». Ко мне стали обращаться родители учащихся 8-х классов и 27 школы, где Б.И. вел факультатив по литературе, с просьбой обратить внимание на его уроки. По их словам («фамилии родителей за давностью времени не помню», – говорит неправду, г-на Соловьева, полковника ГО Иркутской области, забыть было нельзя, он с подачи КГБ стал уже одиозной личностью в Иркутске, писал открытые доносы в центральные газеты, например в «Литературную газету». – Б.Ч.) Черных на своих занятиях пытается привить детям искаженные взгляды на историю развития нашего государства и советской действительности. В частности, утверждает, что великим теоретиком следует считать не Ленина, в СССР повсеместно нарушаются принципы демократии, преподавание в школах идет по формальному пути, в учебниках умалчивается о некоторых негативных процессах развития государства. Это им стало известно якобы из бесед со своими детьми. Аналогичные сигналы поступили и от преподавателей Губашвили Тамары Александровны и Шалыгиной Елены Александровны, наиболее близко общающихся с восьмиклассниками. При этом называлось несколько конкретных фамилий ребят, кто может подтвердить подобные высказывания Черных»… «Черных был уволен 26 или 27 ноября 1976 года»… «Мне даже жаль, что его судьба сложилась таким образом. Ведь в целом он высокоэрудированный человек, хороший педагог».
От Хохрякова Евгения Михайловича, сотрудника Иркутского телевидения)
По существу заданных мне вопросов могу сообщить следующее:
О Панове.
О В. Хребтове (который проживал с Пановым в общежитии).
О Б.И. Черных.
Об О. Смушкиной.
О Г. Русских.
О «салоне»…
В частности, Панов мне рассказывал историю Солженицына. Говорит, что глыба, что его еще не скоро поймут, но когда поймут, поднимут на щит.
Я просил у Панова «Круг первочтения», но он мне его не дал, а дал Г. Русских. Даже при беглом (прочтении?..) списка заметна тенденциозность: А. Кузнецов, В. Некрасов, В. Аксенов, Окуджава, Бунин, Пастернак, Ахматова, Булгаков, Платонов, Олеша…
Рассказывая о салоне, Панов однажды обмолвился, что у них есть связи с центром – с Москвой и Ленинградом. И один раз к ним кто-то приезжал. В тот же разговор, а это было где-то в середине 1981 года, Панов сказал мне, что читал «Пособие для диссидентов», в котором говорилось о том, как себя вести при допросах в КГБ, и т.д.
Когда я сказал Панову, что он поет не со своего голоса, а с голоса Черных, он мне ответил: «Ну и что. Да, Черных сделал для меня очень много. Я до него был слепым кутенком. Но кроме Черных есть еще один человек, который значительно превосходит Бориса Ивановича». Кто этот человек – Панов не сказал.
Со слов Русских, у группы Панова есть программа действий, которая подразумевает социальную революцию, борьбу за свободу личности и свободное предпринимательство.
О статье М. Сибирцева «Духовный провинциализм»…
О «Литературных тетрадях». Об Андрее Платонове…
«…Осенью 1981 года Пановым овладела новая теория – всеобщий масонский заговор. Во главе революции – евреи…2-й номер „Литературных тетрадей“ он не дал мне с собой, а только у него дома…»
«Мне известно, что членами Товарищества являются Игорь Арефьев, Сергей Лукиных, Юлия Пушкина, Любовь Ганиева, Андрей Черных. Очень близки к окружению Кудряшов и Русских».
…Борис Черных, воздействуя на Панова и его группу, превратил деятельность Товарищества в несовместимую с советским образом жизни.
…Прилагаю к объяснению третий выпуск альманаха «Литературные тетради», который мне дал в апреле А. Панов.
22 мая 1982 года[88]. Подпись
Копия верна: старший следователь по ОВД следственного отделения УКГБ СССР по Иркутской области капитан В.И. Ковалев.
Лист дела 224. Валентина Гураевская.
Запротоколировано: «Ганиева говорила, что с ней говорил Гуртовой (оперативный сотрудник КГБ, задолго до арестов!).
Панов Александр.
16 июля 1982 года освобожден из Тюрьмы после длинного заявления о полном «раскаянии».
16 июля 1982 года мое дело из прокуратуры передано в ведение КГБ в связи якобы с признаками ст. 70 УК РСФСР.
Из документов следствия в 1982–1983 гг. (г. Иркутск)
Том 1.
КГБ СССР 24 мая 1982 года[89] №6/2 – 4618 г. Иркутск
Прокурору Иркутской области Старшему Советнику юстиции тов. Речкову В.Н.
Направляем на Ваше рассмотрение материалы в отношении Черных Бориса Ивановича и Панова Александра Николаевича. В ходе проверки, проведенной оперативными работниками УК ГБ СССР по Иркутской области в связи с поступившими в Управление заявлениями, получены данные, которые, по нашему мнению, свидетельствуют о том, что проводимая Черных и Пановым деятельность подпадает под признаки преступления, предусмотренные ст. 190 УК РСФСР.
Приложение: заявление гр-на Курохтина В.А., объяснение гр-ки
Беловежец Г.П., Хохрякова Е.М., всего на 20 листах.
Зам. начальника Управления КГБ (подпись неясна) С.С.Лапин
Заместителю прокурора Иркутской области Советнику юстиции С.И. Герасимову
Лист 48.
Сообщение о проведении обысков.
26 мая 1982 года при проведении санкционированных обысков у граждан Черных и Панова были изъяты произведения антисоветского характера, порочащие советский государственный и общественный строй: книги, брошюры, фотокопии, рукописи.
В ходе проведения обыска установлено, что часть литературы была привезена сыном Черных Б.И. – Андреем Черных из Ленинграда. Мною было принято решение о проведении обыска на квартире Черных А.Б., проживающего с женой на ул. Невского, д. 54, без санкции прокурора, так как малейшее промедление с обыском могло повлечь уничтожение или сокрытие имеющейся у А. Черных литературы, носящей антисоветский характер, порочащей советский государственный и общественный строй.
Время проведения обыска с 19.00 до 20.30.
В ходе обыска Черных Андрею Борисовичу было предложено добровольно выдать литературу: книги, брошюры, рукописи, содержащие измышления антисоветского характера, порочащие советский государственный и общественный строй. Однако выдавать добровольно литературу Черных отказался. Отказался от подписи постановления о производстве обыска. Жена Черных пыталась спрятать книгу Эткинда «Записки незаговорщика», изданную в Лондоне в 1977 году, носящую антисоветский характер, порочащую советскую действительность.
В ходе обыска у А.Б. Черных обнаружены и изъяты записная книжка с адресами лиц, проживающих в г. Ленинграде, фамилии которых были известны как источники поступления литературы указанного характера, «Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна» без указания места издания и времени издания, рукописи знакомого Черных – Арефьева, негативно изображающие нашу действительность, записка Черных Б.И. к сыну и его жене по вопросам, связанным с изданиями альманаха: «Литературные тетради»
Вампиловского книжного товарищества, в номерах которого также распространялись измышления, порочащие Советский государственный и общественный строй, черновые записи Черных А.Б., с указанием знакомых, кому он давал литературу указанного содержания, печатная машинка «Москва» №73575.
С.А.Тихонов, следователь
Том 2, л. 159.
Допрос
от 20 сентября 1982 года
14.30 – 19.00
Опять вымучивается ответ на вопросы о Шафаревиче, Барабанове, Солженицыне и других (сборник «Из-под глыб»).
Ответ (или часть ответа): «Я не способен идти в русле методологически ущербного подхода к предмету допроса и нахожу некомпетентными претензии следователя».
Следует обширная цитация из сборника, в частности, из Игоря Шафаревича: «Социализм уничтожает структуру человеческой индивидуальности, так как он враждебен религии, морали, чувству личного участия в истории, а его идеальной целью является смерть человека».
Ответ: Была предпринята попытка из цельных и достаточно сложных статей вырвать отдельные цитаты и выдать их за перлы определенных мировоззренческих ошибок авторов. Но вне контекста всего материала цитация и выискивание темного смысла – литературоведчески несостоятельны, потому и не поддаются глубокой и объективной оценке, что я и не рискую делать.
Допрашивал В.И. Ковалев.
Примечания
1
Перекличка с поэтом: «Вам тяжко быть кленом, товарищ Лазо? В каленьи зимы ваши ветви окрепли затем, чтоб по ветру, навечно и зло, вчистую развеять легенду о пепле...» – стихи двадцатилетнего владивостокского поэта Ильи Фаликова.
(обратно)2
Георгий Седов погиб во льдах, пытаясь достичь Северного полюса. Похоронен на острове Рудольфа.
(обратно)3
Поручик Борейко – персонаж романа Степанова «Порт-Артур».
(обратно)4
Сбылось – три издательства опубликовали работы В.М. Питухина, в том числе издательство «Мысль» (Москва). Примечание 1988 года.
(обратно)5
Иркутская областная газета.
(обратно)6
Анатолий Иванович Степаненко – первый секретарь промышленного обкома, затем высокопоставленный работник КГБ. Борис Алексеевич Гетманский – второй секретарь обкома комсомола, затем партийный работник.
(обратно)7
Но первые шаги графоману помог сделать Франц Таурин, да, тот самый, что исполнил заказ Суслова и Ко и, будучи секретарем правления Союза писателей РСФСР, исключал из Союза Александра Исаевича Солженицына.
(обратно)8
Когда я узнал, что на конференцию приехали Александр Межиров и Владимир Корнилов, я сгорал от стыда за обком, но ничего изменить не мог.
(обратно)9
Некогда Харлампиевская церковь. Там похоронен знаменитый купец Иван Чурин, там венчался А.В.Колчак, уходя на войну в Порт-Артур.
(обратно)10
Талантливый поэт. Трагически погиб в 1976 году.
(обратно)11
Я помню, в Москве он говорил о глухой стене молчания, которая сопровождала его ленинградский успех.
(обратно)12
«Прошлым летом в Чулимске».
(обратно)13
Никита Кожемяка – легендарный отрок в древнем Киеве. Когда половецкие войска подступили к Киеву, они предложили единоборством богатырей закончить тяжбу. Русские выставили маленького крепыша Никиту Кожемяку. Прозвище у него случилось такое оттого, что в гневе он схватил быка за бок и вырвал кусок шкуры вместе с мясом. Гигант-половец, увидев Никиту, посмеялся. А напрасно. Маленький силач железными руками захватил половца, поднял его и удавил. Половцы ушли с позором от Киева.
(обратно)14
Дубки – погост в г. Свободном (Урийске).
(обратно)15
«Вехи» – сборник статей о русской интеллигенции. Вышел к свет в 1909 г., авторы сборника С. Булгаков, В. Бердяев, П. Струве и др. тогда же были преданы анафеме всей либеральной интеллигенцией, но пророческая глубина «Вех» не померкла, хотя с великим опозданием мы припали к чистому источнику. Но и ныне существует целая генерация интеллигентов, кто так и не поняли ничего в нашем минувшем. – Б.Ч.
(обратно)16
Хочу сказать вам: когда я в Иркутске отснял полтора часа на телевизионную пленку, а также на фото, чуринские места, и осталось отснять Благовещенск и Свободный, я обратился в компанию «Амурский кристалл»: помогите телеоператорам и режиссерам доделать телефильм о великом патриоте. Послушай те ответ (письменный!) Правления «Амурского кристалла» за подписью председателя Правления, депутата областного Совета Ведева:
«Уважаемый Б.И., мы внимательно изучили Ваше предложение и вынуждены ответить: время для фильма о Чурине не пришло», – цинизм неприкрытый. Время для водки «Чурин», с портретом купца на этикетке, пришло. Как пришло время другому герою – миллионеру назвать гостиницу (гостиницу ли?) именем Чурина.
(обратно)17
Философ и священник о.Василий Зеньковский в томах «Истории русской философии», изданных в эмиграции, а позже переизданных в Ленинграде, писал: «Быть и казаться… Вмешательство сознания в жизнь души постоянно вносит момент „самостилизации“, но у детей еще не проявляется в полной силе различение этих категорий – „казаться“ чем-либо и „быть“ им на самом деле. А у взрослых уже резко выступает внутренняя раздвоенность, раздельность подлинного и кажущегося бытия, то есть выступает ложь и перед другими, и перед самим собой. Эта раздвоенность, эта ложь глубоко связана с ложью современной жизни, с ее риторикой и театральностью. В то же время, по мысли Пирогова, в самом „подполье“ души, как в омуте, могут скрываться „злые, паскудные и подлейшие движения“, как выражается он. Зло подстерегает человека до того, как он овладеет своим сознанием и научится управлять своей жизнью, – поэтому духовная жизнь неизбежно переходит во внутреннюю борьбу со всем, что может таиться в „подполье“ человека. Пирогов, исходя из своей гипотезы о мировом сознании, мировой мысли, стал вплотную перед тем вопросом, который с особой остротой был поставлен трансцендентализмом, – о различии индивидуального и общечеловеческого момента в личности. По мысли Пирогова, само наше „я“ есть лишь индивидуализация мирового сознания, но поскольку мы сознаем себя (а это само сознание, – говорит Пирогов, – „цельно и нераздельно“), мы уже закрепляемся в духовной обособленности. „Меня поражает, – писал Пирогов, – необъяснимое тожество и цельность нашего «я“.
(обратно)18
И еще говорит В.В.Зеньковский:
«Важнейшим результатом освобождения нашего духа от „последовательности“ чистого ума является вера. В одном замечательном письме Пирогов утверждает, что вера открывает и начинает для нас путь познания. Правда, из недр самой же этой изначальной веры возникают сомнения, которые формируют в нас тот критицизм, с которым так тесно связана наука. Но, пройдя стадию сомнений и освобождаясь от ограниченности „последовательного“ умствования, дух наш возвращается к вере. В этой высшей стадии вера становится силой, связующей нас со сферой идеала, с Богом. Если „способность познания, основанная на сомнении, не допускает веры, то, наоборот, вера не стесняется знанием… Идеал, служащий основанием веры, становится выше всякого знания и, помимо его, стремится к достижению истины“ (см. В.В.Зеньковский „История русской философии“, т.1, часть 2. Ленинград. „Эго“, 1991.)
(обратно)19
Но разве в новейшие времена мы не переживаем нечто похожее? Село планомерно уничтожают. Школы (деревенские) сживают со свету. Отроков и юношей обучают разврату…
(обратно)20
Мне передали в больницу подарок от руководителя Амурского комитета по образованию «Большой энциклопедический словарь», 2001 года издания, с пожеланием, чтобы я «не отстал от поезда современности» (дома у меня такой же словарь, но двухтомник, 1963 года), и я теперь заглянул в новый, как там говорят о Бабаевском: «Бабаевский Семен Петрович (р.1909), рус. писатель. В ром. „Кавалер Золотой Звезды“ (кн. 1-2. 1947-48) и „Свет над землей“ (кн. 1-2, 1949-50) – лакировочное изображение послевоенной деревни… Гос. пр. СССР (1949, 1950, 1951)». Полвека понадобилось, чтобы сознаться в «лакировочном изображении». А книги Бабаевского претендовали на правду о земле. Сейчас ее пустят с молотка господа-политики, нынешние лакировщики. Народ? Безмолвствует.
(обратно)21
Федор Матвеевич Лыткин (1897–1918) – член РСДРП, деятель Центроси-бири, народный комиссар Советского управления Сибири, поэт; кстати, уроженец села Тулун. – Здесь и далее примечания автора.
(обратно)22
Слог документа оставляю первозданным, лишь в самых необходимых случаях расставил знаки препинания.
(обратно)23
Теперь колхоз «Россия» с центральной усадьбой в Бодаре.
(обратно)24
Тюкавкин В. Г. Сибирская деревня накануне Октября. Восточно-Сибирское книжное издательство, 1966.
(обратно)25
Сабан – так назывался старый плуг, который переселенцы завезли из России и распространили по всей Сибири.
(обратно)26
Взято из книги: Астырев Н. На таежных прогалинах. Очерки жизни населения Восточной Сибири. М., 1891. Типография Д. Н. Иноземцева, Арбат, д. Карийской.
(обратно)27
Эпизод записан со слов очевидицы драмы, заусаевской старожительницы Елены Николаевны Дьячковой.
(обратно)28
Не корыстная – значит не очень красивая, изношенная.
(обратно)29
Никола отмечался 6 октября.
(обратно)30
Слог, как мы договорились ранее, оставляю в первозданном виде.
(обратно)31
27 июля 1922 года Калинин и Енукидзе от имени Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета подписали Постановление: 1. Ст. Тулун преобразовать в город; 2. Г. Нижнеудинск считать заштатным городом Тулунского уезда.
(обратно)32
Федор Березовский в книжке «Таежные застрельщики» (изд-во «Прибой», 1976) приводит имена не только купцов, но и промышленников тулунских. Березовский вместе с товарищем собирал деньги в фонд помощи... первой русской революции. Ходили по домам богатеев, и те, из престижных соображений, не скупились. Так, они побывали у инженера Широкова, начальника участка пути, потом у промышленника Патушинского. «Поблагодарив Патушинского, мы отправились к известному в Сибири купцу и владельцу каменноугольных копей Метелеву. В гостиной купеческого особняка нас встретил высокий и полный человек, смахивающий на городского лабазника. Он был в темном новеньком костюме и в штиблетах. Но круглое и румяное лицо, обтянутое светло-русой бородкой, простоватые голубые глаза и вьющиеся волосы, подстриженные в скобку с пробором посредине головы, изобличали жителя деревни... Это был сам Meтелев». Метелев, узнав, что Патушинский пожертвовал 100 рублей, заявил: “Мы тоже не лыком шиты” – и вынес... 500 рублей». Вот какие купцы были в Тулуне! Не жадные, да. Но и не дальновидные. Рубили сук, на коем сидели.
(обратно)33
Там же – альманах «Ангара». 1968. №5.
(обратно)34
Издание Сибирского краевого статистического бюро. Ново-Николаевск, 1925.
(обратно)35
Когда избранные главы из «Старых колодцев» опубликовал журнал «Новый мир», в числе добрых откликов пришел и сердитый. То, что скончалась «Смычка» при всеобщем одобрении и никто не пожалел о се кончине, взялся оспорить тот, кто участвовал в так называемом раскулачивании села Заусаева, точнее сказать – в разоре. Н. Воронов был учителем заусаевской школы в роковые 29–30–31 годы.
(обратно)36
Этот рассказ записан со слов ветерана колхоза имени Зарубина, а потом имени Кирова, – Николая Илларионовича Белова, уроженца села Афанасьева.
(обратно)37
Топоров А. Крестьяне о писателях. Издание третье. «Советская Россия», 1966.
(обратно)38
«Сибирские огни». 1967. № 9.
(обратно)39
Герцен А. И. К старому товарищу. Сочинения в 9 томах. Т. 8. М., 1958. С. 405.
(обратно)40
Ленин В. И. ПСС, т. 43. С. 60–61.
(обратно)41
Эпизод взят из книги публициста Н. Астырева «На таежных прогалинах. Очерки жизни населения Восточной Сибири». Москва, типография Д.И.Иноземцева, 1891.
(обратно)42
Так местные называют столярку, где работа по дереву – главная.
(обратно)43
А на свадьбе у Петрачковой Ульяны Фадеевны (живет в Афанасьеве) два ее родных брата, Елисей и Александр, играли на скрипке, а третий, Елфим, бил в бубен. Свадьба два дня неотрывно слушала братьев; много песен спели, а водки (вина не было) выпили две четверти на сорок человек.
(обратно)44
«Огляк» по-белорусски означает примерно то же, что недотомыка по-русски. У Владимира Даля – недомыка, а у нас, в Восточной Сибири, недотомыка.
(обратно)45
Уполномоченный, по укоренившейся привычке, называет город Тулун селом.
(обратно)46
Обратите внимание – страхование собственного имущества и добра, дело сугубо добровольное, превращено в налоговую статью государственного дохода со всеми грозными последствиями, вытекающими из этого.
(обратно)47
Государственные расценки на закупаемый хлеб колебались год от году, мужики каждый раз надеялись, что вот в этом году цены будут малость повыше, и не торопились с продажей зерна, а значит, и с погашением налога. Механизм ценообразования, природа ценообразования оказались нарушенными. Уже не рынок, а волевой субъективный акт сверху диктовал крестьянским хозяйствам всеобщий для огромного региона (например, Сибири) денежный эквивалент произведенному на пашне труду. Это немедленно сказалось на взаимоотношениях государства и крестьян, осложнило их.
(обратно)48
Последняя фраза вызывает подозрение, что протокол заседания вел сам Бурденюк, сам писал и сам объяснял – «скидки не ждите».
(обратно)49
Золовка Александры Ивановны Огневой, теперь – Сопруненко.
(обратно)50
Все цифры идут по новому валютному курсу, уничтожившему инфляцию; и потому сумма, например, в 200 руб. – это стоимость крепкого дома на 7 окон.
(обратно)51
Другой – значит, по Столыпину, некулацкий путь.
(обратно)52
«Красный Архив», т. 4 (17). М.–Л.: Госиздат, 1926. С. 84–85.
(обратно)53
Колхоз «Красный пахарь» Г. Е. Шиян называет по-разному – то коммуной, то артелью, то собственно колхозом.
(обратно)54
Редкость и 47 лет спустя. Сейчас, например, только в Никитаеве у единственного С. А. Желтобрюха есть три семьи пчел на весь колхоз.
(обратно)55
Шерстобоев В.Н. Илимская пашня. Иркутское областное государственное издательство, 1949. Т. 1. С. 7.
(обратно)56
Там же. С. 176.
(обратно)57
Там же. С. 177.
(обратно)58
Там же. С. 178–179.
(обратно)59
Там же. С. 179.
(обратно)60
Шерстобоев В.Н. Илимская пашня. Т. I V. С. 180–181.
(обратно)61
Кропоткин П. А. Записки революционера. М.: «Мысль», 1966. С. 206.
(обратно)62
Ленин В.И. ПСС. Т. 35. С. 52.
(обратно)63
Ленин В.И. ПСС. Т. 35. С. 57.
(обратно)64
Ленин, Сталин. Избранные работы. Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. С. 548.
(обратно)65
Рассказ шофера Виктора Павловича Лебедченко.
(обратно)66
Иван Дьячков – дядя Евстафия Дьячкова.
(обратно)67
Так, дословно повторяя сталинские слова, якобы говорит 84-летний колхозник.
(обратно)68
В примечаниях говорится: «имеющиеся в тексте фрагмента ссылки на “Метафизику” дают основание полагать, что он был написан уже после того, как В. И. Ленин прочел сочинения Аристотеля». Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 659.
(обратно)69
Там же. С. 316–317.
(обратно)70
Виктор Павлович Лебедченко, 1928 года рождения, рассказал (вез меня попутно в своем ЗИЛе), как на его глазах взяли мужика за то, что он без спросу колхозным зерном лошадь накормил. Вернулся мужик из лагеря через 5 лет. Жаль, фамилию того мужика шофер Лебедченко не помнит – малый он был тогда.
(обратно)71
Мировая экономика. Краткий справочник, М.: Экономика, 1965, и Страны социализма и капитализма в цифрах. Краткий статистический справочник. М.: Политиздат, I966.
(обратно)72
Стиль и орфографию сохраняю, лишь расставляю знаки препинания, их не признавал Макар Рыбаков.
(обратно)73
Колхоз «Верный путь», село Гуран.
(обратно)74
Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича.
(обратно)75
Полоса самоубийств тяготила деревни в эти месяцы своей немотивированностью. Дом есть, семья, дети, достаток в дому, – но некая сила сатанинская уводит не мальчика – мужа – в петлю. Я, зная жизнь в дальние десятилетия и проговорив об этой жизни долгие вечера, не услышал от старых колодцев погребальных вестей и похоронной музыки. Трагические ноты Перекоса и драма Отечественной, как ни странно, возвысили стоимость и самоценность Бытия – и можно было внимать бесконечно гармонии жизни, ее высоким, ее глубоким тонам.
Смерть Василия Казакевича была для деревни загадочной и непостижимой; Петр Царев, председатель колхоза и друг Василия, выплакал глаза на поздних похоронах, но объяснить жене Василия, отцу его Ивану, детям Василия уход не смог.
Прошел год, я встретил Царева в Иркутске, он взял меня за руку и вдруг сказал: «А если б мы не поддались нажиму и не закрыли Евгеньевку – был бы Вася жив, не ушел бы...»
Не ушла бы в леса прабабка Василия, не ушел бы в баню на задах огорода дед Пахом, – что увело его предтечей? Из живой Евгеньевки?
Да, но что, какая беда скоро позовет в петлю парторга колхоза Кузнецова?..
(обратно)76
Правда, в «Записной книжке председателя», подаренной мне Судариковым, цифры несколько другие: озимая рожь – 50 га, пшеница – 560 га, овес – 315, под зеленкой – 100, кукурузой – 140, картофелем – 50 га. Огурцы занимали 6 га, турнепс – 10 га.
(обратно)77
Aгaрков Н.Ф. Райком и сельские коммунисты. Иркутск, 1972 (Николай Федорович Агарков – бывший секретарь Тулунского РК КПСС); Романкевич Н. Т., Царев П. Н., Абрашкин В. Н. Хлеб – наше богатство. Иркутск, 1974.
(обратно)78
Так и оказалось. Возглавили. (Примечание 1987 года. – Б.Ч.)
(обратно)79
Радищев А. Путешествие из Петербурга в Москву.
(обратно)80
Я получил к ним доступ в 1990 году и переписал в здании областного суда, куда 10 томов моего «Дела» перекочевали из подвалов Иркутского КГБ после реабилитации.
(обратно)81
А так и ныне случилось. Ушли от земли к нефти и газу. И загибаемся на миру. (Примечание 2006 года.)
(обратно)82
«Новый мир». № 8, 1988; «Сибирские огни». №№ 7–8. 1989. Позже издательство «Советский писатель», 1992, – полное издание «Старых колодцев».
(обратно)83
Кутулик – родина А. В. Вампилова.
(обратно)84
А ведь и в Ленинградском университете на истфаке именно в 70-й аудитории читались эти лекции! – Замечание бывшего политзэка Ростислава Борисовича Евдокимова по прочтении этой рукописи.
(обратно)85
ОВД – следователь по особо важным делам.
(обратно)86
Юрий Домбровский лучшие свои годы провел у нас, на Амуре, в застенках БАМлага.
(обратно)87
Пройдет много лет, в Иркутской газете я прочитаю о визите М. С. Горбачева на Байкал: «На пресс-конференции Президента в Листвянке довелось задать вопросы и корреспонденту „ДПР“ („Демократический путь России“): „Михаил Сергеевич, в свое время в Иркутске были осуждены по политическим статьям писатель и педагог Борис Черных, нынешний член координационного Совета „Демократической России“ Сергей Боровский, баптист Лавренович. Всех их осудил председатель областного суда Чернов, до сих пор остающийся в этой должности. Как вы считаете, могут ли такие люди возглавлять областной суд?“ – „Здесь не может быть однозначного подхода. (А у Президента Горбачева когда-нибудь был однозначный подход по какому-нибудь вопросу? – Б.Ч.) По каждому судье надо разбираться отдельно и смотреть. Ведь тогда были такие законы и такие судьи, обреченные исполнять эту жестокую, неблагодарную роль“(„Газета «ДПР“, Иркутск, 27 ноября 1991 г.)
(обратно)88
За 4 дня до ареста Черных и Панова.
(обратно)89
За два дня до ареста и до обысков.
(обратно)

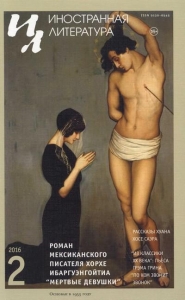

Комментарии к книге «Старые колодцы», Борис Черных
Всего 0 комментариев