Лесли Каген Насвистывая в темноте
Пролог
Я толком и не поняла, кем был тот человек, нашедший на берегу лагуны мертвую Сару Хейнеманн. Но это точно Вилли О’Хара рассказал нам, как она мирно лежала в траве между старыми лодками, которые за доллар сдают напрокат вместе с веслами, если кому вздумается порыбачить. Сара лежала голая, только розовые трусики затянуты вокруг шеи, как бант. И еще на голове у Сары не хватало пары светлых локонов, кто-то их срезал — в точности как у Джуни Пяцковски прошлым летом.
Не верилось, чтобы на нашей Влит-стрит могло случиться такое. Но папа всегда говорил: «Иногда происходит такое, чего ты совсем не ждешь». Такое, что может перевернуть всю жизнь. И он был прав, да еще как. Ведь после того, как Сару нашли мертвой, стало казаться, будто наши вечерние игры в «красный свет, зеленый свет», парады Четвертого июля и даже бултыхание в Медовой протоке в те жаркие дни, когда от солнца закручиваются волоски на шее, — все это отошло в славное прошлое, о котором вечно твердит бабуля. Потому что одна мертвая девочка — плохо. А уж две… Тут все начали прикидывать, кто же следующая. Только я не гадала. Чего тут гадать, следующая — я.
Это произошло летом пятьдесят девятого. Тем летом мне было десять. Тем летом на Влит-стрит люди начали запирать двери своих домов.
Глава 01
В то утро, когда мама сказала нам, что больна, мы с Тру валялись в иссушенной солнцем траве, принюхивались к запаху отбеливателя от хлопавшего на веревке белья и готовились сыграть с ней в «Фамилии».
— Важно, чтобы вы научились понимать, с кем имеете дело, чего ждать от человека, — сказала мама, вытягивая из бельевой корзины очередную простыню. — Не забывайте, в городе — они там совсем другие.
А как тут забудешь? Она не меньше ста миллионов раз повторила это с прошлого лета, когда мы переехали на верхний этаж дома на Влит-стрит. «Мы» — это наша мама и три ее дочки. Наверное, надо посчитать еще и Холла, это будет благим делом. Холл — мамин муж. Третий ее муж.
Нашего папу мы с Тру любили больше, чем Холла, но папа погиб в аварии, когда ехал домой после игры «Милуоки Брейвс»[1] с дядюшкой Полом; тот вылетел сквозь лобовое стекло и расшиб голову о пожарный гидрант, так что теперь дядя живет у нашей бабули на 59-й улице. На похоронах кто-то назвал папу «буйным». Я не знала, что это значит, и на следующий день поглядела в толстенном словаре, который мне выдали в библиотеке. «Буйный» — прилагательное, оно значит «цветущий» и «пышный». Тот дядька оказался прав. Мой папа и вправду был буйным. Буйство из него так и перло. Прямо как тот торт, у которого и начинка шоколадная, и глазурь сверху тоже шоколадная.
Хорошенько встряхнув мокрую простыню, мама сказала:
— Понять, чего ждать от человека, можно, например, если угадаете, из какой страны он родом. Правильно? Почти все, что вам нужно знать о человеке, подскажет его фамилия.
Мы с Тру тихонечко заныли, потому что игра успела приесться, от нее радости как от занозы под ногтем, да только наша мама обожала играть в «Фамилии» — похлеще, чем в китайские шашки.
— Живее, у меня еще полно дел. — Мама оглянулась через плечо и окатила нас взглядом из серии «ну, и кто наделал на ковер?», так что Тру быстренько выпалила:
— Бюшам!
Выглядела Тру классно. Рыжие волнистые волосы до плеч и немного веснушек вокруг носа. А еще у нее были голубые глаза, как небо, которое будто едва проснулось утром и еще не успело стать того же цвета, что и джинсы, как то происходит ближе к вечеру. Тру совсем худышка, только губы у нее пухлые, из-за них она вечно выглядит так, будто дуется, но вообще-то она часто ходит надутая. Еще у нее длинные пальцы; такими удобно играть на пианино, которое купили по случаю, и оно теперь стоит у нас в гостиной. Мама говорила, пианино придает дому шик, а бабуля как-то шепнула мне, что вся эта история с пианино выставляет ее дочь воображалой. Мама выросла всего в нескольких кварталах от того места, где мы теперь живем, как раз через улицу от пекарни «Хорошее настроение», там такое классное шоколадное печенье пекут! (По правде, бабуля сказала другое, вечно она так выражается: «Хелен могла б уже понять — из собачьего хвоста сито не сплетешь».)
Мама приставила ладонь к уху, так что Тру крикнула погромче:
— Бюшам!
Хелен и Тру. Две горошины в стручке, всегда говаривала бабуля, вы только гляньте на них.
Я не похожа на Тру. И на маму тоже не похожа. Глаза у меня не голубые, как у них. Они у меня зеленые, а брови так просто и не разглядишь, даром что густые. И Тру уже успела вымахать выше меня, хоть она и младшая сестра. Ноги у меня длинные, а вот ступни и ладошки маленькие совсем — это потому, что я родилась на месяц раньше срока. И веснушек у меня нет. Ни единой. Хотя пару раз я слышала, как про меня говорили: ах, какие милые ямочки и волосы на загляденье, пушистые, светлые. Из-за этих волос мама с Нелл каждое утро спорили, заплетая их в толстую косу, которая падает мне на спину. Нелл — еще одна сестра. Ну, наполовину. Папа Нелл — мамин первый муж; он умер, мама рассказывала, из-за того, что понюхал нашатырного спирта.
— Бюшам — французская фамилия, — ответила мама и поднесла к носу запястье, которое, я знала, пахло духами «Вечер в Париже», ее любимыми. — Французы говорят на языке любви.
А Тру ее не слушала. Она смотрела на соседский дом и раздумывала, правду ли про него рассказывают. Мы ведь сестры, родились всего через десять месяцев одна после другой, почти близняшки, так что умеем читать мысли друг друга, даже если не особо того хотим. В общем, я почти всегда знаю, о чем думает Тру.
— Кенфилд! — выкрикнула она.
— Кенфилды — англичане, — сказала мама. — Любят лицо держать. Это значит, стараются не показывать, что они чувствуют на самом деле.
Мама потянулась к корзине за новой простыней, и волосы у нее выбились из-под белой ленты. Меня всегда поражало, ну до чего ж они длинные. А когда на них падало солнце, так и отливали золотом, а без солнца рыжие. Я считала маму красавицей. Как, наверное, и мужчины в нашем квартале, потому что они всегда прятали пивные бутылки, стоило ей пройти мимо, а порой, если уже напились, протяжно так завывали, вылитые волки, но мама их не замечала.
Тру хихикнула.
— О’Мэлли.
Мама погрозила ей пальцем:
— Тру О’Мэлли, будешь прикидываться глупенькой, вряд ли чего добьешься в жизни.
Но уголки губ у нее чуточку приподнялись, чтобы нам стало ясно: мы лучше всех и вовсе не дурочки-из-переулочка и не «ирлашки», как дразнили нас дети из семей с итальянскими, польскими да немецкими корнями. А мы их обзывали «макаронниками» (громко говорят, но вкусно готовят), «полячишками» (соображают малость туговато) и «немчурой деревенской» (за толстые коленки), так что, думаю, тут мы с ними квиты.
Кто-то на другом конце квартала завопил: «Кто не спрятался — я не виноват!», а из проезжавшей мимо машины донесся голос Литтл Ричарда, горланившего «Тутти-Фрутти». Так уж заведено на Влит-стрит. Тут вечно кипит жизнь. Только не в жилах мертвой Джуни Пяцковски. А Сару Хейнеманн еще не успели убить, когда мама прицепила на простыню последнюю прищепку и сказала:
— Сестры О’Мэлли, подойдите-ка. Мне нужно сказать вам кое-что.
И конечно, я позволила Тру усесться поближе к маме на каменной скамье у клумбы с розовыми пионами, которые прямо из кожи вон лезли, — потому что два лета тому назад я кое-что пообещала своему папе. Самое первое, что вам нужно знать обо мне: я ни за что не нарушу данного слова, даже под страхом смерти.
Солнце как раз пряталось за деревья, когда папа выгнал всех из больничной палаты и попросил меня прилечь к нему на кровать, которую можно было поднимать и опускать, когда захочется.
— Салли? — Из него торчали все эти трубки, а рядышком пик-пик-пикал какой-то приборчик, совсем как подводная лодка в фильме «20 000 лье под водой», мы с Тру смотрели его в кинотеатре «На окраине».
— Да?
А он уже не очень-то был похож на моего папу. Лицо распухло, вокруг рта ссадины и кровь, которая, видно, не хотела оттираться. А на груди здоровенный круглый синяк от руля. Там, внутри, у него что-то лопнуло, так сказала мне старенькая нянечка.
— Тебе придется заботиться о Тру, — тихонько сказал папа. Его обычно пушистые волосы цвета красных осенних листьев собрались в колючие сосульки на лбу. — Пообещай мне.
Я похлопала его по руке, гладкой на ощупь из-за крема, которым ее намазала медсестра.
— Обещаю. Позабочусь о Тру. Чтоб мне провалиться. Но я хочу сказать тебе что-то очень важное, я…
— Передай Тру, что все нормально, — перебил меня папа. — Скажи, она не виновата в аварии.
Тру тоже лежала в этой больнице, дальше по коридору, они вместе с папой ехали в машине, которая врезалась в громадный вяз на обочине Холли-роуд. Тру сидела на заднем сиденье и покалечилась не так сильно, как папа и дядюшка Пол, всего-то руку сломала; она у нее и сейчас болит иногда, перед дождем.
Папа глубоко-глубоко вдохнул, словно собираясь сказать что-то ужасно важное, и, выдохнув, проговорил:
— И передай своей матери, я прощаю ее за то, что она сделала. Передашь?
И закашлялся, так сильно, что на губах розовая пена выступила.
— Я буду приглядывать за тобой, Салли. Помни… порой происходит такое, чего совсем не ждешь, так что лучше будь начеку. И обращай внимание на мелочи. Дьявол прячется в мелочах.
Потом папа уснул на минутку, но опять проснулся и сказал:
— А знаешь, Нелл — не самая худшая сестра на свете. Бывают и похуже.
И тут в палату вошла та нянечка и объявила, что у папы то ли спячка, то ли горячка. Я не совсем уловила, потому что у нее был странный такой говор.
Тру виновата в том, что папа угодил в больницу? Это все из-за Тру? Да она и машину-то водить не умеет, ей семь лет всего! Ох, папочка… И я понятия не имела, за что он хочет простить маму и почему сам ей не скажет, — хотя это, наверное, оттого, что она обезумела от горя, как выразился доктор.
Папа уже уснул, но я все равно шепнула ему: «Вас понял, выполняю, конец связи». Мы с ним все время так прощались. В точности как Пенни прощалась со своим дядей Небесным Королем, когда тот уже мчался по чистому синему небу в своем самолете «Певчая пташка»[2]. Мы с папой просто обожали этот сериал, смотрели его каждое утро по субботам, потому что папа тоже был когда-то летчиком.
А потом нянечка сказала:
— Время посещений истекло.
— Но мне еще нужно… — начала было я, но старушка так замотала головой, что мне сразу сделалось ясно: никаких «но». Все, что я хотела сказать, потерпит до завтра.
Я взяла папу за колючий подбородок и повернула папино лицо к себе, чтобы чмокнуть в щеку, легонько, как бабочка (его любимый поцелуй), а потом — в кончик носа, на манер эскимосов (это уже мой любимый).
Я дала ему свои обещания, а через три дня папу похоронили. Извиниться я так и не успела.
Глава 02
Прошлым летом, когда мне стали сниться жуткие кошмары про Тварь из Черной Лагуны[3], мама отправила меня на прием к доктору Салливану. Это кино про джунгли Амазонки, там глубоко-глубоко в реке жило чудище, которое выныривало со своей глубины, как проголодается, и цапало людей. Когда папа умер, я только и думала, что о Твари, которая явится за мной, или Тру, или Нелл, или мамой, и что мы тогда станем делать? Мы ведь вовсе не такие сильные, как папа. Так уж получилось. И что совсем меня доконало: выяснилось, что наш дом всего-то в трех кварталах от лагуны Вашингтон-парка. Как раз где нашли бездыханную Джуни Пяцковски. А человека, который оставил ее одну-одинешеньку у красных лодок напрокат, не нашли. Я только диву давалась, отчего никому и в голову не придет, что Джуни вполне могла убить Тварь, ведь чего-чего, а на-стыр-ства у Твари было в избытке. Вы гляньте только, как она хотела добраться до той актрисы, Джулии Адамс!
Но, сидя в кабинете, пропахшем уколами, я еще немного подумала обо всем этом и сказала доктору Салливану:
— Ладно, может, это и не Тварь была. Может, не она убила Джуни.
Доктор заулыбался и закивал.
— Это из-за розовых трусиков на шее, — объяснила я. — У Твари лапы толстенные, а ведь нужны очень ловкие, тонкие пальцы, чтобы повязать трусики на шею девочке, верно?
Док Салливан заставил меня проглотить немного рыбьего жира и наклонился поближе — так близко, что поры на его носу стали похожи на ячейки в картонке из-под яиц.
— Салли О’Мэлли, у тебя, что называется, «сверхактивное воображение». — Дыхание доктора было мокрым и вонючим, прямо джунгли Амазонки. — Это не очень хорошо. По правде сказать, — тут он оглянулся на мою маму, — это лишь подтверждает старую пословицу: пустая голова — мастерская дьявола. Вы регулярно ходите к мессе?
От этих слов веры в доктора Салливана у меня не прибавилось. Потому что он ошибся — хуже не бывает. Моя голова в жизни не пустовала. Никогда-никогда.
— Салли! Ты меня слушаешь? — спросила мама тем тоном, что сразу дает понять: у нее полно дел и поважнее.
— Прости.
Доктор Салливан обозвал мои рассуждения про Тварь «полетами воображения», и эти полеты, наверное, достались мне в наследство от моего Небесного Короля, потому что мама наши с папой полеты не шибко одобряла.
А мама вздохнула этаким долгим вздохом и говорит:
— Завтра мне нужно быть в больнице, у меня операция. Попрощаюсь с желчным пузырем. — И положила руку на живот справа. — И пока меня не будет, — тут она уперла палец в Тру, — я хочу, чтобы ты занялась благими делами, а ты, — и палец уперся в меня, — обуздала воображение, или я снова отведу тебя к доктору.
Потом она уставилась на свои руки и покрутила обручальное кольцо, которое подарил ей Холл, и это, наверное, было больно, потому что у нее лицо покривилось. Учитывая, как ей не везло с мужьями, мы с Тру решили, что мама вышла за Холла только потому, что он не похож на человека, который вот-вот испустит дух, с этими его мускулами, волнистой шевелюрой и татуировкой на бицепсе — mama. Нелл объявила, что татуировка, должно быть, проняла нашу маму до самого нутра. Может, и так, стоило папе умереть. Но в итоге мама осталась с Холлом, поскольку католики считают, что развод прямиком ведет в геенну огненную, где придется гореть всю вечность до остатка. Бабуля говорила, если человек католик, единственное, что можно сделать, коли не хочешь быть замужем за подонком, — это молиться со всей мочи, чтобы этого ублюдочного торговца башмаками по пути на работу переехал автобус.
Мама встала и сказала самым неумолимым своим голосом:
— Пока меня нет, сестрам О’Мэлли лучше бы не высовываться выше травы, потому как если я вернусь и услышу, что вы доставили хоть кому-то хоть какие-то неприятности, то обеих поколочу так, что в жизнь не забудете.
И ушла, будто вдруг вспомнила про какое-то дико важное дело.
Я подождала, пока за нею не захлопнется дверь-сетка, а потом спросила:
— Думаешь, она умрет? Как папа?
Раньше я не особо переживала, но после смерти папы только переживаниями и занималась. Потому что… ну, видели бы вы моего папу… такой он был сильный и храбрый, с большими руками, и черными волосками на бицепсах, и широкими плечами. Он даже ничем никогда не болел, мой Небесный Король. И это лишний раз показывает, что может случиться, когда ничего подобного не ждешь.
Тру мусолила во рту травинку, стараясь свистнуть погромче, как это иногда получается.
— Не-а, — сказала она. — Такие злюки, как Хелен, не умирают.
Тру не шибко переживала, даже особо не плакала, когда умер папа, и это казалось мне странным. Потому что пускай папа любил меня очень, очень сильно, настолько сильно, что я и за миллион лет его не забуду, Тру он любил даже немножко сильнее. Раньше мне от этого было как-то не по себе, но если в сестры досталась Тру, что тут поделаешь, чего еще от нее ждать.
И насчет мамы Тру совершенно права. Раньше, пока папа был живой, мама вовсе не была злюкой, не то что теперь, и я точно знала, кто тут виноват. Поэтому собиралась помолиться на ночь заодно и о том, чтобы по дороге в «Обувь Шустера» Холл позабыл глянуть в обе стороны, когда станет переходить Норт-авеню, и тогда мама сможет выйти замуж за кого-то, кто не будет болтать с набитым ртом, — если, конечно, она вернется из больницы. А может ведь и не вернуться. Я же говорю, большого доверия к доктору Салливану я не испытывала. Одно его дыхание, мне дико стыдно об этом говорить, но уже одно его дыхание могло прикончить человека.
Глава 03
Еще когда жили на ферме, мы с Тру водились с Джерри Эмберсоном; тот жил на дальнем конце нашей гравийной дороги и однажды пописал мне на ногу, когда мы наплавались в его секретном лесном пруду. Все остальные дети, с кем мы учились в школе, жили на фермах вроде нашей; с голоду можно помереть, пока туда дотопаешь. Так что если хотелось поиграть в прятки, попинать банку или там еще чего-нибудь, где нужно больше двух игроков, то приходилось, хочешь не хочешь, водиться с писающим где попало Джерри Эмберсоном.
Другое дело здесь, на Влит-стрит. Холл чуть не умер от изумления, когда мы с Тру объявили ему, что не хотим переезжать в город. У него мамина запеканка с тунцом и макаронами аж изо рта полезла. «Слышь, такие вот пироги с котятами. Мы переезжаем. Я уже нашел себе работу, а всем нам — жилье. — Холл вытряс в себя остатки пива из бутылки и шваркнул ею об стол. — В том квартале детей как грязи, так что кончайте скулеж, а не то наподдам, чтоб зря не скулили».
Раз в жизни Холл оказался прав. Потому что, захоти ты позвать тут кого-то, этот «кто-то» непременно сидит на крыльце и ждет, только свистни. Это потому, что вся наша округа забита, как бабуля выразилась, «продуктами католических браков» (и при этих словах глаза у нее едва на лоб не выпрыгнули, бабуля то и дело таращится из-за болезни под названием «щитовидка» в ноге у нее где-то).
Людей тут полным-полно, и мама не зря предупреждала насчет городских, когда мы играли в «Фамилии»: люди тут совсем другие. Как Быстрюга Сьюзи Фацио, девчонка из нашего квартала, которая как-то узнает новости самой первой. Это она рассказала нам с Тру про Дотти Кенфилд.
Уличные фонари только-только зажглись, и мы втроем сидели на крыльце у O’Хара, поджидали, пока остальные соберутся на нашу каждолетнюю вечернюю игру в «Красный свет, зеленый свет». Быстрюга Сьюзи расчесывала длинные, прямые черные волосы, которые ни разу не стригла с той поры, как была совсем маленькая, а кожа у нее летом делается такой загорелой, что Быстрюга Сьюзи сразу становится похожа на египтянку из фильма «Десять заповедей». Мы с Тру видели его в кинотеатре «На окраине», куда бегаем всякий раз, как накопим четвертак. А поскольку Быстрюга Сьюзи была итальянкой — мама говорит, они зреют быстрее всех, — у нее не только волосы длиннее, чем у остальных, у нее уже появились те самые бугорки. Пришлось даже заказывать для нее особую скаутскую форму, чтоб не топорщилась на груди.
— Я слыхала, с Дотти Кенфилд случилось что-то плохое, — сказала я ей.
— Ты уже слыхала? — А надо сказать, Быстрюгу Сьюзи всю аж корежило, если человек узнал что-нибудь не от нее, а от кого другого. — Ну, на этот раз ты слышала верно. Два месяца назад твоя соседка, вон из того дома, взяла и пропала. Ни с того ни с сего растворилась в воздухе. — Сьюзи занавесила волосами лицо и заговорила загробным голосом, как иногда делала: — Исчезла. Была и нету. Фьють!
А за Быстрюгой Сьюзи, когда та рассказывает, нужно приглядывать: она машет руками, что твоя мельница, как все итальянцы делают. Прошлым летом Вилли О’Хара заработал синяк под глазом, когда Сьюзи решила изобразить распятие.
— Так-то. Дотти наверняка умерла, совсем как Джуни Пяцковски, — добавила Быстрюга Сьюзи, опять принимаясь за волосы. — Спорим, ее найдут до конца лета. Такую мертвую, зеленую, с гнилыми глазами и запахом, как изо рта у дока Салливана.
За пару дней до того Быстрюга Сьюзи рассказала нам, будто Риз Бюшам заставил ее трогать его пипиську и уверял, что с ее помощью может заставить девочек молить о пощаде и что, когда девчонке стукнет тринадцать, прольется кровь: это значит, будто у тебя может появиться собственный ребеночек. Видите? Порой сложно понять, врет Сьюзи или нет. К тому же у меня имелись все причины думать, что Дотти Кенфилд, возможно, жива.
— И кто тогда плачет по ночам в ее комнате? Мыто слышим, — сказала я.
Саданув меня локтем, Быстрюга Сьюзи опять заговорила загробным голосом:
— Будьте осторожны, сестры O’Мэлли! — И улыбнулась этой своей замогильной улыбкой — верхние клыки у Сьюзи торчат чуть дальше, чем нужно. — Если из этого дома до вас доносится плач, это может значить только одно. У Кенфилдов поселилось привиде-е-ение.
Так и сказала. Дескать, плач — это проделки призрака Дотти Кенфилд.
Хотя, может статься, на этот раз Быстрюга Сьюзи Фацио говорила сущую правду, ведь этот плач был самым жутким привиденческим звуком, какой мы только слышали. Бедная Дотти!
Иногда, когда плач стихал, я подходила к окну и смотрела на спальню Дотти, потому что, пока там плакали, мне было страшно высовываться. На стене там висела фотография красивой девушки с темными глазами и волосами. Насколько я могла судить, на фото ей лет восемнадцать — столько же, сколько и нашей Нелл. Выпускное платье салатного цвета, волосы скручены на макушке наподобие мороженого в рожке, на шее крестик. А под фотографией тускло светилась лампочка на крышке аквариума, освещала воду и маленького водолаза, выпускавшего пузыри, которые наперегонки с золотыми рыбками бежали к поверхности.
Стоя в темноте, я готова была поклясться, что Кенфилды не тронули ни единой вещи в спальне Дотти с тех пор, как та растаяла в воздухе. Возможно, комната по-прежнему ею пахла. Как после смерти папы. У него в шкафу я могла вдохнуть его «Аква Велва». Однажды я уселась там, рядом с ботинками, с которых еще не осыпалась грязная земля нашей фермы, и ни за что не хотела уходить. А на следующий день мама отнесла всю папину одежду в «Гудвилл индастриз», тряхнула меня за плечи и крикнула: «Бога ради, Салли! Его больше нет, он не вернется. Что было, то прошло, пойми ты, наконец!»
Но я спрятала одну из папиных рубашек… голубую. Чтобы помнить о своем Небесном Короле. Я держала ее внутри подушки, где маме не отыскать. Потому что в конце дня, что бы она ни говорила, мне позарез нужно было опустить голову на папино плечо и слушать, как Тру сосет средний палец или тискает свою куклу Энни. Что было, то вовсе не прошло. Вот ничуточки.
Глава 04
Изредка по ночам плач доносился до нас с Тру и из маминой спальни. Мы ушам своим не верили: прямо мираж среди пустыни. Потому что днем ничего такого нипочем не услышишь. Днем мама сурова и суха, как вяленая говядина; она первая скажет, что слезы льют только те, кто переживает по пустякам. Бабуля уверяла меня, что на самом деле мама не такая уж и черствая, что она попросту, как говорится, «насвистывает в темноте»[4]. Лично я ни разу не слыхала, чтобы мама свистела, так что сразу решила, что с бабулей случилось то самое отвердение артерий, какое уже было у второй моей бабушки.
Тру сидела на пуфике у туалетного столика с зеркалом и двумя выдвижными ящиками по бокам. Еще одно маленькое зеркало, формой овальное, как ледовый каток, стояло на столе, посреди маминых склянок с духами и лосьонами. Я вертела в руках золотую щетку для волос с завитками на обратной стороне, ее папа как-то подарил маме на день рождения. Мы смотрели, как мама аккуратно складывает блузки, чтобы положить их в круглую синюю сумку «Самсонайт», перемежая вощеной бумагой.
Мама защелкнула замок чемодана, отряхнула подол кирпично-коричневой гофрированной юбки и сказала:
— Запомните мои слова, вы обе. Слушайтесь Холла и Нелл, не то сами знаете, что будет. — Забрала у меня щетку, хлопнула ею о ладонь и бросила на кровать. — Нынче утром Холл поехал в магазин на машине, так что до больницы я дойду пешком. — Она подняла чемодан и сунула ноги в блестящие черные туфли с бантиками. — Вернусь через неделю или вроде того.
— А нам можно с тобой? — спросила Тру, удивив меня. Обычно сестра не подает виду, что станет скучать.
Мама ответила:
— Не глупи.
Подставила напудренную щеку под наши поцелуи, и только каблучки зацокали по деревянным ступеням, что ведут к крыльцу, да еще дверь хлопнула.
Мы посидели немного, помолчали, но мне было не по себе: нам ведь не положено бывать в маминой комнате, когда ее тут нет. Тру подобралась сзади и прошептала:
— Давай играть в наряды.
Выдвинув ящик с украшениями, она пробежала пальцами по бусам зеленого стекла, по серебряному медальону на длинной цепочке и по старым папиным часам «Таймекс», хотя я думала, что мама отдала их в «Гудвилл индастриз» вместе со всем прочим. Я так обрадовалась, увидев часы, что сразу нацепила их на руку и поднесла к уху. Представляете, они все еще тикали! Тру вытянула бусы и повесила на шею. Потом вывернула вишнево-красную помаду из красивого золоченого тюбика, намазала свои пухлые губы и пожевала ими, как обычно делала мама. Оглядела себя в зеркало, поворачивая голову туда-сюда.
— Ты прямо совсем как она, — поразилась я, глядя на отражение.
Тру улыбнулась, показав перепачканные помадой зубы:
— Знаю.
Я выдвинула второй ящик и увидела карточку папы, лежащую на белом муслиновом платке. Снимок сделали, когда он только-только вернулся из армии, папа был еще в военной форме, но сразу видно, как он рад оказаться дома. Рядом с ним — наша мама, глядит куда-то вдаль, будто не понимая, что папа стоит тут же рядом.
— Пошли, — позвала я, начав тревожиться. Может, если кинуться к окну, что выходит на улицу, мы еще увидим, как мама подходит к больнице, и успеем прокричать что-нибудь вроде: «Скорее выздоравливай!»
Я сняла папины часы и уложила обратно в ящик.
— Давай вытирай помаду.
— Нет! — сказала Тру, а губы ее надулись пуще прежнего.
— Тру…
— Фиг тебе.
— Тру! — Нам не полагалось говорить фиг. Такие слова, уверяла нас мама, произносили только «отбросы общества».
Тру со смехом натянула пару коротких белых перчаток, на которые наткнулась в комоде. Так что я одна кинулась к окну в гостиной и высунулась на улицу. Пахло розовыми пионами вперемешку с шоколадным духом от печенья из пекарни «Хорошее настроение». Маленькая мамина фигурка была уже на углу Норт-авеню. Я не сомневалась, что вижу ее в последний разочек, — сами знаете, что случилось с папой, когда он попал в больницу, — и я принялась звать ее, орала во все горло. Но мама свернула за угол и исчезла из виду. И не вернулась домой «через неделю или вроде того», как обещала.
Глава 05
На следующее утро мы отправились встретиться с Мэри Браун в Вашингтон-парке. От нашей двери до парка 1747 шагов; в парке есть все, чего только может душа пожелать. Даже лагуна, где зимой мы катались на коньках, а летом удили рыбу, — именно там и нашли Джуни. Еще там имелась сцена с раковиной для оркестра, похожей на дом огромного моллюска, куда можно было пойти послушать Музыку-Под-Звездным-Небом, а также бассейн с вышкой для ныряния. И самое лучшее: на дальней стороне парка располагался мой любимый уголок. Зоосад!
Мы уже почти дошли, когда у «Аптеки Питерсона» Тру наклонилась затянуть шнурок на тенниске и говорит ни с того ни с сего:
— Я думаю сбежать во Францию. — И снова молчок.
Я глянула в витрину аптеки и пожалела, что нет десяти центов на содовую: утро еще раннее, а жарища такая, что глаза потом обливаются.
— Во Францию?
Даже не поймешь, откуда она взяла эту Францию, может, в «Библиотеке Финни»? Там детям, прочитавшим больше всех книг, выдают бесплатные билетики в кинотеатр «На окраине». Библиотекарша вела учет нашим именам и количеству прочитанных книжек, двигая колечки вдоль червяка, которого звали Книжный Червь Билли, он висел у двери в мальчуковый туалет. Больше всего на свете Тру любила ходить в кино, поэтому стоило отвернуться библиотекарше миссис Эстер Камбовски (полячка, значит; вот Тру повезло-то!), она двигала колечко со своим именем дальше. И чихать хотела Тру, что это нечестно. У меня имелось свое мнение, но я не перечила сестре, помня об обещании, которое дала папе в больнице. Я так и не рассказала Тру, что папа не считал ее виновницей аварии, потому что она всегда жутко злилась, когда я упоминала аварию, а злая Тру — не очень-то приятное зрелище. Злиться она умела. Ее злость была вот такой ширины, вот такой глубины. Тру становилась как вулкан, плевалась злостью прямо как лавой. И взорваться могла нежданно-негаданно.
Мэри Браун знала, что Тру мухлюет с червяком, и пригрозила рассказать миссис Камбовски. И слава тебе, Боженька, что это Мэри Браун была, ей никто бы не поверил, потому что всякому известно, врать она мастерица.
Однажды она рассказала нам, что пиписька у ее папы похожа на толстенную сардельку. Мэри Браун уверяла, будто знает это наверняка, мол, своими глазами видела, как ее мама с папой обжимались прямо на полу рядом с ванной, откуда, наверное, только что вылезли. Так что Мэри Браун была не просто вруньей, она еще страсть как любила подглядывать. А еще обожала жечь костры. Но на самом деле не сами костры, она с ума сходила по пожарным машинам, которые приезжали после. Мэри была нашей с Тру лучшей подружкой (мы всегда так ее и звали, Мэри Браун, потому что девочки по имени Мэри жили едва ли не в каждой семье нашего квартала, и их нужно было как-то различать). Еще Мэри Браун была самым тощим человеком на свете. То есть таких тощих просто не бывает, если не считать маленьких дикарей, что живут в Африке. Мы с Тру решили, это из-за того, что у нее целых шесть братьев и те наверняка сжирают все до крошки, когда папа Мэри Браун уходит на работу, а мама моет посуду.
Тру считала, будто миссис Камбовски ни за что не поверит врушке Мэри Браун, если та расскажет про мухлеж с Книжным Червем, но все равно разработала один из своих знаменитых планов. На всякий случай.
— У нас с ней вроде как рандеву, — объяснила мне Тру. — Французское слово, оно значит встречу с кем-нибудь.
Мы вскарабкались на разные ветки нашего самого любимого в зоосаде дерева, как раз напротив вольера с гориллой Сэмпсоном, и наблюдали, как Мэри Браун топает по дорожке. Жеваные белые шорты и грязноватая рубаха в красную клетку колыхались на Мэри, делая ее похожей на палку от швабры.
— Возьму и спихну ее в вольер к Сэмпсону, — сказала Тру, придвигаясь к концу ветки. — Бесплатные билеты в кино все равно достанутся мне.
Лично я не сомневалась, что она только заливает и ничего такого не сделает. Почти не сомневалась. После папиной аварии я не всегда могла угадать, что Тру сделает или захочет сделать. Иногда мне даже казалось, что моя сестра чуточку расшибла себе мозги в той аварии, совсем как дядюшка Пол.
Мы соскочили с дерева и повисли на черном зоосадовском ограждении, просто смотрели на Сэмпсона — так, будто не догадывались, что Мэри Браун уже пришла, хотя догадаться несложно: она всегда пахла лежалыми картофельными чипсами.
— На че это вы уставились? — спросила Мэри Браун, подойдя вплотную.
Сэмпсон. Я души в нем не чаяла. Честно. Раньше папа водил нас с Тру в зоосад по воскресеньям, когда мы приезжали с фермы навестить бабулю. Папа тоже не чаял в Сэмпсоне души, он садился, смотрел на него и смеялся вместе с нами. Так что Сэмпсона я знаю практически с самого своего рождения. Только теперь я приходила в зоосад к Сэмпсону всякий раз, когда бывала не в духе. И представляла, что папа сидит рядом со мной на нашей парковой скамейке, обнимает меня рукой и говорит своим глубоким голосом: «Слушай меня, девочка Сэл: большинству людей кажется, будто король джунглей — это лев. Лично я не могу согласиться». А потом папа тыкал пальцем в гориллу, бил кулаком в грудь, и голос у него становился дрожащим: «Я бы ответил этим людям, что король — это наш Сэмпсон. Только погляди на него. Он великолепен!» И тогда я смотрела на Сэмпсона и кивала, будто соглашаясь, но втайне думала про себя, что настоящий король — это мой папа. Король сразу и в небе, и на земле. И он точно был великолепен!
Тут Тру громко сказала Мэри Браун:
— Сэмпсон хочет показать тебе кое-что, только нужно подойти поближе. Он прячет это за спиной. Перелезь через ограду, наклонись пониже — и тогда все увидишь.
Большая любительница подглядывать, Мэри Браун тут же перемахнула через ограду и подошла к полоске травы вокруг ямы с клеткой. Тру поглядела на меня с улыбкой и быстренько оказалась рядом с ней. Не думаю, что гориллы едят людей, но одно падение с такой высоты убило бы тощую Мэри Браун. Та переломилась бы пополам, как кусок засохшей жвачки.
Сэмпсон не сводил с нас пристального взгляда. И притоптывал ногой. Мне всегда чудилось, что он мурлычет себе под нос песенку «Давно я не хожу на танцы». Эта песня была у Этель одной из самых любимых, и она разучила ее со мной. Этель жила на 52-й улице вместе с миссис Галецки, у нас с Тру она была второй лучшей подружкой.
— Эй, Мэри Браун, помнишь про червяка в библиотеке? Ты ведь не расскажешь Камбовски, что я жульничала? — спросила Тру тем сладеньким голоском, которым начинает говорить, если ей позарез чего-нибудь хочется. Бабуля прозвала этот ее голос «кукольным».
Мэри Браун повернулась к Тру:
— Еще как расскажу.
Тут зарычал лев, а два фламинго поспешили спрятаться.
— Точно уверена, что хочешь рассказать? — спросила Тру. — Мне было бы жутко досадно, если бы ты случайно свалилась в яму. Тогда твое тело найдут, только когда придут кормить Сэмпсона. А если Сэмпсон голодный, — тут она заговорила шепотом, — то, может, вообще ничего не найдут, только косточки.
Я решила, что гориллы все-таки едят людей, но Сэмпсона ждало страшное разочарование: на костях у Мэри Браун мяса не больше, чем на вешалке для пальто.
Тру подтолкнула ее ближе к обрыву, и носки черных, наполовину зашнурованных кед оказались прямо над ямой. Она эти кеды будто и не снимает никогда.
— Ты ведь не хочешь спихнуть меня? — спросила Мэри Браун. Тру стояла у нее за спиной, так что бежать было некуда.
— Как раз думаю об этом, — ответила Тру и выплюнула жвачку в яму, чтобы Мэри Браун стало окончательно ясно, с какой высоты придется падать (а я бы не позволила Тру столкнуть ее, говорю на всякий случай).
— Тогда давай, — сказала Мэри Браун, зажмуриваясь.
— Тебя что, совсем не волнует, столкну я тебя в яму или нет? — поразилась Тру. — Если столкну, ты наверняка умрешь и попадешь в чистилище, где будешь томиться целую вечность за все вранье, какое наговорила людям.
— Я никогда не была в кино, мне очень нужны эти билеты, и попкорн, и газировка. — Мэри Браун набрала полную грудь воздуха и долго не выдыхала. — Я отдам их только через мой труп. И я в жизни ни словечка неправды не сказала, Тру О’Мэлли.
— Вот это вранье так вранье, — хмыкнула Тру. Она посмотрела на меня, я — на нее, и мы снова уставились на Мэри Браун, которая отчего-то вдруг напомнила мне святую Жанну д’Арк. — Ладно-ладно, я просто пошутила, — засмеялась Тру и потянула Мэри Браун прочь от обрыва. — Беги, рассказывай Камбовски.
И я сразу, из-за умения читать мысли сестры, поняла, что Тру уже обдумывает новый план действий, в котором библиотекаршу ждет неожиданная концовка.
Мэри Браун отступила от Тру и поглядела на нее так, будто ничего не случилось.
— Ты знаешь, кто такая Сара Хейнеманн?
— Конечно, — ответила Тру.
Мы направились к зеленой скамейке напротив клетки с Сэмпсоном. Тру протянула нам по кусочку «Даббл-баббл», запас которых у нее, кажется, никогда не кончался.
Мэри Браун сунула резинку в рот и сказала:
— Она пропала.
— То есть как? — переспросила я, разглядывая комикс про Пуда на вкладыше в жвачку.
— А вот так. Сара пропала. Уже пару дней ее не видели, — объяснила Мэри Браун. — Папа предупредил, чтобы я не разговаривала с незнакомцами.
Я закрыла глаза, стараясь представить девочку, которую, кажется, как раз и звали Сара Хейнеманн.
— Третьеклассница со светлыми волосами на резинке, обожает играть в вышибалы?
Мэри Браун закивала:
— Живет в четырех домах от нас. Ее, наверное, похитили, совсем как меня.
Тру покосилась на меня и завела глаза. Прошлым летом Мэри Браун рассказала нам, будто ее украли цыгане, увезли ненадолго в Венгрию, заставляли носить в ушах серьги размером с хула-хуп и предсказывать будущее в палатке на пыльной обочине. В общем, вся история с Сарой Хейнеманн оказалась очередной выдумкой из тех, на какие Мэри Браун горазда. По какой-то причине, которую я не могла взять в толк, Мэри Браун обожала россказни про похищения. И про пиписьки.
— Да найдется она. Просто заблудилась, наверное. Обычное дело, — сказала я.
Но про себя решила, что если Мэри Браун говорит правду и Сару действительно украли, живой ее уже не найдут. Точно так же было и с Джуни. Сперва она исчезла, а потом у лагуны нашли мертвое тело. После похорон Джуни я немного переживала, что Тру тоже могут похитить. Бабуля отвела меня домой, вручила булочку с корицей и попросила не быть такой мнительной. Подобные убийства, вроде как с Джуни Пяцковски, случаются не чаще, чем раз в жизни. Надо сказать, бабуля редко ошибалась. Впрочем, она же то и дело повторяла: все когда-нибудь случается впервые.
— Знаете, чего б я хотела сделать? — спросила я. — Я бы выкрала Сэмпсона и вернула домой, к его семье.
Мэри Браун расхохоталась и говорит:
— Знаешь, О’Мэлли, а ты странная. Похитить гориллу и взять домой… Вот где нелепица!
И это она говорит про нелепицы.
— А по-моему, классная мысль, — возразила ей Тру. — А по дороге туда мы могли бы заехать во Францию.
Мэри Браун опять покатилась и смеялась, пока Тру не влепила ей тумака:
— Что такого смешного во Франции?
— Да что ты знаешь про Францию? — спросила Мэри Браун, даже не поморщившись.
— Между прочим, я про Францию много чего знаю.
— Ага. — И Мэри Браун соскочила с лавки, подальше от Тру.
— Французы говорят на языке любви, — сказала я, глядя на Сэмпсона.
— Oui, — прошептала Тру.
— Чего за «уви»? — растерялась Мэри Браун.
— Лучше молчи, — посоветовала ей Тру, — а то передумаю и все-таки спихну тебя в яму. — И тоже соскочила с лавки.
Тут Мэри Браун оттолкнула Тру и рванула прочь. А я схватила сестру и держала, чтобы та не сорвалась следом. Тру пыхтела, готовясь взорваться. Высвободилась, развернулась, да как заорет мне прямо в лицо:
— Ну держись, Салли О’Мэлли… твои дни сочтены!
Вечно Тру как в воду глядит. Гений, одно слово.
Глава 06
— Да это жрать нельзя! — рявкнул Холл.
Он сидел за кухонным столом, изо рта торчала сигарета, пепел сыпался на чудесные белые тарелки, для покупки которых мама целый год откладывала зеленые купоны «S&H». Нелл опять постаралась соорудить нам обед, да только макаронная запеканка с тунцом и картофельными чипсами загорела дочерна, в разогретой консервированной фасоли совсем не осталось жидкости, и даже яблочный соус был на вкус какой-то не такой.
Уже две недели мама лежала в больнице, а ведь это она у нас общалась с Холлом, так что мы втроем просто не знали, что и сказать. Я по большей части попросту старалась не пялиться на его белую майку — без рукавов, чтобы все видели татуировку МАМА на мускулистом бицепсе. Волнистые лохмы Холла выглядели точно так же, как и утром, едва он продрал глаза. От глянцевитых волосин в подмышках у Холла несло пивом, которое он хлестал.
Холл еще разок затянулся сигаретой и объявил ясно и громко, будто мы глухие:
— А я не нанимался нянчиться с вами тремя. Вы мне даже не родные.
Нелл пробормотала, что просит прощения, и собралась вымыть посуду, но только Холл ухватил ее за руку и зарычал: «Усади свою задницу обратно». Потом, правда, передумал и говорит: «Ладно, неважно, принеси мне пива», да так сильно пихнул Нелл, что та отлетела к плите, а ее нарядный сарафан задрался аж по пояс.
У меня защипало в глазах, а Тру глядела в пол, быстро-быстро облизывая губы, — она всегда так делает, когда волнуется. Наверное, опять в маминой комнате побывала: в уголках губ следы вишневой помады и легкий аромат «Вечера в Париже». Красная, точно у нее жар, Нелл одернула сарафан и распахнула холодильник. Там внутри особо ничего и нету, отыскать бутылку «Пабст Блю Риббон» совсем не сложно.
Холл сделал долгий глоток из бутылки, которую ему протянула Нелл, обтер губы ручищей и сказал:
— Знаете ли, мы с вашей мамой… — тут он громко рыгнул, — у нас давно уже не клеится, и в придачу ко всему в обувном магазине тоже дела не ахти.
— Быть не может! — прошептала Тру самым ехидным своим голосом.
Холл так быстро протянул руку над столом, что даже я не поняла, что сейчас будет, не говоря уж про Тру. А он влепил ей подзатыльник. Крепко влепил. Тру только уставилась на него сквозь волосы, которые разметались по лицу, но не сказала ни словечка. И тогда он влепил ей снова. Крепче прежнего. Если Холл собирался заставить Тру захныкать, ему следовало знать: она никогда не плачет. От удара сам Холл покачнулся вместе с табуретом и упал, да так и остался лежать на грязном рыжеватом линолеуме, всхлипывая: «Хелен… Хелен… Хелен…»
Три сестрички переглянулись, встали и вышли на крыльцо, слушали там цикад и молчали. О чем уж тут говорить. Что скажешь про мужика, с которым живешь под одной крышей, а толком его не знаешь, да и не хочешь знать, и вот он валяется на полу в кухне, повторяя имя твоей мамы. Хотя потом, уже когда фонари зажглись, Тру — ну не умеет она подолгу молчать — буркнула:
— Вот ведь мудак сраный.
Нелл сыпанула «Пшеничку» в две миски, развела остатками молока. И встала к раковине надраивать тарелки с прошлого ужина, потому что дух от завядших кусков тунца шел не особо приятный.
— У мамы что-то еще не ладится, кроме желчного пузыря. Я вчера хотела вам сказать, но потом…
Тру подняла голову от миски и говорит:
— Что с ней опять не так? — упрямо, с раздражением, и раз — ложку хлопьев в рот.
Я люблю Тру всем сердцем, но готова признать: временами, если припечет, она умеет вредничать похлеще мамы.
— Доктор Салливан дал мне вот это. — Нелл обтерла руки о шорты и выдвинула табурет рядом со мной. Мы смотрели, как она вытаскивает клочок бумаги из кармашка блузки и разглаживает на столе.
Гепатит.
— Это болезнь, из-за которой воняет во рту? — спросила Тру. — Мне Вилли рассказывал. Он сказал, ею болеет доктор Салливан, и…
— Нет же, глупая! — вскинулась Нелл. — Та болезнь называется галитоз.
Меня впечатлило, что Нелл это знает. А может, просто все выдумала, чтобы мы с Тру опять почувствовали себя дурочками. Как раз в ее духе.
— Доктор Салливан говорит, гепатит — это болезнь маминой печени, — голос у Нелл вдруг сделался неразборчивым, — и это плохо.
Она убежала в свою спальню и хлопнула дверью. У Нелл собственная комната, ей не надо ютиться вдвоем с кем-то, как нам с Тру. Если бы мне захотелось перечислить, кого в нашей семье любят больше, я бы вручила Нелл первый приз. За ней — Тру с небольшим отрывом, а я… в общем, было во мне нечто такое, что заставляло маму грустить, глядя на меня. Я порой ловила на себе этот ее печальный взгляд, уж и не знаю отчего. Из-за моего воображения, наверное.
Уже после разговора о гепатите — может, с неделю спустя — Нелл сказала, что здоровье у мамы совсем пошатнулось. Теперь она подхватила болезнь под названием стафилококковая инфекция, и это очень скверная болячка. Гораздо хуже, чем можно подумать. Даже мне, с моим воображением, бесполезно стараться. Нелл просто плакала и плакала — до тех пор, пока Тру не заявилась к ней в спальню, не стукнула кулаком и не посоветовала заткнуться к чертовой бабушке.
Мама провела в больнице Святого Иосифа почти весь июнь. Похоже, она могла пропустить и празднование Четвертого июля. Жуткая досада, ведь однажды я слыхала, как мама говорит лучшей своей подруге, миссис Бетти Каллаган, что ей стоило назвать Тру «Петардой», вот до чего наша мама любила Четвертое июля.
К тому времени Холл по большей части перестал являться домой. А Нелл стала раздражать Тру — настолько, что та, едва завидев сестру в белой блузе и кожаных туфлях, сразу заводила пластинку про Элвиса… Элвиса… Элвиса. Я-то считала, что Нелл ничего. Не фонтан, конечно. Но я старалась не забывать папины слова: в мире есть сестры и похуже, чем наша Нелл. Хотя Тру бывала сыта ею по горло — до такой степени, что начинала гоняться за Нелл по всему дому, ловила где-нибудь и, поднеся к губам зубную щетку, как микрофон, принималась горланить «Ты не кто иная, как охотничья собака»[5] — опять и опять, пока Нелл не теряла терпение и не давала ей хорошего щелбана. Тогда мне приходилось успокаивать Тру, а потом дарить что-нибудь ценное вроде любимого стеклянного шарика с металлическим блеском внутри, чтобы та пообещала, что не станет пытаться придушить Нелл во сне.
Тем утром, когда Нелл рассказала нам про мамину стафилококковую инфекцию, я решила, что неплохо бы сходить в церковь и немного помолиться, — хоть и считала, что Бог давно оглох и не слыхал ни единого слова из тех, что я ему наговорила. Нелл не захотела пойти со мной, потому что спешила в «Автомастерскую Филларда» на встречу со своим парнем, Эдди Каллаганом, который там работает, а библиотекарше миссис Каллаган доводится сыном.
Мне больше всего нравилась церковь Богоматери Доброй Надежды, при ней была воскресная школа, а еще она в шести кварталах, и сестры О’Мэлли могут дотопать туда на своих двоих. Правда, идти нужно мимо дома Жирняя Эла Молинари, отчего у меня вечно портилось настроение, ведь Тру мало что так любила, как встать напротив его выкрашенного желтым дома и громко объявить: «Жирняй Эл говняшку съел!» Она по-всякому его обзывала: то итальяшкой, то макаронником, то говорила, у него спагетти вместо мозгов, а то еще, если совсем на взводе, затянет песню Гарри Белафонте под названием «Дайо», только пела она по-другому: «Жирняйо… жирняйо».
Она даже не сомневалась, что прошлым летом именно Жирняй Эл угнал ее велосипед, и до сих пор рвала и метала. Заставить ее прекратить мне нипочем не удавалось, хотя — Бог и папа мне свидетели — старалась я как могла, но только все кончалось тем, что Жирняй Эл гнался за нами полдороги в школу, угрожая убить, если только поймает, да только зря грозился: у него правая нога кривая из-за палимилита. Впрочем, мог и догнать. И я всегда говорила Тру: «Что ты станешь делать, если он тебя поймает? У него же ножик есть».
Тру начинала смеяться, и смеялась долго, а в глазах у нее появлялось дикое выражение, будто наплевать ей, догонит ее Жирняй Эл или нет. Меня это беспокоило. Почти каждый день я жалела, что рядом нет папы, он бы заставил сестру угомониться, а не то, похоже, этот дикий блеск в глазах не доведет Тру до добра.
В то утро сестра плелась сзади, слегка дуясь: я объявила, что нынче не в настроении убегать от Жирняя Эла, так что послушалась бы Тру маму и вела себя как следует. Она шла, пиная перед собой камешек, — любила так делать, когда думала о чем-то, — а потом спросила тихонько, так что я едва расслышала:
— Ей ведь станет лучше, правда, Сэл?
Я не стала оборачиваться: тогда уж Тру разозлилась бы всерьез. Она терпеть не может, когда на нее смотрят в те минуты, когда она бросает «насвистывать в темноте». Я сообразила, что значит это выражение, приглядевшись к деталям. Все-таки артерии у бабули и не думали твердеть. Мама и Тру и впрямь были двумя горошинами в стручке — обе старательно делали вид, будто все в порядке, хотя дела шли так себе.
— Ага, у нее все будет хорошо, — сказала я, не оглядываясь, а сама задумалась: если не будет — что тогда? Мы с Тру так и будем жить с Холлом и Нелл? Или, может, переберемся к бабуле и дядюшке Полу? Ну, тогда Тру точно не обрадуется.
— А вдруг умрет, что мы станем делать? — Тру пнула камень посильнее, и тот проскочил мимо меня. — Думаешь, нас отправят в приют?
Каждый год незадолго до Рождества наш скаутский отряд навещал сиротский приют на Лисбон-стрит, названный в честь святого Иуды, который был святым покровителем безнадежно больных. Кто-то совершил жестокий поступок, назвав так приют: каково там живется бедным сироткам? Мы пели им хорал «Что это за Дитя?» и дарили подарки вроде открыток, завернутых в зеленую бумагу и перевязанных красными ленточками. Я все это терпеть не могла. Не могла стоять и смотреть на бедных детишек, у которых ни мамы, ни папы и вообще никого, кому они были бы не по фигу.
— Ни за что! — ответила я. — Не будем мы жить в приюте, никогда. Обещаю.
У дома Пяцковски Тру остановилась. Двор весь зарос травой, дом будто вот-вот рассыплется, а рядом с крыльцом валяется гипсовый Иисус. Мало кто видел мистера и миссис Пяцковски после похорон Джуди.
— Наверное, это почти самое плохое, что может случиться. Быть убитой вот так, — сказала Тру.
Притихнув, мы зашагали дальше. Я шла и размышляла, что с человеком может, наверное, случиться и что-нибудь похуже.
После мессы пол-округи высыпало на церковную лужайку, и я слышала, как миссис Каллаган, лучшая мамина подруга с незапамятных пор, грустно так сказала миссис Бюшам:
— Наконец-то Хелен может побыть в покое.
На что миссис Бюшам ответила:
— Я слыхала, Холл стал встречаться с Рози Раггинс.
Подслушивать, конечно, нехорошо, но мне никто-никто не говорил, что маме становится лучше, а мне позарез надо было выяснить, как она, чтобы подготовиться на тот случай, если все пойдет не так. Из слов миссис Каллаган я поняла, что мама, возможно, умирает: разве на папином надгробном камне не написано «Покойся с миром»? И что там миссис Бюшам говорила про Холла? Это означало, наверное, что он запал на Рози Раггинс.
Миссис Каллаган повернулась, увидала нас и явно удивилась:
— О, сестрички О’Мэлли, привет!
Я глядела на церковное крыльцо за голыми ногами миссис Каллаган. У нее на лодыжке тонкий золотой браслет, а еще она порой расстегивала слишком много пуговок на блузке. Бабуля рассказывала, что мама и миссис Каллаган были в молодости те еще дикие кошки, покуда жили в соседних домах через улицу от пекарни.
Миссис Каллаган нагнулась ко мне и спросила:
— У вас все хорошо, Салли?
Я старалась не заплакать, хотя в глазах вовсю щипало: миссис Каллаган пахла совсем как мама, и готова спорить, на завтраки она готовит своим детям яичницу-глазунью.
— Чудесно, миссис Каллаган, — ответила я ей. — Холл просто замечательно заботится о нас. Мама ведь скоро поправится, правда?
Миссис Каллаган сказала:
— Видишь ли, мой отец очень болен, он лежит в ветеранском госпитале, поэтому я не так часто ходила проведать Хелен, как мне бы хотелось, но я не сомневаюсь, что у нее…
Тут она и сама заплакала. Я просто не могла этого вынести — и Тру, видимо, тоже, потому что сестра дернула меня за руку, и мы обе нырнули в толпу.
Глава 07
Я наврала миссис Каллаган с три короба на случай, если та пойдет навестить маму в больнице, — ну, чтобы она не сильно маму расстроила. А правда в том, что Холл вовсе не так уж шикарно о нас заботился. Мы с Тру дома даже и не ели почти ничего, потому что Холл круглыми сутками напивался в «Боулинге Джербака». Так что миссис Бюшам, наверное, правду сказала, что он встречался с Рози Раггинс, а как с ней разминуться, если та была официанткой и разносила там напитки. А наша Нелл сильно занята своим Эдди, так что готовить для нас даже не собиралась. И это нас устраивало, потому что тут, к несчастью, я вынуждена согласиться с Холлом, один-единственный разочек: стряпня нашей сестры все-таки была несъедобна. Кроме того, Нелл постоянно твердила, будто собирается поступить на курсы красоты, и теперь проводила немало времени, разводя лосьон «Тони Пермс» на нашей кухне, отчего там стало вонять похуже, чем в туалете на автозаправке. Стараниями Нелл половина девушек в нашем квартале теперь выглядят так, будто дружно ткнули пальцы в электрическую розетку.
Есть, впрочем, хотелось, да так, что Тру пришлось выдумать очередной знаменитый план, и мы стали заглядывать к знакомым незадолго до обеда. Вчера мы ели у О’Хара, хотя пир не задался. Ну не люблю я печенку, сколько бекона на нее ни сложи. Так что сегодня мы пошли в гости к Быстрюге Сьюзи Фацио, потому что кормят у них лучше всех в городе. Фацио были нормальными итальянцами, не то что Молинари. Тру говорила, это потому, что Фацио родом из итальянского города под названием вроде Пицца, а Молинари из какой-то другой части Италии, не такой вкусной.
Всего там жили десять Фацио плюс их общая Нана, что по-итальянски значит «бабушка». В общем, я не думаю, что кто-то из них заметил, как мы с Тру достали себе из шкафчика над раковиной по тарелке и придвинули кухонные стулья к тому краю стола, где уже сидела Быстрюга Сьюзи. В кухне всегда пахло чесноком, Нана щедро крошила его во все блюда без разбора.
Я сидела как раз напротив Наны и старательно улыбалась ей, хотя и знала, что ответа не дождусь. Это все потому, что она Стрега Нана… ведьма то есть. Перечить ей даже не думайте: другие итальянцы являлись к ней со всего города, приносили разные вещи, а она говорила им что-то по-итальянски и махала руками, разгоняя злых духов, а одевалась всегда так, будто на похороны собралась. Быстрюга Сьюзи говорила, хоть я ей и не поверила, что Нана обрызгала мочой чью-то новую машину, вроде как заколдовала от аварий. Я старалась не думать про это, когда потянулась мимо одного из старших братьев Быстрой Сьюзи за ломтем того вкусного тонкого хлеба с маслом.
— И как поживает ваша мама? — спросил Джонни Фацио, стоило мне набить рот хлебом.
Джонни ужасно похож на знаменитого киноактера Эрла Флинна, которого мы с Тру видели в том фильме на Утреннем Сеансе Старого Кино. Фильм назывался «Капитан Блад», а Эрл играл там пирата. Нам кино понравилось, а у Джонни в точности такие же тоненькие усики, как у Эрла, темные волосы волной зачесаны назад, и он поет в группе «Ду-Вопс», которую все старшие девочки считают отпадной.
— Э… вот ты, — он пихнул меня, — как зовут-то тебя… Я спросил, как поживает ваша мама.
— Прекрасно поживает, — вместо меня ответила Тру.
— Не собирается умереть, ничего такого? — спросил Джонни.
Его слова повисли в воздухе как вонища от скунса, так что все прекратили жевать. И тут стул Наны Фацио как скрежетнет по полу. Груди у Наны такие длинные, что она затягивает их ремнем, а по-английски говорит не очень-то складно, но плохую шутку может распознать на любом языке. Так вот, Нана встает и принимается снимать свой ремень, которым груди подвязаны к туловищу.
Я притворилась, будто ничего не замечаю, и потянулась к вкуснющим фрикаделькам в томатном соусе.
Но тут из маленького тела Наны Фацио — а по правде говоря, она почти что карлица — вдруг полетели слова, она протопала к нашей стороне стола и огрела Джонни по плечам своим ремнем.
— Никогда не говори такой! Это же мама девочка, не смей говори про то, что она умирай, капиче! — гаркнула Нана. Ни за что не подумаешь, что такая маленькая старушка умеет так зычно кричать. — Тупой мафиозо!
Стало по-библиотечному тихо, только слышны кап-кап из крана да мотор газонокосилки. И тогда ни с того ни с сего Тру вдруг запела: «Que sera, sera. Чему быть, того не миновать. Будущего нам не угадать. Que sera, sera…»
И все разом уставились на Нану Фацио, стоявшую с ремнем в руке. Наверное, подумали, как и я, что Тру рискует жизнью. Нана придвинулась к Тру поближе, и я было решила, что она сейчас наложит на нее проклятье или хлестнет ремнем, как своего Джонни, но вместо этого она уперла в Тру глазки, ужасно похожие на черные оливки, и спросила ласково:
— Тебе, детка… тебе нравись Дорис Дэй?[6]
Тру помедлила, а потом и говорит:
— Вообще-то я считаю, что лучше Дорис Дэй — только вот этот тоненький хлеб.
Губы Наны медленно-премедленно раздвинулись в улыбке. Тут я и поняла, от кого Быстрюге Сьюзи острые клыки достались.
— Я тоже, — сказала она. — Я тоже нравись Дорис Дэй. Ты и твоя сорелла можешь кушать здесь когда захотишь и сколько захотишь.
Нана перегнулась через меня, сунула большую серебряную ложку в белую миску и плюхнула три фрикадельки с подливой мне на тарелку.
Гениальная у меня все-таки сестренка!
Тем вечером Тру хотела заночевать в мансарде у Фацио, и я не стала возражать. В прошлый раз, когда мы пришли домой, дверь оказалась заперта. Кроме того, мы с Тру знали, что если Нелл нас поймает, то не миновать нам обеим завивки волос, и люди подумают, будто мы весь день носились на лодке-моторке.
Игру в «Красный свет, зеленый свет» пришлось отменить, потому что собирался дождь, так что большую часть вечера мы провели, слушая истории Быстрюги Сьюзи в мансарде, где света почти не было, не считая мутной лампочки высоко под потолком.
Быстрюга Сьюзи сидела по-турецки, лицом к нам с Тру, на сером матрасе в пятнах.
— Так вот, когда грабители могил выкопали всех этих мертвецов, они отвезли их в замок доктора Франкенштейна в маленькой трехколесной тележке. — Она говорила своим «запасным» голосом, сиплым и жутким. — Тут начался ливень, а гробокопатели такие уродливые, тощие, то и дело кашляют, пьяные в стельку, а волосы у них грязными сосульками висят.
Мимо окна мансарды прокатился раскат грома, стекло затряслось; немного погодя сверкнула молния, отпечатавшись у меня в глазах, и я сразу вспомнила нашу ферму.
Я поглядела на Тру. Сестра терла ту руку, что сломалась при аварии, и неотрывно смотрела на Быстрюгу Сьюзи.
— И тогда доктор Франкенштейн сложил мертвецов на черный-черный стол в своей работалории и взял пилу, чтобы распилить их на мелкие кусочки!
Молния полыхнула опять и осветила всю мансарду, забитую коробками, и чемоданами, и одной штуковиной, которая уже намозолила мне глаза. Это был мертвец без рук, без ног, и стоял он в углу под окном. Быстрюга Сьюзи говорила, что Нана примеряет на мертвеце одежду, которую шьет.
— И тогда, — зловеще хрипела Быстрюга Сьюзи, — тогда доктор Франкенштейн сшил все кусочки вместе и сделал во-от такого монстра, — тут она раскинула руки, — и доктор Франкенштейн положил его на другой стол, прицепил к нему все свои приборчики, и когда молния попала в замок, электрическая сила ударила в приборы и ушла в монстра, и доктор Франкенштейн как завопит: «Он живой! Живой!»
Быстрюга Сьюзи спрыгнула с матраса и принялась, выставив руки, гоняться за мною и Тру, а мы визжали, пока снизу кто-то не заорал:
— Заткнитесь вы, наконец, тут люди спят!
Рассказав про Франкенштейна, Быстрюга Сьюзи показала нам свои грудки и сказала, что у нас у обеих тоже такие будут и, кто бы поверил, мальчишки станут с ума по нам сходить! Она сказала, можно потрогать, если хочется. Я не стала. Потом Тру рассказала, что на ощупь они как воздушные шарики с водой внутри, только теплые.
Когда дождь замолотил в окно, я постаралась уснуть, да только мансарда была как слишком тяжелое покрывало, обернувшееся вокруг меня, и думать я могла только про Франкенштейнова монстра, который убьет нас троих, пыхтя под нос: «Мне… мне… мне… вы нравись». Ох, ну до чего же классно Быстрюга Сьюзи рассказывает истории! Прямо так и видишь все! Я даже вспотела от страха, когда с лестницы донеслось шарканье, — это по скрипучим ступеням к нам в мансарду поднимался монстр. А когда стало совсем невмоготу, я вскочила с вонючего старого матраса и решила, что даже если Холл уже храпит, напившись до ручки, мне плевать, хочу домой.
Если верить Быстрюге Сьюзи, Франкенштейн не умел быстро бегать, потому что его ноги принадлежали раньше двум разным людям, так что я решила, что смогу удрать от него. Ведь и папа всегда говорил, что я настоящая бегунья. Несешься как ветер, Сэл, так и говорил. Несешься как ветер. Мне было неловко оставлять Тру в гостях, но если кто-то и мог уберечь ее от Франкенштейна, так это Нана, которая и монстру запросто могла всыпать своим ремнем. Так что я осторожно спустилась по ступенькам и шмыгнула через заднюю дверь на аллею, с зажатыми в руке теннисками, — тихо-тихо.
На Влит-стрит почти всегда звучала музыка, и днем, и ночью, несмотря ни на что. Вот только в ту ночь, стоило отгреметь грозе, все стало черное и тихое, только цикады стрекотали да лаял глупый пес семейства Мориарти. Я прокралась через задний двор Фацио, мимо дома Бюшамов, которые жили с ними по соседству. И на миг мне примерещилось, будто во дворе у Бюшамов что-то двигается. Шевелится там что-то. Я во все глаза уставилась в ту сторону, но все уже затихло. Лишь ветер, оставшийся порезвиться после грозы, раскачивал качели во дворе. Но позади меня кусты, что свешивались через забор Донованов, шелестели так, будто там кто-то шебуршился. Вроде Франкенштейна. В этой черной темноте, совсем одна, без Тру, я перепугалась, как никогда в жизни. И быстро зашагала по улице. И вспомнила вдруг о растворившейся в воздухе Дотти, а потом о мертвой Джуни Пяцковски и про слова Мэри Браун — о том, что Сара Хейнеманн тоже пропала. И после таких мыслей я уже неслась во всю прыть. В ушах так громко звенела тишина, что я едва слышала шаги позади. Но все же слышала. И видела тень, которую свет от гаража вытянул подлиннее. Мне бы обернуться посмотреть, кто это, прямо там и тогда. Или кинуться обратно к Фацио. Но я не стала. Просто вдруг застыла от страха — как на верхотуре вышки для прыжков в бассейн. Права все-таки Тру: когда Господь раздавал храбрость, я, должно быть, отлучилась по-маленькому.
Но я знала, кто за мной идет. Тот самый человек, который, как я втайне и думала, убил Джуни Пяцковски. Я поняла, кто ее убил, еще в тот день, когда нашли Джуни, но никому не рассказала, потому что люди только поцокают языками и опять скажут что-нибудь гадкое про мое воображение. Все только и охали, до чего же сильно он любит маленьких девочек. А он-то и гнался за мной. Полицейский по фамилии Расмуссен.
И я снова сорвалась на бег и по тому, как зачастили шаги моего преследователя, поняла: он тоже побежал. Я неслась так быстро, что чуть не упала, и была уже почти дома, но дыхание раздавалось прямо за спиной. Еще миг — и он схватит меня. Но он вдруг споткнулся и прохрипел: «Черт!» А я влетела в калитку Кенфилдов и заползла под колючие кусты, которые растут рядом с их гаражом. Только мой преследователь не сдался. Калитка, которую я захлопнула, скрипнула снова. И я услыхала шаги — сначала по дорожке, а потом они зашелестели и по траве. Он подошел прямо к тому месту, где я спряталась. Стоило руку протянуть — и можно коснуться его носков в розовые и зеленые ромбики, я отчетливо различила рисунок в свете фонаря над задним крыльцом Кенфилдов. Носки торчали из грубых черных ботинок на пористой подошве. Я слышала, как он дышит, вдох-выдох, вдох-выдох. А потом тихо говорит нараспев: «Выходи, выходи… Где же ты прячешься, Салли?»
Глава 08
Утром я проснулась в самой глубине зарослей у Кенфилдов и подивилась, как это мне удалось уснуть. Исцарапанные руки немного кровили, так что я почистила их, облизала особенно глубокую ранку на пальце и подумала, что Бог поступил бы умнее, если бы сделал кровь хоть немного похожей по вкусу на шоколадный батончик «Три мушкетера». И только потом вспомнила, как Расмуссен гнался за мной ночью, и сердце тут же заколотилось, прямо как тамтамы, когда в фильме-вестерне индейцы готовятся напасть на ковбоев.
Миссис Кенфилд уже развешивала белье на веревке. Может, просто выкатиться ей под ноги и сказать: «Доброе утро, миссис Кенфилд. Вам помощь не нужна?» Ага. Она сразу спросит: «А какого дьявола ты забыла под моими кустами?» А поскольку врунья я так себе, не чета Тру, я тут же и выложу ей про мое бегство от Расмуссена, и тогда она этак покачает головой и скажет голосом, способным разбить сердце: «Ох, Салли, ты опять за старое». Потому что всего только в прошлом году я рассказала ей, что думаю, будто ее муж — шпион, потому что он вел себя совсем как шпион, весь такой скрытный и молчаливый, каждый вечер садится на крыльце в кресло-качалку и только и делает, что курит, точно дожидается шпионского пакета с секретными инструкциями. В общем, я поняла — если расскажу миссис Кенфилд про ночную погоню, она тут же побежит в больницу и заявит маме, что я опять дала волю своему воображению. Поэтому я так и лежала под кустом, повторяя «Аве Мария», пока миссис Кенфилд не взяла бельевую корзину под мышку и не ушла в дом.
Так кому же можно рассказать про человека по фамилии Расмуссен, который любит махать рукой, если ты проходишь мимо его дома, и этак сладко улыбаться, будто потерял что-то и сейчас спросит, не поможешь ли ты поискать? А кому тут расскажешь, если этот человек в придачу еще и полицейский? Я ничуть не сомневалась, что Расмуссен — убийца. Во всем его облике было нечто убийственное, как у злодеев в кино. Такой правильный, вежливый, а копнешь поглубже — и внутри одно злодейство.
Может, Холлу рассказать? Но я что-то не могла припомнить, видела ли я Холла хоть раз за всю прошлую неделю. Может, рассказать другому полицейскому, который ходит по нашему району, офицеру Риордану? Он отличный дядька, но Вилли говорил, будто Расмуссен — начальник офицера Риордана… Нет уж, лучше расскажу все Тру. Она гений, сразу придумает, что делать.
Я выползла из-под кустов, обогнула дом Кенфилдов и посмотрела вдоль квартала. Напротив дома Бюшамов сверкала огнями карета «скорой помощи», а двое санитаров выкатывали с крыльца носилки. Миссис Рути Бюшам стонала и молилась одновременно, а ее муж Билл прижимал жену к себе. Бюшамовские дети топтались рядом, а у забора уже собралась целая толпа зевак. Самые маленькие Бюшамы захлебывались в плаче.
Тру сидела на бордюре рядом с Быстрюгой Сьюзи. Они с аппетитом поедали оладьи, которые, наверное, Нана нажарила им к завтраку. Я шлепнулась рядом с ними, и Быстрюга Сьюзи тут же сунула мне половинку своего оладушка.
— Что происходит? — спросила я, запихнув в рот пышный кусок теста. Уууух, вкуснотища. Еще теплые. — Кто на носилках?
— Венди, — ответила Тру. — Ее нашли в погребе у Донованов. А ты где болталась, кстати говоря?
— Меня вчера ночью… — начала я, но осеклась. Простыня, которой была укрыта Венди, была запачкана кровью.
Венди Бюшам всегда мне нравилась, хоть она и монголоид[7]. Такая милая, с прямыми черными волосами, и с вечной глупой улыбкой, и с таким странным говорком, будто семейство Бюшамов удочерило ее в какой-то далекой стране — в Монголии, например; у нее и глазки как щелочки.
Весь наш район затих и молчал, пока санитары с лязгом не впихнули носилки внутрь и «скорая помощь» не сорвалась с места и не умчалась в больницу Святого Иосифа. Я хотела спросить у санитаров, как там наша мама, но они к этому моменту уже полквартала проехали.
Я дернула Тру, она вскочила вслед за мной, мы попрощались со всеми, дошли до нашего дома и уселись на крыльце. Я была чуточку сотрясена: ну правда же, все это так неожиданно. Даже забыла, что собиралась пойти проведать Этель.
— Знаешь, чего я думаю? — спросила я.
— Чего?
Откинувшись на верхнюю ступеньку, Тру разглядывала небо.
— Я думаю, это Расмуссен напал на Венди.
С минуту Тру ничего не отвечала, а потом ткнула в облако и говорит: «Смотри, Салли, лошадка!» — и давай смеяться. Ей казалось ужасно забавным, что мне нравятся лошади. Я ей так и не рассказала, что это из-за Небесного Короля и его ранчо «Летящая Корона».
— Хватит тебе! — одернула я сестру. — Я серьезно. Думаю, Расмуссен сделал что-то с Венди, и еще я думаю…
Тру выпрямилась и перебила меня:
— Уж пора бы тебе перестать думать. Помнишь, мама говорила, чтобы ты укрощала воображение? Полицейские так не поступают. Они все на Библии поклялись, что не станут совершать плохих поступков.
— И я говорю не только про Венди, — упрямо продолжала я. — Прошлым летом я видела Расмуссена с Джуни Пяцковски на полицейском пикнике. Они вместе запускали воздушного змея. А потом ее убили.
— Ну ты даешь! На полицейском пикнике все только и делают, что разгуливают туда-сюда с полицейскими. Расмуссен просто играл с Джуни.
Знаем мы эти игры. Я видела их вдвоем. Расмуссен улыбался Джуни этакой непростой улыбочкой. И руку клал ей на плечо. Что-то странное было между ними, и вовсе не только воздушный змей.
— Он погнался за мной прошлой ночью, — сказала я.
— Кто?
— Расмуссен.
— Не заливай! — фыркнула Тру и вытащила из кармана веревочку, которую таскает с собой на случай, если станет скучно.
— У него были носки с розовыми и зелеными ромбиками, он звал меня по имени, и мне пришлось заночевать под кустом во дворе у Кенфилдов, и… мое воображение тут ни при чем. — Я показала сестре царапины и грязь на одежде. — Все не как в тот раз, когда я решила, будто в Грубияна вселился дьявол. И не как тогда, когда мне показалось, что мистер Кенфилд — шпион. Совсем не так!
Тру обмотала веревочкой пальцы, сплела «кошкину люльку» и сказала — так, будто лимон проглотила:
— Значит, как с Тварью из Черной Лагуны?
— Хватит!
А я-то надеялась, что хотя бы Тру мне поверит. Но порой, клянусь вам, я любила сестру намного больше, чем она меня. Я не стала ей напоминать про то, как мама просила ее творить благие дела, а ведь могла бы. Может, и стоило. Еле сдержалась, так и подмывало напомнить.
Тру вздохнула этак протяжно, совсем как мама, будто это последний глоток воздуха на планете Земля и она хочет вдохнуть его целиком, никому не оставив ни крошки.
— Ты ведь знаешь, Венди любит бродить по округе, все ее ищут и находят в зоосаде или на берегу у протоки, а один раз она дошла до Норт-авеню и танцевала в магазине пластинок.
Сестра говорила своим «рассудительным» голосом, который я терпеть не могу.
— Наверняка так все и было, — продолжала Тру. — Венди бродила там и сям, а потом упала и ушибла голову, или там еще что, в погребе у Донованов.
Я кивнула, но не потому, что эта мысль пришлась мне по вкусу, а потому, что не хотела подраться с сестрой.
— Помнишь тот раз, когда Венди забрела в наш дом и слопала кусман масла из холодильника, пока мама принимала ванну? — расхохоталась Тру.
Тут я заплакала.
— Эй… ну, брось, — Тру шлепнула меня по руке, — с Венди все будет хорошо. Не будь плаксой.
Мама то же самое говорила. Будто у меня глаза на мокром месте и что эти глаза с монеткой в придачу всегда добудут мне чашку кофе; только что мне до кофе, не люблю я его.
Тру ткнула мне в лицо свою «кошкину люльку». Простая белая веревочка, которую Тру сняла с коробки печенья, но если запутать ее в пальцах и подвигать ими, веревочка превращалась в нечто совершенно другое и прекрасное.
Я уцепила два кончика веревочки и потянула их в центр «люльки».
— Вот увидишь, — сказала Тру, — Венди скоро вприпрыжку вернется домой и опять будет слоняться по улицам в чем мать родила.
За Венди такое водилось. Иногда она забывала одеться и выходила из дому, когда миссис Бюшам приглядывала за остальными двенадцатью детьми, — смотришь на детскую площадку, а там Венди скачет на качелях голышом. Кто-то из нас отводил ее домой, а миссис Бюшам только головой качала, и Венди говорила ей: «Профти, мама». А потом обнимала маму покрепче и не отпускала, потому что Венди обожала обнимать все, что попадется под руку, но особенно — свою маму. А еще, уж и не знаю почему… меня, «Фалли О-Малли».
Что бы там Тру ни думала, я знала наверняка, что Расмуссен что-то сотворил с Венди. Было в нем нечто до жути подозрительное. Уж слишком он со всеми вежливый, совсем не как прочие отцы или братья, что живут в нашем районе, за исключением мистера Питерсона, который хозяин «Аптеки Питерсона» и тоже очень вежливый. Остальные мужчины в наших кварталах, похоже, всегда чем-то раздражены, пока не опрокинут пару пива, а после кто-то злится еще пуще, а кто-то, наоборот, становится добрее, затягивает песню и норовит прихватить за корму свою жену.
Так, может, прошлой ночью Расмуссен обозлился, что я спряталась от него под кустами у Кенфилдов, выбежал назад на аллею, увидел бредущую куда-то Венди и столкнул ее с лестницы погреба Донованов, а может, даже еще пытался убить и снасиловать ее. И теперь милая глупышка Венди Бюшам ни за что и никогда не захочет ни с кем обниматься. Все из-за меня.
Глава 09
На следующее утро я снова отважилась поговорить с Тру, пока мы вместе сидели над хлопьями «Завтрак чемпионов».
— Точно говорю, Расмуссен вошел в раж, и когда у него не вышло убить меня, то решил отыграться на Венди.
Молоко скисло, так что хлопья мы ели сухими. И по всему дому, даже в комнате Нелл, гулял такой запах, будто… Сама не знаю, будто что. Будто что-то такое, что обычно можно унюхать только в зоосаде.
Тру силилась прицепить ложку на нос, как это умел делать Вилли О’Хара.
— Слушай, ты все больше и больше напоминаешь мне Вирджинию Каннингем в том фильме «Змеиная яма».
Вот уж не ждала от Тру такого гнусного удара исподтишка. Знает ведь, как я боюсь иногда, что кончу именно так. Психам вечно что-нибудь мерещится. Вирджиния Каннингем напредставляла себе всякого, вот ее и засунули в больницу для сумасшедших, где люди в белых халатах заставили ее принимать горячую ванну с утра до ночи, хотя она и так была вполне чистая. На какой-то миг мне даже захотелось размахнуться и влепить сестре тумака, прямо как Холл. Сшибить эту ложку с ее милого носика.
Такой вот я ужасный человек, что мне в голову лезут подобные мысли. Слава богу, Тру меня опередила. Сбросила с носа ложку и сказала:
— Пошли, я хочу поиграть в тетербол[8]. Кто добежит последней, та протухла.
Дети из нашего района, которые не католики, все учатся в школе на Влит-стрит. Но на летние каникулы у города была программа, так что любой ребенок может приходить на игровую площадку, и неважно, из какой страны приехали его родичи и во что они там верят.
На площадке есть качели, и турники, и бейсбольные лужайки. Прямо по асфальту расчерчены желтой краской зоны для игры в квадрат и в классики. И скамейки с шахматными досками натыканы вокруг, словно большущие палочки для игры в «вытащи спичку».
А еще на игровой площадке есть два инструктора, они из года в год не меняются. Бобби Фитцпатрик и Барб Кирхер. Бобби — босс, а Барб — его помощница. Бобби учился в колледже на физрука и поэтому любил играть с нами в тетербол и всякие спортивные игры. Барб тоже поступила в колледж, чтобы танцевать там в группе поддержки и встретить кого-нибудь вроде Бобби. Так сама и сказала. Барб была девчонка прямо заводная. А еще она отлично плела ремешки и показала всем нам, как заплести длинные пластиковые трубочки в подобие петли, к которой можно прицепить ключи или вообще что угодно и носить с любым ансамблем — так Тру недавно начала называть свои одежки. Мы с Тру наплели уже штук пятьдесят этих плетенок, так нам они нравились. Из-за ярких цветов, но главное — из-за свежего запаха и того, какие они на ощупь. Скользкие и прохладные. Мы сгорали от нетерпения, когда Бобби отправлялся в Будку, куда только инструкторам и можно заходить, а потом, чуть ли не день спустя, возвращался с этими цветными трубочками, прятал их в кулаке за спиной и предлагал угадать, в какой руке. Любил Бобби важничать.
А в самом конце лета устраивалась коронация Короля и Королевы Площадки на большом сборе всего квартала, с лимонадом, едой и музыкой. В прошлом году, пусть мы и жили на Влит-стрит всего пару месяцев, Тру все равно выбрали Королевой. Такая уж общительная у меня сестра. Я так ей завидовала, что целую неделю с ней не разговаривала (прости, папа). А этим летом решила, что буду стараться вести себя пообщительнее, и тогда, возможно, меня тоже выберут Королевой.
Конечно, я оставила Тру позади, с моей-то скоростью, и конечно, она и вспомнить не подумала про тухлятину, когда тоже добежала до площадки.
Я уже сидела на качелях, когда Тру подскочила со словами: «Я глазком своим гляжу, то, что скрыто, нахожу…» И ткнула пальцем в сторону турников.
А там, на самой верхней перекладине, преспокойно сидела Венди Бюшам и лизала вишневый леденец на палочке. С ее лба грозила сползти широкая повязка из перепачканного бинта.
— Тоже мне, — фыркнула я. — Если она живая, это не значит, будто Расмуссен не попытался ее укокошить.
— Так-так, давненько вас обеих не видно, — сказал инструктор Бобби, явившийся откуда ни возьмись, и бросил в мою сторону один из красных мячей из теплой резины. — Быстрюга Сьюзи и Мэри Браун вас уже обыскались. Хотели сыграть в квадрат.
На Бобби Фитцпатрика любо-дорого посмотреть, с его рыжеватыми волосами «коротким ежиком», голубыми глазами, улыбкой белее писчей бумаги и лицом цвета хорошо подрумяненного тоста.
— А ты слыхал, что случилось с Венди Бюшам? — спросила я. — Кто-то столкнул ее с лестницы в погреб Донованов, и ее увезли на «скорой помощи».
Тру хмыкнула:
— Она сама свалилась с лестницы в погреб Донованов.
Бобби глянул в сторону турников и вздохнул:
— Будто у нее и без того мало проблем.
Мэри Браун я поначалу и не заметила, настолько та худая, но оказалось, она болтается на турнике прямо под Венди. Завидев меня, Мэри Браун спрыгнула вниз и помчалась к Быстрюге Сьюзи, стоявшей у фонтанчика для питья и махавшей руками какому-то мальчишке постарше, с которым я не была знакома. Мэри Браун сказала что-то и показала в нашу с Тру сторону.
— Как насчет партии чуть попозже, Салли? — спросил Бобби.
Он недавно взялся научить меня играть в шахматы, которые совсем не похожи на шашки, хоть в них и играют на той же доске. Мне игра понравилась. И то, как Бобби притоптывал обеими ногами и потирал ладони, будто замерзли, и так сильно думал (точно съесть мою королеву — самое важное), что его лоб покрывался тонкими морщинками, — это мне тоже нравилось.
— Обожаю шахматы, — ответила я.
— Свидание назначено, — рассмеялся Бобби, он то и дело смеялся, такой вот радостный и энергичный он был, а потом направился к бейсбольной лужайке, откуда его уже давно звали какие-то дети.
Бобби, он классный, не то что другие парни его возраста в нашем квартале. Вот дождусь, когда стану достаточно взрослой для настоящего свидания, сяду в автобус и поеду в восточную часть города, где живет Бобби. Он совсем другой, не такой, как парни из западной части, с которыми нужно ухо востро держать.
Тут подошла Мэри Браун и точным пинком вышибла из моих рук красный мяч.
— О чем это с вами болтал Бобби-Дергунчик?
Быстрюга Сьюзи уже стояла рядышком, уперев руки в бока. И, глядя Бобби в спину, присвистнула протяжно, а потом сказала:
— Такого котика я б из кровати не выгнала.
— Когда ты успела завести кота? — удивилась я.
Быстрюга Сьюзи уставилась на меня:
— Ну ты даешь, О’Мэлли, нельзя же быть такой дубиной! — И подтолкнула к желтому шесту рядом с песочницей. — Ясно тебе? — Она потыкала пальцем в желтый шест. — Дубина, — и ткнула теперь уже в меня. — Просекла?
Быстрюга Сьюзи вечно делает из меня посмешище, потому что я не понимаю и половины ее шуточек. Тру говорила, это потому, что Быстрюга Сьюзи тре шик, а я совсем не тре шик[9]. Интересно, откуда Тру нахваталась этих словечек? Мне даже начинало казаться, что я разговариваю с французской библиотекаршей.
Быстрюга Сьюзи отступила к отчерченному на асфальте квадрату.
— Ты слыхала, как мама Сары Хейнеманн послала ее в магазин Делэнси купить немного молока? Знаешь, что было дальше? — Она швырнула красный мяч прямо в меня, черные волосы так и плещут по сторонам, солнце играет на них, как на только что навощенной машине.
— Что было дальше? — спросила я и бросила мяч обратно.
— Сара исчезла, будто растворилась в воздухе. Пшик! — Быстрюга Сьюзи поймала мячик, подбросила высоко-высоко и подождала, пока тот не упадет, прежде чем добавить: — Никого тебе не напоминает?
Она имела в виду Дотти Кенфилд, но мне не хотелось этого говорить, потому что тогда это стало бы похоже на правду.
— А когда стемнело и Сара не вернулась домой, — продолжала Быстрюга Сьюзи, — миссис Хейнеманн вызвала полицейских. Они всюду ее искали, да так и не нашли.
Мэри Браун, должно быть, ела что-то желтое: когда она высунула язык показать мне, он цветом был как та игуана в зоосаде.
— Я же говорила, — сказала она и быстро задергала высунутым языком.
— И вы знаете, что это значит, верно? — Быстрюга Сьюзи шагнула к Мэри Браун, ухватила ее за шею обеими руками и принялась душить. Все засмеялись. Кроме меня. Я получше остальных знала, что Быстрюга Сьюзи, наверное, права. Потому что, могу поспорить, одним из полицейских, которых вызвала миссис Хейнеманн, был Расмуссен.
После длинного дня плетения шнурков с Барб, партии в шахматы с Бобби и дикой игры в «Рыжего разбойника» мы направились к Фацио попробовать немного чудесной лазаньи, приготовленной Наной. За ужином Тру и Нана долго обсуждали фильмы с Дорис Дэй, и Нана прямо растаяла, когда речь зашла об актере Джимми Стюарте. Мы с Тру помогли Быстрюге Сьюзи вытереть насухо тарелки, а потом сразу ушли и по дороге домой почти не разговаривали. Думаю, нам обеим жалко было уходить из уютной итальянской кухни, где вкусно пахнет и все размахивают руками, будто уличные регулировщики.
Дверь в наш дом стояла открытой нараспашку, но когда я позвала: «Эй! Кто-нибудь дома?» — никто не ответил. Холл явно решил совершить долгую прогулку по короткому причалу. Я подумала, это из-за того, что мама умирает. Но это на него не похоже, ведь Холл с мамой вечно ругались и почем зря поминали имя Господа нашего всуе. Так что плевать Холлу, наверное, хотелось на то, умрет мама или нет.
Грязную посуду мы с Тру мыть не стали: в прошлый раз попытались, но вода пошла из крана вся теплая и рыжая. Мы просто стащили с себя одежду, забрались в кровать и стали слушать скрип-скрип-скрип кресла-качалки на крыльце у соседей. Мистер Кенфилд едва ли не каждый летний вечер одиноко сидел там, качался да курил. Звуки и дымок прямиком влетали в окно нашей спальни, навевая мысли про одиночество. Особенно в тот вечер, потому что мы с Тру были каждая сама по себе, и такое чувство, будто отныне так будет всегда.
Тру перекатилась на пузо и задрала майку, давая понять: хочет, чтобы я потерла ей спину, — я делала это каждую ночь с тех пор, как себя помню.
— Знаешь, почему Быстрюгу Сьюзи зовут Быстрюгой Сьюзи?
А я уже думала об этом, еще днем.
— Потому что лучше всех на площадке играет в «Рыжего разбойника»?
— Нет, — прыснула Тру. — Потому что дина́мит мальчишек. Ну, это типа секса.
Быстрюга Сьюзи старше меня на три года. Ей тринадцать. Тинейджер. Когда доживешь до такого возраста, с тобой происходят разные штуки. Включая, видимо, что-то типа секса.
— Быстрюга Сьюзи уже добралась до второй базы, — заметила Тру.
О чем это она? Всем известно, что Быстрюга Сьюзи не любит бейсбол, да и какое отношение бейсбол имеет к сексу?
— До какой второй базы?
На минутку я забеспокоилась, что разговоры про бейсбол заставят Тру вспомнить тот день, когда папа и дядюшка Пол так и не доехали до дома после матча. Сразу после аварии я пробовала выспросить у нее, что тогда произошло. Как папу угораздило врезаться в вяз? Он что, не смотрел на дорогу? Но Тру отказывалась разговаривать на эту тему еще долгое время после несчастного случая, а если я заводила такой разговор, начинала злиться или притворялась глухой.
— «Добраться до второй базы» означает, что девочка дает мальчику потрогать свои сиськи, то есть грудь.
— Уххх… — не смогла я скрыть отвращения. А следовало — чтобы быть хоть чуточку тре шик. — Что, и «первая база» бывает?
Тру вытянулась рядом со мной.
— Французские поцелуи — это первая база. Это когда мальчик засовывает свой язык тебе в рот.
Когда у меня вырастут сиськи, ни за что и никому не дам их трогать, не говоря уже про всякие французские поцелуи во рту.
— А «третья база»? — спросила я.
Самым любимым игроком у папы был Эдди Мэттьюс, третий бейсмен у «Брейвс». Я по-настоящему соскучилась по радиотрансляциям матчей, которые мы слушали вместе с моим Небесным Королем. В руке пиво, на колене — дочка Сэл. В правилах бейсбола я не особо разбиралась, но мой папа эту игру просто обожал. А я обожала своего папу. И то, как пахло на крыльце нашей фермы после дня тяжелой работы в поле, и то, как желтый свет от приемника сиял на его радостном лице, когда Хэнк Аарон выбивал мяч на хоум-ран, и то, как папа выпрыгивал из кресла, а его дочка Сэл летела на пол. Особенно тем летом, когда он погиб. Потому что в то лето «Брейвс» должны были попасть в Мировую серию, он сам так говорил, и мы поедем смотреть и будем есть соленые орешки и хот-доги с горчицей и маринованными овощами. А они у меня самые любимые.
— Третья база, это когда мальчик трогает тебя там, внизу, — Тру показала на мои трусики.
Я совершенно точно никогда и никому не позволю трогать меня там.
— То есть «хоум-ран» — это и есть секс? — спросила я изумленно.
— Ага, он и есть.
Еще чего! Не раньше, чем в аду снег пойдет.
Тру сказала:
— Ты ведь знаешь, что Джуни насиловали, верно? — Перекатившись ближе, она застучала пальцами по моей шее, как по клавишам пианино.
Мы с Джуни не были подружками. Но я порой встречала ее на площадке, и она вроде была ничего и любила плести из цветных трубочек не меньше моего, и получалось у нее просто потрясно.
— Ты хоть понимаешь, что значит «насиловать»? — спросила Тру.
— Нет. — Я ткнулась лицом в подушку и ерзала, пока не дотянулась до запаха «Аква Велва».
— Быстрюга Сьюзи говорит, когда девушку насилуют, это значит, кто-то трогает ее там, внизу, и это страшно больно. А потом добивается секса, даже если она нипочем не согласна.
Я отвернула голову и стала смотреть в окно на спальню Дотти, и тут-то ее призрак как раз и принялся плакать.
— Салли! — Тру набросила простыню нам на головы.
— Чего?
— Слышишь?
— Это призрак Дотти.
Тру придвинулась ближе:
— Вот ужас.
Я не совсем поняла, что она имела в виду, — то, что Дотти растворилась в воздухе, или то, что произошло с Джуни. В общем, разницы никакой: и то и другое — ужас.
— Никогда не позволю, чтобы с тобой что-то случилось. Ты же знаешь.
Я все думала о том, как Расмуссен трогал Джуни, а она этого не хотела. Как она, бедная, напугалась.
— Ты в этом уверена? — спросила я. — Ну, про насилование?
И заодно отдернула руки от спины Тру: что-то совсем расхотелось трогать хоть кого-то.
— Быстрюга Сьюзи говорит, кто-то насиловал Джуни, делал с нею секс, а когда надоело, обернул трусики вокруг ее шеи и тянул, пока она не задохнулась насмерть.
Тру уснула, а я лежала в темноте, слушала, как плачет призрак Дотти, и изо всех сил надеялась, что Быстрюга Сьюзи ошибается. Потому что сомнений не осталось: если меня никто не выслушает, если никто не остановит Расмуссена прямо сейчас, у нас с Джуни Пяцковски очень скоро будет куда больше общего, чем любовь к плетенкам из цветных трубочек.
Глава 10
Весь конец июня стояла страшная жара, намного жарче нужного. Этель говорила, такая жара и влажность напоминают ей о Миссисипи, где она родилась и росла. Как и всегда по средам, мы с Тру провели утро в благих делах на пользу миссис Галецки, за которой уже давно ухаживает Этель. Причина, по которой мы этим занимались (кроме дружбы с Этель), состояла в том, что по возвращении в школу в сентябре сестра Имельда заставит всех детей прочесть вслух сочинения под названием «Как я провел лето, творя благие дела». Вокруг столько всего напроисходило, что о своем сочинении мне пришлось временно забыть, но я твердо пообещала себе, что сегодня же вечером начну, в какой бы хлам пьяный ни явился домой Холл.
Когда мы закончили помогать, Этель угостила нас сэндвичами с ореховым маслом и зефиром, а потом мы с Тру отправились в зоосад посмотреть, как кормят Сэмпсона, что тоже заведено у нас по средам.
Мы едва вышли из Медовой протоки, обегавшей весь парк, и воздух приятно холодил наши голые ноги. Тру недавно начала курить «L&M», которые стащила из кармана у Холла, когда тот вырубился на диване. И еще она раздобыла где-то маленькую синюю французскую шляпку, объявила, что это берет, и стала носить. Тру сама не своя до всяческих шапочек.
— Я тут подумала, — сказала она, прикуривая сигарету.
— О чем? — Мы сидели на ветках любимого зоосадного дерева, и я завороженно разглядывала Сэмпсона, откусывая по чуть-чуть от сэндвича. Свой бутерброд Тру слопала по дороге.
— Насчет исчезновения Сары Хейнеманн. — Тру затянулась сигаретой и выпустила дымок через нос, как иногда делала мама. Называется «курить по-французски». Она покашляла и повторила трюк снова. — Думаю, Быстрюга Сьюзи права. Наверное, Сару убили и насильничали, точно как Джуни.
Про себя я тоже решила, что Сару убили и насильничали, но не хотела пугать Тру, соглашаясь. И еще подумала, что это дело рук Расмуссена, как и с Джуни. И что это он спихнул Венди с лестницы в погреб Донованов. В ту ночь было так темно и ненастно, что он, скорее всего, до последнего не понимал, что перед ним Венди, а уж потом не бросился вслед и не стал убивать Венди, потому что она монголоид, а монголоид не сможет указать на него в полиции, когда их выстроят у стенки, как всегда делают в фильмах.
Тру сплюнула сигарету на землю и сползла со своей ветки на мою. Ткнула пальцем в Сэмпсона, скроила удивленную мину и крикнула: «Ой, ты посмотри, Салли!» Стоило мне зазеваться, а она хвать у меня из руки полсэндвича и сразу в рот, пока я не успела опомниться.
— Тру!
Ухмыльнувшись, она прошамкала с набитым ртом:
— Помнишь, как Джуни нашли на берегу лагуны?
Я не ответила, потому что жутко разозлилась. Я-то собиралась хорошенько посмаковать остаток сэндвича с ореховым маслом и зефириной.
— Может, это один человек. Сару убил тот же, кто убил Джуни, — сказала Тру, наматывая на палец мою косу, — так она обычно просит у меня прощения. — Если мы отыщем тело Сары, нам наверняка дадут награду и напечатают в газете фотографии, как снимки Мэри Браун в тот раз, когда она звонила пожарным сообщить про пожар, который сама и запалила.
— Это все Расмуссен, Тру. Этот человек — Расмуссен! — Я оттолкнула руку сестры. Как же надоело, что она мне не верит.
Еще несколько человек пришли посмотреть на кормежку Сэмпсона в два часа дня. Две женщины с маленькими детьми, которых я не знала, а еще Арти Бюшам, один из братьев Венди. Арти старше меня на два года, долговязый и с таким громадным кадыком, что, когда говоришь с ним, так и пялишься завороженно на эту штуковину, скачущую вверх-вниз по тощей шее. Еще у Арти заячья губа, досталась ему от рождения. А больше ничего особенного в нем нет, ну разве что чуть косолапит.
Тру соскочила с ветки следом за мной и направилась к клетке Сэмпсона, перед которой застыл Арти. Вообще-то это не совсем клетка, а что-то такое современное, «вольер» называется. Там большие булыжники, и маленький пруд с водой, и какой-то навес в сторонке, чтобы Сэмпсон мог спрятаться от зноя и спокойно перекусить.
— Арти! — позвала Тру.
Ответил он не сразу — наверное, из-за Риза, своего старшего брата и задиры, каких свет не видывал. Риз вечно цеплялся к Арти и в прошлом году на площадке здорово двинул его по голове, стоило Арти выиграть в «Морской бой». Ухо у Арти стало величиной с персик, и теперь до него бывало не так-то просто докричаться.
— Арти-иии! — заорала Тру.
Тот аж подпрыгнул. А как увидел, кто его зовет, лицом сразу стал того же цвета, что орангутанова задница. Арти, по выражению Быстрюги Сьюзи, западает на Тру.
— Как там Венди? — спросила я, подвигаясь к ним.
Арти пожал плечами:
— Наложили ей швы.
Арти всегда был хорошим братом, не то что Риз, который называл Венди не иначе как… идиоткой безмозглой. Риз Бюшам обязательно попадет в ад, я готова поставить на это хоть миллион долларов.
Сэмпсон тихонько ел банан, не бормоча песен; манеры у него куда лучше, чем у мальчишек Бюшамов. Тру протащила нас к ним на ужин пару дней тому назад, заручившись помощью Мими Бюшам, которая училась с ней в одном классе. На ужин у Бюшамов было нечто под названием «трущобное лакомство», его черпали из большой стеклянной миски, и оно даже в подметки не годилось маминой запеканке с тунцом и макаронами. Еще там была большая стопка нарезанного хлеба, и маргарин, и порошковое молоко, которое на вкус совсем как разведенный в воде мел. Риз Бюшам весь ужин пялился на Тру, улыбаясь ей так, будто она была куском вишневого пирога.
Арти спросил этак беззаботно:
— Чем собираешься заняться Четвертого июля, Тру?
Человек, который кормил Сэмпсона, — это вообще-то папа Мэри Браун. По-моему, он мог бы отнести хоть немного еды домой и скормить ее Мэри Браун, чтобы та уже не была самым худым ребенком на свете. Именно из-за него Тру решила, что рандеву с Мэри Браун надо устроить в зоосаде, — в тот день, когда собиралась спихнуть ее в яму из-за спора про Книжного Червя. Так и сказала: «Мистер Браун сам найдет ее, когда придет кормить Сэмпсона, так для семьи будет намного лучше, чем если на нее наткнется кто-то незнакомый, как с Джуни вышло».
Тру может быть очень заботливой, если захочет. Мертвую Джуни нашел один сумасшедший, который вечно ходит в теплой рубахе и громко ругается сам с собой, собирая мусор в парке. Прошлым летом Мэри Браун всем рассказывала, будто этот сумасшедший снял перед нею штаны, да только кто ей поверит.
— Четвертого? — переспросила Тру. — Ну, мы с Салли точно не променяем велосипедный парад на весь чай Китая. — Она подмигнула, и кадык у Арти покатился вниз по шее, так он распереживался.
На конкурсе украшения велосипедов в прошлом году Арти получил второе место после Тру, что принесло ему подписку на журнал под названием «Бойз лайф». Тру вручили новый набор ленточек, которые цепляются на руль велика, а также чек на пять долларов, который можно было обменять на товар в магазине «Файв энд Дайм», потому что спонсором конкурса на украшение велосипедов выступал как раз магазин Кенфилда «Файв энд Дайм… У Нас Найдете Все Необходимое!».
Все потому, что Тру умеет управляться с салфетками «Клинекс». А этим летом она натырила заколок-невидимок для бумажных цветов из «Набора будущего парикмахера» Нелл, который купил Холл, сказав, что это отличное ремесло, ведь волосы есть у всех, как и ноги. На прошлой неделе Холл отвел Нелл в «Школу красоты Ивонны» и записал учиться. Нелл явилась домой с розовой шляпной коробкой, набитой ножницами, и булавками, и расческами, и, конечно же, любимыми игрушками Нелл — щипцами для укладки волос, и бумажками для перманента, и раствором, вонючим почище миллиона дохлых крыс. Даже хуже, чем дыхание доктора Салливана. Это Нелл здорово придумала — попросить Холла записать ее в «Школу красоты», пока тот был навеселе.
Арти потянул себя за больное ухо, что делал довольно часто, потому что мальчишка он нервный и пугливый, что твоя скаковая лошадь.
— Слыхала, что Сара Хейнеманн пропала?
Тру, ухватившись за прутья ограды, смотрела, как мистер Браун бросает Сэмпсону остатки обеда.
— Ага.
— Утром приходили полицейские, просили не забывать запирать двери.
Арти вдруг резко нагнулся и принялся закатывать штанины. Надумал, наверное, охладиться в Медовой протоке — по нашему примеру.
— Вы бы с Салли поосторожнее. Мама говорит, что больше не выпустит сестер из дому поодиночке после того, как зажгутся фонари. Говорит, это опасно. На свободе разгуливает какой-то псих, у которого не все дома.
Я смотрела на Сэмпсона и думала, что с таким нечего было бы бояться. Вон какие большие волосатые ручищи — сразу видно, в жизни не допустит, чтобы с тобой случилось что-то плохое. И тогда, будто догадавшись, о чем я думаю, Сэмпсон посмотрел мне прямо в глаза и взмахнул лапищей. И я помахала в ответ.
— Прекрати, — сказала Тру, дернула мою руку вниз и огляделась по сторонам, не видел ли кто. Французская шляпка сбилась на глаз, и она дернула ее назад на затылок. — Он не здоровается. Он просто горилла и гоняет мух, боже-ты-мой…
— Вот и неправда! — возразила я и потянулась к Сэмпсону над оградой, так мне хотелось погладить его пушистый мех. — Он намного, намного лучше, чем просто горилла. — Я помахала еще раз, и в ответ Сэмпсон подбежал к краю ямы, поглядел мне в глаза и хлопнул себя в грудь, опять и опять. — Он великолепен.
Глава 11
Как я пров ела лето, творя благие дела
Сочинение Салли Элизабет О’Мэлли
Почти каждую среду нынешнего лета мы с Тру (это имя — сокращение от «Трубача», а вовсе не от «Труди», как все воображают) навещали миссис Галецки. По правде если, то Тру зовут Маргарет, но наш папа (перед тем как погибнуть) назвал ее Юный Трубач, потому что она не заплакала, а загудела, как труба, когда наступила на ржавый гвоздь на заднем дворе у Эмберсонов, после чего ей сделали укол. Так она стала Трубачом, а потом и Тру, для краткости. А я иногда называю ее Тру-Гений, потому что она очень-очень умная, ей еще и семи не было, а она уже знала столицы всех штатов до единого. Так вот, мы с Тру почти каждую среду ходим к миссис Галецки, помогать Этель. Я читаю миссис Галецки книжку, когда Этель усадит ее в кресло-каталку и выкатит на закрытую веранду позади дома, потому что миссис Галецки нравится глядеть на дикую яблоню во дворе. Голова у нее вечно дергается, но ум все равно острый, вовсе не как у нашей бабушки, у которой затвердели артерии, так что она даже заставляла звать себя «Бабуся Мария Антуанетта». Она была мамой моего папы. Оба наших дедушки уже умерли. Наша мама тоже умирает. Мы с Тру ходим навестить нашу другую бабушку на 59-й улице, приносим ей бутылочки с содовой и выжимаем насухо ее нижнее белье и носки дядюшки Пола. Дядюшка Пол повредился умом из-за того, что его мозг здорово пострадал, и ему приходится жить с бабулей, чтобы она могла за ним присматривать. А вот еще одно благое дело: я написала письмо маме. Детей в больницу не пускают, так что мне придется отправить письмо по почте, но у меня нет денег на марку, поэтому письмо я пока не отправила. Письмо мое такое:
Дорогая мамочка,
как ты себя чувствуешь? Тут у нас происходит много разного. Папа просил передать, что он тебя прощает. Я по тебе скучаю. Пожалуйста, вернись домой.
Ваша во Христе,
твоя дочка
Салли О’Мэлли.На том я и бросила писать сочинение, потому что Тру вышла из ванной, а Нелл заявилась, распространяя вокруг запах, прямо как та пивоварня у Окружного стадиона, где мы с папой перед началом бейсбольных матчей пели песню «Знамя, усыпанное звездами»[10].
Нелл встала в дверях нашей комнаты, привалилась к косяку и начала:
— И где вас обеих весь день носило? Я только что наткнулась на Холла, он заворачивал за угол, бешеный как бык и пьяный в стельку.
Голос у Нелл хриплый такой, наверное, от ее папы достался ей.
Тру натянула простыню на голову и завопила:
— Да заткнись ты, Нелл! Не видишь, что ли, у нас тихий час?
Нелл споткнулась по пути к кровати, пнула ее и попыталась дотянуться до Тру, которая спала у стенки.
— Черт тебя дери, Тру О’Мэлли, тебя и твой дерзкий язык.
— Да пошла ты! — ответила Тру сквозь простыню. — Ты просто фуфло, фуфло, фуфло, фуфло. — Этому словечку она совсем недавно научилась у Быстрюги Сьюзи и была от него без ума, как и от любых слов, что начинались с буквы «ф».
Нелл колотила по простыне, а Тру только все смеялась, и тогда Нелл сдалась и стукнула меня, потому что я ближе.
— Это небольшой подарочек твоей сестре, уж будь добра, передай ей от меня, дорогая Салли. И кстати говоря, тупая твоя черепушка, — она вонзила в мое плечо острые красные ноготки, — актера зовут не Эрл Флинн, а Эррол Флинн.
Тут Нелл, пошатываясь, убрела прочь и с такой силой хлопнула дверью, что распятие над нашей кроватью загрохотало скоростным поездом.
— Во зануда, — хихикнула Тру из-под простыни.
Я прижала ладонь туда, где должен был находиться ее рот:
— Тсс…
Холл уже дошел до нашего крыльца. Распевая песню. Падая. И снова поднимаясь. Я забралась к Тру под простыню. С минуту все было тихо, и я уж решила, что он вырубился, так что отняла руку ото рта Тру, но тут Холл вломился в дверь на верхней площадке, наткнулся на пианино и заорал: «Мать твою!..» А потом оперся о клавиши там, где низкие звуки, и по дому прогремел жуткий аккорд, у меня даже уши заложило.
А Холл уже пробирался через гостиную. Вот заскрипели половицы в столовой. Я слышала, как он шепотом ругается, поет и пинает все, что на пути попадется. А потом вдруг стало тихо. Холл стоял в дверях и таращился в нашу комнату. Совсем как Нелл недавно. Я почуяла пивной дух. Тру нащупала мою ладонь и сжала что есть мочи.
— Где вас обеих черти носили? — рявкнул Холл.
Я быстро накрыла пальцами губы Тру, чтоб та поняла: отвечать не надо.
И тогда Холл снова затянул песню:
— Девяносто девять бутылок на стене… Девяносто девять бутылочек пива! Берется одна, пьется до дна… Так-так-так, кто это у нас здесь? — Тут он рывком стащил простыню. А на нас ничего, кроме трусов, и не надето.
Он дышал в темноте, словно всю дорогу за ним кто-то гнался, а мы не решались шевельнуться или хотя бы открыть глаза, пока Тру наконец не заговорила:
— Мы спим, Холл. Уходи, не приставай.
Холл потянулся надо мной и одной ручищей выдернул Тру из постели.
Бутылку из-под пива он бросил на пол, и та крутилась и крутилась на половицах. Холл притиснул Тру к стене и держал так, словно собирался подвесить на гвоздь, как картину.
— Чего сказала? — промычал он.
Тру показала ему язык, и Холл как завопит: «А ну не смей!..» Оторвал ее от стены и прихлопнул обратно. Я поняла: если Холла сейчас же не остановить, он сделает Тру по-настоящему больно. Я и прежде видала пьяного Холла в похожем настроении, он тогда расквасил губу мистеру Хопкинсу, бывшему нашему соседу, да еще и пнул его, когда тот упал.
— Холл? — тихо позвала я, свешивая ноги с кровати.
Он не ответил, только засопел громче.
— Девяносто девять бутылок на стене… — запела я.
А Холл почти прижался лицом к лицу Тру и заорал:
— Здесь нет твоей матери, так что защищать тебя некому. Еще раз заговоришь со мной таким тоном — всю душу из тебя вытряхну, неделю ходить не сможешь, ты, маленькая…
— Отпусти меня сейчас же, фуф…
— Девяносто девять бутылок на стене! — завопила я, только бы Холл не расслышал ответа Тру. — Девяносто девять бутылочек пива! Берется одна, пьется до дна, сколько осталось их на стене? — Не спуская с него глаз, я нашарила ночную рубашку, которая валялась у кровати. — Холл…
Он позволил Тру сползти на пол, будто напрочь забыл про нее, и затянул:
— Девяносто восемь бутылок на стене…
Я взяла Холла за руку и повела по коридору в гостиную. И мы вдвоем распевали эту глупую песню, пока не дошли до восьмидесяти восьми бутылок, и тогда Холл захрапел на нашем красно-коричневом диване.
Когда я попятилась к двери, Тру сидела на стульчике у пианино. С одним из маминых разделочных ножей в руке.
Глава 12
Лучше магазина, чем «Файв энд Дайм» Кенфилда, нет во всем мире. Там даже пахло приятно из-за ящика со стеклянным окошечком, где лежали всякие-всякие конфеты — и маленькие бутылочки с вкусной красной жидкостью внутри, и цветные пуговки зефира, и тянучки «Би-Би Батс» на палочках, а сбоку стоял маленький автомат, который весь день напролет делал свежий попкорн.
Деревянные полы там волнисто-рыжие, а прилавки небольшие, зато набиты товаром, который миссис Кенфилд, похоже, собирала долгие годы, чтобы потом продавать людям. Во всей семье Кенфилдов она самый приятный человек. Хотя Дотти, наверное, тоже была довольно приятная, пока не растворилась в воздухе. Вот мистер Кенфилд, он угрюмый. Мама говорила, он такой потому, что так и не оправился после происшествия с Дотти. А когда я спросила, между прочим так, а что стряслось с Дотти, мама одарила меня своим взглядом «ну, и кто наделал на ковер?» и велела не совать мой нос в чужой вопрос.
В магазине Кенфилда был даже отдел с домашними животными, где мы с Тру однажды купили черепашку, которую назвали Элмер, а еще там продавались семена для садоводов, и карандаши, и брусочки мыла «Айвори». Все дамы в районе приходили за покупками в «Файв энд Дайм» прямо в бигудях, чтобы понравиться своим мужьям, когда те придут домой с завода, так что магазин порой напоминал салон красоты.
Мы прошли вдоль третьей стойки и отыскали коробки «Клинекса», составленные одна на другую. Моя сестра глядела в оба, и стоило миссис Кенфилд отвлечься на миссис Плотч, чтобы помочь той выбрать новые прихватки для кухни, Тру сунула три коробки под майку, и мы выскользнули через заднюю дверь, которая хлопнула достаточно громко, чтобы миссис Кенфилд заметила и крикнула вслед:
— Надеюсь, вашей маме уже лучше!
Когда мы выбежали на аллею, во мне зашевелилась совесть.
— Надо отнести их обратно, — сказала я. — Нехорошо брать чужое.
— Ох, да брось ты! Тоже мне паинька. «Клинекс» — это нам за то, что наша мама, наверное, умирает. Утешительный приз, такой дают женщинам в телевикторинах, которые Хелен смотрела, пока гладила. Помнишь?
Мне сделалось так грустно при мыслях о маме, что я уже не смогла ни словечка сказать про салфетки.
По дороге домой, как Тру и обещала, мы остановились у парковой лагуны. Я прихватила удочку. Мне никогда не удавалось ничего поймать, но все равно нравилось рыбачить — раз в неделю, в тени ивы на берегу. У меня есть фотография, как мы с папой удим рыбу, и мне года три, и дело было у озера близ нашей фермы. Из-за ветра у папы на голове будто маленькие рожки, так дуло в тот день. Мама сказала, на этом снимке ему сам черт не брат, и я решила, что это отличная шутка, смешнее не придумаешь.
— Холл тоже думает, что мама умрет, — сказала я, ковыряясь в грязи у берега в поисках червяка.
Тру нашла в мусорной урне пустой бумажный пакет и спрятала в него свои коробки с «Клинексом», так что теперь сидела на берегу, бултыхая в воде ногами. Эта девчонка просто обожает бегать босиком, а тот ржавый гвоздь, что впился ей в ногу, ничуть не отвадил ее от этой привычки.
— Какой такой Холл? — спросила она.
Тру терпеть не может разговоры про всяких там умирающих и вечно меняет тему, вот как теперь. Но я не поддалась, потому что хотела знать, что об этом думает сама Тру.
— Холл решил, что мама умрет, иначе не приударил бы за Рози в боулинге и не напивался бы до упаду. — Я достала из кармана поплавок и продела через него леску. — Раз уж навещать ее в больнице могут только он и Нелл, может, он и прав. — Я забросила крючок в лагуну прямо сквозь листья ивы. Мне было видно собственное отражение в воде. Лицо плавало примерно в футе от остального тела.
Тру бултыхнула ногами, и я сразу исчезла.
— Ну ты ведь слышала, что говорит Дорис Дэй: Que sera, sera. Это по-французски, знаешь ли.
Тру всего-навсего «насвистывала в темноте». Я готова поклясться, что в душе она скучала по Хелен не меньше меня самой, а уж я соскучилась как никогда. По всей ней. Даже по ее крикам, по ее ломкому пению и по тому, как она наряжалась для похода в церковь по утрам воскресений: вся прямо куколка, краше во всем приходе никого не было. По ее белому платью с отутюженными до остроты складками и по белым туфлям на каблучках. По ее чудесным волосам, собранным сзади у шеи золотой заколкой. Я даже скучала по печальному взгляду, которым она смотрела на меня, когда думала, что я не вижу. И по запаху ее дыхания, и по прикосновению прохладной руки в веснушках к моему лбу.
Я почувствовала, что леску тихонько потянули, но чересчур быстро дернула удилище, и червяка как не бывало.
— Проклятье, — сказала я и повернулась к Тру, которая корчила рожицы своему отражению.
Вот тогда я его и увидела. Расмуссена. Он сидел в патрульной машине, стоявшей у обочины, и разглядывал нас в окно. А когда понял, что я его заметила, сразу газанул и умчался.
— Ты его видела? — Я ткнула пальцем вдаль по Лисбон-стрит. — Расмуссен. Глядел на нас.
Тру подняла голову, но машины уже и след простыл.
— А вот и не Расмуссен. А если и так, чего бы ему на нас глядеть?
Она натянула тенниски и заползла в гущу веток той плакучей ивы. Одно из любимейших летних местечек у Тру. Ей нравилось там сидеть, никто ее не видит, а ей — наоборот, видно всех вокруг, а солнце, падавшее сквозь листву, по ее словам, напоминало о занавесках из бус на веревочках, каких полно в «Пекинском дворце», где как-то зимой мы ели китайское рагу из курицы, Холл в тот день продал ужас как много ботинок. Тру закурила «L&M». Дымок от сигареты, закручиваясь, просеивался сквозь ивовые ветви.
Я уселась на берегу и снова забросила леску в воду, пусть и без червяка. Стала думать, как там живется рыбе, и как мой красный поплавок выглядит из-под воды, и что рыбы думают о том, как он плавает наверху, — в общем, наблюдала за рыбами в точности как Расмуссен наблюдал за нами.
— Господь всеблагой, Иисус, Мария и Иосиф! — заверещала Тру, выбираясь из-под дерева. С чужой тенниской в руке.
— Быть не может… — прошептала я.
Тру бросила тенниску на землю и тыкала палочкой, пока та не завалилась набок. Над самой пяткой мы увидели вышитую розовую бабочку.
— Наверное, это Сары. Смотри, на ней же кровь. Надо рассказать!
А я вдруг подумала, что Расмуссен вовсе не за нами следил. Может, он дожидался, пока мы уйдем, потому что вчера вечером перед сном вспомнил про эту тенниску с бабочкой на пятке, которую случайно оставил там, где убивал и насильничал. И сегодня вернулся за нею. Шнурок все еще завязан. И капли крови кажутся игрой «Соедини все точки».
— Точно Са́рина, — сказала я, разглядывая тенниску.
— Тебе-то откуда знать? — удивилась Тру.
— А чья еще она может быть?
— Ой, да брось ты. Чья угодно. Ну, скажем… — Только ничье имя ей на ум не пришло, и Тру принялась отряхивать листья с шортов. — И вообще, это, наверное, грязь, а не кровь.
Я точно знала, что без звонка в полицию не обойтись, но это значит, что здесь опять появится Расмуссен. То-то ему радости, верно? Отличная находка: девочка, которую он пытался убить и снасиловать, ковыряется в некстати пропавшем окровавленном тапочке. Двух зайцев — одним выстрелом!
Но потом у меня возникла новая идея. У меня, а не у Тру, идеи у которой возникали куда чаще, потому что это она у нас такая общительная да гениальная. Я поставила тенниску на берег, четко и ровно, чтобы издалека было видать, прямо как в витрине «Обуви Шустера». А потом направилась к аварийной будке, где тумблер для вызова пожарных.
— Сейчас дерну ручку.
Ветер поменял направление, принес сладкий запах печенья с шоколадной крошкой, закрутил маленькие водовороты на поверхности воды. Тру прикрыла глаза, сделала долгий вдох и сказала:
— Не надо. Помнишь, как они разозлились в прошлый раз?
Прошлым летом, ровно год тому назад, я уже дергала этот самый тумблер. Господи, как же орали пожарные, когда приехали и поняли, что никакого пожара и в помине нет. А тумблер я дернула только потому, что Мэри Браун пообещала дать мне за это десять центов. Да и вообще, она у нас все-таки лучшая подруга.
— Пусть они найдут тенниску, — объяснила я. — Это подсказка. Как туфелька в «Золушке». Готова?
Я дернула вниз черный рычажок, Тру подхватила свой пакет, и мы рванули через улицу к гаражу. Спустя примерно три минуты раздался вой пожарной сирены, и тут же на Лисбон свернула машина. Мы с Тру следили, как пожарные спрыгивают на землю, как озираются в поисках дыма. Потом один из них сорвал с головы каску и шварк о землю, а потом воскликнул: «Вот ведь чертовы дети. Уже в третий раз за месяц!» Но, как я и рассчитывала, тут он увидел тенниску на берегу и отправил за ней другого пожарника, пониже ростом, тот подобрал ее, они забрались в машину и укатили. Правда, в последний миг мне почудилось, что толстый пожарник все-таки заметил нас.
Зато теперь тенниска попала в руки к людям, которые наверняка догадаются, что она принадлежит Саре, и Салли О’Мэлли будет ни при чем. Эта мысль здорово меня успокоила, потому что забот у меня и без того хватает. Например, держаться в паре шагов впереди Расмуссена.
Мы срезали дорогу домой через задний двор фон Кнаппенов, а когда завернули за угол на Влит-стрит, я увидала нечто такое, чего бы ни за что не хотела видеть. Прямо тогда я поняла, что поводов для беспокойства у меня гораздо больше, чем я думала. По правде сказать, именно тогда меня и осенило: мы с Тру, как часто повторял Холл, «если встать на цыпочки, так по уши в дерьме».
Глава 13
Прямо напротив нашего дома стояла патрульная машина. А на ступеньке парадного крыльца сидел Расмуссен собственной персоной: локти на ступеньку повыше, ноги вытянуты вперед. Позади него миссис Голдман, хозяйка дома, жившая под нами, выглядывала из-за занавески, проверяя, что такое тут творится.
В руках полицейский держал две бутылочки содовой.
— Привет, девчата, — радушно поздоровался он.
Я промолчала, но Тру сказала:
— Здрасьте, офицер Расмуссен.
А взгляд так и приклеился к газировке. Волосы над ее лбом курчавились сильнее обычного, и после пробежки Тру пахла, как пахнет ладонь, если слишком долго сжимать в кулаке монетку.
Расмуссен похлопал по ступеньке рядом с собой. Когда Тру уселась, он протянул ей содовую, и она мигом осушила всю бутылочку. Улыбаясь мне, Расмуссен поинтересовался:
— Ну и чем вы сегодня занимались?
И покачал второй бутылочкой передо мной. Я затрясла головой: «Не хочу», так что он отдал ее Тру, которая рыгнула и тоже залпом опрокинула в себя.
— Язык откусила, Салли? — Расмуссен был одет в тяжелую синюю полицейскую форму. Я смотрела, как капелька пота выползла из-под фуражки и побежала по синей жилке на виске.
Тру сказала:
— Мы в зоосад ходили.
Будь в моем желудке еще хоть что-нибудь, кроме кусочка «Даббл-Баббл», меня тут бы и вырвало. Как моя собственная сестра может разговаривать с таким?
— В зоосад? — переспросил Расмуссен. — Ну, если мне не изменяет память, наш зоосад расположен рядышком с лагуной, верно?
Я не смела отвести взгляд от этого франкенштейновского чудища с рябым лицом, развалившегося на нашем крыльце.
— Скажи мне, Салли, я ведь не ошибся? Лагуна как раз напротив зоосада?
Вот же притворщик. Знает ведь, что мы там были. Сам же следил за нами. Я поглядела на небо: может, там что-то интересное в облаках?
— Ну и как сегодня Сэмпсон? — спросил Расмуссен.
Тру ответила:
— Мы не успели навестить Сэмпсона.
— Давно я не хожу на танцы! — выпалила я и сама себе поразилась.
Расмуссен вмиг перестал улыбаться.
— Что ты сказала?
— Да не обращайте на нее внимания, офицер. Салли воображает всякое. Типа «Давно я не хожу на танцы», — хихикнула Тру. — Ей кажется, Сэмпсон все время напевает про себя эту песню.
Расмуссен расхохотался, громко и гулко, с похожим звуком катится по дорожке боулинга тяжелый шар.
— О, так у тебя живое воображение? Это отличная штука. У моей сестры Кэрол тоже хватало воображения, теперь она сочиняет книжки.
Мама всегда считала, что воображение — это плохо, и из-за этого я чувствовала себя уродкой какой-то. Если бы я могла избавиться от воображения, ни секунды не раздумывала бы.
Миссис Голдман так и не отходила от окна, все выглядывала. Спасибо тебе, всемогущий Боженька. Если мне придется выхватить у Расмуссена пистолет и застрелить его, миссис Голдман спрячет меня в подвале, прямо как девочку по имени Анна Франк из книжки, которую она подарила мне прошлым летом за то, что я помогала ей и мистеру Голдману возиться в саду.
Расмуссен обернулся глянуть, куда это я таращусь, и отсалютовал миссис Голдман, которая сразу отпустила занавески. Когда поутру мы вместе выпалывали сорняки, я чуть не рассказала нашей хозяйке, как он погнался за мной. Она бы поняла, потому что, кажется, не очень любит полицейских и даже зовет их «гестаповцами». Как я теперь жалела, что промолчала!
Расмуссен похлопал по ступеньке рядом с собой:
— Не хочешь облегчить душу, Салли?
Я сделала шаг назад.
— Не знаю, слыхали ли вы, но совсем недавно кто-то дернул ручку пожарной тревоги рядом с лагуной. Шеф команды Бейли сказал мне, что вроде бы видел, как за гаражом Метцгеров прятались две девочки.
На исходе прошлого лета он убил Джуни Пяцковски. А теперь, наверное, убил еще и Сару. И я знала, как ему удается выйти сухим из воды. Тру права: Расмуссен весь из себя такой вежливый и хороший. Он даже вызвался помочь школе на сборе макулатуры, который у нас ежегодно устраивали, чтобы заработать денег для церковной благотворительности. И еще он силач. Помню, как Расмуссен подхватил связку бумаги, которую я прикатила в школу на игрушечной тележке «Радио Флаер», и бросил на весы так, будто она не тяжелее пушинки. И как он сказал: «Поздравляю, сегодня ты победила». А потом выдал мне четверть доллара и бесплатный купон на жареную рыбу, которую в школьном кафе давали по пятницам, пусть я притащила и вполовину не столько бумаги, как Вилли О’Хара, который вообще здорово умеет находить и собирать всякие вещи.
— Салли?
Я посмотрела на Тру.
— У тебя что, опять небольшой полет фантазии? — Моя сестра была на взводе, словно захмелела от газировки. А еще она улыбалась мне той улыбкой, при которой поднимается только один уголок рта. Нехорошей улыбкой. Улыбкой-дразнилкой. — Офицер Расмуссен хочет услыхать, не ты ли вызвала пожарных.
— Ты ведь уже знаешь, в какие крупные неприятности можешь угодить за ложный сигнал тревоги. Тебя предупредили еще прошлым летом, правда? — Расмуссен снял фуражку и провел пятерней по волосам. — Я рад, что это не ты, Салли. Всегда подозревал, что ты девочка хорошо воспитанная.
Подмаслить пытается! Хитростью выманить признание. Я поглядела на его ботинки. Коричневые, истертые, со сбитыми каблуками. Совсем не похожи на черные, в которых он был той ночью. И носки другие: белые в синий горошек. А вовсе не с розовыми и зелеными ромбиками. Но надуть меня у него не получится.
— Что ж, расспрошу местных насчет сигнала тревоги. Может, это был кто-то из девочек Бюшамов… И вы еще помните, как я предупреждал в прошлом году насчет разговоров с незнакомцами, верно?
Расмуссен встал. Боже, какой же он высоченный, ну просто каланча.
— Почему вы до сих пор не нашли Сару? — вырвалось у меня.
— Я убежден, она скоро объявится, не о чем даже переживать.
Прозвучало так, будто у Расмуссена разбито сердце, отчего отвращения к нему у меня только прибавилось. Он спустился с крыльца, задев меня по руке, и я вся содрогнулась. Потом ткнул пальцем в бумажный пакет и очень серьезно сказал:
— Кстати, Тру, обязательно нужно заплатить миссис Кенфилд за эти «Клинексы». Вспомни Четвертую заповедь.
Глаза у Тру сделались огромными, почти как бабулины щитовидные.
— Ага, я и собиралась. — Она проворно спрятала пакет за спину.
— Смотри не забудь, — сказал Расмуссен. — Мне очень жаль, что ваша мама болеет, и если вам вдруг захочется, приходите ко мне. Я завел нового щеночка, который в восторге от маленьких девочек.
— Спасибо, офицер Расмуссен, — сказала Тру. — В следующий раз, когда пойдем навестить Этель и миссис Галецки, мы с Тру непременно к вам заглянем.
Ну и подхалимка! Похлеще, чем новый продавец в обувном магазине, нам Холл про этого хитрюгу Джима рассказывал.
Расмуссен свернул от крыльца в сторону бюшамовского дома. Тру рассмеялась.
— Ф-фу, насилу спаслись. — Она упала на траву, а ее живот исторг громкое урчание. — Умираю с голода.
А я все смотрела вслед Расмуссену. Он заговорил с Вилли О’Хара, тот показал на шину своего велика. Расмуссен присел на корточки и что-то сказал Вилли, тот закивал в ответ. Расмуссен поднялся, шутя дал Вилли легкую затрещину, и тот заулыбался снизу вверх, словно полицейский чем-то его осчастливил. В точности как папа всегда повторял: дьявол способен принять любое обличье, какое пожелает.
— Может, бабулю навестим? — предложила я.
Расмуссен будет ездить по ушам сестричек Бюшам никак не меньше получаса, я тоже проголодалась, а бабуля наверняка угостит нас «чашечкой». Под которой она разумела чай. И если дядюшка Пол сейчас там, он, скорее всего, не обратит на нас внимания, так и будет строить себе домики из палочек от эскимо. В маленьком бабулином доме скопилось уже не меньше тонны этих самых домиков из палочек. Куда ни глянь, там еще один. Тру дружила с бабулей, но от дядюшки Пола ее оторопь брала. Особенно если тому хотелось поиграть в «Угадайку», как с мелкотой играют, это у него самая любимая игра. Но я-то все понимала. Потому что сестры О’Мэлли могут читать мысли друг дружки. Дядюшка Пол напоминал Тру об аварии.
— Нет у меня времени на визиты к бабуле, — возразила сестра. — Пора заняться цветками из «Клинекса».
Через два дня велосипедный парад, эстафетная гонка и пикник, а в завершение — салют над лагуной. Четвертое июля — самый лучший праздник в году, не считая Хеллоуина и Рождества.
— Где это вы обе пропадали?
Мы с Тру задрали головы. В дверях стояла Нелл. Волосы у нее были светло-коричневые, прямо как бумажный пакет Тру, спускались чуть ниже шеи и были уложены в прическу «пузырь» — по правде, Нелл вся на пузырь похожа. Ну, может, я слегка преувеличиваю. Мама называет Нелл «пышной», это вроде папиного «буйства».
— Шлялись по городу, — сказала Тру, опуская взгляд и шаря глазами в траве, точно высматривала клевер с четырьмя листиками. На них можно наткнуться, если лужайка не стрижена.
— Я вас все утро искала, — сказала Нелл. — Хотите навестить маму?
— То есть как «навестить маму»? — спросила Тру, будто ей все нипочем.
— Тетю Эдди зовут Марджи, она работает медсестрой в больнице и сказала, что протащит вас обеих внутрь, если вам захочется.
Нелл была одета во все чистое, потому что умела управляться со стиральной машиной и сушилкой. И выглядела почти как взрослая в своих розовых бриджах и розовой блузке, между третьей и четвертой пуговицами которой белел лифчик. Груди у нее прямо выпирали! Будто им не хватало только этого жаркого, влажного лета, чтобы вырасти круглыми и спелыми, как арбузы.
— Нелл, ну и сиськи у тебя вымахали, — прочитала Тру мои мысли. — Прямо солнце загораживают. Чем ты их накачала?
Нелл только фыркнула. Знала, что Тру ей завидует. С той самой поры, как Быстрюга Сьюзи показала нам свои грудки, Тру каждое утро задирала майку перед зеркалом на двери нашей спальни, и если встать в нужном месте, то можно было углядеть у нее легкие бугорки. Хотя, думаю, это просто зеркало такое кривое.
Нелл скрестила руки на груди. Не без труда.
— Так вам хочется проведать маму или нет?
Тру нагнулась, выдернула травинку, сунула в рот. И закрыла глаза. Она размышляла.
А я подпрыгнула и сказала:
— Я пойду!
Поскольку найти деньги на почтовую марку для письма мне никак не удавалось, требовалось лично передать маме, о чем сказал папа перед тем, как умереть. Что он прощает ее. Потому что, если она и вправду умирает, ей захочется услыхать эти приятные новости прежде, чем они снова встретятся в раю.
— Ты идешь? — спросила я Тру.
— Не-а. — И, подхватив пакет с «Клинексами», сестра зашагала на задний двор.
Тут я забеспокоилась. Тру, которая храбрее, и милее, и умнее, и общительнее меня, отчего-то решила, что проведать собственную умирающую мать — идея не очень разумная. Это заставило меня задуматься, и я чуть не пошла за Тру.
Но как раз в эту минуту на своем «шеви» подкатил Эдди Каллаган. Машина вся бирюзовая с белым, а еще у нее плавники, так что если вдруг случайно съедет с дороги прямо в лагуну, то ничего страшного. Нелл рассказывала, этот «шеви» достался Эдди задешево, потому что прежний владелец крупно задолжал книжникам. Я даже не сомневалась, что он посещал именно «Библиотеку Финни». Может, этот владелец забывал платить взносы, отчего миссис Камбовски и впрямь приходила в ярость, так что бедняге не осталось ничего другого, кроме как продать Эдди свою машину. И отдать деньги ей, чтобы не злилась? Надо будет потом спросить у Тру. В последнее время она подолгу торчала в библиотеке. Жульничала с Книжным Червем, наверное.
— Как делишки у моей малышки? — спросил Эдди у сисек Нелл, от которых, похоже, глаз не мог отвести. Я его не винила. Так и торчат прямо вперед, как фары на его машине.
Я забралась на заднее сиденье, Эдди выкрутил приемник погромче, и мы поехали по Влит-стрит к больнице, слушая песенку про «Любовное лекарство № 9». Но стоило нам встать у перекрестка Норт с Лисбон-стрит, как Эдди сказал: «Во черт, я что, скорость превысил?» И посмотрел в зеркало заднего вида, на котором качались меховые игральные кости.
Я развернулась на заднем сиденье и увидала Расмуссена. Мигалки на его машине так и полыхали.
Эдди подъехал к бордюру и подышал в ладонь. Очень разумно, ведь несвежий запах изо рта совсем некстати, когда говоришь с полицейским. Внезапно Расмуссен оказался рядом, просунул голову в салон, посмотрел прямо на меня и говорит:
— Салли, ты не могла бы выйти из машины?
Эдди, весь такой счастливый, что ему не выписали штраф, потянулся назад и выпихнул меня вон.
Расмуссен уселся на бордюре неподалеку и позвал: «Присядь, пожалуйста». Он снял фуражку, и мне снова подумалось: какие у него классные густые волосы, вот только ободок фуражки их примял. Сверху потемнее от пота, а нижняя половина цвета сладкой кукурузы с нашей фермы, спелой в самый раз.
— Я только что говорил с шефом пожарных Бейли, — сказал Расмуссен, когда я примостилась на бордюре в нескольких футах от него. — Знаешь, пожарные нашли теннисную туфлю на берегу лагуны, и она как две капли воды похожа на те тенниски, в какие Сара Хейнеманн была обута в тот вечер, когда пропала.
Радуясь, что мой расчет оказался верен, я стала сколупывать корочку с царапины, которой меня наградили колючие кусты Кенфилдов той ночью, когда я удирала от него по аллее.
— Салли?
От Расмуссена пахло — лучше не бывает. Не совсем «Аква Велва», как от папы, но чем-то другим, похожим на запах апельсина в тот момент, когда сдираешь с него корку.
— Никто тебя не накажет. Просто расскажи мне всю правду. Это ведь ты нашла тенниску?
Я оглянулась на «шеви». Нелл и Эдди даже не глядели в мою сторону. Если постарается, Расмуссен легко успеет схватить меня и впихнуть в багажник патрульной машины, а когда люди спросят потом, куда это подевалась Салли О’Мэлли, просто скажет: боже-ты-мой, я видел, как она уходила по Норт-авеню. Кажется, собиралась купить пару упаковок «Клинекса» в магазине «Файв энд Дайм».
— Салли?
Я смотрела на асфальт у бордюра. Там валялась палочка от мороженого, и я подобрала ее, чтобы отдать потом дядюшке Полу.
— Я знаю, тебе и твоей семье приходится нелегко, — проникновенным тоном сказал Расмуссен. — Правда знаю.
Да ничегошеньки он не знает! У него что, мама умирала? А может, его отчим вечно напивался в стельку? Разве умер у него отец, которому он кое-что пообещал, разве есть у него младшая сестренка, о которой нужно заботиться, и старшая сестра, которая окончательно свихнулась на почве любви? На миг мне даже подумалось: ну же, похищай меня, насильничай, убивай. Побыстрее с этим покончим! И от мыслей таких я вовсе перепугалась. Мысли в таком роде не выказывали того на-стыр-ства, какого ждал от меня папа.
— Ты должна сказать мне правду, Салли. Это очень важно.
— Да, я дернула за ручку. А тенниску нашла Тру под большой ивой у лагуны.
Рот у него сразу в твердую линию сжался.
— Это я и хотел узнать.
Расмуссен встал и потянулся в задний карман за бумажником. Распахнул его и вынул карточку. На ней значилось:
Дэвид Расмуссен. Участок 6. Жетон 343.
И номер телефона.
— Если вспомнишь еще что-нибудь, чем захочешь поделиться, звони по этому номеру. — Он постучал пальцем по цифрам. Грязь под ногтями. Наверное, осталась после того, как он зарыл Сару. — Или, если дело совсем срочное, вполне можешь прийти ко мне домой и рассказать. — И добавил, будто смущаясь: — У меня есть сад. Я слыхал, ты любишь возиться в саду.
Вот интересно, где он об этом слыхал?
Я встала, и Расмуссен протянул мне эту свою карточку с именем и номером телефона. К обратной стороне подклеена пятидолларовая бумажка. И это было довольно странно. Но и вполовину не настолько странно, как те фотографии, что мелькнули в его бумажнике. На одной, прошлогодней, красовалась я сама, в школьной форме. А за пластиковым окошком, куда можно вставить только один снимок, я увидела Джуни Пяцковски в особом платье для Первого Причастия. Не лицо, а сплошная улыбка. Бедняжка понятия не имела, что ее ждет.
Глава 14
Когда я забралась назад в машину, Эдди спросил:
— Чего ему было нужно?
— Просто задавал вопросы.
— О чем? — спросила Нелл, поглаживая Эдди по руке.
— Про Сару Хейнеманн.
— О той пропавшей девчушке? — удивился Эдди.
Я не стала показывать им карточку, которую мне дал Расмуссен. И не рассказала про фотографии — свою и Джуни Пяцковски, — которые заметила в его бумажнике. Какой с этого толк?
— Смотри, что я нашла.
Я протянула Нелл пять долларов, которыми Расмуссен хотел купить мое молчание. Подозревал ведь, что я знаю, какой он убийца и насильник. Как в том фильме, который мы смотрели вместе с Тру. Я не могла вспомнить, как он назывался, но там было про шантаж — это когда кто-то кому-то дает деньги, чтобы второй кто-то помалкивал, не то ему хуже будет. Вот чем были те пять «зеленых». Кровавые деньги.
Эдди отъехал от обочины, но я сказала:
— Не хочу больше в больницу.
Хотя мне хотелось повидать маму, сказать, что папа простил ее, и, может, полежать рядышком и рассказать, что у Расмуссена в бумажнике лежат мой снимок и фото убитой девочки. Надеялась, что она мне поверит. Хотя вряд ли. И от всего этого мне стало так грустно, грустнее даже, чем если бы я очутилась на необитаемом острове после кораблекрушения и не нашла там верного Пятницы.
— Клево. — Эдди выхватил деньги у Нелл и поддал газу. — Давайте заедем в «Млечный Путь».
Нелл вроде не сильно огорчилась, что мы не поедем навестить маму, ее вполне устраивало все, что предлагал Эдди. Я высунула голову в окно, чтобы хоть немного охладиться. На Норт-авеню мы миновали «Студию танца Элейн» и заброшенное здание шиномонтажа, которое случайно подожгла Мэри Браун. Клянусь, там еще воняет горелой резиной.
— Салли? — Нелл тоже высунула голову в окно.
— Чего? — Я втянула свою обратно внутрь машины, и она тоже.
— У вас с Тру все нормально?
— Ага.
— Ты знаешь насчет Холла, верно?
Она имела в виду, что он приударил за Рози Раггинс, официанткой с коктейлями и с родинкой над губой, похожей на крошку от шоколадного печенья. Мы только что проехали «Пиво и Боулинг у Джербака». Приметная машина Холла с деревянными боками стояла как раз напротив входа. А ведь сейчас он должен вовсю продавать обувь в магазине Шустера.
Нелл пристроила голову Эдди на плечо. Прическа прямо как проволочный моток для мытья сковородок — словно и не родственники вовсе, такие мы разные. Мама как-то показывала мне фотографию, где они вместе с отцом Нелл сидят на крыле автомобиля. Ну точно, Нелл пошла в своего папу грубо обтесанным подбородком и модным сейчас носом, похожим на трамплин для лыжников.
Она обернулась ко мне и сказала очень добрым голосом, отчего мне сразу сделалось не по себе:
— Врач говорит, мама выглядит не очень. Ты уж приготовься.
— Эй, вы двое! — буркнул Эдди. — Хватит уже болтать про смерть и прочее. Тоска же.
Он остановился прямо в центре Норт-авеню и включил поворотник, чтобы свернуть к «Млечному Пути». Я о нем слыхала, но не была там ни разу. Вокруг полно парней в кожаных куртках и девушек с «конскими хвостами», все смеялись и стояли себе, прислонясь к машинам, поглядывали вокруг, чтобы понять, смотрят ли на них. Гремел рок-н-ролл, и все орали, пытаясь докричаться до девушек на роликовых коньках, которые с красными подносами раскатывали туда-сюда между машинами.
Эдди втиснулся в свободное место, затащил внутрь какую-то штуку с маленьким динамиком и сказал:
— Привет.
— Добро пожаловать в «Млечный Путь»… Мы готовим по рецептам иных миров, — ответил далекий голос, но таким тоном, словно это все неправда.
— Привет, тетя Нэнси, это я, Эдди.
Динамик засвистел.
— Чего тебе, Эдди?
— Четыре чизбургера без лука, четыре порции картошки и четыре тройных марсианских коктейля.
Вот тут-то до меня и дошло, почему заведение зовется «Млечный Путь», — потому что на каждом столбике были нацеплены все эти планеты, красные и синие, а еще спутники и звезды. А роликовые девушки — сплошь в серебряных юбочках, и на головах у них из стороны в сторону качаются антенны.
— Когда ты, наконец, выкроишь время поменять мне масло? — спросила тетя Нэнси через динамик.
— Ох… Да хватит уже меня дергать. Сказал, поменяю — значит, поменяю.
Динамик опять засвистел, а потом тетя Нэнси завопила:
— Четыре бургера «Галактика» без лука, четыре картошки фри и четыре шоколадных коктейля. С вас два пятьдесят семь! — А потом добавила: — Завтра же, Эдди, или я расскажу твоей маме, на что я наткнулась в кузове машины, когда искала фонарик.
Эдди сделался того же розового цвета, что и бриджи на Нелл.
— А что она увидела в багажнике? — заинтересовалась Нелл.
— Да ничего. — Когда Эдди врал, левая бровь у него дергалась. Вот интересно, знает ли об этом Нелл? — Просто пивные банки, ты же знаешь, как ма относится к выпивке после несчастного случая с отцом.
У мамы Эдди, то есть у миссис Каллаган, муж погиб прошлой зимой на пекарне «Хорошее настроение». Гроб на похоронах стоял открытый, так что можно было поглядеть на мертвого мистера Каллагана, который и живой-то был страшный, а после смерти и вовсе жуть. Особенно после того, как побывал в прессе для печенья. Но мистеру Беккеру из «Погребальной службы Беккера» как-то удалось надуть лицо мистера Каллагана обратно, и в результате он сделался похож на один из тех восковых манекенов, что показывают за десятицентовик на ярмарке штата Висконсин. Обычно это Мэрилин Монро или Кларк Гейбл.
Эдди оглядел свою прическу в зеркало, вышел из машины и отправился поболтать с Ризом Бюшамом, который стоял, привалившись к ограде, у двери с надписью «Куколки». Риз играл в кости с какими-то другими мальчишками. Он приставучий, вечно колотит кого-то, или толкается, или обзывается всякими словами, даже похуже Жирняя Эла Молинари. Но, похоже, Эдди водит с Ризом дружбу. Они поболтали, со смехом оглядываясь на машину. Тут я забеспокоилась о Нелл. Говорила же бабуля: «Будешь бегать с собаками — подхватишь блох».
Нелл пялилась на Эдди так, будто он красавчик хоть куда, хотя на самом деле Эдди костлявый, весь в прыщах и вообще не особо хорош собой. Но вот волосы у него и вправду красивые, темно-русые, он их взбивает и зачесывает коком. А Нелл сама не своя до волос — так, может, они из-за волос вместе? «Потому-то люди и влюбляются друг в дружку, — говорила нам мама, — влюбляются, потому что у них есть что-то общее».
— Ты его любишь? — спросила я.
Нелл размазывала по губам ярко-розовую помаду, глядя в зеркало.
— А ты что, роман пишешь?
Тут к нам подкатила девушка на роликах, так что Нелл быстренько заулыбалась и говорит:
— Привет, Мелинда.
Мелинда прицепила поднос с едой к окошку со стороны Нелл.
— Привет, Нелл.
Маленькие антенны так и мотались над ее головой. Я не знала точно, зачем это надо, но потом вспомнила, что кафе космическое и тут повсюду штуки как из фильма про Флэша Гордона, так что Мелинда, наверное, изображала космического муравья или что-то этакое.
Нелл потянулась к рулю и подудела в клаксон, спевший «А-хуга!» — давала Эдди понять, что еду принесли. Он рассмеялся каким-то словам Риза Бюшама и неторопливо двинулся к машине.
Эдди мило улыбнулся Мелинде, когда та прокатилась мимо него, но, усевшись в машину, с обидой сказал Нелл:
— Заруби на носу: я возвращаюсь в машину не когда зовут, а когда я сам решу, что пора. — Он выглянул в окно. Риз Бюшам смотрел прямо на него. — Даже не вздумай выкинуть что-то подобное еще хоть раз. Ты мне не бибикай, поняла? — И рванул Нелл за волосы — так, что у нее голова запрокинулась.
— Прости, — прохныкала она.
— На первый раз прощаю, сестренка. — Эдди дернул чуточку сильнее, потом отпустил и оттолкнул ее голову.
По дороге домой все молчали. Разве что ведущий рассказал по радио, что Четвертого июля возможен дождь. Пакет с едой согревал мне колени, но я, хоть и была голодна, не могла проглотить ни кусочка, все думала о том, как Эдди поступил с Нелл. Так вот запросто усмирил ее.
Когда мы подъехали к нашему дому, Нелл выбралась из машины, и желтый мамин шарфик затрепетал на ветерке. Я едва успела хлопнуть дверцей, как Эдди ударил по газам. Мы с Нелл так и стояли рядышком, глядя, как он уносится прочь по Влит-стрит, и слушая, как песня Диона про влюбленного тинейджера затихает вдали.
Глава 15
Я догадывалась, что Тру сидит на скамейке на заднем дворе, складывает салфетки вперед, и назад, и вперед, и назад, в одну пухлую полоску, чтобы потом заколоть ее посредине невидимкой и медленно разделить слои «Клинекса», пока ее творение не станет неотличимо от цветка гвоздики, а мама всегда говорила, что эти цветы замечательно подходят для похорон.
Проходя мимо кухонного окна наших хозяев, я вспомнила, чем мистер Голдман возмущался вчера, пока я ковырялась в земле, выискивая червяков. Он спорил с женой, и его громкий голос долетал до меня через оконную сетку; он кричал, что Холл — betrunkenes[11], и что он не платит за аренду, и что если скоро не заплатит, нам настанет… kaput. Миссис Голдман тихо ответила мужу: «Но, Отто, что будет тогда с детьми?»
— Трууууу! — позвала я, чтобы не напугать сестру. Тру по-настоящему ненавидела, когда ее заставали врасплох. Такой нервной стала после аварии. — Труууу…
Нет ответа. Вот теперь я сама напугалась. Может, Расмуссен передумал гоняться за мной? Может, он решил поохотиться на Тру? Я пробежала по дорожке рядом с розовыми пионами, которые уже никак не пахли и вообще осыпались. Остановилась возле угла и осторожно высунула голову. Тру окружало по меньшей мере штук двадцать белых гвоздик, так что она походила на девушку на праздничной платформе. Она попросту не слышала меня, потому что умела делаться глухой, если трудилась над чем-то. Между пухлых губ высовывался кончик языка.
Я с минуту смотрела, как работает младшая сестренка, а потом, поскольку за нашим двором начинался двор Кенфилдов с одноэтажным домом, стала глядеть на спальню Дотти, и на миг, клянусь, мне показалось, что она стоит в окне. Теперь даже я сама забеспокоилась о своем воображении.
— Чего это ты там делаешь? — расхохоталась Тру. — Смотришь, не желает ли Дотти выйти поиграть?
— Очень смешно. — Я помахала пакетом с едой: — Я раздобыла кое-что.
Сбросила обувь и прошла к сестре по траве.
— Это ты, либхен? — Миссис Голдман высунула голову из сарайчика с инструментами, стоявшего у гаража. Это она меня так называла. Либхен на немецком значит «милая».
Миссис Голдман была большой женщиной и, работая в саду, надевала заношенные коричневые брюки мистера Голдмана, цветом точь-в-точь как ее собственные кудрявые волосы. В Германии она учила детей, но теперь просто сдавала часть дома жильцам. На ней была отглаженная желтая рубашка с закатанными рукавами; как всегда, первое, что мне бросилось в глаза, — это цифры у нее на руке.
Я спрашивала у миссис Голдман про татуировку прошлым летом, когда впервые помогала ей поливать сад. Спросила, не была ли она моряком, как Холл. Она опустила шланг и удивилась, с чего я так решила. Когда я показала на ее руку, она улыбнулась мне заржавленной улыбкой, словно давно ею не пользовалась, и рассказала, что в Германии их с мистером Голдманом схватили плохие люди и отправили в место под названием «концентрационный лагерь». Там их заклеймили, как скотину. И те плохие люди назывались «нацисты». Для миссис Голдман они были чем-то вроде монстра Франкенштейна, потому что она поежилась, когда сказала «нацисты». Похоже, с этими людьми ни за что не стоило иметь дела. У них были немецкие овчарки, а всем известно: этим собакам доверять не следует (кроме, конечно же, Рин-Тин-Тина, он исключение из правил).
— Может, вам нужна помощь? — спросила я. Тру с миссис Голдман не особо-то вежливая, так что если я скажу что-то приятное, глядишь, как-нибудь заглажу это. Тру недолюбливала хозяев, потому что они не разрешали держать домашних животных, и ее псу Грубияну пришлось остаться за городом, у писающего куда попало Джерри Эмберсона. Вот Тру и дулась на них.
— Пойдем-ка в сад. Хочу кое-что показать тебе, — сказала миссис Голдман, выбираясь из сарайчика.
Тру снова согнулась над своими цветами.
— Видишь? — показала миссис Голдман на грядки. — Плоды наших трудов. Первые помидоры.
Я сказала ей то, что всегда говорила, когда из земли вылезали ростки:
— Просто чудо.
Посеешь мелкие невзрачные семена, а немного погодя из них вырастает что-нибудь вкусное или душистое. Это всякий раз сотрясало меня. И заставляло вспомнить, как папа засеивал топкое весеннее поле на ферме, а к лету там уже качалась кукуруза, и ее шелест я слышала по ночам, через окно спальни: шшуш… шшуш… шшуш…
— Ты права. — Миссис Голдман опустилась на колени и легонько погладила маленькие зеленые шарики, словно то были изумруды какие. — Настоящее чудо.
— Марта, иди сюда, — раздался голос мистера Голдмана.
Мы оглянулись, и он тут же исчез в доме. Мистер Голдман не особо общителен. И по-английски говорит так себе.
Я помогла миссис Голдман подняться, скользнув пальцами по татуировке. Надеюсь, не сделала ей больно.
— Огород всегда подспорье, — сказала она. — Никогда не знаешь, что может случиться. И хорошо думать, что уж без свежих овощей точно не останешься.
Миссис Голдман и мой папа отлично бы поладили. Она отряхнула брюки, приподняла мой подбородок пальцами и сказала учительским голосом:
— Тебе стоит поостеречься, либхен. Жизнь не так проста, как сад, где цветы — всегда цветы, а сорняки — всегда сорняки.
И медленно пошла к дому, а поравнявшись с Тру, сказала:
— Красиво.
Тру сделала вид, будто глухая.
А я только тут вспомнила про бургеры, картошку и коктейли. Подобрала глянцевитый пакет и поставила на скамейку рядышком с Тру.
— Где взяла? — спросила она.
— Нелл и Эдди возили меня в «Млечный Путь». Как-нибудь надо будет сходить туда. Там очень модерново. — Тру преклонялась перед всем модерновым. — Там есть девушка на роликовых коньках, ее зовут Мелинда, она автоофициантка, привозит еду к тебе в машину.
— Правда? — Тру открыла пакет и достала картошку. — Вот чем я стану заниматься, когда вырасту. Буду работать в модерновом автокафе, заработаю денег и заберу Грубияна у Джерри Эмберсона.
Она оглянулась, когда миссис Голдман хлопнула сетчатой дверью на заднем крыльце, и показала двери язык. Потом кивнула на велосипед:
— Что думаешь?
Тру продела красные, белые и синие бумажные ленты сквозь спицы и навязала такую же бахрому на ручки руля. То был синий «швинн», на котором раньше ездила Нелл. Мама отдала его Тру, когда у той угнали ее собственный велик. У меня велосипеда не было, и я не совсем понимала почему. Наверное, все решили, что сестра будет давать мне покататься, но если так, они плохо знали Тру.
Выудив из пакета бургеры «Галактика», она протянула мне один.
— Маму видела?
— Не-а. — Я вдруг пожалела, что так и не навестила маму. И сразу стало тоскливо. — Но я видела Расмуссена, он дал мне вот что. — Я сунула руку в карман, вытащила карточку и рассказала, как Расмуссен остановил нас на Норт-авеню.
— Значит, он тебя расколол? — Сестра одарила меня маминым взглядом «Ну, и кто наделал на ковер?», потому что сама в жизни не созналась бы Расмуссену. Надо загнать много бамбуковых щепок под ногти Тру, чтобы она признала свою вину. — Ты так ему и сказала, что вызвала пожарных?
Я подняла один из ее бумажных цветков и воткнула сестре в волосы.
— Пришлось. Он загнал меня в угол.
— А что еще он сказал? — спросила Тру, сунув в рот картошину.
— Сказал, у него есть свой сад и будто он слыхал, что я люблю возиться с растениями.
Рот у сестры распахнулся до отказа, оттуда вылетели громкий смех и немного картошки.
— С чего он это взял? Спорим, ты чуть не обделалась со страху. — Она утерла губы ладошкой и вытерла ее о платье.
Тру пахла почти как тенниска, сразу когда снимешь ее с ноги. Вот интересно, неужели я тоже так пахну? Может, нам надо было послушаться Нелл и принять ванну? Всю последнюю неделю мы ходили в одной и той же одежде, а по шортам Тру легко было понять, как мы провели это время. Сбоку потеки от лимонада, спереди — пятна от «трущобного лакомства» Бюшамов, на кармашке прилип кусочек «Даббл-Баббл».
— А может, и обделалась, — добавила сестра.
— Заткнись, Тру, или я тебя заткну.
— Не справишься. — Тру смяла пакет и швырнула в меня. — Помоги приклеить эти цветы на место, ладно?
Я не сказала сестре про фото в бумажнике Расмуссена, все равно не поверит. Посмеется и обзовет психованной.
Следующие полчаса мы, почти не разговаривая, обклеивали велик бумажными гвоздиками.
— Как думаешь, если мама умрет, нам придется смотреть, как она лежит в гробу, как в прошлый раз на мистера Каллагана? — спросила я.
Тру отошла на шаг и, щурясь, разглядывала «швинн».
— Наверное. Может, нас даже заставят целовать ее. — Сестра зачмокала пухлыми губками. — Эдди ведь пришлось целовать своего папу, прямо в губы. Помнишь?
Папин гроб был закрытым, мама сказала, похороны с открытым гробом кажутся ей изуверскими. Но, появись у меня шанс в последний раз поцеловать папу по-эскимосски, я бы поцеловала. С радостью.
Тут до нас донеслись стук мяча и веселый галдеж. Такие вот звуки, летящие с детских площадок, всегда напоминают мне историю про искушение, которую в классе катехизиса рассказала сестра Имельда. Что-то про сирен, которые заманивают моряков на свой остров.
— Рванули? — спросила Тру.
Я поглядела через улицу. Дети высыпали на асфальт, играли в классики, прыгали через скакалку и уже вовсю затевали игру в «Рыжего разбойника». А поодаль собралась другая толпа — поглядеть на Арти Бюшама и Вилли О’Хару, которые как чокнутые резались в тетербол.
— Не могу. Обещала навестить Венди.
На самом деле ничего такого Венди я не обещала, просто хотелось спуститься в подвал, где всегда прохладно, и написать еще одно письмо маме или вытащить из-под кровати сочинение про благие дела и дописать в нем еще хоть немножко слов. В подвал я спускаюсь, когда хочется побыть в одиночестве.
Тру странно так на меня посмотрела. Обычно, если она хотела пойти куда-то, я обязательно шла вместе с ней. Но сегодня мне было как-то не по себе, да и от Тру я уже устала (прости, папа).
Сестра окинула велик долгим взглядом, улыбнулась еще разок и унеслась на улицу, «конский хвост» так и скачет по спине.
Я убедилась, что Тру добежала до цели, потому что порой сестра бывает ужасно коварной. И иногда тихонько прокрадывается обратно, чтобы последить за мной. Я дождалась, пока она заговорит с инструктором Бобби, наблюдавшим за игрой в тетербол, и только потом направилась к заднему крыльцу.
— Прифет-прифет-прифет, Фалли О-Малли.
От неожиданности я дернулась и стала озираться по сторонам, но Венди нигде не было видно.
— Фалли О-Малли.
Может, мне уже мерещатся голоса, как Вирджинии Каннингем? Но потом я оглянулась — и вот она где. Венди Бюшам качалась на подвешенной к столбам скамейке на крыльце Кенфилдов, словно слыхала, как я соврала Тру, и тут же явилась, чтобы не позволить мне на этой неделе согрешить враньем.
— Иди фюда, Фалли О-Малли, — пропела она погромче.
Венди по большей части поет, а не говорит, что еще раз доказывает: Бог, если что-то и забирает у человека, обязательно дает что-то взамен. Венди почти всегда взаправду счастлива.
Я уже было решила не замечать ее зова и все равно уйти в подвал, спрятаться в свое убежище, но потом вспомнила, что к людям, которым повезло меньше, чем мне, следует относиться с добротой. В последнее время, впрочем, мне самой везло не настолько часто, как должно везти ирландским девочкам.
Я взобралась по ступенькам дома Кенфилдов. Венди раскачивалась изо всех сил, и я поняла: что-то ее гложет. Всякий раз, стоило Венди занервничать, она усаживалась на качели.
— Фалли О-Малли, попка бо-бо! — завопила она, хоть я стояла в двух шагах от нее.
Я оглянулась. Тру разделывала инструктора Бобби в пух и прах в свой разлюбезный тетербол. Инструкторша Барб вместе с Вилли и Арти так и покатывались с хохоту.
— Венди, — сказала я, — перестань раскачиваться, а то еще свалишься, и тогда твоей попке точно бо-бо будет.
Венди послушалась. Тру вечно дразнит меня из-за Венди. По-моему, ей просто завидно, ведь остальные липнут к Тру из-за ее общительности. Тру считает, я нравлюсь Венди только потому, что у меня имя и фамилия рифмуются.
Я уселась на деревянное сиденье рядом с Венди. Она всегда такая чистенькая, потому что миссис Бюшам присматривает за ней особо заботливо. И у нее блестящие черные волосы, точно ваксой намазанные.
— Венди, а где твои туфли и носки?
— Приятно ф тобой штретитфя. — Она потянулась ко мне и неуклюже обняла.
— Ладно, Венди, ну хватит уже, — сказала я, досчитав до десяти. Она обняла меня еще крепче. — Задушишь ведь.
Венди тотчас ослабила захват и положила голову на мое плечо. Волосы у нее пахли шампунем «Прелл».
— Попка бо-бо.
— Это ничего. Моя тоже бо-бо. — Я давным-давно поняла, что если повторять Венди ее же слова, то она скоро перестанет твердить одно и то же как заведенная.
Венди заглянула мне в лицо:
— Прафда?
— Правда.
— Тру? Жлюка? — Она ткнула пальцем в направлении улицы.
— Еще какая.
Моя сестра вопила что-то инструктору Бобби. Слов не разобрать, но она этак недовольно топала ногой. А Бобби дразнил Тру, держа мячик над головой, чтобы ей не дотянуться. С каждой секундой сестра злилась пуще и пуще, того и гляди взорвется. Мне даже взгрустнулось немного: вот я радуюсь, глядя, как Тру не добивается своего, а это ведь плохо — такому радоваться.
— Венди, постарайся хорошенько подумать. Я спрошу у тебя кое-что.
Мне хотелось понять, что случилось на лестнице в погреб Донованов, почему она скатилась по ней. Что сделал с нею Расмуссен? Пусть она и монголоид, но соображает все равно неплохо. Мама говорит, у них бывают разные степени, а Венди просто чуточку, совсем не сильно монголистая.
— Ты готова к первому вопросу?
Она замотала головой, вверх и вниз.
— Как это случилось? — спросила я, указывая на бинты, обмотанные вокруг ее головы.
Венди снова принялась раскачиваться, все сильнее и сильнее. Я притопнула ногой, чтобы остановить качели.
— Венди?
— Моя попка…
— Знаю. — Чтобы заставить Венди слушать, всегда требуется несколько попыток. — А вот эта бо-бо на голове как случилась?
Она глядела на меня, склонив голову набок, совсем как та умненькая собачка с пластиночной обложки. Я опять показала на бинты:
— Это кто с тобою сделал?
— Упала.
— Упала? — возмутилась я, потому что мне хотелось услышать, что это Расмуссен сделал ей больно, и тогда нас стало бы уже двое, и кому-нибудь, возможно, пришлось бы поверить нам. — Ты лучше не ври мне.
Венди расплакалась, это у нее выходило очень ловко, особенно если кто-то повышал голос.
— Моя попка…
— Прости меня, прости… ну, не хнычь. — Я тронула ее за пухлую ладошку. Кто-то покрасил ноготки Венди в арбузно-розовый цвет, а на безымянном пальце красовалось пластиковое колечко из пачки «Крэкер Джек», она его никогда не снимала.
— Это офицер Расмуссен, Венди? Это он тебя толкнул? Поэтому ты упала?
— Веееендииии!..
Венди так и встрепенулась на мамин зов. Если каждый день приходится сзывать к обеду тринадцать детишек, легкие крепнут — хоть в опере пой. Так говорила моя мама, и делалось ясно: хоть они вместе с миссис Бюшам пели когда-то в церковном хоре, мама думает, что если у кого-то тринадцать детей, пусть семья католическая, этот кто-то — тупица.
— Веееендииии…
Она соскочила с качелей и засеменила к ступенькам.
— Мама жофет, Фалли О-Малли.
— Хорошо, — сказала я, но решила еще разок попытаться: — А Расмуссен был там, внизу, в погребе?
Она кивнула: «да», потом замотала головой: «нет», так что я не поняла, каков ответ, но переспрашивать было поздно, Венди уже спрыгнула с крыльца Кенфилдов.
Внизу она обернулась, сказала: «Рафмуффен» — и помчалась через лужайку к своему дому.
— В округе орудует злой человек. Смотри в оба, Венди! — крикнула я.
Она снова обернулась на миг и потрусила дальше этим своим нелепым шагом. Я покачалась еще немного. Все-таки кое-что: теперь я не одна, со мной Венди Бюшам, пусть и немного странная. Но она только что практически сказала, что Расмуссен пытался убить и снасиловать ее.
Глава 16
В подвал я впервые спустилась вечером после дня рождения миссис Каллаган, когда мама с Холлом жутко раскричались друг на дружку. Мама хотела, чтобы Холл прекратил столько пить, а тот хотел, чтобы мама заткнулась и не лезла в его выпивку. Тру ночевала у бабули, а Нелл отправилась на танцы Союза католической молодежи. Я сидела одна в своей комнате, читала «Мой друг Флика», когда они затеяли ссору, а потом еще расплакался призрак Дотти, и я уже просто не могла всего этого слышать. В общем, я выбралась из кровати и на цыпочках прокралась по кухне, стараясь не наступить на тот кусок линолеума прямо перед плитой, который вечно издавал такой звук, будто у него живот болит, а потом — вниз по лестнице, мимо задней двери Голдманов, и еще пролет. Я захватила фонарик, так что было не так страшно, как рассказываю.
В подвале я села на коричневый чемодан сплошь в наклейках из далеких стран, с которым Холл не расставался, когда был моряком. Я намеревалась сидеть в подвале и читать, пока не затихнут гудевшие от воплей трубы. Какое-то время развлекалась театром теней, который устроила при помощи пальцев и фонарика, уперев его в старую лампу. У меня отлично получались птичка и… другая птичка. Пролетая по стене, одна из птичек наткнулась на фотографию дамы в шляпке. Я глазам своим не поверила. Всего пару часов назад я побывала в подвале, помогала маме протягивать рубашки через отжим, слушала, как она шутит: вот бы внутри одной из них по-прежнему был Холл. Как получилось, что я не заметила тогда эту фотографию? Я подобралась поближе. Потрогала снимок, тот скользнул по стене, и за ним открылась дырка-тайник. Внутри виднелся верхний край чего-то вроде обувной коробки. Потом кто-то запищал — мышь, наверное; я не испугалась, но тут же подумала: а что, если это летучая мышь, а вот их я боюсь — из-за фильма ужасов «Дракула», который мы с Тру видели и наужасались вовсю. Вот я и подождала, не запищит ли снова, и только потом сунула руку в дыру, вытащила коробку и задумалась, чья она. Миссис Голдман? Сбоку написано: «Обувь Шустера, размер 7», мамина коробка, ведь миссис Голдман носит туфли десятого размера, да еще особые, потому что в концентрационном лагере у нее что-то случилось с ногами. А у Нелл пятый размер. Я подняла крышку. В коробке лежали две фотографии и маленькое колечко, сделанное из шуршащей бумаги для выпечки, в какую пекари из «Хорошего настроения» заворачивают печенье с шоколадной крошкой. На одном фото были дети в мантиях и плоских шляпах с кисточками, наша Нелл в такой же получала выпускной диплом. Вот только Нелл на снимке не было. Фотография вроде старая, и прически у детей даже почуднее, чем у Нелл, а это даже представить себе сложно. Школа имени Вашингтона… выпуск 1940 года… Фотостудия Джима Мэдигана — вились понизу кружевные буковки.
После разговора с Венди я спустилась в подвал, вынула коробку из тайника и уселась на краешек старого коричневого чемодана. Бумажное колечко я нацепила на палец, и оно сразу соскочило, как всегда, — так что я сунула его назад в коробку, под другую фотографию. Мою любимую. Ту, где мама со своими волнистыми волосами и веснушками сидит в лодке, плывущей по нашей лагуне. На этом снимке маме примерно столько же лет, сколько Нелл сейчас, на ней шорты, которые открывают ее красивые ноги, точеные лодыжки, и она выглядит очень, очень счастливой, я ее такой счастливой даже и не видела с самой папиной смерти. Один взгляд на мамину улыбку — и я чуть не расплакалась, прямо в подвале, где пахло угольной пылью. А если бы и заревела, кто попросит меня заткнуть фонтан? Некому. И скажите, ну зачем людям слезные канальцы, если им не разрешают плакать?
Другая фотография, с выпускниками, наоборот, подняла мне настроение, потому что я знала многих на снимке. Там были миссис Каллаган, и миссис Бюшам, и мистер Кенфилд, и мистер Питерсон из аптеки. Их я разглядела еще в прошлый раз. А сегодня увидела еще двоих. Невзрачный паренек с чуточку торчащими ушами, но я не могла сообразить, кто это, потому что он отвернулся от объектива. Кто бы это был? Я точно видела его прежде, но узнать никак не получалось. А в верхний край упирался кто-то высоченный. Я пригляделась. Волосы светлые. Да это же Расмуссен! И как я не замечала его раньше? Он не особо изменился с тех пор. Надо будет отнести фотографию бабуле, может, она с ходу скажет, что Расмуссен рос убийцей и насильником. Некоторые ребята с Влит-стрит как вырастут, точно в тюрьму загремят. Скажем, Жирняй Эл Молинари, чей брат Кучи не так давно угодил за решетку за то, что угнал у старого Хольцхауэра «кадиллак», который пылился в гараже без всякого дела. Ризу Бюшаму тоже прямая дорога в тюрьму. Эти мальчишки такие злющие, сразу видно, что ничего путного из них не выйдет. Не должно выйти в любом случае.
С лестницы донеслись шаги, и я быстро пихнула карточку в коробку.
— Кто внизу?
— Это всего лишь я, миссис Голдман.
— Что это ты делаешь в темном подвале, либхен?
— Ничего.
Она помолчала. Потом говорит:
— Я понимаю.
Она остановилась на площадке.
— Когда ты закончишь с этим «ничего», подойди к задней двери, пожалуйста. Я хотела угостить тебя кое-чем.
Вот так так… Не знаю, что на меня нашло. Слезные канальцы пригодились, да еще как. Закончив, я вытерла щеки грязной белой блузкой, лежавшей на стиралке, и сунула обувную коробку назад, в потайную дыру. А потом поднялась по ступенькам и нашла у двери миссис Голдман зеленую стеклянную тарелку. Шесть сахарных печенюшек и холодное, свежее молоко в прозрачной чашке, как мама давала.
Я отнесла печенье и молоко к скамейке во дворе, рассматривала украшенный к Четвертому июля велик сестры и думала про фотографию со счастливой улыбчивой мамой и про то, какая же замечательная миссис Голдман, даже если она не обязана творить добро (тем более после всего зла, которое причинили ей нацисты). И пусть даже в последнее время мне не особо везет, этот велик, и та фотография, и наша хозяйка вселили в меня такую благодарность, что я соединила ладони, склонила голову и сделала то, чему научил меня папа. Я поблагодарила всемогущего Бога за его благословение. И особенно — за те потрясающие, потрясающие золотистые печенюшки, которыми я набила рот, не оставив ни единой крошечки Тру.
Глава 17
Вилли О’Хара нравился Тру, хоть он собирал марки и вечно приставал ко всем, выклянчивая ненужные конверты. Это увлечение я считала глупостью, но Вилли же не виноват. Мама у него художница, отчего и сам Вилли вышел чуточку странным. Миссис О’Хара мастерила всякие штуки из глины. «Бюсты», называл их Вилли. А я точно знаю, что это вранье, ведь «бюст» — это то же самое, что «сиськи». Вилли, наверное, придумал это, чтобы рассмешить Тру, и я не могу его винить. Смех у моей сестры звучит как мелодия «Собачий вальс», которую она умеет играть на пианино, услышишь такой смех — и сразу радуешься.
Вилли толстоват, но уверяет, что у него просто «широкая кость», да и говорит он забавно. Так звучит «бруклинский акцент», объяснила мне Тру. Вилли переехал в наш квартал из Нью-Йорка прошлым летом, спустя месяц после нас, потому что отец Вилли сбежал от них со своей блондинкой-секретаршей, а в здешних краях у его мамы жили родственники, которые помогали им чем могли, пока миссис О’Хара не встанет на ноги. Хотя, похоже, уже встала: недавно миссис О’Хара зачастила в ночные клубы с офицером Риорданом, и Быстрюга Сьюзи считает, они скоро поженятся.
Фонари уже зажглись, так что все мы сидели на крыльце О’Хара, готовясь сыграть в «Красный свет, зеленый свет, привидений нет как нет». Я тогда знать не знала, что в следующий раз поиграем мы очень не скоро.
Вилли объявил:
— Сегодня у красных лодок нашли мертвую Сару Хейнеманн, и мама говорит, она очень рада, что я не девочка, потому что вряд ли смогла бы жить без меня.
Мы притихли, но потом Тру спросила, облизнув губы:
— А что, ее убили и снасиловали, как и Джуни?
— Угу. — Скорчившись, Вилли навязал на шнурки по два узла, потому что координация у него не очень-то, и на прошлой неделе Вилли споткнулся и полетел с этого самого крыльца, здорово раскроил руку и теперь каждые пять минут тыкал всем под нос свои раны. — Так офицер Риордан сказал моей маме, я сам слышал.
Арти Бюшам сидел рядом со мной, а Венди — рядом с ним. Быстрюга Сьюзи перестала играть с нами в «Красный свет, зеленый свет», потому что, по ее словам, уже выросла из подобных игр. Она была на детской площадке через улицу, сидела на скамейке, подбрасывала красный мячик и разговаривала с Бобби и Барб.
— В этом году Сара собиралась на Первое Причастие, — сказал Арти. — Спорим, ее похоронят в праздничном платье. Как Джуни.
Все это так грустно, что никто из нас не смотрел друг на друга.
— Моя мама говорит, волноваться не надо, — сказал Вилли. — Этого гада скоро поймают, потому что у нас замечательные полицейские, офицер Расмуссен и офицер Риордан.
Ох, бедняга Вилли. Думаю, мамы-художницы не особенно умные, ведь если дать себе труд подумать хоть минутку, сразу станет ясно как божий день, что Расмуссен — не тот, кого из себя строит. Как сказала бы бабуля, все судят о книге по ее обложке.
Я повернулась к Венди, и она с громким чмоком послала мне воздушный поцелуй.
— Как там дела у вашей мамы? — спросила Мэри Браун, сидевшая на ступеньку выше. Это явно в наш с Тру адрес: такие вопросы нам теперь обязательно задавали не меньше раза в день.
— Ей гораздо лучше, — ответила Тру, хотя и понятия не имела, как у мамы дела, потому что Нелл уже пару дней отказывалась с нами разговаривать. Они с Эдди крупно повздорили. Прошлым вечером я слыхала… черт, да весь квартал слыхал, как Нелл орет на Эдди, гоняясь за ним по Влит-стрит, размахивая над головой лифчиком и вопя со всей мочи: «Мелинда? Мелинда?! Ты дошел до второй базы с этой сучкой из дальнего космоса?»
Выяснилось, что тетя Нэнси видела в багажнике машины Эдди вовсе не пиво (я же говорила, у него глаз дергается, когда он врет). Нелл вытащила ключи из кармана его джинсов, когда Эдди вздремнул после ежедневных упражнений, которыми они занимались в ее комнате. Хотела сделать доброе дело, выбросить пивные банки, чтобы у Эдди не было скандалов с мамой. И под запасной покрышкой наткнулась на лифчик. Начиная со вторника Нелл рыдала, запершись в своей комнате, и уж точно не ходила в больницу Святого Иосифа проведать маму. И Холл тоже не ходил — слишком был занят своей интрижкой с Рози в «Боулинге Джербака», о чем знали все вокруг, ведь в нашем квартале шила в мешке не утаишь. Люди еще сочувственней начали таращить глаза на нас с Тру и сразу прекращали разговоры, стоило подойти поближе.
Шашни Холла с Рози нас не особо заботили. Да что там, мы бы только порадовались, если б не пришлось его больше видеть. И уж точно мы не позволим Рози Раггинс заделаться нашей новой мамой, у нее уже есть дети — мерзкие близнецы Рики и Ронни, которые вечно ковыряются в носу и устраивают подлые розыгрыши: то сунут тебе на парту подушку-пердушку «Вупи», то выдернут стул как раз в тот момент, когда ты садишься. Пакостники, одно слово.
— Похоже, опять будет гроза, — сказал Арти.
Ага, уже вовсю пахло грозой. Я оглянулась на Тру: так и есть, растирает руку. На другой стороне улицы Быстрюга Сьюзи, Бобби и Барб собирали мячи, и биты, и все прочее, потому что на время дождя площадка закрывалась, чтобы никого не зашибло молнией.
Мы все же решили рискнуть и сыграть хоть разочек, пока не ливануло, так что по-быстрому разыграли «камень-ножницы-бумагу»: кому водить. Быть первым Привидением выпало Арти.
Он помчался прочь по газону O’Хара, пока остальные старательно и громко считали:
— Раз-Миссисипи… Два-Миссисипи… Три-Миссисипи…
Мне по правде нравилось это вечернее время, когда все родители уже дома, слушают радио, и, может, тянут пиво из высоких бокалов, и разговаривают — совсем как, бывало, и мои мама с папой, — рассказывают, кто чем занимался за день.
— Десять-Миссисипи… Одиннадцать-Миссисипи…
Если бы кто-то подвел меня к одному из этих домов, пусть даже и с завязанными глазами, я все равно с легкостью смогла бы сказать, чей он. По послеобеденным запахам. Чесночные Фацио, кислокапустные Голдманы, Бюшамы с «трущобным лакомством» и тушенка у О’Хара.
— Пятнадцать-Миссисипи… Шестнадцать-Миссисипи…
Я повернулась посмотреть, сидит ли мистер Кенфилд в своем кресле-качалке. Сидел и качался, глядя на улицу перед собой, как обычно по вечерам, прикидывая, наверное, как это Дотти удалось раствориться в воздухе.
— Двадцать два-Миссисипи… Двадцать три-Миссисипи.
Я задумалась, что сейчас делает мама. Мне захотелось сто раз подряд провести золотой щеткой по ее волосам, как иногда мне позволялось.
— Двадцать пять-Миссисипи… Готов или нет… мы уже идем!
Венди поймали первой, как и всегда. Арти спрятался в кустах под окном своей спальни, и только Венди прошла мимо, распевая: «Крафный ффет, феленый ффет, прифитенья нет как нет», он выскочил с криком «бу!». Но вместо того чтобы рассмеяться, как обычно, Венди почему-то расплакалась, так что всем остальным пришлось дожидаться, пока Арти не сбегает к себе в подвал за эскимо, у них там стоит морозильник — огроменная штуковина, забитая олениной и всякими припасами, на случай, если русские нападут. Кроме того, мистер Бюшам выкопал на заднем дворе бомбоубежище, так что мы с Тру старались быть с ним повежливее, просто на всякий случай. Пока мы жили на ферме, нам позарез хотелось иметь бомбоубежище, но мама сказала, оно нам не пригодится, потому что весь треп про русские бомбы — глупейшая чепуха, а причин для беспокойства нам хватает и помимо красных. Папа на это рассмеялся и сказал: «А о чем нам беспокоиться? Лоренс и так неплохо подает».
Во второй раз мы уже не стали считать и просто отвернулись от Вилли и Венди, пока те отбегали и прятались. Детская площадка вся в огнях, прямо как стадион. Заморосил дождик. Эдди с Нелл уютно расположились на школьном углу, где, как они воображали, никто их не видит. Наверное, уже перестали дуться друг на дружку, я же своими глазами видела, как Эдди подбирается ко второй базе.
Тру завопила:
— Готовы или нет, мы уже идем!
И мы снова разбрелись. Я прошла между домами Фацио и Бюшамов, не слишком громко, надо признаться, повторяя: «Красный свет, зеленый свет, привидений нет как нет. Красный свет, зеленый свет, привидений нет как нет».
Я только что завернула за боковые кусты Бюшамов и в окошко видела, как Нана суетится на кухне, готовит вкуснючие канноли (по запаху догадалась), так что надо будет рассказать про это Тру, она их обожает. В небе громыхнуло, но я расслышала еще и крик, вроде кого-то поймало Привидение, так что помчалась туда, но не успела набрать скорость, как кто-то ухватил меня за косу и швырнул на мокрую траву. Не шутя. Я здорово ударилась. И почуяла, от него исходит что-то. Вроде того чувства. Ну, когда сильно чего-то боишься. И в сверкании молнии увидела наволочку от подушки, которую он нацепил на голову, проделав в ней дырки для глаз и рта, и ткань тихонечко шевелилась, словно паруса на корабле, пока он стоял, расставив черные ботинки на пористой резине по обе стороны от меня. Дождь ливанул со всей силы, но я все равно отлично расслышала, как Расмуссен наклонился к моему уху и прошептал: «Салли, милая, я люблю тебя» — таким сладким, сладким голосом, что я едва не поверила.
Глава 18
Нана Фацио закричала: «Mio Dio… mio Dio!» — и выбежала из дома в своем длинном черном платье, размахивая поясом для подвязки грудей над сморщенной головой, как лассо. Расмуссен тихо рассмеялся, сказал: «До скорой встречи» — и побежал к аллее. А я почувствовала круговерть в голове, примерно как если вскочить слишком быстро, и увидела падающие звезды, хоть дождь и поливал вовсю. Тру потом сказала, что я хлопнулась в обморок, прямо как Скарлетт О’Хара в «Унесенных ветром».
Очнулась я, когда он нес меня по ступеням крыльца дома Фацио. Наверное, увильнул от Наны, забежал за гараж Донованов, сбросил с головы ту наволочку, и вот он во всей красе, Расмуссен со мною на руках, и никто и пальцем не шевельнет, чтобы остановить его. «И куда подевалась Тру?» — хотелось мне крикнуть, да только ничегошеньки не вышло. Я пыталась отпихнуть его, но Расмуссену все было нипочем, он будто ничего не чувствовал. Точно я муха какая-то. Но затем я немного расслабилась: не станет же он убивать и насильничать на виду у всего квартала. О нет, только не хитрый Расмуссен.
Лицо мое утыкалось прямо в жетон Номер 343, ливень все не утихал, и полицейская форма пахла, как мои носки после катания на санках, и я вдруг вспомнила маму и горячее какао. И может, оттого, что у меня сил совсем не было, или, может, мне хотелось хоть ненадолго представить, что я ошиблась и Расмуссен на самом деле отличный парень, как все и считают… в общем, мне неловко об этом говорить, но я сдалась и перестала брыкаться, прижалась к нему покрепче и почувствовала на щеке дыхание: Расмуссен пел мне песенку.
Прямо перед домом Кенфилдов он перестал напевать и спросил:
— Он говорил с тобой, Салли? Ты узнала его?
Ха! Будто сам не знает, чего говорил, и понятия не имеет, каков с виду.
Я вывернула голову вниз, к земле, и спросила:
— Вы знали Дотти Кенфилд?
Ботинки те самые, коричневые, что он всегда носит. Должно быть, черные на толстой резине оставил у гаража Донованов, вместе с наволочкой.
Расмуссен глянул туда, где в темноте горела красная искорка от сигареты мистера Кенфилда, и сказал так тихо, что я насилу расслышала:
— Это печальная, такая печальная история, и ты слишком мала, чтобы все понять. — А потом сказал громче: — Добрый вечер, Чак.
Я так и не отважилась посмотреть в глаза Расмуссену, слишком уж боялась того, что могу там увидеть. Папа всегда говорил, что глаза — это зеркало души, и это странно, потому как лично я считала, душа расположена где-то рядом с сердцем, а не с глазами, но если папа так сказал, значит, это правда, и я ни за что и никогда не хотела бы заглянуть в черную душу Расмуссена.
Да только напрягаться не стоило, его глаза все равно были прикрыты тенью от полицейской фуражки, по которой ползли бусинки дождевой воды, но свет уличных фонарей так и сиял на губах. Они казались мягкими, как сатиновое одеяльце для новорожденных. Он убил Джуни. И Сару. Как бабуля выражалась, «Бог троицу любит», так что я наверняка буду следующей. «Ой…» — пискнула я.
— Ты в порядке, Салли? — спросил он, будто ему не все равно.
Дождь то хлестал, то затихал, словно колебался, не зная, что делать. Я оглянулась на наш дом. На крыльце сидела Тру, на коленях банка со светлячками. Тру — самый потрясающий охотник на светлячков. Они так сами к ней и летят. Я точно знала, что сестра наловила светлячков для меня; она всегда так поступает, когда я расклеиваюсь. Фонарики светлячков вспыхивали и снова затухали в банке, которую Тру придерживала подбородком. Завидев меня, она подняла сразу два больших пальца. Папа тоже так делал, и от этого я наконец заплакала. Потому что теперь меня укачивал человек, желавший моей смерти, и я ничего не могла с этим поделать. Чувствовала себя оторванным листиком, который плывет по Медовой протоке после грозы.
Расмуссен опустил меня на землю, подвел к крыльцу, усадил рядом с Тру и сказал: «Хорошо бы ей принять ванну», после чего повернулся и ушел, будто у него какие-то неотложные дела. Скорее всего, спешил затоптать следы ботинок во дворе у Фацио.
— Нравится? — спросила Тру.
Я потрясенно ахнула:
— Кто, Расмуссен?
— Нет же, глупая… Светляки. — Она сунула банку мне в руки. И тут я поняла, что сестра до смерти напугана.
Разглядывая банку, я сказала первое, что пришло на ум:
— Фантастика.
Только потом, уже плавая в горячей ванне, которую набрала для меня Нелл, я вспомнила, что за мелодию напевал Расмуссен, пока нес меня на руках. «Поймай падучую звезду», которую пел Перри Комо, в прошлом году эта песня была самой моей любимой. Мы с Тру разыгрывали в гостиной маленькое представление, распевали и делали вид, будто ловим падающие звезды и набиваем ими кармашки наших пижам, пока Холл не принимался орать, чтобы мы заткнулись ко всем чертям.
Потом, под простынями, пока сестра терла мне спину (а в этот раз она терла дольше, чем когда-либо), Тру прошептала:
— Это, наверное, Жирняй Эл был, это он поймал тебя во дворе у Фацио. Сама знаешь, вечно он никому прохода не дает.
Я даже не стала утруждать себя, рассказывая Тру, до чего я уверена, что это Расмуссен. Ну какой в этом смысл?
— Не беспокойся, — сказала Тру из темноты, и жар ее тела мешался с моим собственным, пока светлячки мерцали на нашей тумбочке. — У меня есть план, как с ним поквитаться. И заодно отобрать назад мой велосипед. Спокойной ночи, Сэл.
Она сунула в рот палец, прижала к груди свою куклу и быстренько отвернулась, будто дождаться не может утра, потому что завтра — Великий День.
— Спокойной ночи, Тру.
Когда сестра заснула, я встала, пошла в мамину комнату и из нижнего ящика комода вытащила ее желтую ночную рубашку, взяла папин «Таймекс» с трюмо и надела себе на руку. Потом легла в ногах ее кровати и, засыпая под стучание дождика, пыталась припомнить то время, когда бояться было нечего.
Глава 19
— Сааалли… Сааалли!
Голос сестры вырвал меня из сна. Я задергалась, чтобы бежать к ней, спасти. За Тру гонится Холл? Или Расмуссен?
— Иду! — завопила я в ответ, стараясь выпутаться из маминой желтой ночнушки.
Тру влетела в спальню, с разбегу запрыгнула на кровать.
— Проснись же, черт, уже почти полвосьмого, а точно в восемь нам надо быть в парке!
Сестра хлопнула меня по голове подушкой, спрыгнула с кровати и плюхнулась перед маминым трюмо. Не спросила даже, с чего это я надумала спать в маминой комнате, но, судя по отражению ее лица в зеркале, уже, наверное, поняла и теперь ждет, не скажу ли я что-нибудь. А пока намазала веки голубыми тенями, чиркнула вишнево-красной помадой по надутым губкам, перевернула флакончик «Вечера в Париже» и растерла по запястьям. Потом встала, снова огрела меня подушкой и говорит:
— Жду тебя внизу. Шевелись. Я тебе кое-что покажу. — И умчалась.
Я стащила с себя мамину ночную рубашку, поцеловала папины часы и положила их на прежнее место. Одевшись, сбежала по черной лестнице, толкнула проволочную дверь — и нате вам пожалуйста. Интересно, метеорологи на радио всегда так ошибаются? Четвертое июля 1959 года выдалось чудесным. Сегодня моя Тру победит на конкурсе украшения велосипедов, потому что, вот это да, ее «швинн» выглядит просто супер! Наверное, проснулась пораньше и потрудилась над ним еще. Вот только сумеет ли Тру доехать на велике до парка? Слишком уж он увешан цветами, и лентами, и папиросной бумагой.
Тру стояла перед великом, сжимая в поднятой руке что-то похожее на огромный рожок мороженого, сделанный из того бумажного пакета, который она нашла у лагуны. На голове у сестры красовалась корона или нечто такое из алюминиевой фольги, которая заканчивалась острыми шипами — совсем как на строгом ошейнике Грубияна.
Она стояла как столб и очень серьезно вглядывалась в даль.
— До тебя не дошло? Я статуя Свободы!
— А-а-а… — протянула я, опасаясь приближаться к шипастой короне, которой ничего не стоило выколоть мне глаз.
— Это piece de resistance, ясно? — хихикнула Тру. — Я искала фотографию Свободы в библиотеке, и миссис Камбовски научила меня еще нескольким французским выражениям. Ты знала, что статую нам подарили французы?
Жаль, не было у меня фотоаппарата «брауни». Я бы сфотографировала Тру и сразу, как снимок напечатают, побежала бы с ним в больницу к маме. Тру была такая красивая и такая… иностранная.
— Тебе нравится мое chapeau?
Я огляделась по сторонам, надеясь догадаться, что такое это самое шапо.
Сестра ткнула в свою корону.
— А-а-а… — сказала я снова. — А рожок с мороженым зачем?
Тру повертела им передо мной:
— Никакой это не рожок, садовая башка! Это факел. Еще я взяла старую простыню, будет платьем, но ходить в нем нельзя, сразу падаешь.
Она осторожно выкатила велик со двора и медленно двинулась вниз по склону холма, я плелась в хвосте. Поглядывая на Тру, пока мы шли к парку, любуясь тем, как солнце играет на блестящей шапо, я размышляла, как защитить сестренку. Надо разработать какой-то план спасения нашей маленькой статуи Свободы. Почему раньше мне не приходило это в голову? Ведь если Расмуссен убьет и снасилует меня, Тру совершенно точно не вынесет этого. Никому не под силу так громко насвистывать в темноте. Даже моей Тру. Значит, нужен план действий. Как в одном из фильмов, что показывали в кинотеатре «На окраине». С Хэмфри Богартом. У него имелся план на все случаи жизни. А мой план такой: разоблачить Расмуссена. Нужно шпионить за ним, застичь за каким-то неприглядным делом или найти какие-то улики, чтобы всем и каждому стало ясно, кто он на самом деле. Но сначала стоит поговорить с Мэри Браун, она самая лучшая шпионка в нашем квартале. Прямо Мата Хари. Или, может, подождать похорон Сары Хейнеманн, которые назначены на завтра? Придет ли Расмуссен на похороны? В фильмах убийца иногда заявляется на похороны жертвы. Как Мэри Браун, она тоже вечно околачивается поблизости от места, где устроила поджог. Нюхает гарь и улыбается чему-то.
Вот это зрелище!
Сотни детей, и велосипедов, и собак с ленточками, и детских колясок густо усыпали широкие зеленые луга вдоль берегов Медовой протоки. Воздушные шары на деревьях и повсюду скамеечки для пикников, застланные бумажными скатертями тех же цветов, что и флажки, которыми размахивали все кругом. День выдался самым жарким за нынешнее лето, и все благодарили Бога за тень. Четвертого всегда бывало жарко, уж на это можно положиться. Но сегодня даже жарче обычного.
Из репродукторов гремели братья Эверли, старавшиеся разбудить Малышку Сьюзи[12], пока их не прервал кто-то сказавший: «Все дети до двенадцати лет, подойдите к дубу, обвязанному красной лентой». Тру вскочила с травы, крикнув: «Деньги сначала, шоу потом, если готовы — ну-ка, бегом!»[13]
Я не отставала от сестры, пока мы пробивались сквозь толпу детей постарше, одним из которых оказался Жирняй Эл Молинари, который, не иначе, выжидал случая угнать чей-нибудь велик, стоит хозяину отлучиться в туалет.
Жирняй Эл ткнул пальцем в корону:
— Кем это ты вырядилась, О’Мэлли? Телевышкой, жрущей мороженце? — Его маслянистые глазки таращились из-под клочковатых черных бровей. — А я тебя искал.
— Да ну? — поразилась Тру. — И зачем я понадобилась придурку со спагетти вместо мозгов?
На руках Жирняя Эла напряглись мощные мускулы. Он и его братья обожали качать железо в гараже, сидя на скамейке под календарем с фоткой Бетти Грейбл.
— Как ты меня назвала, ирлашка сопливая?
Тру улыбнулась еще шире, хоть зубы пересчитывай.
— Ты меня слышал. У тебя что, уши такие же инвалидные, как и нога?
Жирняй Эл оторвался от дерева, подошел поближе:
— Красивый велик.
— Даже не мечтай угнать мой велик, — фыркнула Тру. — И если ты еще хоть раз погонишься за моей сестрой, я…
В репродукторе заскрежетал прежний голос: «Последняя возможность для тех, кому меньше двенадцати, принять участие в конкурсе украшения велосипедов. Ждем вас у дуба с красной лентой».
— Дай проехать, макаронник, — сказала Тру, пытаясь обогнуть Жирняя Эла. Тот стоял, зажав коленями переднее колесо ее велосипеда.
И затем — с быстротой молнии — Жирняй Эл вытащил из заднего кармана выкидной ножик и одной рукой срезал все белые бумажные цветы с руля «швинна», а второй сорвал с моей сестры корону. И со смехом захромал прочь, сминая в ладони блескучую фольгу.
«Последний шанс для тех, кому еще нет двенадцати», — напомнил голос.
Случись это все с кем-то другим — со мной, например, — я уж точно разревелась бы, да так, что сорвала бы горло. Но только не моя сестра, не Юный Трубач! Она лишь смотрела вслед Жирняю Элу, но если б взгляды могли убивать, Жирняй Эл упал бы сейчас бездыханным, как дверная ручка.
А затем, прямо ниоткуда, возник Расмуссен с лентой через футболку, гласящей: «СУДЬЯ». Похоже, он всегда готов выскочить из-за угла, чем бы мы ни занимались.
— Доброе утро, девчата, — поздоровался он. Без полицейской формы Расмуссен казался совсем другим человеком. От прочих жителей округи и не отличишь. — Поспеши-ка, Тру, конкурс вот-вот начнется.
Вынул из кармана моток скотча, быстренько поднял с земли бумажные цветы и прилепил их обратно на руль велосипеда.
Тру покатила велик мимо него прямо к дубу. Она забыла сказать Расмуссену спасибо, потому что — я-то знаю — уже вовсю планировала, как найдет Жирняя Эла и сотворит с ним что-то жуткое-прежуткое. По лицу моей сестры гуляло то самое диковатое выражение «ищу приключений на свою голову».
Расмуссен улыбнулся мне сверху и спросил:
— Ты в порядке? Отошла после вчерашнего?
Я молча кивнула.
— Рад это слышать, — сказал он и, помахивая своей папочкой с бумажками на зажиме, двинулся к толпе матерей с разукрашенными детскими колясками.
Такая жалость, что Расмуссену нравится убивать и насиловать девочек, потому что вообще-то он вполне симпатичный. Вот почему Джуни и Сара пошли с ним! Я знаю из кино: когда совершено преступление, виноват всегда тот, кого никто не подозревает. Хотя бы дворецкий Дживс[14], который с виду невинен, как яйцо.
Запахи хот-догов, и гамбургеров, и итальянских колбасок, и немецких сарделек уже витали в воздухе, хотя утро только начиналось. После забега в мешках мы с Тру собирались слопать столько всякой всячины, что домой нас пришлось бы катить на салазках. Прямо как верблюды, мы смогли бы несколько дней обходиться без пищи, а потом, в четверг вечером, Вилли приглашал нас поужинать с ним, и его мамой, и офицером Риорданом, которому я подумывала все-таки рассказать про Расмуссена. Если момент выдастся подходящий.
Участвовать в велосипедном конкурсе пожелали тридцать с лишним ребят, но с первого взгляда всякому было ясно, что в забеге, точно как и в прошлом году, вперед вырвались всего две лошадки. Тру улыбалась судье, которым оказался отец Мэри Браун. Думаю, поскольку зоосад совсем рядом или поскольку он не кормил Сэмпсона прямо сейчас, его попросили забежать на праздник и выбрать победителя в велосипедном конкурсе.
Мистер Браун разглядывал велик Арти Бюшама. Пресвятая Магиллакадди! Арти и впрямь вылез из кожи. Напрочь вылез! С руля свисают ленты, в спицах щелкают игральные карты, а к багажнику привязан громадный портрет Авраама Линкольна, который был вылитая (а я только теперь заметила), прямо вылитая Нана Фацио, только намного больше.
Мистер Браун подошел к нам и говорит:
— Как себя чувствует ваша мама? — И наклонился поближе, чтобы рассмотреть цветы, которые Расмуссен заново приклеил к рулю.
Тру ответила вежливо как никогда и своим «кукольным» голоском:
— У нее все хорошо, мистер Браун. Спасибо вам большое, что спросили.
— Первоклассные украшения, Тру. Первоклассные. — Мистер Браун черкнул что-то в папочке и двинулся дальше по очереди.
Громкоговоритель опять пощелкал, и голос напомнил: «Пять минут, уважаемые судьи. У вас осталось пять минут».
Жирняй Эл Молинари сидел на столике для пикников и что-то вырезал своим ножиком на темном дереве. Тру не могла оторвать от него глаз, даже когда к нему подошел Расмуссен и завел о чем-то разговор. Я тоже смотрела, как Жирняй Эл с размаху вложил свой выкидной нож в ладонь Расмуссену и захромал к Медовой протоке, пиная по пути смятую корону Тру.
— Перед забегом в мешках давай сходим к протоке и освежимся, ладно? — предложила Тру, стирая рукой пот со лба.
— Ага, отличная мысль.
Я понимала, что в этом году сестра может проиграть, потому что велик Арти был украшен просто супер-перепупер, и была готова делать все, что Тру захочется, лишь бы ей полегчало, даже спуститься к протоке и закидать камнями Жирняя Эла.
Опять загудел громкоговоритель: «Ну что же, друзья. Конкурсы подошли к концу, судьи вынесли решение. Если услышите свое имя, не забудьте подойти к судейскому столу у площадки для пикников и получить приз».
Венди Бюшам победила в конкурсе на украшение салазок. Увидев меня, она запела:
— Фалли О-Малли! Прифет-прифет-прифет! — И послала мне воздушный чмок.
Мистер Харриган, который объявлял результаты, рассказал всем, что в конкурсе на лучший трехколесный велосипед победил какой-то мальчик, которого я не знала, по имени Билли Куигли. А потом сказал: «Конкурсанты в группе до двенадцати лет в этом году постарались на славу. Принять решение было очень непросто». О нет. О нет. Бедная Тру. «Арти Бюшам и Тру О’Мэлли, подойдите, пожалуйста, к судейскому столу».
Когда мы туда добрались, мистер Браун улыбнулся и сказал:
— Мои поздравления, Тру. Вы с Арти разделили победу.
Я решила, что награду присудили им обоим потому, что наша мама умирала, а Арти и впрямь украсил свой велик лучше не бывает. Ну и здорово. Никто теперь не станет весь остаток дня метать из глаз кинжалы. Только Тру не особо обрадовалась половинке победы, ну не тянула ее улыбка на улыбку истинного счастья.
— Ступайте, получите свою награду, — сказал мистер Браун.
Позади стола с призами висел огромный плакат с названием магазина Кенфилдов «Файв энд Дайм». Мистер Каллаган поздравлял победителей.
— Привет, девочки, — сказал он, когда мы подошли. — Поздравляю, Тру.
Бетти Каллаган встала со своего раскладного стульчика и обняла нас обеих. На ней были белая блузка без рукавов, брюки-бермуды цвета морской волны и золотые сережки. И новая прическа шла ей ну просто восхитительно.
— У вас все нормально? — спросила она.
Миссис Каллаган так хорошо пахла, что я была готова заплакать, но вовремя заметила, что у Тру на лице застыло выражение «даже не смей». Она тоже учуяла запах «Вечера в Париже».
— Вчера я навестила вашу маму, — сказала миссис Каллаган.
Тру начинала ерзать. Во все глаза пялилась на стол с призами и даже не слушала. Я догадалась, на что сестра положила глаз. Там лежала настоящая меховая шапка Дэйви Крокетта[15], а Тру была сама не своя до всяческих шапок, всю последнюю неделю она разглядывала эти самые в «Файв энд Дайм». И вот уже Арти Бюшам гладит енотовый мех.
— Моя сестрица, Марджи, она работает медсестрой в больнице Святого Иосифа и говорит, что Хелен не сдается, — рассказывала миссис Каллаган.
Тру подкралась к столу с призами, встала прямо за Арти и что-то зашептала ему на ухо. Наверное, угрожала утопить в Медовой протоке, если он сейчас же не отдаст ей эту шапку.
— Ты уверена, что у вас дома все в порядке, Сэл?
— У нас все просто чудесно, миссис Каллаган.
Арти уже держит шапку в руках, Тру вцепилась в енотий хвост, и если я не предприму что-то прямо сейчас, то все может кончиться дракой с катанием по земле, участием в которых Тру уже успела завоевать не очень хорошую репутацию.
Я поспешила было к ним, но вдруг остановилась и обернулась на миссис Каллаган:
— Это правда? То, что вы сейчас сказали про маму? Что она не сдается?
Я не знала точно, что имелось в виду, но звучало это очень даже ободряюще. Я изо всех сил желала маме не сдаваться. Но миссис Каллаган не могла выдавить больше ни слова, и я сразу поняла: она всего-то хотела утешить меня.
— Драка!
Я обернулась, а Арти с Тру уже катятся по траве, выламывая друг дружке руки. Сестра завладела шапкой, сунула ее под мышку, а потом еще и хорошенько пнула Арти по ноге, как раз когда мистер Браун подскочил к дерущимся. Он оттащил Тру в сторонку и нахлобучил ей шапку на голову. Я повернулась к Арти Бюшаму. Он скрючился на земле, держась за ногу, рубашка порвана, руки все в грязи. Мне вдруг подумалось, что мамина болезнь нам даже на руку: все-то теперь сносят наши выходки.
Сестра определенно думала о том же самом. Потому что качнула перед лицом Арти енотовым хвостом и со смехом побежала прочь, размахивая над головой неведомо как уцелевшим рожком-факелом и вопя:
— Дайте мне усталый ваш народ. Всех брошенных в нужде![16]
Глава 20
Минут на пятнадцать или около того я потеряла Тру в красно-бело-синем мельтешении, так что очень мило поболтала с Этель, которая в тот день взяла выходной и не пошла к миссис Галецки. Этель была со своим джентльменом-другом, мистером Рэймондом Баклендом Джонсом, он сказал, что для краткости мы можем звать его Рэй Бак. Он родом с Юга, как сама Этель. Из Джорджии, кажется. Рэй Бак водит городской автобус, и кожа у него черная-пречерная — как та черная кошка, что перебегает дорогу, суля несчастья. Гораздо чернее, чем у Этель, которая цветом похожа на шоколадный батончик «Херши». А еще Рэй Бак высокий, тощий и сутулый, так что сбоку он вылитый вопросительный знак. Мы с Тру обожаем Этель, а узнав Рэя Бака поближе, заобожали и его.
В наших краях не всем нравятся негры. Скажем, Холлу. И Ризу Бюшаму, который обзывал нас с Тру «фанатками ниггеров» при каждом подходящем случае. Мы с Тру спросили у Этель, отчего это так. А она ответила, что не знает ответа, но некоторых белых не особо волнует судьба цветных. На Юге есть даже целый клуб под названием «ККК», который относится к неграм особенно подло. Они наряжаются в простыни и сжигают кресты на лужайках у домов, где живут негры, просто чтобы оскорбить их. А что, если и Расмуссен в этот самый «ККК» вступил? Натянул же он на голову наволочку, когда кинулся на меня у дома Фацио.
— Ну, мисс Салли, как дела у вашей мамы? — спросила Этель, намекнув Рэю Баку, чтобы тот отошел к киоску с напитками и принес ей чего-нибудь холодненького.
Этель всегда называла нас «мисс Тру» и «мисс Салли», потому что очень хорошо воспитана и ценит хорошие манеры. Мне жутко нравилось, как она говорит. У нее тоже был свой акцент, но не бруклинский, как у Вилли, и не резковатый немецкий, как у Голдманов. Говор у Этель был протяжный, медленный, как вода в Медовой протоке, и однажды, помогая ей чистить клубнику для слоеного торта, я просто уснула как мертвая прямо за кухонным столом, потому что, если подумать хорошенько, именно так и звучал ее голос. Как колыбельная.
— Миссис Каллаган только что рассказала, что мама не сдается, Этель, спасибо, что спросила, — сказала я, забираясь на дерево, под которым сидела Этель, сверху-то легче углядеть Тру.
— Неужто? Ваша мама не сдается? Что ж, всеблагой Господь, это прекрасная новость для моих усталых ушей. — Босая Этель сидела подо мной на пластиковом стуле в тени самого большого дуба, какой только есть у нас в округе, и обмахивалась газетой, которую, по ее словам, любит почитать, потому что это важно — быть в курсе событий. — А вы с мисс Тру давненько не заглядывали.
— Мы были заняты. — Мне не терпелось рассказать ей, как Расмуссен пытался убить меня и снасиловать, так что заглядывать к Этель теперь не особо охота, ведь она живет с ним по соседству. Но, как говорила мама, всему свое время и место. — Как себя чувствует миссис Галецки?
— Она спрашивала о тебе. И мистер Гэри спрашивал.
— А мистер Гэри здесь? — заволновалась я.
Сын миссис Галецки, мистер Гэри Галецки, жил в Калифорнии и каждое лето приезжал повидать свою маму. В прошлый раз, когда он приезжал, мы с ним и с Тру битых два часа играли в «Пиковую даму» на веранде, а потом Тру сказала, что думает, будто мистер Гэри очень любит детей, потому что обычно взрослых нипочем не заставишь с тобою возиться. Мистер Гэри — вот уж кто отличный парень.
— Мистер Гэри здорово разобижен, что вы с Тру не заглянули поздороваться.
Сегодня Этель выглядела особенно шикарно. На ней была маленькая соломенная шляпка с лиловыми фиалками, а платье лимонного цвета чудесно подчеркивало ее шоколадную кожу. Вот почему Рэй Бак смотрел на Этель такими глазами, когда вернулся, неся ей стаканчик холодного чаю со льдом. Она и впрямь выглядела аппетитно. Рэй Бак сразу понял, что мы еще не успели толком поболтать, так что, вручив Этель чай и подмигнув, он тут же отошел в сторонку, щелкнул зажигалкой и закурил сигарету.
— Мы очень скоро зайдем. Обещаю. Тру только сегодня говорила, что дождаться не может увидеть мистера Гэри.
— Вот и хорошо, тогда я скажу ему, чтобы ждал.
Этель сделала долгий глоток и поерзала на стуле, усаживаясь поудобнее, потому что твердо считала: всегда и везде очень важно устраиваться как можно удобнее. В жизни и без того полно неудобств, говорила она.
— А что, девочки, вы осмотрительны? Я тут читала в газете, что по городу бродит какой-то сумасшедший, а еще мне рассказывали, кто-то пытался схватить тебя во дворе у Фацио. Вы уж поосторожнее, мисс Салли. Смотрите в оба, гуляя по городу. — По голосу Этель я поняла, что она на собственном опыте знает, как это мерзко, когда тебя хватают. — Хвала Господу, мистер Расмуссен живет в соседнем доме. Рядом с ним чувствуешь себя в безопасности.
Может, стоит сказать ей? Разве не должна знать Этель, моя дорогая негритянская подруга? Ведь она столько всего уже знает — например, как заботиться о больных и как испечь лучшие в мире песочные кексы. И голос у нее прямо как у всех херувимов на небесах. Так разве не должна она знать, что совсем-совсем не права насчет Расмуссена?
Я оглядывала толпу, продолжая размышлять над этим вопросом, и вскоре заметила факел статуи Свободы. Тру разговаривала с дядюшкой Полом, который не особенно часто выходил из дому, так что я сильно удивилась. Он глядел на землю и показывал на что-то. Тру наклонилась и отдала ему находку, а потом дядюшка Пол обежал вокруг нее и закрыл ей глаза ладонями. Я видела, как шевелятся его губы, и поняла, что он просит: «Угадай, кто это?» Тру стряхнула его пальцы с лица и отбежала подальше.
— Ты меня слушаешь, мисс Салли?
— Прошу прощения? — Когда имеешь дело с Этель, надо быть как можно вежливей, иначе рискуешь получить выволочку.
Этель вздохнула, и грудь ее поднялась и опустилась, совсем как адамово яблоко у Арти Бюшама.
— Я сказала, что вы с мисс Тру должны посмотреть на щеночка, который живет у офицера Расмуссена. Знаю ведь, как мисс Тру скучает по своему псу, этому ее Грубияну.
Надо думать, Этель рассказала Расмуссену, что нам пришлось оставить Грубияна на ферме. И тот, наверное, купил щенка, желая обманом втереться в мое доверие. Всей округе известно, как мы с Тру обожаем животных — любых, какие только бывают.
— А что случилось с женой офицера Расмуссена? — выпалила я.
Этель быстренько качнула головой:
— У офицера Расмуссена нет жены. Он мужчина холостой.
— Как думаешь, почему у него нет жены?
Я-то уже сообразила, отчего Расмуссен холост. Ему не нравятся жены. Ему нравятся маленькие девочки. С моей ветки было прекрасно видно, кто чем занимается. Тру отыскала Вилли. Держась за руки, они спускались в овраг, ведущий к Медовой протоке.
Этель попросила:
— Сойди ко мне, мисс Салли, все эти повороты да обороты отдаются у меня в шее, а, Господь свидетель, лишняя боль вовсе мне ни к чему.
Я всегда слушалась Этель, так что сразу спрыгнула на траву. Этель провела ладонью по моим волосам и сказала, что они напоминают ей корзину только-только собранного хлопка.
— Знаешь, моя мама умерла молодой, — тихо сказала Этель. — Так грустно, если женщина заболела и умерла, тем более из-за родов. Это несправедливо, так не должно быть. Надо без устали молиться о том, чтобы твоей маме стало лучше, ясно?
Я кивнула, но тут подошел Рэй Бак и показал в сторону зоосада:
— Разомнем ноги?
Похоже, они с Этель собираются проведать Сэмпсона, потому что именно за этим все и ходят в зоосад. Восхититься Королем джунглей.
— Увидимся позже, мисс Салли. Может, на фейерверке. — Этель встала, оправила лимонное платье и улыбнулась Рэю Баку, когда тот подставил ей локоть. — Передай от меня привет мисс Тру и скажи, что мистер Гэри привез колоду для «Пиковой дамы» и ему не терпится сыграть.
— Передавайте наши приветы мистеру Гэри и можете не сомневаться, еще на этой неделе мы придем помочь вам с миссис Галецки. Я взяла в библиотеке новую книжку с классными картинками, ей наверняка понравится. Называется «Черная красотка».
Этель заулыбалась:
— Отчего ж мне не сказали, что про меня уже и книжки сочиняют?
Рэй Бак так смеялся, что ему пришлось прокашляться и сплюнуть.
Шутку я поняла, только когда уже проводила их взглядом и направилась за Тру к протоке. По громкоговорителю только что объявили, дескать, бег в мешках начнется через пять минут. Ничего, потом скажу Этель, что шутит она отпадно.
Мэри Браун, приканчивавшая уже далеко не первое эскимо — перед ней рядком лежали четыре палочки, — подозвала меня и говорит:
— На, отдай своему дядюшке Полу, и тогда я смогу вписать их в сочинение про благие дела.
Все в округе знали про дядюшку Пола и его палочки от эскимо. В точности как знали, что миссис Голдман нипочем не желает носить одежду серого цвета, что Этель не станет пить кока-колу, если сперва не накидает в нее арахиса, и что у миссис Бюшам больше не будет новых детей, потому что она ходила в больницу, где ей сделали операцию, отрезав ей все внутренности.
— Точно… о’кей, — сказала я, сгребая палочки.
Мэри Браун не хотелось вручать их лично, потому что дядюшка Пол теперь сделался странный. Скажем, он вечно ходил с низко опущенной головой, будто разыскивал что-то. И говорил очень-очень медленно, а порой его слова не складывались ни во что путное. И еще он слишком много улыбался, особенно тем вещам, которые никого другого не веселили. Как той мертвой птичке, которую я нашла на заднем дворе у бабули. Перед тем как попасть в аварию и повредиться мозгом, он вообще очень редко улыбался. Бабуля, бывало, советовала мне не лезть к нему под ноги, не тормошить дядюшку Пола понапрасну, потому что «этот малец еще помнит, что он ирландец». И выражение лица у нее ясно говорило: бабуля побаивается собственного сына.
Я сунула в карман палочки и почувствовала себя плохой католичкой, поскольку иногда мне собственный дядюшка был противен, а потому решила поискать его, но сначала хотелось немного охладиться в протоке, а заодно убедиться, что Тру не швыряется камнями в Жирняя Эла.
«Три минуты… Все, внимание! До начала забега в мешках остается три минуты… Подыщите себе партнера», — посоветовал громкоговоритель.
Все вокруг смеялись, и ели, и потели, и жарища была такая, что посиди мы на солнце подольше, могли бы растаять, как мороженое, и уже не на что было бы смотреть, кроме лужиц человечины.
По пути к протоке я наткнулась на Нелл. Старшая сестра была явно навеселе, потому что вела себя гораздо лучше, чем обычно по утрам, — а если совсем по-честному, не только по утрам. Даже обняла меня, чего от Нелл я никак не ожидала. А потом еще и всплакнула немного, но стоило Эдди принести ей кружку солодового пива, тут же принялась смеяться. С головой у Нелл явно что-то неладно (и первое тому свидетельство — прическа на этой голове).
Я взобралась на откос и стала оглядывать протоку. По камням прыгали дети, падали, смеялись, спрыгивали в воду, забирались на валуны. А потом я увидала Тру. Они с Вилли сидели неподалеку от маленького водопада, на голове у сестры, несмотря на пекло, красовалась призовая меховая шапка. Я крикнула ей: «Сейчас начнется бег в мешках!» — а она заорала в ответ: «И плевать!»
Я развернулась, чтобы поспешить к старту, и едва не воткнулась в Риза Бюшама и его плоскую, как сковорода, физиономию. Он с ухмылкой пялился на Тру, потирая рукой передок своих штанов. Риз вечно так делает. По словам Быстрюги Сьюзи Фацио, Риз сказал ей, будто там у него спрятан джинн-волшебник и так он загадывает желания.
— О чем трепалась с двумя ниггерами? — прочавкал он. Его дыхание, пропитанное чем-то ужасно крепким, чуть волосы мне не опалило.
Прежде чем я успела посоветовать ему не совать нос в чужой вопрос, рядом возник Арти.
— Привет, Салли.
Риз наклонился вперед и толкнул брата с такой силой, что тот упал. Приз, который Арти выбрал за победу на конкурсе, — блестящий велосипедный звонок, — описав дугу в воздухе, приземлился у моих ног и тренькнул, точно объявлял о начале поединка.
— Что, не видишь, мы разговариваем? — сказал Риз. — Разве ты не должен следить за идиоткой?
Ризу столько же лет, сколько Нелл, он почти взрослый, и ему не следует швырять на землю тех, кто помладше. Я помогла Арти подняться, протянула ему звонок, а Риз уже завел: «Заячья губа, заячья губа, заячья губа» — достаточно громко, чтобы на нас начали оборачиваться. Потом глотнул того, что он там держал завернутым в бумажный пакет, шагнул ко мне вплотную и спросил:
— Ну, так чего бы тебе не выйти замуж за ниггера, раз ты их так любишь?
И двинулся прочь.
«Две минуты… Внимание, до старта две минуты. Найдите себе партнера и выбирайте мешок».
— Хочешь быть моим партнером, Салли? — Арти вел себя так, будто толчок Риза и падение было обычным делом, ничего из ряда вон, но тут я поняла, что, наверное, так и есть, и мне стало его жалко.
Что-то Тру не спешит выбираться из оврага. Ну и черт с нею.
— Ага, ты здорово придумал, Арти.
Мы с Арти порылись в кипе мешков и нашли один, который показался крепким и вонял не очень сильно. Мистер Браун не устает повторять, что на Четвертое июля в ход идут мешки, которые не меняли со времен Американской революции. Мы залезли в мешок, миссис Каллаган связала нас вместе веревочкой, и мы запрыгали к стартовой черте. Забавно было чувствовать, как потная, пушистая нога Арти трется о мою. Ну и разозлится же Тру, узнав, что я прыгаю в одном мешке с Арти, а не с ней! Я уже собиралась сказать Арти, что передумала, но тут же сообразила: он ведь решит, будто я не хочу бежать из-за его заячьей губы.
Я снова поискала глазами, начав уже беспокоиться. Тру ведь обожает бег в мешках и весь год просто дождаться не могла соревнований, потому что в прошлый раз именно мы их выиграли. Но тут мистер Браун объявил:
— На старт…
Слишком поздно высматривать сестру.
— Внимание…
Я поглядела вдоль стартовой линии на наших соперников и в самом дальнем конце обнаружила Тру. В одном мешке с Вилли. Сестра помахала мне рукой и весело улыбнулась. И потом я уже ничего так не хотела, как поскорее победить.
— Марш!
К моему немалому изумлению, в компенсацию за заячью губу, которой Бог наделил Арти Бюшама, он сделал его отличным прыгуном. И очень быстрым. Я и опомниться не успела, как уже валялась на земле за финишной чертой, а миссис Каллаган, улыбаясь, повязывала на наши с Арти шеи синие ленточки. Все поздравляли нас. Все, кроме Тру.
— Новый рекорд забега в мешках, друзья! — кричал мистер Браун. — Установлен Салли О’Мэлли и Арти Бюшамом. Давайте дружно им похлопаем!
Все захлопали, а мистер Ларсен, владелец кофейни «Тик-Так» на Берли-стрит, который отвечал за угощение, завопил: «Подходи-налетай!» — и махнул флагом в сторону площадки для пикников, где можно бесплатно поесть, а на десерт отведать арбуза и мороженого в картонном стаканчике.
Арти направился туда со мной, будто мы по-прежнему прыгали в мешке, связанные вместе. Тру сидела на краешке стола для пикников и сверлила меня хмурым взглядом, так что я решила поскорее с нею поговорить.
— Еще увидимся, Арти, — сказала я.
А он поправил ленту на шее и ответил:
— Ты классная девчонка, Салли. — И встал в очередь за гамбургерами. Так что теперь, получается, Арти Бюшам запал на меня.
Руки скрещены на груди, нога притоптывает от возмущения — кажется, Тру завелась не на шутку. Я знала, что ей нужно. Сестра хотела, чтобы я подошла к ней, извинилась за победу в забеге и отдала ей свою синюю ленту.
Я села рядом и потянулась обнять сестру, но та стряхнула мою руку.
— Могла бы и подождать меня, знаешь ли, — прошипела Тру, раздувая ноздри.
— Я тебя звала. Два раза. А ты не пришла, и мне стало жалко Арти, потому что Риз толкнул его и обозвал «заячьей губой».
— Твое дело, — буркнула Тру и ушла.
Она так быстро сдалась и не стала затевать настоящей ссоры, потому что мы обе знали, что сегодня же вечером, перед сном, я отдам ей синюю ленту с надписью ЧЕМПИОН золотыми буквами, так уж у нас заведено. В точности как того хотел бы папа.
После забега с яйцами в ложках, двух гамбургеров и хот-дога, а также короткого плескания в протоке мы залегли в траву под большим кленом, и я нюхала свою обожженную солнцем кожу, этот запах мне всегда нравился. Мы играли в «Рыба клюет» с Мэри Браун и Мими Бюшам, пока не начало темнеть, а потом нас с Тру отыскали Нелл и Эдди, и мы все вместе пошли к лагуне сидеть на покрывале у воды и смотреть на фейерверк.
Глядя, как все эти красные, и белые, и синие звезды взрываются в небе, я раздумывала о двух вещах. Первая такая: интересно, это очень больно — когда тебя убивают и насильничают? Потому что мы сидели не особо далеко от той ивы, под которой Тру нашла тенниску Сары Хейнеманн. А вторая вещь, про которую я думала, положив голову на колени Тру и глядя, как все фейерверки взорвались финальным аккордом и обращенные к небу лица осветились, была такой: может, мама видит эти огненные залпы из больничного окна? А если видит, скучает ли она по мне так же, как я — по ней?
Глава 21
Когда от фейерверка остался только дым, Нелл сложила покрывало и велела нам с Тру отправляться домой с Бюшамами, потому что они с Эдди поедут на озеро Мичиган глядеть на соревнования субмарин. Меня это вполне устраивало. Вечер теплый, и мне нравится идти по улице, заглядывая в освещенные окна гостиных, — там мать, и отец, и дети будто на картинке нарисованы. Сразу становится как-то радостно. Я не любительница подсматривать — не то что Мэри Браун. Мне не нравится смотреть так уж внимательно. Мне просто нравится ощущение… такое чувство, будто все идет, как должно идти.
Впереди нас толпой валил весь квартал, им не терпелось добраться домой, и я слышала, как миссис Бюшам вопит на своих детей, чтобы те заткнулись и прекратили ныть.
Тру сказала:
— А я разрешила Вилли чмокнуть меня у протоки.
Мне подумалось, что чмоканья с мальчишками еще гаже, чем валявшаяся под столом сосиска, которую Венди Бюшам подобрала и съела, а потому решила сменить тему.
— Ты виделась с Этель и Рэем Баком? — спросила я.
Мы как раз проходили дом Питерсонов, которые жили в квартале от своей аптеки. Окна темные.
— Угу. Этель говорит, Рэй Бак — фантастический водитель автобуса. У него маршруты по всему городу, и каждый надо помнить назубок. — Тру поддала ногой камушек. — И еще она сказала, что мистер Гэри вернулся в город и спрашивал про нас, и это типа мило, потому что мистер Гэри богатый, Салли. Мы можем попросить его одолжить нам денег после того, как мама умрет, а Холл попадет в неприятности, ну ты ведь знаешь, они точно у него будут, и тогда мы сможем уехать во Францию.
Вот поэтому Тру и считается гением: мне до такого ни в жизнь не додуматься. Это даже лучше, чем просто хороший план. И Тру права насчет Холла. Пару дней назад я лежала в постели (которая теперь пахла птичьим гнездом, что я однажды нашла на заднем дворе) и слушала, как Холл разговаривает сам с собой в уборной. «Тот управляющий… — и тут Холл замолчал, чтобы проблеваться, — большая шишка из Цинциннати, его Шустер нанял, он дааааже не представляет себе, с кем имеет дело. Они еще пожалеют, когда лучший продавец обуви к западу от Миссисипи хлопнет дверью». Утром я нашла его спящим в пустой ванной. У Холла всегда было неважно с координацией.
— У мистера Гэри такие задумчивые глаза, — сказала Тру «сонным» голосом; она говорила таким, когда слушала записи Бобби Дэрина на голубом транзисторе «Моторола», который мистер Гэри привез нам из самой Калифорнии просто так, в подарок. А что, если Тру запала на мистера Гэри, несмотря на его торчащие уши, и… эврика! Вот же он, тот паренек на маминой выпускной фотографии. Это же мистер Гэри! А я-то и не знала, что они с мамой знакомы. Он никогда ничего такого не говорил. Надо было лучше вникать в детали; всего-то и требовалось приглядеться к ушам, что веслами торчат у него из головы, хоть сейчас садись и греби. Мне даже пуще захотелось повидаться с мистером Гэри — расспрошу его про маму и про того парня, что упирается в верхний край карточки. Про Расмуссена.
Проходя мимо «Аптеки Питерсона», мы помахали Генри Питерсону. В аптеке продавали содовую, и Генри иногда вставал «дергать крантик», но так не очень вежливо говорить, тем более что у Генри болезнь под названием гомофелья, и он изо всех сил старается не падать на детской площадке, потому что с этой гомофельей уж если потечет кровь, то вытечет вся до капли. Поэтому Генри такой бледный, и весь в шишках, и вечно осторожничает, открывая какую-нибудь банку.
Зато Генри любит читать, совсем как я, так что порой мы усаживались на крылечко аптеки и разговаривали с ним о книжках. Многие другие дети дразнят его «гомо-Генри», я так понимаю, из-за кровяной болезни, так что друзей у него негусто. Он хочет стать летчиком, а потому много читал про самолеты, и это напоминало мне о моем Небесном Короле. Но Генри мог бы догадаться, что ни одного гомофелика в летчики не возьмут, потому как, если самолет упадет или еще что-нибудь, кровь захлещет во все стороны, и по кровавым брызгам русские легко найдут его и станут пытать, чтобы выдал правительственные тайны. Думаю, Генри станет аптекарем, как и его папа.
Готова спорить, он сам это знает — поэтому и ходит такой грустный.
Генри высунул голову из двери аптеки и сказал:
— Заходите.
Я подождала, пока Тру поставит велик у стены, а потом потянула дверь, и внутри аптеки оказалось прохладно, совсем как обещала наклейка на стекле: «Ледяная свежесть». Генри сидел у аптечного прилавка, потягивая шоколадную газировку.
— Хотите? — показал он на свой стакан.
— Было бы здоровско, — ответила я.
— Как там фейерверк? — спросил Генри, слезая с табурета и заходя за прилавок. Он взял два стакана из стопки, протер их полотенцем и выставил на стойку.
— Лучше, чем в прошлом году, — сказала Тру. Думаю, сестра поняла, что Генри не ходил смотреть, и боялась, что это как-то связано с его кровяной болезнью, а потому не спросила напрямик, Тру не очень-то жалует больных людей. Кроме разве что миссис Галецки — та хоть почти и не двигается из-за ревматизма, но такой уж больной не выглядит.
Генри выдавил немного шоколада в наши стаканы. Я видела его лицо в большом зеркале на стеллаже. Генри вообще-то очень даже ничего. Бледный, как смерть, но красивый. Если Тру и Вилли собирались приударить друг за дружкой, тогда, наверное, мы с Генри могли бы сделать то же самое. Только без чмоканья.
Генри тщательно размешал шипучку с шоколадом длинной тонкой ложечкой.
— Вы на похороны Сары завтра пойдете?
Странно сидеть поздним вечером в «Аптеке Питерсона». Свет такой тусклый, и этот запах лекарств, и холодный воздух — до гусиной кожи на руках, до того приятно. Мне сделалось обидно, что нельзя уснуть прямо на холодном прилавке, вместо того чтобы тащиться домой.
Я глотнула газировки, удивилась, как Генри удалось смешать такую вкуснотищу, и порадовалась, что первый стакан он протянул мне и только затем угостил Тру.
— Ты сам идешь?
— Ага. Придется, — еле слышно сказал он. — Сара Мария была мне кузиной.
— Ох, — сказала я. — Тогда мы точно придем на похороны. Верно, Тру?
Сестра не обратила внимания: она украдкой запустила руку в чашу с «Хаббл-Баббл», что стояла у фонтанчика с содовой, и тихонько набивала карманы.
— Похороны в девять, — сказал Генри.
Я глядела через зеркало за витрину — туда, где обычно сидел мистер Питерсон, выдавая людям лекарства. Мне показалось на миг, что я там его вижу, или это только тень от больших слепяще-красных часов «Кока-кола», тикавших на стене.
И тогда, совершенно внезапно, хрупкие гомофельные плечики Генри запрыгали вверх-вниз на манер моих рыболовных поплавков. Я соскочила с табурета, зашла за прилавок. Постояла, придумывая, что же ему сказать.
— Не плачь, Генри. Лучше вспомни, как сестра Имельда всегда говорит на уроках катехизиса. Когда люди умирают, это ничего, потому что они возвращаются домой, к Богу, и Сара это тоже наверняка чувствует, прямо в эту минуту, будто вернулась домой после тяжелого дня. Они с Богом, наверное, валяются сейчас на облаках и смотрят «Я люблю Люси»[17].
Он только сильнее расплакался. Наверное, Генри Питерсон был чувствительным, прямо как я сама.
В зеркале над фонтанчиком я видела, как Тру хватает с полок всякие разности и рассовывает по карманам.
— Нам пора. Значит, завтра утром увидимся, ладно? — Я похлопала Генри по спине и вернулась к своему табурету. Стоять за прилавком мне дико не понравилось. Будто делаешь что-то такое, чего делать нельзя, и в животе такое ноющее чувство.
— Точно, до завтра, Генри, — пропела Тру, придерживая для меня дверь аптеки, карманы ее так и оттопыривались. Могу поспорить, Тру в жизни не испытывала такого ноющего чувства в животе.
Мы ушли, а Генри так и остался сидеть, уронив голову на прилавок. Даже не попрощался — представлял, наверное, свою кузину в маленьком гробу, таком же, как и у Джуни Пяцковски. Из-за этого гробика я очень тогда расстроилась: я-то думала, гробы бывают всегда одинакового размера. Взрослые. Но получается, кто-то знает наверняка, что дети тоже умирают, и делает маленькие гробики для мертвых детей, обшивает внутри розовой материей и раскладывает подушечки с накрахмаленными кружевами.
Я оглянулась на Генри через аптечное окно. Он так и не поднял головы. Должно быть, прилавок приятно холодил горячие глаза. Могу поспорить, теперь он здорово переживает из-за того, что расплакался как девчонка, потому что каждому известно: если мальчик плачет, это верный признак того, что он — «сладкая булочка», как говорит Вилли О’Хара. А это то же самое, что и «гомики», — так, может, как раз поэтому его обзывают «гомо-Генри»? Конец моим планам взаимно приударить. Вилли рассказывал, что видел «сладких булочек» в Нью-Йорке. Даже ездил однажды в такси с одним таким, одетым как женщина и называвшим Вилли «котеночком»! А я уже знаю: если человек гомик, то ему нравятся только гомики. Но зачем это человеку нужно? Вот так одеваться? Видать, Вилли ошибся. Тот человек в такси, наверное, был в театральном костюме. Как падре Джим. Как-то днем Мэри Браун пошла в церковь помолиться, чтобы ее мама приготовила жареную курицу, а уже после молитвы решила немного поподглядывать. В общем, прокралась она к пасторскому дому, заглянула в окно, а там падре Джим, одетый в воздушное белое платье, со всеми юбками и каблучками, танцует в гостиной под «Чарующий вечер».
Когда падре Джим увидел Мэри Браун, он сразу пригласил ее войти и сделал ей здоровенный сэндвич на ржаном хлебе, с ветчиной и сыром «чеддер», — несмотря даже на то, что была пятница. Он рассказал ей, что Мужской клуб при нашей церкви ставит пьесу, и заставил пообещать, что она никому-никому не расскажет, что видела его в костюме, потому что пьеса — сюрприз и Мэри Браун все испортит, если заранее выдаст его. Мэри Браун обещала провалиться на месте, если испортит пьесу, но на следующий же день пришла к нашему дому и разболтала нам с Тру всю историю. И никуда не провалилась. Так что, скорее всего, весь этот треп про «Чарующий вечер» был очередной глупой выдумкой врунишки Мэри Браун.
— Итак, — сказала Тру, придерживая велосипед ногой и прикуривая «L&M» из новой пачки, которую стянула у Питерсонов, — Генри и Салли на дереве сидят. Ц-е-л-у-ю-т-с-я. — Ее лицо осветилось пламенем спички. Так я и знала, что она заговорит про Генри, потому что он первой протянул мне стакан. Тру знаменита тем, что никогда ничего не упускает из виду. — А раз им хочется любить, тогда нам надо их женить…
Я остановилась и, протащив ленту с надписью ЧЕМПИОН через голову, нацепила ее на Тру, потому что сестре это важнее, чем мне, и еще — тогда она перестанет распевать свою дурацкую песенку. Но, по большому счету, я сделала это, потому что папа именно в эту минуту смотрел с небес вниз и показывал мне два больших пальца.
Тру погладила ленту, еще раз выдула сигаретный дым и сказала:
— Знаешь, Сэл? Ты самая лучшая старшая сестра на всем белом свете, и не забывай…
Тут из кустов выпрыгнуло что-то, и Тру растянулась на тротуаре, и большущая черная тень, воняющая пепперони, нависла прямо над ней, сопя и бугрясь мускулами.
Жирняй Эл сидел на Тру, прижимая ее руки к тротуару. Я запрыгнула ему на спину, но он смахнул меня, как необъезженный жеребец. Я лицом вперед полетела в куст рядом с аптекой, в котором он и прятался. Тру извивалась, и металась, и вопила, бултыхая ногами как при беге на месте:
— А ну, отпусти меня! Макаронник долбанутый!
— Хочешь, чтобы я отпустил? Все, что пожелаете!
Жирняй Эл выпустил руки Тру, занес кулак и треснул ее. А потом слез с нее и захромал к упавшему велику, но передумал и решил поколотить Тру еще немного. Завис над ней, хохоча как чокнутый. Я вскочила и кинулась к нему, но тут Тру застонала, и я встала как вкопанная, не зная, что делать, и тогда чей-то голос прошелестел из темноты:
— Оставь ее в покое.
Сперва я решила, что мне почудилось, что это опять мое воображение. Но тут он шагнул в свет фонаря, и я увидела худые белые ноги, а потом пробежала глазами вверх по телу до груди, которая не шире сигаретной пачки. Двумя бледными руками он сжимал пистолет.
— Оставь ее в покое, Жирняй Эл, — сказал Генри Питерсон уже погромче.
И тогда весь мир замер, только и слышно было, как тяжело мы дышим, да еще вился дымок от горящей в траве сигареты Тру. В этот момент из аптеки вышел мистер Питерсон и подбежал к нам посмотреть, что случилось.
Он взял пистолет из рук сына и сказал:
— Теперь порядок. Дальше я сам. — И задвинул Генри себе за спину.
А Жирняй Эл растворился в темноте.
Мистер Питерсон смотрел ему вслед, чтобы увериться, что тот не намерен вернуться, а потом сказал: «Я позвоню Дэйву Расмуссену, как только мы приведем Тру в порядок». Он поднял ее на руки, а Генри побежал вперед открыть им дверь. Я опустила глаза — и там отпечатки наших с Тру ладоней, которые мы оставили прошлым летом, когда мистер Питерсон залатал тротуар, потому что в нем была здоровая выбоина, а он сказал, что не хочет, чтобы кто-то подвернул себе лодыжку. Наши ладошки казались такими маленькими рядом с енотовой шапкой Тру, которая валялась там, будто мертвая.
Генри высунулся из аптеки и позвал:
— Ты лучше зайди. Па говорит, нам, наверное, придется отвезти Тру в больницу. У нее, кажется, нос сломан.
Я изо всех сил цеплялась за разукрашенный «швинн» Тру. Мне не хотелось возвращаться в аптеку. Больше всего хотелось убежать домой, спуститься в подвал и забиться в потайную дырку в стене, потому что я позволила, чтобы с моей сестренкой случилось плохое.
Генри вышел из аптеки:
— Это ничего. С ней все будет в порядке. Па говорит, может, это просто большая шишка. Он сходит за машиной и отвезет вас обеих домой, и тебе больше никогда не придется переживать из-за Жирняя Эла.
Неправда. Потому что в прошлом году Жирняй Эл воткнул в ногу Микки Харригана свой ножик, и никто по этому поводу и пальцем не шевельнул. Я была на детской площадке, когда это случилось. Видела все своими глазами. Жирняй Эл взбеленился из-за того, что Микки выиграл у него в «ножички». Бобби-инструктор позвонил в полицию, приехала «скорая помощь». Но с Жирняем Элом ничего не случилось, потому что мистер Молинари из «Ристоранте Итальяно» водит дружбу с полицейским сержантом Д’Амико, и они оба смеялись, повторяя, что «мальчишки есть мальчишки», и хлопали друг друга по спине у меня на глазах.
Пришлось все-таки пойти в аптеку. Мистер Питерсон положил Тру прямо на прилавок с содовым фонтанчиком. Как это мило, что он ни словом не упомянул все те разности, что вывалились из ее карманов. Россыпь «Даббл-Баббл», и белая пачка «L&M», и бинты — словно она как-то заранее знала, что они могут ей пригодиться. Когда я опустилась на красный табурет у стойки, сестра повернула голову и потребовала:
— Прекрати реветь.
Генри отошел к одному из шкафов, вынул пачку «Клинексов» и принес мне. Мистер Питерсон разложил немного льда, извлеченного из-за фонтанчика с содовой, на переносице Тру, а потом сказал, ему надо позвонить по телефону.
— Он забрал велосипед? — настойчиво зашептала Тру. — Забрал?
Я помотала головой.
Тру заулыбалась и, если б могла, захохотала бы во весь голос: так уж она устроена. Она, похоже, и боль-то не особо чувствует. Но она спятила бы похлеще Вирджинии Каннингем, если бы Жирняй Эл угнал второй ее велик.
В тусклом аптечном свете Генри ужас как походил на Эрла Флинна (который все-таки Эрл Флинн, что бы там ни твердила Нелл). Нет, вообще-то, конечно, совсем не похож. Но такой же храбрый. Так что в тот миг я поняла, что выйду замуж за Генри Питерсона, даже если он гомик: кто еще посмел бы выступить против Жирняя Эла Молинари? Я взяла его ладонь и так крепко сжала, что все то небольшое количество крови, которое еще оставалось в Генри, утекло куда-то в другое место тела — к его сердцу, будем надеяться.
Но тут в окно ударил свет от фар «рамблера» мистера Питерсона, и мы с Генри помогли Тру сползти с прилавка. А на улице нас уже поджидал Расмуссен. В руке енотовая шапка Тру, ногу он поставил на бампер патрульной машины.
— Девочки, — сказал мистер Питерсон, вылезая из машины, — вы же знакомы… с офицером Расмуссеном, верно?
— Да, мы знаем офицера Расмуссена, правда, Салли? — Тру, наверное, стало получше, потому что она заговорила своим «дразнящим» голосом. Взяла шапку у Расмуссена и нахлобучила на голову.
Тот не сводил с меня глаз. Неважно, кто был рядом, он, похоже, глаз не мог от меня оторвать. Неужели, кроме меня, никто этого не замечает?
— Это сделал тот парень Молинари, Салли?
Я кивнула, но не стала смотреть ему в лицо.
— Поищу его, — сказал Расмуссен.
Он увел мистера Питерсона за его «рамблер» и о чем-то стал тихо говорить. А мистер Питерсон выслушал, помотал головой, оглянулся на нас и сказал:
— Господь всемилостивый. Бедные дети.
Я не слыхала всего, что Расмуссен сказал мистеру Питерсону, но я точно слышала, хотя говорилось совсем тихо: «Я так сочувствую вашей утрате. Знаю, каково вам сейчас. Как Элис, держится?»
— Элис в порядке, старается держаться ради сестры, — ответил мистер Питерсон.
Расмуссен посмотрел на нас:
— Салли, мистер Питерсон отвезет вас к бабушке. Она разберется с носом Тру.
Они еще поговорили о чем-то тихими голосами, а напоследок Расмуссен сказал громко:
— Увидимся утром, Джек.
Мистер Питерсон двумя руками потряс ладонь Расмуссена:
— Спасибо тебе за все, Дэйв. Я так благодарен.
Расмуссен посмотрел на меня еще разок и уехал.
Глядя на задние огни патрульной машины, спешившей сквозь ночь, будто Грязный Крысеныш Эдвард Дж. Робинсон[18], я пообещала себе: когда докажу, что Расмуссен сначала убил Джуни Пяцковски, а потом Сару Хейнеманн, обязательно заставлю его встать на колени и просить прощения у мистера Питерсона — прямо перед тем, как его привяжут к электрическому стулу и запекут чернее, чем Неллова макаронная запеканка с тунцом.
Глава 22
По дороге к бабуле мы с Генри сидели на заднем сиденье «рамблера», где еще так по-особенному пахло новизной. Я не отпускала ладонь Генри, и та уже начинала потеть, но меня это ничуть не трогало. Вот так я и поняла, что влюбилась, ведь мне даже Тру не нравится держать за руку, если та липкая. Сестра, кстати, уже совсем пришла в себя. Нос у нее просто сделался чуточку побольше прежнего. Тру сидела на переднем сиденье, рядом с мистером Питерсоном, откинув голову на спинку. Ветерок, влетавший в окно машины, сушил пот, который струился на лоб из-под теплой шапки. Казалось, она засыпает.
— Салли? — тихо позвал мистер Питерсон.
Он смотрел на меня в зеркало заднего вида. Кожа у отца Генри тоже была бледной, так что я призадумалась, не у него ли Генри подцепил свою гомофелью. Мистер Питерсон носил темные очки в толстой оправе и в придачу был почти лысый. Лоб как у младенца, а подбородок каменный. Мне хотелось крикнуть Тру: «Питерсон?» И она, надеюсь, ответила бы: «Ирландцы».
— Да, мистер Питерсон?
— Офицер Расмуссен только что рассказал мне, что с Холлом случилась небольшая неприятность. Вам нужно будет переночевать сегодня у бабушки, а завтра Нелл с Эдди приедут и заберут вас.
Вот знала, что так получится. Холл испустил дух, спорим на что хотите.
Генри сжал мою ладонь чуть крепче, когда я открутила стекло в дверце, чтобы глотнуть чудесного теплого ночного воздуха. Глотнув, я спросила:
— А что случилось с Холлом?
Я смотрела на шею мистера Питерсона. Должно быть, он недавно подстригся, потому что вдоль воротника белого аптечного халата бежала мелкая красная сыпь. Мама как-то сказала папе, что от сыпи хорошо помогает вазелин.
Мистер Питерсон перевел глаза на дорогу.
— Холл влип в мелкие неприятности и сейчас сидит в камере.
— Он что, подрался с кем-то? — поинтересовалась Тру, которая, как выяснилось, вовсе не спала.
Мистер Питерсон ответил:
— Холл ударил мистера Джербака бутылкой по голове, и теперь мистер Джербак в больнице.
— И за это его посадили в тюрьму? — удивилась Тр у.
Дети то и дело мутузят друг дружку, но в тюрьму еще никто не попадал.
— Холлу собираются предъявить обвинение, — сказал мистер Питерсон, включил указатель поворота, и тот тихонько защелкал: тик, тик, тик.
Мы свернули на 59-ю улицу и миновали «Магазинчик на углу» Делэнси, и я тотчас вспомнила бедняжку Сару Хейнеманн, как она отправилась за молоком по просьбе матери, а может, и за стаканчиком шоколадного «Овалтина»[19], чтобы выпить на ночь, перед тем как ей подоткнут одеяло, а в итоге оказалась мертва. Кое-где на крылечках еще сидели люди в шортах и футболках, потягивали пиво из бутылок и слушали радио, которое играло им буги-вуги. Кто-то помахал мистеру Питерсону рукой, и тот махнул в ответ.
— А можно мне предъявить обвинение Жирняю Элу? — спросила Тру.
Мистер Питерсон покачал головой.
— Ты не беспокойся, этот сопляк Молинари больше тебя и пальцем не тронет. За этим проследит офицер Расмуссен.
Я еще по тому, как они разговаривали в аптеке, сообразила, что мистер Питерсон уважал Расмуссена. Мне так хотелось сказать ему, что это Расмуссен убил и снасильничал его племянницу Сару, — из-за сыпи у него на шее и из-за их семейной гомофельи. По-моему, он смог бы понять.
— Офицер Расмуссен… — начала я и замолчала.
Глаза мистера Питерсона уставились на меня из зеркала заднего вида:
— Что офицер Расмуссен?
— Он… Он…
— Да уж… прекрасный человек, верно? — сказал мистер Питерсон. — Дэйв здорово помог нашей семье в это трудное время.
Я так сильно сжала ладонь Генри, что он ойкнул.
— Хочу домой, — заявила я, едва машина встала перед бабулиным домом.
Мистер Питерсон развернулся к нам с Генри. У него были красивые золотые часы, и на бледной руке отчетливо выделялись волоски. Я еле сдержалась, чтобы не ткнуться головой в эту руку, так она была похожа на папину.
— Извини, Салли. Офицер Расмуссен не думает, что сейчас вам стоит возвращаться в свой дом.
Еще бы он так думал. Расмуссен просто хотел знать, где я, чтобы потом, когда станет удобно и темно, сказать бабуле, будто приехал отвезти меня домой, и она такая старая, что просто отдаст ему меня, как вчерашнюю газету.
Мистер Питерсон взглянул на часы:
— Теперь мне нужно съездить встретить жену, девочки. Сегодня вы будете в безопасности.
Тру, наверное, все-таки пострадала сильнее, чем я думала, потому что ограничилась тихим «ладно». Мистер Питерсон обошел машину и открыл дверцу Тру, еще раз осмотрел ее нос и посоветовал: «Прикладывай сегодня лед. Уже завтра полегчает».
А я подарила Генри лучшую свою улыбку — с ямочками такими большими, хоть прячь в них кусочек «Хаббл-Баббл». И он сказал:
— Не переживай о велосипеде, Тру. Па завел его в аптеку, чтобы не угнали. И твой рожок для мороженого тоже занес.
— Никакой это не рожок… А, неважно. — И Тру побрела к бабулиному дому.
А я стояла столбом, потому что вдруг поняла, зачем Тру было чмокаться с Вилли. Больше всего на свете мне сейчас захотелось прижаться губами к бледной щеке Генри Питерсона и прошептать: «Спасибо, что спас нас от Жирняя Эла», но мистер Питерсон стоял совсем рядом, а я не знала, как он среагирует.
Когда машина отъехала от обочины, Тру спросила:
— Он тебе нравится?
— Да, — ответила я.
Мы смотрели, как «рамблер» удаляется по улице. Белая рука Генри махала из окна задней дверцы.
— Сильно болит? — спросила я, поворачиваясь к сестре.
— Бывало и похуже.
Вот сейчас она наверняка вспоминала аварию: на лице у Тру возникло такое особое, непривычное для нее выражение. Примерно как у статуи Свободы.
— Ты скучаешь по нему? — спросила я.
Сестра поняла, что я имею в виду папу, но, конечно, притворилась, будто ей невдомек. Отшвырнула лед, который ей дал мистер Питерсон, и вытянула из кармана пачку «L&M». Закурила и, глубоко затянувшись, выдула колечко, пролетевшее возле моего носа. И заухмылялась, радуясь моему изумлению:
— Быстрюга Сьюзи научила. Называется «французские кольца». — Дымок повис над ее головой, как нимб у святой. — Пошли повидаемся с Этель. Я бы сейчас сыграла в карты с нею и мистером Гэри. Классно будет поиграть в «Пиковую даму». А Этель, может, даже угостит нас песочными кексами. Умираю с голоду.
Я вздохнула с облегчением. Раз уж Тру упомянула о чем-то французском, значит, с ней все в порядке. Мне тоже не хотелось сидеть в старом бабулином кресле у окна и смотреть, как дядюшка Пол склеивает палочки от мороженого, насвистывая под нос стародавние песенки, — сидеть там и знать, что Расмуссену прекрасно известно, где я сегодня ночую. Поэтому я сказала сестре то, что ей никогда не надоест слышать:
— Тру, ты — гений.
Глава 23
Мы стояли на парадном крыльце миссис Галецки. Позвонили, но никто не спешил открыть, и я забеспокоилась, что в доме все уже спят. С крыльца мне были видны крыши нашего дома и дома Кенфилдов, и я знала, что призрак Дотти безутешно рыдает в ее спальне. И уж конечно, я прекрасно видела дом Расмуссена, потому что стояла в десяти футах от него. Побольше, чем у миссис Галецки. Не дом из двух половинок, а целиком для одной семьи, совсем как наш старый дом на ферме. Я так скучала по нему. Даже по писающему куда попало Джерри Эмберсону скучала. Там было безопасно, если не считать, конечно, что фермерам вечно оттяпывает руку или ногу трактором «Интернейшнл харвестер», — такое стряслось с мистером Эмберсоном, и одна рука у него теперь твердая и пустая внутри, а ногти покрашены в дамский розовый цвет. Зато никаких тебе убийц и насильников. К тому же притворяющихся полицейскими. До дома которых рукой подать.
— Знаешь, скоро будет Праздник квартала, — сказала я, чтобы подбодрить Тру. После прогулки от дома бабули она выглядела очень уставшей.
Я всегда напоминала про это, когда хотела поднять сестре настроение, ведь Праздник квартала — ее самое любимое летнее событие. Год тому назад именно в этот праздник Тру объявили Королевой Детской Площадки. И особенно ей нравилась корона с блестками, хоть я тыщу раз потом ей повторила, что эта блескучесть с зимним комбинезоном ну совсем не смотрится.
Тру не ответила.
— Да и Ярмарка штата тоже скоро, — вспомнила я второе по любимости событие.
Тру принюхивалась к ветерку. Он пах шоколадным печеньем. Пекарня «Хорошее настроение» трудилась днем и ночью. Мама всегда говорила, ее мутит от этого запаха. Может, как раз из-за запаха печенья мамин желчный пузырь и накрылся.
— Тру!
— Тсс… Кажется, я что-то слышу.
Сестра спустилась с крыльца и обернулась посмотреть на дом. Тогда и я услыхала. И пошла за Тру вокруг дома миссис Галецки, стоявшего чуть не вплотную к дому Расмуссена. Смех делался громче с каждым моим шагом.
На застекленной веранде, которую мистер Гэри Галецки выстроил для матери сразу после прошлогоднего Четвертого июля, чтобы та могла радоваться летним вечерам, не отвлекаясь на жалящих москитов, сидели Этель, и Рэй Бак Джонсон, и мистер Гэри. Мы с Тру приходили поглядеть, как мистер Гэри строит веранду для своей ма. Дерево так здорово пахло, пока он резал его своей гудящей пилой. Мы приносили попить, когда мистер Гэри просил нас, а он рассказывал нам истории про Калифорнию, и как апельсины растут на деревьях прямо у него во дворе, и что у него там чудесные розовые кусты, больше двадцати штук. Мистер Гэри сказал, возможно, когда-нибудь мы с Тру приедем к нему в гости, а он сводит нас в Диснейленд.
— О, вы гляньте, кто это тут? — воскликнула Этель, хотя распрекрасно знала, кто мы такие.
Мистер Гэри встал и открыл сетчатую дверь, чтобы впустить нас. Он высокий и куда сильнее, чем кажется с виду. И у него самые прекрасные руки, какие мне доводилось видеть. Узкие, с гладкими чистыми ногтями. Но вот уши — это да, ну прямо как у слоненка Думбо, так что Богу попросту пришлось выдать ему такие руки, чтобы исправить ляп с ушами. Рэй Бак сидел на небольшой соломенной кушетке, покуривая сигару. Этель крутила взад-вперед тряпкой, чтобы не налетели москиты, — на случай, если хоть один осмелится, — а Этель совершенно не одобряла москитов и обзывала их «худшей идеей Господа нашего». В доме играла радиола, и Нат Кинг Коул распевал «Мону Лизу» сквозь еще одну дверь с сеткой, что вела на веранду из кухни.
Мистер Гэри хорошенько обнял нас обеих.
— Вы не особо торопились. Я уж думал, может, вам стал не по сердцу старенький мистер Гэри. — Он был не старый, просто шутил. Ему столько же лет, как и всем остальным на той выпускной фотографии из потайной дыры. Столько же, как и маме. Тридцать восемь лет. — Глядите-ка, а вы обе подросли, — сказал он, будто сильно удивился и, возможно, чуточку разочаровался.
Мы не видели мистера Гэри уже год. В последний раз он приезжал прошлым летом, когда Джуни Пяцковски нашлась мертвой, все тогда только об этом и могли говорить и думать, так что на самом деле нам нечасто удавалось побыть с ним. Мистер Гэри приезжал навестить маму только летом, потому что от холода у него начинали болеть зубы, именно поэтому он и переехал в Калифорнию.
— И сколько вам теперь лет? — Мистер Гэри положил ладонь на плечо Тру, он ведь не знал, что она терпеть не может, когда до нее дотрагиваются посторонние, но Этель знала, а потому мигом соскочила с кресла, вскрикнув:
— Бог ты мой, мисс Тру, что случилось с твоим носом? — И она вытянула ее в полосу света, что падал сквозь проем кухонной двери. Тру запрокинула голову к Этель. — Силы небесные! Кто ж это тебя так, милая моя?
Поскольку Тру была слишком измотанной для рассказа, я поведала историю про наше приключение с Жирняем Элом, а потом сообщила, что Холл угодил в тюрьму и мы не знаем толком, где Нелл, и что мистер Питерсон подвез нас к бабуле, но (тут я наврала, так что простите меня, Бог и папа) та не услышала наш стук, так что мы явились сюда.
— Вот и молодцы, — сказала Этель и тревожно глянула на Рэя Бака и мистера Гэри. — Я уверена, не будет худа, ежели вы поспите сегодня здесь, на веранде.
Мистер Гэри сказал:
— Разумеется. Нельзя, чтобы вы бродили по улицам, учитывая все, что тут творится в последнее время.
Рэй Бак встал и уступил Тру место на соломенной кушетке, а Этель вернулась в дом, чтобы проведать миссис Галецки, наверное. Зажглись светлячки. Этель как-то сказала, что светлячки прилетели сюда вслед за ней, из Миссисипи. Так и было, верно же? Случается, что некоторые люди привлекают особенные вещи, вроде светлячков, и сверчков, и падающих звезд, и клевера с четырьмя листочками, чаще, чем прочие.
Этель вернулась с большим блюдом кексов. Рэй Бак взял один, а мистер Гэри отказался. А мы с Тру съели по два чудесных песочных кекса по старому рецепту из Миссисипи.
Когда мы расправились с кексами, Рэй Бак поцеловал Этель в щеку и сказал:
— Мне пора. Ранняя пташка червяка клюет.
Мы все пожелали ему спокойной ночи, а потом Этель проводила его к передней части дома, где он сядет в автобус, который останавливается на углу, и тот довезет его домой, в Центр, где жили все остальные негры. Рэй Бак мог кататься на автобусе бесплатно, потому что сам работал водителем автобуса, повезло ему.
Мистер Гэри встал и потянулся, раскинув руки; рубашка у него задралась, и я увидела живот — плоский, как гладильная доска, и коричневый из-за калифорнийского солнца, с черными завитками вокруг пупка, которые тонкой линией спускались в брюки.
— Поздновато уже, — сказал мистер Гэри. — Пора и на боковую. Как насчет сыграть завтра в «Пиковую даму», барышни?
— Звучит неплохо, мистер Гэри, — ответила я, уже планируя спросить, знакомы ли они с нашей мамой, дружили ли в школе, и, возможно, задать ему пару вопросов про Расмуссена. — Спокойной ночи.
— И пусть клопы вас не кусают, — пожелал он и пошел к двери веранды, но потом обернулся и чуточку грустно улыбнулся. Будто что-то задумал. Но так ничего и не сказал. Только отер ладони о брюки и вошел в дом.
Этель принесла подушки с наволочками, которые были отглажены и пахли хозяйственным мылом «Тайд», и хотя было очень тепло, она все равно прикрыла наши голые ноги чистой белой простыней. Тру спросила, нельзя ли ей, пожалуйста, выпить стакан молока, и Этель принесла молока. Потом Этель опустилась в кресло, и все огни были потушены, за исключением светлячков, и было тихо-тихо, только цикады свиристели громче обычного, как бывает теплыми летними ночами, да гавкал пес Мориарти. Этель сказала:
— Ох, девочки, вам приходится мотыжить очень твердое поле. Помолимся немного вместе.
Этель не была католичкой. Она была баптист. Поэтому каждый воскресный вечер ходила в церковь в негритянском районе, пока Расмуссен приглядывал за миссис Галецки, и разве это не мило с его стороны? Тьфу.
Когда вырасту, обязательно стану баптистом. Я никогда так не веселилась в церкви. Преподобный Джо проповедовал с ужас какой прытью. Даже прытче Барб, инструкторши с детской площадки, а она по части бодрости кому хочешь сто очков вперед даст. После службы был общий сбор на церковном дворе, хотя вообще-то это и не церковь вовсе, а бывший магазин электротоваров, на фасаде там до сих пор истертая вывеска: «Лавка Джо Кула: Маленькие и большие электроприборы для Разборчивых Клиентов». И всех там угостили жареными цыплятами, ждавшими на скатерти в красную клетку, а еще — цветной капустой, она прямо как шпинат, только вкуснее. В автобусе № 63 по дороге домой я спросила Этель, сможем ли мы еще раз приехать и захватить с собой Мэри Браун, потому что Мэри Браун ничего так не любит, как жареных цыплят. Между залпами смеха Этель ответила:
— Эта девочка тощее бедной родственницы.
Я закрыла глаза, и Тру тоже, когда Этель произнесла молитвенным голосом: «Господи, этим девочкам не повредила бы небольшая помощь». Этель рассказала Господу, что мы были хорошими девочками и что наша мама заболела, и пусть он, пожалуйста, убережет нашу маму, чтобы она вернулась и позаботилась о нас. Мне стало так тесно в груди. И грустно. Глубокая такая грусть, будто хочешь чего-то сильносильно. Голодная печаль. Должно быть, я расхныкалась, потому что Тру лягнула меня.
Этель встала с протяжным «ааамииииинь», поцеловала нас в лоб и ушла в дом, закрыв сетчатую дверь и оставив сладкий запах духов «Фиалки в долине», чтобы он побыл с нами еще немного.
Я лежала головой на одну сторону соломенной кушетки, Тру — на другую, так что ее босые ноги были вровень с моим животом, и я растирала их, пока сестра не уснула, а это почти сразу и произошло. Тогда я встала, тихо-тихо, как это бывает, когда не удается заснуть. И долго смотрела на рыжие волны, выбивавшиеся из-под енотовой шапки Тру. Было полнолуние, и свет падал сестре на лицо, из-за чего она стала похожа на святую. Я подтянула простыню ей под самый подбородок и подошла к краю веранды, чтобы хорошенько рассмотреть дом Расмуссена. Там было темно, свет только в одном окошке горел, не иначе в кухне. Может, Расмуссен ездит по городу, разыскивая Жирняя Эла Молинари, как и обещал мистеру Питерсону? Или, может, прячется за углом, выжидая и наблюдая за мной, — как в ту первую ночь, когда он гнался за мной по аллее. После того как Расмуссен покончит со мной, убьет и снасилует, Тру останется совсем одна. И пусть сестра строит из себя упрямую и решительную, я же помню, какой она стала после папиной смерти. Она не перенесет подобного еще раз. Она с ума сойдет, и ей придется уехать жить в Главную психушку округа вместе с миссис Фусман с Хай-Маунт-стрит, которая попыталась утопить обоих своих детей в ванне, когда Бог сказал ей, что они дьяволята. Я не могу допустить, чтобы такое произошло с моей сестренкой. Ни за что не подведу папу. Я уж лучше умру — вот до чего я люблю своего Юного Трубача.
А чтобы спасти Тру, мне нужно воплотить в жизнь свой план. Пойти к дому Расмуссена и немного осмотреться: нет ли там чего-нибудь вроде теннисной туфли Сары или Джуни Пяцковски или медали Святого Христофора, которую Джуни получила на Первое Причастие и которую, по словам Быстрюги Сьюзи Фацио, так и не нашли. А потом я вернусь и разбужу мистера Гэри, он возьмет тенниску и медаль, отвезет их в полицейский участок, и тогда копы приедут за Расмуссеном, чтобы арестовать его и поджарить на электрическом стуле.
Мне хотелось попросить Этель помочь, но я знала, что ей очень нравится Расмуссен. Она даже творила для него благие дела: поливала его розы, если день выдавался жарким, а Расмуссен был занят в своем полицейском участке и не мог приехать домой. Или, если ему нужно было уходить очень рано, Этель забирала его молоко и масло, оставленные на крыльце, заносила в дом и совала в холодильник. Этель говорила, у Расмуссена болит сердце, потому что давным-давно он принял неверное решение. И из-за этого решения женщина, которую он любил всем сердцем, и душой, и всеми звездами в небе, и всеми морскими звездами в море, вышла замуж за кого-то другого, и потому она, Этель, женщина довольно романтическая, сильно переживает из-за Расмуссена. О, бедняжка мисс Этель Дженкинс из округа Калхун, штат Миссисипи! Расмуссену удалось обвести вокруг пальца даже самую умную женщину из всех, кого я знала.
Я осторожно толкнула скрипучую сетчатую дверь во двор с веранды. Вышла со двора миссис Галецки в аллею, потому что два дома разделял белый штакетник забора, усаженный спящими желтыми розами. Задержала дыхание и огляделась. Вроде все как всегда, так что я обогнула гараж Расмуссена и попыталась заглянуть внутрь. Готова спорить, похищая девочек, он притаскивал их сюда, чтобы насильничать. Их ведь прямо на улице похитили. Сара шла в магазин за молоком для мамы, а Джуни Пяцковски, как я слыхала, направлялась на занятия в «Студию танца Элейн», где устраивались детские уроки чечетки и балета. И обеих не сразу нашли. Так что Расмуссен должен был где-то прятать их. У него, наверное, есть машина, как у мистера Гэри. В нашем районе машины редкость, большинство местных жителей ездят на автобусах или ходят пешком куда нужно — скажем, в пекарню «Хорошее настроение», или в церковь, или в универсам «Крогер».
Я тихонько прокралась на задний двор к Расмуссену, медленно-медленно прикрыв ворота, но оставив их незапертыми, чтобы суметь быстро улизнуть, если что. Я глазам своим не верила! Вот он какой, тот садик, про который мне рассказывал Расмуссен. Ого! И купальня для птиц, полная воды, и маленький скворечник на жерди. И морковка, и помидоры, и редиска, и маленькие зеленые бобы, обвивавшие длинные палки, составленные как вигвам. И столько самых разных цветов, некоторых я прежде и не видала. Настоящий Эдем. Миссис Голдман просто с ума бы сошла, попади она в такой! Да и папа тоже.
Я на цыпочках прошла по траве к дому и положила руку на алюминиевую ручку. Конечно, дверь не заперта: Расмуссену-то чего бояться? Я прислонилась к двери, дожидаясь, пока сердце не прекратит биться как воздушный змей в ветреный день. Потом скрестила на удачу пальцы и медленно потянула ручку вниз. В этот самый миг весь задний двор осветился, словно днем. В гараж Расмуссена заезжала машина. Я упала и быстро поползла к саду — больше тут нигде не спрячешься. Прошла, кажется, целая вечность, но вот Расмуссен опустил дверцу гаража со звуком «кликети-кликети-кликети». Я слышала его шаги, но самого Расмуссена не видела. Забралась внутрь бобового вигвама и стала ждать, когда хлопнет входная дверь, но ничего не происходило. Прождав несколько минут или часов, я высунула голову посмотреть. Не стоило этого делать, все ведь говорят: не надо высовываться, когда прячешься от кого-то, но я же должна была понять, куда подевался Расмуссен. Он очень высокий, запросто заглянет через забор к соседям, а там на самом виду, на веранде, спит Тру. Легкая добыча, сказала бы Этель. И что я увидела в лунном свете? У желтых роз, вдоль забора, взад-вперед медленно бродил Расмуссен. И плакал.
Глава 24
Когда внутри дома залаяла собачка, Расмуссен высморкался в платок и сказал:
— Ладно-ладно, тише, Лиззи, я уже иду.
Заслышав, как щелкнул замок на двери, я еще посидела в бобовом вигваме, считая до шестьдесят-Миссисипи, пока не решила, что можно выбираться. Самое умное было бы вернуться к миссис Галецки и залезть под простыню к Тру, но я, наверное, не особо умная, тут права наша Нелл, потому что я поступила иначе. У меня ведь был план.
Я оглядела двор в поисках чего-нибудь, на что можно встать пошпионить. Рядом с задней дверью темнел большой цветочный горшок — такой же, что и спереди, полный красных цветков герани, которые я заметила, потому что это мамины любимые цветы. Но второй горшок пустовал, так что я откатила его под окошко. Забралась на него, согнувшись в три погибели, потом начала по чуть-чуть выпрямляться. И заглянула прямо внутрь дома Расмуссена! Он стоял там, открывая консервную банку, должно быть, с собачьим кормом, потому что щеночек прыгал и скакал вокруг, прямо как Грубиян, когда я его кормила. Только кухня и видна. А мне требовалось увидеть, чем еще занимается Расмуссен, как убийца и насильник готовится ко сну. Может, он вытащит из какого-нибудь тайника тенниску Сары или медаль Джуни со святым Христофором.
Я осторожно перетащила свой горшок к другому окну, за которым оказалась точь-в-точь наша столовая, только без пивных бутылок на блестящем полированном столе. Зато там нашлось нечто другое. Нечто поразительное, я даже не сразу поняла, что именно вижу. Там, на стене столовой, в золотой рамке (я отчетливо видела, поскольку над ней горела небольшая лампочка вроде ночника) висела фотография Джуни Пяцковски в том самом платье Первого Причастия. Тот же снимок, что и в бумажнике, только намного больше. Я успела пригнуться, когда открылась дверь и Расмуссен пересек комнату. Даже не остановился поглядеть. Прошел мимо, будто на стене не висит ничего особенного.
Я закрыла глаза и подумала, что в моей голове, похоже, шарики окончательно закатились за ролики. Но потом снова открыла — и никуда она не делась, фотография Джуни. Расмуссен опять прошел мимо, уже в трусах (типа семейных) и с голой грудью. Он выключил весь свет, оставив только тот, что горел над снимком Джуни в день ее Первого Причастия, и опять ушел, вместе со своей собачкой. И я опять уставилась на Джуни. Она улыбалась в своем островке света, со сложенными на коленях руками, будто повторяя молитвы по намотанным на пальцы четкам розария.
Расмуссен оказался самым мерзким человеком на всем белом свете! Он не просто убил и снасиловал Джуни, он повесил ее фотографию на стену столовой, будто хвастался. Как мистер Джербак развешивает головы оленей и косуль по стенам «Пива и Боулинга».
Нужно разбудить Этель. Вот оно, доказательство! Может, теперь она перестанет считать Расмуссена таким уж отличным парнем. Я даже не стала возвращать на место горшок. Просто промчалась по саду, вылетела на аллею, проскочила веранду, мимо Тру, прямо в дом миссис Галецки. Спальня у Этель смежная с кухней, прямо как спальня Нелл в нашем доме, и мне даже в голову не пришло постучать, до того я была напугана. Прыгнула ей прямо на кровать и начала трясти за бок: «Этель… Этель Дженкинс… проснись». Я знала, она не особо одобряет ночные страсти такого рода из-за клуба «ККК», что оставил ей несколько дурных воспоминаний. Именно в эту пору, по словам Этель, любил являться «ККК». В черном бархатном плаще ночи.
Этель быстро села в кровати. У нее было что-то на голове, какая-то штука вроде шляпки. А одета Этель была в белую ночнушку с рюшечками.
— Что случилось?
— О, Этель, ты должна посмотреть. Ты должна пойти!
Я потянула ее за руку, и Этель отбросила одеяло. Вставила ноги в тапочки, которые называла «мои мулы», и позволила мне вытащить ее на веранду.
— Что-то с мисс Тру? Она плохо себя чувствует? — Этель воззрилась на Тру, которая мирно спала на соломенной кушетке.
— У Тру все нормально, — зашептала я в ответ, — а у Джуни Пяцковски — нет.
Этель замерла на миг, потом положила ладонь мне на лоб, чтобы проверить, нет ли у меня температуры.
— Знаешь, я начинаю из-за тебя переживать.
— Просто пойдем поскорее, Этель. Только скорее. Хочу показать тебе такое, ты сама не поверишь!
Она снова поглядела на меня, на Тру, но пошла за мной к дому Расмуссена.
Когда мы миновали калитку, Этель присвистнула:
— Да этот парень прирожденный садовод, вот уж не думала. — Она сорвала маленький помидорчик, сунула в рот и пробормотала: — Мисс Салли, тебе, наверное, кошмар приснился или ты ходишь во сне. Пойдем-ка лучше ляжем спать.
А я ответила ей самым серьезным моим голосом, о каком даже не подозревала до того самого момента:
— НЕТ!
Этель нахмурилась, потому что я позабыла свои вежливые манеры, но все равно завернула со мною за угол дома. Я отбежала чуть дальше, к клумбе, но ей-то это не нужно, она повыше многих. Я указала на снимок Джуни и решила, что ничего другого говорить не придется. Эта фотография, как выражается бабуля, стоила тысячи слов. Когда Этель увидела Джуни в красивом белом платье для причастия, на ее лице возникло смешанное выражение. Поглядев на меня, она спросила:
— Что с тобою, дитя? — Так спросила, будто все ля-ля тра-ляля, будто это нормально, что Расмуссен повесил фотографию мертвой Джуни Пяцковски на стену столовой.
Я так разволновалась и огорчилась одновременно, что расплакалась.
Этель сказала:
— Ну ничего. Это ничего. — И осторожно, совсем легонько провела рукой по моей спине, будто я одна из фарфоровых кукол миссис Галецки. — Мисс Джуни сейчас на небесах, с Иисусом.
— Этель, кк-как т-ты не п-понимаешь?! — Я снова ткнула пальцем в фотографию Джуни: — Я видала их п-прошлым летом на Полицейском пикнике, они вместе запускали воздушного змея, и Расмуссен смотрел на Джуни этак по-особенному… будто влюблен в нее или вроде того… и он ее даже д-держал за плечо, и трогал, а потом ее нашли мертвую. Он и есть убийца и насильник. Вот же д-док-кказательство.
У Этель челюсть чуть не клацнула о плитки дорожки. А потом она сказала самым тихим голосом — тем, что звучал совсем как стенной вентилятор в жаркий денек:
— Боже, Боже, Боже, Боже…
Что такое творится с Этель? Почему она не спешит разбудить мистера Гэри, который вызовет полицию арестовать Расмуссена?
Этель подняла меня с клумбы и поставила перед собой.
— Нам надо поговорить, мисс Салли.
Я вырвала у нее руку и как закричу шепотом:
— Этель!
— Подойди-ка. — Она притянула меня к себе и легонько хлопнула по заду. — А теперь немного успокойся, и я расскажу, что тут происходит. Все не так, как ты думаешь.
Я позволила Этель увести меня за угол дома, к зеленой скамье на цепях, все еще хранившей слабый запах апельсинового лосьона, которым Расмуссен пользовался после бритья. Мы уселись, Этель покачала нас немного, а потом сказала:
— Ты вволю надумала, накрутила себя, а спешить с выводами — дело пропащее.
— Но, Этель…
— Просто помолчи минутку. — Я так разнервничалась, что хотела вскочить, но Этель цепко держала меня за руку. — Мистер Расмуссен смотрел на мисс Джуни любящими глазами, все верно. Он ведь приходился мисс Джуни дядей. Я думала, ты знаешь.
— Что ты такое говоришь? — воскликнула я.
Этель ответила медленно, тщательно проговаривая слова:
— Джуни — племянница мистера Расмуссена. Дочка его сестры Бетси.
Я ушам своим не верила. Да он самый страшный злодей, какие только ходят на двух ногах. Расмуссен убил и снасиловал собственную племянницу!
Целую минуту я и слова не могла вымолвить, потому что вдруг перестала доверять Этель и где-то глубоко внутри меня словно что-то склизкое завелось.
— Бедный Дэйв! Он души не чаял в малютке мисс Джуни. — Этель перестала нас раскачивать и спросила: — Ради всего святого, с чего ты взяла, что он убил ее? Мистер Расмуссен и мухи не обидит, до того хороший он человек.
— Прости, что мне придется это сказать, но ты сильно ошибаешься, Этель. Расмуссен убил Джуни и Сару Мэри тоже. — У меня в голове будто пчелы завелись, так она гудела. — И он носит мою фотографию в бумажнике, так что я в его списке следующая.
Этель тихонько испустила удивленное «ах!».
— Ну, потерпи, вот расскажу все Рэю Баку. — И она вдруг принялась хохотать, а мне отчего-то сделалось не так страшно — наверное, из-за ее смеха, он как миллион звонких монет, глубокий и переливчатый. — Я всегда говорила, воображение не доведет тебя до добра, и сегодня тот самый день, Салли.
Пусть даже Этель смеялась, я все равно поняла, до чего она огорчена: Этель даже забыла про манеры и не назвала меня «мисс». Я прижалась к ней, а она обняла меня и сказала:
— Точно тебе говорю. Мистер Расмуссен, он лучший человек в наших краях. Настоящий джентльмен. Он в жизни пальцем никого не тронет, ты уж как-нибудь заставь себя перестать думать о нем худое.
Аромат розовых кустов Расмуссена смешивался с запахом шоколадного печенья, и они создавали такую волну сладости, что мне захотелось нырнуть в нее, раскинув руки, и никогда уже не высовываться на поверхность. Так здорово было бы просто поверить Этель, что я как-то вбила себе в голову, будто Расмуссен убийца. Такой же убийца и насильник, как мистер Кенфилд — шпион, а Грубиян — дьявол в собачьем облике. Я ведь решила, что Расмуссен замышляет недоброе, из-за того, как он смотрел на Джуни в парке, когда они запускали воздушного змея, и потому, что он ни с того ни с сего вдруг становится такой грустный, и потому, что он холост, — неужели это все только из-за моего воображения?
— Может, это из-за маминой болезни? — спросила Этель. — От сильных переживаний людям порой мерещится, будто вокруг неладное творится. Да и папа твой умер совсем недавно… Я прежде видала такое. Бывает, люди ненадолго перестают здраво мыслить, когда сильно чем-то расстроены.
Качаясь с нею в лунном свете, от которого все вокруг казалось сонным, с мягкими и туманными очертаниями, я уже не понимала, где вещи начинаются и где заканчиваются. Может, я и вправду перестала здравомыслить, прямо как она и сказала? Но пускай Этель права и Расмуссен не пытался убить и снасиловать меня… Кто-то же пытался! Кто-то же гнался за мной! И кто-то схватил меня во дворе Фацио. Если сомневаетесь, спросите у Наны Фацио.
— Тебе хоть чуточку полегчало? — откуда-то издалека донесся голос Этель.
Я хотела ответить: «Да, Этель, мне полегчало. Все будет хорошо. Теперь я понимаю, твои рассказы про Расмуссена — кристально честная истина. Никакой он не убийца и не насильник». Вот только сказать этого вслух я не могла. Я очень любила Этель и не желала ее обманывать.
— Ты просто поспи, солнышко. Самое лучшее сейчас. А Этель помолится за тебя. — И ее милый голос, мягкий и чистый, поплыл по спящему саду: — Я сегодня спать ложусь, о душе своей молюсь. Если я умру во сне, снизойди, Господь, ко мне.
Заснула я с мыслью, что утром надо будет обсудить с Этель ее выбор молитв.
Глава 25
Утром следующего дня я нежилась в кровати Этель и размышляла о минувшей ночи и о рассказе про Расмуссена: дескать, какой он хороший человек и настоящий джентльмен. Чудесный любящий дядюшка. И уж точно никакой не убийца и насильник. С таким трудом верится… Вообще не верится. Чтобы я во что-то такое поверила, у меня всю память должно отшибить.
Этель просунула голову в спальню и позвала:
— Вставай, соня, пора вилять хвостом.
Она держала в руке стеклянный поднос с тостами и чашкой молока с «Овалтином», который купила специально для наших с Тру визитов по средам, потому что мы просто души не чаем в «Овалтине». Этель сама теперь души в нем не чает. Да и кто бы устоял? Этель выставила завтрак на маленький столик у кровати, рядом с Библией и каталогом товаров «Сирс и Робак», в котором тьма страниц была загнута.
Этель отошла к окну и отдернула пожелтевшую штору, скрывавшую садик Расмуссена. Я уже знала, что он там вместе с Тру, — слышала их голоса. На Тру была накрахмаленная рубашка (вероятно, мистера Гэри, потому что по длине она была как платье), а по пляшущей в волосах золотой искре, как у мамы, я поняла: сестра уже успела принять ванну.
— Как самочувствие с утра? — Этель присела на краешек кровати, и я придвинулась к ней.
— Самочувствие прекрасное, Этель. Спасибо, что спросила. Ты сказала ему? — кивнула я в сторону окна.
— Нет, конечно, не сказала. Сдается мне, мистер Расмуссен здорово обидится, скажи я, что ты считаешь его убийцей и насильником, верно? — Она надела праздничный воскресный костюм, хотя сегодня и был вторник. — Так уж вышло, что мистер Расмуссен очень высокого мнения о тебе, мисс Салли, я-то знаю; давай тренируй свой ум, пусть перестанет думать о нем плохо.
Придется изо всех сил напрячься, чтобы научить ум не думать про Расмуссена как про убийцу и насильника. Но если Этель права, этим я и займусь. Так надо. Пусть Расмуссен не убийца, тогда стоит присмотреться к другим. Ведь все равно кто-то тут явно мечтает со мной разделаться.
— А который час? — спросила я, откусывая вкуснющий тост с толстым слоем клубничного джема. — Нам с Тру надо на похороны. Я обещала Генри Питерсону.
— Всего-то начало восьмого. — Этель встала. — Я уже вымыла Тру, ты следующая. Пойду пущу воду, а ты доедай тост и не забудь про хрустящую корочку.
Я перевернулась на другой бок и стала глядеть, как Тру кидает мячик собачке колли, а та явно веселилась вовсю, так и выплясывала у ее ног, вывалив язык. И Расмуссен хохотал как сумасшедший, глядя на обеих.
Из-за стенки донесся шум воды — это Этель открыла краны в ванной. До маминой болезни я не особо любила мыться и вечно ныла по этому поводу, но теперь ванна казалась прямо райским наслаждением. Этель взобьет пышную пену, она всегда так делает, когда готовит ванну для миссис Галецки. Все пузырьки умещались в маленькой желтой бутылочке «Эйвон», и от них весь дом начинал пахнуть ванильным мороженым. Так что я запихнула остаток тоста в рот, не забыв про корочку, и пошла искать миссис Галецки. Успею прочитать ей короткий рассказ или что-нибудь такое: в конце концов, она ведь разрешила нам с Тру переночевать в своем доме.
— С добрым утром, Спящая красавица! — Мистер Гэри сидел за кухонным столом рядом с матерью. Одет в красивую белую рубашку и шорты. Мистер Гэри почти всегда одевался только в белое и очень гордился своим вкусом.
— Доброе утро, Салли, — поздоровалась миссис Галецки.
— Доброе утро, — ответила я ее улыбчивому лицу.
Миссис Галецки обожала сына и беспрестанно говорила о нем, рассказывала всякие истории. Например, про то, что в детстве мистер Гэри не спешил расти. И что в школе над ним измывались, обзывали «заморышем». И что потом, несмотря на трудное начало, мистер Гэри сумел устроиться в жизни, и она им гордится. Конечно, миссис Галецки на седьмом небе от счастья, ведь сейчас мистер Гэри сидит с нею рядышком за круглым деревянным столом, а на столе и чай, и тосты, и виноград.
— Присоединяйся. — И миссис Галецки поманила меня маленькой искривленной рукой.
— Разве что на минутку, мне надо принять ванну. — Я едва терпела саму себя, настолько ужасно пахла, а вчерашнее сидение в бобовом вигваме Расмуссена ничуть этот запах не уменьшило.
Я села рядом с миссис Галецки, лицо у нее все в морщинках, особенно много вокруг рта. Но у нее красивые глаза орехового цвета, ни у кого другого я не видела таких глаз. Как вода в нашей лагуне. Светло-коричневые и прозрачные.
Мистер Гэри читал матери газету «Сентинел». Уши у него совсем не так торчат, как на выпускной карточке из тайника. То есть, конечно, торчат, но лицо у него теперь сделалось пошире, и это уже не так заметно.
— Сегодня похороны девочки, которую нашли в парке. Ты ее знала, Салли?
— Не то чтобы, — ответила я, отщипнув виноградину от кисти. — Сара была младше нас с Тру. Ходила в третий класс.
Миссис Галецки затрясла головой и сказала:
— Такое горе для матери. Ты помнишь Кэти Миллер, верно, Гэри? Она вышла за Фрэнки Хейнеманна. Сара была дочкой Кэти и Фрэнка.
Мистер Гэри встряхнул газету и ответил:
— Ну конечно, я помню Кэти Миллер. Самая красивая девочка в школе. Славная, славная девочка.
— Кажется, весь мир катится под гору, — вздохнула миссис Галецки. — Какое чудовище станет обижать бедных, беззащитных детей?
Еще вчера я бы сразу и объявила, что Расмуссен запросто станет, но теперь воздержалась. Сотворила благое дело ради Этель. Впрочем, взаправду научить ум думать по-другому будет непросто. Это как выучиться новому карточному фокусу.
Я уже готовилась спросить мистера Гэри про маму, и какой девочкой она была в старших классах, и дружили они или нет, когда Этель позвала:
— Мисс Салли, ванна готова!
— Спасибо, что позволили нам с Тру остаться на ночь, — сказала я, отодвигая стул. — Мы очень ценим вашу помощь.
Мистер Гэри положил газету на стол и сказал этим своим тихим, нежным голосом:
— Ты замечательно воспитана, Салли.
Должно быть, у меня зарделись щеки, потому что он прибавил:
— И у тебя прекрасный окрас. Знаешь, что это такое?
Я помотала головой.
— У тебя зеленые глаза, и светлые волосы, и кожа чудесного персикового оттенка. Все это и называется «окрас». — Он вновь поднял газету и сказал из-за нее: — Ты очень красивая девочка.
— Шевелитесь, мисс Саа-алли, а то вода вот-вот остынет, — позвала Этель.
Затем мистер Гэри что-то сказал, прикрывшись рукой (я уловила слова «Тру» и «окрас»), и они с миссис Галецки посмеялись немного.
На краю ванны, поджидая меня, сидела Этель.
— Снимай с себя одежки. Я постираю их для тебя.
— Что же я тогда надену? — Я протянула ей майку, шорты и трусы. Бабуля сказала бы, моя одежда похожа на тряпку, которую кошка притащила в дом.
— Я звонила Нелл. Явится, не успеешь и глазом моргнуть, с чистой одеждой для тебя и Тру. Они с Эдди отвезут вас на похороны и меня заодно подбросят.
Так вот почему Этель в воскресном наряде! Стоит ли удивляться, она не пропускает ничьих похорон. Говорит, это важно для семей почивших — знать, сколько людей станут скучать по ним.
Я сунула ногу в ванну, и она была восхитительно хороша, эта теплая вода с пузырьками. Этель выложила на борт ванны совершенно новый кусок мыла «Айвори», и я нырнула в воду.
— За ушами тоже, — велела Этель. — И волосы вымой хорошенько.
Когда она вышла и прикрыла за собой дверь, я подумала, до чего же на самом деле соскучилась по Нелл, не могу дождаться эту дурную голову. Но Тру, наверное, нисколько по нашей сестре не соскучилась, разве что обрадуется шансу подразнить ее.
В дверь постучали в ритме «Собачьего вальса».
— Прости, что беспокою, — сказал через дверь мистер Гэри. — Мне нужно взять аспирин для мамы из аптечного шкафчика, можно войти?
Я поглубже утонула в пузырях и ответила:
— Конечно. — Даже если мне и не особо хотелось, это ведь его дом, и невежливо было бы сказать «нет».
Мистер Гэри вошел, достал с полки склянку с таблетками, а потом захлопнул дверцу шкафчика и посмотрел на меня в зеркало.
— Не сомневаюсь, это здорово, да, Салли? Я просто обожаю воду. Дома в Калифорнии я живу на пляже и каждое утро отправляюсь поплавать. — Он присел на край ванны с той стороны, где были мои ноги. Я еще раз проверила, целиком ли спряталась под пузырьками. — Чудесный способ начать день. Каждый раз это встряхивает меня, заряжает бодростью и чистотой, будто я заново родился. — Он брызнул в меня водой.
— Ага, — согласилась я. — Вы правы, мистер Гэри.
Мне хотелось, чтобы он ушел или хотя бы прекратил улыбаться, потому что один глаз у него чуточку косил, и из-за этого он выглядел немного странно. Его окрас был под стать моему собственному. Загорелая кожа, светлые волосы, а вот глаза вместо зеленых — того же цвета, что и у его мамы, лагунно-карие. И волосы настолько блонди, будто взялись, сказала бы Нелл, прямиком из флакона. Она бы точно это знала: пошла уже четвертая неделя с тех пор, как Нелл стала ходить в «Школу красоты Ивонны» на Норт-авеню.
Тут вернулась Этель. Она подтолкнула мистера Гэри к двери, а меня спросила:
— Ты уже вымыла волосы?
Я соскользнула под воду, но слышала: Этель что-то говорит мистеру Гэри. Когда я выплыла наружу, его уже не было.
Этель опустилась на колени рядом с ванной, взяла мыло «Айвори» и принялась тереть его в больших коричневых ладонях, добывая пену. Голова у меня была вроде как под водой, и я не особо ее слышала, только видела, как губы шевелятся. У Этель чудесные губы. Широкие. И она всегда мажет их ярко-красной помадой под названием «Пожарная машина № 5». Готова спорить, точно такой же будет мазаться и Мэри Браун, когда подрастет.
Она резко выдернула меня из воды и нахлобучила на голову пену, взбивая волосы так, словно это был кусок теста, который следовало хорошенько вымесить.
— Я спрашиваю, что говорил тебе мистер Гэри?
— Ну, что очень любит воду, от нее чувство, будто он заново родился.
Этель закатила глаза и сказала нетерпеливо:
— В голове у этого парня пляшут чудны́е мысли, но ты не вздумай натравить на него свое воображение. — Она соскребла остатки пены с ладоней, стряхнула в ванну. — Еще раз обмакнись и вылезай.
А мне совсем не хотелось вылезать. Мне хотелось остаться в воде, и плавать, и чувствовать, как мистер Гэри сказал, будто заново родилась, но Этель взмахнула передо мной пушистым свежим полотенцем:
— Время не ждет.
Я выбралась из ванны и дала ей завернуть меня в полотенце.
— А теперь беги в мою комнату и закрой за собой дверь. Нелл явится с минуты на минуту.
Я вползла обратно под одеяло Этель как была, в полотенце, и просто ждала там, как велела Этель. За окошком Тру помогала Расмуссену собирать зеленый горошек в серебристую миску. Расмуссен посмотрел на часы и зашевелил губами. Потом оглянулся в мою сторону и махнул рукой. Я прикинулась, что ничего не вижу, перекатилась на другой бок и взмолилась, чтобы Нелл поспешила. Хотя денек выдался теплее не бывает, при виде Тру с Расмуссеном вместе, прямо не разлей вода, меня начало знобить.
Глава 26
Мы с Тру влезли в привезенные Нелл линялые платья цвета морской волны, что обычно надеваем в церковь, попрощались с мистером Гэри, пообещали вернуться после похорон и сыграть с ним в «Пиковую даму». Он сказал: уж пожалуйста, постарайтесь, он пробудет здесь еще совсем недолго и направится назад в Калифорнию, страну молока и меда. «И воды», — подумала я. Там целый Дикий океан. И еще мистер Гэри похвалил наши с Тру наряды, назвал нас «прелестницами».
— Совсем как взрослые, — добавил он голосом, легким, точно мотылек.
Тру, и Этель, и Нелл уже сидели в машине Эдди, ждали только меня. А я вернулась еще раз сказать «спасибо» миссис Галецки, что та разрешила нам переночевать. Стоило мне прикрыть входную дверь и обернуться, там он меня и поджидал, на ступеньках крыльца.
— Доброе утро, Салли.
Я чуть из кожи не выскочила от неожиданности. Этому парню здорово удается тихо подкрадываться. Расмуссен был весь разодет в красивый черный костюм, прямо кинозвезда. Еще на нем были полированные черные туфли. Не на резине.
— Могу я подвезти тебя на похороны?
— Не стоит, спасибо. — Я двинулась по дорожке к калитке, подальше от Расмуссена, а то еще сграбастает. — Меня уже подвозят.
Потому что неважно, что там наговорила Этель, я по-прежнему относилась к Расмуссену с подозрением. Но потом — не знаю, что на меня нашло, — я ощутила такое бесстрашие из-за яркого солнца и из-за Лиззи, лаявшей на белку, которую она загнала на большой дуб, что я прижмурилась на Расмуссена и спросила:
— Зачем у вас в бумажнике лежит моя фотография?
Это мигом сбило с него спесь.
Он крикнул, чтобы Нелл и Эдди подождали минутку, а затем присел передо мной на корточки.
— Здесь у нас творятся такие вещи, которых ты пока не сможешь понять. Но я обещаю, все кончится хорошо. Просто поверь мне, хоть немного. Постараешься? — Он рискнул положить руки мне на плечи, но я отпрыгнула, а Расмуссен потерял равновесие и упал вперед, на четвереньки. Встав, отряхнул свои брюки и сказал с напором: — Думаю, этим утром нам с тобой лучше поехать в церковь вдвоем. Нужно поговорить.
Он помахал рукой Нелл и Эдди, и они преспокойно уехали, вместе с Этель и Тру, которая улыбалась мне в заднее окно «шеви» 57-го года выпуска, потому что это казалось ей забавным — оставить меня наедине с Расмуссеном.
— Я только заведу Лиззи в дом, — сказал Расмуссен. — А потом придется поспешить в церковь. Мне еще гроб нести.
Такой красивый у него дом. Живописный, я бы сказала. Из красного кирпича, сбоку несколько ив, и белые ставни на окнах, в горшках под которыми растут красные и белые цветки герани.
Надежно заперев щеночка, Расмуссен крикнул мне с крыльца:
— Пойду за машиной, подожди у обочины.
Я застряла меж двух огней. Между дьяволом и глубоким синим морем. Поскольку я собиралась выйти замуж за Генри Питерсона, увиливать от похорон не годилось, даже если повезет меня туда дьявол по фамилии Расмуссен. Так что я послушно зашагала за ним, стараясь не думать о фотографии Джуни на стене его столовой, повторяя снова и снова, что со мной все будет прекрасно, потому что даже Расмуссен не станет убивать и насиловать меня по дороге на похороны. Не бывает настолько испорченных людей, верно?
Он подъехал, вышел из своего темно-коричневого «форда» и обежал вокруг заднего бампера, направляясь прямо ко мне. Я ухитрилась вспрыгнуть назад на тротуар и уже домчалась до крыльца Галецки, когда Расмуссен схватил меня за руку. Я кричала и кричала — так громко, что мистер Гэри вышел на крыльцо спросить:
— Все в порядке, Дэйв?
Расмуссен только кивнул, и мистер Гэри удалился назад в дом.
— Салли Элизабет О’Мэлли, что с тобой такое? Я всего-то собирался дверцу открыть. — Расмуссен выпустил мою руку и зашагал назад, к своей стороне машины.
Мне сразу вспомнилось, как папа, бывало, делал такое для мамы. Открывал дверцу, склонялся в поклоне и говорил: «Колесница к вашим услугам, мадам». Я очень давно не видела, чтобы кто-то творил такие благие дела, не считая мистера Кэри Гранта в нескольких фильмах. Так что, наверное, Этель не ошибалась: Расмуссен — настоящий джентльмен. Или, возможно, просто очень, очень хорошо притворяется.
Мы проехали два квартала молча, и тишина стала настолько громкой, что Расмуссен сказал:
— Ты ведь знаешь, что мы дружны с твоей мамой, верно?
Я глядела в окно. Пахший шоколадным печеньем ветерок ерошил мне волосы.
— Вчера я ездил навестить Хелен. — Расмуссен включил огонек-поворотник, чтобы вывернуть на Лисбон-авеню.
— У нее все хорошо?
Расмуссен не отрывал глаз от дороги.
— Да, хорошо.
Мне хотелось задать столько вопросов про маму, умолять описать все подробно. Например, спрашивала ли она обо мне, и когда она вернется домой, и не нужно ли принести ей что-нибудь, вроде золоченой щетки, чтобы причесываться, но я не была уверена на все сто процентов, что он сказал мне правду, и даже если сказал, я ну никак не могла заставить себя дать Расмуссену понять, что мне от него что-то нужно.
— У твоей мамы все трудности позади, но… — Расмуссен свернул на 56-ю улицу. — У Холла были кое-какие неприятности, и я знаю, это может тебя расстроить, Салли, но Холл… Холл… Как бы выразиться…
— Чертов долбаный ублюдок?
Расмуссен хохотнул, но тут же умолк.
— Я не вполне одобряю ваш подбор выражений, юная леди, но мне кажется, что в данном случае вы дали точное определение.
Когда Расмуссен говорил, я то и дело смотрела на его подбородок. У него там, в самом низу, шрамик, похожий на запятую. Я ни за что не смогла бы посмотреть ему в глаза, что бы ни говорила Этель. А погляди я в глаза Расмуссену, думаю, моя душа вылетела бы из окошка и прямиком влетела бы в его. Или, возможно, он загипнотизировал бы меня, как тот доктор в фильме под названием «Три лика Евы», где внутри одной тетеньки жило слишком много людей, так что доктор загипнотизировал Еву и попросил парочку из них валить восвояси. Смотри мне в глаза. Смотри мне в глаза. Нет уж, дудки, спасибо вам большое.
— Ты слыхала, что мы с твоей мамой дружим еще со школы, да? — повторил он.
Не хотелось это признавать, но я уже подозревала, что мама дружит с Расмуссеном, — из-за той выпускной фотографии в тайнике, на которой они стоят рядышком и Расмуссен улыбается маме, хотя вроде как улыбаться надо в камеру Джима Мэдигана из «Фотостудии Джима Мэдигана».
— В общем, как я и говорил, Холл попал в серьезную передрягу, — сказал Расмуссен.
— Знаю. — Я начала накручивать прядь волос на палец, к чему пристрастилась совсем недавно. Это вроде как немного умеряло мое воображение. — Мистер Питерсон рассказал, что Холл стукнул мистера Джербака пивной бутылкой и теперь сидит в тюрьме и ему готовятся предъявить обвинение.
Мы свернули на 58-ю улицу, где жили Пяцковски, Расмуссен подъехал к их дому, остановился напротив.
— Джуни мертва почти год. С трудом верится. — Он встряхнулся, как делают люди, когда знают, что не могут вынести то, что чувствуют, и надеются просто от этого избавиться. — Дом выставили на продажу. Надо бы прибраться во дворе.
Я тоже посмотрела на дом Пяцковски и заметила нечто такое, чего не углядела в тот день, когда мы с Тру проходили мимо по дороге в церковь — когда узнали про мамину стафилококковую инфекцию. А там забавный такой синий скворечник, криво висящий на дождевом желобе под крышей, и на нем какая-то надпись, я не могла разобрать, что написано. Скворечник покачивался на ветерке.
Расмуссен тоже смотрел на него.
— Мы с Джуни вместе смастерили скворечник, — сказал он тихо. — Синий был ее любимым цветом. И ей нравились птицы. Особенно синешейки. Она называла их «счастье на крылышках».
Я промолчала, подумав: большой и сильный снаружи, Расмуссен такой мягкий внутри, и меня эта мысль потрясла, но правда же, он словно вишня в шоколаде. Этель не ошиблась. Мои мысли шли вкось и вкривь, но недостаточно вкривь, чтобы я не поняла — Расмуссен говорит правду. Дело в том, что синий точно был любимым цветом Джуни, она просто обожала синий сахар в мешочках «Лик-Эм-Эйд» — после губы у нее становились точь-в-точь васильки.
— Ты ведь знаешь, что Джуни моя племянница, да? Дочка моей сестры Бетси?
— Мне Этель рассказала, — быстро ответила я.
— Бетси пришлось уехать, потому что им с мужем было слишком грустно жить здесь после того, как Джуни… — Он нажал на педаль газа и отъехал от обочины.
Полквартала спустя Расмуссен вывернул на то, что считалось школьной площадкой, но часто использовалось как парковка, случись у кого похороны, или свадьба, или другое важное событие. Я дождаться не могла, чтобы выйти из машины. Даже не представляла, что стану так сильно жалеть Расмуссена, я так разнервничалась, что немного вспотела. И стоило ему выключить мотор, как я налегла на ручку двери.
— Подожди минутку, Салли. Я должен сказать тебе еще кое-что важное.
Руки у него были запутаны узлом на руле, и с виду он казался таким же дерганым, как и я внутри. Может, потому, что мы так близко от церкви, он стал чувствовать себя по-настоящему виноватым и вот-вот сознается в убийствах… Как в кино: там злодей попадает в полицейский участок и после допроса третьего уровня начинает весь дрожать, упирается лбом в стол и орет: «О’кей, это я сделал, о’кей? Признаюсь!»
Расмуссен сказал:
— Мистер Джербак умер.
— Что?
— Мистер Джербак умер.
Мне хотелось сказать, что мистер Джербак мне особо не нравился. Он то и дело колотил своего сына Фрица, и тот вечно приходил в школу с фонарем под глазом и рассказывал, что споткнулся о своего пса, хотя всем и каждому известно: нет у Фрица Джербака никакой собаки.
— Ты понимаешь, что это значит? — спросил Расмуссен.
На углу церкви я заметила Тру — моя сестра стояла рядом со статуей святого Франциска, которого Вилли О’Хара как-то обозвал «сладкой булочкой».
— Значит, скоро будут новые похороны? — сообразила я.
— Верно, но я не это имел в виду. Смерть мистера Джербака означает, что Холл не вернется. Он проведет в тюрьме намного дольше, чем неделю-другую.
Мысли у меня сразу вскипели:
— То есть Холл останется в тюрьме навечно?
Похоже, нам негде будет жить, если Холл не сможет платить аренду из денег, которые получал, продавая ботинки в магазине Шустера. Тут нам точно капут. О, милые Иисус, Мария и Иосиф! Я стиснула зубы, готовясь услышать, что нам с Тру пора собираться в приют на Лисбон-авеню.
— Может, и не навечно, но сядет Холл надолго, очень надолго. — Расмуссен вытер проступивший на лбу пот сложенным платочком, который достал из нагрудного кармана пиджака. — Знаешь, что это значит?
Кажется, знаю.
— Это значит, что тебе, и Нелл, и Тру придется съехать из вашего дома. Голдманы позволят вам остаться еще на неделю, но… что ж… им нужно сдать комнаты людям, которые смогут за них платить. Понимаешь? — Он закинул руку на спинку моего кресла и так близко нагнулся, что я уловила запах апельсиновых долек.
Я глядела в окно на Тру, пытаясь не думать про тех несчастных детей в приюте Святого Иуды. Нам с Тру предстояло сделаться еще двумя безнадегами.
— Значит, нас отправят в приют?
— Вот к этому-то я и веду. — Слова брызнули из Расмуссена, как будто он дал протечку. — Твоя мама считает неплохой идеей, чтобы вы с Тру переехали ко мне — покуда она не оправится настолько, чтобы вернуться.
— Что?!
Должно быть, это просто мое воображение так не смешно расшутилось, не мог он такое сказать, потому что поселиться под одной крышей с Расмуссеном — это самая безумная идея Вирджинии Каннингем, какую я только слыхала!
В наполовину опущенное стекло на другой стороне вежливо постучали. Это был мистер Питерсон, тоже одетый в черный костюм, с розовой гвоздикой в петлице лацкана. Он наклонился к окошку и сказал:
— У нас все готово, Дэйв.
Расмуссен ответил:
— Сейчас подойду, Джек.
А я никак в себя не могла прийти. Мама решила отправить нас с Тру пожить у Расмуссена? Решила, что это «неплохая идея»? Мамочка, как ты могла? Нужно расспросить Нелл. Убедиться, что это правда. Точно, этим и займусь. Расмуссен, должно быть, выдумал все. Конечно, выдумал.
Расмуссен открыл дверцу и сказал:
— В доме полно места. Целых четыре спальни. И Этель в любое время сможет зайти помочь, сделать что-нибудь, чего я бы не смог, — ну, волосы там расчесать. — Он коснулся моей косы, которую Этель заплела утром, и на миг мне показалось, что он расплачется. И хотя я все равно считала Расмуссена убийцей и насильником, я не оттолкнула его. Еще нажалуется маме. Теперь, уже наверняка зная про мамину дружбу с Расмуссеном, придется ходить вокруг него тише воды, ниже травы.
Он высунул обе ноги из машины, но потом обернулся ко мне, как недавно мистер Питерсон, и посоветовал:
— Обсуди это с Тру. Посмотрим, что скажут сестры О’Мэлли. — И направился к церкви, где присоединился к другим мужчинам в черных костюмах, у каждого такое выражение на свежевыбритом лице, будто невероятно горюет.
А я осталась сидеть, не в силах даже моргнуть, до того меня потрясло это известие, пока Тру не подошла и не просунула в машину голову.
— Он сказал тебе? — Она прыгала с одной ноги на другую, как делала, если бывала так возбуждена, что не могла устоять на месте, или очень хотела писать. — Ну что, сказал?
— Что он должен был сказать?
Мне не хотелось передавать сестре слова Расмуссена — вдруг она имеет в виду что-то совсем другое. Одна надежда, что Тру еще не знает, что нам придется жить в приюте, поскольку я ни за что не перееду к Расмуссену.
Тру вытянула меня из машины, и мы зашагали к церковным дверям.
— Холл просидит в тюрьме много-много лет, потому что мистер Джербак умер из-за того, что Холл пристукнул его бутылкой. А мама не собирается умирать.
— Ага, он так и сказал мне.
— Это же фантастика! — завопила Тру, но, вспомнив, что мы на похоронах, добавила потише: — Усраться какая фантастика!
Отчасти — да, фантастика. В той части, где маме становится лучше. И даже в части про Холла; не будет теперь подзатыльников и ремня, зато мама сможет выйти замуж за кого-то другого, ведь не станет же Папа Римский заставлять ее быть замужем за убийцей. Но как быть с той частью, что касается нашего житья-бытья у Расмуссена? Это тоже «усраться какая фантастика»?
— Йиппи айо-ки-йаа! — верещала Тру, и белая роза из сада Расмуссена кивала в ее волосах.
Мы вошли в церковь за Бюшамами, так что пришлось обождать немного, ведь пятнадцать человек не могут сразу подойти к купели со святой водой, особенно если Венди Бюшам решила умыть там лицо.
— А ты откуда знаешь? — шепотом спросила я у Тр у.
— Нелл рассказала. — Тру улыбнулась Арти Бюшаму.
Тот все еще неровно дышал к ней, и его маленькая заячья губа растянулась в ответной улыбке, но тут Риз ухватил брата за загривок и развернул его лицом вперед. На завтрак у Бюшамов были свиные шкварки с горохом. Я чуяла их запах.
— Нелл поболтала с Расмуссеном. Говорила ж тебе, он классный дядька. — Тру тоже понизила голос до шепота: так принято в церкви, где пахнет благовониями, а в окнах большие витражи, и от них делается спокойнее, стоит выглянуть солнышку и разложить на полу разноцветные кусочки головоломки — красные, и желтые, и зеленые.
Пока мы ждали своей очереди, чтобы пройти по центральному проходу, я оглянулась на статую Девы Марии. Она всегда улыбается, несмотря ни на что, розовыми лепестками губ и щербатыми синими глазами, которые следят за тобой, куда ни пойди. У ее ног мерцали огоньки — это люди бросали десятицентовики в жестянку для пожертвований, зажигали свечи и просили маму Иисуса уговорить сына прислушаться к их молитвам.
Сказать по правде, я не понимала и половины того, что творилось в церкви. Вся эта латынь на мумбо-юмбо, и бдение у Креста, и монашки, которые не ходят, а будто скользят на коньках, и раздают тумаки всем, кто не поет гимны. Я даже не особо знаю, что это за Первое Причастие такое, хотя шума из-за него немало, и подарков мне в тот день надарили, и Джим Мэдиган меня сфотографировал. Но я точно знаю, что в тот день я попробовала на вкус Тело Христово, его в маленькую белую печеньку запихнули. Печенька обязательно должна растаять во рту, а если просто ее разжевать, то Иисус вырвется на волю и начнутся серьезные проблемы. И все равно не понимаю, зачем все это. Но статуя Девы Марии, вечно улыбающаяся и словно говорящая, что тебя будут любить, что бы ни случилось… вот это я понимаю.
Мы с Тру шарили глазами по рядам скамеек, пока не нашли Этель; она просто в глаза бросилась, потому что черная, не то что остальные. И на ней огроменная шляпа, прямо будто НЛО приземлилось Этель точно на голову. Мы с Тру преклонили колена, а потом забормотали: «Простите… Простите…» — пробираясь по ряду.
А когда подобрались к Этель, я зашептала Тру, не могла сдержаться:
— Нелл тебе говорила, что Расмуссен хочет, чтобы мы жили у него, пока маму не выпишут из больницы, потому что Голдманы должны сдавать наш дом кому-то, кто может за него заплатить?
Тру радостно кивнула. Еще утром, пока глядела в окно, я поняла, что сестра без ума от Расмуссена — она так улыбается, только когда ей по-настоящему кто-то нравится… Ладно, деваться некуда. Придется нам жить с Расмуссеном, потому что Тру на седьмом небе, а я не хочу опускать ее на землю, рассказывая о своих тайных подозрениях. Хотя переехать к Расмуссену — это как если бы Гензель и Гретель печку сами разжигали.
Глава 27
Отдать последнюю дань собрались все жители квартала. Кенфилды, и Харриганы, и О’Хара, и Фацио, и практически все прихожане церкви Богоматери Доброй Надежды. Пришли даже Бобби и Барб, инструкторы с детской площадки, так мило с их стороны. Бобби улыбнулся мне через проход, а Барб радостно помахала, словно надеясь развеселить.
После мессы, которую служил падре Джим, мы все встали и затянули «Свят, свят, свят». Как сказала миссис Хейнеманн, это был любимый гимн Сары, и почти все, кто был в церкви, начали всхлипывать заодно с нею. Кроме Тру. Моя сестра только пялилась на своды да губы облизывала. И она не виновата. Я сама настолько распереживалась, что стала давать советы Деве Марии, дескать, лучше бы ей поторопить копов — пусть скорее изловят убийцу и насильника, иначе следующие похороны, которые ей придется наблюдать, станут моими.
Когда все эти печальные вещи закончились, Этель сложила мокрый, хоть выжимай, платок назад в сумочку на защелке и сказала:
— Это были по-настоящему хорошие проводы.
И, видно, могла еще что-то добавить, потому что по лицу Этель блуждала тайная улыбка «а я кое-что знаю». Когда мы вышли наружу, Этель спросила:
— Мистер Расмуссен успел с тобой поговорить?
— Он рассказал, что Холла в тюрьму посадили, а маме стало лучше, и он хочет, чтобы мы пожили у него.
— Теперь у вас все будет хорошо. — Этель заключила меня в объятия и сжала покрепче. — Мистер Дэйв подвезет меня до дома. Ступай найди Нелл; думаю, она хочет сказать тебе еще кое-что.
Мурлыча песенку «Давно я не хожу на танцы», Этель зашагала к стоянке: шляпка-НЛО колышется от ветерка, ноги поднимаются-опускаются, как детские палки-качельки с сиденьями. Этель казалась такой большой и крепкой. Словно никогда не умрет, не заболеет, никогда никого не бросит. Я сидела в маленькой лодочке, угодившей в шторм, а Этель Дженкинс была спасательным жилетом.
— Еще увидимся, Этель! — крикнула я.
Она не обернулась, только помахала рукой: ладонь, обтянутая белой, как зефир, перчаткой, а дальше кожа цвета какао — на фоне синего-синего неба.
Мы с Тру забрались на пригорок напротив церковных дверей. Люди залезали в длинные черные машины. Генри Питерсон поглядел на меня снизу вверх и отсалютовал, будто уже был пилотом истребителя. Я ответила тем же.
И, наблюдая, как машина выворачивает в сторону кладбища, как белый похоронный флажок машет на прощанье, я будто ощутила чье-то благословение, словно заново услышала свое дыхание и стук сердца. Я знала, что этот день не забуду никогда. Как не забуду похорон Джуни. Сегодня еще одну девочку зароют в маленьком белом гробу, засыпанном розовыми гвоздиками.
Я огляделась в поисках Нелл, но тут сзади подскочил Риз Бюшам и запел своим свино-шкварочным дыханием: «Случалось ли тебе на гроб смотреть и думать, что нам всем придется умереть? Быть может, завтра ты, затянут простыней, сам ляжешь в тесный гроб, шесть футов под землей. Уже ползут друзья, могильные черви…» Миссис Бюшам ухватила сына за ухо, оттащила в сторонку и отвесила ему шлепок, как малышу. Но этот «ребеночек» лишь расхохотался и продолжил горланить как ни в чем не бывало. Тру послала Ризу короткий жест, которому ее научила Быстрюга Сьюзи, — чиркнула ладонью под подбородком. Тру все сильнее походила на итальянку или француженку. В ней уже больше от полки с заправками для экзотических салатов в «Крогер», чем от нормальной ирландской девочки. Ничего, вот мама выпишется из больницы и быстро положит этому конец.
Нелл и Эдди нашлись на церковном крыльце. Они болтали с какими-то не знакомыми нам девушками. Волосы у каждой облиты целой банкой «Аква Нет» и взбиты в осиное гнездо, которое и не думает шевелиться на ветру, — наверняка ученицы из «Школы красоты Ивонны». Вот интересно, Нелл переберется жить к Расмуссену вместе с нами?
— Хорошие новости для сестер О’Мэлли, — сообщила Нелл, от которой не отставал Эдди.
— Дай-ка угадаю, — сказала Тру. — Твои сиськи перестали расти?
Эдди заржал, ну вылитый осел. Я тоже было расхохоталась, но быстренько прекратила: не думаю, что хорошо так смеяться в день, когда маленькую девочку навечно закопают в землю.
— Знаешь, Тру, ты остроумна, как резиновый костыль, — сказала Нелл.
Глядя на отъезжающий катафалк, я вдруг вспомнила, как выглядел Расмуссен, когда они с мистером Питерсоном и еще двумя мужчинами несли маленький гробик Сары по центральному проходу церкви. Бабуля сказала бы, что Расмуссен «потерял вкус к жизни». И бедная миссис Хейнеманн. Она шла позади гроба единственной дочери, прижимая к лицу платок и издавая звуки, которые, надеюсь, никогда не придется издать мне. Я смотрела на падре Джима, утешающего маму Сары, и представляла, как он танцует в белом платье с рюшками и в туфлях на высоком каблуке, — как рассказывала Мэри Браун. И мне стало обидно за падре Джима. Потому что Мужской клуб не устраивает спектаклей. Я спрашивала бабулю, а она это знает точно, потому что ее муж Чарли, мой дедушка, был в свое время президентом Мужского клуба при церкви Богоматери Доброй Надежды. Бабуля рассказала, что мужчины в клубе просто сидят, курят сигары, травят анекдоты про бродячих торговцев и пьют очень-очень много ирландского виски, итальянского вина и немецкого пива, но никаких спектаклей там не устраивают. Падре Джим попросту выдумал все насчет спектакля, чтобы Мэри Браун помалкивала. Я никому не рассказала, что в Мужском клубе не ставят спектаклей, потому что падре Джим подарил мне открытку со святым Патриком, а это мой любимый святой, и вообще он добрый, никогда не налагает страшных епитимий после исповеди. Кто знает, отчего падре Джиму взбрело на ум так чудно нарядиться, но мне радостно хотя бы оттого, что мой нос не суется в чужой вопрос.
Толпа уже почти разошлась, когда к обочине перед церковью подъехал мистер Гэри и подскочил к падре Джиму. Мистер Гэри что-то сказал ему, и тогда падре Джим закричал в голос, почти завыл:
— Что значит — как посмотреть? Это смертный грех, Гэри. Смертный грех!
Бабуля всегда говорила, похороны никому не даются легко и словом «веселье» их никак не опишешь.
Нелл локтем пихнула меня в ребра:
— Ты меня слышала, Салли?
— Что?
Я все еще глядела на мистера Гэри. Приобняв падре Джима за плечи, он повел его к пасторскому дому; преподобный шел чуть сгорбившись и руки держал слегка на отлете, словно ступал по канату в цирке. Один неверный шаг — он рухнет на землю и никогда уже не поднимется.
Нелл повторила:
— Мы собираемся навестить маму.
А Эдди добавил, таким самодовольным тоном:
— Тетя Марджи все устроила. Говорит, вашей маме получшело.
А мне и ответить нечего, потому что в своем сердце я уже смирилась с тем, что мама умрет, даже если Расмуссен назвал это неправдой.
— Гип-гип ура! — завопила Тру.
— Правда, Эдди? Ты не ошибся? — спросила я.
— Тетя Марджи сказала, с вашей мамой все будет в полном ажуре. Не сразу, конечно. Но умирать она не собирается.
Мамы не было рядом почти весь май, и июнь, и еще шесть дней, а теперь она собиралась вернуться.
Мне вдруг стало не хватать воздуху. С мамой все будет хорошо. Как Расмуссен и говорил. Я обернулась к Тру. Сестра прыгала как безумная, скакала с ноги на ногу.
— Эдди отвезет нас в больницу Святого Иосифа, — сказала Нелл. — Я вчера долго сидела у мамы; она дождаться не может, чтобы увидеть сестричек О’Мэлли.
Мы залезли в «шеви» и помчались по улицам, а я смотрела на мелькающие мимо дома и удивлялась тому, насколько мир сегодня выглядит лучше, чем вчера. Тротуары чище, и машины блестят ярче, и даже Пол Анка в радиоприемнике поет зажигательнее прежнего.
Закончив поправлять макияж, Нелл откинула вниз подголовник и обернулась к нам с Тру, притихшим на заднем сиденье машины:
— Есть и другие хорошие новости.
— Так твои сиськи взаправду перестали расти? — обрадовалась Тру.
Видите, какая остроумная у меня сестра? Даже Нелл рассмеялась.
— Мы с Эдди собираемся пожениться.
— О всеблагие Иисус, Мария и Иосиф! — обалдело простонала Тру.
Эдди зафыркал от смеха, а Нелл объяснила:
— Мы помолвлены. — Тут она помахала левой ладонью, и на пальце блеснуло тонкое золотое ирландское колечко: две сплетенные руки. — Это обручальное кольцо миссис Каллаган. Она дала его Эдди, чтобы он подарил мне.
Чувствовала я себя так, будто выползла из кабинки аттракциона «дикая спираль» на ярмарке штата: голова несется кругом, и все вокруг такое вытянуто-кривое. Ни за что не поверила бы, что в это лето может втиснуться еще хоть одно большое событие. А вот и нет, уместилось. Нелл выходит замуж.
Когда мы повернули на 59-ю улицу, я сказала:
— Нужно хоть на минутку заглянуть к бабуле, рассказать, что маме стало лучше.
Буркнув «оки-доки», Эдди свернул на бабулину улицу, но притормозил у «Магазинчика на углу» Делэнси — купить себе сигарет «Кэмел» и всем по содовой. Нелл отправилась с ним. Похоже, она ни на миг не желала выпустить руку Эдди, а тот и доволен. Наверное, решил, что сиськи Нелл нравятся ему больше, чем Мелиндины, потому что не мог оторвать глаз от ее «очаровашек тридцать шестого размера», как он их называл. Нелл всегда ужас как гордилась своими сиськами. Так что теперь они оба восхищались ими: нашли что-то общее. Совсем как мы с Генри — книжки, и шоколадная газировка, и самолеты, все те вещи, которые интересны нам обоим. У нас с Генри тоже есть нечто общее. Вот только непонятно, почему мама вышла замуж за Холла? У них-то ничего общего нет.
Когда Нелл и Эдди вошли в магазин, Тру наклонилась ко мне:
— Только ты сама расскажи бабуле, ладно?
— Ладно.
Я понимала, Тру счастлива от свалившихся на нас новостей — мама не умрет, нам можно пожить у Расмуссена, а Холл сел в тюрьму, — и ей не хотелось подпортить радость игрой в «Угадайку» с дядюшкой Полом. Да и его домики из палочек от эскимо кому угодно испортят настроение, ведь до аварии дядюшка Пол был плотником. Глядя на сестру, я решила, что лучшего момента может и не представиться. В конце концов, я впервые видела Тру настолько счастливой и вроде как захотела добавить вишенку-украшение на торт ее счастья.
— Вот послушай меня. — Я уже собиралась повторить Тру то, что сказал папа. Что она не виновата в аварии.
Сестра смотрела на мелюзгу, распевавшую «Раз-два-три-замри» у входа в магазин.
— Забудь, — буркнула она. — Не хочу я слушать твои глупости про Расмуссена. Никакой он не убийца и не насильник. — А потом резко развернулась ко мне, придвинулась вплотную, сжала мои щеки ладонями и прошептала: — Зато я, кажется, знаю, кто им может быть.
Глава 28
Тут из магазинчика выскочили Эдди с Нелл, и Тру повернула воображаемый ключ на своих губах и выбросила его в окно. Так она давала понять, чтобы я держала рот на замке насчет того, что ей известно, кто может быть убийцей и насильником. Предупреждала не проболтаться при Нелл или Эдди. Это будет тайна сестричек О’Мэлли.
Эдди сунул нам через окошко по бутылочке кока-колы, а затем пакет еще с двумя:
— Угостите бабулю и дядюшку Пола.
Похоже, предстоящая свадьба пошла Эдди на пользу, он явно вел себя взрослее. Вылитый отец семейства.
Мы проехали еще с десяток домов и остановились под большим вязом у бабулиного дома, который она называет «хижина». Бабуле сгодился бы дом и побольше, потому что она женщина крупная — и в высоту, и в ширину, особенно в области рук, там у нее ужас как много дряблой кожи. Зато на лице у нее почти нет морщин, а волосы густые и белые, как домашний хлеб, и подстрижены «под пажа». Еще у нее идеальные зубы — когда челюсть ей без надобности, бабуля кладет ее в стакан с водой. Если встретишь бабулю на улице, обязательно подумаешь: ну до чего же она похожа на парня с однодолларовой бумажки!
— Ты там недолго, к одиннадцати нам надо в больницу! — крикнула Нелл мне вслед. — Доктор Салливан выйдет и все расскажет про маму. И не говори бабуле про нас с Эдди, хочу устроить ей сюрприз.
Кажется, все хотят от меня одного: чтобы я никому ничего не говорила.
Я постучала в дверь, которую не мешало бы покрасить, и стала ждать, что дядюшка Пол откроет ее, как он всегда делал. Если дожидаться, пока дверь отопрет бабуля с ее скрюченными коленями, придется сидеть на крыльце, пока коров не погонят домой.
— Привет, дядюшка Пол.
Одет он был как обычно. Кирпичного цвета брюки и белая майка, из которой торчали похожие на французские батоны руки в самых бледных веснушках, какие я только видела. Волосы у дядюшки Пола густые и рыжие, но чем-то напоминают съехавший на затылок парик.
— «Угадайка», Тру!
— Нет, я Салли, ты помнишь, дядюшка Пол? У Тру рыжие волосы, как у тебя.
Я протиснулась мимо него и отправилась искать бабулю. Нашла ее в кухне, у раковины, с медным чайником в руках.
— Привет, бабуля. Я с подарками.
Распахнув холодильник, я сунула туда кока-колу. Бабуля любит кока-колу. Каждый день выпивает почти целую упаковку из шести банок. Это придает ей энергии и сил, уверяет она.
Выпученные бабулины глаза сделались еще больше.
— Что ж, и тебе привет, Салли. Какой милый сюрприз. Может, чашечку? — Она не стала со мною обниматься, вот еще. Бабуля не особо увлекается обнимашками.
— Не стоит, спасибо. Я совсем ненадолго. Тру с Эдди и Нелл ждут меня в машине. Мы хотим поехать повидаться…
— «Угадайка», Тру! «Угадайка», папочка! — Дядюшка Пол подступил ко мне сзади и накрыл мои глаза ладонями.
Я отлепила его пахший клеем палец и немного посмеялась из вежливости, думая про себя, что дядюшка Пол с каждым днем делается все страньше и страньше, так что, может, бабуле стоит отправить его жить в приют на Лисбон-авеню?
— Ну, хватит уже, сынок, — сказала бабуля. — Возвращайся лучше к себе в комнату, строй домики.
Дядюшка Пол опустил голову:
— Ладно, ма.
Бабуля подождала, пока дядюшка Пол не зашаркает прочь, а потом спросила:
— Так чему же я обязана удовольствием?
— Маме стало лучше. Нелл говорит, самое страшное позади, — сообщила я, радуясь, что могу поделиться такой прекрасной новостью.
— Ты опоздала на день и принесла на доллар меньше, чем нужно, моя славная Салли. — Бабуля потянулась к шкафчику и вынула одну из тех красивых чашек, что оставались у нее еще с былых времен в другой стране. — Офицер Расмуссен заходит почти каждый день. Держит меня в курсе ее дел.
Должно быть, на моем лице появилось необычное выражение, потому что бабуля вдруг улыбнулась.
— Ему-то это зачем? — ахнула я.
Медный чайник засвистел, и бабуля прикрутила под ним пламя.
— Мне казалось, ты знаешь, что Дэйв Расмуссен водил дружбу с твоей матерью.
Вот одна из основных бабулиных черт, которые я по-настоящему люблю. Она много чего знает про всех, кто живет в нашей округе, и никогда не стесняется поделиться своим знанием. Скажем, что Брауни Макдональда выставили из семинарии за то, что как-то раз он выпил все вино для причастия, или что миссис Делэнси из «Магазинчика на углу» была когда-то Шелли, Девушкой-Змеей, и танцевала в каком-то клубе в центре города… Не потому ли миссис Делэнси берет с бабули всего полцены за кока-колу — просто чтобы это оставалось тайной?
— Так что, выходит, офицер Расмуссен — отличный парень? — спросила я.
— И всегда им был, хоть и датчанин. — Бабуля не принимает всерьез людей, которые не ирландцы. — И отец у него был хороший человек. Эрни, так его звали.
Глядя, как бабуля льет кипяток на свой чайный пакетик, я вдруг поняла, как же мне ее не хватало. Так здорово сидеть на этой кухоньке за маленьким хромоногим столом и болтать про знакомых. Прямо как в старые добрые времена. На минуту я даже пожалела, что бабуля не особо любит обниматься.
— Знаешь, ведь раньше семейство Расмуссенов владело пекарней, — сказала бабуля. — Продали ее какой-то большой компании в пятьдесят пятом.
Снаружи Эдди нажал на свой клаксон: «А-хуга!»
Бабуля ткнула ложку в сахар, насыпала в чай три порции «с горкой» и принялась болтать ложкой в чашке.
— Ты знала, что Дэйв и Хелен были когда-то помолвлены, верно?
Ничего подобного! Водить дружбу — еще куда ни шло. Но чтоб Расмуссен был помолвлен с мамой… Как Нелл и Эдди… Должно быть, бабуля что-то напутала.
— Помолвлены, чтобы потом жениться?
— О да. И уже назначили дату свадьбы. Только мать Дэйва, Герти, она была о себе слишком высокого мнения, вот и заявила, что он найдет себе жену получше моей Хелен. Она ему, видите ли, не пара. Не того сорта. — Бабуля зачмокала губами. — В жизни не питала приязни к Герти Расмуссен. Уж больно она кичилась своими деньгами перед всеми и каждым. И страсть как гордилась своими ногами. Да, они были вполне ничего, но не настолько же.
Бабуля добавила немного молока, и чай стал кремово-рыжим, а затем уселась рядышком со мной.
— Но потом Дэйв расторг помолвку; он хоть и любил Хелен, но не мог пойти наперекор желанию матери, потому что Герти к тому времени подхватила туберкулез. И вместо него твоя мать вышла замуж за отца Нелл.
И вот опять, в миллионный раз, я поразилась: как взрослым удается знать вещи, о которых дети ни сном ни духом, и как ловко они держат эти тайны при себе!
Дядюшка Пол насвистывал в своей спальне песенку «Хлоп, и нет куницы». А с улицы тем временем снова донесся гудок.
— Когда отец Нелл помер, я уж решила, что теперь-то Хелен с Дэйвом точно сыграют свадьбу, — сказала бабуля, подув на чай. — Но вместо этого Хелен вышла замуж за твоего отца, потому что все еще злилась на Дэйва.
Вам бы стоило познакомиться с бабулей. Если она разговорится, ее уже не остановить. Но я все-таки попыталась:
— Если все так и было, тогда почему мама не вышла за Расмуссена, когда папа умер?
— Ну, я всегда говорю, моя девочка Хелен порой упрямее вьючного осла с радикулитом. От своего отца унаследовала, между прочим. Упрямство в семейке Райли бежит шибко, что твои строчки на дешевых колготках. — Она очень красиво прихлебнула из чашки. — А еще, сдается мне, твоей матери было стыдно. Папа ваш не оставил ей ничего, кроме вас, трех красавиц, да толстой пачки неоплаченных счетов. — Бабуля покачала головой: — Хелен всегда все делала себе во вред, лишь бы другим досадить.
Господи помилуй, зачем маме себе вредить?
— И тут нарисовался Холл, — пробурчала бабуля.
Вот беда. Этот рассказ надолго. Бабуля Холла прямо на дух не выносила.
— Хелен, должно быть, отчаянно хотела выскочить замуж за бродячего продавца обуви, которого и знала-то пару дней, не больше. А ведь могла бы уж сообразить, что в браке к чему, а? — Она дала мне глотнуть ее чая. — Знаешь, что я всегда говорила об этом браке, Сал?
Знала, и очень хорошо. Слышала — и не раз, и не два.
— Обжегшись на молоке, дуй на воду?
Снова гудок с улицы, теперь долгий-предолгий, терпение у Эдди явно на исходе.
— Точно. — Бабуля наконец тоже услышала гудок. — Похоже, Эдди едва из рубахи не выпрыгивает. — И едва слышно добавила: — И из штанов тоже.
Она поставила чашку на стол.
— Прежде чем уйдешь, выжми-ка для меня носки, что в тазу мокнут. Артрит мой что-то нынче разыгрался.
Руки у нее и вправду на клешни похожи, так что я знала, бабуля не притворяется, как иногда бывает. Не хочется ей чего-нибудь делать, и она сообщает мне, что у нее «сердце грохочет», а я никак не могла бы определить, грохочет у нее сердце или нет, и все делала сама. И думать не хотелось о том, в какую беду я могу попасть, если бабулино сердце загрохочет ее до смерти.
— На вечернюю работу Полу нужны носки, так что поспеши.
Дядюшка Пол каждый вечер ходил в «Пиво и Боулинг Джербака», выставлял там кегли за доллар десять центов в час. Другой его заработок заключался в том, что дядюшка Пол собирал бутылки из-под содовой в мусорных ящиках по району и относил их в «Магазинчик на углу», где больше всего любил околачиваться, потому что там вокруг валяется тьма палочек от эскимо. Миссис Делэнси давала ему по два пенни за бутылку, и дядюшка Пол каждый раз рассматривал монетки очень внимательно, будто боялся, что миссис Делэнси обмишулит его.
— Иди уже, — сказала бабуля, подталкивая меня по узкому коридорчику.
Любит же она распоряжаться. Вот у кого это унаследовала мама. И Тру тоже. Не говоря уже про взгляд «кто наделал на ковер?», которым бабуля меня и смерила.
— Иду-иду.
Я чувствовала себя виноватой, потому что редко навещала бабулю в последние дни, да еще всякие нехорошие мысли себе позволяла про странности дядюшки Пола. Я прошла в ванную и сунула руки в холодную серую воду. Вытащила первый черный носок, отжала его и повесила на деревянную сушилку. Затем выудила второй и тут засмотрелась на себя в зеркало, висевшее над раковиной. Нос облез от солнца, волосы почти такие же белые, как у бабули. И выгляжу я как-то старше. Тут снова с улицы загудели, да так протяжно и долго, что я поспешно выкрутила носок, собралась его повесить и… Милые вы мои, драгоценные Иисус, и Мария, и Иосиф! Носок был в розово-зеленые ромбики.
Глава 29
— Нет, дядюшка Пол не убийца и не насильник, — сказала Тру, стараясь не шевелить вечно надутыми губками. После того как в «Шоу Перри Комо» она увидела чревовещателя, так сразу и передумала работать в «Млечном Пути». Теперь Тру хотела стать либо Эдгаром Бергеном, либо Сэлом Минео[20]. Кем-то из них двоих. Но склонялась к Эдгару Бергену, поскольку считала, что от всех этих барабанов может и голова разболеться, зато было бы по-настоящему классно уметь выкидывать со своим голосом этакие фортели. Если научиться, это ж можно людей наизнанку выворачивать.
Мы сидели в тех пластиковых креслах с металлическими ножками, что стоят в приемной. Нелл и Эдди разговаривали с дежурной медсестрой в больнице Святого Иосифа.
— И что с того, что у дядюшки Пола есть такие носки? — сказала Тру. — Розовые с зеленым ромбики много кто носит. Вон на прошлой неделе Вилли носил такие. И Джонни Фацио, вчера за ужином. Даже Бобби на площадку в таких приходил.
— Так-то оно так… — пыталась возразить я.
— Я думаю, что убийца и насильник — это…
Тру покрутила головой, убеждаясь, что к ней никто не подкрался, и у меня не хватило духу сказать, что даже подкрадись кто-то, наверняка он не поймет ни единого чертова словечка. Я в этом ни секунды не сомневалась.
— Думаю, убийца и насильник — Риз Бюшам. — Сестра обхватила себя руками. — Это просто клокочет у него внутри, рвется наружу. Риз злой человек, Сэл. В нем живет настоящее зло, с дьяволом и всем прочим.
— Ага, ясно, поживем — увидим, — сказала я тихо, потому что Нелл и Эдди уже возвращались, а мне не хотелось раздувать большую шумиху.
Теперь я была вполне уверена, что Расмуссен не убийца, а ведь еще недавно была определенно уверена в обратном. В принципе, наверное, могу ошибаться и насчет дядюшки Пола. Не хочу, чтобы все махали на меня руками. И потом, Тру права насчет Риза Бюшама. Если Риза разрезать и поглядеть на его сердце, оно будет не красным и набухшим от любви, а гнило-червяко-мерзяко-черным. Риз бы запросто убил и снасиловал. Хорошо бы Тру оказалась права! Все только вздохнут с облегчением, если Риза Бюшама посадят в тюрьму. И особенно бедный Арти, которому не придется больше слушать, как Риз рассказывает людям про его заячью губу, словно они сами не видят. Но самое гадкое — это как Риз обходится с Венди, обзывает идиоткой безмозглой и высмеивает ее говорок. А уж как Риз Бюшам пялится на Тру, будто не прочь за нею приударить… У меня от этих взглядов мурашки по коже бегают, ей-богу. Точно, Риз Бюшам еще как может оказаться убийцей и насильником.
— Эй, идем, поговорим с доктором Салливаном, — крикнула нам Нелл от справочного стола.
Мы зашли в лифт, и Нелл нажала кнопку «3». Она казалась такой взрослой в длинном платье и с макияжем на лице. Эдди тоже разоделся для похорон. На нем были клетчатая спортивная куртка, велика на несколько размеров, и галстук с машиной «шеви», и еще он не вонял бензином, как обычно. Вместо этого Эдди вонял чем-то вроде «Английской кожи»[21]. А потом двери лифта разъехались в стороны, и на миг я испугалась. Это тот самый этаж, куда папу и Тру привезли после аварии. Я помнила картинку с Иисусом и кровоточащим сердцем, висевшую на стене напротив лифта. Тру тоже ее вспомнила, потому что схватила меня за руку и крепко сжала.
Тук-тук-тук каблучков Нелл вдоль коридора, этот медицинский запах, и пол весь прямо блестит, и по нему далеко разносится скрип толстых белых туфель медсестер. Мы свернули в комнату под названием «солярий», где журналы на столах, а на стенах — картины с нарисованными букетами. У большого окна сидела мама в кресле-каталке. Я поняла, что это мама, по волосам, но только по ним я ее и узнала, потому что она стала тощая-претощая, даже тощее Мэри Браун, а я считала, это невозможно. Ни загара, ни сил и в помине. И что-то еще в ней изменилось, не только внешность из-за болезни.
— Сестрички О’Мэлли, — тихонько сказала мама. На ней был розовый халат, который я никогда прежде не видела, и тапочки с маленькими розовыми помпонами, а волосы повязаны блескучей розовой лентой. Рядом с нею стоял доктор Салливан и словно едва вылупившегося цыпленка защищал ее от всех.
— Привет, мама! — воскликнула Тру, но было видно, что сестра ужасно нервничает.
Мама протянула руки, но мне не хотелось кидаться к ней в объятия, потому что она была такой костлявой, но потом я все же кинулась, и Тру — за мной. Говорить я не могла, не могла рассказать, до чего рада, что она не умерла, — так сильно я плакала. А вот Тру, конечно, не разревелась. Ни слезинки не выпустила из себя.
— Видите, какой румянец? — Доктор Салливан сам рассмеялся своей шутке. — И выглядит здоровой!
Доктору Салливану не помешали бы новые очки, потому что мама уж точно не выглядела здоровой, но я была так счастлива заполучить ее обратно, что обняла толстый живот доктора, а это оказалось совсем непросто.
— Ну, спасибо, Салли, — сказал доктор (мне неловко говорить об этом, но запах у него изо рта не стал лучше). — Как поживает твое воображение?
— Отлично, доктор Салливан. Просто замечательно. — Совсем мне не хотелось, чтобы он поднимал эту тему при маме. Я уже злилась на себя за то, что обнималась с ним.
Доктор вынул из кармана часы на цепочке, затем посмотрел в окно. По небу катились облака, похожие на сжатые кулаки.
— Опять будет дождь, — сказал он. — Уж и не припомню другого такого дождливого лета. — Доктор хлопнул в ладоши. — Ну, думаю, на один день достаточно эмоций. Давайте отвезем Хелен назад в постель. Положение было опасное, очень опасное, девочки. Когда ваша мама вернется домой, вам придется хорошенько о ней заботиться. Предписание врача. — И доктор Салливан удалился, переваливаясь, как пингвин.
Нелл взялась за спинку маминого кресла и принялась толкать, но мама подняла руку, останавливая ее, и слабым голосом попросила:
— Нелл, отведи Тру вниз. Мне нужно минутку переговорить с Салли, с глазу на глаз.
— Ладно, только недолго, — пробурчала Нелл. — Ты же слышала, что сказал доктор. — Она поцеловала маму в макушку и тоненько прощебетала: — А я уже почти парикмахер. Когда вернешься домой, я смогу мыть и укладывать тебе волосы.
— Было бы чудесно. — Мама пригладила волосы, она всегда гордилась ими и наверняка понимала, что те выглядят малость неопрятно. — Ступайте, Нелл.
Тру глянула на меня эдак ревниво и сжала мамину руку на прощанье — вот это да, прямо не узнать ее.
Эдди встал с клетчатого дивана, обивка которого была точь-в-точь как его куртка, так что я про него даже позабыла.
— Рад был повидаться, миссис Густафсон. — Уж такая была у Холла фамилия. Может, теперь мама сменит свою назад на О’Мэлли, раз Холла посадили в тюрьму?
— Все в порядке, можешь называть меня мамой. — Хелен положила ладонь на живот Нелл. — В конце концов, скоро мы станем одной семьей, Эдди.
Улыбка Нелл вернула солнце в солярий. А Эдди сунул руки в карманы, уставился в натертый до блеска пол и ухмыльнулся.
— Ладно вам, давайте закругляться. — Нелл попыталась ухватить Тру за руку.
Та выдернула ладонь, одарила меня еще одним ревнивым взглядом и яростно рванула к двери. Тру терпеть не может приходить к финишу второй. Минуту спустя Нелл завопила из коридора: «Тру О’Мэлли, а ну тащи свою задницу обратно!» — и я могу поспорить, что Тру показала ей средний палец в ответ. Еще одна новинка из арсенала Быстрюги Сьюзи.
Мы с мамой остались одни. За окном где-то далеко прогрохотало.
— Салли, подойди.
Я стояла немного поодаль, чтобы видеть все-все детали, — так нужно, если хочешь все хорошенько рассмотреть. Я присела в коричневое кресло под пластиковым чехлом, прямо напротив мамы.
— Я должна тебе кое-что рассказать, — сказала она.
Глаза у мамы метались по сторонам, как пескари в холодном озере рядом с домом моей умершей бабушки. Такую деталь я ни за что бы не пропустила: прежде я в жизни не видела, как мама нервничает. Это, наверное, все из-за больницы, да от нее кто хочешь разнервничается. Мой собственный живот вел себя так, словно я съела один из тех «Прыгучих мексиканских бобов», которые продаются в «Файв энд Дайм» у Кенфилдов. Я ухватилась за подлокотники кресла и приготовилась к долгой беседе о своем воображении. Должно быть, кто-то рассказал маме, что оно никак не угомонится. Ну, всё, сейчас мне всыпят по первое число.
— Надо было рассказать тебе давным-давно. — Мама издала один из тех длинных вздохов, которые так хорошо у нее получались. — И я по-прежнему не думаю, что время пришло.
Совсем не похоже на маму — сомневаться. Она всегда такая во всем уверенная, до легкого безумия.
Мама посмотрела на меня так печально, как всегда смотрела, когда думала, что я не вижу, а потом сказала:
— Иногда, когда мужья далеко, женщинам становится одиноко.
Мама выглядела такой хрупкой, что мне захотелось ее защитить, прямо как Тру. Мне захотелось, чтобы к ней вернулись силы, прямо сейчас, так что я объявила, четко и громко:
— Папа просил передать, что он тебя прощает.
Мама вскинула голову:
— Что ты сказала?
— Как раз перед тем, как умереть, папа попросил меня передать, что он тебя прощает, и ты извини, что я не рассказала раньше, но ты сама твердишь, что правильно выбрать время — это самое главное, а у меня никак не получалось его выбрать.
Я съежилась в коричневом кресле, готовясь к тому, что она на меня закричит. Слишком поздно я сообразила, что мой поступок не шибко разумный: мама не улыбнулась и вовсе не выглядела обрадованной. Она сделала удивительную вещь. Я иногда слышала по ночам, но никогда не видела. Мама заплакала. И не просто парочка всхлипов… настоящий ливень. Прямо в ладони. Обручальное кольцо, которое подарил ей Холл, исчезло с пальца, но там, где оно было, виднелась тонкая полоска с прозеленью.
Я положила руки ей на колени, которые на ощупь были как два теннисных мячика, и просто сказала: «Ш-ш-ш… Ш-ш-ш… Ш-ш-ш…»
Мама плакала очень, очень долго, и слезы текли по ее лицу. Но наконец слезы вроде как кончились, и она выпалила:
— Спасибо, что рассказала. В этом-то все и дело.
Я с облегчением вздохнула, порылась в кармане, нашла одну из бумажных гвоздик Тру и протянула ей.
— У меня тоже есть секрет. Он может стать для тебя большим потрясением, Салли. Очень большим. Так что приготовься. — Облака забили все небо, и дождь уже кидался на окна, стекая волнистыми струйками. — Я расскажу, почему офицер Расмуссен носит в бумажнике твою фотографию.
О нет! Теперь придется рассказать ей о подозрениях насчет Расмуссена, а она уже придумала план, чтобы нам отправиться жить к нему, и это просто-напросто все разрушит, когда я скажу ей, что по-прежнему считаю, уже не так сильно, как раньше, но все равно считаю, что это вполне возможно: Расмуссен, ее школьный товарищ и друг, теперь убийца и насильник.
Мама ухватилась за мои руки так, словно я стояла на краю пропасти, а она падала вниз.
— Дэйв Расмуссен — твой отец.
Я подождала, не скажет ли она еще что-нибудь, но она только смотрела на меня синими-синими глазами, которые так выделялись на белом-белом лице.
— Брось, мама, это же глупо. — Я даже посмеялась немного, хотя шутка не казалась такой уж смешной.
Тут мамин взгляд изменился. Сделался такой особый взгляд, к которому прилагаются губы, сжатые в прямую линию. Очень серьезный взгляд.
— Мама? — Вот тут я по-настоящему испугалась и быстренько скатилась с кресла, затянутого в пластик.
— Салли Элизабет…
О, мой Небесный Король. Ты мне так нужен!
Мама заговорила очень быстро, слова одно за другим вылетали изо рта, догоняя друг дружку:
— Мне так жаль. Я должна была рассказать давным-давно… Но я и сама очень-очень долго не была уверена. Только потом, когда ты стала постарше и… так похожа на Дэйва… у тебя зеленые глаза… но ведь у твоей тетушки Фэй тоже… а с другой стороны, светлые волосы и ямочки, и… папа подозревал… он не знал наверняка, но… — Она снова взяла меня за руки, толкнула назад в кресло и сказала шепотом — так, словно ей страшно больно говорить: — Дядюшка Пол, должно быть, рассказал твоему папе по дороге на бейсбол в день аварии… должно быть, он…
Так я вовсе не Папина девочка Сэл! Я Расмуссенова девочка Сэл.
— И это никак не меняет того, что папа любил тебя больше жизни. — И мама промокнула глаза гвоздикой Тру.
Расмуссенова девочка Сэл. Зеленые глаза. А такие редко встречаются, мама всегда говорила. Что, у Расмуссена зеленые глаза? Как у меня?
— Когда папа был в армии, мы с офицером Расмуссеном… в общем… — мама улыбнулась мне улыбкой «прости, дочка», — мы просто заново влюбились друг в друга. Понимаешь, что это значит?
Я смотрела на окно, за которым дождь то поливал, то замирал, то принимался снова лить. Да, я понимала, что это значит. Мама и Расмуссен на дереве сидят. Ц-е-л-у-ю-т-с-я. А раз им хочется любить, тогда нам надо их женить… а вот и Салли, в детской колясочке. Мне хотелось кинуться по коридору, шмыгнуть в лифт, выскочить на улицу и броситься под колеса автобуса № 23.
Небесный Король не был моим настоящим папой.
— Но… — попыталась сказать я. Мама, наверное, ошиблась. Стафилококковая инфекция забралась ей в голову и отвердила артерии.
— Никаких «но», Салли. Вот это и имел в виду папа, когда сказал тебе, что прощает меня. — Мама глядела прямо в мои редкостные зеленые глаза. — Он простил меня за то, что я снова влюбилась в Дэйва и родила тебя.
Тут я заплакала, и мама притянула меня к себе на колени. Я опустила голову ей на грудь.
— Я знаю, тебе сейчас трудно, и потребуется время, чтобы хорошенько все обдумать, деточка.
Она не называла меня «деточкой» с тех пор, как папа умер, и это было так здорово, словно я вернулась домой после долгого дня и увидела на кухне маму, помешивающую куриный суп с этими толстыми-претолстыми вермишелинами и морковкой.
— Мы поговорим об этом, когда я еще чуточку наберусь сил, но я хотела, чтобы ты знала. Так важно, чтобы ты знала. — Ее сердце прямо колотилось, мне захотелось прижать его и успокоить. — И я рада, что не умерла, иначе ты никогда бы не узнала, потому что Дэйв… то есть офицер Расмуссен, он ни за что не признался бы тебе, потому что он джентльмен во всех смыслах этого слова.
Она так мягко сказала это, так по-доброму. Вот она, деталь, которая все изменила. Мама сделалась счастливой. Даже чуть не умерев, она улыбалась совсем как на той фотографии, что спрятана в тайнике.
— А теперь я не хочу, чтобы ты беспокоилась и переживала об этом, — сказала мама. — Теперь у нас все будет хорошо. — Она прижалась щекой к моим волосам. — Я так устала, Сэл. Пожалуйста, отвези меня в палату.
Я выкатила ее в коридор, а там коляску у меня забрала старенькая нянечка, та самая, что ухаживала за папой. Помогая маме перебраться в кровать, нянечка равнодушно глянула в мою сторону, будто не вспомнила меня.
Я боялась подходить близко к Хелен, поэтому стояла в темном углу палаты. Может, и она — не моя мама? А Тру? Вдруг и Тру мне не сестра, и даже Нелл?
— Подойди ближе, — попросила она с таким отчаянием, что я не смогла сопротивляться. — Прости меня, — прошептала мама и тут же уснула.
Я сидела рядом с ней, а дождь струился по оконному стеклу, и белая простыня чуть приподнималась от ее дыхания. Теперь я знала, откуда взялся тот ее печальный взгляд. Мама любила офицера Расмуссена, и я была частью этой любви. Простить ее? Да в миллион лет не прощу!
Но потом я вспомнила папу и как после аварии сидела в палате, совсем такой же, как эта. И его голос, когда он сказал мне, что простил маму. В его сердце была настоящая любовь. Так что я сидела и думала про все это. А потом саму себя удивила и сотворила самое благое дело в своей жизни. Я решила простить маму за то, что она приударила за офицером Расмуссеном. Простить, как простил мой Небесный Король. Я ведь знала, что это такое — скучать по тому, кого любишь. Я так скучала по папе и, как это ни странно, по маме я тоже всегда скучала. Она, наверное, уже не станет смотреть на меня печальным взглядом, если я прощу ее. Что было, то прошло и быльем поросло, потому что всем и каждому известно: прощение подобно чуду. Так что я наклонилась, прижала свою щеку к маминой, вдохнула ее дыхание. Прошептала: «Я тебя прощаю» — и вдруг уловила аромат «Вечера в Париже» и сообразила наконец, почему Тру хотелось сбежать во Францию.
Глава 30
По дороге домой дворники на лобовом стекле метались взад-вперед, взад-вперед, совсем как метроном, который мама выставила на пианино, чтобы мы могли держать темп. Когда машина остановилась, Нелл сказала: «Эй, Салли… мы приехали». Она не сказала: «Салли, мы дома».
Миссис Голдман стояла у окна — будто поджидала кого-то, не желая пропустить. Я оглянулась на Тру и по ее взгляду поняла: сестра что-то задумала. Я знала, она дождется, пока мы не останемся одни, пока все не уйдут, оставив в покое сестричек О’Мэлли.
— Сгоняю к «Крогеру», наберу пустых коробок, — сказал Эдди.
И, когда мы рванули к крыльцу, Нелл крикнула:
— Ну, теперь мчитесь между капель, сестрички О’Мэлли!
В дождливые дни именно так мама и говорила. Нелл с каждой минутой делается все больше и больше на нее похожа. Как гадкая старая гусеница, она превращается в бабочку, которой самое место на этикетке шампуня «Брек».
Когда Нелл достала ключ, чтобы отпереть дверь, потому что из-за убитых девочек теперь все в городе запирали двери, миссис Голдман позвала меня сквозь сетку со своей половины дома:
— Либхен, можно тебя на пару слов?
Мне показалось, что от нее исходят тонкие печальные лучики — вроде тех, что окружают младенца Иисуса на церковных открытках. С привычным немецким акцентом миссис Голдман сказала:
— Мне так жаль, так жаль. Мы вынуждены сдавать дом людям, которые могут платить. Ты ведь понимаешь?
Нелл и Тру угрохотали вверх по лестнице, чтобы заняться сборами; они не питали к миссис Голдман такой симпатии, как я. Во-первых, из-за того, что она не разрешила держать Грубияна, а во-вторых, считали ее занудой, потому что вечно просит вести себя потише. Но они ведь не знали, что в концлагере уши у миссис Голдман стали очень чувствительные, что от любых громких звуков у нее начинала болеть голова и болела по нескольку дней.
— Да, понимаю, — сказала я. — Пожалуйста, не беспокойтесь. Теперь все у нас будет хорошо.
Миссис Голдман открыла дверь и протянула мне блюдо вязких сахарных печенюшек и белый бумажный сверток.
— Там внутри книга. Я знаю, ты любишь читать.
Я собралась уйти, но вовремя вспомнила про хорошие манеры.
— Спасибо. И если мистер Голдман хочет, чтобы я помогала ему собирать гусениц с помидорной рассады, я всегда готова. — Я посмотрела в ее карие глаза, повидавшие столько всего плохого. — Как думаете, Дотти Кенфилд теперь призрак?
Миссис Голдман была единственным человеком, не считая Тру, кто слышал звуки, доносившиеся из окна Дотти. Я должна была выяснить правду, прежде чем мы уедем. Если это и впрямь плакал призрак Дотти, нельзя ее бросать здесь одну-одинешеньку.
— Нет, либхен, она не призрак. Знаешь, порой то, что рождается в воображении, куда лучше, чем то, что происходит в реальности. — Тут я сообразила, что она думает о концлагере: у нее тогда сужались глаза и морщины у рта становились глубокими, как ущелья. — Ты понимаешь? Иногда жизнь слишком пугает людей, и мы оставляем ее ненадолго, погружаемся в свое воображение.
— Кажется, понимаю.
Должно быть, миссис Голдман часто погружалась в воображение, пока жила в концлагере. Представляла любимые вещи. Шоколадное мороженое, и холодные красные яблоки, и мясо под названием шницель, которое она покупала в «Мясной лавке Оппермана».
— Но кто тогда плачет в комнате Дотти, если не призрак?
Миссис Голдман оглянулась на соседский дом.
— Думаю, ты слышала, как плачет Одри Кенфилд. Мама Дотти.
Миссис Голдман глядела на меня так, словно что-то взвешивала в уме и наконец решилась, но тут же снова передумала. В итоге она сказала:
— Мистер Кенфилд выгнал дочь, когда она забеременела, не выйдя замуж. Дотти запрещено возвращаться домой, и… вот почему мама Дотти иногда плачет. Она тоскует по потерянной дочери и по дочери своей потерянной дочери.
Я, наверное, целую минуту пристально смотрела в глаза миссис Голдман. А потом вниз, на цифры на ее руке.
— Я буду приходить в гости очень часто. Даю честное слово.
Я знала, что она говорит правду про Дотти, потому что миссис Голдман ни за что бы мне не соврала. В концлагере миссис Голдман сама потеряла дочь, Гретхен, так что она знает, как плачут мамы, потерявшие ребенка.
— Марта, мухи же летят! — донесся голос мистера Голдмана.
— Эта книга… одна из моих любимых. — Миссис Голдман положила ладони мне на плечи и притянула к себе, чтобы хорошенько обнять, чего никогда не делала, даже после того, как я вырвала больше двадцати пяти сорняков в ее саду.
— Ауфвидерзеен, либхен, — сказала она и закрыла дверь.
Я побежала наверх, перепрыгивая через ступеньку. По полу гостиной разбросаны газеты, в углах притихли пыльные комки, по подоконникам выстроились бутылки из-под пива, полные окурков. Дом пах как место, о котором больше никто не заботится, о котором все забыли. Глядя на наш диван, красный с коричневым и весь в пятнах, я подумала о маме. Про то, как она садилась иногда у окна, когда считала, что мы с Тру уже спим, и смотрела на улицу — и явно не находила там то, что искала. Но теперь, возможно, нашла.
Я опустилась на табурет у пианино и развернула бумажный сверток, который дала миссис Голдман. «Таинственный сад». Очень чутко со стороны Марты Голдман. Может, из этой книги я смогу научиться чему-то полезному насчет садоводства, а когда вернусь помочь Голдманам, они поразятся, как здорово я в этом самом садоводстве продвинулась. И Расмуссен ведь прекрасный садовник. Так что если захочу, то смогу научиться чему-нибудь и у него. Впрочем, не уверена, что захочу. Простить маму — одно… но простить Расмуссена? Ну уж нет, это гораздо труднее.
Когда я вошла в нашу спальню, чтобы к возвращению Эдди с коробками собрать свою одежду в готовые к переезду кучки, Тру лежала на кровати, раскинув ноги и руки, будто делала снежного ангела. В комнате было сумрачно. Я попробовала включить маленькую лампу на ночном столике, но ничего не вышло.
Тру спросила:
— Что тебе сказала мама?
Я знала, что она не отстанет, а потому легла рядом с ней и рассказала. Про то, что папа не был моим настоящим папой. Про то, что мой настоящий папа — это Расмуссен. И про наши с ним зеленые глаза. Когда я закончила, сестра лежала совсем тихо. Мне подумалось, ей слишком грустно, чтобы говорить. Поэтому я быстро сказала: «У меня и для тебя есть секрет». Я знала, это ее развеселит, ведь Тру обожает тайны и обычно умеет их хранить.
Мы смотрели на трещину, что бежала по потолку наподобие Медовой протоки. Я нащупала руку Тру и погладила большим пальцем, как она любит.
— Прямо перед тем, как умереть, — тихо сказала я, — папа попросил сказать тебе, что это ничего.
Вот так разом и выложила. По-моему, в холодную воду лучше кинуться с головой, чем влезать в нее медленно, — это все равно что китайская пытка.
Я обхватила щеки сестры ладонями и вгляделась в окна ее души.
— Папа хотел, чтобы я сказала тебе, что ты не виновата в аварии.
Тру отпрянула от меня и отвернулась к стене. Она не издала ни звука, но я догадалась по дыханию. Моя сестра плакала — впервые за целую вечность. Я бережно подняла ее голову и опустила на мою подушку, пахшую Небесным Королем.
— Что тут у вас происходит? — поинтересовалась Нелл. В руках она держала швабру и тряпку.
— Ничего, — ответила я.
— А что это с Тру стряслось?
Я снова сказала:
— Ничего.
— Я собираюсь хорошенько здесь прибраться, а потом Эдди отвезет вас к офицеру Расмуссену.
— Сегодня? Я думала, сегодня мы просто соберем вещи. — Уж больно быстро все происходило. — А ты сама? Ты тоже будешь жить у Расмуссена?
Мне показалось, Нелл сейчас посоветует мне не совать нос в чужой вопрос.
— Я собираюсь пожить у Эдди, потому что миссис Каллаган сказала, теперь можно, раз уж мы хотим пожениться.
Она глядела на Тру, которая все плакала и плакала — как грозовая туча, накопившая целое море слез. Насмотревшись на Тру, Нелл перевела взгляд на меня:
— Знаешь, Салли, тебе не обязательно всю жизнь играть вторую скрипку.
Поскольку я никогда не играла на второй скрипке и вообще ни на каком музыкальном инструменте, то решила, что Нелл, наверное, опять чуточку пьяная. А она вдруг взяла и улыбнулась. Все, точно. Нелл напилась вдрабадан на радостях.
Я снова легла на кровать и потерла Тру спину, ходившую прямо ходуном. Поскольку она по-прежнему так ничего и не сказала, я решила, что Тру, наверное, опять замолчит и откажется разговаривать, как после аварии. Но сестра нашла чем меня удивить — как обычно.
— У меня тоже есть для тебя секрет, — сказала она в стену.
Я совсем не рвалась немедленно услышать еще один секрет, норму секретов за один день я и так уже перевыполнила.
— Я закрыла руками папины глаза, — сказала Тру. — Положила пальцы прямо ему на глаза.
За окном дождь все лил и лил, его шум обычно мне нравился, но сегодня дождь стучал уж очень громко, да еще ветка терлась о стекло, словно хотела укрыться внутри.
— По дороге с матча папа и дядюшка Пол поругались, — всхлипнула Тру. — Я ужасно хотела, чтобы они перестали ругаться. А они все орали друг на друга, что-то про тебя и про твой день рождения, а я хотела, чтобы они вспомнили про меня, и поэтому сыграла в «Угадайку» с папой, прямо там, в машине, он крикнул, чтобы я прекратила, и вот почему он врезался в то дерево, и это был такой жуткий звук, такой грохот… — Она закусила уголок наволочки, чтоб зубы не стучали. — Я… Мне так жаль, что я убила папу.
Бедная, бедная Тру. Как долго она хранила свой секрет, такой кошмарный… Я снова погладила ее по спине и сказала:
— Папа просил передать, что ты не виновата, он именно это и хотел сказать. Клянусь двумя любящими сердцами сестричек О’Мэлли и всем, что есть святого на небе и на земле: он простил тебя.
Поняв, что я говорю чистую правду, Тру попросила тоненьким голоском:
— Можно мне водички, пожалуйста?
По дороге на кухню я слушала, как всхлипывает Тру, и в плаче этом мне слышалась не только ее печаль, но и печаль всех тех, кому, как ей казалось, она причинила боль, печаль всех, кого она любила, а хуже этой печали ничего и не бывает. Может, со временем Тру простит себя, но я знала, что она никогда-никогда не забудет звук, который раздался, когда машина врезалась в дерево. Как и я никогда-никогда не забуду выражения на папином лице в то августовское утро. Он злился на меня. Я его разочаровала, сказал он. Вместо обещанного стадиона я останусь на ферме и буду работать в саду. Вместо меня на игру поедет Тру, даже если сейчас моя очередь. Мне нужно научиться ответственности, кричал папа. Сказал, что к тому времени, когда они вернутся домой, мой сад должен выглядеть так, словно за ним кто-то ухаживает. Словно кому-то есть до него дело.
А я ведь дождаться не могла той поездки на матч. Мечтала провести день с папой, на жарком солнце, хрустеть солеными орешками, жевать хот-доги с горчицей и маринованными огручиками, распевать «Возьми меня с собою на бейсбол». Я так на него обиделась, что крикнула ему, как я его ненавижу и как мне жаль, что я его дочь, а не чья-нибудь еще.
Это был секрет, которым я ни с кем не делилась и никогда не поделюсь. Я столько раз навещала этот свой секрет, что иногда боялась — он превратил мое сердце в осколки и никто никогда их не склеит.
Бабуля вечно повторяла, что время лечит любые раны. Вот уж в чем я совсем не уверена.
Глава 31
Мама всегда говорила: любой дом — отражение своих жильцов. Она права, потому что дом Расмуссена тоже напомнил мне мягкую вишню в твердом шоколаде. Внутри даже лучше, чем снаружи. Там было чисто и все на своих местах, как в школьном классе. Только пахло не книгами, краской и резиной от кедов, а цветами, которые Расмуссен выращивал в саду, и щеночком Лиззи.
Мы таскали коробки с одеждой через парадную дверь, и Нелл сказала, что Расмуссен с Эдди перевезут и кое-какие оставшиеся вещи, вроде нашего ночного столика с маленькой лампой, а сегодня мы можем спать на закрытой веранде миссис Галецки, а уж все знали, как нам этого хотелось, — особенно Тру: она любит, засыпая, смотреть на светлячков, точно это маленькие ночники, разгоняющие страхи. А еще Нелл сказала, что Расмуссен передал нам, что мы с Тру можем занять по отдельной спальне, но я попросила передать Расмуссену: нет уж, спасибо. Не думаю, что кто-то из нас сможет уснуть, если мы сначала не потрем спины друг дружке. А на самом деле я, наверное, просто эгоистка: не хочу проснуться среди ночи (такое бывало, когда мне всюду чудилась Тварь из Черной Лагуны) и не обнаружить рядом Тру, которая посапывает, сунув в рот палец. Да я расстроюсь, даже если не найду сестрину куклу Энни, которая таращится широко распахнутыми глазами — можно подумать, впервые меня видит.
Тру все больше помалкивает после того, как призналась, что сыграла в «Угадайку» с папой. Но это ничего, бабуля говорит, в Библии сказано: есть время молчать и время говорить[22]. Тру снова заговорит, через месяц или чуть больше, в прошлый раз так и вышло.
В общем, нами будто выстрелили из пушки в космос, забросили на другую планету, и вот следующим утром мы уже сидим за очень модерновым пластиковым столом на кухне у Расмуссена. Я догадывалась, что Тру в полном восторге от стола, даже если сестра и не признается в этом, хоть закуй ее в цепи и капай воду ей на темечко шесть дней кряду. На завтрак Расмуссен приготовил вафли с настоящим кленовым сиропом с севера, мы смели их за две секунды. А еще нажарил целую гору хрустящего бекона.
Расмуссен не сел за стол, пил растворимый кофе стоя, привалившись к мойке, — в своей полицейской форме.
— Как насчет того, чтобы прокатиться завтра вечером на ярмарку штата?
Мама, наверное, рассказала Расмуссену, до чего Тру обожает Шоу Уродцев, вот он и старался угодить. Тру считала уродцев невероятно интересными. А по мне, так они очень грустные в своих ящиках, выставленные напоказ. Но Тру зявила, что они отличаются от всех остальных и потому заслуживают особого внимания, — а это неожиданно благое дело с ее стороны.
— Ярмарка — это здорово, — ответила я.
— Вот и славно. Отправимся завтра же вечером, и вы обе вволю наедитесь сахарной ваты и накатаетесь на аттракционах… — Расмуссен прочищал горло едва ли не каждые пять секунд: верный признак беспокойства. — Как тебе это, Тру?
Сестра посмотрела на него, и я практически увидела, как из ее ушей брызжет лава безумия.
— Меня зовут Маргарет, — ответила она.
Расмуссен и бровью не повел.
— Так что ты скажешь о поездке на ярмарку, Маргарет?
Прежде чем Тру успела взорваться, я быстренько ответила вместо сестры:
— Поездка на ярмарку ее вполне устроит, офицер Расмуссен.
Он посмотрел на меня в упор и показал ямочки на щеках, в точности как мои, только побольше, а я заглянула прямо в его зеленые глаза. Две горошины в стручке. Внезапно все показалось таким логичным. Вот почему он всегда смотрел на меня как-то странно. Расмуссен тосковал по мне! Сложно было это впитать, столько всего важного одновременно.
Он ополоснул свою кофейную кружку, вытер красным махровым полотенцем; с виду полотенце было совершенно новое, прямиком с верхних полок «Файв энд Дайм».
— Зовите меня Дэйвом, идет?
И тут Тру произнесла голосом, какого я прежде у нее никогда не слышала, ледяным просто, по моим мурашкам аж свои мурашки побежали:
— Разве Салли не должна называть вас папочкой?
В наступившей тишине стало слышно, как над кухонной плитой тикают часы в виде черной кошачьей мордочки.
Конечно, сестра обрадовалась, узнав, что она единственная дочка у папы, как же ей не обрадоваться. Но Тру не запрыгала от восторга, когда моим папой оказался Расмуссен, хозяин в нашем новом доме. Она что, должна теперь подчиняться ему?
Расмуссен ответил:
— Твоя сестра тоже может звать меня Дэйвом. Думаю, пока и этого достаточно, верно, Салли?
Я лишь кивнула, потому что как раз пыталась представить, каково это — звать Расмуссена папой. Я никогда не звала Холла папой. Просто Холлом. А когда он не слышал, еще парочкой имен, в чем теперь могу сознаться, раз уж Холл надолго засел в тюрьму. Нет, никогда-никогда этого не смогу — назвать Расмуссена папой. Может, немного погодя стану звать его — мистер Дэйв. Потому что папой навсегда останется мой Небесный Король. Неважно, кто и что говорит, я никогда не позволю, чтобы все быльем поросло.
— Мне пора в участок. — Расмуссен заметил, как я разглядываю пистолет у него на бедре. Еще никогда не видела оружия так близко. — Первое правило в этом доме, девочки: держитесь от него подальше. — Он похлопал по кобуре и водрузил на голову полицейскую фуражку. — Еще я хотел сказать: тебе, Тру, то есть… э… Маргарет, больше не придется тревожиться из-за Жирняя Эла, ну… Альберта Молинари. Я позаботился об этом. — И, будто перевернув страницу в книге, добавил весело: — Сегодня чудесный день. Почему бы вам не сходить на площадку? А потом, если сможете, погуляйте с Лиззи. Поводок висит в прихожей.
Я смотрела на Расмуссена снизу вверх — нет, ну какой же он высокий! А потом опустила взгляд на свои несущие-как-ветер длинные ноги. И снова вверх — в его зеленые глаза. Неловко признавать, но мне вдруг сделалось хорошо: в первый раз за всю жизнь я на кого-то похожа. Так что поэтому, и еще потому, что он был к нам добр, испек вафли и нажарил бекона, пообещал свозить на ярмарку, я сказала:
— Увидимся, мистер Дэйв.
По лицу было видно, что Расмуссен доволен.
— Увидимся, Салли. — Он направился через залитую солнцем кухню к двери, но на пороге остановился и очень серьезно сказал: — Не забывайте, что случилось с Сарой и Джуни. Знаю, вы любите Сэмпсона, но мне бы не хотелось, чтобы в ближайшие дни вы ходили в зоосад и вообще по парку. Пока мы не поймаем этого парня. Ладно?
Я ответила:
— Ладно.
Но Тру промолчала.
— Если потребуется что-то, пока я на работе, можете позвонить. Номер вон там, рядом с телефоном. И Этель вам поможет. — Расмуссен мазнул по мне взглядом и почему-то покраснел. А потом за ним захлопнулась дверь с проволочной сеткой.
Тру сидела, уперев в стол локти и уткнув подбородок в ладони.
— Значит, папа так и сказал? Ты уверена?
— Уверена.
— Что я не виновата, что авария не из-за меня? Поклянешься?
— Клянусь! — Я быстро перекрестила сердце. — Хочешь немного «Овалтина»?
Расмуссен показал, в каком шкафчике хранится «Овалтин». Этель, наверное, рассказала, что мы с Тру обожаем его.
Сестра опустила лицо еще ниже, уперлась подбородком в желтый кухонный стол и с легким удивлением спросила:
— Так, значит, можно больше не думать, что это я виновата? Что это я убила папу?
— Ага. — Я распахнула холодильник, который был намного больше, чем наш старый, и забит фруктами, мясной нарезкой и вишневой содовой «Графс». До такой степени забит, что казалось, еда норовит выскочить прямо в руки. В жизни не видала настолько буйного холодильника. Взяла бутылку с молоком, понюхала. — Ты не убивала папу. Произошел несчастный случай, это совсем разные вещи.
— А как же тогда дядюшка Пол? Я повредила ему мозги, и он меня так пока и не простил, — сказала Тру мрачно. — Вот почему он все время рвется сыграть со мной в «Угадайку».
Я не знала, что ответить, потому что это была правда. Дядюшка Пол вечно закрывал Тру глаза, и теперь я поняла, отчего сестра его не любит. «Угадайка» для нее — все равно что попасться с рукой, по локоть запущенной в банку с печеньем.
— Ну, может, ты…
Тут с заднего двора миссис Галецки до нас донесся голос Этель:
— Девочки, вы там?
Слава тебе, Боженька, потому что я никак не могла придумать, как утешить сестру, учитывая все странности дядюшки Пола.
— Вы одеты? — хохотнула Этель, открывая сетчатую дверь.
— Доброе утро, — поздоровалась я.
Чудесно, что Этель отныне наша соседка. Она по очереди обняла нас и сказала, что рада нас видеть, — особенно потому, что мы выглядим такими чистыми и ухоженными, всякому ведь известно: чистота сродни праведности. Я не знала, где Расмуссен держит стаканы, но Этель показала, и тогда я вынула из шкафчика три стакана, растворила три порции какао и выставила на стол. Этель была одета в белый халат, в котором всегда ухаживает за миссис Галецки. А на руке у нее были два браслетика, которые мы с Тру сплели специально для нее, — вот почему мне так нравится Этель, помимо всего прочего. Совсем как я, Этель всегда помнит о чувствах других, она понимает, что при виде этих ремешков у нас сразу поднимается настроение. Ведь вчера выдался тяжелый день, сплошные открытия, мы переехали к Расмуссену и все такое. Но Этель знала только половину из того, что произошло, и, пока она заплетала мне косу, я рассказала остальное. Все, без утайки. И что папа простил маму, и как Тру случайно устроила аварию, и что Расмуссен приходится мне отцом.
Когда я закончила, Этель сказала:
— Милостивый Боже, лето у вас выдалось ого-го.
Готова поспорить на свой лучший камешек с искорками: Этель все это время знала, что Расмуссен — мой отец. Я то и дело оборачивалась к ней, и в этой части рассказа брови Этель не подскочили вверх, как бывает, когда она удивлена. В конце концов, мисс Этель Дженкинс из округа Калхун, штат Миссисипи, была самой умной женщиной из всех, кого я встречала, а увидев меня и мистера Дэйва вместе, вы и сами бы решили, что мы родня, — если, конечно, обращаете внимание на детали и охочи до всяких совпадений.
Этель перегнулась через стол к Тру и сказала:
— А знаешь, мисс Тру, тебе нужно взять и выбросить из головы аварию. Дети ни черта не смыслят, что творят, на то они и дети, и все их проделки для Бога — никакое не зло, а вот когда дети вырастут и начнут понимать, какие поступки дурные, а какие нет, тогда другое дело. Знаю, мистер Расмуссен никак не заменит тебе папу, но… — Этель отпила «Овалтина», и напиток осел у нее на губе молочными усиками, которые тотчас слизнул поразительно розовый язык. — Я, понятно, в душу к мисс Салли не залезала, но никогда не сомневалась: делиться она умеет.
Тру посмотрела на меня, и я кивнула, подтверждая слова Этель. Истинная правда — делиться я умею и с радостью поделюсь с Тру мистером Дэйвом. Ведь Тру делила со мною Небесного Короля. Конечно, она о том не подозревала. Но делила же. И, думаю, даже знай она про Расмуссена, все равно бы поделилась. Может, и не сразу, потому что это не в обычаях Юного Трубача. Но поделилась бы. Мне так кажется.
И поскольку Тру тоже считала Этель самым умным человеком из всех, кого мы знали, то задала ей тот же вопрос, что и мне чуть раньше. Как я и надеялась.
— А как же дядюшка Пол? Я повредила его в уме, теперь он строит домики из палочек от эскимо и не может работать плотником.
— Плотником? С чего это ты вдруг решила? — нахмурилась Этель. — Не был твой дядюшка Пол никаким плотником. Он был книжником.
Это я рассказала Тру, что дядюшка Пол был плотник. Поклясться могу, я своими ушами слыхала, как мистер Джербак назвал его плотником незадолго до аварии, когда дядюшка Пол собирался подбросить меня домой на ферму после визита к бабуле. Мы остановились рядом с «Пивом и Боулингом Джербака», потому что дядюшка Пол сказал, у него там кое-какие неотложные дела. Когда мы вошли в темный зал, пахший пивом и шоколадным печеньем, мистер Джербак прокричал из-за стойки: «Гляньте-ка, кто к нам явился! Это же Пол-плотник. Приколотил больше телочек, чем Иисус — досочек!» И все мужики, что сидели в баре, давай хохотать и смеялись очень долго, а меня угостили детским коктейлем, пока какие-то люди отдавали дядюшке Полу деньги. Так что, возможно, Этель что-то путает.
— Вы ведь знаете, кто они? Книжники? — спросила Этель.
Разве Эдди не купил свою «шеви» у книжника, который не сумел расплатиться?
Сестрички О’Мэлли в один голос ответили:
— Нет.
— Книжник — это человек, который делает ставки за других, — сказала Этель.
— Какие ставки? — спросила Тру.
— Разные, значения не имеет. Таким и ваш дядюшка Пол был. Книжником.
Этель сделала еще один долгий глоток из запотевшего металлического стаканчика цвета сирени.
— Я скажу тебе еще одну вещь, мисс Тру, кое-что бросилось мне в глаза насчет вашего дядюшки Пола после аварии, и я ведь довольно хорошо его знала, потому что в то же примерно время водила дружбу с одним джентльменом, который страсть как интересовался пони.
Он что, любил лошадок? Прямо как я?
Этель встала и отнесла к мойке пустой стакан.
— Знаете, так грустно говорить об этом, но ваш дядюшка Пол в те дни не был шибко хорошим человеком. Да что там, многие считали Пола Райли самым отпетым злодеем в округе. Так что ты оказала услугу и себе, и своей семье, мисс Тру. А если хорошенько подумать, то и самому Полу. — Этель распахнула холодильник. — Кто-нибудь мечтает о сэндвиче с редиской?
Именно такими сэндвичами Этель перекусывала в летнюю жару. Бог его знает почему, но, глядя на то, как она размахивает пучком редиски, я вдруг о чем-то вспомнила, воспоминание взялось прямо ниоткуда, прошумело в голове теплым ветерком.
В день, когда случилась авария, мама и дядюшка Пол стояли на крыльце нашей фермы. Я хотела попить из шланга и сполоснуть несколько редисок, которые только что вырвала из грядки, — я усердствовала в огороде, как папа и велел, не хотела, чтобы он снова разочаровался во мне. Мне было очень, очень не по себе после тех злых слов, которые я ему наговорила. И я пообещала себе, что постараюсь помириться. А потом разотру загорелую папину шею, это ему особенно нравилось. Мама и дядюшка Пол не знали, что я рядом. Я опустила шланг и подобралась поближе, потому что на лице у мамы застыло странное выражение. Папа с Тру сидели в машине и слушали радио — там гремело ча-ча-ча. Я замерла, чтобы расслышать, что там говорит маме дядюшка Пол. Голос у него был как у Грубияна, когда кто-то пытается отобрать у того косточку.
— У меня неприятности, мне нужны бабки. Разбей копилку, маленькая Мисс Воображала, не то расскажу твоему муженьку сама знаешь про кого. — И дядюшка Пол коснулся маминых губ пальцем, провел по ним сверху вниз.
Мама отскочила и хлопнула ладонью по его лицу, выбив изо рта сигарету. А дядюшка Пол ушел через дверь с проволочной сеткой, но сперва с улыбкой сказал:
— Ты еще пожалеешь, Хелен.
Мама стояла на крыльце, глядя вслед дядюшке Полу, пока тот не сел в машину. Потом скрылась в доме, и через окно спальни я услыхала, как она плачет. Мне сделалось страшно. Я уже хотела кинуться за папой, попросить его вернуться, сказать, что дядюшка Пол довел маму до слез, что я жалею о сказанном, будто ненавижу его и хочу себе другого папу. Я отшвырнула шланг и побежала за ними по дорожке, но застала лишь облако пыли.
Даже забавно, как эти редиски заставили меня вспомнить, но иногда бейсбол и хот-доги с горчицей и маринованными огурчиками тоже вызывали воспоминания о папе, так что это, наверное, то же самое. И теперь я точно знаю: Этель не соврала и наш дядюшка раньше был плохим, очень плохим человеком.
— А вдруг дядюшка Пол насильник? Вдруг это он убил Джуни и Сару?
Этель выпучила глаза:
— Пол — убийца и насильник? О, мисс Салли, ты должна укротить свое воображение. Да Пол в жизни бы не сделал ничего такого. Он одеться-то сам не может толком. — Поглядев на Тру, она добавила: — Ну, когда-то он и мог бы провернуть что-нибудь этакое, ведь в старые времена этот парень был грязней куриного помета. Я могла бы порассказать вам кое-какие истории, от которых волосы дыбом встают. Пол напивался у Джербака и принимал ставки, но по большей части гонялся за юбками. — Этель осуждающе покачала головой. — Сейчас я расскажу кое-что. Не стоит, наверное, но я все равно расскажу, ради мисс Тру. — Она понизила голос: — Только вы должны поклясться, что никому ни словечка не скажете. Плюнем и замажем. — Этель сплюнула в ладонь, и мы, сделав то же самое, пожали руки. — Тем летом Пола арестовали за то, что он переломал ноги одному человеку, который не смог выплатить ему деньги по ставкам, а потом еще и напал на жену этого парня. Он должен был загреметь в тюрьму. Но после той аварии… ваша мама упросила офицера Расмуссена замять дело, договорилась, чтобы он дал денег тому человеку и его жене, чтобы они сняли обвинения с вашего дяди.
Рты у сестричек О’Мэлли дружно приоткрылись.
Важно покивав, Этель добавила:
— Воистину, неисповедимы пути Господа нашего.
Мы сидели и молчали, переваривали услышанное.
— Так с чего ты взяла, мисс Салли, будто ваш дядюшка Пол — тот самый убийца и насильник? — спросила Этель.
И я рассказала ей о том первом разе, когда за мною кто-то гнался по аллее, — в ту ночь, когда Быстрюга Сьюзи напугала нас с Тру историей про Франкенштейна. И как я спряталась под кустами у Кенфилдов, и как видела носки в розовых и зеленых ромбиках. И как нашла носки с такими же ромбиками, мокнущие в бабулином тазу.
Тогда настал черед Этель отвесить челюсть.
— И почему же, во имя всего пресвятого, ты никому не говорила, что кто-то гнался за тобой?
— Потому что думала, это Расмуссен, и боялась, что мне никто не поверит.
— Боже, Боже, Боже… Я расскажу Дэйву, когда он вернется с работы, хотя не возьму в толк, что хорошего из этого может выйти. — Этель глянула на свои часики: — Миссис Галецки скоро очнется после утреннего сна. Нужно дать ей новое лекарство, успокоительное. Тут с мистером Гэри сотворилось кое-что такое, о чем я расскажу позже, за ланчем. — Этель направилась к двери. — А вы идите-ка на площадку, поиграйте, но как заслышите, что церковные колокола бьют двенадцать часов, возвращайтесь, вас будут ждать сэндвичи с ореховым маслом и зефиром.
Тру сорвалась с места, ткнулась головой в пышную грудь Этель. Сестра хотела поблагодарить Этель за рассказ про дядюшку Пола, потому что теперь — а я только заметила — настроение у нас с нею почти выправилось. Тру не сказала этого вслух, но я знала: как-нибудь потом непременно скажет. Я ведь умею читать ее мысли.
Когда Тру отпустила Этель, та посмотрела прямо в глаза каждой из нас и сказала угрожающе:
— Помните о клятве, вы обе. — И дверь с сеткой захлопнулась.
— А Этель права, — сказала Тру. — Господь, наш Отец Небесный, он и впрямь ходит неисповедимыми путями.
И я, стоя в нашей новой кухне — с занавесками в желтую клетку, с фотографией Джуни Пяцковски на стене, с часами, неторопливо отщелкивающими минуты своими кошачьими лапками, — могла лишь согласиться:
— Так и есть. Так и есть.
Глава 32
Мы больше не жили напротив детской площадки, так что дорогу туда нам с Тру пришлось срезать через задний двор Фацио. На белом покрывале, расстеленном на траве, лежала Быстрюга Сьюзи и слушала рок-н-ролл. Она была в розовом купальнике в горошек, с юбкой в складочках, а рядом стоял стаканчик с розовой газировкой.
— Привет! — сказала я, подходя ближе.
Быстрюга Сьюзи загорает! Да она уже коричневая, как египтянка, а скоро догонит и самого Рэя Бака. Быстрюга Сьюзи прикрыла глаза ладонью, рассматривая нас снизу вверх:
— Сестрички О’Мэлли? Вы ли это? Где вас черти носили? — И она рассмеялась с облегчением, будто еще не рассказанный рассказ разрывал ее изнутри. — Уже слышали новость?
Тру до того обрадовалась встрече, что уголки ее рта, казалось, вот-вот сомкнутся на затылке. Быстрюга Сьюзи была ее кумиром. А ответная улыбка Сьюзи напомнила мне улыбку Кота из «Алисы в стране чудес».
— Риза Бюшама забирают в армию!
— Правда?! — завопила я.
Риза Бюшама я просто терпеть не могла и страшно обрадовалась за Арти, потому что Риз больше не будет бегать по округе с воплем: «Заячья губа! Заячья губа! Заячья губа!» И не станет больше обзывать Венди идиоткой. И не будет тереть передок штанов и сверлить Тру взглядом, от которого у меня мурашки. Риз Бюшам отправляется в армию? Великолепные новости! Слишком хорошие, чтобы быть правдой.
— Ты уверена? — спросила я.
Быстрюга Сьюзи задвигала бровями вверх-вниз, совсем как Граучо Маркс.
— Еще как уверена, милая леди.
Нана Фацио явно затеяла стряпню, потому что по всему двору плыл сильный чесночный дух, сопровождаемый голосом Элвиса, певшего «Большую порцию любви».
— Я слышала, как Тони и Джейн говорили про это, — сказала Быстрюга Сьюзи.
Ее родители то бишь. Впрочем, иногда она называла их Питекантроп и Джейн. Не могу ее винить, мистер Фацио почти такой же волосатый, как Сэмпсон. Без шуток. Мистер Фацио продает столовые приборы. Это Вилли О’Хара где-то услышал. Что мистер Фацио работает на человека, которого зовут Фрэнки-Нож.
— Помните, Венди скатилась с подвальной лестницы у Донованов? — спросила Быстрюга Сьюзи.
— Ну еще бы! — ответила Тру.
— А помните, все решили, будто она случайно забрела туда во время одной из своих глупых прогулок?
— Ну уж не-ееет… — протянула я. Ни секунды не верила в эти россказни.
— Так это Риз сделал. — Быстрюга Сьюзи резко вскочила, и от неожиданности мы с Тру аж подпрыгнули. Как она того и добивалась.
— Так это Риз столкнул Венди? — переспросила я.
— Ага. И Венди наконец-то все рассказала.
Я вспомнила, как мы с Венди качались на крыльце у Кенфилдов и я спросила, не Расмуссен ли сделал это с ней, но тут ее мама с легкими оперной певицы принялась звать Венди, и та сразу убежала домой. Почему она не сказала мне, что это был Риз?
— А Риз, разумеется, твердит, что Венди все сочинила.
Быстрюга Сьюзи выдавила на ладонь немного детского масла и размазала по ногам. Как-то раз она сказала нам с Тру, что подумывает начать брить их, так вот, по-моему, правильно подумывает, поскольку ноги Быстрюге Сьюзи явно достались от питекант ропа.
— Риз всем рассказывает, что Венди просто больная на голову идиотка, а если ей кто-то верит, они и сами идиоты.
— Боже мой, Иисус, Мария и Иосиф, — вздохнула я.
Так это Риз Бюшам — убийца и насильник. Подумать только! И как я этого не замечала?
— А мистер Бюшам как узнал, что Риз сотворил с Венди, взял ремень и чуть душу из сынка не выбил. Даже я дома слыхала, как оба вопят. — Быстрюга Сьюзи явно наслаждалась своим рассказом. Она не любила Риза Бюшама даже сильнее, чем все мы. Думаю, началось это примерно с той поры, как Риз показал ей пипиську в сарае у Донованов.
— Ну и скатертью дорожка! — фыркнула Тру.
— Угадайте, кто еще вот-вот свалит подальше? — И Быстрюга заулыбалась во все свои клыки. — Жирняй Эл!
Тру заскакала вокруг.
— Правда? Правда?! Жирняя Эла тоже забирают в армию?
— Нет, в армию его не возьмут, он же хромой, — Быстрюга Сьюзи наклонилась за своим стаканчиком и хлебнула розовой газировки. — Его отправляют в исправительную школу где-то на севере.
Так вот что имел в виду Расмуссен, когда сказал, что обо всем позаботился!
В тот момент новость про Жирняя Эла не очень-то глубоко проникла мне в голову, слишком уж я сотряслась рассказом про Риза. Значит, это он гнался за мной по аллее в ту ночь, а не найдя, просто повернул домой, а Венди как раз бродила вокруг, он увидел ее и решил убить и снасиловать собственную сестру. Она, наверное, вырвалась и убежала, потому как Венди — настоящая силачка. Однажды я видела, как она, разозлившись за что-то на Арти, оторвала его от земли и отшвырнула, так он пролетел футов шесть. Вот какая силачка Венди Бюшам. А эти ее объятия? Да в них задохнуться можно!
Минутку… Если Риз Бюшам — убийца и насильник, как так вышло, что его не посадят на электрический стул, а просто отправят в армию? Это неправильно.
— А как насчет Сары и Джуни? — спросила я.
— А что такое? — Быстрюга Сьюзи размазывала масло по рукам, и волоски топорщились черным лесом.
— Ты не считаешь, что это Риз убил их?
— Вот, я же тебе говорила! — выкрикнула Тру. — Риз Бюшам и есть убийца и насильник!
Тру права. Она так и сказала в больнице, когда чревовещала.
Но Быстрюга Сьюзи не согласилась:
— Не-а, я не думаю, что это сделал Риз. Если так, офицер Расмуссен заковал бы Риза в наручники, а я лежала тут все утро, так что увидела бы, как они проходят мимо.
И все равно Тру права. Это сделал Риз. И сегодня же вечером, когда мистер Дэйв вернется из полицейского участка, я так и скажу ему. Он, наверное, просто не обдумал все хорошенько, слишком обрадовался мне, дочке своей новой.
— Тру, — позвала я, — мне надо проведать Венди.
— А я пойду на детскую площадку и отпраздную отъезд Жирняя Эла в исправиловку. Приходи потом туда, Фалли О-Малли. — Тру так здорово изобразила говорок Венди, что я рассмеялась. Пусть не особо вежливо с ее стороны, зато ужас как похоже.
Когда я была уже у крыльца, Быстрюга Сьюзи крикнула:
— Знаешь что, О’Мэлли? (Я обернулась.) А ты ничего. Простушка, но ничего.
И, сделав приемник погромче, принялась подпевать песенке «Плюх-плюх, я ванну принимал».
Так мило со стороны Быстрюги Сьюзи! Чувствовала я себя расчудесно. Радовалась, что Риз Бюшам никого больше не сможет убить и снасиловать. Особенно меня. И может, на севере Жирняй Эл перевоспитается и вернется домой нормальным парнем. И мама не умерла, и дом мистера Дэйва такой чудесный. И Нелл с Эдди скоро поженятся. И Этель будет нашей соседкой. И мистер Гэри станет приезжать каждое лето. И даже сломанные мозги дядюшки Пола больше не тревожили меня — Этель ведь сказала, что до аварии он был ужас каким злым человеком.
Так вот, я чувствовала… Даже не знаю, как точно передать. Может… свет? Мне было светло-светло, никогда я не ощущала столько света в себе. Словно солнце забралось внутрь меня своими лучиками.
И, наслаждаясь этим светом, я совершила большущую ошибку. Позабыла про детали. А когда вспомнила папины слова, было слишком поздно. Потому что в деталях и вправду прятался дьявол.
Глава 33
Узнав от миссис Бюшам, что Венди нет дома, я отправилась на поиски, но долго искать не пришлось. Венди нашлась на качелях на детской площадке. Она опять разгуливала без одежды и раскачивалась с такой силой, что даже через улицу было слышно, как скрипят цепи. Когда я подбежала, Бобби-инструктор кричал:
— Прекрати, ты же свалишься!
Но Венди улыбалась и не слушала Бобби, а увидев меня, заверещала:
— Фалли О-Малли, фмотри — я! Венди птичка!
— Вот дебилка! — махнул рукой Бобби и отошел.
Что с ним такое? Не в обычаях Бобби обзываться обидными словами. Может, он чем-то расстроен? Эта летняя жара кого угодно доконает. Мне захотелось кинуться за ним, сказать, что Венди вовсе не дебилка, просто она радуется, ведь Риз всю жизнь не давал ей проходу, а теперь его упекут за решетку — как только мистер Дэйв допросит его с пристрастием. Но ничего такого говорить я не стала, потому что Бобби не местный, через месяц площадка закроется и он уедет в колледж до следующего лета. Так что, в общем, все это — не забота Бобби. Это забота Влит-стрит.
— Венди Бюшам, хватит качаться, у меня для тебя огроменная конфетина! — крикнула я.
Венди тут же засуетилась. Конфеты она обожает даже больше, чем сливочное масло или подобранные с земли, надкусанные хот-доги. Венди боготворит конфеты. Тут рядом возникла Тру, и мы вдвоем наблюдали, как Венди старается остановить качели.
— Самая счастливая девочка в мире, разве нет? — сказала моя сестра, в тоне ее я услышала печаль и восторг.
— В итоге все закончится просто прекрасно, Трубач, вот увидишь, — пообещала я.
Наконец качели остановились, я вручила Венди заранее припасенный батончик «Мушкетеров», а потом стояла и смотрела, как она сидит голенькая на качелях и наслаждается конфетой.
— О’Мэлли! — выкрикнул кто-то за спиной.
Обернувшись, я увидела, как через площадку к нам топает Мэри Браун. Невероятно, но она отощала еще сильнее! В своих потертых черных кедах с белыми носками она напоминала восклицательный знак. Мы с Тру не видели ее с Четвертого июля, так что я обрадовалась, чуть не бросилась обниматься, да вовремя опомнилась, потому что обниматься с костлявой Мэри Браун — то еще удовольствие. Единственная, кто может справиться, — это Тру, да и то потому лишь, что она умеет бороться по-ирландски.
— Чем занималась? — спросила я, унюхав не привычный запах лежалых картофельных чипсов, а аромат посильнее.
— Помогала папе кормить животных. Один из тех засратых фламинго клюнул его в руку, — сплюнула Мэри Браун. — Ненавижу этих засратых птиц, черт их забодай совсем. С виду такие милашки, а поближе узнаешь, так поймешь, что характер у этих фламинго прескверный. Не лучше, чем у кое-кого в здешних краях. — Она пристально смотрела, как Бобби крутит скакалку для какой-то мелкоты, весело прыгавшей в сторонке. Мэри Браун недолюбливала Бобби.
Я посмотрела на Венди, которая целиком засунула в рот здоровенный батончик, и поняла: пусть она и монголоид, но грудки у нее уже растут вовсю. И внизу появились волосики… Так это было странно. Тело Венди росло само по себе, без нее.
Отыскав взглядом Арти Бюшама, игравшего в тетербол на другой стороне площадки, я крикнула:
— Артииии!..
Конечно, он меня не услышал — все из-за уха, по которому тогда двинул Риз, — но потом случайно посмотрел в нашу сторону и сразу примчался.
— Пора домой, к ма. — Помогая сестре слезть с качелей, Арти оглянулся на Тру и заулыбался. По-прежнему приударял за ней.
— Нам сказали, Риз валит отсюда, — заметила Тр у.
Улыбка Арти расплылась по всему лицу, как шоколад — по лицу Венди.
— Да уж, отличная новость, правда?
Мы втроем смотрели, как он ведет голую сестру к дому. Они уже почти перешли улицу, когда Венди вырвала руку и кинулась обратно, чтобы обнять меня на свой медвежий лад. Сумев наконец вдохнуть, я спросила:
— Так это Риз столкнул тебя в подвал?
Венди выпустила меня, поглядела прямо в глаза и сделала нечто такое, на что, я считала, монголоиды не способны. Венди Бюшам подмигнула мне! И в тот момент я поняла, что Венди сама свалилась с той лестницы. Никто ее не сталкивал. А маме просто рассказала выдуманную историю, чтобы Риза наказали. Ах, Венди! Вот вонючка! Я пристально смотрела на нее, стараясь убедиться, что мое воображение здесь ни при чем. А Венди улыбнулась и побежала к Арти. Эта девчонка спасла любимого брата от вредного Риза. Интересно, знает ли Арти? Я знала. И неважно, кто и что говорит. Никакой это не полет моего воображения. Венди подмигнула. А ее озорная улыбка — прямо как «аминь» в конце молитвы.
Вроде того.
А через секунду до меня дошло и другое. Если Риз не сталкивал Венди в подвал, то, наверное, это не он гнался за мною и не он сцапал меня во дворе у Фацио. Не могут же сразу двое психов бегать по нашей округе, верно? Тру ошиблась. Риз Бюшам все-таки не убийца и насильник. Но мне не хотелось портить такой хороший день. Не хотелось объяснять сестре, что та не права. Голова у Тру и без того забита беспокойными мыслями о том, что мистер Дэйв станет нашим новым папой. Лучше подожду более подходящего момента.
Мы с Тру и Мэри Браун забрались на качели, и Мэри Браун спросила:
— Вы уже слышали про падре Джима и мистера Гэри Галецки?
Хотелось покачаться в унисон, туда и обратно одновременно, но никак не выходило. Справа от меня Тру, слева — Мэри Браун, и мы отталкиваемся как ошалелые, но в разное время, так что пришлось дождаться, чтобы качели пересеклись, и только тогда спросить:
— Так что там с падре Джимом и мистером Гэри?
Пролетая мимо, Мэри Браун ответила:
— У них обоих гомио какое-то, сладкие булочки.
— ЧТО?! — заорала Тру через меня. — ЧТО ТЫ СКАЗАЛА?
Мэри Браун выдумщица и врунья, каких поискать. Не может удержаться, так что ей приходится врать, чтобы не взорваться, — хотя, может, это и неплохо было бы. Сейчас она еще расскажет, будто мистер Гэри похитил падре Джима и они вместе умчались в Венгрию жить там с цыганами.
— Падре Джим и Гэри Галецки вместе сбежали в Вен… в Калифорнию то есть, чтобы там пожениться! — прокричала Мэри Браун. — Я нынче утром слыхала, как Этель рассказывает про них мистеру Питерсону в аптеке.
И Мэри Браун заговорила низким голосом, покачивая пальцем из стороны в сторону, как и вправду делает Этель:
— У меня имелись свои подозрения насчет мистера Гэри, что-то больно он любезен со своей матерью, если вы улавливаете ход моих мыслей. Ну теперь уж все узнают. Этот паренек — королева хоть куда, короны только не хватает. — Мэри Браун поглядела на меня и скроила рожицу, типа черт его знает, что бы это значило. — Падре Джим оставил записку в ризнице. Там сказано, ему очень жаль, но он ничего не может с собой поделать, он знает про смертный грех, но влюбился по самые помидоры и теперь уезжает с Гэри Галецки в Калифорнию.
Милые мои Иисус, Мария и Иосиф! Так вот что Этель имела в виду, когда сказала, будто с мистером Гэри «кое-что сотворилось»? Я чуть не помчалась к миссис Галецки, чтобы выяснить, не врет ли Мэри Браун. А та снова спросила:
— И знаете, что еще?
Она уже перестала раскачиваться, и мы с Тру — вслед за ней, уж очень хотелось послушать очередную фантастическую новость.
— Что там еще? — поторопила ее Тру.
— Этот задавака Бобби что-то задумал, — сказала Мэри Браун.
Ее ненависть к инструктору Бобби зародилась еще прошлым летом. Бобби сам виноват. Однажды Мэри Браун качалась на брусьях вниз головой, а он пошутил:
— Смотрите-ка, кто-то выпустил Мэри Браун из клетки! — А потом положил на землю банан и принялся чесаться под мышками. Впрочем, мне неловко это говорить, но Мэри Браун и вправду похожа на шимпанзе: тощее тельце, длинные руки и приплюснутый нос. Но Бобби не стоило так шутить. Наверное, он в тот день не с той ноги встал.
— А что Бобби задумал? — спросила я. Как ни крути, а Мэри Браун была нашей подругой. Но я не сомневалась, что в ответ услышу страшенное вранье.
— Я подглядывала за Бобби, когда вчера он пошел в будку. Достал всякое из пакета и…
— Ну? И? — подначила Тру.
— Он трогал себя.
Моя голова резко обернулась к Мэри Браун:
— Как это?
— Сама знаешь, как это. Как Риз Бюшам вечно делает. — И Мэри Браун показала, положив ладонь на передок своих шортов.
Тру откинулась назад на качелях, едва не задев землю волосами.
— Так что в пакете-то было?
Я-то знала, что Тру не верит Мэри Браун, а спрашивает, чтобы доставить ей удовольствие. В этот миг Бобби, должно быть, почувствовал мой взгляд, потому что вдруг обернулся и посмотрел прямо на меня.
— Он вынимал из пакета всякое-разное и раскладывал на верстаке, а потом разглядывал, будто сокровища какие, — продолжала Мэри Браун.
— И что за сокровища? — спросила я.
Бобби сложил скакалку и двинулся в нашу сторону.
— Ну, там окошко совсем пыльное, я не разглядела, но мне показалось, там ботинок был.
— Какой еще ботинок? — Внутри вдруг неприятно засосало.
— Тенниска.
Мною будто выстрелили с тех качелей, я подскочила к Мэри Браун:
— Только без шуток. Ты точно в этом уверена?
Она кивнула:
— Точно. И наволочка от подушки. А теперь захлопни рот, он идет сюда.
Прямо тогда и следовало кинуться со всех ног к дому мистера Дэйва, позвонить в полицейский участок и сказать, что я знаю, кто убийца и насильник. Но с другой стороны, я по горло была сыта советами обуздать воображение — может, и Мэри Браун тоже? Все только и дразнятся: врушка, болтушка, зеленая лягушка. Что, если Мэри Браун опять завралась?
Я снова забралась на качели, чтобы хорошенько все обдумать. Бобби остановился на полпути к нам и пил из фонтанчика. А мне вдруг стыдно стало. Бобби ведь отличный парень, даже если сегодня и встал не с той ноги. У каждого бывают неудачные дни. Бобби всем нам был замечательным другом, всегда такой аккуратный и опрятный. Нет, Мэри Браун просто все придумала.
— А ты правда-правда в этом уверена? — спросила я.
Мэри Браун только что рассказала нам историю про падре Джима и мистера Гэри, а уж это ложь так ложь. Падре Джим и Гэри Галецки? Хотя ведь падре наряжался в белое платье с оборочками и в туфли на каблуках. И мистер Гэри такой безволосый, и голос у него тонкий. По словам Вилли О’Хара, все сладкие булочки такие. Его мама знавала многих сладкобулочных, которые все как один — служители искусства. Вилли тогда еще добавил, что сладким булочкам ужас как цветы нравятся. Ой-ей. Мистер Гэри обожает цветы… И падре Джим тоже! Да он весь двор у себя засадил цветочными кустами. Ох! Надо срочно поговорить с Этель.
— Ты ведь не выдумала, а? Насчет Бобби? — спросила я, одним глазком приглядывая за Бобби, который снова направился в нашу сторону.
— Не-а. И про падре Джима с Гэри Галецки тоже не выдумала. Отправляйся к Этель и спроси у нее.
Бобби был уже в сотне футов от нас. Ну как можно подумать, что Бобби — с его кудряшками, как у мальчика-певчего из церкви, — хранит в будке теннисную туфлю Сары Хейнеманн? И наволочку — ту самую, в которой он сграбастал меня на заднем дворе Фацио? Никто нам не поверит. Я бы точно не поверила. И уж точно мистер Дэйв не поверит, а я ведь хочу начать с верного хода, не заставлять его пожалеть о том, что он пустил нас с Тру пожить к себе. Ведь если он передумает, куда нам деваться? Да и мама разозлится.
— Как дела-делишки, милые детишки? Кто-то хочет сыграть в тетербол? — спросил Бобби, останавливаясь перед нами. — Или, может, предпочитаете покачаться на брусьях? — Ухмылочка в сторону Мэри Браун.
— Э-э… спасибо, — ответила Тру. — Мы как раз обсуждали, не сходить ли в зоосад.
Бобби такой красивый. Прямо о-ля-ля, как выражается Тру. Он окинул нас по очереди немного странным взглядом и сказал:
— Ну, может, когда вернетесь?
— Было бы здорово! — ответила я.
— Договорились. Еще увидимся.
— Господи, как я его ненавижу, — сказала Мэри Браун, едва Бобби отошел. — Вылитый удав, весь холодный и склизкий. А вы знаете, в Африке удавы такие огромные, что запросто ребенка могут заглотить. Целиком.
Я вздохнула, снова засомневавшись в правдивости Мэри Браун.
— Врешь ты все.
— А вот и не вру!
— А вот и врешь.
Мы втроем спрыгнули с качелей и направились в конец площадки сквозь зыбкие волны жаркого воздуха, прямо как в фильме про французский Иностранный легион, который мы с Тру видели в кинотеатре «На окраине».
— А вот и не вру!
— А вот и врешь!
Всю дорогу до парка я думала, что нам не следует туда идти. Мистер Дэйв предупреждал за завтраком, чтобы мы держались подальше от зоосада, но я так соскучилась по Сэмпсону и просто невыносимо, отчаянно хотела его увидеть. Всю дорогу Тру пинала камешек — верный признак, что сестра в задумчивости. Мэри Браун то и дело отбегала заглянуть в чужие окна, а потом вернуться и доложить. Ничего интересного она не увидела, если не считать слегка оголившегося зада мистера Блютона, который менял покрышку.
По дороге к Сэмпсону мы остановились у пары других клеток. Лев совсем облез и походил на шавку. Слоны не шевелились, так что казались какими-то искусственными. Бегемоты попрятались в воду, и я не могла их винить: еще чуть пожарче — и на моем лице легко можно будет зажарить яичницу.
Вскарабкавшись на наше любимое дерево напротив вольера с Сэмпсоном, я почувствовала такое облегчение, что вижу наконец Короля, даже едва не расплакалась. Сэмпсон лежал на спине и мычал песенку, но обернулся, когда я позвала его по имени, и по орангутановым глазам я поняла: он скучал никак не меньше, чем я. Сэмпсон тут же сунул в пасть мохнатую ножищу. Я рассмеялась. У Сэмпсона все те же заботы, и, глядя на нежащегося в тенечке орангутана, я мигом забыла и о Бобби, трогающем себя за стыдное место, и о мистере Гэри с падре Джимом, которые умчались в Калифорнию к другим сладким булочкам, и даже о том, что мистер Дэйв с Тру еще намаются друг с дружкой.
И тут Тру закурила сигарету, выдула свое знаменитое французское колечко и сказала:
— Девочки… У меня идея.
Глава 34
Вечером опустилась духотища. Жара не желала спадать, как бывает после включения фонарей. Воздух пах свежескошенной травой и макаронами с сыром, которыми накормил нас на ужин мистер Дэйв. Этель принесла на десерт медовую коврижку.
Мы с Мэри Браун и Тру расселись на ближайших к будке брусьях и, снова обмозговывая детали гениального плана Тру, наблюдали за тем, как на дальней скамейке Бобби режется в шашки с Мими Бюшам.
Всякий знал, что дверь в будку запирают на замок, но замок на цепи, которая не слишком туго натянута, так что можно приоткрыть дверь. Не очень широко, конечно, ребенок не сумеет протиснуться. Обычный ребенок не сумеет. Но ребенок по имени Мэри Браун, самая тощая девочка на планете, сумеет. Она не сомневалась, что заберется в будку, стырит тот пакет, и тогда мы отнесем его в полицию.
— Готовы? — спросила Мэри Браун, плавно сползая с брусьев.
Еще одна причина, отчего мы с Тру так ее любим, — она-то всегда готова. На что угодно. Позвонить в дверь и убежать. Или пнуть колесо грузовика на «Автозаправке Филларда» и с громким стоном повалиться на землю, будто ее переехали. А однажды, притворившись калекой, она бродила по домам и клянчила мелочь, на которую накупила потом лакричных конфет. Нет, наша Мэри Браун — точь-в-точь обезьянка! Очень смелая обезьянка.
— Готовы, — выдохнула я.
Но это была неправда. Я боялась не меньше, чем когда карабкалась на самый верх вышки над бассейном и медленно шла по шершавой доске к краю. И там застывала, качаясь, в ожидании мужества, которое пришло бы спихнуть меня вниз. Даже не могу сказать, сколько раз я спускалась затем по ступеням, низко свесив голову от стыда.
Но сегодня я не собиралась сдаваться. И только гадала: с чего бы? Может, дело в том, что мистер Дэйв оказался моим отцом? Или в том, что маме стало лучше? Или все вместе смешалось в одной большой миске, чтобы испечь потом другую, храбрую Салли О’Мэлли? А может, я просто взрослею?
Над площадкой зажглись огни. Самые яркие фонари — их включают, когда местные мужчины решают сыграть в софтбол. Сегодня Пекари из «Хорошего настроения» вышли против Полицейских. Мистер Дэйв тоже участвовал. Играл на третьей базе. И все мужчины кричали друг дружке всякие бейсбольные словечки: Давай, Гил, давай же, подай разок. А также: Он жмется, Хэнк, отбей подальше. Давай, Джек. Покажи свою подачу. Громкий свист и вопли с трибун. Я перестала сомневаться, что Пекари победят, когда ветер поменял направление. Запах шоколада должен вселить в ребят из Пекарни победную уверенность.
Я спрыгнула с брусьев, смотрела на мистера Дэйва в красно-полосатой форме и представляла, как домчусь до третьей базы и скажу ему, что Мэри Браун видела пакет в нашей будке.
Подслушав мои мысли, Тру надменно посоветовала:
— И думать забудь, плевать я хотела, что он твой папочка; он не поверит и дико разозлится, если ты пристанешь к нему во время игры.
— А кто твой папочка? — полюбопытствовала Мэри Браун.
— Расмуссен ее папочка, — объяснила Тру.
Мэри Браун кивнула, как порой Этель, очень так задумчиво кивнула:
— Ага, так я и знала.
— Ничего ты не знала, Мэри Браун. Самое дурацкое твое вранье! — обозлилась я.
— А вот и знала. Христа ради, Салли, а на кого ты похожа? На Хелен Келлер? Да вы с ним как одно лицо!
Я оглянулась на поле. Мэри Браун права. Мистер Дэйв присел на третьей базе и ударял кулаком в перчатку. Он сказал нам с Тру, что мы можем прий ти посмотреть игру, но ни в коем случае не должны уходить с площадки. Эдди Каллаган играл за Пекарню, потому что его папа работал там, пока не затянуло в пресс для теста, так что Нелл сидела на трибуне у поля и махала Эдди рукой каждые две минуточки. Жалко, что мама не смогла прийти посмотреть на мистера Дэйва. Он выглядел таким красивым, с кожей цвета меда, волосами почти такими же светлыми, как у меня теперь, и с правильным количеством мускулов — не так, словно он готов кого-то исколошматить, а так, что хочется позвать его на помощь, когда нужно передвинуть мебель. Мама стала бы намного здоровее, только посмотрев на него. Могу поспорить, они в итоге поженятся и отправятся в медовый месяц куда-нибудь, куда им обоим всегда очень хотелось попасть, — может, на знаменитый Майами-Бич в штате Флорида, — и когда они вернутся домой, тогда…
Мэри Браун пихнула меня:
— Мечтать не надоело? Пора идти на дело! — И загукала, как одна из тех шимпанзе, что живут на Обезьяньем Островке. — Она поэт, но этого не знает, и только ноги могут подсказать. Такие длинные, нельзя и передать. Хи-хи-хи.
Она-то вовсе не казалась испуганной. Честно говоря, я вообще не видела Мэри Браун настолько довольной с тех самых пор, как прошлым летом она случайно устроила тот пожарище на Норт-авеню.
— Тру, убедись, что Бобби сидит на скамейке, а если встанет, крикни что-нибудь погромче, типа: «О, привет, Бобби, давай сыграем в тетербол», лады?
Высунув кончик языка, моя сестра буквально вонзила глаза в Бобби.
— Он на моем радаре. — На Тру была енотовая шапка Дэйви Крокетта, и волнистые рыжие волосы цвета незрелой клубники падали до середины спины. — А что насчет Барб?
— Она сегодня выходная. Я узнавала, — ответила я.
И повернулась к Мэри Браун, чтобы сказать: «Ну все, пошли», но та уже вовсю пилила к будке. Я еще разочек посмотрела на мистера Дэйва и подумала: как же он будет мною гордиться, если Бобби и вправду окажется убийцей и насильником! А если не окажется… Все хорошо, что хорошо кончается.
Мэри Браун скрылась за углом школы. Я еще раз оглянулась на Бобби, который наклонился над шахматной доской — вплотную к Мими Бюшам. Ее руки он накрыл своими ладонями.
— Салли! — громко прошептала Тру.
Я оглянулась на нее, и сестра выставила два больших пальца.
Я тоже выставила пальцы и поспешила за Мэри Браун. Бедное мое сердечко. Оно даже не столько билось в груди, сколько прыгало как бешеный зверь. За углом было довольно темно, потому что там нет фонарей, не считая моргающей лампочки над дверью будки. Пока мои глаза привыкали к темноте, я прижала лицо к кирпичной стене школы, надеясь, что та окажется прохладной, да только не вышло: стена была теплой и пахла как раскаленный асфальт.
— Мэри Браун! — позвала я.
Та громко зашептала в ответ откуда-то слева, из-за дерева:
— Пошли, времени у нас почти в обрез. Уже восьмой иннинг. — Она подбежала к двери будки и поманила меня к себе.
Внутри горел свет. Лучик пробивался из щели и лежал на траве как длинный осколок стекла. Мэри Браун показала на дверь. Наш план состоял в том, что мне придется тянуть дверь изо всех сил, чтобы открыть пошире, потому что я сильная из-за работы в саду. Я покрепче ухватилась за край двери и потянула. Мэри Браун встала боком, просунула правую ногу внутрь и понемногу втянула почти всю себя целиком, но вдруг прошептала:
— Еще! Еще тяни. Голова не лезет.
Я закрыла глаза, чтобы сосредоточиться, и напрягла все силы, приговаривая, что я смогу, я справлюсь… И тогда меня объявят Королевой Площадки. Я тянула, и тянула, и тянула, и это, похоже, сработало, потому что, когда я опять открыла глаза, Мэри Браун сказала:
— Так и знала, что худоба когда-нибудь пригодится. — И просочилась в щель.
Ни один другой человек на Земле не сумел бы.
Я прислушалась, но не услыхала ничего опасного. Голоса Тру слышно не было. Приникнув к щелке, я следила за Мэри Браун: вот она прошла мимо большой коробки с красными мячами и мимо связок бит с перчатками. Двинулась сразу к длинному деревянному верстаку, где чинили все то, что ломалось на детской площадке, и где, по ее словам, Бобби открывал тот пакет. Мэри Браун осмотрела шкафчик, заглянула за лопаты. Стащила крышку с зеленого железного бака, в котором лежали банки с краской. Повернулась ко мне, подняла тощие плечи до самых ушей и опустила. Пакета нигде не было видно. Может, Бобби сообразил, что она подглядывала, и успел избавиться от него? Или, может, на этот раз Мэри Браун действительно соврала?
Я просунула руку в щель двери и ткнула в угол, где она еще не смотрела:
— А там?
Мэри Браун шагнула туда, подобрала что-то. Всего-навсего старая ржавая цепь от качелей. Она обернулась ко мне и скроила гримасу: дескать, а теперь что? Я показала на коробку с красными мячами. Перед глазами вдруг возникла картинка: Бобби подбрасывает на ладони мячик, любимая его привычка.
— Поройся поглубже.
С бейсбольной площадки донесся гул голосов. Два, четыре, восемь — мы похлопать просим! Игра окончена. Площадка закрывалась. В любую минуту Бобби явится, чтобы выключить прожекторы над площадкой.
— Скорей! — прошипела я.
Мэри Браун чуть ли не с головой зарылась в бак с мячами и вдруг вскинула руку. А в руке зажат пакет! С улыбкой до ушей Мэри Браун шагнула к двери. И тут кто-то тихо присвистнул у меня за спиной.
Я ощутила на шее чье-то жаркое дыхание. Как ему удалось улизнуть от Тру?
— Ты не меня ищешь, Салли? — дружелюбно спросил Бобби. Положил ладони мне на плечи и развернул к себе лицом. — Вот забавно, ведь я тоже тебя ищу.
Я опустила глаза, а на нем уже не оказалось тех белых теннисок. На ногах у Бобби были черные ботинки на резиновой подошве. И носки в розовые с зеленым ромбики. На этот раз Мэри Браун не врала.
Бобби Фитцпатрик оказался убийцей и насильником.
В руке у него были ключи от замка на будке. Если не предупредить, Мэри Браун угодит прямо в лапы убийце. Поэтому я представила, просто представила, что Бобби остался тем парнем, которым я всегда его считала. Моим другом. Учителем шахмат.
— Ох, Бобби! — воскликнула я и рассмеялась. — Как ты меня напугал. Я думала, смогу пролезть в будку и отмотать немного тех трубочек. Хочу сплести для мамы браслетик, потому что она возвращается домой из больницы, ты был занят, играл с Мими в шашки, и… эй, а как насчет партии в шахматы?
Но Бобби не слушал.
— Где же твоя подружка Мэри Браун? Я видел, вы вместе с площадки испарились. Куда же она подевалась?
Бобби заглянул в будку, и по его лицу расплылся свет, озаривший его, словно ангела небесного. Я затаила дыхание и взмолилась: дорогая Мария Богоматерь, помоги своей тезке! Казалось, прошло немало времени, пока Бобби не отстранился от щели.
— Где она, Салли?
— Ее тут нету. Домой убежала. Она…
Бобби ухмыльнулся:
— Какая досада. Я придумал что-то особенное, а теперь она пропустит все веселье.
— Ой, Бобби, мне ведь тоже пора. Меня Тру ждет…
Я попятилась, но Бобби ухватил меня за запястье:
— Ну, по правде говоря, Салли, уже не ждет. Кажется, Тру упала с брусьев и сейчас отдыхает.
— Тру! — крикнула я и попыталась вырваться, но Бобби притянул меня ближе.
Между передними зубами у него зияла щель, которой я прежде не замечала. Он приподнял мою косу, провел ее кончиком по своим губам.
— Я просто с ума схожу от блондинок. И от этих зеленых глаз. Объедение. — Бобби издал странный звук, как кошка Кенфилдов, когда погладишь ее по животу. — Нынешняя ночь у нас с тобой будет особенной. Я планировал ее все лето. Ты готова?
Я хотела закричать, но вышло что-то вроде «ахххх…». Как в том сне, где меня ловит Тварь из Черной Лагуны. Тихий хрип, который никто и не слышит, кроме меня самой. И Бобби.
— Это значит «да»? — промурлыкал он и пробежал ладонями вниз по моей блузке, к шортам. Дыхание прерывистое, совсем как после игры в тетербол. А потом Бобби обнял меня обеими руками, и я узнала чувство, исходившее от его тела, как в ту ночь во дворе у Фацио, когда он гнался за мной с наволочкой на лице. То чувство, которое я посчитала страхом. Только это не страх… Теперь-то я поняла. Бобби был оживлен. Как люди оживляются, когда хотят чего-то долго-долго, а потом наконец получают, что хотели.
Бобби притянул меня к груди и держал в объятиях, его теплое дыхание пахло молоком, как у младенца. Живи вы в одном из тех домов на другой стороне улицы и наблюдай за нами из окон, вы бы подумали: какой замечательный инструктор этот Бобби Фитцпатрик, как хорошо он заботится о детях. Бобби придвинул губы к моему уху, его порхающий язык прошелся внутри, а я только об одном и могла думать: о том, что Мэри Браун рассказывала про удавов, — они способны заглотить ребенка целиком.
Уголком глаза я видела, как Мэри Браун выбралась из темной тени под верстаком и тихо отворила грязное окошко прямо над ним. Пакет все еще у нее? Если она его забыла, бесполезно бежать к мистеру Дэйву с известием, что Бобби Фитцпатрик — убийца и насильник… Не поверит он тощей врушке Мэри Браун.
Бобби отстранился, погладил меня по затылку, пощекотал шею, а потом крепко ухватил за загривок. Вторую руку сунул в щель двери будки, дернул там за что-то, и на площадке стало темно. Потом он притиснул меня к задней стене школы, где еще одна калитка на улицу. Я попробовала вырваться, и он сказал другим, глухо урчащим тоном:
— Если не перестанешь дергаться, я придушу тебя прямо здесь, прямо сейчас, и знаешь, что я сделаю потом? — Бобби перетащил меня через Пятидесятую улицу, на задний двор Гриндерсов, притиснул к гаражу всем своим телом, и что-то твердое в его штанах уперлось мне в грудь. — Потом я вернусь за Тру.
Я мигом прекратила пихаться. Тогда он сказал своим обычным, приятным голосом:
— Прости, что так спешу сегодня, Салли. Обычно я отвожу своих невест в мое заветное местечко за городом, чтобы мы могли провести вместе чуть больше времени, и лишь потом веду их к лагуне, после того, как мы узнаем друг дружку поближе. — Он поволок меня через другой двор, где к нам, натянув цепь, с лаем кинулась черная собака. Бобби пнул ее по голове. Коротко взвыв, собака умолкла. — Знаешь, куда мы идем? У тебя три догадки. — Ноги у меня сделались такими тряскими, что я не могла идти, и Бобби, устав волочить, подхватил меня на руки. — Мы идем в один из твоих любимых уголков.
Я чувствовала, как ходят ходуном его мускулы под рубашкой, когда он нес меня мимо «Аптеки Питерсона». В тускло освещенном окне я увидела Генри — он сидел за прилавком носом в книжку. Я попыталась позвать: «Генри!.. На помощь…» — но Бобби зажал мне рот ладонью, пахшей чем-то вроде автомобильной смазки, и хрипло, между двумя выдохами, сказал:
— Тебе что, нравится Генри, этот маленький гомик? — И тон у него был такой, будто я оскорбила его в лучших чувствах. — Тебе ведь Генри не нравится больше, чем Бобби, правда?
— Нет, Бобби. Нет. Ты нравишься мне больше, чем Генри. Больше всех на свете.
Сама не знаю, почему так сказала. И тут же заплакала.
— Ну, нет-нет, не надо, — ласково забормотал Бобби. — Мы здорово повеселимся, а потом ты сможешь увидеться со своим папой. И я принесу розовые гвоздики на похороны, совсем как для Джуни и Сары.
Он потрепал меня по щеке, потерся своим носом о мой, как раньше делал папа, и стал напевать что-то в унисон с полицейской сиреной, которую я только сейчас услыхала.
— Я знаю, о чем ты думаешь, любимая, не надей ся попусту. Бобби слишком умен для этих копов. Уж поверь. Никто ничего не узнает. — Он уже почти бежал, словно у него второе дыхание открылось. Мы были почти у лагуны. — О, смотри-ка, вот мы и пришли. Наш райский уголок, прибежище любви.
Он перебежал через улицу. Сирена завывала все ближе, и я принялась молиться: пожалуйста, пожалуйста, пусть Мэри Браун не забудет пакет, пусть отыщет мистера Дэйва. Если у нее не получится, то, покончив со мной, Бобби вернется в будку, перепрячет пакет, и тогда никто его не поймает. А люди станут слушать рассказ Мэри Браун и качать головой, решив, что она опять завралась. А Тру… что он сделал с моей Тру?
Тихо посмеиваясь, Бобби нежно уложил меня на траву под деревьями неподалеку от входа в зоосад. Рядом с красными лодками, но вдали от уличных фонарей. Я вдыхала запах влажной земли, слышала, как плещет вода о валуны, а откуда-то доносилась близкая музыка и девичий смех. Бобби стянул рубашку через голову, а затем стал дергать кожаный ремень и закряхтел, когда тот не пожелал поддаться. Он нагнулся высвободить пряжку, и в голове моей зазвучал голос… Пора, Сэл, пора. Лети как ветер. Я вскочила, вскарабкалась на ограду, спрыгнула и помчалась по дорожке, ведущей в зоосад, — и все это прежде, чем Бобби успел опомниться. За спиной о прутья забора брякнули тяжелые ботинки, послышалось пение: «Красный свет, зеленый свет, привидений нет как нет». И раздался смех — высоко-высоко, будто это сирена оповещения о воздушном налете.
Я не могла уже бежать с такой быстротой. Устала, и в груди все горело, обжигало, и хотелось остановиться, передохнуть, но я знала, что Бобби совсем близко. И тогда я прыгнула вбок с дорожки, к клеткам с животными. Он не знает зоосада, как я, и точно — я услыхала, как Бобби споткнулся о рычаг старого канализационного люка, торчащий из асфальта перед логовом медведей, вскрикнул «черт!», но тут же снова застучали шаги, и меня обдало вонью, и голос Бобби сказал из темноты, близко-близко: «Стой! Не то, когда догоню, тебе будет так больно, как никогда в жизни, мелкая ты шлюшка». Голос низкий и грубый, нечеловеческий, и тут мне стало окончательно ясно, что Бобби Фитцпатрик — тот самый дьявол, что прятался в деталях. И что он непременно сдержит слово. Ведь никто ничего не знает. Сирена и та притихла.
Но я не сдалась. Я слышала и чуяла каких-то животных, шевелившихся в черноте. Пробежала мимо львиной клетки, мимо нашего с Тру любимого дерева и перепрыгнула через черный железный заборчик перед вольером Сэмпсона. Я знала, что в такую жару служители не уводят животных спать в домики. Король там, в темноте. Он ждал меня. И я заскользила по траве к краю рва.
Бобби почти настиг меня. Я обернулась, и он сказал: «Попалась!» Бобби прыгнул, и воздух скатывался с его тела, как с самолета на взлете, и руки у него стали как крылья. Замерев, я ждала тот самый миг. И в последнюю-распоследнюю секундочку быстро нагнулась, так что Бобби перелетел через меня. Это случилось так медленно, словно там, в воздухе, его держала какая-то невидимая сила. С улыбкой он потянулся ко мне, и тут сила, что держала его, вдруг ослабла, и Бобби — с прекрасным, просто изумительным грохотом — рухнул в ров, прямо к Сэмпсону.
Какое-то время после этого все было тихо, только дыхание мое пыхтело. А потом снизу донеслись шуршащие звуки, и мой Король запел ангельским голосом… Давно я не хожу на танцы.
Глава 35
Той же ночью нас всех отвезли в больницу. На виске у Тру была шишка размером с Айову — Бобби подкрался к ней сзади, стянул с брусьев и ударил. Царапины оставили колючки на кустах, в которые он затащил ее. У меня шея была в синяках от его пальцев, я тоже где-то поцарапалась, но доктор Салливан объявил, что до свадьбы заживет.
Настоящей героиней в ту ночь стала Мэри Браун, потому что она все-таки прихватила пакет перед тем, как выбраться через окошко из будки. А в пакете лежали и наволочка, и медальон Джуни, и тенниска Сары, и пучки срезанных светлых волос, и какие-то вещи других девочек, о которых никто и слыхом не слыхивал. Теперь у полиции было доказательство, что Бобби — убийца и насильник. Я пообещала Мэри Браун, что наготовлю для нее столько сэндвичей с ореховым маслом и зефиром, сколько она успеет захотеть до самого конца своей тощей жизни. Она пришла в больницу навестить нас, хотела убедиться, что с нами все нормально, и лягнула шефа полиции Д’Амико, когда тот пытался ее остановить. В итоге он сам доставил ее к нам в патрульной машине. Это не настолько классно, как пожарная машина, но все-таки очень-очень классно. В отделении неотложки доктор Салливан, осмотрев меня и Тру, заодно поглядел на Мэри Браун и сказал:
— Этот ребенок крайне истощен.
Когда мистер Браун пришел за дочкой, доктор Салливан сказал ему что-то, и мистер Браун закивал. А Мэри Браун перед тем, как уйти, подошла к неотложной койке, на которой мы с Тру лежали вдвоем, и прошептала:
— У доктора Салливана изо рта пахнет, как из львиной клетки. — Оглядела голову Тру и сказала: — Говорила же я вам, что Бобби — мерзавец. Может, хоть в следующий раз сразу мне поверите.
Я решила, что постараюсь изо всех сил… но, похоже, все равно не поверю. Вранье для Мэри Браун — то же, что для меня — чтение. Самое важное в жизни. Может, миссис Голдман об этом самом и говорила. О способе сбежать в воображаемую жизнь, чтобы можно было отправиться в страну, заваленную шницелями.
— Завтра играем в «Красный свет, зеленый свет»? — спросила Мэри Браун.
Мы с Тру хором ответили:
— Само собой.
А потом пришла старушка-нянечка и забрала нас с Тру в мамину палату. В основном, мне кажется, это мистер Дэйв решил отправить нас в больницу, чтобы сестрички О’Мэлли могли побыть с мамой, потому что он сам не привык пока к роли отца семейства. Это и впрямь требует определенной практики. Так что мы с Тру улеглись около мамы с двух сторон, и она обняла нас. Мама выглядела получше. Уже не такая прозрачная.
Она издала один из своих идеальных вздохов и сказала:
— Стоило мне ненадолго отлучиться, и, милые Иисус, Мария и Иосиф, во что же вы сразу вляпались, сестрички О’Мэлли?
Я рассказала маме про план Тру поймать Бобби Фитцпатрика. Мама внимательно слушала, ахая время от времени. Мне хотелось сказать: знаешь, мама, эта твоя игра в «Фамилии» — может, ты ошибалась? Потому что ирландский парень пытался убить меня и снасиловать, а английская девчонка спасла. Но не стала расстраивать маму, промолчала. Хотя про себя решила, что потом обязательно скажу, когда мама совсем выздоровеет, потому как это важные сведения и наверняка пригодятся ей в жизни.
Затем Тру писклявым голосом рассказала, что случилось после, когда Бобби утащил меня с площадки.
— Мэри Браун вылезла в окно, нашла Расмуссена и показала ему тот пакет, а это было жуть как непросто в такой темноте. И еще она рассказала, что Бобби похитил Салли и что он столкнул меня с брусьев, и тогда копы нашли меня за теми кустами и разбудили чем-то, ой, ну и воняло же, и я рассказала им, куда идти, и Расмуссен побежал к своей машине и включил сирену, а все остальные рванули к другим машинам с бейсбольными битами наготове. — Тут Тру сделала большой вдох. — Он нашел Салли перед вольером Сэмпсона, прямо там, где я и советовала искать.
Услыхав про Сэмпсона, мама заулыбалась. Она знала, что я к нему чувствую и почему. Раньше это вроде как бесило ее, но в ту ночь мама сказала:
— Похоже, сегодня Король присматривал за тобою, детка.
Я не стала говорить, как папин голос посоветовал мне лететь как ветер. Решила, что это останется между нами.
А тут в палату ворвалась Нелл. И Эдди. И уж конечно, мистер Дэйв. Когда мама уснула и старушка-нянечка стала всех выгонять, мистер Дэйв отвез нас с Тру в наш новый дом, набрал ванну и налил туда пены «Эйвон», которая пахнет ванилью. А пока Тру плескалась, распевая песню про девяносто девять бутылочек пива, мистер Дэйв усадил меня рядом с собой на крыльце. Мы сидели рядышком на верхней ступеньке, касаясь друг друга ногами. Он пах прямо как свежевыжатый апельсин. И это напомнило мне про мистера Гэри и апельсиновое дерево, росшее на заднем дворе его калифорнийского дома.
— Мэри Браун говорила, падре Джим и мистер Гэри влюбились друг в друга и сбежали в Калифорнию, чтобы там пожениться. Это правда? — спросила я.
С минуту мистер Дэйв молчал, а потом ответил:
— Угу… правда.
— Думаете, это хорошо?
— Не уверен. А ты что скажешь?
Я ненадолго задумалась.
— Думаю, это хорошо — быть рядом с тем, кого любишь. Даже если остальные думают, будто это не хорошо.
Мистеру Дэйву, должно быть, что-то в глаз попало, потому что он вдруг вытащил носовой платок и довольно долго промокал им лицо.
— Знаешь, ты сегодня очень храбро себя повела. Но в следующий раз, когда потребуется, чтобы кто-то тебе поверил, приходи ко мне.
— Не вела я себя храбро, — с грустью сказала я. — Я до смерти перепугалась.
— Храбрость не значит, что тебе не страшно, Салли. — Он погладил мою косу. — Храбрость — это когда тебе страшно, но ты все равно делаешь то, что нужно. Страшно бывает всем.
— И вам?
— Да. Я очень, очень долго боялся, — он стиснул мне плечо, — но теперь страх ушел.
Сверчки прямо с ума сходили, и наша новая соседка Этель напевала какую-то тихую песню, намывая тарелки после ужина. Я надеялась, что миссис Галецки решила, это хорошо, если ее сын влюбился в падре Джима. Я почти не сомневалась, что так и было. Миссис Галецки любила своего «заморыша» Гэри, а уж если любишь кого-нибудь, полагается любить несмотря ни на что, так ведь? Даже если он сладкая булочка или, как Этель выразилась, «королева хоть куда».
— А что теперь будет с Бобби? — спросила я.
Мистер Дэйв какое-то время смотрел на небо, а потом тихо сказал:
— Он умер, Сэл. Мы думаем, Бобби сломал шею при падении. — И покосился зелеными глазами, точь-в-точь как мои. — Сэмпсон утащил Бобби на крышу вольера и не выпускал, словно берёг его для нас. Мистеру Брауну пришлось выстрелить усыпляющим дротиком, чтобы санитары «скорой помощи» смогли достать тело Бобби.
Сэмпсон. Ты великолепен!
Я совсем не жалела Бобби. Получил то, что заслужил. Ну, может, мне все-таки было немножко жалко его, потому что это благое дело — жалеть, но потом я вспомнила, как он рычал на меня, как он убил и снасиловал Джуни и Сару и что он сотворил с головой Тру, и я подумала: да катитесь вы к черту, благие дела.
Мы еще немного посидели, уже молча. А затем мистер Дэйв мягко обнял меня и притянул к себе. Он впервые сделал такое, и это ничуточки не показалось мне странным.
Позже, когда и я отмокла в ванне, мы с Тру устроились под простынями, пахшими солнечно-сладко, в нашей новой кровати с деревянным изголовьем, и белым ворсистым покрывалом, и кое-чем еще в комнате, о чем я всегда мечтала, и теперь поражалась, как это мистер Дэйв догадался. Там был аквариум с маленьким сундучком золота, наполовину закопанным в нереально розовый песок, и с пропастью похожих на пескариков рыбок под названием «рыба-ангел», они у меня самые любимые. Ужас как похоже на аквариум Дотти, так что мистер Дэйв, должно быть, купил его в «Файв энд Дайм». Я терла Тру спину, смотрела на аквариум и думала про Дотти — как ей, наверное, грустно без мамы с папой. И как им грустно без нее, и почему, ну почему люди порой делают то, что делают?
— Вот что я называю «выдающееся лето», верно, Сэл?
— Верно, Тру.
— А знаешь, Расмуссен папе и в подметки не годится.
— Знаю.
— Даже близко.
— Даже близко.
По соседству с нами Этель с Рэем Баком выбрались на закрытую веранду. Они слушали какую-то джазовую музыку, и смеялись, и время от времени звенели льдом в тех высоких металлических стаканах.
— Спокойной ночи, Сэл, — зевнула Тру.
— Спокойной ночи, Тру.
В одну из тех летних ночей моя сестра перестала сосать во сне палец, но по-прежнему обнимала куклу. Пока дыхание засыпающей Тру выравнивалось, мы с куклой Энни смотрели, как рыбки снуют взад-вперед в мерцающем аквариуме над золотым сундучком, не подозревая, что лежит внутри. Той ночью мне приснилось, что я нашла клад с сокровищами.
Глава 36
После того как фотографы из газеты приходили всех нас щелкать, а доктор Салливан избавил Мэри Браун от ленточного червяка, который жил у нее внутри, отчего, как выяснилось, она и была такой тощей и про что она рассказывала во всех противных подробностях, пока мы с Тру не смогли больше этого выносить ни единой лишней минуточки, остаток летних дней разворачивался в точности как и раньше — до того, как все начали запирать свои двери.
Дети с Влит-стрит снова играли в «Красный свет, зеленый свет» — даже Быстрюга Сьюзи Фацио, решившая, что не такая уж она и взрослая. Сидя на крыльце дома О’Хара, она рассказала нам фантастическую историю про инструкторшу Барб и своего брата Джонни, которых якобы застукала на чердаке за игрой в «Найди салями».
Мы пару раз сходили к лагуне, и Тру пряталась под плакучей ивой, а я рыбачила. Сестра бросила курить, потому что у нее кончилась пачка «L&M». Мама учуяла сигаретный дым и сказала, что если еще хоть раз поймает Тру за курением, задымится противоположная часть ее тела. Ее derriere. Сидя с удочкой совсем по соседству с красными лодками, которые парк собирался выкинуть, потому что они сгнили, я думала про Сару и Джуни. Особенно про Джуни, ведь будь она жива, то стала бы нам с Тру кузиной, а так у нас никаких кузин нет и уже никогда не будет.
Тру все никак не может приспособиться к мистеру Дэйву, хотя оба обожают щеночка Лиззи, а ее, как я узнала, назвали в мою честь, ведь мое полное имя Салли Элизабет О’Мэлли. Но знаете, что сделал мистер Дэйв, хоть Тру и изводит его? Он съездил к писающему куда попало Джерри Эмберсону и привез Грубияна. И теперь Грубиян вовсю приударяет за Лиззи.
Я и оглянуться не успела, как август подошел к концу. И очень скоро сестра Имельда встанет перед нами в классе с линейкой в руке. Так что в промежутках, когда я не болталась с Тру или Мэри Браун, не сидела на заднем дворе с мамой, читая ей вслух книжку «Таинственный сад» (которую от души рекомендую всем и каждому), не помогала мистеру Дэйву пропалывать сорняки и поливать, я закончила свое сочинение.
Как я провела лето, творя благие дела
Сочинение Салли Элизабет О’Мэлли
(часть 2)
На Влит-стрит этим летом сотворили множество благих дел. Мистер Дэйв свозил меня и Тру на Ярмарку штата, и мы ужасно веселились. Шоу Уродцев в этом году замечательное, там была женщина, которой стукнуло 106 лет, и человек, у которого нет ног, но он умеет ходить на руках. Тру долго беседовала с самой толстой в мире дамой, которая оказалась распрекрасной женщиной, и звали ее Вира из города Молин, штат Иллинойс, она рассказала, что уже родилась толстой, а потому решила, что толщина будет ее работой. «И разве это не самая лучшая профессия на свете?» — спросила Тру потом, когда мы ели сахарную вату. Так что, кажется, Тру передумала становиться роликовой официанткой в «Млечном Пути», или чревовещательницей, или Сэлом Минео и теперь хочет стать самой толстой в мире дамой. Мистер Дэйв выиграл для нас по одинаковому плюшевому мишке, сбивая молочные бутылки. И мы прокатились на «Русских горках», и на «Крутилке», и на «Дикой спирали», и на моей любимой карусели с лошадками. Мистер Дэйв купил нам с Тру коробку пирожных буше, которые пекут на Ярмарке штата и только на Ярмарке штата, а вторую коробку купил для Этель и миссис Галецки. И конечно, мы привезли пирожное маме, которая в конце концов так и не умерла. Что очень хорошо и благоразумно с ее стороны. И с моей тоже (потому что мне страшно, прямо страшно хотелось съесть мамино пирожное по дороге домой с Ярмарки).
Нелл и Эдди собираются сыграть свадьбу, как только Нелл получит диплом в «Школе красоты Ивонны», и оба ждут доставки большого сюрприза, который собираются назвать Элвисом, если это будет мальчик, и Пегги Сью, если девочка[23].
Думаю, мама и мистер Дэйв тоже собираются пожениться после того, как потолкуют с Папой Римским, но не планируют заводить деток. После возвращения из больницы мама провела две недели, отдыхая в специальной комнате, которую мистер Дэйв обустроил в доме. Комната на первом этаже, а не на втором, потому что мама пока слаба, ей нужен отдых, и, возможно, она никогда не сможет снова ходить, говорит доктор Салливан, потому что ноги у нее слишком усохли, но я не верю, потому что он попросту не знает, какая мама упрямая. Окна ее комнаты выходят во двор, где полно солнца и цветов, и особенно много красной герани, потому что это мамины любимые цветы, и мистер Дэйв всегда знал об этом. Мистер Кенфилд приходил навестить маму и принес бумажный сверток, набитый шоколадными батончиками, и сказал, что мы обязательно должны давать маме по одному каждый день, чтобы она набиралась сил и веса, поскольку они вместе ходили в школу. Еще они долго разговаривали, и я думаю, речь у них шла про Дотти.
И еще одно благое дело я сотворила летом — написала письмо Холлу, который убил отца Фрица Джербака пивной бутылкой:
Дорогой Холл,
с прискорбием узнали, что ты угодил в кутузку. Ты не мог бы, пожалуйста, ответить мне и сказать, какое у тебя полное имя? Тру говорит, что Холлитоз, и даже готова проспорить мне катафот с велосипеда.
Спасибо,
Салли О’МэллиМиссис Камбовски обнаружила, что Тру мухлюет с Книжным Червем, но все равно подарила ей абонемент в кинотеатр «На окраине», сказав: се ля ви. Я так и не смогла понять почему. Мэри Браун мы протащили внутрь через запасной выход. «Тинглер» оказался самым страшным фильмом, какой я только видала, а в той части, где Доктор, которого играл очень жуткий Винсент Прайс, сказал нам, что Тинглер сбежал и прячется где-то в кинотеатре, мое кресло задрожало и я как заору во все горло! А Мэри Браун даже не пискнула, и все потому, что она не из тех людей, которые кричат. Тру тоже не завизжала, но так крепко вцепилась в мою руку, что на ней остались следы, которые, думается мне, могут сохраниться и на всю жизнь.
И конечно, мы отправились в зоосад и навестили Сэмпсона, и было забавно, что я не услышала, как он поет «Давно я не хожу на танцы». Может, он просто увидел во всем светлую сторону, потому что зоосад раздобыл для него подружку, которую зовут Лола, и, похоже, они поженятся, потому что у них есть что-то общее. Они проводят немало времени, вытаскивая всякое-разное из шерсти друг у друга.
Мы с Тру даже начали ходить на детскую площадку, где теперь заправляет Барб. Она пару раз упомянула Бобби в разговорах, но потом Тру сказала голосом «кипучей лавы»:
— Не буди спящую собаку.
И Барб никогда больше не вспоминала про Бобби.
Глава 37
В воздухе витал запах чего-то хрустящего, словно листья уже скоро пожухнут и мы глазом не успеем моргнуть, как станем пить подогретый «Овалтин» вместо холодного. Этель отвела нас тем утром в магазин Шустера за новой парой обуви для каждой, а потом к Кенфилдам, к прилавку «Снова в школу», чтобы накупить карандашей, и резинок, и фломастеров. А потом все втроем мы отнесли бабуле немного кока-колы, и та засунула в каждый новенький кожаный ботинок по блестящей золотой монетке, сказав: «Сбереженный пенни — все равно что найденный».
После ланча мы с Тру и Барб сидели на скамейке у площадки, просто наслаждались последним днем каникул. Барб спросила:
— А вы, девочки, готовы к празднику квартала?
Тру облизнула губы и ответила:
— Ага.
Сестра завязала самый последний узелок на своем шнурке и подняла, чтобы полюбоваться. Он был белый с золотым. Мы плели новые шнурки для мамы, чтобы она могла привесить к ним свисток и звать нас всякий раз, когда потребуется, чтобы мы принесли ей что-то такое, за чем не могли сбегать ее усохшие ноги.
— Итак… кто же, по-вашему, станет Королевой Площадки? — спросила Барб, вроде как поддразнивая.
— Мистер Гэри? — предложила Тру.
Барб захохотала и смеялась, пока Тру не сказала:
— В этом году Королевой будет Салли. — Потом сверкнула в Барб одним из своих «опасных» взглядов и добавила: — Уж лучше Королевой станет она. Или никому мало не покажется.
Оба конца Влит-стрит перекрыли желтыми конусами. В обоих концах квартала встали раздвижные столы, доверху заваленные кушаньями. Мистер Гэри позвонил Этель из самой Калифорнии и поручил ей нанять для вечеринки группу «Ду-Вопс» с Джонни Фацио во главе. Мистер Гэри мог это позволить, потому что, как сказала Этель, «пусть он и сладкая булочка, зато кошелек набит туго». А потом наклонилась ко мне и прошептала: «Говорила ж я, в голове у парнишки пляшут чудные мыслишки».
Так что той ночью с каждого крыльца в нашем квартале перемигивались рождественские гирлянды, и мы все радовались, что наконец можем вернуться к той жизни, которую вели перед появлением убийцы и насильника, такое это было облегчение. Как окончание войны, сказал мистер Дэйв. Эта ночь оставляет горько-сладкий привкус, сказал он.
Группа вышла на маленькую сцену, устроенную на бейсбольном поле, и они сыграли отличный рок-н-ролл Чака Берри под названием «Джонни Будь-Добр», отчего все девушки впали в экстаз от Джонни Фацио. Мама вышла ненадолго посмотреть на праздник, но танцевать не стала, хотя мистер Дэйв здорово о ней позаботился. Он купил ей чудесную пару розовых туфель, которые так ей понравились, у Джима, коммивояжера с коричневым носом, который стал теперь вожаком стаи в «Обуви Шустера», раз уж Холл отправился в тюрьму. И на пальце у мамы было то самое кольцо, на которое я наткнулась в потайной дыре. Колечко, свернутое из обертки от печенья. Это кольцо мистер Дэйв подарил маме, когда они обручились, и она берегла его все годы.
Я сидела рядышком с ней на одной из деревянных скамеек, а мистер Дэйв отправился к столу, чтобы принести маме поесть.
— Ты теперь счастлива? — спросила я.
Поначалу мне казалось, мама не расслышала вопроса, и я уже собиралась задать его снова, как она ответила:
— Счастлива? Ну, в больнице я решила, что вряд ли увижу, как вы с Тру подрастете, и… — Мама не окинула меня одним из тех печальных взглядов, они остались в прошлом, но в ее голосе все равно звучало что-то печальное. — Ты простила меня, так ведь? Что было, то прошло?
— И быльем поросло, — добавила я, хотя это только часть правды. Я простила ее. И мистера Дэйва тоже. Но мне оставалось сделать самое последнее дело, прежде чем все, что было, окончательно порастет быльем.
— Я вспомнила кое-что. У меня есть для тебя маленький ранний подарок на день рождения. — Мама порылась в кармане юбки и вытащила оттуда папины «Таймекс». — Он хотел бы, чтобы эти часы стали твоими.
Она опустила их в мою подставленную ладонь. Часы показались меньше, чем прежде.
— Давай, надень, — сказала мама. — Я подогнала браслет. Они будут расти вместе с тобой.
Я просунула запястье в эластичное серебро браслета, поднесла часы к уху и вспомнила, как их тиканье всегда вселяло в меня чувство безопасности, стоило прижаться щекой к папиной руке.
И тут мистер Дэйв вернулся с тарелками для нас. Сел по другую сторону от меня и сказал:
— Вот черт, провалиться мне на месте. Кажется, я забыл дома часы. Кто-нибудь знает, сколько сейчас времени?
Я подняла руку, чтобы он мог посмотреть. «Они устали, но по-прежнему тикают», — подумалось мне.
И тогда мы просто устроились поудобнее, и ели, и глядели, как все остальные танцуют до упаду. Видели бы вы, как отплясывают Этель с Рэем Баком. Вот это зрелище! Лучше даже, чем Фред Астер и Джинджер Роджерс, если спросите мое мнение. Этель ненадолго выкатила миссис Галецки в инвалидном кресле, и пусть все сплетничали, прикрываясь руками, про то, как мистер Гэри сбежал с падре Джимом и как они оба попадут в ад, но я-то видела, что это не заботит миссис Галецки, или, может, это новое лекарство заставило ее так часто улыбаться.
Тем вечером Тру сделала серьезную заявку на свою карьеру самой толстой дамы в мире, да и я тоже, до того мы обе налопались. Спагетти с фрикадельками от Наны Фацио, и солонина от миссис О’Хара (которая как раз собиралась стать миссис Офицер Риордан), и «трущобное лакомство» от миссис Бюшам. Нелл даже приготовила мамину особую запеканку из макарон с тунцом и картофельными чипсами (все равно немножко подгорело, но гораздо меньше, чем в прошлый раз). Конечно, Этель испекла песочные кексы по рецепту штата Миссисипи. И миссис Голдман принесла в соломенной корзинке несколько чудесных помидоров из своего сада. Миссис Кенфилд пришла одна и с пустыми руками.
Пока все танцевали под «Прогулку», у меня раззуделись растущие ноги, и я решила немного размять их. Стало уже совсем темно, и сверчки затянули свои песенки, и я поняла, что хочу услышать скрип-скрип-скрип кресла-качалки. Я скучала по этим звукам, хотя мне всегда становилось от них одиноко. И встала перед домом Кенфилдов, и слушала, как вдалеке Тру смеется в такт «Собачьему вальсу», и Нана Фацио кричит что-то по-итальянски, и все дружно хлопают под музыку. А потом посмотрела на крыльцо и увидела большую тень в кресле. Я подумала: что это на меня нашло? Повернулась, чтобы вернуться на вечеринку, но мистер Кенфилд позвал из темноты:
— Поди сюда, Салли.
Я поднялась по ступеням, и всего на секунду мне подумалось, что надо сбежать, но потом он похлопал по широкому сиденью кресла, так что мне вроде как пришлось сесть, потому что я не хотела показаться неучтивой, но мое сердечко, оно принялось колотиться о ребра с такой силой, будто его там закрыли в грозу. Я побаивалась мистера Кенфилда. И не могла припомнить, чтобы он когда-нибудь прежде заговаривал со мной. Он, наверное, собирался хорошенько отчитать меня за то, что мы с Тру то и дело таскали всякое из его магазина, или, может, он даже отзовет мистера Дэйва с вечеринки — сказать ему, что мне самое место в исправительной школе.
Я сидела рядом с ним и смотрела на его руки. Ногти настолько погрызены, что напоминают полумесяцы.
— Почему вы не пошли на праздник квартала, мистер Кенфилд?
Он выбросил сигарету в кусты.
— Не праздничное настроение.
— Из-за Дотти?
В тусклом свете лампочки над крыльцом я видела, как его лицо сделалось почти безумным. Похоже было, сейчас мистер Кенфилд заорет на меня диким голосом, но затем оно разгладилось.
— Знаете, — сказала я, кладя свою ладонь поверх его, потому что та казалась такой забытой и нуждалась в капельке лосьона «Йерген». — Моя мама всегда говорит: лучше всего простить и забыть. Что было, то прошло и быльем поросло.
Он угрюмо ответил:
— Ты дочь своей матери, сомнений нет. Яблоки от яблони недалеко упали.
Мистер Кенфилд сунул руку глубоко в карман брюк и что-то оттуда вытащил. Фотография Дотти. Сразу видно, он часто смотрит на нее, потому что снимок был совсем пожеванный и серый, как и он сам. Дотти сидела на этом самом кресле, закинув руки за голову, и улыбалась во все зубы.
— Ты знаешь, кто это? — ткнул мистер Кенфилд в карточку.
Я подняла голову, чтобы вглядеться в его лицо. Нахмуренные брови, глаза в тени.
— Да.
— Знаешь, что она сделала?
— Да.
То же, что и моя мама. Влюбилась и родила ребенка кому-то, кому не должна.
— Это смертный грех. Некоторые вещи нельзя простить и забыть.
— Вот и ошибаетесь, мистер Кенфилд. Вам надо позволить Дотти и ее малышу вернуться домой, потому что я вижу, как вы по ним скучаете. Не думаю, что Бог станет возражать.
Он прикрыл лицо обеими руками, чтобы я не увидела, но звук я узнала. Миссис Голдман ошиблась. Вовсе не миссис Кенфилд приходила каждую ночь поплакать в комнате Дотти. Это плакал ее папа.
Тогда я встала и ушла. Потому что этот звук, этот шедший из самого сердца плач, он был мне знаком. И еще я знала: ни от каких слов мистеру Кенфилду не станет легче. Ничто в мире так не терзает душу, как слезы по тем, кого нет рядом.
— Проверка… проверка. Раз… Раз-два… — сказала Барб в микрофон. — Пожалуйста, внимание. Настал тот час, который вы все так ждали. Проверка… Раз… Раз…
Микрофон издал жуткий вой. Барб рассмеялась, когда мы все позатыкали уши. Она стояла на сцене рядом с Джонни Фацио, и каждому было ясно как божий день, что Джонни не прочь за ней приударить.
Барб объявила:
— Настало время открыть имя девочки, которая станет в этом году Королевой Площадки. — Она повернулась к Джонни и очень серьезно попросила: — Можно услышать барабанную дробь? — И, развернувшись назад к толпе, вскинула над головой великолепную, усыпанную блестками корону, такую прекрасную, что никакими словами не описать.
Тру схватила мою ладонь и сжала. Я знала, что Королевой буду я. Должна стать. Но как только Барб сказала: «В этом году Королевой Площадки объявляется…» — и посмотрела в мою сторону… я посмотрела на Венди Бюшам. Та держала Арти за руку и так беззаботно улыбалась. Одетая в розовое праздничное платье с кружевным воротничком, на щеках румяна, на губах что-то блескучее.
И уже во второй раз за вечер я сама не поняла, что на меня нашло, но я вспрыгнула прямо на сцену, выхватила микрофон из руки Барб и прокричала в него:
— Королевой Площадки объявляется… Венди Бюшам!
Потом я задумалась, почему так сделала, и решила, это все из-за того пластикового колечка из коробки «Крекер Джек», который Венди всегда носила на своем обручальном пальце. Венди больше, чем мне, нужно было стать Королевой. Я знала, что моя жизнь будет продолжаться, и что я выйду замуж, и заведу детей, и, может, когда-нибудь моим мужем станет фермер. А вот Венди… Ну уж по крайней мере у нее навсегда сохранится эта красивая корона в блестках.
Когда Арти вывел ее на сцену, Венди обняла меня одним из своих крепких объятий, а потом принялась раздавать всем присутствующим воздушные поцелуи а-ля Дайна Шор. Как и подобает Королеве. А Королем Барб объявила Микки Харригана, и Венди тоже обняла его по-королевски, и он перенес это вполне стойко. А потом все принялись сходить с ума, кричали и свистели, но это еще и потому, что они (многие, во всяком случае) были здорово навеселе, а я давно заметила: это, как правило, поднимает людям настроение.
Все мы нашли себе партнера, когда Джонни Фацио запел последнюю песню вечера, называвшуюся «Вся эта Amore», что, как сказала мне Нана Фацио, по-итальянски означет «любовь», и это совершенно точно был правильный выбор: любовный танец пошел на ура. Даже у нас с Генри Питерсоном, который в первый раз чмокнул меня в губы, когда мы прекратили танцевать вальс на четыре шага. Его губы отдавали черной лакрицей, которая в жизни мне не нравилась, но все остальное очень даже ничего.
Видя всех нас такими, я подумала, как бы обрадовался такой вечеринке мой буйный папа. Так жалко, что его нет. Если бы он все-таки был здесь, я точно знаю, он показал бы мне два больших пальца. И когда бы я попыталась извиниться за то, что наговорила в утро аварии… он просто прижал бы меня к себе загорелыми волосатыми ручищами и сказал бы, что знает, я не имела этого в виду, когда сказала, что ненавижу его, и что совершенно точно я не имела в виду, будто и впрямь хочу себе другого папу. И как он гордится мною, потому что я все сделала именно так, как он и просил. Сдержала обещание. Ухаживала за огородом.
А после вечеринки дети с Влит-стрит стали кричать друг дружке: пока, увидимся завтра в школе. Я шла домой одна, запрокинув голову к небу и думая о том, что любовь по-настоящему никогда не умирает. Она всегда где-то там, рисует мерцающую дорожку к какому-то другому месту, куда можно уйти и отдохнуть, если потребуется забыть, что иногда происходит такое, чего ты совсем не ждешь. И иногда это нежданное может навсегда изменить жизнь. Но одно папа так и не успел мне сказать, и я сама поняла это той ночью. Если даже случается ужасное, ты всегда несешь ответственность за себя и за тех, кого любишь, а потому надо идти по жизни дальше со всем на-стыр-ством, какое только в тебе есть.
И вот, со светлячками, и запахом шоколадного печенья, и собакой Мориарти, лаявшей за две улицы отсюда, я присела на крыльцо дома О’Хара, посмотрела в небо и сказала самым уверенным своим голосом:
— Ясной синеве Западного Неба: это я, твоя девочка Сэл, докладываю моему Небесному Королю, моему замечательному Небесному Королю… Вас понял, выполняю, конец связи.
Сноски
1
«Милуоки Брейвс» (Milwakee Braves) — профессиональный бейсбольный клуб (1953–1965); с 1966 г. — «Атланта Брейвс». — Здесь и далее примеч. ред.
(обратно)2
Имеется в виду популярный приключенческий радио-, а затем телесериал 1940—1950-х годов «Король Небесный».
(обратно)3
«Тварь из Черной Лагуны» — популярный американский фильм ужасов 1954 года.
(обратно)4
В британском английском идиоматическое выражение «свистеть в темноте» (to whistle in the dark) означает, условно говоря, делать хорошую мину при плохой игре. (Заметим, что в американском английском то же самое выражение означает рассуждать о предмете, который тебе мало знаком, а также гадать на кофейной гуще.)
(обратно)5
Строчка из знаменитой песни Hound Dog из репертуара Элвиса Пресли.
(обратно)6
Дорис Дэй (р. 1924) — популярная английская певица и актриса.
(обратно)7
У Венди синдром Дауна, а в англоязычных странах людей с таким заболеванием называют «монголоиды» — из-за характерного разреза глаз.
(обратно)8
Игра, в которой игроки бьют битами по шарику, подвешенному на веревке, стараясь как можно быстрее закрутить веревку вокруг столба, к вершине которого она прикреплена.
(обратно)9
Здесь: крутая (фр.).
(обратно)10
Название государственного гимна США.
(обратно)11
Пьянчуга (нем.).
(обратно)12
Речь идет о песне популярного поп-дуэта «Братья Эверли», название которой переводится как «Просыпайся, малышка Сьюзи».
(обратно)13
Первые строки песни Карла Ли Перкинса «Голубые замшевые туфли».
(обратно)14
Персонаж романов П. Г. Вудхауза и популярного телесериала «Дживс и Вустер».
(обратно)15
Дэвид Крокетт, более известный как Дэйви Крокетт, — американский путешественник, офицер и политик, ставший персонажем фольклора США, а также популярным киногероем: в 1955 году вышел фильм «Дэви Крокетт, король диких земель», в котором Крокетт щеголяет в меховой шапке с хвостом.
(обратно)16
Слова из сонета Эммы Лазарус «Новый Колосс», посвященного статуе Свободы и выгравированного на бронзовой пластине, которая висит в музее, что расположен внутри постамента статуи.
(обратно)17
Популярный американский комедийный телесериал (1950-е гг.).
(обратно)18
Эдвард Дж. Робинсон — американский киноактер, много снимавшийся в ролях «крутых парней».
(обратно)19
Порошковая смесь для шоколадного напитка.
(обратно)20
Эдгар Джон Берген (1903–1978) — американский актер и шоумен, популярность обрел как чревовещатель своей куклы Чарли Маккарти. Салваторе Минео (1939–1976) — американский актер, дважды номинировавшийся на премию «Оскар», обладатель премии «Золотой глобус»; пик его популярности пришелся на роли подростков.
(обратно)21
Марка одеколона.
(обратно)22
Еккл. 3:7.
(обратно)23
В честь знаменитого рок-н-ролльного хита в исполнении Бадди Холли под названием «Пегги Сью».
(обратно)



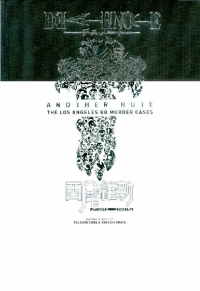
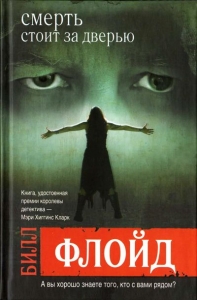

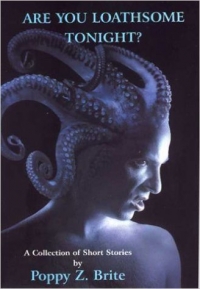


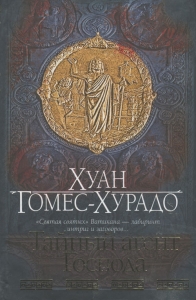



Комментарии к книге «Насвистывая в темноте», Лесли Каген
Всего 0 комментариев