Антонио Арлетти ТРАМПЕАДОР
НА ПРОЕЗЖЕЙ ДОРОГЕ
— Пума [1]— скромное домашнее животное, которое постепенно одичало,— заключил Франческо, соскакивая с грузовика.
Его полное имя Франсиско де Гаррйдо. Но я ради краткости буду называть его просто Франческо. К тому же, признаться, мне не хочется раскрывать его подлинное имя.
Это не вымышленный персонаж, а живой, реальный человек, немало повидавший на своем веку. И я опасаюсь, что иные из описанных здесь историй могут стать причиной международных осложнений.
Последняя фраза моего друга, произнесенная на превосходном испанском языке, звучала буквально так: «El puma es un pobre muchacho que se ha traviado» — «Пума — бедное дитя, ступившее, однако, на неверный путь». Как видите, мой перевод этой фразы несколько вольный, но он, безусловно, передает ее смысл.
Так или иначе, но Франческо с необычайной легкостью сокрушил миф о пуме, которому я слепо верил.
Мои познания в зоологии всегда были весьма скромными. Но одно я помнил твердо: пума — животное ловкое и хитрое. Нечто среднее между львом и пантерой, этими двумя наиболее грозными и опасными из хищников. Я всегда с почтением думал об изящной пуме, бесшумно крадущейся к жертве.
Мне казалось, что от этого коварного обитателя Патагонии можно ждать всего, и уж, во всяком случае, лучше держаться от него подальше. Я рисовал себе пуму этаким апашем пустыни, способным бесцеремонно ворваться в загон, свалив ворота ударами могучих лап.
Но раз Франческо считал пуму бедным, испорченным ребенком,— значит, при встрече с ней не обязательно дрожать мелкой дрожью. Можно даже, набравшись храбрости, рассмеяться ей в лицо и обругать ее папу с мамой.
Я был глубоко разочарован. Рассеялась как дым милая сердцу надежда описать драматическую охоту на этого льва Южной Америки. А ведь у меня еще со времен детства был приготовлен на этот случай богатейший запас красивых фраз, почерпнутых из книг Сальгари[2]: «И тут я заметил две фосфоресцирующие точки». «Я чувствовал рядом злобное дыхание хищника». «Уже теряя сознание, я увидел, как издыхающий могучий лев извивался в предсмертных судорогах».
А Франческо невозмутимо продолжал: «Una vez, однажды пума попала в один из моих капканов для лис. Всю ночь она пыталась вырваться. Когда я увидел ее на рассвете, у меня не было с собой винчестера. Пришлось добить ее палкой».
Какая жалкая проза! Погибнуть от ударов палки!
Поистине бесславный конец для животного, которого побаиваются даже многие хищники. А уж попасть в лисий капкан, когда есть капканы для львов,— просто стыдно. Словом, смерть бедной пумы была вдвойне бесславной.
Почти все сведения о капканах, о повадках здешних животных я узнал со временем от Франческо.
Он терпеливо делился со мной своим опытом в тщетной надежде сделать из меня охотника такого же искусного, как он сам. А он был одним из немногих настоящих охотников, которые еще уцелели между рекой Колорадо и Огненной Землей.
С помощью владельца грузовика мы принялись сгружать наше снаряжение и переносить его с проезжей дороги к песчаному берегу реки.
Каноэ. Четыре весла. Молоток, топор, ручную дрель, гвозди, смолу, паклю, ножи мачете, ружья, удочки. Брезент, два одинаковых спальных мешка.
Четыре одеяла, несколько пар белья.
Двадцать килограммов муки, две трехлитровые банки оливкового масла, по два килограмма рису, фасоли, гороху и чечевицы. Столовую соль. Сковородку, кастрюлю, две алюминиевые тарелки, вилки, ложку, сахар и несколько пустых консервных банок. При случае они вполне могли заменить чашку и стакан. Сухой хлеб, мед.
Винчестер двадцать второго калибра и тысячу патронов к нему, двуствольное ружье и четыреста гильз. Двадцать пять почти новых капканов, моток тонкой проволоки для силков, два охотничьих ножа.
Три книги и старую географическую карту, на которой весьма приблизительно были нанесены все реки этого района.
С таким вот «богатым» снаряжением нам предстояло вдвоем совершить долгую охотничью экспедицию по рекам северо-западной Патагонии.
До места «старта» мы добрались после двух дней езды на подозрительно дребезжащем грузовике, который обычно возил муку в несколько горных аргентинских селений. Свой путь мы начали из поселения итальянцев-садоводов, заложенного смешанной итало-аргентинской компанией всего лет тридцать тому назад. Сборы были довольно поспешными, так как владелец грузовика решил выехать на день раньше.
Метеосводки гласили, что в Андах ожидается ненастье. До зимнего перерыва оставалось совсем немного, и хозяин машины торопился разделаться с последним грузом. Он долго уговаривал нас отказаться от безрассудной затеи, но под конец за небольшую плату согласился доставить двух безумцев к реке.
Меня и Франческо он втиснул в кабину, а снаряжение свалил на мешки с мукой. При этом он не преминул предупредить нас, что возил всякие грузы, но вот лодки, да еще в горы, ему возить не приходилось.
Ровно в пять утра, с точностью, недостойной истинных аргентинца, испанца и итальянца, мы тронулись в путешествие через Кордильеры, конечной целью которого был берег реки со странным индейским названием Кольон-Кура. Оттуда мы должны были отплыть на каноэ и, пройдя по течению рек втрое большее расстояние, вернуться на прежнее место.
Впрочем, наше возвращение во многом зависело от удачи.
Когда-то в этих местах индейцы героически отстаивали свои последние укрепления. И хотя теперь нам не грозила опасность встретиться с воинственными indies, встреча с бурными порожистыми реками была куда менее приятной; правда, тот, кто плавает ко рекам — я говорю о горных реках, достойных этого названия,— вполне может обойтись без компаса и секстанта, но его подстерегает не меньше опасностей, чем мореплавателя.
И хотя все это было нам давно известно, уже после нескольких часов езды мы мечтали только об одном: поскорее добраться до реки.
Невозможно даже описать, каким пыткам подвергается человек в кабине грузовика, особенно если в нее втискиваются сразу трое взрослых мужчин.
По дороге нам то и дело приходилось останавливаться, чтобы немного прийти в себя. Иначе' мы рисковали навеки застыть в самых неестественных позах, как те мудрые факиры, что из любви к святой простоте скрещивают ноги и затем никакими силами не могут их разжать.
В довершение всего проезжая дорога была совершенно разбита. На первой же остановке я сорвал подтяжки. При каждом толчке пуговицы пребольно били по косточкам, и май непрочный позвоночник явно начал поддаваться.
К тому же, когда все трое плохо знают друг друга, к физическим испытаниям добавляется обычная неловкость.
Впереди длинная дорога, и мы еще успеем наговориться вволю. А пока каждый предпочитает помолчать и подумать в предрассветной темноте. Но очень скоро даже думать стало не о чем. Ведь наши интересы были сейчас донельзя простыми, даже примитивными.
Владелец грузовика прикидывал, сколько он заработает на муке и как ему обернуться до первого снега. Франческо снова и снова перебирал в памяти, все ли мы взяли с собой. Я же который раз повторял правила вождения каноэ и рецепты приготовления еды. Ближе к полудню мы обнаружили, что забыли захватить шпиг. Это был первый плод глубоких утренних размышлений Франческо.
Как истинный испанец, он просил поручить выбор сала именно ему. Испанцы весьма неравнодушны к шпигу и считают себя в этом вопросе величайшими знатоками. Обычно они предпочитают слегка несвежий шпиг. Как и французские любители дичи, они убеждены, что у хорошего шпига должен быть запашок.
И вот Франческо вообще забыл о шпиге, о двух килограммах лежалого шпига, который должен был стать неотъемлемой частью наших завтраков. Конечно, если потреблять его разумно, экономно.
Шпиг на кончике вилки еле-еле поджаривают и затем кладут на еще горячие гренки. При сборах Франческо очень живо описал, как это делается.
На отсутствие аппетита ни он, ни я не жаловались, и предложение Франческо показалось мне весьма разумным. Тем более что нас ждали сильные холода.
Естественно, что оплошность старого охотника меня огорчила, но, испытывая в тесной кабине немыслимые муки и воюя с подтяжками, я не оценил всех последствий этого упущения. Франческо и камионеро [3] поговорили о том, что не мешало бы купить шпиг в пути, но так ничего и не сделали.
Мы уже проехали последнее испанское поселение, а покупать шпиг в других местах они не хотели.
Лучше уж вообще обойтись без него.
В час дня, миновав плодородные поля и цветущие долины, мы остановились в лагере разведчиков нефти у подножия Кордильер.
Там мы размяли затекшие ноги и перекусили.
И вот уже мы снова трясемся в грузовике по бескрайнему, пустынному плоскогорью; дорога петляет, то убегая спиралью вверх, то устремляясь вниз.
Поздно ночью мы добрались до одинокой гостиницы.
НАША РЕКА
Утром мы дольше обычного пролежали в кроватях, ожидая, пока стихнет снегопад. К счастью, тоненькая пленка снега на шоссе была неопасной, и в девять часов мы тронулись в путь.
К четырем часам дня, как и обещал камионеро, мы добрались до места. Одолев бесконечный подъем, водитель показал нам нашу реку. С высоты мы увидели пенящиеся воды, которые с грозным шумом катились по узкому, дикому ущелью.
Грузовик начал медленно, осторожно спускаться, и вскоре мы обнаружили мост, скрытый прежде вершиной горы. Дорога была столь извилистой и трудной, что у нас не было ни возможности, ни желания определять, большой он или маленький.
Спуск длился долго, и мы совершенно измотались. Тогда-то Франческо и стал рассказывать о пуме, хотя спрашивал я о ней еще днем раньше.
Наконец мы были у цели. Остановились за мостом, единственным на протяжении двух тысяч километров от Атлантики до самой чилийской границы.
Сгрузив снаряжение, мы немедля расплатились с владельцем грузовика, который очень боялся застрять здесь из-за снегопада. И хотя предприимчивый камионеро очень торопился, он все же не забыл пожелать нам счастливого пути и дать кучу всяких наставлений. Добрый камионеро несколько раз повторил, что, если мы по каким-либо причинам изменим свое решение, он охотно захватит нас на обратном пути и бесплатно отвезет домой.
Бедняга не понимал, как можно добровольно отправиться на лодке по этой гибельной реке, если у вас вся жизнь впереди. Он считал это заведомым самоубийством.
Впоследствии, когда мы задержались на несколько месяцев и не вернулись в намеченный срок, наш камионеро решил, что его пророчество, увы, сбылось. Он говорил всем и каждому, что знал заранее — добром это путешествие не кончится.
Мрачные предсказания владельца грузовика, грозный вид пенящихся вод, полнейшее безлюдье вокруг и хмурое небо обрушились, как пена огнетушителей, на пожар нашего энтузиазма. Кроме того, расставание, даже с малознакомым человеком, всегда навевает грусть.
Но одно было ясно: мы не откажемся от мысли плыть по реке на каноэ. Правда, когда мы переезжали мост и сгружали снаряжение, течение показалось нам слишком быстрым, но и это не могло нас остановить. Первые отрывочные впечатления очень скоро подтвердила тщательная разведка местности.
Моим взорам предстала одна из красивейших горных рек Аргентины. Метров сто в ширину, она текла меж скал, поросших не очень густым кустарником. Скалы постепенно становились все меньше, а само ущелье, показавшееся нам диким и узким, вблизи выглядело более дружелюбно. И хотя небо хмурилось и грозило дождем, воды реки были кристально прозрачными и переливались всеми хроматическими цветами от зеленого у берега до голубого посредине.
Обнаженная опора моста и усеянный галькой пляж, где мы сгрузили снаряжение, говорили о том, что половодье уже кончилось. Наши наблюдения подтверждала и узкая, поросшая зеленью отмель.
Но даже сейчас вода неслась с внушительной быстротой. Если можно употребить здесь альпинистский термин, я бы сказал, что река была шестой степени трудности.
Хотя течение у каменистой отмели было несильным и вода тут не клокотала, бугорки пены в центре и скрытая мощь потока, зажатого в узком ложе, подтверждали, что искать в реке союзника не приходится. Мы стояли на правом берегу, и река тоже постепенно сворачивала вправо, исчезая за ближним холмом. Дальше, насколько хватал глаз, воды неслись в узком пространстве между двумя высокими стенами скал: лишь миновав их, мы сможем узнать, что нас ждет впереди. Ведь не случайно мост был выстроен именно здесь, в наиболее тихом месте реки.
Мы, как умели, погрузили нашу поклажу в каноэ. Киль уже был в воде и слегка подрагивал, словно и лодке не терпелось отправиться в плавание.
Мы с Франческо провели последний военный совет. Итак, мы выступаем в поход! Нам предстояло обогнуть излучину, держась ближе к холму, и затем пристать к берегу в первом же удобном месте. Времени до наступления темноты оставалось совсем мало — только чтобы поужинать и устроиться на ночлег. Утром мы поплывем на поиски района, где можно поохотиться.
Отплытие прошло весьма буднично и без происшествий. Я стоял в каноэ, а Франческо на берегу держал для страховки толстый канат, привязанный к корме. Каноэ медленно скользило по воде, а Франческо спокойно шел за ним по берегу. Изредка я подгребал веслом, чтобы лодка не врезалась кормой в прибрежные камни.
Первое знакомство с рекой оказалось вполне приятным. Я был совершенно поглощен сложными маневрами и испытывал вполне понятное волнение; Франческо сосредоточенно и важно шагал по берегу, умело скрывая обуревавшие его чувства. Он вел каноэ на поводке с достоинством мажордома, прогуливающего собачку своей госпожи.
Обогнув мыс, река вновь потекла на коротком расстоянии по прямой, и мы пристали в маленькой бухточке, защищенной скалой.
Палатку мы поставили в том месте, где густые заросли кустарников протянулись живой изгородью между двумя деревьями с могучими стволами.
Эта палатка была гордостью Франческо. Видавший виды брезент носил на себе следы жестокой борьбы с непогодой и временем.
Подобно некоторым сортам дерева, наш брезент уже миновал период зрелости и подошел к порогу старости. В поспешных дорожных сборах мы, к несчастью, все же нашли время, чтобы по совету одного приятеля смазать брезент смесью машинного масла и рыбьего жира. Результаты этой восстановительной терапии были не слишком ободряющими.
Брезент приобрел цвет печени и стал твердым и несгибаемым, как сталь. Пришлось скатать его и связать, иначе бы он тут же распрямился с металлическим скрежетом.
Размеры палатки всего два метра на два, и я подумал, что устроиться в ней сразу двум человекам будет делом нелегким. Но, не обладая в этой области серьезными познаниями, счел за лучшее промолчать. Теперь, когда палатка гордо стояла на берегу и можно было исследовать ее до мельчайших подробностей, я поздравил себя с точностью своих расчетов. При одной мысли о приближавшейся ночевке у меня кровь стыла в жилах. Узкий и низкий треугольный вход в палатку казался мне поистине бесчеловечным. В памяти всплывала неумолимая в своей холодной логичности теорема Пифагора.
Я подумал, что проклятая теорема снова, как и в далекой юности, будет меня мучить даже во сне. Гипотенузы входа были весьма и весьма короткими.
Высота не превышала метра, а полезное пространство для каждого из нас составляло примерно шестьдесят сантиметров. Единственным утешением оставались лишь неизменные два метра длины. Отсюда я заключил, что, если мне удастся улечься в палатке горизонтально, мои ноги не будут высовываться наружу. Палатка открывалась спереди и сзади, так что специально проветривать ее не приходилось.
Пол был устлан слоем незнакомых мне трав, которые Франческо собрал с необыкновенной быстротой. Он положил на траву два новых действительно непромокаемых спальных мешка, и ранчо было готово.
— Chichita, pero cumplidora! [4]— с улыбкой сказал Франческо, созерцая дело рук своих. Однако ни это слегка ироническое замечание, ни легкая усмешка не могли скрыть, что старый охотник гордится палаткой не меньше, чем нежный отец своей косоглазой, но на редкость умной дочкой.
Вдруг он схватил ружье и выстрелил.
— Через несколько дней у нас будет матрац из шкур,— объяснил Франческо и как ни в чем не бывало направился к кустарнику.
Я успел лишь вздрогнуть от выстрела и, ничего не разглядев в кустах, решил, что Франческо просто хотел выразить свою радость — ведь начался охотничий сезон,— а заодно опробовать ружье. Поэтому я весьма удивился, когда увидел, что он возвращается с какой-то птицей в руках. Значит, сбывается моя романтическая мечта, которую, впрочем, лелеет каждый европеец: «Жить лишь охотой и рыбной ловлей».
— Это на ужин? — спросил я, разглядывая странную птицу с ярким оперением.
— Да, для рыб,— ответил Франческо и принялся разделывать бедную птицу, насаживая кишки на крепкие крючки перемета.
Я попытался ему помочь, но без всякого успеха.
Немного погодя переметы с дьявольской приманкой опустились на дно, поразив воображение неискушенных местных рыб.
Мы выволокли на сушу каноэ, накрыли наши запасы и разожгли костер.
Темнота и холод все явственнее давали о себе знать. Серая пелена мало-помалу обволакивала все вокруг, скрадывая очертания предметов.
У меня, представителя страны, где плотность населения превышает сто семьдесят человек на квадратный километр, этот ночлег у костра на берегу большой реки, у подножия пустынного плоскогорья и высоченных голых скал, вызывал чувство неописуемого восторга и даже преклонения перед дикой и суровой природой.
Нашу крохотную долину окружали горы, снежные вершины которых казались бахромой низких серых облаков.
Тишина, нарушаемая лишь ворчанием реки да изредка криком птиц, невольно заставляла нас говорить шепотом, прерывая беседу долгими паузами. Мы наслаждались тишиной, запахами земли и трав, теплом костра, пламя которого совсем по-домашнему освещало полоску берега.
Я с удовольствием заметил, что мой товарищ внимал ночной природе сдержанно, спокойно, что немного не вязалось с его кипучей деятельностью днем. Мы ели молча, не торопясь гренки, мед, сыр.
И тут Франческо преподнес мне сюрприз. Из своих карманов он извлек горсть бархатистых листьев с острым лекарственным запахом, собранных им при первой беглой разведке местности. Листья придали кипятку нежный аромат.
Теперь можно было и укладываться. И вот начались непредвиденные осложнения, грозившие разрушить всю идиллию мирного ужина на лоне природы. Моя эпическая битва со спальным мешком и палаткой достигла такого драматизма, что поставила под угрозу саму жизнь Франческо. Он не только не скупился на советы, но даже любезно согласился в виде наглядного примера первым влезть в палатку, а затем в спальный мешок.
Оттуда он внимательно наблюдал за моими маневрами. После третьей, самой отчаянной, но столь же безуспешной попытки, учитывая, что устойчивость палатки весьма сильно поколеблена и внутри палатки все перевернуто вверх дном, Франческо решил прийти мне на помощь. Я, правда, подозревал, что в спальном мешке он рисковал задохнуться от хохота.
Он все разложил по своим местам и стал снаружи руководить моими действиями. В конечном счете, его указания сводились к следующему. Необходимо:
1. Стать лицом к входу в палатку, опуститься на колени и ползком подобраться к спальному мешку.
2. Добившись этого, развернуться и сесть, наклонив голову.
3. Подтянуть колени к подбородку и развязать мешок.
4. Извиваясь, как змея, медленно залезть в мешок. При этом ни в коем случае нельзя утаскивать в глубь мешка простыни, заранее расстеленные внутри. Если они окажутся на дне мешка, новичку лишь ценой величайших мучений удастся извлечь их оттуда рукой или ногой, учитывая крайне ограниченные размеры мешка.
5. Высвободить руки, подложить под голову подушку, каковой может служить камень или любая часть" одежды.
6. Пристроить ружье в удобной и стратегически выгодной позиции.
7. Пожелать другу спокойной ночи.
После соответствующей тренировки эти операции, которые утром выполняются в обратном порядке, даются с известной легкостью и уже не кажутся чем-то сверхъестественным. Первое время ввиду серьезнейших трудностей не исключены травмы. Забравшись наконец в мешок, вы прячете в него руки, а при сильном холоде и голову. Несмотря на недостаток кислорода, условия для сна создаются самые благоприятные. Мы, к примеру, заснули мгновенно: ведь день выдался, право же, нелегкий. А ложе было таким мягким!
ТРАМПЕАДОР
Хоть я и нуждался в благодатном сне, но, по совести говоря, мне полагалось бодрствовать всю ночь. Ведь река таила многочисленные опасности, которые я принимал во внимание, но все же недооценивал, считая себя опытным моряком.
Я отвечал за плавание, Франческо — за охоту.
Каждый из нас был незаменим в своей области.
Я ни разу в жизни не охотился, а Франческо никогда не плавал на подобном судне.
Но если он был серьезным профессиональным охотником, за много лет изучившим все хитрости и повадки зверей, то мое мореходное образование носило явные следы дилетантизма и, понятно, имело немало изъянов.
Франческо, как и многие обитатели этого материка, перепробовал множество занятий. Однако, если большинство людей ищет работу полегче и получше, Франческо, давным-давно выбрав себе профессию по душе, вынужден был то и дело ее оставлять. Уже много лет он занимался охотой, но в летние месяцы шкуры животных ценятся здесь очень дешево, и ему приходилось зарабатывать на жизнь всеми возможными способами. Каменщик, дровосек, пастух — таковы этапы его приобщения к физическому труду. Зато он стал крепким, мускулистым, ловким, способным переносить любые лишения.
Чтение книг по зоологии способствовало формированию его культуры, а симпатии к учению утопистов стоили ему нескольких месяцев тюрьмы.
К тридцати годам он женился. Брак укрепил его романтические чувства, что вскоре привело к появлению двух девочек, и его финансовое положение, ибо он занялся теперь исключительно продажей фруктов.
Это было его hobby в летние месяцы. Он открыл на одном из приморских курортов фруктовую лавку, и выручки вполне хватало семье на безбедное житье.
В зимние месяцы курорт закрывался, и с первыми холодами Франческо оставлял семью и отправлялся в путь. По железной дороге он добирался до глухого селения на крайнем юге страны, туда, где, обессилев, умирают холодные ветры Огненной Земли. Это была его охотничья база. Отсюда, пешком или на коне, он забирался в пустынные высокогорные долины юго-запада страны либо отправлялся на запад в Кордильеры. Это и было для него настоящей работой — щедро раздавать сотни пуль пумам, нанду[5] и гуанако[6] и дарить ловушки красным[7] и серым[8] лисицам, нутриям[9] и зайцам[10].
Как заботливый отец семейства, он и тут стремился извлечь экономические выгоды. Профессия охотника, хотя и отмирает, не выдерживая бесчестной конкуренции звероферм, все же остается сравнительно доходной. И хотя на первый взгляд могло показаться, что Франческо гонится за деньгами, но ни драгоценные шкуры, ни сама охота не заставили бы его каждую зиму отправляться в рискованное путешествие. Пустыня заразила его страстью к бродячей жизни, и с каждым днем я все больше убеждался, что это стало для него как наркотик, без которого уже нельзя обойтись.
А я, когда впервые приобретал некоторый опыт плавания по реке, отнюдь не был очарован той жизнью, которую принужден был вести. В самом деле, вся прелесть военной службы как-то ускользнула от меня. Тем не менее я вбил себе в голову, что обладаю глубокими познаниями в искусстве мореплавания, и только встреча с аргентинской рекой Кольон-Курой показала мне, сколь жалкими они были. Восемь месяцев учебы на офицерских курсах в полку понтонеров, богатом традициями и весьма бедном средствами передвижения. Все эти восемь месяцев на обоих берегах По жители приходили в неописуемое волнение, завидев лодку образца 1864 года; этой лодкой командовал безрассудный рулевой из Эмилии по имени Антонио Арлетти, направлявший усилия дружной команды изрядно оголодавших гребцов. Вопреки элементарным нормам навигационного искусства и в нарушение самых строгих уставных правил ватага безумцев, как нас с полнейшим презрением называли офицеры полка, лезла в воду и, если позволяло дно, водружала лодку на плечи и брела назад к мосту. Это происходило всякий раз, когда гребля против течения требовала усилий, значительно превышавших скудную норму калорий, полученных нами за обедом.
А неукоснительным подсчетом нужных нам калорий занимался добровольный диетолог нашей команды.
Таким образом, мой военный опыт был весьма скромным и ненадежным, ибо приобрел я его на реке, вконец испорченной прогрессом.
Высадившись несколько месяцев тому назад на берег Южной Америки, я привез с собой кроме единственного чемодана еще и скудный багаж навигационных познаний, готовый, однако, применить их при первой же возможности. И вот теперь охотничья экспедиция по рекам в компании Франческо позволяла мне продемонстрировать несравненные мореходные таланты сына страны, давшей миру Христофора Колумба. В самом деле, я предпочитал рисковать жизнью на реке, чем на крупе лошади. В реке я по крайней мере мог утонуть со всеми удобствами, а на коне непременно сломал бы себе при падении позвоночник, жестоко намучившись вначале от кровавых ран и волдырей на бедрах и заду.
Придя в восхищение от рисунков Молины Кампоса и увиденного в Пампе состязания гаучо, я попытался было овладеть азами верховой езды.
Но вскоре отказался от этой опасной затеи. Случилось это после того, как самая смирная и добрая из лошадей на десять миль вокруг научилась сбрасывать меня самым унизительным образом, к радости школьников, которые, возвращаясь домой, играли по двое в карты на спинах своих огромных коней. Моя лошадь подходила к ним, притворяясь, будто интересуется карточной игрой, и, заговорщически подмигнув маленьким бесенятам, внезапно опускала голову. Все это время я небрежно сидел в седле, отчаянно сжимая в руках поводья, а тут, перелетев через голову моей коняги, падал к ее ногам. Вскоре я отказался от безумной затеи стать гаучо, но не оставил надежды забраться в глубь страны. Однако о путешествии на лошади я даже подумать не смел, пешком же в пустыне много не пройдешь, и мне оставалась лишь лодка.
Подняться вверх по бурным, порожистым рекам юга Аргентины совершенно немыслимо, и я задумал спуститься по течению, заставив реку поработать на меня. И вот однажды я получил письмо от приятеля, который жил на берегу Рио-Негро и знал о моих планах.
Он писал, что один местный охотник любезно согласился взять меня с собой в зимнюю экспедицию. С наступлением холодов я попросил двадцать дней отпуска по состоянию здоровья, предоставив фирме право считать меня уволенным или пропавшим без вести, если я не вернусь к назначенному сроку. Кстати, слова о плохом состоянии здоровья не были лишь предлогом. В столице Аргентины нетрудно заболеть от адского грохота, прескверного климата и давки в автобусах, магазинах и просто на тротуаре. В годы же трагической и одновременно похожей на фарс военной диктатуры к этому коктейлю неприятностей добавлялась прямая опасность для жизни.
После двух дней езды я сошел на маленькой красивой станции района Рио-Негро. Всю дорогу я смотрел на бесчисленные стада коров, мирно пасшихся по обеим сторонам железнодорожного полотна.
Это была Пампа, зеленое степное море, рай для коров и скотоводов. Миновав Рио-Колорадо, мы углубились в полупустынный район, где редкие ранчо, селения или крохотные городки служат одновременно и железнодорожными станциями. Унылую картину серых колючих зарослей здесь изредка оживляют лишь мерно жующие овцы да пугливые нанду.
Это Рио-Негро — самый северный район Патагонии, получивший название от одноименной реки.
После долгих часов созерцания пыльной желтой пустыни вам наконец открывается зеленый, радующий взор оазис в несколько сот квадратных километров.
Приехав в гости к своему приятелю, который выращивает на этой плодородной земле огромные яблоки, не забывая, однако, оплодотворять душу чтением книг из своей обширной библиотеки, я познакомился с трампеадором Франческо. Встреча закончилась к обоюдному удовольствию сторон. На другой день мы приступили к дорожным сборам и определили маршрут, вдвое удлинив его, так как нам предстояло путешествовать не верхом, а на лодке.
Наш план заключался примерно в следующем: на машине добраться до подножия потухшего вулкана Ланин, у границы с Чили. Погрузиться в каноэ и спуститься по реке Кольон-Куре. Через триста километров, попав в реку Лимай, проплыть вниз еще шестьсот километров до встречи с рекой Неукен. От слияния этих двух рек образуется Рио-Негро.
Позволить течению этой могучей реки протащить нас еще сто километров, как раз до того места, откуда мы отправились в экспедицию.
Франческо согласился делить со мной опасности, труды, расходы и доходы по той простой причине, что лодка позволяла ему охотиться на обоих берегах реки, чего прежде он не мог сделать из-за отсутствия здесь бродов.
Он предупредил, что, кроме последних ста километров, остальная часть пути ему совершенно незнакома; он слышал только, что там почти нет селений и что это настоящий охотничий заповедник.
Вот по каким причинам я накануне корейской войны очутился в крохотной палатке, на берегу пустынной реки. Рядом со мной, громко посапывая, спал старый аргентинский охотник, родом из Андалузии, не в пример своим соплеменникам скромный и молчаливый. Уже в эти первые дни знакомства я понял, что он будет смелым и верным товарищем.
Тот факт, что он согласился отправиться вместе со мной, давал основания думать, что мое участие в экспедиции не показалось ему слишком рискованным и неоправданным. Это утешало меня и почти избавляло от естественного комплекса неполноценности. Нам предстояло проплыть тысячу километров по незнакомым рекам, останавливаясь на два-три дня в богатых дичью местах. Путешествие могло продлиться от двадцати дней до шести месяцев.
Это зависело от погоды, удачной или неудачной охоты и от всяких непредвиденных обстоятельств, Но прежде всего от решений Франческо. На этот счет у нас была молчаливая договоренность.
БЛОХИ ДОНА ХУАНА
Проснувшись, я увидел, что Франческо мирно сидит у костра и кипятит настой из листьев. Этот лиственный настой и корни какого-то растения до самого конца экспедиции заменяли нам кофе, чай и аперитив, служили дезинфицирующим средством для ран и мазью от язв на ногах. Вскоре и я научился различать эти листья, но замысловатого индейского названия растений, из которых Франческо готовил свои колдовские снадобья, я так и не запомнил.
Чтобы надеть меховую куртку и башмаки, единственные вещи, которые я снял перед сном, мне понадобилось не особенно много времени. Франческо встретил меня улыбкой и приветливым «buenas dias»[11].
Светало. За ночь ветер разогнал тучи и аккуратно отполировал небо, придав ему характерные для этих мест прозрачность и глубину. В необъятном небосводе Аргентины больше беспредельности и голубизны, чем в заснеженных вершинах Кордильер. Кажется, будто взор проникает за пределы звезд, теряясь за бесконечно далеким горизонтом в бесплодном усилии отыскать что-то новое.
Минуту спустя солнце в последний раз протерло до блеска звезды Южного Креста. Справа от нас у истоков реки — старый, ушедший на пенсию вулкан Ланин с крутыми, голыми склонами, погребенными под снегом. Словно герой древней трагедии, которого годы и невзгоды не лишили королевского величия, высится он на три тысячи метров над хмурой рекой.
За его плечами, спрятав главы в облака, цепочкой вытянулись горы помоложе и повыше. Куда-то далеко-далеко убегает извилистое ущелье. Там, где струя воды разбивается о каменные стены, еле виден лес араукарий, этих симпатичных гигантов растительного мира, радости и гордости всех ботаников.
Несколько часов пути, и я наконец узнаю, обнимают ли и теперь шесть человек ствол могучей араукарии высотой двести сорок футов.
Вокруг нас скалы, кустарник, редкие пинии и ивы. Здесь была граница между хвойными и лиственными деревьями. Спускаясь вниз по течению, мы постепенно расстаемся с пиниями и елями, и на смену им приходят скромные ивы, которыми поросли берега и речные островки. Разноцветные скалы перемежаются с невысокими холмами из камня и песка, на вершине которых одинокие птицы ждут свидания с солнцем. А оно уже приближается широким шагом сеятеля, бросая в реку пригоршни цветов и красок.
Я не уставал любоваться этой незабываемой» не поддающейся описанию картиной с волнением и жадностью первооткрывателя. Казалось, что этот удивительный пейзаж уже не повторится ни завтра, ни через год.
Франческо, притворяясь равнодушным, ко всему привыкшим старожилом, не упускал, однако, ни единой подробности. Это была его родина, его подлинная жизнь. Я заметил, что он жадно отыскивает знакомые цвета и напряженно прислушивается к голосам природы, язык которой понятен лишь тем, кто любит тишину и одиночество.
Выпив настой из листьев, мы отправились проверять переметы, поставленные еще вечером. В один из них попались два лосося. Теряя последние силы, они, словно безумные, бились о прибрежную гальку.
Жирные, сверкающие рыбины, слишком большие для лосося. Позже мы узнали, что это были не лососи, а особый вид форели — радужная форель[12].
В этих реках водится особенно много радужной форели, и с того дня она весьма часто входила в наше меню. При одном взгляде на этих рыбин я уже видел, как они розовеют на сковороде. Каждая из них тянула примерно на два-три килограмма.
Через пять минут я приступил к обязанностям кока экспедиции. Как истинный homo oeconomicus europaeus [13], никогда не забывающий о дневном рационе калорий, я предложил сварить одну форель; тем временем Франческо без лишних слов разделал обе, оставив лишь нарезанное кусками филе.
Прежде чем он бросил остальное в реку, я успел все же спасти икру форели-самки. Целый стакан икры, причем каждая икринка величиной с кукурузное зерно. На мгновение я растерялся, вспомнив о зернистой икре в ресторане Ритц, о пышных банкетах, но все же бодро объявил меню: филе лосося с гарниром из икры вышеназванной рыбы.
Как только я положил икру на политую оливковым маслом сковороду, началась перестрелка ковбоев, сопровождавшаяся редчайшим пиротехническим зрелищем. Икринки лопались с адским шипением и грохотом, и во все стороны летели горячие брызги.
Когда пальба стихла и меню свелось к одной жареной рыбе, мне удалось кое-как поджарить филе.
Скорее благодаря отменному качеству рыбы, чем мастерству кока, завтрак получился весьма вкусным.
Пора было отправляться в путь. Сняв палатку и погрузив ее в каноэ, мы подплыли к гостеприимной излучине.
То, что мы гордо именовали каноэ, было обычной плоскодонкой 380 сантиметров длины и немногим более 70 сантиметров ширины, с высокими бортами, слегка открытой кормой и узким носом. Лодка немало повидала на своем долгом веку, и, купив ее, мы первым делом сменили днище. Тяжелая, неуклюжая, наша лодка была, однако, крепкой и устойчивой. Зная, что нам нередко придется нестись по бурному течению, мы пожертвовали красотой ради прочности. Франческо сидел посредине, вздымая два здоровенных весла. Он должен был вступать в сражение с рекой только в крайнем случае и лишь по моему приказу; я попытался наглядно обучить его начальным элементам гребного искусства. Я сидел напротив Франческо на корме и третьим веслом, вставленным в уключину, наподобие руля у плота, должен был направлять каноэ. Груз, размещенный вдоль бортов, оставлял лишь узенькую дорожку от носа до кормы, позволявшую двигаться, осторожно переставляя ноги.
Вода в маленькой бухте была тихой, как в садовом бассейне. Мы воспользовались этим, чтобы слегка поработать веслами и осуществить два-три несложных поворота, словно конники в манеже.
Затем мы вырулили на линию старта. Она была четко обозначена пенистой волной, которая с бешеной скоростью мчалась в нескольких метрах от каноэ, неприятно контрастируя с зеркальной гладью крохотного залива, бескорыстно приютившего нас.
Стоя на корме, я окинул реку зорким взглядом из-под очков. Нам оставалось только плыть по течению. Река спокойно несла свои воды лишь на коротких отрезках пути, да и то у берега, куда нам на веслах не пробиться. Мы же любой ценой должны были держаться по центру потока, даже если скорость тут окажется много выше дозволенной.
Так мы по крайней мере сбережем силы и избежим опасности сесть на мель. Тогда я еще не предполагал, что нас ожидает множество других неприятностей. Но что бы ни случилось, где промчится поток — проплывет и наше каноэ. Итак, полный вперед!
Однако попытка выйти на дистанцию потерпела полную неудачу. Когда Франческо резко подтолкнул лодку, я направил киль под слишком большим углом к течению, и каноэ, описав полный круг на месте, угрожающе накренилось на левый борт, зачерпнуло немного воды, а затем отлетело назад. Франческо сопроводил это событие темпераментным «caramba»[14], выражавшим то ли его изумление силой течения, то ли возмущение столь скверным началом.
Я вернулся к месту старта и теперь уже осторожно, по касательной, приблизился к ревущему потоку.
Некоторое время я плыл с ним рядом, а потом мгновенно юркнул в него. Маневр удался на славу. Ощущение было такое, словно вы в дождливый день у входа в подвал с разбегу споткнулись о банановую корку и полетели вниз по лестнице.
Я всегда мечтал тихо и плавно скользить по одной из таких девственных рек, убаюканный легким и нежным покачиванием, и вот теперь подскакивал, как одержимый, на бурлящем потоке воды, уносившем лодку все дальше и дальше.
Обдаваемый брызгами пены, я изо всех сил пытался не потерять контроль над каноэ.
Франческо, напрягаясь, как струна, по-прежнему сжимал в руках весла, ожидая моих приказаний.
Он вобрал голову в плечи и старался не глядеть на смелого викинга, который яростно скрежетал зубами и, судорожно вцепившись в рулевое весло, таращил близорукие глаза в тщетной надежде отыскать свободный проход на юго-запад.
И тут начался поворот, бесконечно длинный и опасный. У меня не оставалось времени ни на то, чтобы отвернуть вправо, где течение казалось не таким быстрым, ни даже на то, чтобы принять какое-либо решение. И это было нашим спасением.
Я успел только отдать экипажу команду убрать весла.
Течение вздымало нас все выше. У меня было такое чувство, словно я обгоняю на вираже двух-трех гонщиков-соперников. А скала ближе и ближе; вот уже она всего в нескольких сантиметрах. Я тоже убрал весло, признав бесплодность любой попытки удержаться на курсе. Малейший поворот оказался бы для нас роковым — каноэ носом или кормой коснулось бы скалы, и мы бы опрокинулись. Наше каноэ плыло, как обыкновенное бревно. Думается, начни мы наш маневр кормой вперед, он завершился бы столь же блистательно. Все зависело от гладкости скалы, поверхность которой вода за тысячелетия отполировала с величайшей тщательностью. Скорость была такова, что казалось с минуты на минуту центробежной силой нас выбросит на камни.
Между тем нас отбросило на середину реки, где среди коварных отмелей и множества незаметных средь пены камней оставался лишь узкий проход.
Настоящий водный кросс, в котором мы с Франческо рисковали жизнью.
Так мы путешествовали примерно полчаса, пока по счастливой случайности не приблизились к берегу. В акробатическом прыжке Франческо соскочил на берег, сжимая в руке трос. Наконец-то!
Без этой нежданной встречи с каменистым выступом, да еще в зоне сравнительно тихого течения, скакать бы нам по волнам целый день. В глубине души я начал сомневаться в том, что мы вернемся целыми и невредимыми. Франческо хотя и не пал духом, но все же был несколько обескуражен нашим боевым крещением. Впрочем, как я ни. был взволнован, все же сумел по достоинству оценить его двойное сальто-мортале и тройной обратный пируэт, притом без предохранительной сетки.
При такой сумасшедшей скорости течения мы, должно быть, отмахали не один десяток километров.
Франческо, взяв карабин, отправился на разведку местности. Я услышал, как он ворчит, что, если это место столь же богато дичью, как начало похода приключениями, лучшего и не придумаешь. Я прошел немного вперед, чтобы понаблюдать за рекой.
Ближайший отрезок пути показался мне ничуть не лучше предыдущего. Оставалось надеяться, что мы сумеем еще раз пристать к берегу и снова осмотреться.
Немного спустя мы опять сидели в каноэ. Пора было плыть дальше. Военная сводка Франческо была весьма краткой: две-три лисицы, несколько птиц.
Возможно, есть пума. Никаких следов нутрий.
Мы снова пустились в дорогу. Мало-помалу я освоился с рекой и стал разговаривать с ней на «ты», как со старым другом. Теперь нам удавалось чередовать короткие привалы с долгим плаванием вдоль берега. Мы даже научились приставать то к одному, то к другому берегу, когда нас привлекали его растительность и топография. И все-таки не обошлось без новых происшествий и волнений.
Тем временем небо затянули тучи. Часам к четырем, когда Франческо отыскал удобное место, мы высадились на «сушу». Вскоре пошел снег.
Я занялся едой, а Франческо отправился на охоту, захватив десять капканов и неизменный карабин. Вернулся он уже в сумерки. Ожидая, пока я сварю похлебку из риса, чечевицы и гороха, он начал ощипывать подстреленную им птицу; потроха пошли на приманку для лисиц.
— Я поставил шесть капканов на лисиц и четыре на нутрий,— сказал Франческо.— Но на удачу не рассчитываю. Мы еще слишком высоко,— объяснил он,— завтра двинемся дальше.
Птица, которую он ощипывал, называется мартинетта[15], и по оперению она очень похожа на цесарку.
Мне эти птицы уже были знакомы, так как они водятся и в менее пустынных местах. Обычно они живут стаями по десяти-двенадцати в каждой. Подстрелить их довольно легко, особенно когда они взлетают и тяжело, медленно плывут низко над землей. Труднее попасть в них, когда они спасаются бегством в кусты, часто и внезапно меняя направление.
На следующее утро, по-братски разделив мартинетту, мы пошли осматривать капканы. Пройдя по берегу, мы начали продираться через густые заросли.
— Дон Хуан ждет нас,— бросил на ходу Франческо.
— Дон Хуан?
— Да, el Zorro [16]. Ночью я слышал, как он угодил в капкан.
Значит, нас ждет дон Жуан, иначе лис! Я ночью ровным счетом ничего не слышал. Совершенно обессилев за весьма богатый приключениями день, я бы не проснулся, даже если бы с меня сдирали кожу.
Наконец мы увидели капканы на нутрий. Франческо поставил их в маленькой лагуне, у самой поверхности воды; они были пусты все до одного.
Ночью лагуна покрылась тонкой коркой льда.
Чуть дальше мы увидели лису. Красивую рыжую лису. Она угодила передней лапой в тиски капкана.
Глаза у нее уже остекленели; казалось, будто она жует резинку. Должно быть, она умерла совсем недавно, на рассвете, всю ночь безуспешно пытаясь, вырваться на волю.
Еще метров двести — и мы увидели вторую лису.
Заслышав наши шаги, зверь с отчаянием и упорством обреченного в последний раз попытался спастись бегством. Но, убедившись в бесполезности своих усилий, он приготовился к последнему сражению. Это был огромный и злобный лис. Он скрежетал зубами со слепой яростью голодного волка. Впрочем, он и похож был скорее на волка.
Я даже не подозревал, что бывают столь крупные лисицы. Попади в его челюсть рука, из нее получилось бы крошево.
Франческо отыскал узловатую палку и стал неторопливо остругивать ее ножом. Догадавшись о его намерениях, я попытался вступиться за лиса.
Нельзя ли его прикончить выстрелом из ружья?
Моя просьба была отвергнута. Франческо объяснил, что пуля может попортить шкуру.
Осторожно подойдя поближе, Франческо нанес лису страшный удар по голове. Я решил, что все кончено. Но раненый лис снова отважно бросился на своего врага. И снова вступила в действие палица.
Должно быть, точно так же сражались с дикими животными наши предки с острова Ява. Но у них хоть не было другого оружия.
Когда неравный поединок закончился, я попросил разрешения самому нести убитого лиса в лагерь. Во-первых, мне хотелось показать Франческо, что, даже будучи новичком, я могу быть ему полезным и на охоте, а главное, я стремился раз и навсегда победить свое отвращение к виду крови.
Связав лису ноги, я поплелся вслед за Франческо, таща свою жертву, как тяжелое ведро. Ведро, из которого сочилась кровь. Как только рука у меня уставала и почему-то начинала зудеть, я перекладывал добычу в другую руку.
Внимательно следя за дорогой, я менял руку совершенно автоматически. Пока... Пока не сделал одно довольно любопытное открытие: в то время как боль в плече и свободном локте тут же исчезала, рука продолжала зудеть и чесаться.
Зуд был какой-то странный и вызывал всякие подозрения. Нарушение кровообращения? Застой крови? Я поднял руку. Она вспухла и была даже не синей, а цвета молотого кофе. Наоборот, прилив крови?
И тут я увидел, что по обеим моим рукам ползают легионы блох. Здоровенных темных блох, проделывавших сложнейшие перестроения на моей бледной коже.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ
Сняв шкуры с убитых зверей, мы снова пустились в плавание, договорившись бросить якорь через два-три часа. И хотя ритм нашего путешествия можно было сравнить с учащенным сердцебиением, кризис уже миновал. Мне почти всегда удавалось пристать в указанном Франческо месте с разницей в двадцать-тридцать метров. Моя точность заметно возросла: еще днем раньше отклонение составляло двести-триста метров. Франческо, не прикованный больше к веслам, теперь довольно спокойно исследовал берега, помогая мне благодаря своей поразительной дальнозоркости следить за рекой. Частенько ему доводилось тревожно кричать: «Пена по носу!» Это означало, что впереди стремнина, пороги или небольшой водопад. Впрочем, это мог быть и естественный каменный барьер, перед которым вода взбухала пенистыми барашками.
Во всех случаях «белой опасности» на борту каноэ объявлялась тревога. Ведь каждый такой узкий проход таил в себе подвох. Франческо готов был в любую минуту применить свою геркулесову силу, а я свой «богатый» опыт. Но обычно ему не приходилось напрягать мускулы, а мне — ум, чтобы отыскать удобный проход.
Течение неумолимо волокло нас как и куда ему хотелось. Нас бросало из стороны в сторону, и мы мечтали лишь о том, как бы удержать лодку носом вперед. Этого было вполне достаточно. Плоское и крепкое днище каноэ, его весьма малая осадка позволяли нам одолевать любые водные преграды, даже задевая скалы и торчащие из воды камни, поросшие водорослями. А мощные борта лодки способны были выдержать и более сильные удары.
Плохо ли, хорошо ли, но лодка прокладывала себе путь через все препятствия.
Возглас «Пена по левому борту!» или «Пена у правого борта!» означал, что нам еще остается свободный проход и нет особых причин для волнения.
Убедившись, что нас ждет не опасный прыжок с высоты, а простая быстрина, мы сами устремлялись вниз по течению. Нам доставляло удовольствие гарцевать на бурунах, меж камней, подставляя лицо брызгам пены. Впрочем, это удовольствие могло иметь довольно скверные последствия.
Новая стоянка на усеянной галькой отмели, весьма отличавшаяся от прежней, показалась нам идеальным местом для отдыха и охоты. Раскинувшаяся амфитеатром в нескольких метрах от реки обращенная к югу терраса. По краям она поросла травой и .кустарником, и здесь можно поставить палатку. У самой террасы кладбище мертвых деревьев, бесценная находка для всякого повара.
Солнце и море света. Волшебство тишины, безбрежные дали, глубокое бездонное небо. И вода! Великое богатство и первейшая необходимость. Вода у наших ног. Вода для питья, стирки и промывания желудка.
Не вода, текущая из крана, или дистиллированная водичка химических кабинетов, а нежных голубых тонов речная вода с запахом хвои и водорослей.
В обед, прикинув все возможности охоты, мы решили пробыть здесь два-три дня. По правде говоря, прикидывал и решал один Франческо.
— Muy bien [17],— сказал Франческо,— мы останемся тут, пока не сгорит вот этот ствол.— Идея пришлась мне по душе: огонь с охапки веток перебирался на большущий ствол рухнувшего дерева.
Под защитой этого ствола я оборудовал кухню.
Если подбрасывать в костер сучья, ствол будет гореть не меньше двух дней. После обеда мы отправились ставить все двадцать пять капканов.
Две узкие и длинные лагуны на берегу, одна из которых соединялась с рекой, были для нутрий.
обетованным краем. В этих тихих, неглубоких заводях росло водяное растение, которое Франческо искал давно, но никак не мог найти. Это растение — любимая еда нутрий. Оно крепко прирастает ко дну и на целый метр возвышается над водой. Листья у него мясистые и длинные, словно шпага. Плотным зеленым ковром устилает оно поверхность мелководных лагун у самого берега. Нутрия миокастор питается корнями и черешками листьев этого растения белыми и аппетитными, как стебель сельдерея. Франческо начал ставить капканы на глубине одной-двух ладоней от поверхности воды, даже не пытаясь их замаскировать. Каждый капкан висячим замком с цепочкой он прикреплял к кустам на берегу, а если их поблизости не было — просто к колышку, который сам вбивал. На поверхности лагуны, вокруг капкана, мы разбросали корни, стебли, кусочки листьев, которые я выудил из воды.
Нутрии должны были соблазниться, этим дьявольским салатом. Не прерывая работы, Франческо показывал мне следы лапок, отпечатавшиеся в грязи, и пучки шерстки в зарослях камыша и на сухих листьях. Здесь нутрии дремали после сытного обеда и грелись на солнышке. Франческо называл их сонями. Он и на берегу осторожно поставил капкан.
Впрочем, особых предосторожностей тут не нужно — нутрия от природы не слишком сообразительна.
Это тихое, добродушное животное вообще не следовало бы трогать. Оно не опасно, никому не вредит ведет жизнь тихую и уединенную. Бедная нутрия счастлива, если ей не мешают мирно плодиться в своих уютных норах у самой поверхности воды.
Нет у нее и творческих притязаний своего североамериканского кузена. Хотя внешне нутрия очень похожа на бобра, она никогда не ставила перед собой .сложных гидротехнических задач и не пыталась блеснуть архитектурным мастерством. У этого скромного и доверчивого зверька — настолько доверчивого, что он одинаково смело ставит лапу на камень и на тарелку капкана,— к несчастью, очень ценный мех.
По этой причине целая дюжина хитроумных капканов несколько дней подряд безжалостно покушалась на жизнь безвредных обитателей двух маленьких лагун. Остальные капканы были расставлены полукругом за озером, весьма далеко от нашей стоянки. Предназначались они для лисиц.
На своем пути мы видели заросли кустарника, ущелья, расщелины, густо поросшие травой поляны, узкие проходы, тропинки. Легкие, осторожные следы говорили, что нас ждет богатая добыча.
Работа (я заметил, что тут требовалось куда больше умения, чем при ловле нутрий) была совсем не простой. Ведь это был поединок с одним из самых хитрых в мире животных. Здесь нужны были находчивость и тонкий расчет.
Хотя в этом году шкурка нутрии ценилась в четыре-пять раз дороже лисьей, Франческо готов был даже поставить лишний капкан на рыжую плутовку. Ведь ни один настоящий охотник не в силах отказаться от невидимой схватки с этим почти неуловимым хищником.
Только когда охотник ставит лисьи капканы, можно проверить, сколь он искусен и опытен: охота на лисиц — пробный камень для истинного трампеадора.
— Потому что лиса очень умное животное.
Это «умное» вбирало в себя ловкость, хитрость, смекалку, решительность, осторожность, а в крайнем случае и смелость, силу и даже отвагу.
Я, как примерный ученик, слушал и молча кивал головой.
Расписывая мне вполголоса все достоинства лисы, Франческо без устали отыскивал удобные тропинки, самые заманчивые уголки и нужные кусты. Тут он и ставил капканы. Те же, что и для нутрий, они состояли из двух полукруглых металлических лап диаметром тридцать сантиметров, соединенных с двумя мощными пружинами.
Когда животное дотрагивается до тарелки капкана, срабатывает пружина, и пленнику приходится весьма скверно. Обычно зубья капкана впиваются в переднюю лапу зверя. Зарядив капкан, его закапывают в специально отрытую ямку. И заряжение, и маскировка капкана требуют большой осторожности: очень рекомендуется во избежание потери нескольких пальцев надеть предварительно кожаные перчатки с толстой подкладкой. Почва большинства плоскогорий Патагонии песчаная, и закапывать капканы тут нетрудно.
Установив капкан в ямке, его накрывают листом бумаги, а затем аккуратно присыпают песком.
Лист бумаги создает пустоту между тарелкой капкана и верхом ямки, не позволяя песку и земле осыпаться вниз и засорять пружину. Успех или неудача в этом случае во многом зависят от опыта и мастерства охотника, от его умения тщательно замаскировать капкан.
Франческо всегда работал в перчатках, но не из страха оставить на песке отпечатки пальцев, а из опасения, как бы лиса не учуяла запах человека.
Меня особенно поражала поистине фотографическая точность его глаз. Достаточно было быстрого, но зоркого взгляда, и в его зрачках отпечатывались малейшие особенности местности, где он собирался ставить капкан.
Но вот работа окончена, и камень, пучок травы, лист — все заняло свои первоначальные места. Франческо обладал редким умением мгновенно воссоздавать прежнюю флору. Не только лиса, попавшая сюда впервые, но и та, что уже бывала здесь, не должна была заметить никаких подозрительных изменений. В самом деле, кто не удивится, выйдя утром из дому и увидев памятник на месте общественного писсуара и писсуар на месте памятника? Приманку из кусков мяса или внутренностей птиц, а иной раз из мяса убитых ранее животных, с которых, понятно, сняли шкуру, кладут не в капкан, как я думал, а поблизости, так, чтобы, прельстившись вкусной едой, лиса непременно задела бы капкан.
Цепочку, тоже старательно замаскированную, Франческо привязывал не к кусту, как это делается при ловле нутрий, а к большой отломанной ветке.
Попав в ловушку, зверь начинает метаться, пытаясь спастись бегством, и тащит за собой капкан, цепочку, ветку.
Если прикрепить цепочку к кусту, то лисе, вначале полной сил, вероятно, удалось бы высвободить лапу из тисков и, пусть ценою увечья, вновь обрести свободу.
Между тем при изобретенной Франческо системе у пленницы остаются самые ничтожные шансы на спасение.
Волоча за собой тяжелый груз, послушный любому ее рывку, лиса постепенно слабеет, и, когда цепочка, капкан или ветка зацепляются за какую-нибудь помеху, у бедного животного уже не остается сил для борьбы.
Франческо рассказав мне о случаях, когда лисицы сами перегрызали себе зубами сухожилия и, хромая, убегали на трех лапах.
Покидая «тропу войны», Франческо обламывал несколько веточек и клал на кусты кусочки бумаги.
Они служили ему своего рода дорожными указателями, чтобы утром отыскать все капканы. Такие ориентиры в этом районе с удручающе однообразной растительностью еще более необходимы, чем в тропическом лесу. Правда, для Франческо достаточно было одних сломанных веток.
Необыкновенной зрительной памятью в соединении с великолепным чувством ориентации он почти не уступал перелетным птицам. Мне же, привыкшему ориентироваться в городе с помощью путеводителя и гидов, тут ничего не стоило заблудиться. Где уж мне было отыскать капканы: обычно я сбивался с пути, еще когда искал приметы. Словом, я нуждался в ориентирах, чтобы найти ориентиры.
Когда мне случалось заблудиться, то, во избежание бесполезного кружения вокруг одного и того же места, как это произошло в первый раз, я по совету Франческо садился и стрелял вверх.
После этого я был уверен, что он меня разыщет ' и выведет отсюда. У нас не было ни часов, ни компаса, ни бинокля, ибо Франческо посоветовал не брать с собой эти совершенно бесполезные здесь предметы.
На следующее утро на нашей совести была уже смерть двух рыжих лисиц и трех нутрий.. Нутрия, заслышав наше приближение, отозвалась жалобным криком, удивительно похожим на плач малолетнего ребенка. Я остановился в полнейшей растерянности.
Хотя я и стал невольным сообщником Франческо, но быть участником преступления не желал. К счастью, после первого же удара нутрия навсегда рассталась с жизнью. Я никогда не забуду жалобных предсмертных стонов бедного зверька.
Но спустя несколько дней, привыкнув ко всему, я уже отправлялся проверять капканы на лис, засунув за пояс дубинку.
Впрочем, Франческо отнюдь не был жестоким и злобным садистом, он был просто охотником. Он по-своему уважал зверей. Убивал лишь тех, кто мог пригодиться для еды или имел ценную шкуру.
При этом мой друг старался сократить мучения зверей, угодивших в капкан, а если они попадали на мушку его ружья, он давал им шанс на спасение.
Обычно он стрелял с дальнего расстояния, если зверь сидел неподвижно, и часто позволял ему обратиться в бегство.
Таков был его неписаный охотничий закон. Впоследствии я не раз видел, как, выследив после обычных поисков зверя, он сначала вспугивал его, а уже потом стрелял.
Благородство? Анахронизм? Уверенность, что он все равно не промахнется? Или же, как он сам образно выражался, предоставление права «свободно топать ногами по земле»? Право, которое все мы должны иметь, так же, как и право честно защищаться.
Конец утра мы употребили на то, чтобы снять шкуры, развесить их на кольях и приготовить обед.
С этого дня, исключая часы плавания, распорядок дня оставался неизменным: утром осмотр капканов, снятие шкур и всякие домашние дела, в полдень охота и перед возвращением новая проверка капканов.
В тот полдень мы занялись охотой на зайцев.
В этих местах их водилось великое множество, и кроме вкусного мяса определенную ценность представляли и шкурки. Зайцев здесь было столько, что наловить примерно за три часа штук двадцать не составляло большого труда.
Чтобы не таскать лишний груз, мы снимали шкурки прямо на месте, а из мяса оставляли себе лишь нежную филейную часть.
В тот день я принял боевое крещение: убил зайца и едва не подстрелил моего друга. В оправдание могу лишь сказать, что до этого я ни разу не стрелял из охотничьего ружья. Что же до моего опыта в отношении зайцев, то он ограничивался участием одиннадцати лет от роду в обеде, который мой старый дядюшка устроил по случаю убиения зайца, пригласив на пир всех родственников вплоть до третьего колена.
Франческо охотился с обычной своей деловитостью и эффективностью, которая, по его расчетам, должна была расти с каждым днем. На затаившегося в кустах зайца он с расстояния сто метров тратил одну пулю, на зайца, бросившегося наутек,— от одной до трех. Его полуавтоматический винчестер почти не знал промаха, и отклонение от расчетных цифр было ничтожным. Пять пуль стоили столько же, сколько заячья шкурка; затратить больше значило остаться в убытке. А Франческо надеялся, что охотничья добыча окупит расходы на боеприпасы и продовольствие. Само собой разумеется, на мою помощь он особенно не полагался. Заряд моего ружья стоил немногим меньше, чем заячья шкурка. Даже предположив, что со временем я добьюсь невероятных успехов, пределом моих мечтаний оставалась одна пуля на одного зайца. Желанная же цель — убить двух зайцев одним патроном — была лишь радужной фантазией. Между тем только в этом случае я мог внести свой вклад в наше охотничье сообщество на паях. Но такого результата вряд ли добился бы даже мой учитель. Поэтому я старался стрелять как можно реже — только в тех зайцев, которые заглядывали в дуло моего ружья.
На следующий день мы первым делом проверили капканы. В одном из них мы обнаружили незваного гостя, с которым вовсе не собирались сводить счеты.
В лисий капкан угодил орел. Заманчивая приманка привлекла и его. Величавая птица беспомощно била сломанными крыльями, тщетно пытаясь взмыть в небо.
Увы, этот орел был первым из множества ни в чем не повинных жертв, которых мы тут же отпускали на волю. Последствия для пленников всегда были самые печальные: оторванные пальцы, искромсанные лапы, раздавленная плюсна. Мы неизменно отпускали несчастных на свободу, но, увы, надежд на спасение у них оставалось весьма мало.
Жилось нам в этом лагере хорошо. До сих пор помню, с каким огорчением глядел я, как огонь медленно пожирает огромный ствол.
Я успел полюбить эту чудесную террасу над рекой и с тоской думал о предстоящем отплытии.
Право же, мне следовало построить здесь настоящий дом, похитить индианку, наплодить множество детей и заняться разведением нутрий.
На второй день кроме обычных лисиц и нутрий нам удалось наконец раздобыть мягкий «матрац» из шкур. Для нас это было не прихотью сибаритов, а отличной подстилкой для спальных мешков.
Сигнал тревоги прозвучал в полдень. Мы поспешно доели заячье рагу с ризотто[18]. Это блюдо удавалось мне лучше других, и Франческо после такого обеда с большей легкостью прощал мне мои охотничьи промахи.
И вот, обрядившись в охотничьи доспехи и весьма отягощенный пищей, я семенил вслед за «великим вождем племени».
С полчаса мы шли вдоль неровного берега реки.
Внезапно. Франческо остановился. Кивком головы он указал мне на темную пирамиду высотой сантиметров семьдесят. Неподалеку виднелось другое сооружение, очень похожее на первое по цвету и по форме.
Казалось, кто-то хорошо знающий законы геометрии сложил пирамиду из больших фиников.
Однако я твердо знал, что в Патагонии финиковые пальмы не растут, и потому уверенно сказал: — Экскременты.
— Гуанако,— уточнил Франческо.
Гуанако — это местная разновидность дикого верблюда, но без горба.
— Сегодня они еще не приходили, но скоро появятся,-— сказал Франческо, внимательно исследовав пирамиду у наших ног.
Слава тебе господи! Теперь мы спокойно заляжем в засаду. Если бы они прошли еще до нас, Франческо увлек бы меня в утомительнейшую погоню. Его вид не оставлял сомнений, что к вечеру он решил любой ценой добыть гуанако.
Но почему они должны вновь пройти именно тут?
Чтобы забрать свой лежалый товар?
Старый охотник объяснил, что неизвестно, уж какие сентиментальные чувства заставляют гуанако возвращаться на прежнее место для отправления естественной нужды. К тому же он любит пить чистую речную воду.
Словом, гуанако рутинер и консерватор, а, если верить теориям Фрейда, то и скупец.
Все было ясно: «финики» несвежие, и, значит, гуанако еще не приходили. Франческо мог бы мне рассказать во всех подробностях о строителях этих причудливых сооружений, их возрасте, поле, особых признаках, желудочно-кишечных заболеваниях.
В области следов и экскрементов животных его познания были поистине энциклопедическими. Ведь это первейшие и самые необходимые сведения, своего рода «орудия производства» для ^любого охотника.
Мы спрятались за огромную кучу «фиников» и стали терпеливо ждать. За нами начиналась узкая отмель. Лежа на песке й греясь в лучах яркого солнца, мы на минуту забыли, что охраняем пирамиду, сложенную из довольно прозаичного материала. Там, где кончалась тропинка гуанако, река образовывала естественный водопой. У другого берега сотни диких уток лениво покачивались на неподвижной водной глади. Здесь были утки всевозможных расцветок; они беспрестанно оглашали воздух глухим, свистящим клокотанием.
Их монотонное бормотание и клекот прерывал лишь прилет или отлет новых птиц, которые тяжело опускались на воду или взлетали с разбегу, помогая себе лапами и оставляя позади белый след.
Высоко в небе несколько buitres — черных стервятников[19] с большущими крыльями — выполняли фигуры высшего пилотажа. В своем бесконечном полете, сотканном из крутых поворотов, неторопливых спиралей, плавных снижений, эллипсов, парабол, синусоид, они вычерчивали вокруг солнца изящные арабески, гордое творение скромных мастеров.
Эти жалкие стервятники, пожиратели падали, сами насквозь пропитанные трупным запахом, эти отвратительные могильщики, союзники смерти, могут вознестись к немыслимым высотам, опьянеть от солнца и закружить воздушный хоровод, которому позавидовали бы лучшие артисты балета. Ирония судьбы или же закон компенсации?
На противоположном берегу по песчаной косе, надежно оградившей уток от врагов, чинно шествовало благообразное семейство страусов нанду.
Отец, мать и дюжина детенышей. Они следовали с важным, задумчивым видом один за другим, строго по росту; разница между самым высоким и самым низким нанду была так велика, что малыши никак не поспевали за родителями.
Рельеф местности — река здесь расширялась, и воды ее текли медленнее — превратил этот район в удобное место встречи для разных животных; здесь можно напиться, сытно поесть, поболтать о том о сем.
Франческо, не выпуская из виду последний поворот, рассказывал мне историю этой страусиной семьи, пообещав, что вскоре мы ими займемся.
Он не успел изложить до конца программу охоты на ближайшие дни из-за появления долгожданных гостей.
— Гуанако!
Их было четверо: две самки, самец и маленький симпатичный детеныш — чуленго. Подойдя к отмели, гуанако остановились. Они были от нас примерно в двухстах метрах. Высокий, стройный, со светло-коричневой шерстью, первым двинулся к реке самец.
Вскинув голову и навострив уши, он внимательно глядел по сторонам, ступая медленно и словно лениво. Горделивая осанка и внешне равнодушный, надменный вид — характерные свойства этого вида животных, но сейчас он показался мне просто застенчивым существом, которое с наигранным хладнокровием отыскивает туалет. Сзади, ожидая приказа, неподвижно стояли родственники.
Сбоку, за кустом, прижимаясь к земле, мы ждали приближения врага. Глядя на величественную фигуру стройного гуанако, я на миг растерялся.
Уж очень различны были мои и его размеры. Обычно гуанако весит около четырех центнеров; это самое крупное из млекопитающих Южной Америки, на которых ведется охота. Впрочем, опасности для нас не было никакой, и мне представилось, что я укрылся на краю дороги, чтобы убить лошадь.
И главное только для того, чтобы завладеть ее шкурой. Так ли уж это необходимо?
Я шепотом поделился с Франческо моими сомнениями, но он ответил, что шкура гуанако убережет нас от плеврита или от серьезной простуды. Плеврит на расстоянии нескольких сот километров от ближайшего врача отнюдь не казался мне праздничным подарком. Значит, сейчас речь шла об особой форме борьбы за существование. Отыскав, таким образом, научное обоснование и успокоив свою совесть, я тоже взял гуанако на мушку. Надо, однако, сказать, что подобная предосторожность была излишней, ибо гуанако никогда бы не приблизился на нужные мне для открытия огня тридцать метров.
На полдороге между своим семейством и двумя злобными врагами любящий отец и муж попал под огонь Франческо. Почти одновременно с выстрелом я услышал негромкий сухой стук, точно кто-то ударил в барабан. Должно быть, пуля пробила гуанако грудную клетку. Он рванулся было, словно выстрел только напугал его, но не ранил, и тут бедного гуанако настигла вторая пуля. Животное рухнуло на песок и забилось в конвульсиях.
Франческо с первого же раза попал в цель, но без второго выстрела животное пробежало бы не один километр, прежде чем свалиться мертвым на землю.
Третий, последний выстрел прервал агонию гуанако.
Его родичи умчались в самом начале «дуэли» и сейчас жалобно кричали откуда-то с холма. Их печальный крик был похож одновременно на блеяние овцы и ржание лошади. Снять шкуру с гуанако дело нелегкое, и Франческо понадобилась моя помощь. Это оказался красивый, еще не старый самец с чудесной, не особенно длинной шерсткой. Мясо гуанако, которого хватило бы на роту солдат, увы, несъедобно. Своим острым запахом оно очень напоминает карболовую кислоту, вызывая понятное отвращение.
Стервятники, казалось, увлеченные своим поднебесным балетом, все ближе подбирались к туше бедного гуанако. Едва мы ушли, они приступили к пиршеству.
Мы постарались как можно лучше почистить и просушить шкуру и слегка присыпать ее солью.
Через два дня пол нашей палатки украшал отличный меховой ковер.
Мы с ужасающей быстротой превращались в почтенных буржуа! Наше новое преступление не могло остаться безнаказанным. И хотя бедный гуанако так и не вкусил счастья быть растерзанным пумой, его отлетевшая душа насладилась местью.
В роли мстителя выступила, конечно, река.
Эта могучая река, наш друг и одновременно недруг, услужливая и гордая, вызывавшая у нас любовь и ненависть, как те обольстительные создания «fin desiecle», ради которых шли на преступления и на подвиги, готовила нам подлое предательство.
Уже около часа мы мирно плыли по течению.
Франческо даже удалось, не приставая к берегу, разместить весь груз, сильно затруднявший нам свободу движений; две большие связки мехов и шкур, уложенные по бортам каноэ, уже приобрели немалую коммерческую ценность и требовали самого почтительного к себе отношения.
Постепенно река сузилась и текла теперь между двумя крутыми скалами. Зажатая с двух сторон каменным барьером, она ускорила свой бег. Не видя впереди опасных препятствий и желая поскорее миновать эти голые скалы, где на богатую добычу рассчитывать не приходилось, мы отдались на волю стремительного потока.
Посреди реки, вдали от берегов, трудно установить, сколь велика и опасна скорость течения.
Впрочем, когда ложе реки это позволяет, на помощь приходит верный признак, ясно говорящий о надвигающейся опасности,— это шум камней, медленно перекатывающихся по дну на глубине нескольких метров. Характерный грохот камней, ударяющихся друг о друга, ползущих по неровному дну, опрокидывающихся в воронки, неприятным, подозрительным шелестом долетает до поверхности. Проплывая над одной из таких банок, мы почувствовали, что нам грозит опасность. Шум стал каким-то пронзительным, чересчур громким. Мы приближались к повороту, после чего, по нашим предположениям, река должна была вновь раздаться вширь и умерить свой пыл. Между тем берега еще больше сузились, и мы очутились в тесном ущелье. Нас потащило к громокипящему водопаду. Ничего хуже нельзя было придумать. Попытка достичь земли имела совершенно символический характер. Нам это не удалось бы и на моторной лодке, не говоря уже о мускульных усилиях моих и Франческо.
Все произошло в несколько секунд, как и должно быть при всяком солидном происшествии. В несколько секунд, показавшихся нам годами.
Я попытался направить каноэ кормой к течению и соответственно носом к стремнине. А течение несло нас в узкую горловину, где бушевали грозные водяные валы. Горловина походила на огромные ворота, открытые лишь наполовину. Было бы логично, если б вода проносилась через открытый створ. Но все происходило иначе. Вначале вода пыталась пробиться через скалу, острием врезавшуюся слева в реку; затем, убедившись в бесплодности своих наскоков, она уносилась к внешней стороне излучины, куда ее гнали таинственные центробежные силы, и лишь тогда скатывалась по каменным ступеням вниз.
Отданные во власть стихии, оглушенные шумом воды, мы покорно убрали весла и улеглись на дно нашей лодки. Каноэ, поворачиваясь вокруг своей оси, обильно черпая воду и получая чувствительные удары коленом в одно место, совершило, однако, невероятный подвиг. Оно продолжало плыть по течению и не затонуло даже после головокружительного прыжка с высоты. Испытание без каких-либо заслуг с нашей стороны было выдержано блистательнейшим образом, и реке не мешало бы наконец утихомириться. Между тем, не дав нам даже перевести дыхание, она что есть мочи швырнула каноэ на подводный камень.
Леденящий душу скрип, Франческо вскочил и уцепился за скалу, готовый выпрыгнуть из каноэ.
Но мы уже неслись дальше, и я даже не успел отдать ему приказ сейчас же отпустить скалу. Минуту спустя мы угодили в грот, который вода за века выдолбила в гладкой стене скалы. Я попытался смягчить удар, перегнувшись через борт и вытянув руки. Но не мои руки коснулись скалы, а скала обрушилась мне на голову.
Волна приподняла каноэ, и я стукнулся головой о свод грота. Каноэ застряло в узком проходе, носом внутри грота, кормой снаружи. Я валялся на дне лодки с окровавленным лицом, а снаружи Франческо отчаянно цеплялся за каменную стену, в полнейшей растерянности глядя на меня. Решение я принял почти мгновенно, без малейшего колебания — снова направить каноэ в бурлящий поток.
Собственно, мысль об этом пришла мне задолго до начала путешествия. Добровольно ни я, ни Франческо никогда не оставим каноэ, если только оно само нас не покинет. Я часто думал, что рано или поздно мы можем очутиться в таком положении, когда перспектива разбиться о скалу заставит нас бросить каноэ и попытаться спасти шкуру. Тогда же я твердо решил, что этого нельзя делать ни в коем случае. Бросить каноэ — значит, навсегда потерять и его, и припасы, и патроны. Если бы даже нам удалось избежать ярости водной стихии, то потом мы погибли бы от холода и голода. Питаясь лишь твердыми, как дерево, корнями, мы с Франческо вряд ли добрались бы до какого-нибудь затерянного в пустыне ранчо. Пока наше судно не затонет, мы будем держаться за него руками и ногами.
Наконец мы с великим трудом выбрались из грота: давление воды гнало нас назад — казалось, лодка вот-вот разломится надвое. Но вот нас вновь понесло вниз по течению. Мы еще попали в водоворот, задели днищем о подводные камни, но теперь каноэ уже можно было как-то управлять.
Победа была близка; схватив весла и подбадривая себя дикими криками, мы выбрались в конце концов в долину, где течение было потише, и ценою отчаянных усилий подогнали к берегу нашу отяжелевшую от обильных порций воды посудину. Промокшие до нитки, озябшие и слегка одуревшие, мы разожгли торжественный костер. Нас начала бить нервная дрожь. Я молчал и потихоньку трясся в ознобе. Обсуждение всего пережитого было решено отложить на будущее. Теперь мы получили полное право, поеживаясь от холода, посматривать издалека на негостеприимный водопад. Потому что мы наконец-то могли позволить себе такую роскошь, как страх. В полнейшей безопасности, на берегу, этот страх был нам даже приятен.
Во время схватки с рекой и я, и особенно Франческо сохраняли полнейшее самообладание и старались любой ценой помочь один другому. Если бы даже на пути встретился второй водопад, мы выдержали бы и это испытание. Но сейчас нами владел страх, и скрыть это было невозможно. Быть может, потому, что мы Лишь теперь осознали, что произошло и какой опасности нам посчастливилось избежать. При этом событие не распадалось, как прежде, на отдельные части.
Рана на голове оказалась неопасной. Франческо обмыл ее своим лечебным чаем и больше ею не занимался.
Тепло костра не просто согревало нас; понемногу к нам возвращалось обычное благодушие и драгоценное чувство юмора.
Заливаясь смехом, мы вспоминали, как я бодал головой скалу, а Франческо сжимал эту каменно-холодную красавицу в страстных объятиях. Нас переполняла радость жизни, и мы не сразу заметили, что костер начал угасать. В одних трусах мы бросились за сучьями и, комично пританцовывая, , кидали их в костер, освещавший довольные лица двух неосторожных путешественников, которых любовь к природе и тишине забросила в безлюдные долины Патагонии. Взметавшийся все выше к небу огонь был символом нашей свободы и нашего богатства, языческой одой жизни. Верно, о таком вот костре мечтает зимой в большом городе изрядно намерзшийся бедняк.
Наше каноэ получило серьезные повреждения.
Нужно было устроить привал и привести все в порядок. Мы спустились еще ниже, в долину, ведя каноэ на поводке. В тот день ни я, ни Франческо ни за какие блага в мире не ступили бы на борт нашего «корабля». Вниз же мы спустились, чтобы удрать как можно дальше от глухого бормотания водопада, в котором нам чудились насмешка и угроза. Этот злобный ропот воды всю ночь не давал бы нам спать и преследовал бы нас кошмарными сновидениями.
Шкуры и припасы насквозь пропитались водой.
Киль, предусмотрительно обитый стальным листом, все же не выдержал, и его прорезала широкая трещина. Целый день мы чинили и конопатили каноэ, сушили все, что еще можно было высушить. Работы было столько, что мы не стали обедать, да и, по правде говоря, нам обоим совершенно не хотелось есть.
Это был единственный случай за все время экспедиции, когда у нас пропал аппетит. Зато поужинали мы весьма сытно — ведь не выбрасывать же подмокшие продукты; куда лучше поскорее отправить их в рот. После ужина при свете костра состоялась простая и торжественная церемония. Мы вырезали из пустой картонки нужные буквы и наклеили их на левый борт нашего каноэ, которое получило отныне звучное наименование «Спагетто I».
Франческо тут же вручил доблестному каноэ награду, прикрепив сбоку, у надписи, сверкающую гильзу.
Этим мы выразили нашу признательность неуклюжей и грубой плоскодонке, хладнокровию и мужеству которой мы были обязаны своим спасением. Иначе разве смогли бы мы продолжать наш разбой?
ТРАГЕДИЯ В ЛАГУНЕ
Нанду — это страус Южной Америки. Он немного ниже своего африканского кузена, но этот недостаток частично компенсируется наличием лишнего пальца на ноге и позволяет нанду не чувствовать себя бедным родственником. Нанду горделиво выставляет напоказ две несоразмерно длинные ноги и длиннющую шею. Приплюснутый, поросший шерстью лобик, согласно книгам по судебной медицине, неопровержимо свидетельствует о кретинизме его владельца.
Если вы в Патагонии или в Пампе упомянете в присутствии индейцев о нанду, вас не поймут. Индейцы решат, что вы задавака, и посмотрят на вас весьма косо. Может случиться, что один из них даже выхватит fachon — длинный нож, который они носят за поясом.
Однако, если вы скажете авеструц, птица страус, индейцы мгновенно исчезнут и вскоре прискачут верхом на коне, вооруженные особым лассо, болеодорой. Окинув зорким взглядом местность, индейцы бросаются на конях в погоню. Кроме печального выражения, общего для всех лошадей в этих краях, местные кони не имеют никаких характерных особенностей. Но .их обучили преследовать нанду. Как и нанду, эти кони привыкли с пятидесятикилометровой скоростью одолевать крутые холмы и молниеносно менять ритм бега, что весьма опасно для неопытного наездника. Только на этих конях можно подобраться к нанду на нужное для набрасывания лассо расстояние.
После пленения у огромной бегающей птицы забирают лучшие перья и, дружески хлопнув по плечу, отпускают ее на свободу. Понятно, если под рукой есть еда повкуснее.
Куда менее живописный способ охоты заключается в том, что, устроив на нанду засаду, его предательски убивают.
Иной раз с нанду можно встретиться и совершенно случайно на глухой тропинке, что заставляет иных верить в судьбу.
Спустя два дня после поединка с водопадом я шел в свой лагерь и очутился лицом к лицу с неосторожным нанду. Мы оба крайне удивились и не знали, что делать.
Ноги у нанду оказались куда послушнее моих, а реакция почти мгновенной. Со стремительностью бегуна-спринтера он бросился наутек. Это помогло мне разрешить сложную дилемму: коль скоро он обратился в бегство, я не обязан был делать то же самое. Выяснив, что серьезная опасность мне не грозит, а главное, желая утихомирить указательный палец, нервно плясавший на спусковом крючке, я вскинул свою двустволку и выстрелил. С того дня, слыша охотничьи рассказы, я самодовольно улыбаюсь: невезучий нанду, удиравший не разбирая дороги, опрометчиво подставил свою маленькую голову под мой шальной выстрел. Бедная птица замертво рухнула на землю. Мне даже не понадобился охотничий нож, который я смело выхватил из-за пояса, чтобы нанести врагу последний удар.
Я бы еще долго соображал, что мне делать с этой тушей, если бы на помощь не пришел Франческо, привлеченный громом салюта. Исследуя, куда же угодила моя пуля, он не удержался от изумленного восклицания: — Карамба!
Франческо сказал, что лишь такой меткий стрелок, как я, мог целиться в голову. Сам он обычно старался попасть нанду в бок или в бедро, что, понятно, куда проще. К тому же ему вряд ли удалось бы попасть в крохотную голову нанду или в его тоненькую шею. Франческо еще долго поздравлял меня. Я не остался в долгу и заявил, что он превосходно гребет и непонятно, почему он отказывается вести каноэ.
После обмена любезностями Франческо, к моему удивлению, не ощипал бедного нанду, а снял с него шкуру, не повредив и не потеряв ни одного перышка. Все это он проделал с такой же легкостью, с какой снимают рубаху.
С некоторого времени шкура нанду стала цениться дороже перьев. Из нее делают экстравагантные кожаные туфли со вмятинками в тех местах, где были перья. Эта мода весьма отразилась на судьбе нанду: уменьшился спрос на его перья, но сильно возросла в цене его шкура. Если раньше у бедной птицы были кое-какие шансы на спасение, то теперь их не осталось вовсе.
По указанию Франческо я срезал с крестцовой и тазовой костей нанду куски мяса, которых хватило бы на два огромных бифштекса, и отделил желудок.
Очищая его, я удивился содержимому этой большущей сумки: месиво из листьев, множество камешков, два кактуса величиной с кулак со всеми колючками и какие-то незнакомые мне коренья.
Назначение двух бифштексов я понял сразу; немного твердоватые, они все же пришлись нам по вкусу. Но вот зачем нужно было вырезать несъедобный, с моей точки зрения, желудок, я никак не мог догадаться.
В лагере Франческо, как всегда подробно и убедительно, все мне объяснил: желудок разрезается на тоненькие дольки, которые затем оставляют сохнуть на солнце. Когда они хорошенько высохнут, их измельчают в порошок, добавляют немного соли и сахару и высыпают в мешок. Если у вас, не дай бог, заболит живот или возникнут трудности с пищеварением, тут же примите щепотку порошка, разбавленного в воде.
Итак, мы сделались обладателями своего рода домашней английской соли.
Увы, мое знакомство с американским страусом началось и кончилось в тот же день. Больше мне уже не удалось встретиться с ним с глазу на глаз.
И все же благодаря Франческо нанду стал нашей ежедневной жертвой.
Прервав охоту на зайцев с огнестрельным оружием, мы предоставили наши ружья в полное распоряжение бедной птицы. Для зайцев же остались лишь силки. Собственно, это были даже не силки, а обыкновенные петли из тонкой проволоки. Обычно мы ставили их в узких проходах, где было много заячьих следов. Высота выбиралась с таким расчетом, чтобы заяц угодил в силки. головой, и тогда петля намертво схватывала шею. Нередко мы ставили до ста силков, и часто в них попадалось десять – двенадцать зайцев. В этом районе зайцев предостаточно, хотя и не так много, как в более северных районах страны, где они стали истинным бичом земледельцев. Это обычный европейский заяц (Lepus Europaeus), завезенный сюда моряками. На своей новой родине заяц весьма легко акклиматизировался.
Как бравый и трудолюбивый эмигрант, он стал быстро размножаться и завоевывать все новые и новые земли. Однако и в этих затерянных в пустыне уголках до них добрался человек, представленный — хорошо ли, плохо ли — мною и Франческо. И вот теперь мы предали бедных зайцев огню и мечу, и по вечерам их шкурки уныло висели на кустах у нашей палатки. Рядом со шкурками нанду, лисиц, нутрий.
На смену красной лисе мало-помалу пришла серая, к счастью, значительно меньших размеров.
Ведь наша работа становилась все более тяжелой: когда все двадцать пять капканов вступали в действие, а это случалось почти каждый день, нам приходилось шагать вдоль фронта капканов два километра. Если прибавить к этому расстояние от палатки до ближнего фланга, то получалось, что мы не менее четырех раз в день проходили по три – четыре километра. Путь от палатки до капканов с одним лишь ружьем за плечами был приятной прогулкой, но возвращение превращалось в мучительный марш-парад. Мы еле плелись, согнувшись под тяжестью богатой добычи. Кроме того, силки на зайцев, хоть мы и ставили их вблизи палатки, тоже надо было обойти один за другим. Тем более что эти карманные «мины» можно было поставить не всюду: в некоторых местах растительность была слишком редкой.
Подвешивая силки, я вспоминал, как украшал в детстве рождественскую елку. И то и другое можно доверить даже ребенку. Достаточно было подвесить маленький сюрприз к нижним веткам кустов, и силки застывали в боевой готовности. Конечно, и гут требовалась кое-какая маскировка. Короткая тренировка может превратить полнейшего профана в более или менее удовлетворительного охотника на зайцев при помощи силков. Но если ставить силки можно научиться, то собирать их — никогда. Обнаружение силков требует от охотника титанического напряжения памяти и зрения. Ведь нужно отыскать тоненькие куски проволоки, длиной в несколько сантиметров, спрятанные тщательно и в самых немыслимых местах.
По моим наблюдениям, когда старые опытные охотники теряют десять-пятнадцать процентов всех силков, то это уже крупный успех. Я обычно терял от восьмидесяти пяти до девяноста процентов. Франческо же достаточно было пяти-шести обрывков бумаги, чтобы найти силки все до одного. В нашем товариществе потерять силок еще можно было, так как его нетрудно заменить. Но вот потерять капкан не разрешалось. Думаю, что Франческо даже мысли об этом не допускал. Если бы подобное несчастье все же случилось, поиски должны были вестись до полного изнеможения.
Безвозвратно потерять капкан означало не только распрощаться с ним и с утянувшим его животным, но и со всеми животными, которые могли бы в этот капкан попасть.
Рассуждения Франческо отличались железной логикой, и я признавал их абсолютно справедливыми. Труднее всего было отыскивать капканы.
На берегу животное, волоча капкан, оставляло четкие следы, и за все время мы не потеряли здесь ни одного капкана. Что же до капканов, поставленных под водой, все зависело от сообразительности нутрии. Если зверек понимал, что, только достигнув берега и скрывшись в кустах, он сохранит слабую надежду спастись, наша задача сильно облегчалась.
Ум зверька был нам только на пользу. Но частенько нутрия этого не понимала и пыталась уйти под воду. В этих случаях тяжелый капкан утягивал на дно и топил глупую нутрию. Приходилось отыскивать .утопленницу, застрявшую в придонных водорослях.
Неприятное открытие было сделано во время утреннего обхода. Две нутрии порвали цепочки капканов. Одну из них мы тут же обнаружили в прибрежных кустах, и ее постигло неотвратимое возмездие. Но другая нутрия, выбравшая свободу, не оставила никаких следов. Капкан был поставлен на илистом берегу лагуны и прикреплен к тонкому колу.
Как видно, нутрии удалось его вырвать без особого труда. Почти наверняка это был крупный, сильный самец, и он сразу ушел под воду.
Пришлось нам снять ботинки, засучить штаны и лезть в воду. Мы потеряли тьму времени, разыскивая пропавшую в густых водорослях нутрию.
Вода была просто ледяной, но Франческо не сдавался. То и дело мы выскакивали на берег, чтобы погреться у костра, разведенного предусмотрительным трампеадором.
Затем мы снова лезли в воду и шарили палкой там, где уже не могли достать ни ногой, ни рукой.
Но все наши усилия оказались тщетными, и мы вернулись в лагерь. Я решил, что поиски закончились и теперь у нас будет одним капканом меньше.
Франческо почернел от злости, таким мрачным я его еще не видел. После обеда он нагрузился канатами, проволокой, топором, ящиком с гвоздями, сунул мне свой карабин и велел трогаться в путь.
Он говорил отрывисто, резко, и я почел за лучшее не задавать ему никаких вопросов. Все же я попытался угадать, куда мы идем.
Места для охоты здесь великолепные, залив очень красив. Вероятно, мы соорудим тут хижину и неделю-другую будем отдыхать. Уже целый месяц мы путешествуем и непрерывно охотимся. Я немного устал и мечтал подолгу наслаждаться тишиной и дикой природой. Мысль о хижине была просто чудесной, и я в душе горячо благодарил Франческо за его внимательность. Если бы нам удалось слегка заправить тишину и одиночество неделей блаженной лени, мы вкусили бы блюдо, достойное самого взыскательного сибарита.
Я даже не заметил, что мы подходим к лагуне.
Опять этот проклятый капкан!
Вместо хижины мы соорудили плот. До полудня мы кружили по лагуне в тщетной надежде извлечь из воды утонувшую нутрию. Дно мы исследовали теперь длинными шестами. Лагуна была довольно широкой, и нам не улыбалась перспектива лезть голыми в ледяную воду и потом долго плыть к берегу, чтобы погреться у костра.
Полчаса спустя у меня уже не хватало мужества смотреть на мои вспухшие, кровоточащие и синие от холода ноги. Каждый раз, когда мне приходилось двигаться по нашему зыбкому плоту, я испытывал такое чувство, будто ступал по стеклянной кровати.
Но Франческо пожелал обследовать дно той части лагуны, которая покрылась коркой льда.
Итак, вперед, наш гордый плот-ледокол! Мои нервы начали сдавать. Я почувствовал, что терпение мое кончилось.
У меня зародилось подозрение, что я попал в руки фанатика и садиста, способного в любой момент сбросить меня в воду и продержать там до тех пор, пока я не принесу в зубах мертвую нутрию с капканом.
Он сумасшедший, и я тоже схожу с ума! По тому, как яростно он греб веслом, было ясно, что взывать к разуму или пробовать с ним договориться совершенно бесполезно. Я готов был взбунтоваться и заставить его отступить... В таких случаях лучше стрелять первым. Я радостно и злобно ухмыльнулся.
Наконец-то меня осенило. Надо выстрелить первым.
Всегда стрелять первым! Кто дал перед отъездом этот драгоценный совет? Я отлично помнил: это был Хуан Эрейра, по прозвищу Красавчик. Он шесть дней скакал на коне, чтобы сразиться на ножах с нахалом, посмевшим утверждать, что может выпить больше, чем мой приятель. Однажды после очередной драки Хуан сказал мне: «В Патагонии всякое может случиться. Главное не растеряться и выстрелить первым. Из тюрьмы выйти нетрудно, но вот с кладбища...» Я хорошо его помню, Хуана Эрейру!
огромный детина, весь в рубцах, шумный и разговорчивый, щедрый с друзьями и беспощадный к врагам.
При этом разговоре присутствовал и Франческо.
Значит, и он знает, что, когда настанет момент... Но, к счастью, настал момент прекратить поиски. Возвестил об этом могучий залп живописнейших и непотребных андалузских ругательств.
У огня мои преступные планы, порожденные адским холодом и отчаянием, вновь удалились в область смутного, подсознательного. Только выпив чашку горячего чая, я признал, что это тоже была работа; не бесполезная трата времени, а настоящая работа.
Ведь и электрик, очутившись вдали от мастерской, будет долго искать запропастившиеся куда-то клещи, а шофер — разводной ключ. К несчастью, сами места и способ наших поисков были не слишком благоприятны для того образцового самообладания, которое писатели-юмористы рекомендуют сохранять при розысках затерявшейся в спальне запонки. Отсюда я сделал вывод, что следует лучше вбивать колья и крепче привязывать цепочку.
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА: ГАУЧО
Вот уже два месяца, как мы распрощались с владельцем грузовика, доставившим нас к подножиям Кордильер. С тех пор мы не встретили ни одного человеческого существа. Только небо, река, горы, растения и животные.
Мы потеряли всякие следы человека и забыли на время о человеческих страданиях и горестях. Путешествуя по реке, мы видели, правда, несколько заброшенных хижин и даже крохотный домишко.
Но мы не хотели терять даром время на новые знакомства, тем более что до места впадения КольонКуры в реку Лимай, по моим расчетам, оставалось совсем немного, а там уж встречи с людьми не избежать. Поэтому на следующее утро мы решили сниматься и плыть безостановочно, пока наше каноэ не вынесет в реку Лимай.
Ближе к полудню мы погрузили палатку и все грузы в каноэ. На берегу осталась лишь наша походная кухня. Мы приступили к обеду, как вдруг из-за высотки показался на коне гаучо. Минуту спустя рядом с нами присел красивый стройный креол с большими черными усами. Креолами здесь называют потомков первых испанских колонизаторов, прибывших сюда с семьями или взявших в жены индианок.
Это сыновья и внуки пионеров Пампы, Патагонии и севера страны. Именем «креол» гордятся все, начиная от президента республики и кончая нищим пеоном. Это своего рода антитеза имени гринго, иначе говоря, чужестранца или эмигранта последних лет. Обычно уже в самом этом слове заключены презрение и насмешка. Я тоже был гринго, но достаточно хорошо знал местные обычаи, чтобы понять, что этот креол еще не обедал и не откажется поесть вместе с нами, если мы его пригласим.
В самом деле, слезая с коня, он поздоровался с нами, произнеся: «Добрый день!» После полудня такое приветствие означает, что путник еще не обедал. Если бы гаучо сказал: «Добрый вечер»,— подразумевалось бы, что он уже поел или предпочитает пообедать в одиночестве. Тогда нам не следовало бы особенно настойчиво приглашать его разделить с нами нашу трапезу.
Незнакомец без особых церемоний принял наше приглашение и сел как можно ближе к огню. Он не скрывал, что проголодался и сильно замерз. Я протянул ему чашку бульона, а Франческо взялся приготовить мате. Хотя это не входило в наш рацион, мы прихватили с собой немного йербы мате, иначе толченых листьев, из которых готовят любимый напиток жителей Южной Америки. Мы взяли их в предвидении подобных встреч. Теперь нам представилась возможность встретить гаучо по традиционным обычаям гостеприимства. Я колдовал над кастрюлей и не мог составить им компанию. Надо признаться, я нарочно затянул приготовления к обеду. Как ни старались многие креолы, с которыми я свел дружбу, им не удалось привить мне любовь к этому напитку. Я понимал, что для людей, потребляющих в большом количестве мясо, этот напиток очень полезен, и самый обычай мне очень нравился, но ничего не мог с собой поделать.
Местным жителям очень не по душе, что некоторые не ценят всей красоты этого ритуала, и многие вообще не понимают, как можно обходиться без мате.
Аргентинцы щедро раздают награды и звания иностранцам, которые этого заслуживают, но вряд ли они присвоят почетное гражданство человеку, который не любит мате. Этот традиционный напиток, заменяющий одновременно аперитив и столовое вино, по-моему, предусмотрен конституцией. Словом «мате» называют не только напиток, но и сосуд, в котором этот напиток хранится,— маленькую фляжку с узким горлышком величиной с чашечку. Иногда эта фляжка бывает из золота или серебра, но чаще всего мате хранят в обычных банках из-под сгущенного молока.
В банку насыпают немного измельченных листьев мате и затем наполняют ее доверху теплой водой.
Воду подогревают в отдельной банке, причем ей не дают закипеть. Потом ее медленно, по капле выливают в сосуд с мате. После этого вы берете la bombil1а, иначе говоря, длинную и тонкую металлическую трубочку с фильтром, погружаете ее в напиток и начинаете неторопливо его посасывать. Если рот остается сухим, то, прежде чем посылать к черту местные обычаи, надо проверить, не засорился ли фильтр. Но коль скоро рот обожжет горячая жидкость, отдаленно напоминающая по вкусу бульон из сухих каштанов, вы можете найти утешение в мысли, что вам осталось не больше четырех-пяти глотков.
Тот, кто заливал сосуд водой, пьет мате первым, а затем передает фляжку соседу. И так она идет по кругу. Само собой разумеется, что и хозяева, и друзья, и нежданные гости тянут мате одной и той же трубкой — бомбиллой.
Когда в освещенных солнцем долинах и на открытых ветрам плоскогорьях гаучо или пеоны, усевшись у огня, тянут мате, кажется, будто присутствуешь на торжественной церемонии, своеобразном совете старейшин. Неторопливыми, плавными движениями они словно отмеряют время.
Это горький, мужской мате, который делает мужчину еще более сильным. Его не следует путать со сладким, женским мате. Сладкий мате обычно приготовляют на ранчо, добавляя в сосуд немного сахару.
Такой мате нравится женщинам.
Еще более приятным и сладким для гостя будет мате, который с манящей улыбкой подадут вам нежные руки девушки.
Тогда мате заводит с вами немую беседу; как руки и глаза, он тоже умеет говорить то нежно, то зло. А распознать его слова вам поможет небо: очень горячий — о мое сердце! Теплый — ты мне безразличен! Холодный — я тебя презираю!
Бесконечная гамма температур таит в себе самые причудливые и неожиданные слова. При некотором опыте нетрудно различить мате «осторожно, мать идет» от мате «я больше не люблю тебя». Очень скоро вы поймете и разницу между мате «этим вечером на том же самом месте» и мате «муж что-то подозревает».
Ооо, это дьявольский мате!
Наш гость с невозмутимым видом потягивал горький мате и вел с Франческо неторопливую беседу.
Они говорили о погоде, реке, о лошади гаучо, его единственном богатстве. Ни один из них не задавал вопросов.
Желание узнать побольше было взаимным, но каждый строго-настрого придерживался неписаного правила кочевников и скотоводов: «Никогда не спрашивай первым».
Когда гость ускакал, мы знали о нем ровно столько же, сколько он о нас. Если бы в пустыне встретились два итальянца, то после града вопросов и ответов они обнаружили бы, что являются родственниками в шестом поколении, и рассказали бы друг другу самые интересные подробности своей семейной жизни. Обсуждая нежданный визит, Франческо заметил, что наш гость мог быть и беглецом, которого разыскивают жандармы, и обыкновенным пастухом.
Во всяком случае, нас это не касалось. Гаучо, обманутый, должно быть, долгим переходом по пустыне, неверно назвал нам примерное расстояние до реки Лимая. Он сказал, что мы доберемся до этой реки к полудню следующего дня. Верно, он привык передвигаться на лошади и плохо представлял себе скорость каноэ. Так или иначе, но уже на закате наш «Спагетто I» бросил якорь у самого устья Кольон-Куры. С высокой песчаной дюны, у подножия которой мы расположились на ночлег, мы долго любовались открывшейся перед нами панорамой. Тихо, почти бесшумно, воды Кольон-Куры сливались с прозрачными водами реки Лимая.
ВОСПОМИНАНИЯ ЛЕЧУСОНА
За два года до нашего путешествия я впервые встретился с Патагонией. Встреча была внезапной, сухой, припорошенной песком, но очень приятной.
Именно так я и представлял себе первую встречу с пустыней или со степью.
Одиннадцать долгих дней наш грузовик, утопая в море гальки и песка, тащился по дороге, протянувшейся от Баия-Бланки почти до самой Огненной Земли.
Прежде по работе мне приходилось забираться в северные районы, но желания вновь побывать там у меня не появилось. Леса Гран-Чако и раскинувшиеся на границе с Бразильским нагорьем леса Корриентеса и Мисьонеса отвратили меня своей сыростью и запахом гнили. Ни богатая растительность, ни обилие диких зверей не радовали глаз в этом царстве гниения и зловония.
Но вот мы тронулись на юг, и постепенно безбрежные илистые реки, пироги, ягуары отступали, побежденные сухим колючим кустарником, пумами, гуанако и реками с чистой, прозрачной водой.
Зов пустыни возобладал над притягательной силой леса.
Посредником в моей первой встрече с Патагонией был камионеро-турок. Когда он перебрался в Америку, его труднопроизносимое восточное имя быстро превратилось в простое Хосе.
Я жил тогда в небольшом домике, пышно именуемом гостиницей, в порту Баия-Бланка. С турком меня познакомил владелец гостиницы; это был коротенький, толстый человечек с лицом добродушного ханжи. Хосе нуждался в лечусоне на время поездка к нефтяным приискам.
Лечу сон, что значит по-испански филин, сопровождает хозяина грузовика в его длительном путешествии. Это своего рода современный стремянный.
Обычно он сам не водит грузовик, ибо его владелец ревниво оберегает свое сокровище, а дороги здесь прескверные. Но и без этого работы у лечусона хватает: он должен грузить и разгружать машину, готовить еду, запасать продукты и воду и, главное, развлекать своими разговорами камионеро, чтобы тот не заснул за рулем.
Наша поездка должна была продлиться целых десять дней. Нам предстояло дважды свернуть с дороги за грузом, так как Хосе не желал ни единого километра ехать порожняком.
Лечусон имеет право на кров, еду и весьма скромное вознаграждение.
В то время я остался без работы, и турку легко удалось завербовать меня в лечусоны. Я рассудил, что заработаю кое-какую мелочь и мне не придется платить за гостиницу. К тому же в пути я составлю окончательный план будущего путешествия.
Прозвище «филин», которое дали спутникам камионеро, придумано удивительно метко.
Усевшись в тесной кабине, я и в самом деле, словно филин, таращил глаза, медленно ворочая головой. Убаюканный мерным покачиванием грузовика, одолеваемый сонливостью, я по долгу «службы» и ради престижа обязан был даже ночью ни на секунду не смыкать глаз, и мой равнодушный, безразличный взгляд блуждал вокруг. Таким же точно взглядом столетняя сова с высокой башни смотрит на бескрайнюю пустыню. Вначале мы погрузили в порту баки с бензином, а" затем, вместо того чтобы кратчайшим путем вдоль атлантического побережья отправиться к нефтяным разработкам, свернули на запад и углубились в пустыню Патагонии.
Нам предстояло доставить бензин в Чоэле-Чоэль и взять там груз фруктов для городка Комодоро-Ривадавия. Хосе возил бензин по договоренности о нефтяной компанией, а фрукты — по собственной инициативе.
Путь от Баия-Бланки до Чоэле-Чоэля почти все время пролегает вдоль железной дороги, ведущей к городу Сапала у подножия Анд. На полдороге к Чоэле-Чоэлю сразу за мостом через Рио-Колорадо начинается пустыня.
Мы переночевали у моста. Турок остался в кабине, по своим размерам, казалось, специально для него сделанной, а я улегся под грузовиком. Хосе уже много лет подряд колесил по этой дороге. После ряда неудачных попыток он остановился на профессии камионеро и с годами сколотил приличный капитал. Он собирался вскоре уйти на покой, чтобы вместе с женушкой мирно наслаждаться жизнью.
А пока что мы везли фрукты в городок Комодоро-Ривадавия. Как и Ушуая на Огненной Земле, Пунта-Аренас в Чили, Комодоро-Ривадавия получает продовольствие из северных районов. Но в отличие от двух других городков, куда можно добраться только морем, в Комодоро-Ривадавию ведет и шоссейная дорога. Правда, пользоваться ею можно лишь в летнее время, но она выступает опасным конкурентом морскому пути, особенно в снабжении Комодоро-Ривадавии свежими фруктами. Поскольку фрукты быстро портятся и перевозка их сопряжена с большим риском, стоимость груза возрастает с каждым километром, и моторизованные продавцы зарабатывают уйму денег.
Единственная опасность — это быстрое насыщение рынка. Достаточно прибыть в городок одновременно трем-четырем грузовикам, и фрукты приходится сбрасывать на берег или в море, потому что никто не желает их покупать, а долго лежать они не могут. Местные торговцы знают, что вскоре подоспеют новые грузовики и без свежих фруктов их лавки не останутся.
Предусмотреть все заранее невозможно, и каждый камионеро знает, что он рискует встретиться с конкурентами.
Хосе был специалистом в продаже фруктов и, если верить владельцу гостиницы в Баия-Бланке, ни разу не сбросил груз в море. Он разработал свою надежную систему борьбы с противниками. Хосе был турок, а, по словам того же владельца гостиницы, когда Колумб ступил на американский берег, первым, кого он встретил, был не индеец, а турок, который предложил ему купить партию безделушек для индейцев. На следующее утро мы добрались до Чоэле-Чоэля, где сгрузили бензин и взяли партию фруктов, которую местный садовод, предупрежденный заранее телеграммой, уже приготовил для Хосе. Чоэле-Чоэль —это поселок на левом берегу Рио-Негро. Поселок назван по имени большого острова, улегшегося прямо напротив. Чоэле-Чоэль на языке индейцев племени араукано как раз и означает «большой остров».
Это остров-оазис, единственное здесь место, где жители занимаются садоводством. Так же как в долине-оазисе в верхнем течении Рио-Негро, тут выращивают чудесные яблоки, груши и виноград.
Чоэле-Чоэль знаменит и вошедшим в историю сражением. Здесь войскам генерала Рока, который жаждал славы, удалось окружить отряд легендарного вождя индейцев касика Намуна Куры, по прозвищу Бык Патагонии. Выиграв сражение, войска белых намеревались взять в плен Намуна Куру, который с горсткой храбрецов отступил на ближний холм и приготовился погибнуть в неравном бою. Внезапно зажатый в тиски, вождь индейцев вихрем обрушился на своих врагов и вырвался из окружения.
Подвиг бесстрашного Намуна Куры стал украшением местных преданий, которые рисуют вождя индейцев верхом на белом коне, носящем его вместе с юной красавицей.
Наш груз состоял из четырехсот ящиков с яблоками, двухсот ящиков винограда и нескольких мешков сухих фруктов. Все это было аккуратно упаковано и рассортировано.
Паром перевез нас на другой берег Рио-Негро, откуда мы помчались по дороге к Сан-Антонио-Оэсте. Началась наша «фруктовая» экспедиция. Мы находились в пути с раннего утра до позднего вечера, останавливаясь в полдень часа на три пообедать и соснуть.
Хосе был чрезвычайно осторожным, методичным и пунктуальным. Ехали мы из-за «деликатного» груза довольно медленно, но с постоянной скоростью.
Время на остановки и на проверку фруктов Хосе отмерял по часам.
Он казался мне опытным старым капитаном торгового флота, отправившимся в плавание по степи.
Каждое его движение и поступок преследовали цель сэкономить время, пространство и энергию.
Но в финансовых вопросах его экономность переходила в жадность. Два-три раза мы могли бы пообедать на постоялом дворе и две-три ночи поспать в уютных постелях, но Хосе так все рассчитал, что в обеденные часы мы каждый раз оказывались далеко от любого стола, а ночью — от постели.
Днем было довольно тепло, почти всегда пригревало солнышко, но ночью мне не доставляло никакого удовольствия просыпаться от того, что холодный ветер срывал одеяло и простыню. Простыня неслась по ветру, словно белое привидение, и приходилось долго за нею гоняться.
3 А. Арлетти 65 Но вскоре я приноровился и начал обвязываться веревкой, отчего стал весьма походить на подвешиваемые к потолку колбасы.
От порта Сан-Антонио - Оэсте la carretera[20] бежит большей частью вдоль побережья. С одной стороны голубые воды Атлантического океана, с другой — океан пропыленных кустарников. Один за другим промелькнули прибрежные городки: бюрократический и претенциозный Росон — столица района Чубут, предприимчивый Трелев на берегу мутной реки, Пуэрто-Лобос — большой постоялый двор и полицейский участок — и маленькая жемчужина на дне глубокой котловины — Пуэрто-Мадрин.
В Комодоро-Ривадавию мы прибыли на пятый день; другие камионеро, вероятно, добираются туда быстрее, но только Хосе привозит все до единого плоды целыми и непобитыми.
День мы потеряли из-за небольшой поломки.
На участке дороги, пролегшей у самого берега, мотор, может быть засмотревшись на океан, вдруг застучал слабее и тише и вскоре совсем заглох.
Я вообразил, что Хосе тотчас же заберется в капот грузовика — размеры моего хозяина позволяли проделать этот акробатический трюк — и не вылезет оттуда, пока не устранит аварию.
Вместо этого он спросил меня, разбираюсь ли я в моторе.
— Да, я знаю, что в нем есть сколько-то лошадиных сил.
— Тогда придется ждать.
— Ждать?! Чего?! — встревожился я.
— Пока не проедет камионеро, который в этом разбирается.
Хосе двадцать лет водил грузовик, но об устройстве мотора не имел даже отдаленного понятия.
Все двадцать лет, если случалась авария, он спокойно ждал появления другого камионеро, который определил бы причину поломки, устранил ее или взял машину Хосе на буксир. И так как среди камионеро весьма развито чувство товарищества, система моего турка действовала безотказно. Единственное неудобство заключалось в том, что камионеро иной раз приходилось ждать и два-три дня.
В подобных случаях время утрачивает всякую ценность. Из богатства оно становится наваждением, проклятием, и самое лучшее — это впасть в спячку.
Правда, только для тех, кто не умеет читать в священной книге природы. Если вы любите и понимаете природу, пустыня сразу же оживает для вас: унылый доселе пейзаж приобретает редкое очарование, природа вступает с вами в беседу, время уже не кажется бесконечно долгим. В самом деле, его даже не хватает, чтобы полюбоваться огромными окаменевшими ракушками, которые океан отбирает назад у тонкой полоски земли, наслаждаясь мщением, о котором мечтал тысячелетия. А разве легко оторвать взгляд от узкого, врезавшегося в океан полуострова, превратившегося в пляж для сотен тюленей, которые греются на солнце, радостно повизгивая?! Можно часами любоваться семейством гуанако, занятым весьма серьезным спором; заметив постороннего, они тут же удаляются с самым независимым видом.
А океан?
Пустынный и мрачный, одинаковый и всегда разный, древний и такой юный, он завораживает и гипнотизирует своим ритмичным и одновременно грозным шумом, блеском пены, из которой с одинаковым успехом может вынырнуть невиданное чудище и смуглая Венера.
Впрочем, нелепое создание, которое, словно пустая бутылка, вдруг закачалось на волнах, было всего-навсего смешным маленьким пингвином.
От волнения он даже споткнулся, но потом направился прямо ко мне. Я сидел на берегу с гордым и скучающим видом помещика, готового немедля прогнать непрошеного гостя из своих обширнейших владений. Пингвиненок с бессознательной смелостью всех близоруких подошел совсем близко и смерил меня сверху донизу любопытным и наглым взглядом.
Возможно, он никогда не видел человека, а может, у него просто был скверный, задиристый нрав. Так или иначе, но его ждал неприятный сюрприз. Я внезапно и решительно захватил пришельца в плен.
Пингвиненок был изрядно удивлен. Эта неподвижная и смешная глыба, очень похожая на моржа, вдруг крепко схватила его и не отпускает.
Пленник оказался очень симпатичным и миролюбивым, и я вернул ему свободу, едва появился долгожданный шофер. Он ехал из Буэнос-Айреса тоже в Комодоро-Ривадавию с грузом живых индюков. Сотни жирных сонливых птиц совершенно одурели за время бесконечно долгого пути. Наш спаситель впервые забрался на юг страны. Из чрезмерной осторожности, а возможно, просто став жертвой предрассудков, он был вооружен, как настоящий pistolero[21].
Его «филин» — лечусон — грозно нацепил на пояс два кольта, а в кабине красовалось мощное охотничье ружье.
Видимо, наш камионеро и его спутник были убеждены, что им придется прокладывать себе дорогу сквозь трупы индейцев. Но их предшественники давно уже позаботились истребить непокорных. От последних индейцев из племени онас, которым удавалось утолить голод, лишь отыскав мертвую акулу, выброшенную морем на берег, не осталось и следа.
Вооруженные до зубов камионеро и лечусон отлично разбирались в моторах и быстро устранили поломку.
Комодоро-Ривадавия встретила Хосе и меня не самым лучшим образом; за несколько дней до нас сюда навезли тьму фруктов, и ни один из местных торговцев, хотя они и были старыми друзьями Хосе, не согласился взять ни ящика. Самым разумным с нашей стороны было бы сбросить фрукты в море, повеселиться в городке и затем вернуться домой.
Но мой турок мгновенно перевоплотился в бродячего торговца фруктами. На окрестных холмах разбили свои лагеря разведывательные партии тех компаний, которые первыми завладели богатыми залежами нефти: бельгийской, английской, французской, голландской, немецкой и, наконец, правительства Аргентины. Сравнительно неподалеку от этих лагерей маленькие отряды геологов ищут нефть в горах, и часто местное начальство весьма слабо осведомлено об их существовании.
Семь дней мы рисковали свалиться и сломать себе шею на коварных горных тропинках и крутых склонах. Сгибаясь под тяжестью ящиков, мы ходили от дома к дому, от барака к бараку, от одной нефтяной вышки к другой. Продажа фруктов в пустыне с доставкой на дом.
Спокойный любезный Хосе с милой улыбкой прямо с грузовика расхваливал свой товар. В мои обязанности входило снимать ящики, относить в дом, а если фрукты приходились покупателям не по вкусу, снова водружать ящики на машину. Случалось это довольно часто, ибо тамошние хозяйки были весьма разборчивыми. Впрочем, нередко Хосе удавалось убедить даже их, что это не обычные фрукты из садов у Рио-Негро, а отборные «do Brasil»[22].
Поздно вечером, намаявшись за день, я заваливался спать прямо в кузове, на ящиках.
У меня зрела мысль послать ко всем чертям Хосе с его фруктами и завербоваться в разведчики нефти. Отговорил меня один мудрый румын.
Я познакомился с ним в таверне за бутылкой вина.
Нам обоим в тот вечер хотелось выпить, и мы быстро стали друзьями. Должен, правда, заметить, что мой новый друг напивался каждый вечер. Он сказал, что здесь можно жить и работать, только приехав всей семьей. Одинокие очень скоро от одиночества и тоски начинают пьянствовать, теряют человеческий облик и превращаются в своего рода солдат иностранного легиона. О справедливости его слов говорили и похожие на казармы бараки, и грязные комнаты, которые ни разу не прибрала женская рука, и тоскливое безделье по вечерам.
Румын убивал свободное время в таверне, осушая бутылку за бутылкой. В строго определенное время он затевал с барменом спор о том, как должен выглядеть памятник неизвестному эмигранту.
Квартиры, где эмигранты жили целыми семьями, были куда приветливее и чище. Даже в неказистых снаружи домиках имелись все современные удобства, а от вещей веяло домашним уютом.
Ровно неделю я входил в эти дома, ставил ящики на кухне или в кладовой и слышал слова благодарности на самых разных языках от пухлых голландских хозяек, юных француженок, тоненьких мальчуганов, всегда готовых мне помочь.
К северу от Комодоро-Ривадавии есть маленькая бухта, Баия-Солано, где небольшая колония предприимчивых рыбаков-итальянцев ловит рыбу не совсем обычным способом. Каждое утро они выходят в море на баркасах; пузатые баркасы тянут длинный и крепкий линь, на который насажены крючки.
Поймав акулу весом сорок-пятьдесят килограммов, рыбаки продают ее торговцам, которые добывают из нее рыбий жир. (Хосе на обратном пути выдавал акулье мясо за сушеную треску.) Продав поддельные бразильские фрукты, Хосе погрузил в кузов поддельную треску и со спокойной душой повел грузовик назад, в Баия-Бланку.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА!
Однако вернемся к нашему путешествию. Встреча двух рек прошла без особых эмоций. Вскоре стало ясно, что нам не грозит никакая опасность. Реки обнялись радушно, но не слишком крепко. Легкий всплеск, негромкий шум прибоя, любезное рукопожатие, жидкие хлопки волн — все скромно, без помпезности и грохота. Даже скалы, громоздившиеся на правом берегу новой реки, мешая обзору, не смогли причинить нам серьезных неприятностей. Зажатая меж скал, вода бурлила и пенилась, словно в гигантском котле. Мы, понятно, угодили в этот котел и приняли обильную водяную баню. Но наши страхи оказались преувеличенными. Снова прыгать с высоты нам не пришлось. Точно желая выказать свою добрую волю, река потекла куда медленнее. Ее воды были более прозрачными и холодными, чем воды Кольон-Куры.
Когда высоко в небе взошло солнце, мы подплыли к излучине и увидели, что между берегами реки протянут стальной канат. У самой воды лепились справа два маленьких деревянных дома, слева — четыре хижины из веток и глины. Мы направились к правому берегу.
Все эти «могучие» сооружения' гордо именовались селением Пасо-дель-Лимай, а стальной провод предназначался для парома.
И хотя Пасо-дель-Лимай лишь отдаленно напоминал селение, мы были счастливы. Причин для этого было две: нам удалось без трагических инцидентов проплыть по самой опасной из рек, и мы наконец сумеем достать муку. Наши запасы муки кончились пять дней назад, и все это время мы обходились одними галетами, с тоской вспоминая об испеченных в золе лепешках и розовеющих на медленном огне блинчиках. Они были столь аппетитными, что мы никак не укладывались в норму.
Ближний из двух домов был приспособлен под почту. Мы с трудом отыскали в одной из комнат единственного служащего, припавшего к радиоприемнику. При нашем появлении он, не оборачиваясь, завопил: — Война! Вспыхнула война!
В его голосе слышалось торжество человека, первым сообщившего эту ошеломляющую новость.
Впрочем, не исключено, что он просто обладал воинственными наклонностями.
Так мы узнали о начале войны в Корее. Мы ждали любого приема и, учитывая наш внешний вид, не удивились бы, даже если бы нас встретили ружейными выстрелами, но ни я, ни Франческо не предполагали услышать этот радостный вопль. Как два зверя, попавших в капкан, мы в первый момент подумали о бегстве, но тогда нам не удалось бы разрешить проблему блинчиков. Волей-неволей пришлось остаться. Молча, с затаенным страхом прислушивались мы к словам диктора.
Что еще успели натворить люди за пять недель нашего путешествия?
Захваченные беседой с природой, сами ставшие нераздельной частицей этой природы, мы успели забыть, что в мире существуют войны.
Умолкнувший радиоприемник властно вернул нас к действительности. Когда молодой чиновник наконец обратил на нас свой взгляд, в нем светилось явное подозрение: а не диверсанты ли мы, получившие задание взорвать почту?
Франческо постарался успокоить его самой добродушной из своих улыбок.
— А нельзя ли все же достать муки в окрестностях? — спросил он, пристально глядя почтовому чиновнику в глаза.
Молодой чиновник ответил, что он очень, очень сожалеет, но ни у него, ни у метеоролога, ни у паромщика с того берега муки нет.
Выяснилось, что почтовый грузовик опаздывает из-за сильного снегопада на несколько дней, и у них вышли почти все припасы. Только этого нам не хватало!
Обследуя окрестности, мы обнаружили метеоролога. Он мирно удил рыбу под строгим наблюдением гелиометра, дождемера и еще каких-то странных приборов, заполнивших крохотную площадку у реки. Это было его семейство.
Не заметив каноэ, он поверил, что мы добрались сюда по реке, лишь когда мы рассказали, какой путь проделали, и показали наш «Спагетто I».
— А ведьмин водопад? — спросил он.
Значит, коварный водопад носил столь неуютное название.
— Полным ходом пронеслись через него на каноэ.
Старик хитро улыбнулся: его, мол, не проведешь.
Он оказался симпатичным человеком, но муки у него не было. Мы посидели с ним немного, расспрашивая о местах, которые нам предстояло пересечь.
Он рассказал все, что знал, не забывая следить за двумя тоненькими удочками с нейлоновой леской.
Вели его профессиональные способности соответствовали его богатейшему рыболовному вооружению, то лучшего метеоролога1 правительству Аргентины не сыскать.
Каждые четыре часа он терял драгоценных двадцать минут на проверку своих приборов, составление и передачу по радио метеосводок. Остальное время было безраздельно отдано рыбной ловле. Он показал нам погруженную в воду большую клетку, в которой томилось множество рыб. Эту необычную клетку он вручал вместе с почтой шоферу грузовика.
Затем самолет из ближайшего городка доставлял живую рыбу в столицу, где она служила украшением меню одного из фешенебельных отелей. Для завзятого рыболова, каким был старый метеоролог, это место казалось сущим раем. После шести месяцев работы здесь он получил право на замену. Вместо этого он лишь изредка пользовался отпуском, да и то главным образом с одной-единственной целью — договориться о новых поставках рыбы в Буэнос-Айрес.
Старик не отпустил нас, пока не прочел нам лекцию по ихтиологии. Это он объяснил нам, что наш обычный ужин состоял не из лосося, как мы думали, а из радужной форели. Уточнение, понятно, нисколько не повлияло на наш аппетит, но заставило меня слегка подправить меню. Отныне это чудесное блюдо называлось уже не «филе лосося с гарниром из икры вышеуказанной рыбы», а «филе радужное с гарниром из золотистых икринок».
Старик посоветовал нам устроиться в его хижине и не отправляться в путь, пока мы не запасемся мукой. А почтовый грузовик прибудет самое позднее через два-три дня.
Но, уверовав в фортуну, которая до сих пор была к нам благосклонна, подгоняемые к тому же охотничьей лихорадкой, мы снова оседлали реку в тот самый момент, когда страстный рыболов нехотя отправился проверять свои приборы.
Мы безостановочно плыли весь этот день и половину следующего. Река Лимай, похоже, решила сдержать все свои торжественные обещания, которые она дала нам при первой встрече. Вежливая и даже сердечная, она лишь изредка нервно подергивалась, но тут же успокаивалась. Обычно это случалось в узких проходах, усеянных белыми пенистыми барашками. Но теперь это нас не пугало. Ведь мы стали опытными и закаленными ветеранами.
Мало-помалу горы уступили место плоскогорьям. Остроконечные зубчатые вершины предгорий Кордильер сменились открытыми ветрам почти круглыми холмами. Угрюмые скалы отступили перед странными причудливыми сооружениями из камня и рыхлых пород, подточенных дождями и ветрами, отчего они стали похожи на полуразрушенные замки.
Сильно разнившиеся по толщине вертикальные пласты были окрашены в цвета преобладавшего в них минерала.
С каждым днем становилось все теплее, но солнце заключило союз со своим надоедливым приятелем ветром. Прежде дорогу ему преграждали высокие горы, а теперь он неудержимо рвался к реке, сметая все препятствия на пути. Если он налетал днем, что, к счастью, случалось довольно редко, мы мчались к палатке и герметически закупоривались в спальных мешках. Сильнейшие порывы ветра обдавали нас пылью, выстреливали в лицо сухими веточками и камешками, и мы предпочитали без промедления укрыться в палатке. В такие часы невозможно ни варить обед на открытом воздухе, ни чинить что-либо.
Завывание ветра, проникающие даже в палатку песчинки делают вас раздражительным, готовым взорваться по любому поводу.
Я твердо убежден, что главным препятствием для завоевания Патагонии были не индейцы, а злобный и неумолимый ветер. Он наделен силой гиганта и хитростью лисы. В одно мгновение он настигает вас в чахлом кустарнике, где вы напрасно пытались от него спрятаться. И тут же начинает хлестать вас по щекам, дергать за волосы. В конце концов он лишает вас последних остатков благоразумия, и вы выбегаете на открытое место, чтобы помериться силами с вашим мучителем. Нередко этот поединок бывает не на жизнь, а на смерть.
Вы полностью в руках ветра, он тащит вас как хочет и куда хочет, сто раз подряд заставляет кружиться на месте, безжалостно хохоча за вашей спиной. Потом вдруг лицемерно предложит мир, утихнет на время, а когда вы перестанете бороться, задушит вас новыми пригоршнями песка.
Впрочем, нам почти всегда удавалось избегнуть пыток, которые готовил этот беспощадный враг.
Но нас подстерегала другая беда. С двух сторон к реке подступала унылая, безотрадная низменность.
Никогда еще мы не попадали в столь бедные растительностью и дичью места. Кругом песок да-низенький кустарник у реки. Ни птиц, ни настоящей рыбной ловли; редко-редко — одинокий лисий след.
Казалось, что даже рыбы, которых так много в верховьях реки, заплывают сюда лишь случайно. А без охоты и рыбной ловли сыт не будешь.
Прикончив последнюю соленую рыбину, мы перебивались теперь лишь фасолью да чечевицей. Мы не послушались советов старого метеоролога и теперь, исчерпав все запасы, сели на голодную диету.
Целую неделю мы рыскали у берега в поисках пищи.
Правда, настоящий голод нам не грозил, ибо мы всегда могли свернуть с пути и добраться до какого-нибудь глухого селения. Но Франческо не желал ни на йоту отступать от выработанного заранее маршрута и стремился выяснить на будущее, какие места более всего пригодны для охоты. Мы уже решили было отведать лисьего мяса, по вкусу очень напоминающего собачье, когда нам попалось другое животное, мясо которого чуть более съедобно.
Это был quirquincho — броненосец или по-латыни Chaetophractus vellerosus. Эти ученые названия стали мне известны много недель спустя, тогда же мы звали броненосца фамильярно и чуть насмешливо волосач.
Принадлежа к семейству армадиллов, он по своим повадкам очень походит на крота. Только «крот» этот весит целых четыре-пять килограммов, и спина его покрыта крепким панцирем. Он никогда не отходит далеко от своей норы и прячется в нее при малейшей опасности. Если ему не удается скрыться в норе, броненосец ищет спасения в бегстве или же свертывается в шар, выставляя наружу один лишь панцирь, недоступный даже нашим палкам. Если же он успевает добраться до узкой неглубокой норы, вытащить его оттуда нелегко. Часто удается схватить его рукой за хвост, но пояса крепкого панциря застревают между стенками норы. Чем яростнее вы тянете, тем сильнее раздувается броненосец, упорно не желающий вылезать из норы. В конце концов в руке у вас остается жалкий окровавленный хвостик.
Но этот дьявол Франческо и тут придумал способ, как одолеть броненосца.
— Надо пощекотать веточкой деликатные органы под хвостом.
Бедный волосач от этой невежливой щекотки инстинктивно сжимался, и тут Франческо извлекал его из надежного, казалось, убежища.
После этого вступал в действие я. Первым делом я окунал броненосца прямо в панцире в кастрюлю с горячей водой. Затем ставил его в печь. При этом сковородкой служил сам панцирь. Мясо броненосца по вкусу отдаленно напоминает мясо поросенка.
Но, чтобы обнаружить сходство, надо быть очень и очень голодным.
При виде зажаренного броненосца скелеты гигантских армадиллов третичного периода, погребенных в пустынях Патагонии, дрожа от негодования, посылали нам свои проклятия.
«Сто раз лучше исчезнуть с лица земли после упорной и честной борьбы с суровой природой, чем выжить и увидеть, как двое жалких людишек издеваются над последними представителями нашего некогда славного рода!» И вот снова наступило чудесное время. Охота возобновилась с новой силой, и наше меню украсили разнообразные блюда, правда, только мясные.
Все чаще посреди реки встречались большие, удлиненной формы острова с богатой растительностью.
На этих островах водилось множество зайцев, птиц и симпатичных зверюшек cuis. Эти плодовитые грызуны[23] значительно меньше белки, но столь же быстры и грациозны. Живут они в густых зарослях ежевики. Робкие, пугливые, в ясные дни они греются на солнышке возле своих убежищ.
Достаточно было орлу появиться высоко в небе, как они со всех ног бросались в заросли ежевики, пересеченные узенькими тропками, очень похожими на переулки средневекового города. К счастью для маленьких грызунов, их шкурки не интересовали Франческо, а меня — их' мясо.
В часы отдыха мы любили наблюдать вблизи одну из маленьких колоний этих удивительно смешных зверьков.
В тех же местах возымела скверную для нее привычку часто попадать в капканы дикая кошка"[24].
У этого небольшого хищника пятнистая, как у ягуара, шкура. Мех дикой кошки ценится сравнительно дорого, и на пушных аукционах его выдают за мех ягуара, леопарда и других животных с экзотическими названиями.
Богатая добыча заставляла и меня приходить на помощь Франческо, когда надо было снять шкуры.
Я справлялся со своей частью работы вполне удовлетворительно. Правда, мне плохо удавалась окончательная отделка шкур, и я так и не научился толком надрезать лапу ногтем. А так как от этой тонкой операции во многом зависела стоимость меха, ее всегда выполнял Франческо, при этом с поистине хирургической точностью. Зато я очень гордился своими успехами в приготовлении кольев и подпорок для развешивания шкур. Франческо и кочевая жизнь постепенно пробудили и во мне атавистические инстинкты.
С каждым днем мы встречали все больше разных птиц, особенно водоплавающих. Ложе реки стало шире, и птицам было полное раздолье на песчаных и каменистых отмелях. Здесь они митинговали бесконечно долгими часами.
Утки, гуси, лебеди[25] водились тут в таких количествах, что возникала мысль об организованных заранее сборищах, на которых какой-нибудь болтливый океанский диктатор терзал своих бедных подданных пышными речами.
Тысячи и тысячи лебедей.
Мы столь далеки от мысли, что эти редкостные птицы, кроме зоологических садов и чудесных парков немногих принцев, живут на свободе огромными стаями, что нужно попасть на дикую реку патагонской пустыни, дабы удостовериться в этом. Понятно, что эти безлюдные глухие места лебеди избрали своим последним убежищем от беспощадных врагов — людей. Но даже сюда забрался авангард преследователей, предвещавший лебедям неминуемое истребление.
После целой недели замечательных солнечных дней я не удивился, когда, проснувшись утром, увидел вокруг снег. Я нехотя высунул голову из спального мешка и выглянул наружу. Сделать это было нетрудно, так как палатка спереди имела отверстие. Сияние рассветного солнца и блеск первого снега! Должно быть, он шел всю ночь.
Я снова забрался с головой в мешок, лелея надежду поспать еще немного, но Франческо стал меня довольно внушительно встряхивать, что-то бормоча себе под нос. Он велел мне вставать и молча одеваться.
То, что я принял за слой снега, оказалось стаей лебедей. Ночью на реку, возле палатки, опустилась белоснежная лебединая стая. В нескольких шагах от нас многочисленное племя лебедей, которых ничуть не встревожила молчаливая палатка, лениво пробуждалось ото сна.
Вначале глухое бормотание, неторопливое потягивание и похлопывание крыльями. Затем радостные восклицания, не смолкавшие даже, когда лебеди тщательно чистили клювом каждое перышко. И наконец хриплые, зовущие крики, громогласные ссоры, сердитые шлепки, сцены ревности, нежное воркованье. Малыши гонялись друг за другом, дрались, и все это прямо на глазах у родителей. Одни папы и мамы призывали своих чад к порядку, сердито ударяя их клювом, другие сохраняли олимпийское спокойствие. Вблизи лебеди казались черными, закрытыми зонтиками, нечаянно упавшими в белые керамические вазы.
Мирное племя красавцев лебедей готовилось встретить еще один чудесный солнечный день в заботах о хлебе насущном. Но за их спиной два жестоких и кровожадных представителя людского племени уже готовили им погибель. Не столько ради перьев, которые ценятся довольно дешево, сколько ради мяса. По словам Франческо, лучшей приманки, чем мясо лебедей, не сыскать. Острый запах будет еще издали приятно щекотать ноздри больших и малых хищников, заманивая их в капканы.
Я предпочел бы понежиться в теплом мешке, тем более что мне не улыбалась перспектива с раннего утра приступать к истреблению ни в чем не повинных лебедей.
С этого дня сия скверная привычка вошла у нас в обычай, свидетельствуя о моей быстрой эволюции.
Каноэ змеей подкрадывалось по воде к птицам.
Стараясь остаться незамеченными, мы зашли лебедям в тыл, чтобы течение само принесло к нам подстреленных птиц.
Тишину долины нарушил грохот пальбы. Лебеди, оглушенные и пораженные столь неожиданным «добрым утром», попытались было взлететь, но тут же отказались, то ли не понимая, что происходит, то ли из солидарности со своими ранеными товарищами.
Они упрямо плыли по реке, не сводя глаз с лебедей, бившихся в предсмертных муках, тоскливо клича их или пытаясь громкими криками придать им мужества. Очень скоро течение унесло поредевшую лебединую стаю за пределы ружейного выстрела.
Наши ружья без труда поражали легкую живую мишень. Моя колубрина, попав наконец в умелые руки Франческо, показала, на что она способна.
Течение прибило к нашему каноэ множество стонавших и бившихся в агонии птиц, другие мертвыми качались на волнах. Нескольким легкораненым лебедям удалось спастись и присоединиться к стае.
Вода окрасилась в красный цвет. Время от времени к небу взлетал предсмертный стон лебедей — пронзительный и немузыкальный крик. Теперь я понял, почему на сцене лишь показывают, а не воспроизводят песню умирающих лебедей. Этот нелепый и странный крик никак не гармонирует с величием смерти.
Завершив побоище, мы повесили шкуры лебедей вместе с перьями хорошенько просушиться.
Днем мы положили у каждого из двенадцати капканов по куску лебединого мяса. Этой ночью я, как обычно, заснул крепким сном; Франческо же спал мало и очень чутко. Ему не терпелось проверить, кто попался на аппетитную приманку. Уже засветло он разбудил меня и принялся допрашивать, не слышал ли я ночью шум. Я ответил, что ничего такого не слышал. Ночью мне снились одни и те же сны: река, пороги, слалом с крутых водопадов, страшные, свирепые рыбы. От ужаса я дрожал мелкой дрожью в тесном спальном мешке, но не просыпался. Усталость позволяла мне во сне лишь видеть, но не слышать.
Франческо же не терял попусту времени на сновидения и слышал все, что делалось вокруг. Этой ночью он услышал во сне нечто особо интересное.
Пока я готовил завтрак, он беспрестанно повторял, что этой ночью было mucho movimento[26].
Не прожевав как следует последний кусок, мы двинулись в путь. Шесть серых лисиц, две дикие кошки, одна красная лиса; одним словом, полнейший успех, если бы... не исчезновение одного из капканов.
«Вот почему Франческо утром говорил о mucho movimento», — сообразил я.
Пригнутые и сломанные кусты, комья земли, следы могучих лап. После недолгого изучения Франческо определил, что пума сорвала замок и уволокла впившийся ей в ногу капкан.
— А ведь ее-то мы не звали!
В оправдание бедной пумы должен сказать, что будь я голоден, то от манящего запаха лебединого мяса и сам наверняка угодил бы в западню. Впрочем, я и так очутился в западне, ибо мне предстояла неминуемая погоня за беглянкой.
Я пришел в отчаяние. Страх перед обезумевшей от боли пумой меркнул перед паническим ужасом, который нагонял на меня в подобных случаях Франческо. В памяти еще свежи были воспоминания о поисках в лагуне. Где и как отыскать выносливую и быстроногую пуму? Если бы ветка, к которой был привязан капкан, выдержала, животное не смогло бы пробежать больше двухсот-трехсот метров. Но ветка, искромсанная в щепки, валялась у наших ног.
Если пума может десятки километров тащить убитую овцу, то с маленьким лисьим капканом на ноге она способна пересечь всю пустыню.
Установив дополнительно, что это был самец, угодивший в капкан левой задней ногой, Франческо отдал приказ начать преследование. Теперь у нас было достаточно данных, чтобы отличить нашу пуму от остальных, если только они пожелают с нами встретиться.
Началась погоня. Франческо шагал впереди, не отрывая глаз от земли, я плелся в арьергарде.
Время от времени Франческо нагибался, чтобы рассмотреть еле заметный след или сломанную ветку.
Окинув местность орлиным взглядом, он снова устремлялся вперед. Он казался мне стрелкой компаса, которую таинственные магнитные поля упорно стремились отклонить к западу или востоку. Несколько колебаний, и вот уже стрелка опять показывает точное направление. Чтобы отыскать его, достаточно было упавшей сухой ветки или перевернутого камня. На ровном месте можно было различить и оставленный капканом след: длинную и четкую запятую.
Вскоре мы добрались до сухого русла одного из притоков реки. Мы пошли вдоль усыпанного галькой берега, и следы с каждой минутой становились все незаметнее. У нас возникло сомнение, не изменила ли пума направление. Мы вернулись назад по своим же следам и во второй раз произвели тщательную разведку местности.
— Вперед! — скомандовал Франческо.
Пройдя несколько метров по крупнозернистому песку, мы снова увидели характерную запятую. Итак, мы на верном пути. Развороченный глиняный холмик, отпечатки когтей на песке и подушечек пальцев на мокрой земле. Ясно было, что мы напали на след беглянки, и, возможно, этим же путем голодная пума подбиралась ночью к приманке.
Ложе речушки постепенно уходило вверх, словно устремляясь к нависшим над маленькой долиной скалам. Франческо уверял меня, что пума живет именно в этих скалах. Он даже предполагал, что в долине пума обычно охотится, а на скалах отдыхает после сытного обеда.
В жаркие часы мы не раз видели, как на подобных же скалистых террасах, недоступных для наших ружей, пумы безмятежно грелись на солнце. Должно быть, эти террасы они считали прекрасным местом отдыха и одновременно идеальным наблюдательным пунктом.
Я безгранично верил всем рассказам Франческо о повадках животных, но еще крепче была моя уверенность в том, что до этих скал мне не дойти.
Уже три часа мы рыскали по кустам и берегу реки, но все еще были весьма далеки от цели. Острые камешки больно ранили ноги, и мне казалось, будто я шагаю босиком.
Утром мы надели альпаргаты. (Кто знал, что нам предстоит гоняться за пумой?) Всегда, когда земля была достаточно сухой, мы надевали альпаргаты — башмаки с подошвой из пеньки и парусиновым верхом, очень удобные и легкие. Но сейчас, когда под ногами скрипели песок и галька, идти в альпаргатах было сплошным мучением.
Когда мы поднялись вверх по высохшему руслу речки, у меня зародилась надежда, что мы найдем капкан с застрявшими в нем клочьями шерсти. Но с каждым часом возрастала боль в ногах и слабела надежда. Разве я виноват, что ни густая борода, ни загорелая кожа, ни потрепанная одежда еще не делали меня заправским ходоком? Увы, ноги, слабые, изнеженные ноги горожанина, да к тому же служащего, остались прежними, Я никак не поспевал за Франческо. Казалось, пума давно задумала выставить меня перед Франческо в самом худшем свете, но он делал вид, будто ничего не замечает. Он нуждался в моей помощи и не позволял мне остановиться ни на секунду.
Русло реки все сужалось; с двух сторон стеной вздымались крутые скалы. На вершинах скал можно было разглядеть примитивные гнезда хищных птиц, придававших ущелью особенно мрачный вид. Угрюмые, неподвижные, похожие на мумий орлы и коршуны бдительно охраняли своих детенышей.
Внезапно внизу блеснула полоска воды, оживив унылый, безотрадный пейзаж. Это сразу же придало мне бодрость духа, мужество и твердость. Я задумал поднять бунт.
Лучшей возможности и не придумаешь! Вода, спички, немного еды есть, пещера тоже найдется.
Тут я смогу отдохнуть два-три дня.
Принять столь смелое решение меня заставило множество причин, и я бесстрашно изложил их Франческо. Пусть он знает, что я не желаю идти дальше навстречу бесславной смерти. Что, если мы встретим пуму и та кинется на меня? Да я даже ружье поднять не смогу. Придется мне, как некогда Андроклу, броситься к ногам пумы, умоляя ее пощадить меня. А уж я клянусь, что сниму с ее драгоценной лапы проклятый капкан.
Франческо с безразличным видом выслушал мой ультиматум и, к моему великому удивлению, признался, что тоже подумывал, не прекратить ли погоню. Он проявил такую уступчивость и понимание, что я сразу заподозрил что-то неладное.
Как бы то ни было, я решил отдохнуть и подкрепиться. Франческо взял у меня ружье и мгновенно исчез. Вскоре он вернулся с тремя странными птицами, которых успел ощипать. На разведенном мною костре птицы утратили свой восковой цвет и слегка порозовели, но мясо их осталось жестким, как у старого филина.
Когда человек утолит голод, многие события принимают более радужный вид и гораздо легче пасть жертвой даже самой грубой риторики: «Честь трампеадора»... «Достоинство охотника»... «Сила воли».
И хотя обед был не слишком сытным, он был столь обильно приправлен пышными декларациями Франческо, что боль в ногах прошла, и я согласился возобновить преследование. Мой яростный бунт бесславно угас.
Мы так и не добрались до скал и не провели ночь в горах, как я думал. Встреча произошла сразу после полудня и совершенно внезапно.
Меньше всего мы предполагали, что встретимся с пумой лицом к лицу прямо на берегу реки. Франческо уже хотел угостить ее свинцом, как вдруг опустил ружье.
Пума, приготовившаяся было к прыжку, в последний миг передумала и рванулась назад, пытаясь освободиться, но невысокая скала упорно ее не отпускала. Бедная пума снова угодила в ловушку и на этот раз без всякой надежды на спасение. То, что не смог сделать капкан, удалось цепочке. Заскочив в расщелину, цепочка после каждого отчаянного рывка пумы еще крепче застревала в узенькой щели, намертво пригвоздив пленницу к скале.
Случись это в самом начале погони, пуме, возможно, и удалось бы вырваться на свободу, оставив в капкане кусок лапы. А теперь, даже увидев нас, обессилевший зверь не в силах был сразиться с нами, чтобы в последнем яростном порыве обрести свободу.
Нам предстояло не убить свирепого хищника, а расстрелять беззащитного пленника. Мы решили подойти поближе и выстрелить сразу из двух ружей, чтобы ускорить конец бедной пумы. Медленно и осторожно мы двинулись вперед. Пума бешено металась, корчилась, падала на бок, вскакивала, бросалась на нас, пытаясь сдернуть свободными лапами капкан, но тот держал ее мертвой хваткой.
Равнодушная к нестерпимой боли, выбившаяся из сил, она была сейчас живым воплощением танталовых мук. Ее мучители были совсем рядом, они заслужили самую жестокую месть, но, увы, до них невозможно было дотянуться.
А мы подходили все ближе и ближе, неумолимые, словно судьи. Метрах в пятидесяти от пумы мы остановились. Хотя Франческо и назвал как-то пуму «скромным домашним животным, которое постепенно одичало», похоже, что она решила крупно поговорить с нами, если только ей удастся вырваться на волю. Едва мы остановились, пума тоже перестала метаться. Она села на задние лапы, а передними время от времени рассекала воздух. Сейчас она немного напоминала льва, который в цирке по знаку дрессировщика машет лапой. Но это был скорее вызов нам, двум коварным врагам, помериться силами в равной борьбе. Глухое злобное мяуканье, тяжелое, свистящее дыхание говорили о бессильной ярости гордого, свободного зверя, мечтавшего лишь о честной схватке.
Мы не приняли вызов и предпочли трусливо вскинуть ружья и взять пуму на мушку. Да и что иного мог ждать раненый зверь от двух беспощадных вооруженных до зубов врагов, державшихся от него на почтительном расстоянии? Прикованный к скале, истерзанный, побежденный, но не покорившийся, он встретил карателей с мужеством героя.
Грохот двух выстрелов слился воедино. Эхо помчалось вдаль, чтобы разнести по долине весть ,об убийстве. Но крутые стены ущелья, нашего верного союзника, сжали эхо в своих каменных ручищах и мгновенно задушили его. Преступление в пустыне должно было остаться тайной.
Пронзенная пулями смелая пума свернулась клубком. Когда она медленно подтянула лапу к ранам, мне показалось, что умирающий зверь обмакнул пальцы в собственную кровь, чтобы написать на скале гордое «Да здравствует свобода!»
ВТОРАЯ ВСТРЕЧА: ТРИНИ
В этих местах водилось множество пум, и два дня спустя еще одну настигли пули Франческо.
Он встретил неосторожную пуму у самой палатки и застрелил при попытке к бегству. И снова охота, рыбная ловля, отдых. Каждый день приносил нам свои радости и огорчения. Река все реже выказывала непокорность, и воды ее обычно текли неторопливо, степенно. Лишь ветер, нагулявшись вволю по плоскогорью, иной раз обрушивал на наше каноэ тучи песка и пыли. В слепой ярости, вступив в битву с мощным течением реки, он надолго приковывал нас к одному месту. Приходилось искать спасения на берегу и терпеливо ждать, пока у капризного ветра улучшится настроение.
Мы пользовались вынужденной стоянкой для того, чтобы обсохнуть и согреться; заливавшие каноэ волны и брызги придавали нам весьма непрезентабельный вид. Случалось такое нечасто, но однажды ветер застиг нас посреди реки и в течение нескольких часов не позволял нам продвинуться ни на миллиметр. Из-за сильнейшего течения нам никак не удавалось пристать к ближнему берегу, а к другому не подпускал ураганный ветер.
Уплыв далеко от цепи Анд, мы уже не попадали в короткие проливные ливни и внезапные снегопады, так досаждавшие нам в первые недели путешествия.
Мы углубились в район, где за год выпадает ничтожно малое количество осадков. Затянувшие солнце тучи здесь чаще всего не кучевые облака, а плотная завеса из мельчайших пылинок то яркого, то темного цвета. На закате это пылевое облако отливает золотом.
Солнце из-за кулис показывает световые эффекты; оно демонстрирует поистине виртуозное мастерство в оптических фокусах, приберегая под занавес неповторимый обман сразу двух солнц.
Молчание пустыни, безбрежные горизонты, открывавшиеся нашим взорам, когда мы блуждали по обширному плато, привалы под голубым небосводом, на этой честной, иссохшей земле, казалось, уходящей в лазоревые дали,— все это придавало нашей бедности величие, свободе — конкретность и самому нашему существованию — необычную значимость. Но к трудностям с мукой прибавилась сложнейшая проблема, которую стоит изложить для тех, кто учится на заочных охотничьих курсах.
Речь идет о так называемой «проблеме штанов», теме многих наших бесед и разговоров.
Как и Франческо, я отправился в путешествие, захватив две пары штанов. Одна составляла неотъемлемую часть моей каждодневной одежды, другую я хранил про запас.
Не продлись наша экспедиция так долго, двух пар штанов хватило бы. Быстрота, с какой изнашивается эта существенная принадлежность костюма, воистину поразительна. Хотя мои штаны были из прочнейшей ткани, через несколько дней колючки и кусты превращали их в лохмотья.
За две недели первая пара пришла в полнейшую негодность. Зная, однако, что заменить штаны пока нельзя, я всячески старался продлить им жизнь.
Почти каждое утро после завтрака я приступал к починке моих штанов: аккуратно прошивал их толстой иглой, чтобы предстать перед нашими жертвами в мало-мальски пристойном виде. Заплаты, наложенные с величайшей тщательностью и старанием, не посрамили бы любую портниху и, право же, напоминали произведения искусства. И все же моя мечта сберечь штаны до половины пути и лишь потом выбросить их разбилась вдребезги. Произошло это еще раньше, чем мы добрались до Пасо-дель-Лимай, в поединке с вонючкой. Она попалась в капкан, и я подошел, чтобы вынуть ее.
Зная, что, защищаясь, она, подобно хорьку, могла обдать меня зловонной жидкостью и нанести непоправимый ущерб моей одежде, я предусмотрительно остановился на безопасном расстоянии. Затем приступил к анализу положения. Передние ноги и мордочка вонючки были крепко схвачены капканом, и зверек не подавал никаких признаков жизни. Лежала вонючка[27] на боку, и ее единственный открытый глаз ничего не говорил.
«Но раз зверек лежит неподвижно, значит, он мертв»,— решил я. Я приблизился и смело протянул руки. Внезапно вонючка подскочила, с акробатической ловкостью извернулась задом и обстреляла меня из всех батарей. Месть за пленение была полной и беспощадной.
В лагерь я вернулся в одних трусах, неся штаны на длинной палке; от них исходило невыносимое зловоние. Попытка отмыть штаны мылом и затем выполоскать, привязав к корме железной проволокой и погрузив в воду, потерпела жесточайшее фиаско. До сих пор этот способ мытья нашей одежды давал превосходные результаты. Однако на сей раз не помогли даже умелые крепкие руки нашей терпеливой прачки Франческо. По совету друга я закопал штаны на целых два дня, но успеха так и не добился.
Пришлось их выбросить. Это неприятное происшествие не уменьшило моей симпатии к вонючке, хотя взаимностью я определенно не пользовался.
С того раза маленькая вонючка не раз попадала в наши капканы. Удивительно грациозная, с тонкой нежной шерсткой, она поражает своим большим пушистым хвостом. Вдоль спины у этого симпатичного зверька тянется белая полоса. Черные живые глазки,^ тонкая умная мордочка. Укоризненный, грустный взгляд тронет сердце самого опытного охотника, если он найдет вонючку в капкане еще живой.
Единственная ее защита — наполненные смрадной жидкостью стволы «катюш». Убедившись, что спастись бегством не удастся, вонючка бросается навстречу врагу. Приблизившись на дистанцию выстрела, она внезапно поворачивается и встает на передние ноги. Из околоанальных желез под хвостом следует залп по ошеломленному врагу. Маслянистая жидкость вонючки знаменита не только своим отвратительным запахом, но и его стойкостью. В парфюмерии эту жидкость используют как закрепитель.
Когда зверьку не приходится защищаться от врагов, он бывает послушным, ласковым, и его легко приручить, удалив, конечно, околоанальные железы.
Операция эта совсем не сложная и не требует особого хирургического мастерства.
После встречи с вонючкой «проблема штанов» встала передо мной во всей сложности. Новые штаны уже вскоре нуждались в починке, и я изрядно попортил нервы, приводя их в порядок.
Положение Франческо было ненамного лучше моего. Первую пару штанов он изодрал в клочья и принужден был вслед за мной выбросить в реку. Нам было необходимо срочно попасть в селение, если мы не хотели преследовать животных в одних трусах,— решение, достойное похвалы, но только не зимой.
Между тем из-за богатой охоты мы продвигались вперед крайне медленно. Сами берега были здесь куда приветливее, чем на реке Кольон-Куре.
После встречи с пумой в ущелье мы пристали к левому берегу в необычайно живописном месте.
Один из рукавов реки забирался далеко в глубь зеленого оазиса. Целый лес высоких растений у берега почти скрывал от глаз низкую густую траву.
Взгляд отдыхал на мягком изумрудном ковре, ровном, как площадка для гольфа. В этом естественном парке с невысокого холма тек ручеек, поя голодную землю. Так вот почему здесь мог вырасти зеленый лесок!
За несколько веков до нас здесь уже побывали люди. Вскоре я обнаружил наконечники стрел, осколки ваз и несколько bolas. Вероятно, тут некогда была стоянка индейцев племени арауканос или поэльчес. Bolas — это обточенные камни величиной с кулак, которые индейцы привязывали к двум двух-трехметровым плетеным кожаным нитям на конце длинной веревки. Такими примитивными лассо гаучо пользуются до сих пор.
Некоторые из камней были идеально круглыми, как биллиардные шары, другие — с опоясывающей их глубокой бороздой, в которой крепилась нить.
Круглые и гладкие шары клались в кожаный мешочек, чтобы легче было потом прикрепить кожаную нить.
По величине камней можно было определить их назначение: для охоты на скакунов, на страусов, на бледнолицых. Захватившая меня этнографическая лихорадка оставила Франческо равнодушным.
Однако и ему передалась моя страсть к скелетам доисторических времен. Он заставил меня выложить все мои познания в палеонтологии и частенько заглядывал в учебник зоологии, который я захватил с собой. Мир гигантских животных, исчезнувших миллионы лет назад, поразил воображение моего друга. Меню мегатерия интересовало его куда больше, чем мои рассказы о том, что индейцы прежде опьянялись не граппой[28], а свежей кровью кобылицы.
Но главной нашей заботой оставалась охота!
Добыча каждый день превышала наши самые оптимистические прогнозы. Порой случались вещи просто фантастические: приманка, вытащенная прямо из капкана, порванные силки, животные, уже попавшие в капканы, украденные хищниками; молодую нутрию зубья капкана схватили за резцы.
Но одна лиса попалась самым невероятным образом.
Произошло это, когда мы разбили лагерь возле зеленого парка. Лиса сидела на открытом ровном месте спокойно и неподвижно. Завидев нас, она даже глазом не повела. Невозмутимая и равнодушная, она смотрела куда-то вдаль со скучающим видом, словно пассажир, упрямо отказывающийся уступить место ребенку. Мы обошли лису кругом, чтобы получше ее разглядеть. Она сидела на капкане.
Лапы свободны, хвост тоже. Это был красавец лис; зубья капкана схватили его за тестикулы.
Короткая разведка местности — и вот уже Франческо установил мельчайшие подробности происшествия. Нет, лис не уселся по ошибке на капкан. Все случилось иначе. Рыская около капкана, лис почувствовал сильнейший зуд в одном деликатном месте. Сколько он ни чесался, зуд не проходил, и тогда лис решил потереться о землю, как это делают некоторые собаки.
Так он заполз на капкан, который и сыграл с ним злую шутку. У бедного зверя не хватило ни сил, ни мужества кастрировать себя, а единственное спасение от мук он нашел в абсолютной неподвижности. В этом необычном положении мы и обнаружили его утром.
Наконец мы снова пустились в дорогу. Теперь мы плыли вдоль правого берега, зная, что там должно быть небольшое селение.
Мы снялись с якоря рано утром, чтобы в тот же день добраться до селения. В полдень нам попалась новая лагуна с нутриями.
— Может, лучше не останавливаться, а плыть прямо к селению. Ведь до него осталось не больше десяти километров,— робко предложил я.
— Нет!— отрезал Франческо.— В трактире селения нутрий не водится.
Он взял ружье и капканы и отправился в разведку, а я занялся «домашними» делами. Поставил палатку, привел в боевую готовность кухню, развесил шкуры, чтобы они проветрились. Затем развел костер, на цыганского вида треножнике повесил над огнем кастрюлю.
Вода, соль, птица и рыба. Горсть фасоли для итальянца и горсть чечевицы для испанца. Когда вода закипела, я добавил горстку риса и щепотку муки. За едой каждый из нас отыщет в этом вареве то, что ему по вкусу. Это был наш второй завтрак, каковой мы вкушали иной раз в одиннадцать утра, а иной раз — и в три часа дня.
Обычно, пока готовился завтрак, я проверял развешанные шкуры и каноэ. В тот день я стоял у палатки в нескольких шагах от костра, как вдруг с другой стороны лагеря бесшумно появился юноша.
Вынырнув из кустов, он сразу остановился.
На незнакомце были короткие, видавшие виды брюки, старый пиджак и живописная, похожая на сахарную голову шляпа; кожа у него была смуглая.
Юноша уже собрался произнести глухим и печальным голосом жителей этих мест обычное «Buenas dias», как вдруг случилось нечто ужасное.
Сначала истерически застрочил автомат, потом совсем близко грохнули ружейные выстрелы. Не успели взвиться над костром странные облачка дыма, как я уже припал к земле, укрывшись за палаткой.
Кому и зачем понадобилось атаковать лагерь двух одиноких охотников? Из зависти? А может, это засада? Но чья? Беглых каторжников? Индейцев?
И что это подпрыгивает в золе после каждого выстрела? О боже! Ведь это... конечно же, это консервная банка, в которую я клал патроны для просушки. Так значит?!. Какой позор! И вдобавок незнакомец все видел и обо всем догадался!
В мои поварские обязанности входило и подсушивание у огня банки с патронами, слегка отсыревавшими за ночь. Надо полагать, я неплохо справлялся с этой несложной работой, так как Франческо не делал мне никаких замечаний, но в тот день я, видимо, поставил банку слишком близко от огня. Логическим следствием была внезапная пальба. К счастью, причиненный нам ущерб был невелик: с десяток взорвавшихся патронов и продырявленная кастрюля. Пуля от карабина пробила ее по самому центру и вышла у верхнего края. Кипевшая в кастрюле жидкость, дойдя до уровня входного отверстия, перестала вытекать, и я мог спокойно варить суп дальше. Вот только с этого дня нам пришлось уменьшить свой рацион. Теперь мы могли наполнять кастрюлю лишь наполовину, а не на три четверти, как прежде.
Но куда девался креол со шляпой в виде сахарной головы? Подсчитывая убытки, я слышал, как он умирает со смеху в кустах. Он сразу догадался, что произошло, и укрылся в кустах, чтобы в безопасности насладиться редкостным зрелищем.
Когда он наконец решился вылезть из своего убежища, на тропинке показался Франческо. Ему достаточно было одного взгляда, чтобы понять причину внезапной пальбы. Заметив незнакомца, он подошел к нему, протянул руку и дружелюбно сказал: — Que tal, amigo[29]? El amigo, безуспешно пытаясь справиться с душившим его смехом, не пожал протянутую ему руку, а прошел мимо. Он на ходу снял шляпу и слегка поклонился. Подойдя ко мне, он негромко хихикнул и ускорил шаги. Когда он снял шляпу, на плечи ему пушистой волной упали иссиня-черные волосы, обрамлявшие красивое лицо... молоденькой девушки.
Звали ее Трини. Тонкие черты ее лица хранили всю неуловимую привлекательность женщины Востока.
Этот тип смуглых худеньких женщин встречается здесь нечасто и, вероятно, своими истоками восходит к племенам, населявшим эти земли еще задолго до открытия Америки Колумбом. Невольно возникают столь же смелые, сколь недоказуемые мысли об особом влиянии раннего четвертичного периода на острова Тихого океана и о наличии единой этнической колыбели всего человечества.
Впрочем, не ведая о всех этих сложных научных догадках и построениях, Трини спокойно надевала на свое юное стройное тело изрядно поношенный мужской костюм. Словно цветы кактуса, вобравшие в себя таинственные соки пустыни, она расцвела однажды во всей своей целомудренной красоте.
Желая украсить нашу грубую, полную низменных интересов жизнь, судьба навела нас в тот день на след Трини. Причем не в переносном смысле, но самым буквальным образом. Мы разбили палатку там, где Трини обычно совершала свою прогулку.
Берег был для Трини набережной Тибра или местной виа Венето[30].
Узенькая тропинка выводила девушку к широкой естественной террасе над рекой. Сюда-то и приходила каждый раз Трини посмотреть на своих недосягаемых коней, которые паслись на другом берегу.
Все это мы узнали от ее отца, горделивого, похожего на патриарха старика, когда в полдень он посетил наш лагерь.
Мы угостили его мате, но думаю, что он не отказался бы и от стаканчика aguardiente[31]; к несчастью, мы не захватили ее с собой.
Старик пробыл у нас недолго, ровно столько, сколько понадобилось для первого знакомства. Он пригласил нас вечером к себе на ужин.
Величественный старик был главой маленькой семьи pobladores, живших на берегу реки, в километре от нашей палатки.
Побладорес, как они сами себя с гордостью именуют,— это мелкие скотоводы, поселившиеся здесь с незапамятных времен; почти все они обосновались на общинных землях, на владение которыми претендуют по праву давности. В их жилах течет столько индейской крови, что они иронически называют остальных аргентинцев cristianos — христиане. Всем им приходится вести постоянную борьбу с владельцами огромных — в несколько тысяч квадратных километров — поместий, которые любой ценой стремятся отнять у побладорес землю и превратить их в пеонов.
Старому Педро не нравилось получать приказы, трудиться не разгибая спины, жить вдали от семьи.
К тому же он испытывал личную неприязнь к надсмотрщикам. Хотя на оставшемся у него участке земли могло пастись не больше ста овец и несколько лошадей, он гордился своей независимостью. Он упорно боролся с надвигавшейся на него колючей проволокой богатых поместий и отлично понимал, что, отстаивая свой дом и кусок земли, он защищает свою свободу.
Ближе к ночи мы отправились к дону Педро на его ранчо. Конечно, тщательно подлатав штаны и прихватив ружья. Было совсем светло, и мы неторопливо шли вдоль берега, любуясь ночным пейзажем, который в холодном свете луны казался еще суровее. Вскоре мы увидели у самого берега низенькое из веток и глины ранчито. Другое стояло немного повыше на склоне холма. Мы остановились в нерешительности на полдороге, не зная, к какой же из построек идти, когда голос хозяина позвал нас с холма.
На пороге дома дон Педро объяснил нам, что ранчито внизу — его летняя резиденция. Зимой, опасаясь слишком уж сильного разлива реки, они живут наверху. Ранчито состояло из одной-единственной комнаты величиной пять на пять. Подвешенная к косяку из плетеных прутьев шкура гуанако служила дверью.
Лампа, наполненная козьим жиром, освещала лишь левый угол комнаты, где Трини с матерью жарили что-то на бидоне, превращенном в печку.
Остальная часть жилища освещалась пламенем огня, полыхавшего посреди ранчито: два камня и немного золы составляли примитивный очаг. Дым лениво уползал через трещины в потолке.
Огонь в очаге поддерживал Хуан, юный брат Трини.
Вежливого «Buenas noches»[32], которым обменялись гости и хозяева, оказалось вполне достаточным для официальных представлений и знакомства. Прислонив ружья к стене, мы уселись возле огня на небольшом бревне. Напротив нас, тоже на бревне, восседали отец и сын.
Наше бревно было покрыто матрой — домотканым одеялом, яркие цвета которого и примитивные рисунки вызвали бы восхищение многих художников и неописуемый восторг критиков.
Насаженная на своеобразную тонкую и длиннющую «саблю», над огнем медленно жарилась добрая половина козленка. Вкусный запах мяса вызывающе щекотал ноздри. Таким способом жарят мясо по всей стране, а похожий на саблю вертел — азадор — традиционное кулинарное оружие всех местных жителей. Так готовит обед одинокий гаучо, и так же потчуют губернатора, по возможности на открытом воздухе.
По знаку старика обе женщины поставили у огня корзину горячих блинчиков, заменявших хозяевам хлеб.
Приготовление жаркого подошло к концу. Дон Педро полил его из бутылки ароматным соусом.
Можно было приступать к еде. Вооружившись ножами и помогая себе руками, мы стали по очереди отрезать от козленка приглянувшиеся нам куски. Гостям предоставляли право сделать выбор первыми.
Мне уже приходилось однажды иметь дело с азадором, и я сумел не обжечь руку, служившую мне вилкой.
Дон Педро быстрым и красивым ударом сверху вниз нарезал ломтями кусок мяса, придерживая его пальцами на весу. Остальные, кто лучше, кто хуже, подражали ему. Ведь точный и мгновенный удар ножа — гордость каждого аргентинца, приступившего к трапезе.
Я уже давно отказался от столь смелого обращения с ножом, ибо это грозило моему носу серьезнейшими опасностями. К тому же юный Хуан ждал, что я попадусь в ловушку, но этого удовольствия я ему не доставил. Заметив, что я иностранец, он исподтишка наблюдал за мной, боясь пропустить тот миг, когда я сломаю нож, пытаясь отрезать кусок азадора. Ведь в местном фольклоре неизменно фигурирует грубый гринго, который вначале принимает вертел за нежную мясную косточку.
Трини и ее мать, которая была значительно моложе мужа, отрезали мясо молча, в последнюю очередь. Собственно, говорил один хозяин дома, а мы ограничивались односложными «да» и «нет». Ведь мы наконец-то дорвались до пирожков и козьего мяса, которое само таяло во рту.
Мы с Франческо насыщались точно так же, как у себя в лагере: жадно, торопливо, без всякого стеснения. Ни я, ни старый охотник не оказались на высоте положения. Обычно на праздничных обедах уважающий себя гость приступает к еде с таким видом, словно не хочет обидеть отказом хозяев, и не спеша, с легкостью уминает четверть коровы. Нам же не хватало торжественности и выдержки.
Хозяева радостно улыбались, довольные тем, что мы оказали такое внимание их кулинарным изделиям. Но их мучило сомнение, надо ли жарить вторую половину козленка. От тяжких раздумий они даже есть перестали: поле боя осталось за нами, и мы, словно два голодных зверя, накинулись на хорошо прожаренного козленка. Нам даже не понадобилось пышных слов, чтобы прославить творцов этого кулинарного чуда. За нас весьма убедительно говорил совершенно голый азадор.
Если Хуану так и не пришлось рассказать своему другу про то, как глупый гринго сломал нож об азадор, то он мог поклясться, что видел собственными глазами, как азадору чудом удалось спастись от зубов двух голодных христиан.
Наевшись, мы обнаружили наконец, что дон Педро рассказывает весьма интересные вещи. Голос его звучал торжественно и глухо. Годы не притупили его ума и наблюдательности, он обладал хитростью и одновременно простодушием жителя пустыни. Он пересыпал свою речь живописными сравнениями и шутками, приводившими Хуана в неописуемый восторг. Для веселого, экспансивного юноши наше появление в ранчито было огромным событием, и он никак не мог удержаться от смеха и радостных возгласов.
Дон Педро сказал, что сын очень любит охотников, но они уже давно не появлялись в этих местах.
Пять лет назад из Пасо-дель-Лимая к ним заглянул охотник по имени Сантьяго, но с тех пор бесследно исчез. Должно быть, он утонул, так как потом люди видели, как его собака носилась по берегу реки.
— А ведь Сантьяго почитал реку куда больше вас! — воскликнул Педро.— Я видел, как вы плыли сегодня утром. Каноэ приставало то к одному, то к другому берегу. Уж больно вы неосторожные.
Я бы на вашем месте обращался с рекой поуважительнее.
Он говорил о реке, как о грозном божестве. Затем снова принялся рассказывать о людях, конях, о захватчиках-гринго, о похищенных женщинах — множество удивительных историй, происходивших во времена настоящих, смелых людей, еще до того, как gringos destripados[33] проникли и в пустыню.
Трудно было понять, воспоминания ли это детства или же истории, услышанные от других. Хотя его дочь и сын были еще совсем юными, морщинистое лицо и седая борода говорили о том, что Педро немало прожил на свете.
— Сколько вам лет, дон Педро?
— А вы угадайте!
— Setenta[34].
— Eso es, senor[35].
Я мог бы дать ему на двадцать лет больше или на пятнадцать лет меньше, и он все равно бы ответил: «Верно, сеньор». Отчасти из вежливости, а главное потому, что он и сам не знал, сколько ему лет.
Годы существовали для него не как вереница чисел, а в смене одних событий другими. Это нетрудно было понять из его рассказов: «Год большого снега», «Год, когда река навсегда унесла Сантьяго», «Год, когда овца трех ягнят принесла».
Так по радостным и печальным событиям своей одинокой жизни в пустыне считал годы дон Педро.
Этих событий было и много и мало для полного счастья, однако вполне достаточно, чтобы поверить, что самая большая радость — это борьба за свой клочок земли.
Но если счастье заключается в исполнении одних и тех же дел и соблюдении неизменных обычаев, то семейство дона Педро должно жить безмятежно и радостно. Пригнать овец и коней на пастбище или на водопой, найти утром еще тлеющие в очаге головешки, изредка сходить в селение, чтобы выменять звериную шкуру на мешок муки и несколько коробков спичек. И снова окунуться в тишину и покой, зная, что будущее здесь ничем не отличается от настоящего, а настоящее от прошедшего.
В ранчито дона Педро полезная площадь делилась на две части: кухню-столовую и спальню-гостиную.
Углы возле двери — кухня и кладовка, углы у противоположной стены — две спальни-гостиные. В одной из них матрац из шкур для супругов, в другой— кровать Трини. Для Хуана родители выделили маленькую низкую пристройку, в которую вел узенький вход.
Женщины поддерживали в ранчито абсолютную чистоту. Сев в сторонке, они стали прясть.
Глава семьи, хотя он совсем не был похож на деспота, видимо, все еще крепко держал бразды правления в своих руках. Приказы он отдавал улыбкой или легким движением руки. По его знаку Трини поднесла гостям мате. Девушка надела женское платье, яркую юбку с рисунками, очень похожими на примитивные фигурки, изображенные на одеяле — матре.
Едва взгляд девушки падал на меня, ее лицо озарялось лукавой улыбкой. Увы, она не забыла утреннее происшествие у палатки.
Когда Трини обошла нас по кругу с фляжкой мате, я заметил, что Франческо чуть дольше положенного задержал взгляд на руке девушки, а та стыдливо ее спрятала. «Что же такое он разглядел своим орлиным взором?» Замешательство Трини не ускользнуло от отца, и он почел своим долгом все объяснить. Да, это оспинки, осенью они все переболели оспой, но быстро поправились. Так что бояться нам нечего.
Мы сделали вид, будто оспа для нас пустяки, и вскоре распрощались с гостеприимным семейством.
Этот пустяшный инцидент слегка притушил огонь нашего энтузиазма, разгоревшегося было ярким пламенем от рассказов седого патриарха, сытной еды и тепла маленького ранчито, затерянного в Патагонии, Расставаясь с хозяином, Франческо подарил ему свой охотничий нож — жест, которого я, признаться, от Франческо не ждал, зная, как ревниво он оберегает свое оружие.
— Дон Педро слишком пристально на него смотрел,— объяснил Франческо.— Если бы я так же долго любовался какой-нибудь из его лошадей, дон Педро подарил бы мне ее, хотя бы даже у него не было другой. А ведь у меня есть еще один нож.
НЕБЛАГОДАРНЫЙ АИСТ И ВОИНСТВЕННАЯ ФОРЕЛЬ
Ночью я проснулся. Франческо ворочался в своем мешке, тяжело пыхтел, что-то возбужденно бормотал, охваченный странным беспокойством. Наконец он забылся в тяжелом полусне, но ненадолго; внезапно он принялся свистеть!
В ранчито дона Педро вину предпочитали воду, так что напиться допьяна Франческо не мог. «Не иначе он сошел с ума!» — подумал я. Мне ни разу не приходилось слышать, чтобы он свистел, даже в тот чудесный солнечный день, когда он одним выстрелом убил лису, казавшуюся на таком далеком расстоянии не больше зайца.
Старый охотник пожаловался, что ему нездоровится: болит губа, да и горит он весь. Я полез за аптечкой: термометром и несколькими коробочками аспирина, лежавшими в старом футляре для очков.
Франческо лихорадило, и на губе виднелись два-три покраснения, грозившие превратиться в нарывы.
Он сказал, что, пожалуй, слишком налегал на жареного козленка и что не мешало бы ему принять таблетку аспирина. Хоть это наверняка не поможет, но для очистки совести что-то надо сделать. В ту ночь я тоже спал мало и плохо. Из памяти не выходила Трини и ее обезображенная оспинками рука.
Мне снилось, что я плыву в море на плоту. Рядом валяются трупы моих недавних товарищей по путешествию. Из всего экипажа и пассажиров корабля уцелел я один. Страшный груз плота приводит меня в содрогание, но избавиться от него я не в состоянии.
Потом я внезапно очутился в большом городе и бегал из дома в дом, вручая объемистые пакеты со странными фамилиями и адресами. Пакеты эти я брал с ошвартовавшегося у пристани плота. Я звонил, вручал родственникам пакет, ждал, пока они проверят, их ли это трупы, и распишутся в квитанции. Лишь одна старушка отказалась принять пакет, и я вышел на улицу под палящее солнце, не зная, что же делать дальше. К счастью, тут я проснулся.
Франческо уже встал и разжигал огонь. Чувствовал он себя превосходно, и я порадовался, что не придется везти его по реке завернутым в шкуру гуанако.
Единственным напоминанием о слишком обильном ужине осталась тоненькая корочка на нижней губе.
Когда пришел дон Педро, мы снимали шкурку с нутрии. Он вежливо отказался от мате и обменялся с Франческо несколькими фразами об охоте. У него был смущенный вид человека, который совершенно не привык, но сейчас вынужден просить об одолжении. Наконец он решился. Кони, которых мы видим на другом берегу,—его.
— Их ровно десять. Десять несчастных лошадок, которых сумасшедшая кобылица уговорила перейти реку. Случилось это еще осенью, река в ту пору сильно обмелела. А когда утром мы увидели коней, вдруг начался прилив. И вот уже четыре месяца бедняги кони пасутся на том берегу, прямо напротив. Они очень соскучились по дому, часами глядят на ранчо, но переплыть реку не решаются. С тех пор Хуан уже не может охотиться с болеодорой на страусов и гуанако, а нам приходится ходить в селение пешком.
Я всю жизнь провел на лошади, и без нее мне так же неудобно, как без штанов. С рекой я никогда дружбы не водил, и у меня даже лодки нет. Хуан еще молод, но в смелости он не уступит мужчине. Он хотел перебраться через реку у Пасо-дель-Лимая. Путь туда и обратно займет не меньше двадцати дней. Я не разрешил — слишком уж это долго. Хоть нам и нелегко приходится, мы решили дождаться лета, когда река снова обмелеет. Но, увидев вас, Хуан снова стал рваться на тот берег, за конями. Я согласился.
Если вы его перевезете, он сможет переправиться в Пасо-дель-Лимая на пароме и дней через пять будет дома.
Для двух старых морских волков просьба дона Педро была сущим пустяком, но времени это отняло бы порядочно. Пересечь реку в этом месте немыслимо, и нам предстоит спуститься вниз по течению.
Куда более трудным будет возвращение. Грести против течения — напрасный труд, и целых два километра нам придется плестись берегом, волоча за собой каноэ.
Словом, работа нас ждала нелегкая, но для нашего гостя мы готовы были и на большее. Меня очень удивляло необычное волнение и беспокойство дона Педро. Вначале я приписал его смущению человека, который привык справляться с любыми трудностями, а теперь вынужден просить об одолжении. Но все объяснялось совсем иначе.
— Хуан мой единственный сын, и я хочу, чтобы он пережил меня,— продолжал дон Педро.— Я не побоялся бы отпустить его на коне в горы: когда сын едет верхом, то кажется, будто он врос в седло. Но вот переправа через реку меня немного пугает. Не хочу вас обидеть, но реку надо почитать.
Тут он стал объяснять, как нужно обращаться с этим капризным божеством, и я уловил в его словах недвусмысленный совет не возвращаться назад, если с Хуаном что-нибудь случится.
Мы договорились встретиться в полдень. В знак дружбы я отдал старику остатки меда для его сладкоежки дочери.
Юный Хуан пришел один, серьезный и важный.
Отец снабдил его всем необходимым для дальней дороги: лассо, седлом, болеадорой. По лицу юноши можно было прочесть, что доверенная ему ответственная миссия наполняет его гордостью. Он старался держаться степенно и спокойно, как verdadero hombre — настоящий мужчина, и всячески умерял свою ребяческую радость.
Переправились мы без особых трудностей. Течение снесло нас вниз, чуть дальше задуманного, но с помощью Хуана мы пристали почти к тому месту, где паслись лошади. Здесь мы выгрузили снаряжение Хуана и его самого. Распрощавшись с нами, он, захватив лассо, отправился ловить своих скакунов, которые чуть поодаль наблюдали за нашими маневрами.
Мы двинулись вдоль берега, таща за собой тяжелое каноэ, а затем поплыли к своему лагерю.
Уже на середине реки мы увидели Хуана. Он подскакал на коне к берегу и махал нам сомбреро. В седле юноша казался совсем не таким неуклюжим, как в каноэ.
Дон Педро ждал нас на берегу у разведенного им костра. Он снова пригласил нас к себе на ужин. Под тем предлогом, что нам рано утром отправляться дальше, мы отказались. Честно говоря, мы боялись снова объесться козлятиной и еще больше — последней отчаянной атаки притаившейся оспы.
Всю ночь на противоположном берегу горел костер Хуана, посылая нам свой дружеский привет.
Хуан предпочел расположиться на ночлег между нашей палаткой и ранчито, отложив выступление в поход на следующее утро.
Он первую ночь в своей жизни спал не дома, а на берегу реки и хотел, чтобы родные и мы были свидетелями его боевого крещения. Как и всякий гаучо, он захватил с собой постель и еду.
Седло служило Хуану кроватью, круп лошади — подушкой, козья шкура — матрацем, попона (chiripa) — одеялом. Я так и не выяснил, превратилась ли со временем кровать в замысловатое южноамериканское седло или же седло — в кровать.
Оно вполне годится для обеих целей и кажется созданным дерзкой фантазией какого-нибудь современного архитектора.
Прожаренное ребрышко козленка отец дал Хуану только на этот вечер. По добрым здешним обычаям, утром Хуан позавтракает тем, что раздобудет на охоте. На коне, да еще с болеадорой, настоящий гаучо никогда не пропадет с голоду.
При пробуждении нас ждал приятный сюрприз: возле огня стояла большая деревянная миска, полная молока. Нам полагалось бухнуться на колени, громко вопя о чуде, если бы рядом не отпечатались следы Трини. Хотя она приходила по велению отца, это поручение доставило ей удовольствие. Ведь эти чужеземцы такие смешные, и очень интересно еще раз побывать у них в лагере.
Мы пообещали дону Педро, что на прощание непременно подплывем к его ранчо. Все семейство вышло нас встречать на берег реки. По знаку седобородого патриарха Трини подошла и протянула нам маленького разделанного козленка. Мы даже не пытались вежливо отказаться, потому что дон Педро мог кровно обидеться, а Трини ехидно усмехнулась бы. А сейчас она мило улыбалась, и глаза ее говорили: «Конечно, при вашем аппетите этого мало, но до вечера, верно, хватит».
Прощание было коротким, но очень сердечным.
За эти дни мы успели проникнуться симпатией друг к другу. Наше появление было для них самым крупным событием года, отодвинув на задний план даже эпидемию оспы.
Этот год наверняка войдет в их семейные воспоминания как «Е1 aflo de los gringos»[36]. Нам понравилось, что эти люди упорно сопротивлялись «цивилизации», которую несли с собой помещики, а их поразило, что мы сумели обуздать реку.
Все же дон Педро еще раз посоветовал нам обращаться о рекой повежливее. В порыве откровенности я признался ему, что сам боюсь реки еще больше, чем он.
— И Сантьяго так говорил... Бедный Сантьяго, это был настоящий мужчина!
Действительно, этот Сантьяго был, вероятно, человеком недюжинным. Всю зиму одному плавать по реке и охотиться в этих пустынных районах мог только человек необычайно сильный, выносливый и мужественный. Это требует нейлоновых сухожилий и железных нервов. Вооруженный этим совершеннейшим оружием, Сантьяго вступил в схватку с рекой, но был побежден.
Дон Педро не боролся с ней, а окружил ее таким поистине божественным почитанием, что река стала милостивее к нему. Чтобы не прогневить своего грозного противника и повелителя, дон Педро решил даже не строить лодки.
Быть может, эти странные поверья помогли ему спокойно прожить много лет. В этом священном почитании реки проявлялась языческая душа дона Педро; духи добра и зла не подвластны человеку пустыни, и он должен смирить перед ними свою гордость. Дон Педро выходил победителем во многих схватках с людьми и с природой, но река заставила его сдаться. С годами его первобытная ненависть к реке превратилась в своего рода религиозное смирение. Лимай из врага сделался его могучим повелителем, подчас дьявольски хитрым и мстительным.
Отплыв далеко от берега, мы заметили Трини.
Забравшись на холм, она махала нам своей «сахарной» шляпой. Только ее эта уединенная, однообразная жизнь начинала тяготить. У нее была улыбка девочки, но в ней уже затаилось лукавство осознавшей свою привлекательность женщины. Видно, скоро, очень скоро какой-нибудь патагонский юноша увезет ее из родного дома.
Еще до полудня мы прибыли в Пилканию.
«Первый ручей справа»,— сказал нам дон Педро.
Без этого ориентира мы вряд ли заметили бы хижину, спрятавшуюся за высокими растениями. За хижиной, по рассказам дона Педро, начиналось само селение, где мы рассчитывали отдохнуть день-два. Но никакого селения не было и в помине. В Пилканию ведет не дорога, а лишь две тропинки, и хижина на склоне закрывает от взоров не селение, а еще одну хижину, поменьше.
Пилканию — единственный в мире населенный пункт, где крохотная площадка между двумя хижинами служит одновременно и двором, и центральной «площадью». В центре «площади» возвышается столб, к которому редкие путешественники, заглянувшие сюда за провизией, привязывают коней. Местные власти торжественно именуют этот столб обелиском.
С одной стороны площади расположено «сити», состоящее из крохотного магазина, а с другой — резиденция правителя Пилканию, если только можно назвать резиденцией старую низкую хижину. В большей из двух хижин живут трое обитателей этого крупного торгового центра: владелец магазина, его жена и дочь.
Судя по морщинистой желтой коже, el turco[37], как называл хозяина селения дон Педро, объявился на этом материке еще до открытия Колумбом Америки. Закутавшись в козьи шкуры, из которых выглядывал кулек из старой пергаментной бумаги, отдаленно напоминавший лицо человека, старый турок охранял два мешка спичек. Штанов для продажи el turco, понятно, не держал.
Мы пополнили наши запасы муки и спичек и тихонько, боясь нарушить покой замшелого старца, вышли из магазина. У порога нас ждали мать и дочь. Жена турка выглядела помоложе своего древнего супруга, но, видимо, до нее у местного паши было немало жен-рабынь.
Привлеченные появлением чужестранцев, женщины не смогли сдержать своего любопытства и примчались перекинуться с нами двумя словечками. Два словечка превратились в четыре, восемь, шестнадцать, и число их продолжало бы возрастать в геометрической прогрессии, если бы Франческо не отдал приказ к отплытию.
Дочь паши, не особенно красивая, но крепкая и дородная, унаследовала от отца турка и матери индианки страсть к кочевой жизни. Она предложила взять ее поварихой в нашу экспедицию, что встретило весьма слабое сопротивление со стороны матери и было восторженно принято мною. Увы, Франческо выдвинул целый ряд неопровержимых возражений технического характера.
Прощай, щедрая дочь Пилканию! Желаю тебе, чтобы какой-нибудь бродяга гаучо по достоинству оценил твое великодушное предложение.
И снова мы плывем по бескрайней реке. Посещение Пасо-дель-Лимая, встреча с гостеприимным семейством дона Педро, остановка в Пилканию на время вернули нас в мир, который стал нам далек и чужд.
Эти светские визиты в самом сердце Патагонии ненадолго отвлекли нас от нашей первой любви, el rio.
А она текла себе неторопливо, спокойно, весьма мудро решив, что рано или поздно мы вернемся к ней.
Ее воды все реже сжимались в опасную спираль и уже не мчались по ступенькам крутого спуска.
Все чаще нам встречались острова: маленькие, прилепившиеся, к какому-нибудь гигантскому дереву, и большие, протянувшиеся на несколько километров. Порой мы часами плыли в узком проходе между берегом и длиннющим островом.
Эти своеобразные речные рукава были не больше сорока-пятидесяти метров в ширину, и плавание по ним напоминало приятную прогулку на туристском пароходике по тихому каналу.
На больших, богатых растительностью островах водилось множество пушных зверей. Климат здесь был менее суровым, чем в верховьях реки, и бесчисленные птичьи колонии — лебеди, дикие утки, реже аисты[38] и цапли[39] — внимательно следили за нами, готовые обратиться в бегство при малейшем проявлении враждебности с нашей стороны. Но во время «навигации» мы не стреляли, если только не встречался уж совершенно необыкновенный экземпляр и его нетрудно было потом выловить. Чаще всего мы убирали весла, накрывались шкурами страусов и позволяли течению нести нас прямо к многочисленному семейству черношеих лебедей или. шумному разноцветному племени диких уток.
Дружные птичьи стаи довольно равнодушно смотрели, как мимо проплывает ствол дерева, почему-то покрытый не корой, а перьями. Нам же, быть может по контрасту с бешеной горячкой охоты, приятно было, словно двум посетителям зоопарка, мирно наблюдать за птичьим царством.
Но в часы охоты пернатым, и особенно голубым цаплям, не было никакой пощады. Засады, преследования, обходы, стремительные налеты на беспечных птиц, которые изящными силуэтами вырисовывались на горизонте. И вот уже пули прошивают неподвижных голубых цапель, виновных только в том, что у них тонкие, длинные перья, окрашенные в цвет морской воды.
— Чистое золото!— восклицает Франческо, взвешивая на мозолистой ладони несколько граммов драгоценных перьев.— Три тысячи песо за каждый килограмм!
—.А сколько цапель надо убить, чтобы набрать килограмм перьев?
— Двести или триста,— ответил Франческо.
Перьями мы наполняли два мешочка, которые ночью клали на ноги, чтобы согреться. Много времени спустя я вновь увидел эти тонкие перья. Они гневно тянулись ко мне с новой шляпки элегантной сеньоры.
Теперь мы охотились целыми днями. Вперед мы продвигались очень медленно; оба берега реки были богаты дичью, и Франческо развил лихорадочную деятельность: стрелял, снимал шкуры, ставил силки и капканы, преследовал зверей с неутомимостью гончей собаки. Мне тоже приходилось нелегко, ибо на мою долю доставалась вся «черная» работа.
Хотя и невольно, Франческо стал обращаться со мной, как босс с несчастным посыльным. В эти минуты я изучал его, как психиатр изучает душевнобольного. Налицо был характерный случай помешательства на почве охоты, и расплачиваться, увы, приходилось мне. Где моя свобода? Мои этнологические и палеонтологические раскопки и поиски? Мое слияние с природой? Как я смогу доказать свою гипотезу о Smilodon Eusenadiensis[40], если мне некогда искать его огромные, как шпага, зубы? У меня не оставалось ни одного свободного часа, и, подчинившись этому фанатику, я тоже превратился в мясника на бойне.
В редкие минуты бессильного возмущения я втайне мечтал, что Франческо сломает себе бедренную или большую берцовую кость. Тогда я крепко-накрепко привяжу его к двум веслам, запихну в палатку, а сам отправлюсь в горы, буду искать в земле древних животных, вазы индейцев, коллекционировать закаты солнца и наслаждаться бездельем.
Вскоре с Франческо и в самом деле случилось неприятное происшествие, и я испытывал угрызения совести, терзаясь мыслью, что судьба вняла моим тайным желаниям.
Однажды в крохотной лагуне, где мы поставили капканы на нутрий, молодой аист по непростительной рассеянности ступил ногой на тарелку капкана. Завидев нас, он остался недвижим.
Мы бы, понятно, выпустили его на свободу, но красота птицы подала нам идею подержать ее немного у себя в палатке и подлечить ей ногу.
Время от времени мы пригревали у себя какого-нибудь зверька, отчасти из желания расширить круг наших знакомых, отчасти же потому, что нам было приятно лечить и потом дарить свободу нашим изувеченным пленникам. Это был наш жест примирения по отношению к природе.
Франческо протянул руки к этому живому иероглифу, а я наклонился, чтобы отомкнуть капкан.
В тот же миг клюв аиста пронзил Франческо левую руку. • Длинный клюв, хорошо отточенный аистом о железо капкана, проткнул кожаный рукав куртки и разорвал охотнику кожу. Этот коварный удар стоил аисту жизни. Рана была довольно серьезной, но не настолько, чтобы заставить Франческо взять хоть однодневный отпуск, как я надеялся.
Обмыв рану целебным чаем и подвязав руку, Франческо вновь отправился на охоту. Он был убежден, что еще легко отделался. Ведь он мог лишиться глаза и даже — без всякого преувеличения — самой жизни.
Очень мило, что аисты приносят в дом младенцев, но этот нахальный аистенок чуть не убил доблестного охотника. Кто сумел бы удержаться от ехидной усмешки, прочитав в газете: «Охотник на львов погиб от птичьего клюва».
Рана, к счастью, не загноилась, и через несколько дней Франческо вновь владел обеими руками.
Судьба не захотела обделить и меня, и вскоре со мной тоже случилась беда. Впрочем, это происшествие было менее трагичным, как и положено жалкому новичку.
Поймав на ужин обычную радужную форель, я стал снимать ее с крючка. И тут рыба выскользнула у меня из рук. У самого берега форель извивалась, дергалась, бросалась из стороны в сторону, пытаясь удрать. Наверно, ей это удалось бы, если бы я не стиснул ее ногами и не придавил рукой ко дну.
Мое равновесие было весьма непрочным, и я понимал, что при малейшей попытке вытащить форель из воды она вновь улизнет.
Но не отказываться же от ужина! Я чувствовал, как трепещет жирная спина форели, пытавшейся сбросить мою руку, и заранее предвкушал аккуратно нарезанные куски нежнейшего золотистого филе, ощущал, как бьется о ноги гладкий рыбий живот, и уже видел, как бесчисленные икринки превращаются в чудесный майонез, мое последнее кулинарное изобретение. Одна рука у меня свободна, а на боку висит острый французский нож. Я проткну насквозь эту проклятую форель.
Борьба за существование утончает наши способности, придает нам решительность и находчивость, делает нас опытными. Кроме того, сражаясь с форелью, я чувствовал себя участником крестового похода гурманов. На швейцарских озерах или в рыбьем садке без помощи специального сачка я трусливо бы отказался от дальнейшей борьбы. Но на дикой реке, утратив почти все признаки цивилизованного человека, я действовал с быстротой и ловкостью дикаря.
Могучий удар ножом, которому надлежало завершить наш молчаливый поединок и утвердить превосходство людей доисторического периода, навсегда оставил след на большом пальце моей правой ноги.
Парусиновый верх альпаргата не смог защитить ноготь, добрая его половина устремилась вслед за форелью и уже больше не вернулась. Как, впрочем, и сама форель. Затвердевшая мозоль на ногте до сих пор напоминает мне об этом пусть банальном, но полном глубокого значения происшествии. Две, три тысячи лет цивилизации невозможно снять, как грязную рубаху; они прилипли к современному человеку, словно лейкопластырь.
Одичавшие, обросшие, в изодранных штанах и рубашках, прокаленные солнцем, травленные холодом и ветрами, мы как бы слились с местным пейзажем.
Плато по обе стороны долины было сплошным степным морем, а горные цепи вдалеке казались гигантскими каменными валами, готовыми низринуться на врага.
Склоны долины прорезали глубокие овраги. Тут и там громоздились обрывистые, крутые скалы, обрушившиеся каменные глыбы; обточенные ветром и размытые водой, они обнажали многоцветные слои породы. Соли, минералы, сплавы, извергнутые из недр земли, с годами образовали полихроматический сэндвич. Растительность в долине была обильной, но низкорослой. Деревца и кусты протянулись узкой зеленой лентой вдоль реки, поближе к драгоценной влаге, приятно контрастируя с желтым песком пляжа.
Должно быть, мы пересекли зону, о которой в географических атласах указано, что плотность населения здесь четверть жителя на один квадратный километр, и углубились в зону, где эта плотность возросла до половины жителя на квадратный километр.
Уже не раз в неделю, а каждые два-три дня мы встречали стада овец, которые, не обращая на нас внимания, пили воду; вдали маячила фигура гаучо.
Каноэ осело под тяжестью груза, и становилось все труднее размещать вдоль бортов связки шкурок.
Эта сложная операция отнимала у нас уйму времени, но достаточно разместить груз неверно, как в плавании над нами нависла бы грозная опасность.
Все звери, мех которых, по мнению Франческо, имел коммерческую ценность, оканчивали свою жизнь весьма бесславно; их шкуры грустно повисали на шестах и прутьях.
Трудно найти более убедительное доказательство паразитизма наших охотничьих набегов. Мы стремились взять все и не дать взамен ничего. Если бы мы хоть ограничились добычей пищи, нас можно было бы посчитать двумя представителями великого племени охотников, еще не знающих, что такое скотоводство. Но упорное стремление извлечь из охоты экономические выгоды было явным признаком вырождения. Еды нам хватало, какая же, спрашивается, была необходимость, едва исчезла красная лиса, ополчиться на патагонского зайца (тага), да с таким ожесточением, словно вот-вот настанет конец света?
Патагонский заяц не состоит в родственных отношениях со своим европейским тезкой. Этот зверек из семейства грызунов в некоторых случаях достигает пятнадцати килограммов. Шерстка у него короткая, темно-коричневого цвета, лапы тонкие и длинные, уши словно у собаки-боксера. Маленький, обрубком, хвостик похож на хвост непослушной собаки, нарочно отрезанный мстительным хозяином.
Менее сообразительный и менее быстрый, чем европейский заяц, мара[41] часто становится жертвой своих более ловких врагов.
К тому же он менее плодовит, а его шкурка ценится дороже. Похоже, что он обречен на постепенное вымирание. Мы ставили на патагонского зайца силки, а иногда и били его из ружья. Мясо у этого зверька невкусное, и обычно мы его выбрасывали.
Водится здесь и другой редкий зверек — lobito de rio, очень красивая выдра[42] Мы уделяли ей огромное внимание, но все наши старания пропали впустую. Шкурки выдры ценятся очень высоко. Она питается рыбой и предпочитает глубоководные места, так что ставить на нее капканы совершенно бесполезно. Живет выдра в подземных норах и отличается редкой осторожностью. Выкурить ее оттуда и подстрелить удается крайне редко. Сколько мы ни рыскали по реке в поисках драгоценного зверька, нам не удавалось напасть на его след. Лишь однажды у носа каноэ стрелой пронесся пушистый зверек, преследуемый залпами моего меткого друга. Выдра мгновенно нырнула и молнией ушла под воду. Но уж если Франческо промахнулся, то, верно, это была не выдра, а лишь таинственный призрак.
27 июля.
Завтра мой день рождения. Мы как раз подплываем к Пьедра-де-Агила. Это уже настоящее, большое селение. Несколько месяцев тому назад я разговаривал с одним французом, который путешествовал по Патагонии с кинокамерой и, заблудившись, попал в эти места. Он целый месяц питался корнями растений и корой, пока не вышел к Пьедра-де-Агила.
«Туда ведет проезжая дорога,— рассказывал он.— В селении есть лавки, магазины, а неподалеку расположен небольшой рудник». Там я хорошенько напьюсь и потом отправлюсь на поиски костей древних животных. И пусть Франческо не вздумает возражать; кстати, ему невредно осушить пинту рома и поухаживать за хорошенькой девушкой. Уже целых три месяца мы живем как отшельники и каторжники.
P. S. Франческо согласен.
28 июля.
Мы миновали Пьедра-де-Агила, даже не сделав привала. Селение находится в нескольких километрах от берега, и, плывя по реке, заметить его невозможно. Франческо клянется и божится, что он этого не знал. Он, видите ли, думал, что селение расположено на самом берегу. Вчера он слишком быстро со мной согласился, и это должно было меня насторожить. Не такой он человек, чтобы без долгих споров пожертвовать двумя днями охоты. Он знал, что, проскочив мимо селения, вернуться назад я уже не смогу. Нет, это уже слишком! Он меня снова одурачил, но скоро я с ним за все рассчитаюсь.
2 августа.
Вчера Франческо спас мне жизнь. С носа лодки он крикнул, что впереди маленький водоворот, и, так как мне мешали связки шкур, я поднялся, чтобы лучше видеть. Лодка задела днищем о скрытый подводный камень, и я буквально вылетел за борт.
Не успел я крикнуть, как Франческо уже бросил мне канат. Когда я вынырнул, канат легонько хлестнул меня по лицу.
Скорее даже не от пережитого страха, а от холода после ледяной ванны я еще долго стучал зубами, греясь у гигантского костра, который мог бы испепелить целый штабель дров, даже не касаясь его языками пламени.
Пожалуй, я все же пощажу Франческо.
5 А. Арлетти
ИНДЕЙЦЫ И КОСТИ ИСКОПАЕМЫХ ЖИВОТНЫХ
Через несколько дней шкур пум у нас стало ровно шесть, и мы связали их в маленький аккуратный тюк. (Однако надо сказать, что тщательнее всего мы ухаживали за шкурками нутрий.) В капкан пумы больше не попадали, но несколько раз мы внезапно встречались с ними, к взаимному удивлению.
Пули Франческо летали с поразительной быстротой, и встреча неизменно заканчивалась самым банальным образом: пума валилась на спину и, все медленнее дергая лапами, постепенно замирала.
Все последующие дни мы специализировались в опустошении островов. На больших водилось множество нутрий, потому что в глубине этих островов всегда были неширокие рукава и маленькие лагуны^ Встречались на островах, как ни странно, и лисы.
Преследуя форель или же обуянная неуемным любопытством, лиса вброд перебиралась на остров. Пока она там разбойничала, наступало половодье, и путь назад был отрезан.
Не обладая достаточной смелостью, чтобы переплыть реку и выбраться на берег, лисицы вели на острове жизнь заключенных. К тому же их нервная система явно пострадала от долгих и безрезультатных метаний по своей обширной камере. Похоже, они усвоили психологию японских летчиков-смертников: они прямо-таки хватали ствол нашего ружья и сами подносили его к виску. Нам оставалось только нажать курок.
Наше появление приводило лисиц в сильнейшее возбуждение. Раз мы сюда попали, значит, сумеем и выбраться. Поэтому они следили за каждым нашим движением. Сначала издалека, потом все ближе и ближе. В страхе, что они потеряют нас из виду и не узнают секрет возвращения, лисицы устремлялись за нами следом. Внезапно обернувшись, мы обнаруживали их чуть позади. Они бежали, понуро опустив головы, словно собаки, которые провинились и теперь покорно ждут наказания. Нам даже не приходилось целиться. Сухой треск выстрела — и лисица навсегда освобождалась из плена. Это долгожданное освобождение стоило ей жизни, а нас лишало нескольких песо из-за маленькой дырочки в лисьей шкуре.
Других зверей мы ловили капканами и силками.
Цепь силков и капканов разрезала остров надвое.
Ночью мы ставили капканы в лагунах и на болотах.
Истребление всего живого на островах осуществлялось рационально, с отвратительной методичностью. Не хватало лишь поджечь перед отплытием деревья и кусты, и нас можно было бы считать образцовыми сынами нового времени. Если бы в реке текла не вода, а спирт, я бы напился до бесчувствия, чтобы заглушить угрызения совести, отравлявшие мне существование. Единственной отдушиной были палеонтологические и археологические раскопки. Дни стали длиннее, и у меня оставалось теперь много времени и на «науку».
Франческо охотно помогал мне в поисках вымерших животных, но при условии, что я буду рассказывать ему о повадках и особенностях этих чудищ.
Недостаток знаний и фактов я дополнял выдумкой, и мой курс романтизированной палеонтологии имел определенный успех у немногочисленной аудитории.
Слушателю важно было, что я рассказываю о животных, и он страстно завидовал нашим предкам, которым посчастливилось сражаться с этими гигантскими четвероногими.
Когда я рассказал Франческо, что первобытному человеку, очевидно, удалось приручить глоссотерия[43] — этот сверхтяжелый танк, Франческо застыл на месте, мысленно воссоздавая удивительную сцену: он дергает вожжи, и два многотонных глоссотерия послушно отправляются на водопой. Какие люди, какие животные, какие времена!
Район наших исследований не столь богат скелетами вымерших животных, как более удаленные от Анд равнины, расположенные сравнительно недалеко от атлантического побережья. Однако и здесь нетрудно обнаружить, что вы забиваете колья палатки лодыжкой мегатерия или сидите на огромной лопатке еще не известного науке доисторического животного.
Камень со странным углублением оказывается кариозным зубом глиптотерия Чарлз Дарвин, сойдя на берег со своего «Бигля» вблизи Баия-Бланки, сразу же наткнулся на кладбище доисторических животных, что подтверждало его теорию о расселении млекопитающих. Некоторые ученые усомнились в открытии великого англичанина, а другие позавидовали его удаче.
Между тем ни о какой удаче говорить не приходится. Скелеты вымерших животных встречаются в Патагонии буквально на каждом шагу, и единственной сложной проблемой остается их перевозка.
Если братья Амегино[44] делят поровну славу своих крупнейших палеонтологических открытий, то это вполне справедливо. Один из них — талантливейший ученый — никогда не смог бы провести свои блистательные исследования, если бы второй — неутомимый путешественник и мастер раскопок — не доставлял брату за тысячи километров в его лабораторию все новые и новые скелеты доисторических животных.
Словом, недра Патагонии таят в себе два богатства: нефть и скелеты. Если вы ткнете пальцем и не забьет нефтяной фонтан, знайте, что путь к нефти преграждает скелет вымершего животного. Хотя мы с Франческо не рвались к научной славе, нас тоже втайне не покидала надежда сделать какое-нибудь удивительное открытие — ну, скажем, найти прекрасно сохранившийся череп омонида, соединительного звена в неразрывной цепи между обезьяной и антропоидом. Только в этом случае нам удалось бы подтвердить достоверность теории Амегино о том, что Патагония — колыбель человечества; теории, в которую я столь твердо верил, что сумел убедить Франческо.
Увы, череп омонида мы так и не отыскали, но все же наше научное рвение было вознаграждено: нашей «добычей» стали бедренные кости, казавшиеся пьедесталами, чешуйки панциря, а иногда и целый панцирь, ребра величиной с мачту галеры, множество больших и мелких костей. Ветровая эрозия и тысячелетняя разрушительная работа воды вынесли их на поверхность, и нам часто вообще не приходилось прибегать к раскопкам. Нередко мы просто не знали, как классифицировать и назвать эти кости, а получить консультацию на месте у нас, понятно, не было возможности.
Кроме нескольких мелких костей, мы оставили все свои находки в пустыне, ибо для их перевозки потребовалось бы несколько грузовиков.
Подумать только, что эти кости могли бы принести славу одному из наших музеев и наполнили бы безмерной радостью сердце какого-нибудь именитого зоопалеонтолога!
В моих археологических раскопках Франческо принимал весьма слабое участие. В них недоставало охотничьего азарта. Скромная ваза из терракоты или обработанный камень привлекали Франческо куда меньше, чем челюсть оноипподия Он говорил, что ему жаль терять драгоценное время на поиски ночного горшка индейца, страдавшего гастритом.
Между тем и здесь мне удалось сделать несколько пусть мелких, но интересных находок. Еще лет восемьдесят тому назад в этих местах жило индейское племя арауканос. Они поселились здесь давным-давно и теперь с яростью, героически отстаивали свою землю и свою свободу от бледнолицых захватчиков, которых ненавидели всей душой. Покорились они самыми последними уже после того, как сдалось племя индейцев пуэльчес, живших немного севернее.
В 1880 году правительство организовало против племени арауканос последнюю военную экспедицию в пустыню Патагонии. Войско белых разбило отряды индейцев и загнало их на границу с Чили. Жестокие бои, а затем голод и болезни сеяли смерть среди побежденных. Немногие уцелевшие потомки легендарного касика Намуна Куры бедствуют в резервациях у поднояшя Патагонских Кордильер. Индейцы арауканос были замечательными охотниками и отважными воинами, но кочевая жизнь и бедная природа не позволили им достичь в ремеслах и в искусстве росписи посуды такого же мастерства, как у индейцев соседних племен. Поэтому на временных стоянках индейцев арауканос, так называемых tolderias, очень редко встречаются вазы или предметы украшения.
Куда чаще я находил оружие — наконечники стрел и копий из очень крепкого непрозрачного камня.
И, наконец, мы собрали богатую коллекцию болас.
Они были столь гладко обточены, что ничем не уступали нынешним болас, которые промышленность серийно производит для нужд гаучо, до сих пор предпочитающих болеадору тонкому лассо.
Опытные воины и охотники, индейцы арауканос достигли совершенства лишь в производстве оружия.
Зачем им было изготовлять керамическую или терракотовую посуду, если они еще не знали ни вина, ни водки? Они опьянялись лишь кровью, которую пили прямо из раны на шее смертельно раненной лошади.
ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА: БЕЗУМНЫЙ ОТШЕЛЬНИК
Наконец мы приблизились к тем местам, где Франческо охотился в прошлые годы. Он сказал, что скоро покажет мне утес на левом берегу, где, по преданиям, было индейское кладбище. Скалистый утес мы увидели уже к вечеру, когда подплыли ближе к берегу, чтобы выбрать место для ночевки.
Пристали мы к большому острову, неподалеку от скал, которые отвесно спадали к берегу, а наверху заканчивались ровной каменной террасой.
— Тут и должно быть кладбище,— объявил Франческо.
Трасса и в самом деле была необычной. Массивной каменной глыбой нависала она над берегом, увенчанная острыми шпилями, правильными многогранниками, чудовищными глыбами. Всего этого было более чем достаточно, чтобы поразить воображение вождя племени или колдуна. Мы решили переночевать на острове, поставить там неизменные капканы на нутрий, а затем обследовать берег, от которого нас отделяла узкая полоска воды. Утром мы двинулись к скалам. Внезапно мы обнаружили на берегу, в гуще кустарника, низкое ранчо. Оно казалось необитаемым, но следы собак и лошадей, тут же замеченные моим другом, говорили, что в нем кто-то живет. Подойдя поближе, мы хлопнули в ладоши, желая привлечь внимание хозяев. Расстояние должно быть не слишком большим, дабы хозяева могли услышать «аплодисменты», но достаточным, чтобы не подвергнуться риску получить без предупреждения пулю в лоб. А это может случиться, если вас примут за грабителя или убийцу. Несколько громких хлопков остаются традиционной формой встречи с обитателями одинокого ранчо, особенно если вы при оружии.
Дожидаясь ответа, мы успели внимательно рассмотреть ранчо, маленькую хижину, которая могла вместить максимум двух человек худых или одного полного. Хижину окружала живая изгородь. Утыканные шипами ветки, сплетенные наподобие колючей проволоки, должны были защищать обитателей ранчо от врагов. Нигде не было видно ни прохода, ни хотя бы отверстия. Мы вполголоса обменивались своими догадками и предположениями, как вдруг за спиной у нас вырос хозяин странного ранчо в сопровождении безмолвной своры собак.
Вид у хозяина ранчо был не менее странный, чем у самого сооружения. Худой, обросший, с всклокоченными волосами и темной кожей, он был в куртке и штанах, прикрывавших лишь одну ногу. Вторая нога была совершенно голой.
Похоже, он не очень удивился нашему приходу (возможно, он давно следил за нами) и пригласил нас войти во двор. Только тут мы обнаружили, что в живой изгороди был проделан замаскированный проход. Хозяин усадил нас на два камня перед хижиной, разжег костер и поставил греть воду для мате.
Он рассказал нам, как живет один и разводит лошадей. С крыши хижины свисал огромный кусок лошадиного мяса, высохшего на ветру. Этот «коннозаводчик» с каким-то странным блеском в глазах встретился нам как нельзя более кстати. Даже если он и украл где-то всех лошадей, нам они были очень и очень нужны.
— Не смогли бы вы одолжить нам на завтра две лошади, за деньги, конечно?— спросил Франческо, стараясь придать своему хриплому голосу вежливую интонацию.
— Сейчас они на водопое. Вернутся, выберете себе любых. Они все объезженные. И не будем говорить о деньгах. Вы меня этим просто обижаете.
К большому сожалению, у меня нет седел, и вам придется садиться прямо на спину моих смирных лошадок.
Ответ хозяина ранчо был совершенен по форме и говорил о его великодушии и щедрости.
Мы приняли его за конокрада, а он, верно, был богатым estanciero[45], разорившимся из-за игры в рулетку.
Что у него и в самом деле не было седел, мы убедились, заглянув в хижину, когда незнакомец пошел за мате. Мы увидели, что в хижине кроме двух-трех консервных банок валялась лишь лошадиная шкура, служившая постелью, да грязный плащ — пончо.
Незнакомец остался владельцем лишь нескольких коней и стаи голодных собак, которые издали довольно равнодушно посматривали на нас.
На великодушие хозяина ранчо мы, понятно, не могли не ответить любезностью. Пришлось объяснить, зачем нам понадобились лошади.
— Мы хотим съездить к скалам и поискать кости вымерших животных. Они нас очень интересуют,— объяснил я.— Вам такие кости не попадались?
Незнакомец ничего не ответил; он окинул нас весьма странным взглядом и низко опустил голову.
— Кроме того,— добавил Франческо,— мы хотим взобраться на скалы и посмотреть, что осталось от индейского кладбища.
Наступило молчание. Хозяин ранчо, скрестив руки на груди, казалось, мучился какой-то тайной мыслью.
Что случилось? Почему он вдруг так переменился?
Может, он оскорбился, что мы не пригласили его с собой?
— Если бы вы пожелали отправиться с нами, мы почли бы это за честь!— воскликнул я.
Не удостоив нас ответом, владелец ранчо встал, воздел руки и торжественным голосом произнес: — Там, на этих скалах, над святым Чоконом, погребены мои предки с грушевой головой. И там они останутся, пока кривоногая молния не упадет к ногам кобылицы!
Какое-то мгновение мне показалось, что я не так понял. Но нет, тут не могло быть никаких сомнений, он говорил на обычном испанском языке. Разве что в отличие от Франческо своим выговором он скорее напоминал чилийца. Я посмотрел на Франческо.
Тот тоже был явно озадачен.
Хозяин ранчо снова сел и совершенно спокойно стал разговаривать о своих делах. Может, он задумал подшутить над нами или решил узнать, не принадлежим ли мы к особой секте мудрецов, посвященных в тайный смысл этих слов.
Мы заговорили о реке, об охоте, и я не заметил в крайне вежливых словах владельца ранчо ничего странного. Тем временем его кони вернулись с пастбища и прошли мимо ранчо к реке.
Незнакомец не только не вспомнил о своем обещании одолжить нам двух лошадей, но сделал вид, что вообще их не замечает. Тогда Франческо снова перевел разговор на индейское кладбище и на палеонтологические раскопки. Лучше бы он этого не делал!
Чилиец вскочил и, простирая руки к скалам, воскликнул, словно обращаясь к невидимой толпе: — Слушайте! Когда я пришел сюда, у лебедей были чернью лапы, теперь они стали белыми. Приближаются дни золотых рыб, скал и великих костей, которые победят в сражениях.
Все объяснялось очень просто: чилиец был безумен. В нормальном состоянии он пребывал крайне редко, и достаточно было задеть какие-то струны, чтобы его безумие внезапно проявилось в своей наиболее заметной форме, долгих бессвязных речах.
То, чего до сих пор не удалось реке, добился безумный чилиец: мы вскоре утонули... в море слов.
Из обрывков фраз нам удалось понять, что он считает себя пророком и святым, которого преследуют коварные принцы. Они-то и направили двух послов, чтобы выведать его секреты. Он нас понимает и прощает, мы выполняем приказ, но на хитрость он ответит хитростью. Нам оставалось лишь кивать головой: ведь мы тоже понимали его и оправдывали.
Свою речь он закончил торжественно и грозно: — Обожаемая королева моих предков явится сюда во главе тридцатитысячного войска и освободит меня.
Чилиец сел на свое место, но продолжал что-то бормотать в крайнем возбуждении. Нам так и не удалось получить от него мало-мальски внятный ответ. Казалось, он вообще забыл о нашем существовании, погрузившись, как видно, в мир испанских завоеваний и аутодафе, воскрешенный его воспаленным воображением.
Надвигалась ночь, и нам пора было возвращаться.
Мы распрощались с хозяином ранчо и направились к берегу. Чилиец продолжал что-то говорить, яростно размахивая руками. Едва мы ушли, собаки перескочили через живую изгородь и благоговейно окружили своего господина. Можно было считать, что наши переговоры о лошадях провалились самым жалким образом — ведь не оставалось никакой надежды, что на следующее утро чилиец придет в нормальное состояние.
Когда мы легли спать, у его хижины горел огонь; кругом царило полнейшее молчание. Жаль, что кроме мании величия чилиец страдал еще и манией преследования, заставлявшей его повсюду и в каждом видеть врагов и принимать особые меры предосторожности. Для бреда о величии место было выбрано отлично; хижина могла быть замком, бескрайняя пустыня — владением короля, а сам чилиец мог воображать себя то монархом, то пророком, и никто бы не подумал ему возразить.
Что, какие трагические события довели его до безумия, мы так и не узнали. Ночью я проснулся, словно от толчка. Франческо стоял, у костра, завернувшись в одеяло. Должно быть, прошло совсем немного времени с тех пор, как мы легли спать. Наверно, что-то случилось?!
Я подошел к костру. Ночь была величественной и таинственной. Франческо показал мне рукой на тень возле берега и сделал знак молчать и ждать.
Минуту спустя тень заколыхалась и двинулась к реке. Это был чилиец, за которым шли его собаки.
На ходу он громко молился. Его молитва состояла из заклинаний, угроз, обещаний, клятв в верности и покорности, обращенных к обожаемой королеве его предков. Это была даже не молитва, а бессвязный монолог, в котором безумный чилиец время от времени отвечал себе же от имени королевы.
Спустившись к самому берегу, безумец воздел руки и застыл в экстатическом молчании. Собаки, точно они ждали этой минуты, внезапно завыли хором, жалобно и пронзительно. Ни одна из них не лаяла — все до одной изливали в душераздирающих криках свое отчаяние.
Однажды ночью мне случилось услышать, как жалобно воет одинокая собака; но видеть, как хор собак под управлением безумца-дирижера стонет и плачет, мне еще не приходилось. Сцена была поистине впечатляющей, а сама церемония казалась мне скорее не мистической, а похоронной, наводящей ужас и напоминала средневековые заклинания черной магии.
Я вспомнил, что в полдень эти нее собаки не удостоили нас ни малейшим вниманием; должно быть, они тоже безумны, как и их одержимый хозяин.
А может, лошади, растения и скалы, повинуясь древнему заклятию, тоже сошли с ума? Вдруг и мы в эту самую минуту впиваем из земли соки безумия и завтра на рассвете, пробудившись, разразимся сумасшедшим смехом? Попробуйте уснуть в такую ночь!
Дирижер опустил руки, и собаки умолкли. Потом они медленно и молча двинулись к хижине. Подошли к высокому дереву и остановились, после чего последовали новый марш-молитва и новые похоронные завывания собак.
Франческо сказал, что если наш сосед будет повторять каждую ночь в полнолуние этот ритуал, то мы не отыщем ни одного пушного зверя в радиусе десяти миль. Самое лучшее — это собрать все капканы и, не теряя ни минуты, бежать отсюда.
Рассвет застал нас обоих лежащими в спальных мешках, но мы ни на миг не сомкнули глаз, хотя безумный чилиец, истратив все свои силы в этом странном обряде, удалился в свою хижину. В ушах у нас все еще звучал рыдающий хор собак, а перед глазами стоял нелепый проповедник в рваных штанах.
Интересно, что эта странная церемония ни разу не вызвала у нас улыбки, хотя в ней было куда больше комического, чем подлинного трагизма.
Мрачная природа не допускала никаких шуток; быть может подсознательно, мы все время чувствовали грозно занесенную над нами десницу одиночества, единственным спасением от которого оставалось безумие.
Патагония — это не только чистые, приветливые реки и зеленые островки, но и унылая, бескрайняя пустыня. Не успело еще солнце умыться в реке, как мы сняли капканы. Франческо оказался пророком: они были пусты. Даже животные не выдерживали больше суток соседства с безумцем.
Мы принялись готовить завтрак. Вдруг я увидел, что чилиец с берега призывно машет нам рукой. Я отправился в каноэ узнать, что ему нужно.
С таинственным "видом он попросил перевезти его на остров. В каноэ он все время молчал; сидел, низко опустив голову и прижимая руки к груди. Нетрудно было заметить, что он что-то прячет под рубашкой, которая подозрительно оттопыривалась. Наш гость отказался разделить с нами трапезу и сразу перешел к делу — вытащил из-под рубахи шкурку нутрии и расстелил ее на земле. Он хочет ее продать, объяснил чилиец, добавив, что шкурка была закопана в земле возле хижины, чтобы ее не разорвали дикие звери.
У хозяина ранчо не было капканов, и он, верно, поймал бедную нутрию во время одной из своих ночных процессий. Возможно даже, что нутрию настигла одна из его собак, в которой пробудился охотничий дух предков, и отдала добычу своему владыке в обмен на особенно красивый фа диез.
Усевшись рядом, чилиец вел с нами безукоризненно вежливый разговор, столь не вязавшийся с внешним видом и живописным состоянием одежды нашего собеседника.
— Сколько? — спросил . Франческо, притворившись вначале, будто он внимательно разглядывает совершенно испорченную шкурку.
Я заметил, что безумный чилиец вызывает у него жалость, и он готов дать ему, сколько тот ни попросит.
— Штаны этого синьора,— сказал чилиец, показав на меня рукой.
Франческо с трудом удержался от смеха, а я побледнел. Чилиец был безумен, но не глуп. Он заметил, что мои штаны лучше сохранились, чем штаны Франческо. Они тоже носили на себе следы долгого и трудного путешествия, но, более опытный в портняжном деле, я при помощи иголки и нитки поддерживал их в относительно приличном виде. Однако я один знал, чего мне стоили эти «реставрационные работы», да к тому же ни у меня, ни у Франческо не было запасных штанов. При всем моем сострадании к несчастному безумцу ему придется обойтись без столь важной части моего туалета. Он вполне логично пытался уберечь голую ногу от коварных проделок зимы, но и я в силу множества причин не испытывал желания встретить зиму в одних трусиках.
Хотя Франческо не прочь был оставить меня наедине с гостем и потом насладиться зрелищем моего постыдного бегства, он принял мою сторону. Взывая к гуманности, он предложил гостю в обмен на шкурку пуловер, две пары трусов, носки, несколько метров проволоки, пачку сахару, иголку и катушку ниток, но только не мои штаны. Однако гость настаивал.
Мы объяснили ему, что шкурка от сырости пришла в негодность и не стоит и одного песо.
И это не помогло! Тогда мы добавили к нашим дарам пакетик мате и несколько рыболовных крючков.
При виде крючков чилиец явно оживился. После этого мы извлекли из наших запасов еще три крючка.
Только теперь гость уступил; он уложил весь наш товар, не забыв упрятать в него и шкурку, которую хотел продать.
Я отвез его обратно, и не успел он сойти на берег, как уже начал что-то бессвязно бормотать.
Итак, наша дипломатия восторжествовала. Переговоры, грозившие вылиться в грубую ссору или даже в полную драматизма схватку, закончились вполне мирно. Мои штаны были спасены!
Едва я вернулся, мы поспешно сняли палатку и тронулись в путь. Нас бросало в дрожь при одной мысли, что придется провести еще одну ночь рядом с безумным чилийцем. Мы подплыли к берегу и пошли попрощаться с нашим новым знакомым. Когда он увидел, что мы собираемся отплывать, его глаза радостно блеснули. Наконец-то он опять останется один!
Наш приезд заставил чилийца заняться земными делами, приводившими его в полнейшую растерянность.
Он жил в сверхъестественном, метафизическом мире, и доступ в него глупым земным треволнениям был наглухо закрыт.
Когда мы протянули ему еще несколько подарков, он даже не подумал поблагодарить нас.
Прощаясь, Франческо сказал: — До новой встречи.
— Лучше не вспоминать о встрече,— ответил чилиец.
— Почему? — полюбопытствовали мы.
— Этой ночью я вычитал у звезд, что оба вы больше не вернетесь в Чокон.
— С нами что-нибудь случится? — спросил Франческо.
— Нет,— ответил чилиец.— Но больше вы сюда не заглянете.
— Непременно вернемся. По крайней мере я,— сказал Франческо.
Мы попрощались с хозяином ранчо и направили каноэ вниз по течению. И тут безумный чилиец помчался за нами по берегу.
— Если вернетесь,— кричал он,— если вернетесь, то не забудьте привезти мне новые штаны!
ЧЕТВЕРТАЯ ВСТРЕЧА: ЯГНЕНОК
Причалив у скал, где, по рассказам, было индейское кладбище, мы почти целый день взбирались по отлогим склонам, но никакого кладбища так и не обнаружили.
Каменная терраса наверху — этот своеобразный гигантский храм — и дикая окрестная природа наверняка могли навести индейцев на мысль отправлять здесь свои обряды, но только не похоронный.
Картина, которая открывалась с каменной террасы, была столь прекрасной, что они вряд ли захотели бы омрачать эту красоту присутствием зловещей гостьи — смерти... Возможно, изредка индейцы шутки ради и бросали в реку своих пленников, но обычно они предпочитали обращать их в рабов, особенно женщин (при этом они время от времени срезали пленным рабыням кожу со ступней, чтобы те не могли убежать далеко).
Скалы эти столь удивительны и необъятны, что могли породить не одну легенду.
После наших неудачных археологических поисков мы с новым рвением занялись охотой. Не следует забывать, что прежде всего мы были охотниками, какого бы мнения на этот счет я лично ни придерживался.
Мы приближались к Неукену, столице одноименной провинции, расположенной на левом берегу реки Лимая. Миновав этот городок, мы уже не сможем больше охотиться. Поэтому мы старались не терять сейчас ни единого часа. Целыми днями светило солнце, стирая малейшие следы сырости, проникавшей ночью в нашу несовершенную палатку.
Теперь нутрии встречались все реже и реже, потому что в эти края на лошадях или пешком добирается немало охотников. Зато нам часто попадались дикие кошки, очень похожие на детенышей леопарда.
А уж птиц здесь было просто не счесть!
Ложе реки стало очень широким и нередко разветвлялось на три-четыре рукава, огибавших огромные песчаные отмели, а сама река замедлила свой бег по совсем невысокому плоскогорью.
Климат здесь довольно мягкий, и все это привлекает сюда несметные птичьи стаи. На едва выступавших из воды отмелях отдыхали в близком соседстве фламинго[46], цапли, дрофы, серые цапли, лебеди, дикие утки, аисты, вдоль берега в ритме бегуна на средние дистанции шагал страус нанду. Обилие птиц, чьи перья весьма интересовали Франческо, привело к тому, что у нас накопился избыток мяса для приманок.
Дикая кошка хотя и невелика, но очень прожорлива; одурев от запаха свежей крови, она буквально сама кидалась в капкан.
Река текла сейчас неторопливо, плавно скользя по гладко отполированному ложу; ее воды были чистыми и прозрачными, как муранский хрусталь[47]. Никаких тебе водопадов и стремнин, лишь мирное плавание по радостно сверкающей красками водной глади.
Дно рек в северных районах Патагонии неровное и сложено из твердых пород. Путешествовать по таким рекам, конечно, опаснее, чем по тропическим.
К тому же северные реки не столь живописны и богаты растительностью. Но у них есть свои достоинства и преимущества. Отсутствие мошкары, свежий воздух, чистейшая вода, которую не нужно ни кипятить, ни фильтровать. А воды реки Лимая, казалось, текли из специального отстойника в Кордильерах. Даже у рыб здесь свой особый запах. Мы забрались в самое сердце Патагонской месеты, в которой река веками рыла глубокое ложе. Со временем она образовала широкую долину, ограниченную с двух сторон на редкость крутыми склонами, напоминавшими северные каньоны. Днем и ночью точит их и полирует неутомимая река. Нередко, чтобы попасть на плато и поставить капканы, нам приходилось превращаться на время в альпинистов. Но чаще мы ставили капканы в долине, где богаче растительность и зверям легче добыть еду. Обилию зверей и птиц в этой долине могут позавидовать многие заповедники.
Переход от долины к плато обозначен так же четко, как переход от оазиса к пустыне.
Приветливая, полная жизни, радующая своими красками долина, высокие растения, вечнозеленый кустарник, густая трава.
Однообразное, печальное, наводящее тоску плато, галька, песчаные дюны, чахлые кусты, кактусы.
Обычно мы не приставали к правому берегу; здесь и долина, и плоскогорье бедны растительностью. Надменная и гордая в своей суровой красоте, протянулась тут на сотни километров к югу желтая пустыня.
На живописном левом берегу, по нашим сведениям, параллельно реке проходит, хотя и не всюду, проезжая дорога к Андам. Нам попадались огромные стада овец, которые сами, без пастухов, бродили по долине в поисках пастбищ. Раз или два в году их пригоняют в поместья и там стригут.
Одну из этих овец нам довелось однажды спасти от мучительной агонии, ниспослав ей быструю смерть.
Проплывая вблизи берега, мы услышали жалобное блеяние. Пытаясь спуститься к реке на водопой, животное свалилось с крутого склона; окруженная с трех сторон водой, осыпь образовала крохотный полуостров. Обессилев от безуспешных попыток одолеть склон, попавшая в ловушку овца печально блеяла тоненьким голоском, взывая о помощи. К счастью, подоспели мы, двое спасителей, и теперь ей уже не грозила смерть от голода. Мы спрыгнули на землю, полные решимости спасти бедное животное.
Сейчас мы поможем ей взобраться на холм, а потом, хлопнув ее легонько по спине, отпустим на волю.
Я думал, что овца начнет кувыркаться от радости, а она еле-еле переставляла ноги. Каждый шаг стоил ей неимоверных усилий. Захваченные своей высокой миссией, мы в первый момент не заметили, что у овцы сломана нога. Дело принимало совсем иной оборот.
В этом случае вступает в силу неписаный закон, согласно которому раненая или хромая овца переходит в собственность того, кто ее увидел. Конечно, если поблизости нет фактории.
Франческо забрался на холм, обвел внимательным взглядом долину и плоскогорье, а затем очень довольный вернулся на берег.
Отныне овца принадлежала нам.
Но, вместо того чтобы положить в гипс ногу несчастной, Франческо угостил ее пулей в лоб.
Помогая ему разделывать тушу, я спросил, почему он так поступил. Франческо объяснил, что, по здешним обычаям, полагается пристрелить животное и облегчить этим его страдания, если только нет никакой надежды его спасти.
Владелец животного благодарен вам за это, иначе говоря, он признает справедливым милосердный выстрел. Но вы обязаны снять с животного шкуру и повесить ее на сук или растение на видном месте. Словом, хозяин как бы просит: «Ешьте на здоровье овцу или барана, но оставьте мне хотя бы шкуру».
Путешественник имеет право убить и совершенно здоровое животное, но только в том случае, если он заблудился и умирает с голоду.
Нашей жертвой случайно оказался молоденький borrego. Боррего — это кастрированный барашек, которого специально разводят ради очень вкусного мяса. Чтобы отличить его от других животных, гаучо делают ему глубокий надрез на ухе. Лучшее кушанье трудно придумать, и меня беспокоило лишь, что, отведав мясо боррего, я надолго потеряю вкус к домашнему жаркому. Повесив шкуру на ветку, мы быстро разделали тушу и положили большие куски мяса в мешок. Затем снова поплыли вниз по реке.
Теперь продовольственная проблема была решена до самого конца путешествия. Мы могли твердо рассчитывать на два килограмма мяса pro capite[48] в течение полных десяти дней. Отбивные котлеты, прожаренные на горячих угольях, бифштексы, супы из бараньих ножек, шашлыки. Лишь теперь я мог с полным правом гордо именовать себя коком экспедиции.
Поджаренное на вертеле мясо становилось нежным, душистым и совсем не жирным; оно, словно крем, таяло во рту. Иногда я оставлял изрядный кусок румяниться на огне до тех пор, пока косточка не вынималась из мяса чистой-чистой, точно ее обглодала собака. Я ел, ел и никак не мог насытиться.
Очень скоро мои непрочные убеждения вегетарианца угрожающе зашатались.
21 августа.
С первого же дня нашей экспедиции мы насыщались в благоговейном молчании. Вы думаете из-за того, что неприлично болтать с полным ртом? Нет, подобные тонкости этикета были нам чужды. Просто мы ели с огромным аппетитом. Нам было не до бесед.
Но со вчерашнего дня я стараюсь говорить непрерывно и крайне громко. Франческо хотя и удивляется, но не возражает. Когда хочет, он отвечает. А я уверен, что, заговори я вчера за обедом, ничего подобного не случилось бы.
Пума, которая заглянула к нам в лагерь, наверняка не зашла бы, если бы услышала чьи-то голоса.
Конечно, ее привлек манящий запах мяса молодого барашка, но лишь предательская тишина выманила пуму из укрытия. Ей и в голову не пришло, что у огня сидят два охотника, причем один их них настоящий. Заметив свою оплошность, пума обратилась в бегство, и тут она поступила весьма опрометчиво.
Зверь выскочил из кустов неподалеку от Франческо; если у него не было агрессивных намерений, он должен был повернуться и снова нырнуть в кусты. Мы бы не стали возражать или сердиться, ведь никто не застрахован от ошибок.
Но эта странная пума то ли потому, что совершенно потеряла голову, то ли потому, что не могла свернуть с заданного направления, прыгнула вперед, намереваясь, очевидно, скрыться в кустах, росших на моей стороне. При этом она очутилась в опасной близости от меня. Я допускаю, что пума «совсем не страшное животное», но мне не доставило особого удовольствия увидеть ее совсем рядом в тот самый момент, когда я поднес ко рту кусок аппетитного жаркого.
Решив, что пума хочет рассчитаться со мной за все мои беззакония и разбой, я замер от ужаса в ожидании быстрой и беспощадной расправы. К счастью, Франческо метким выстрелом уложил ее на месте еще до того, как окончательно выяснились намерения этой наглой дамы. Всю вторую половину дня я пролежал в спальном мешке, дробно стуча зубами.
Наше каноэ было перегружено сверх всякой меры, и управлять им стало очень трудно. С таким объемистым грузом мы бы не смогли проплыть по рекам Кольон-Куре и Лимаю.
А так мы лишь однажды, за день до прибытия в Неукен, пережили несколько страшных часов. Застигнутые посреди реки воздушным смерчем, сметавшим все на своем пути, мы застыли на месте.
Как мы ни старались достичь берега, нам это не удалось. Течение реки не в силах было перебороть гудящий ветер, который гнал на нас пенные буруны.
Наше судно качало, как в сильнейший шторм на море. Ослепленные принесенной ветром густой пылью и брызгами, мы чудом удерживали каноэ носом вперед. Всякая попытка свернуть в сторону наверняка кончилась бы плачевно.
Любопытно, что сила ветра и течения уравновешивались настолько, что мы не продвинулись вперед или назад даже на миллиметр. Как видно, ветер и река решили побороться как раз у нашего каноэ.
Часа через два нас выбросило на берег, и мы так и не узнали, кто же из двух победил.
Взобравшись на холм, чтобы лучше рассмотреть месету, мы увидели тонкую нитку телеграфных столбов. Это была проезжая дорога, по которой шесть месяцев тому назад мы мчались на грузовике к Андам.
А прогресс уже несся нам навстречу, оглушив грохотом мотора. Шофер дружелюбно приветствовал нас, а «филин» удивленно протер глаза.
На следующий день поздно вечером мы пристали к берегу прямо напротив города Неукена. Он был весь в огнях, и это поразило нас больше всего. И все же в этом залитом огнями городе люди были куда более одинокими, чем мы у своего костра.
Наша охотничья эпопея подошла к концу. Чтобы снова добраться до богатых дичью мест, нам предстояло проплыть еще сто километров.
Тогда мы смогли бы опять охотиться и рыбачить до самого Атлантического океана. Что же мешало нам это сделать?
Мой старый охотник, продолжим наш путь! Давай заложим ватой уши, вопьемся глазами в нашу милую реку и умчимся прочь от этого города, не позволим ему увлечь нас своими огнями и призывным шумом.
Скорее уйдем отсюда! Мне жаль тех, кто богаче нас и путешествует в роскошных машинах, живет в серых домах и не видит неба в жемчужинах звезд, тех, кто покупает музыку, но ни разу не слышал мелодий пустыни.
Так продолжим же наш путь! Дай мне затеряться в бескрайней степи, и пусть я путаю крик терутеро[49] с криком чиманго[50] и забываю вовремя снять с огня лепешки, мне нравится эта жизнь. Конечно, ты еще вернешься в Патагонию, но, если мы не убежим отсюда, город схватит меня в тиски, и я больше не увижу этих мест.
Идем же, прошу тебя, Франческо, пустыня околдовала меня!
ADIOS, FRANCISCO!
Есть провинция Неукен со столицей Неукен и река Неукен — подлинный триптих.
Город Неукен расположен при слиянии реки Неукена с рекой Лимаем. Вместе эти две реки образуют Рио-Негро. От места слияния на сотню километров к юго-востоку по берегам Рио-Негро тянется долина-оазис. Рио-Негро, прорыв гигантское ложе на сто метров ниже месеты, повернула впоследствии вправо, образовав плодородную долину. Словно опомнившись, крутые склоны затем снова подступают с двух сторон к реке и уже до самого Атлантического океана держат ее в каменном плену.
В эту чудесную долину и нахлынули белые, как только им удалось изгнать оттуда индейцев. Земля здесь плодороднейшая; орошаемая через сложную систему отводных каналов водой из реки Неукена, она дает богатейшие урожаи. Создал эту совершенную оросительную систему конечно же итальянец, инженер Чиполлетти.
Среди множества испанских и итальянских поселений здесь есть даже английская сельскохозяйственная колония. Выращивают тут преимущественно фрукты, при том столь вкусные, что слава о них распространилась по всей Южной Америке. Однако лишь немногие знают, что район Рио-Негро по размерам почти не уступает Италии, но фрукты поставляет только этот небольшой, в тридцать-сорок квадратных километров, оазис.
На следующее утро мы начали спускаться вниз по Рио-Негро и вскоре увидели цветущие сады и виноградники. Они были геометрически правильной формы и резко контрастировали с окружающей их пустыней, этим беспорядочным нагромождением камней и песка. Здесь мы пробыли целых три дня, прежде чем добраться до селения, откуда началось наше путешествие.
Конечно, мы могли пробыть в этом оазисе и меньше, но нас задержала утомительная работа по отбору и отделке шкурок восьмидесяти пяти нутрий, ста семидесяти пяти лисиц, семи пум, двадцати двух нанду, пятидесяти пяти диких кошек и множества вонючек, европейских и патагонских зайцев, а также двух мешочков перьев.
Но, честно говоря, еще больше, чем отбор и разделка шкурок, меня удерживало здесь нежелание перейти на тот берег и навсегда распрощаться с пустыней.
БУЭНОС-АЙРЕС, СЕНТЯБРЬ
Я получил от Франческо денежный перевод — мою долю от продажи шкурок. К переводу Франческо приложил письмо, в котором он с величайшей точностью и тщательностью сообщал мне о расходах, ценах и окончательной выручке.
Этот год оказался урожайным на лисиц, и Франческо пришлось продавать их шкурки по совершенно мизерным ценам. И все же после продажи всех шкурок набралась изрядная сумма. Моей доли мне хватило бы на то, чтобы продержаться несколько месяцев, если я сразу же не подыщу себе работу в городе.
Франческо писал, что будущей зимой мы отправимся в новое путешествие, по новому маршруту.
Он очень рассчитывает на меня.
Такие люди, как Франческо, встречаются только раз в жизни. Если бы их было больше, мир выглядел бы куда лучше.
Настоящие трампеадоры постепенно исчезают так же, как звери, на которых они охотятся, как милая их сердцу бродячая жизнь, одиночество, покой, все эти незаметные, маленькие радости, воспеть которые способен лишь поэт.
Адиос, Франсиско!
Я больше не смогу вернуться в горы и уже никогда не буду преследовать гуанако и водить каноэ, хотя частица моей души навсегда осталась на рио Лимае, чтобы внимать молчанию пустыни.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Следуя по страницам книги Антонио Арлетти за двумя охотниками, странствующими по безлюдной и дикой патагонской реке, как-то не сразу проникаешься истинным духом и смыслом их путешествия. Вначале кажется, что перед тобой развертывается умелое описание обычного путешествия небогатых жизнерадостных туристов и охотников, бодро преодолевающих трудности пути, отдыхающих на лоне природы и постреливающих дичь. И правда, книга насыщена описаниями почти незнакомой нам природы, известной большинству русских читателей лишь по «Детям капитана Гранта» Жюля Верна, множества необычных приключений и встреч; все пронизано жизнеутверждающим юмором... Однако главный смысл книги, ее идея, на мой взгляд, не в этом.
Перевертывая последние страницы и заканчивая путешествие, совершенное вместе с охотниками, с которыми успел сжиться, я, так же как и автор, почувствовал вдруг острую тоску, словно расставался с чем-то привычным и дорогим.
После нескольких месяцев, проведенных лицом к лицу с дикой природой, месяцев, которые помогли автору «Трампеадора» лучше понять самого себя и смысл жизни, охотники вдруг увидели залитый огнями город. И вот звучат заключительные фразы: «...умчимся прочь от этого города, не позволим ему увлечь нас своими огнями и призывным шумом. Скорее уйдем отсюда! Мне жаль тех, кто богаче нас и путешествует в роскошных машинах, живет в серых домах и не видит неба в жемчужинах звезд, тех, кто покупает музыку, но ни разу не слышал мелодий пустыни». Антонио Арлетти прав: человек, по-настоящему близкий природе, стремящийся к ней не как гость или легкомысленный турист-верхогляд,— настоящий богач, и его богатства не купить за миллионы. Нет цены сокровищам, которыми наполнили души путешественников река Лимай и пустынные степи Патагонии.
Природа хороша всякая. Однако люди уже давно заметили, что особенно глубоко проникают в душу не сочные и яркие пейзажи богатых теплом и влагой стран, а более скромные и скупые, более суровые картины. Известна особая притягательность Крайнего Севера. Полярники хорошо знают, что «зов Севера» силен и иногда похож на болезнь. Горы й пустыни Патагонии, в которые читатель проникает вслед за бродягами-охотниками, похожи в этом отношении на Север. Скалы, песок, чистые и холодные струи быстрой и порой опасной реки, прозрачнейший воздух, снежные вершины потухших вулканов, леса из легендарных араукарий на склонах и заросли колючих кустарников на плато. Безмолвие и суровое величие быстро берут человека в плен.
Вместе с тем природа Патагонии не так уж скупа. В реке много рыбы: стоит забросить вечером перемет, как утром с крючков можно снять крупных, сверкающих и жирных радужных форелей — каждая рыбина по два-три килограмма! Всюду обилие зайцев (за три часа можно добыть штук двадцать) и других, совсем не обычных для европейца грызунов — мелких, а иногда очень крупных (водосвинка мара весит до 15 кг). На широких плесах реки — тьма водяных птиц. Здесь тысячи и тысячи разнообразнейших уток, красивых черношейных лебедей, пурпурных фламинго, белых и серых цапель. А нанду? Как странные видения прошлых веков, бродят они по остепненным речным террасам. Если охотникам холодно и понадобилось большое теплое одеяло, то можно на водопое подкараулить крупного гуанако — родственника известного нам верблюда. А пушные звери — вожделенная добыча трампеадоров?
Здесь многочисленны лисицы, дикие кошки, «болотные бобры» — нутрии, нередка пума, которую иногда называют горным львом.
Да, настоящему трампеадору есть чем заняться в Патагонии!
Герой книги — прекрасный знаток местной природы и животных, следопыт, профессиональный охотник Франческо (как зовет его Арлетти, переиначивая на итальянский манер испанское имя Франсиско).
Конечно, только благодаря Франческо его спутнику удалось понять своеобразную красоту и поэзию патагонской пустыни, познакомиться с жизнью ее диких обитателей. Трампеадор, его образ жизни и деятельность особенно интересны читателю-европейцу, который привык к мысли, что профессиональные охотники— в основном жители северных лесов Сибири и Америки. Франческо— местный житель, коренной аргентинец, хотя и родился в Испании.
В душе он прежде всего вольный охотник. Однако промысел уже не обеспечивает материально его семью, и он вынужден находить другие занятия. Прежде Франческо был каменщиком, дровосеком, пастухом. Теперь в свободное от охоты время основное его занятие— торговля фруктами. По натуре он также и мыслитель — симпатии к учению утопистов стоили ему нескольких месяцев тюрьмы. Франческо — охотнику и человеку большой души, укрытой под личиной грубоватой простоты,— посвящена почти вся книга, хотя автор делает это незаметно, нередко оставляя главного героя как бы в стороне. Франческо не совершает никаких подвигов или героических поступков. Он просто живет и работает в родной ему среде.
Но именно эти простота и цельность позволили Арлетти написать книгу о единении человека с природой.
Деятельность трампеадора интересна также и с точки зрения практического охотоведения. Как и многие следопыты нашего Севера, Франческо отличный капканщик: самоловы — основной способ его охоты. Почти все шкурки пушных зверей добыты именно при помощи капканов. Показатели добычи весьма хорошие и несомненно удивят и обрадуют какого-нибудь сибирского промысловика, если эта книга попадет ему в руки: восемьдесят пять нутрий, сто семьдесят пять лисиц, семь пум, двадцать два нанду, пятьдесят пять диких кошек, два мешочка перьев и множество шкурок вонючек, европейских и патагонских зайцев — это не шуточный результат. Таежник будет знать, что где-то на другом краю Земли живет собрат по трудной, романтичной профессии.
Кстати, и неизменный карабин Франческо 22-го калибра по американскому исчислению — это ведь та же малокалиберная винтовка калибра 5,6 мм, основное оружие сибирских промысловиков.
Автор, убежденный демократ, не обошел своим вниманием и простых аргентинцев, которых путешественники встречают во второй части экспедиции. Это мелкие скотоводы — побладорес (креолы и коренные жители), обитатели свободной пампы, борющиеся с колючей проволокой надвигающихся на них крупных поместий. Об их жизни и обычаях Антонио Арлетти пишет с большой симпатией.
В превосходной книге Арлетти почти нет таких мест, которые, на мой взгляд, требовали бы серьезных возражений. Исключение составляют, пожалуй, только немногие картины безжалостной истребительной охоты в погоне за максимальной добычей. Так, например, вызывает протест сцена массового избиения лебедей на реке, когда от крови десятков убитых птиц «вода окрасилась в красный цвет», а «к небу взлетал предсмертный стон лебедей».
Опустошение речных островов вызывало у самого автора желание «напиться до бесчувствия, чтобы заглушить угрызения совести».
В уродливых условиях капиталистического мира профессиональные охотники — большие любители природы и животных — сплошь да рядом вынуждены заниматься хищническим истреблением животных, чтобы выстоять в борьбе за существование.
Аргентинские трампеадоры — поистине «последние могикане»; их число становится все меньше и меньше. Арлетти осознает неизбежность происходящего — и в словах, завершающих его рассказ о плавании по верховьям Рио-Негро, чувствуется глубокая боль: трампеадоры постепенно исчезают, так же как звери, на которых они охотятся... «Адиос, Франсиско! Я больше не смогу вернуться в горы и уже никогда не буду преследовать гуанако и водить каноэ, хотя частица моей души навсегда осталась на рио Лимае, чтобы внимать молчанию пустыни».
Антонио Арлетти сейчас около 45 лет. Его, пожалуй, нельзя назвать профессиональным писателем, хотя и основную его профессию определить трудно. Участник итальянского движения Сопротивления, он сразу же после войны уехал в Южную Америку; там бродил по всей стране, преодолев тысячи миль пешком, на каноэ, на грузовике, перепробовал множество профессий. Был журналистом, инженером, охотником, агрономом и просто рабочим.
Сейчас он снова вернулся в родную густонаселенную Италию, к прежней инженерной профессии. Но сердцем он по-прежнему в Патагонии, на далекой и такой близкой реке Лимае, в пустыне и пампе...
Е. Е. СЫРОЕЧКОВСКИЙ
КОММЕНТАРИИ (без ссылок)
21 Meghaterium — гигантские ленивцы, обитавшие в Южной и Северной Америке в миоцене и плейстоцене.
22 Glypt о thorium — гигантские броненосцы, обитавшие в Южной и Северной Америке в эоцене.
23 Onohippodium — ископаемые лошади, обитавшие в плейстоцене в Южной Америке.
КОММЕНТАРИИ
1
Пума (кугуар). Panthera concolor. Хищник семейства кошачьих.
Длина тела до 1,8 м, хвоста — 60—75 см. Обитает в Северной и Южной Америке от Канады до Патагонии.
(обратно)2
Сальгари, Эмилио (1863—1911)—итальянский писатель, автор множества приключенческих романов и повестей.— Прим. перев.
(обратно)3
Водитель грузовика (испан.).
(обратно)4
Хоть и маленькая, но крепкая! (испан.)
(обратно)5
Нанду, американские страусы. Rhea или Rheiformes. Отряд бескилевых или бегающих птиц. Длина тела около 150 см. Обитают в Южной Америке, встречаются только в степях, как на равнинах, так и в горах.
(обратно)6
Гванако (гуанако). Lama guanacus. Семейство мозоленогих; американские родственники верблюдов. Длина тела до 2,5 м. Населяют только Южную Америку, где обитают в горах и отчасти на предгорных равнинах. Ценится шерсть гуанако. Легко приручаются и размножаются в неволе.
(обратно)7
Красная лисица. Vulpes fulva. Похожа на обыкновенную лисицу.
Обитает в Южной и Северной Америке
(обратно)8
Серая лисица. Urocyon cinereoargentens. Серебристо-серая лисица, мельче обыкновенной. Занимает промежуточное положение между настоящими лисицами и южноамериканскими лисицеобразными собаками. Обитает в Южной и Северной Америке.
(обратно)9
Нутрия, болотный бобр. Myopotamus coypus. Грызун. Длина тела до 80 см, хвоста — до 75 см. Обитает в южной половине Южной Америки
(обратно)10
Заяц. По-видимому, имеется в виду Sylvilagus brasiliensis— бразильский кролик. Близкий родственник обыкновенных зайцев, примерно таких же размеров. Обитает в засушливых местностях.
(обратно)11
Добрый день (испан.).
(обратно)12
Радужная форель. Salmo ilideans. Вид форели, близкий к встречающимся в Европе и СССР
(обратно)13
Экономный европеец (латин.).
(обратно)14
Черт возьми! (испан.)
(обратно)15
Мартинетта. Rhynchotus rufescens. Птица из отряда Tinamiformes.
Длина тела 35—40 см. Обитает только в Южной Америке.
(обратно)16
Лис (испан.)
(обратно)17
Очень хорошо (испан.)
(обратно)18
Ризотто—рисовая каша на мясном бульоне.— Прим. перев.
(обратно)19
Черные стервятники. Catharistes urubre. Крупные дневные хищные птицы. Питаются преимущественно падалью. Обитают только в Южной Америке.
(обратно)20
Проезжая дорога (испан)
(обратно)21
Наемный убийца (испан.)
(обратно)22
Из Бразилии (португ.)
(обратно)23
Мелкие грызуны. Грызуны, близкие в систематическом отношении к морским свинкам, из довольно богатой видами группы.
(обратно)24
Дикая кошка. Oncifelis geoffroyi. Кошка средних размеров — длина тела около 60 см, хвоста — 35 см. Обитает только в Южной Америке.
(обратно)25
Черношейный лебедь. Cygnus nigricollia. Американский вид, близкий к обыкновенным лебедям.
(обратно)26
Много движения (испан.)
(обратно)27
Вонючка. Белоспинная вонючка. Conepatus leuconotus. Хищник из семейства куниц. Длина тела около 50 см. Обитает в Южной Америке и в южной части Северной Америки.
(обратно)28
В Аргентине и УругЕае—виноградная водка (испан.).
(обратно)29
Как поживаешь, дружище? (испан.)
(обратно)30
Одна из наиболее фешенебельных улиц Рима,— Прим. перев
(обратно)31
Водка (испан.)
(обратно)32
Добрый вечер (испап.)
(обратно)33
Проклятые гринго (испан.)
(обратно)34
Семьдесят (испан.)
(обратно)35
Верно, сеньор (испан.)
(обратно)36
Год этих гринго (испан.)
(обратно)37
Турок (испан.)
(обратно)38
Аист. Euxenura magari. Американский аист, близкий по биологии и внешнему виду к обыкновенному.
(обратно)39
Серые, голубые цапли. Из рода Ardea. Близки по биологии и внешнему виду к нашей серой цапле. Вообще в Южной Америке обитает довольно много видов цапель, близких к нашим белым, рыжим и серым цаплям
(обратно)40
Srailodon Eusenadiensis — саблезубый тигр, обитавший в плейстоцене в Южной и Северной Америке
(обратно)41
Патагонский заяц (мара). Dolichotus patagonica. Очень крупный своеобразный грызун из семейства Caviidae. Обитает в засушливых местностях Южной Америки.
(обратно)42
Выдра. Lutra brasiliensis. Бразильская выдра относится к одному роду с нашей речной, но крупнее ее: длина тела более 1 м. По образу жизни сходна с обыкновенной выдрой. Обитает только в Южной Америке.
(обратно)43
Glossotherium — гигантские муравьеды, обитавшие в Южной Америке в начале четвертичного периода.
(обратно)44
Амегино Флорентино (1854—1911) — знаменитый аргентинский палеонтолог; в его работах ему помогал брат Карло.
(обратно)45
Крупный землевладелец (испан.)
(обратно)46
Фламинго. Красный фламинго. Phoenicopterus ruber. Близкий родственник нашего фламинго, птицы из отряда голенастых. Обитает на юге Северной Америки и в Южной Америке.
(обратно)47
Мурано—пригород Венеции, славящийся производством хрусталя и зеркал.— Прим. перев.
(обратно)48
На человека (латин.)
(обратно)49
Терутеро. Belonopterus cayennensis. Птица из группы куликов, средних размеров — длина тела около 35 см
(обратно)50
Чиманго (правильно химанго). Milvago chimango. Хищная птица средних размеров, из крупных соколов. Длина тела 45 см.
(обратно)
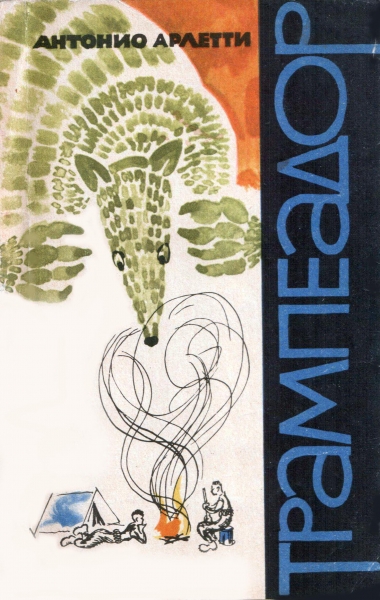


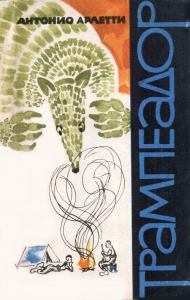

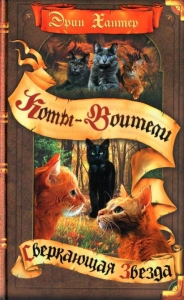
Комментарии к книге «Трампеадор», Антонио Арлетти
Всего 0 комментариев