Утренний разговор
В избе было тепло и душно.
Маша, жена Ивана Александровича, ловко орудуя деревянной лопатой, выволакивала на шесток стряпню. Новорожденные пироги попадали в проворные руки бабки Андреевны и тут же исчезали в мохнатых полотенцах, отправляясь на покой в горницу.
В ожидании первомайских пирогов за столом томились порядком разомлевшие от жары и бессонной ночи охотники. Егерь Иван Александрович Барсуков, навалясь грудью на стол, лениво ковырял вилкой соленую капусту. Напротив него в майке и босиком сидел городской гость Михаил Иванович Воронцов.
«…передаем прогноз погоды», — хрипловато возвестил со стены репродуктор.
Иван Александрович цыкнул на женщин, и без того тихо колдовавших у печи.
«…в последующие дни ожидается переменная облачность. В северных и центральных районах области слабый дождь. Температура воздуха ночью 1—2 градуса выше нуля. Днем от 4 до 10 градусов тепла…»
— Ну вот, теперь можно будет и волчками заняться.
Барсуков подошел к окну, толкнул раму. В избу тугой струей полилась утренняя прохлада. Обалдев от нахлынувшей свежести, бабочка-крапивница, которая уже давно билась о стекло, несколько минут сидела на подоконнике и нерешительно помахивала пестро-красными крылышками. Потом она полетела через дорогу, где на деревянные тротуары падали косые лучи вылезшего из-за изб солнца.
Кругом чернела обтаявшая земля, о ночном заморозке напоминали только белые полоски на крышах да искристо-белый уголок покрытой инеем полянки за домом.
— Когда думаешь, Иван, искать выводок?
— Да тянуть-то долго нельзя. Кабы его не побеспокоили.
Барсуков опустился за стол, снова ковырнул вилкой капусту.
— А поспешишь, тоже плохо. Видел, какая сухота в лесу? К глухарю и то подкатить мудрено. А тут волк! Да и охотников понаехало — пропасть. Тут без присмотра нельзя. Ну, а уж как охотников провожу, так сразу и за выводок. И в лесу помягче будет.
Барсуков говорил медленно, словно прислушиваясь к собственному голосу.
— Волчица старая, стреляная. Два раза выводила в логу под Кошелями. В позапрошлом году я у нее щенков забрал, а ее только слегка пометил. В прошлом году кто-то ее, видно, стронул, и она всех щенят уволокла к Говорухе. Только в августе их нащупал. Матерого, троих прибылых и переярка мы в осень взяли. А она опять ушла и остальных за собой увела. Ждал ее в феврале, в марте. Считал — к логову должна подтянуться. Ждал-ждал да и ждать перестал, думал, забили где.
В конце марта, как раз оттепель была, я из Пискарей на подводе еду. Смотрю: следы. Свежо так прошли. Волчица матерая и самец. Стал следить. По всему видать — моя старая знакомая. Сначала они у татарских деревень шкодили. Лося затравили, колхозников малость порастрясли. Скоро и поближе пожаловали. По переходам видно, что устроилась она опять на Говорухе. Сперва оба туда ходили, а теперь один самец. Значит — волчица на логове. Думаю, на прошлогоднем месте. Там ее до осени не шевелили. Место глухое. Ямы карстовые.
Помнишь, как-то мы с тобой с тока шли, да по левую руку от Журавлинской дороги по грани свернули? Тут, чуть вверх по речке, в левом отвершке, и логово.
— Ну-ко, охотнички, раздвигайтесь!
Маша расчистила на столе место для пирога, а он, пахучий и румяный, уже торжественно ехал на бабкиных руках из горницы. Появление пирога внесло всеобщее оживление. Задвигались скамейки, зазвенела посуда.
— Мать, Сашку-то будить пора. Хватит спать. Люди, поди, уж с флагами ходят.
Иван Александрович пододвинул свою табуретку к приятелю.
— У меня, Миша, одна идейка есть. В журнале «Охота и охотничье хозяйство» прочел я здорово любопытную статейку. Охотник один рассказывает, как он воспитал и приручил волчонка. Да мало приручил — натаскал его, а потом не один год с ним охотился и по зверю, и по птице. Ты понимаешь, натаскал, как собаку! Ну, а о чутье и других охотничьих качествах, сам знаешь, говорить нечего. Все это у волка похлеще, чем у самой наилучшей собаки. Так ведь? И вот запала мне думка. Что, если… а?
Иван Александрович вприщур внимательно глядел на приятеля.
— Ну что ж. У тебя это, Ваня, по-моему, выйдет!
На Говорухе
Весна была затяжная. Май в Предуралье уже подбирался к двадцатым числам, а леса стояли голые, как в позднюю осень. Только по южным склонам от вышедшего в копейку листа березняки курились бледно-зеленой дымкой.
То крепкие заморозки, то непогодь, то егерские хлопоты — все что-нибудь мешало заняться волчьим выводком.
На закрытие охоты Барсуков прихватил Сашку. Вдвоем было веселей да и сподручней. Браконьеры встречались задиристые. Трофеями Барсуковых в это последнее охотничье утро были три протокола да отобранная у браконьера «ижевка».
Стало совсем светло, но солнце еще не взошло. На северо-востоке оно густо окрасило низкие, напоенные влагой облака в оранжевый цвет. Уходя в высь, цвет этот бледнел, и висящая над головой облачная кисея уже только чуть розовела.
На Журавлинской дороге Сашка вслед за отцом снял шапку и, стоя с задранной к еловому вершиннику головой, никак не мог определить: то ли бусит с неба, то ли просто морочно и сыро кругом от набежавшего к утру тумана.
На севере раскатисто ухнул выстрел. За последние полчаса он был уже третьим. Стреляли там, где были сплошные ельники и глухие лога, и никаких глухарей, и тем более тетеревов, там, конечно, не могло быть. Стреляли рябка.
Лицо Ивана Александровича помрачнело.
— На Сухой речке браконьерят. Я пойду, а ты, сынок, шагай-ка через Журавли к дому. К обеду дотопаешь, а я, может, и до вечера задержусь. Видишь, братва какая понаехала.
Сашка согласно кивнул:
— Ладно, давай действуй.
Затем он шагнул на обочину залитой вешней водой дорожки и ходко пошел в затянутый туманом лесной прогал.
Идти ему было легко и вольготно. Состояние удрученности и досады, возникшее после встречи с браконьерами, сменилось невесть отчего нахлынувшей радостью.
Прострочив мокреть лесного покоса, дорожка нырнула в ельник. Покрытая кое-где крепким, звенящим под сапогом «черепом», она бежала все дальше, укрываясь в тени разлапистых елей. Ее белеющая ледком полоска то вдруг стремительно ныряла в шумящие ручьями ложки, то тяжело взбиралась на густо поросшие пихтовым подлеском угоры.
Скоро среди мрачного чернолесья стали попадать огромные, казавшиеся на темном фоне елей особенно яркими и веселыми, красные стволы сосен. Потом появились березы, осины, и в лесу стало заметно просторнее и светлее.
До Журавлей оставалось километра два, когда высоко над Сашкиной головой с характерным шелестом пролетел молодой глухарь. Следя за его стремительным полетом, Сашка вспомнил слова отца. Где-то близко здесь была речка Говоруха, а за ней ток. Сашка некоторое время в нерешительности стоял на дороге, но вдруг, заметив в нескольких шагах от себя квартальный столб, быстро пошел к нему. С севера на юг дорогу пересекала просека, та самая, о которой говорил отец.
Не раздумывая более ни минуты, Сашка свернул на квартальную.
Через полчаса просека скатилась под гору, запуталась в разлапистом вершиннике растущих в логу сосен, затерялась и только на другом берегу Говорухи, разорвав сосновое мелколесье, светлой полоской убежала дальше на юг.
Сашка спустился к речке, стал поднимать голенища сапог, и тут увидел волчьи следы.
Они шли от речки в угор и обратно. Сердце молодого охотника екнуло…
Старое логово, по словам отца, было в отвершке, впадающем в Говоруху чуть выше просеки. Сашка перешел речку и внимательно осмотрел тропу. Следы некоторое время шли по ней, потом круто сворачивали, уходя вверх по логу. На спрессованной снегом прошлогодней траве от волчьих лап оставались вмятины. Очевидно, волчья тропа вела к логову. За сеткой ольховника виднелся черный мыс ельника, отделяющий Говоруху от впадающего в нее отвершка. Стало быть, логово могло быть совсем близко. Словно в подтверждение этого, с отвершка отчетливо донеслась сорочья стрекотня.
Сняв с плеча «тулку», Сашка добыл из патронташа единственный картечный патрон и, вложив его в левый ствол, осторожно пошел вверх по речке.
Перед старой поваленной сосной он остановился. Следы через узкую и чистую мочажину вели вправо, в отвершек, и исчезали в зарослях малинника и смородинника. Дальше отвершек двумя ложками, сплошь поросшими ольховником и черемушником, уходил в лесистый угор. Меж этих ложков возвышался крутой, поросший сосновым подлеском взлобок. На одинокой суха́ре-сосне, торчавшей среди мелколесья, без умолку стрекотала сорока. Ее товарка подавала голос откуда-то снизу, из лога. Там же, надрывисто и противно, керкали сойки.
Внимательно оглядевшись по сторонам и не найдя лучшего подхода к сосновой рёлке, Сашка пошел прямо в малинник. Поняв, что быть незамеченным в этих зарослях невозможно, он стал торопиться. Продравшись через малинник, кусты и завалы, он, наконец, оказался у самой рёлки.
* * *
Под корнями старой сосны, распластав во всю длину мощное тело, на боку лежала волчица. Восемь волчат беспокойно ерзали под ее брюхом. С тех пор, как матерый перетаскал на логово последние запасы лосятины, стало голодно.
Отец, как и прежде, каждую ночь уходил на промысел, но когда возвращался утром, то обычно отрыгивал лишь жалкие останки мышей, кротов или какой-нибудь пернатой мелкоты и только изредка радовал свое семейство мясом зайчишки, косача или, в лучшем случае, дворовой собачонки. Волчица становилась все раздражительней. Часто, глядя на ее белый оскал, матерый поджимал хвост, уходил в сторону и, такой же, как она, голодный, устраивался на лежку.
Меж тем волчата росли и крепли не по дням, а по часам. Зачуяв приход отца, они кучей выкатывались из гнезда и, толкая друг друга, падая и спотыкаясь, кубарем неслись навстречу.
Волчица голодала. Ее тянуло вслед уходящему на охоту матерому. Она уже несколько дней порывалась идти за ним, но каждый раз, отойдя от логова, в нерешительности останавливалась, а потом снова возвращалась обратно.
Так и сегодня. Перейдя отвершек, волчица долго стояла на чистом, чуть посветлевшем в лесных сумерках, покосе, как раз напротив логова. Волчата вели себя спокойно. Где-то за Говорухой монотонно боботал заяц, и совсем далеко, еле слышно, ему отвечал таким же плаксивым призывом другой. Острые уши волчицы жадно ловили манящие звуки. Но и сегодня она не пошла на охоту. Прихватив в кромке покоса зазевавшуюся мышку, спустилась в распадок, долго лакала студеную воду и на рысях вернулась к гнезду.
Невесть откуда, бесшумно нырнув к самой поляне и так же легко взмыв вверх, к логову явилась сорока. Плавно покачиваясь на ветке черемушки, она, внимательно оглядев волчье семейство сначала одним, затем другим глазом и, не заметив опасности, блеснув белой манишкой, спокойно опустилась на землю. Волчица ощерилась и, не поднимая головы, продолжала наблюдать за непрошеной гостьей. Когда, поскакав взад-вперед по поляне, сорока, наконец, взгромоздилась на лосином копыте и резко тюкнула по голой кости клювом, терпенье волчицы лопнуло. Она вскочила, сунулась в сторону разом взлетевшей на черемушку нахальной птицы и, не глядя на нее, но продолжая щериться, с опущенной головой побрела на полянку. Следом за матерью, переваливаясь друг через друга, тащились волчата. Сердито лязгнув на них зубами, волчица в одиночестве разлеглась на поляне. Над ее головой, нервно дергая хвостом, сидела и стрекотала разобиженная сорока.
Начинался обычный день голодного ожидания.
Побарахтавшись на поляне, волчата один за другим уволоклись в гнездо, свалились там в кучу и быстро уснули. На поляне перед носом матери продолжали возню только два самых здоровых и неугомонных волчонка. Первенец выводка, лобастый кобелек, в другом крепыше светло-серого окраса нашел достойного друга. Как-то само собой они стали неразлучны. Появившись на свет раньше других, лобастый и бусый первыми вкусили сладость материнского молока, первыми увидели проглянувшее через сосновый лапняк яркое солнышко, легко добились превосходства среди братьев и сестер. Волчата часто и по любому случаю грызлись, но, когда кончалась очередная баталия, они вместе устало брели в гнездо и, уткнувшись там друг в дружку носами, мирно посапывали до следующей драки.
Сегодня причиной раздора было глухариное перо. Соперники, урча и посапывая, вцепившись в него зубами, таскали друг друга по всей поляне. Они совсем выдохлись и готовы были в любую минуту бросить измочаленную игрушку, когда к логову подобралась беда.
Первой о ее приближении известила сорока. Взлетев на свой наблюдательный пост — сухую сосну, она разразилась неистовым тревожным стрекотанием.
Дремавшая волчица вскочила на ноги. Перепуганные ее порывом волчата отвалились в разные стороны и, сидя на поляне с широко расставленными передними лапками, испуганно скособочив мордашки, во все глаза глядели на мать. А та стояла без единого движения, как высеченное из серого камня изваяние. Ее высоко поднятая голова была обращена в сторону Говорухи. Оттуда шел страшный и беспощадный враг — человек.
Волчица слышала, как шуршали и скреблись о его одежду ветки малинника. Увидела медленно плывшую над кустами его голову… И все же в неподвижной позе волчицы еще не чувствовалось ни тревоги, ни страха, которые с панической силой уже охватывали ее существо.
Но вот верхняя губа зверя нервно дернулась, собралась в складку и в ощеренной пасти блеснули клыки. Нервно мотнув хвостом, волчица шарахнулась в заросли, но в ту же минуту повернула обратно. В каком-то диком замешательстве она обежала поляну. Остановилась вновь и, уловив совсем близкие шаги человека, стремительно бросилась к лобастому волчонку, схватила его за загривок и тяжелыми прыжками пошла по рёлке. Бусый волчонок сидел у гнезда и растерянно смотрел вслед матери.
* * *
Переведя дыхание, Сашка полез в угор. Там он долго и осторожно бродил по полянкам и редколесью, зорко оглядывал сосновые густяки, спускался к ложку и поднимался снова, но все напрасно — логова нигде не было видно.
Он уже начал терять надежду, как вдруг на одной полянке увидел следы волчьего пиршества. Кругом валялись чисто обглоданные кости, слипшиеся перья и куски шерсти. В нос ударило запахом звериного жилья.
В стороне, у старой кряжистой сосны, забавно склонив голову на бок, сидел волчонок и, как показалось Сашке, внимательно и недоуменно смотрел на непрошеного гостя. В следующий момент волчонок неуклюже метнулся в сторону, упал и кубарем скатился под корни сосны. Оттуда, как из-под темного навеса, уже смотрели на Сашку такие же любопытные и испуганные, как чертенята похожие друг на друга, волчата.
От отца Сашка знал, что волк никогда не нападет на человека, даже когда его потомству угрожает опасность. И все-таки было страшно. Он незримо ощущал близость волчицы. Быть может, превозмогая страх, она уже давно следит за каждым его шагом…
С ружьем наготове, он зорко оглядел окружающий подлесок, кусты, валежник, все, что могло укрыть зверя, и только тогда, быстро стянув с себя рубаху, перевязав ее ворот веревкой, поспешил к логову.
Волчат нужно было бы перебить палкой, оставив для отца только одного. Вон хотя бы того, бусого, который первым встретился у логова. Но Сашка не мог. Несмышленыши были симпатичные, как кутята… Укрыв руку от острых зубов фуражкой, как варежкой, он перекидал их в приготовленную рубаху, натуго завязал подол и, взвалив ношу на спину, поспешил к тропе.
Теперь бы еще попытать счастье с волчицей — сделать «потаск», а затем устроить засаду. Но, чего греха таить, нервы у Сашки уже сдавали. Воровато оглядываясь, он все же иногда опускал свою ношу на землю и волок за собой следом.
Вот и просека. Здесь по-прежнему беспечно лопотала речка и пели птицы. На душе у Сашки стало спокойней. Легко перемахнув через Говоруху, он бросил узел в кусты, а сам отошел на несколько шагов в сторону и, укрывшись за кучей валежника, присел на поваленную осину.
Ждать он готов был долго и терпеливо, но, как часто бывает на охоте, все случилось иначе.
На противоположном берегу стоял волк. Он появился так неожиданно, что, опасаясь выдать себя, Сашка даже прищурился. В тягостном молчаливом созерцании летели секунды.
Вдруг уши волка дрогнули, и сейчас же Сашка уловил еле слышное попискивание волчат.
Волк в нерешительности переступил передними лапами, потом, припав к земле стал медленно спускаться к речке. Когда он скрылся за кустом можжевельника, Сашка осторожно, не производя резких движений, поднял ствол.
Двадцать — двадцать пять шагов — не больше… Мушка встретилась с головой зверя, скользнула по шее и, нащупав лопатку, замерла.
Одновременно с выстрелом зверь круто взмыл на дыбки, повалился и, вдруг вскочив снова, тяжелым махом пошел в угор. Вслед уходящему волку прогремел второй выстрел, и Сашка выбежал из своего укрытия. Он еще раз увидел волка, когда тот короткими прыжками перемахнул просеку и скрылся в лесу.
Руки у Сашки дрожали. Ведь так уверенно выцелил, а зверь ушел… Сашка прошел до того места, где потерял волка из виду и, положив там березовую лягу, вернулся к волчатам. После такой неудачи да еще с одними дробовыми патронами оставаться в засаде не имело смысла.
Сашка был уверен, что тяжело ранил волчицу, а значит, покончил и с выводком. Может, и пожурит отец для порядка за самовольство, но разве победителей судят?!
* * *
Перейдя отвершек и забежав высоко в угор, волчица почувствовала себя вне опасности. Положив на траву волчонка, она долго смотрела в сторону логова, потом снова прихватила сына за загривок и размашистой рысью пошла на юг по Синявинскому увалу.
От неудобного положения лапы волчонка затекли и обвисли, загривок ныл тупой болью. По морде то и дело хлестали трава и ветки. Но, не смея противиться матери, он терпел все. И так, ни разу не пикнув, прибыл к большой, доверху наполненной водой карстовой яме. Тут, среди огромных елей и сосен, на берегу таежного водоема ему теперь предстояло провести детство.
Опустив сына на небольшую лужайку, волчица старательно облизала его от кончика черного носа до короткого черного хвостика. Ласки ее были торопны и нервозны. Она постоянно поднимала голову и тревожно оглядывалась по сторонам. Однако задерживаться здесь волчица не собиралась. Закатив волчонка под пихту, она вновь побежала к логову.
Не дойдя до сосновой рёлки, волчица напала на след матерого. От логова он потянулся вдоль Говорухи к просеке. Волчица шла следом. Вдруг впереди, совсем близко, ударил выстрел. Волчица дрогнула, шарахнулась в сторону и опрометью пустилась назад. Объятая ужасом, она долго блуждала по лесу и только к полдню осмелилась вновь подойти к логову.
Оглядев издали пустое гнездо и нигде не почуяв щенков, волчица медленно побрела по тропе к Говорухе. От тропы все еще исходил запах врага, но вместе с ним она ясно различала и другой, дорогой ей запах, зовущий навстречу любой опасности.
И она, объятая страхом, с поднявшейся на хребте шерстью, все же шла, а иной раз даже ползла по страшному и в то же время дорогому ей следу…
Были уже глубокие сумерки, а на горе у самой поскотины все еще сидела волчица. С тоской глядела она туда, где брехали собаки и горели огоньки домиков; туда, куда ушли следы человека.
* * *
Вечером, когда Сашка спал в горнице непробудным сном, приехал отец. Со двора долго слышались женские голоса, охи да ахи, да злобный брех щенной Лапки.
За ужином Иван Александрович внимательно выслушал рассказ Сашки, потом протянул не совсем понятное «Да-а!» и, глядя в потемневшее окно, добавил: «Иди, сынок, спать. Завтра в школу». Наутро Сашка узнал от матери, что отец еще по-темному ушел с Лапкой в лес. А когда вернулся из школы, то застал отца во дворе за обработкой волчьей шкуры. Рядом на доске лежали забитые волчата.
— Ну что, сынок. Волчица-то твоя целехонька! Опять, окаянная, отвертелась. Вчера вслед за тобой к поселку приходила.
Сашка чувствовал, что с ним еще будет серьезный разговор, а поэтому молча топтался на месте в ожидании выволочки.
— А матерый твой совсем недалеко ушел. Шагов с сотню от просеки. Там и лег. Зацепил ты его подходяще…
И тут же добавил довольно сухо:
— Ладно, потом поговорим. Там бабка волчонка к Лапке пристраивает. Сосет, паразит, здорово, а Лапка артачится.
Лесная школа
Коротко уральское лето. И пока оно не ушло, многое нужно сделать лесным обитателям, многому научиться их детям.
Лобастый уже давно привык к одиночеству. Сначала он, правда, сильно скучал. Даже иногда плакал во сне, дергал лапками и урчал на бусого соперника. Но, просыпаясь, видел перед собой одно и то же: низко склоненные пихтовые лапы да утоптанную и заваленную костями лужайку. Когда рядом с ним была мать, Лобастый приходил в дикий восторг и, как мог, досаждал волчице своими играми. Однако большую часть времени он проводил в одиночестве.
Лобастый многому научился от матери, но еще больше познавал сам. Он охотился за всем, что пролетало, ползло или проходило мимо. Научившись ловко хватать свою жертву, он не мог не постичь искусства терпеливого скрадывания. О! Это была великая наука, и ее больше всего любил Лобастый. Единственно, с кем ему решительно не везло, то это с жуками-водоплавами. Они в великом множестве водились в карстовой яме, но всякий раз, когда Лобастый пытался схватить одного из них, его постигала неудача. Долголапый жук преспокойно удирал по воде в сторону, а Лобастый с полной пастью травы и ряски принимал ванну.
Недостатка в пище Лобастый не знал. Его летняя светло-серая шерсть лоснилась теперь от сытости, а во всей нескладности не по возрасту крупного тела уже проглядывала недюжинная сила и красота круто пошедшего в рост зверя.
У детства нет ясной границы, но переход к более зрелому возрасту у животных всегда знаменуется какими-то примечательными событиями и новыми восприятиями окружающего.
События, обозначившие конец беспечного детства, произошли и в жизни Лобастого. Однажды в росистое августовское утро мать пришла к логову не одна. Следом за ней к поляне один за другим вышли три волка. Остановившись поодаль, они некоторое время внимательно смотрели на Лобастого, потом вместе с матерью спустились к водоему, где, громко шлепая языками, жадно лакали зеленую воду. Тяжело поднявшись обратно к логову, волки обошли стороной поляну-столовую, где уже расправлялся с принесенной матерью бараньей ногой Лобастый и, отойдя на почтительное расстояние, закрутились над устройством лежек. Видно было, что звери пришли сюда надолго. Появление их сначала озадачило и даже перепугало Лобастого. Но спокойное поведение матери и принесенная ею баранья нога быстро успокоили и его. Однако во время завтрака он все же часто поглядывал на мирно спавших пришельцев и изредка для порядка поварчивал.
В течение нескольких дней волчья семья не покидала логова. Вернувшиеся к своей матери переярки успели за это время освоиться на новом месте и близко познакомиться с прибылым. Молодая волчица была приветливее своих серых братьев. Однажды, исследуя Лобастого носом, она даже снисходительно помахала хвостом. Лобастый же, запрятав на всякий случай хвост под ноги и прижав уши, с опаской и недоверием поглядывал на волчицу. А та, видимо, решила окончательно расположить к себе сурового братца. Неожиданно мотнувшись всем корпусом перед его носом, она припала к земле и, задорно вильнув хвостом, пригласила к игре. Однако игра состоялась не сразу. Лобастый, правда, значительно подобрел, расправил уши и освободил хвост. Но все же, прежде чем приступить к веселью, он несколько раз обошел сестру и внимательно ознакомился со всеми ее звериными достоинствами.
На следующее утро, когда ночь еще сливалась в сизых сумерках с наступающим рассветом, волчью семью охватило возбуждение. Старая волчица сначала долго и беспокойно бродила по поляне, потом села и, подняв длинную морду к светлеющему сквозь сосны просвету, завыла.
Высокий, щемящий душу голос зверя креп, разливался над лесом и вдруг, достигнув предельной силы, потек на убыль, затих и, наконец, в каком-то тоскливом выдохе оборвался. Всполошившиеся переярки некоторое время молча покрутились близ матери и один за другим влились в нестройный звериный хор. Лобастый не находил себе места. Новое, незнакомое еще чувство тоски и страсти овладело всем его существом. Он сновал меж волками, скулил и, наконец, не выдержав, громко взвизгнув, залаял. Над дрогнувшей тишиной еще раз взорвался, затрепетал над лесом мощный тоскливый призыв, и, наконец, замер, оставив в неожиданно воцарившемся безмолвии оцепенение и тревогу…
Волки шли с логова. Впереди сторожкой рысцой бежала волчица. Следом за ней поспешал Лобастый. Не давая ему отставать, сзади шли переярки. Лобастый с непривычки быстро устал. Но, чувствуя за собой жаркое дыхание молодой волчицы, он, спотыкаясь и путаясь в траве, наддавал ходу.
Было совсем светло, когда, перейдя на шаг, волки, наконец, вышли из леса. С возвышенности открывались бескрайние просторы света и зелени. Такого Лобастый еще не видал ни разу. Куда ни глянь, всюду блестели росой и переливались ярким зеленым глянцем луга. Далеко за ними светилась охваченная лучами зари щетка хвойного леса.
Широкая озерина живописно вписалась в зеленую раму лугов и была совсем близко. Ближний ее берег чернел изрытой копытами почвой. От него, влево по лугу, туда, где за шапками тополей блестели росой крыши фермы, бежали овечьи тропы.
Волки разбрелись по угору в широкую цепь и, прикрываясь пирамидками можжевельника, стали спускаться в луга. Лобастый шел рядом с матерью в центре. Неподалеку от пастушьей тропы звери остановились. Сюда уже ясно долетали окрики пастухов, глухое разноголосое бряканье боталов, блеяние овец и мычанье коров.
Как только из далеких кустов ольховника на луга высыпали первые овцы, волки легли.
Табун растянулся. Пастухи, отчаянно ругаясь, свистя и стреляя хлыстами, все еще собирали коров у поскотины, а головной черный лохматый баран был уже совсем рядом.
Сквозь траву Лобастый хорошо видел бежавших мимо него овец. Прижимаясь к земле, он все время чувствовал близость матери и в любую минуту готов был выполнить ее волю. Тело волчицы, подобно мощной пружине, подобралось, дрогнуло и…
На чистый луг из травы в едином порыве взметнулись страшные звери и огромными прыжками понеслись к обезумевшим от страха животным.
Охваченные кольцом овцы в паническом страхе скакали прямо к воде. Уцелевшие от окружения некоторое время бестолково метались по лугу, потом разрозненной массой понеслись к поскотине.
Однако волки почему-то медлили. Сбив в плотную кучу к самой воде одичавших от страха овец, переярки уселись по сторонам. Волчица, прижав уши и нервно помахивая хвостом, прошла перед носом Лобастого и, увлекая его за собой, ринулась к озерине. Лобастый, не отставая от матери, влетел в самую гущу стада. Увидев страшные клыки волчицы, брызнувшую из овечьей шеи струю крови и опрокинутое на спину животное, Лобастый понял, что нужно делать и что ждут от него мать и сидящие по сторонам волки. Он бестолково кидался по сторонам, кусал, рвал шерсть, порой попусту лязгал зубами, но снова и снова бросался на жертву.
Завершить кровавую операцию помогли переярки.
Лобастый, уперевшись передними лапами в тушу овцы, жадно рвал мясо. С поскотины показались люди. Крича и размахивая палками, они, выбиваясь из сил, тяжело бежали по лугу и были уже совсем близко.
Оторвавшись от еды, волки внимательно следили за приближающимися пастухами. Волчица первая, не желая подпускать их слишком близко и в то же время не проявляя сколько-нибудь заметной тревоги, рывком закинула себе на спину овцу и, не торопясь, пошла в угор. Лобастый потянул было за собой тушу, но тут же бросил ее и пустился догонять мать. Только переярки еще некоторое время жадно хватали парное мясо и, допустив бегущих людей совсем близко, под крики и улюлюканье заскакали следом…
У логова Лобастый долго вместе со всеми лакал воду. Потом он поднялся к поляне и, покрутившись под пихтой, как все взрослые волки, устроился на отдых.
Среди людей
Время шло к полдню. Припаленная августовским солнцем земля отдавала жаром. Ни куриного переполоха, ни собачьей брехни. Даже неугомонные голуби и те попрятались, распушились и молча отсиживались в тени.
Под бездомной телегой, что без передка и с одной задранной к нему оглоблей торчала из крапивы на задах барсуковского огорода, врастяжку лежали Гай и Лапка. Бока их тяжело вздымались, глаза были закрыты. Но вот брякнула щеколда, скрипнули тяжелые ворота. Гай перевалился на грудь, вскинул голову и сторожко замер.
В огород вошел Сашка, только что вернувшийся из районного центра. Оглядевшись, он вложил в рот пальцы и лихо опоясал округу разбойничьим свистом.
Через огород огромными прыжками, с поднятой головой, чуть боком, совсем-совсем по-волчьи скакал Гай. Сзади него черным клубком катилась Лапка.
Прижав уши, Гай вильнул на ходу большим, по-щенячьи нескладным корпусом и с разлета взметнулся на грудь своего хозяина. Чуть не сбитый с ног, Сашка отпрянул назад, но тут же его лизнула Лапка. Гай же, не желая, видимо, мешать мачехе, отскочил в сторону.
Уважение и любовь к Лапке у Гая граничили с раболепным преклонением. Он беспрекословно выполнял любое ее собачье желание и, как тень, всюду мотался за своей новой матерью. Пока Гай был маленьким, это не казалось забавным. Но теперь, когда этот серый верзила при появлении мачехи бросал миску с едой и, пуская слюни, покорно следил издали за Лапкиным завтраком, картина представлялась смешной и трогательной.
Друзей — прежде всего мальчишек — у Гая было несчетное множество, и этим он прежде всего был обязан приветливому и ласковому нраву своей маленькой мачехи. У нее Гай научился обходительному обращению со всей домашней живностью. Нашел даже общий язык с презирающим всех соседских кобелей огромным хозяйским котом Митькой. Будучи иногда в хорошем расположении духа, рыжий Митька позволял Гаю даже всякие сентиментальности.
Единственно, с кем Гаю не удавалось наладить приятельские отношения, — это с деревенскими кобелями. В большинстве случаев, узрев появившегося на улице Гая, дворовая братия опрометью кидалась к своим домам и, треща ребрами о подворотни, скрывалась в надежных крепостях. Иногда, однако, случалось, что зазевавшийся кобелишка неожиданно оказывался у самого волчьего носа. Гай весело отплясывал вокруг зеваки, припадал на передние лапы, доверительно помахивал хвостом. Словом, шел на «ты». А смущенный кобель, надежно запрятав хвост под самый живот, робко щерился и потихоньку, бочком, отступал к спасительной подворотне.
Правда, среди лаек и дворовых собачонок было несколько маститых бойцов, настоящих, знающих себе цену, зверовых охотников. Они не скрывали своей неприязни к вражьему отпрыску. Но, видимо, учитывая его родственные отношения с Лапкой, беспечный нрав и детскую веселость, снисходительно прощали ему все нелепые выходки.
Совершенно особое, ни с чем не сравнимое место в кутерьме звериных чувств Гая занимал Сашка.
Тут было все. Любовь и привязанность. Безграничное доверие и преданность. Постоянное неукротимое стремление быть рядом, ощущать его близость, исполнять желания. А в общем все это можно было называть обожанием. В воспитании Гая немалую роль играли и сам Иван Александрович, и Маша, и даже бабка Андреевна. Все они любили волчонка.
И все же Сашка оставался Сашкой. Главное, что покорило и привязало к нему Гая, — это необыкновенное внимание и постоянное желание Сашки заинтересовать и без того любознательного волчонка все новыми и новыми таинствами окружающей его жизни. А за старания в науках Гай вознаграждался лакомствами и поэтому с особым прилежанием выполнял волю хозяина. Словом, было за что обожать Сашку.
Ласково похлопав по брюху перевернувшуюся вверх тормашками Лапку, Сашка подошел к Гаю и потрепал его за уши.
Не оставаясь в долгу, Гай ухватил зубами хозяйскую руку и осторожно перебрал ее до самого локтя, словно проверяя, цела ли.
— Ну, пошли купаться!
Гай и Лапка рванулись во двор. Там неистово заорали куры и хлестко ударилась о косяк распахнутая калитка.
Выходя на улицу, Сашка крикнул в открытое окно дома:
— Мам! Я на реку! Отец проверял мережу?
В окне показалось обрадованное лицо матери.
— Смотри, только не долго! Мережу-то погляди, отец не смотрел.
Лицо матери исчезло было за листьями фикуса, но вдруг появилось снова, встревоженное, озабоченное. Мать заговорила вполголоса:
— Сашок! Вчера Тихон приходил из артели. На Гая жалился. Говорит, рыбу, стервец, ворует.
Сашка недоуменно смотрел на обеспокоенное лицо матери.
— Да где? Поди, зря болтают?
— Ничего не зря. Тихон сам выследил. Они там в артели-то чуть не перецапались, пока дознались. Все думали, свой кто-то пакостит.
Напротив избы, у проулка, ведущего к реке, с невинной мордой сидел и нетерпеливо поглядывал в Сашкину сторону серый воришка.
— Ну, ладно, мама, не пойман — не вор!
— Да как не пойман! Тебе говорят — Тихон сам видел!
— А может, это вовсе и не Гай? Что же он его не словил?
— Словишь его! Вон какая орясина!
Сашка ничуть не сомневался в проделках Гая. Убедившись в поистине волчьем аппетите своего воспитанника, Иван Александрович решил обратиться в охотничью инспекцию за помощью и получил разрешение на специальный отлов рыбы. С тех пор Гай пристрастился к лещам, судакам и жерехам. Когда Сашка или Иван Александрович выезжал на лодке к мереже, Гай усаживался на берегу, где повыше. Блеснувшая в сети рыба приводила его в сильное возбуждение. Гай ерзал, поскуливал и успокаивался только тогда, когда принимал выброшенный на берег улов. Вынужденные перерывы в рыбалке, видимо, и толкнули его на преступление.
«Но как он, варнак, сообразил прятаться? Ведь не берет же у рыбаков в открытую?!» — думал Сашка, подходя к берегу. По прибрежному лугу и по мелководью реки — всюду сновали ребячьи фигурки. В одном месте их было особенно много. Там среди брызг и бронзовой от загара голышни носились Гай и Лапка.
Не доходя до купальщиков, Сашка повернул к причалу. Там было поглубже, да и вода, не взмученная ребятней, была чище. Скинув с себя одежду, он сел на край причала. Из-за елового мыса показался черный, задранный к небу нос лодки. Описав по плесу лихую дугу, она повернула к берегу и, лениво застрекотав мотором, пошла к причалу. В голом черноволосом мужчине, сидевшем на корме лодки, Сашка узнал ветеринарного врача с Чернореченской овцефермы, заядлого рыболова и охотника, Семена Алексеевича Птицына.
— Привет лихому волчатнику!
— Здравствуйте! — чуть смутившись, ответил Сашка.
— На ловца и зверь бежит! Я ведь к вам. Здорово! — Птицын протянул Сашке свою ручищу. — Отец дома?
— Нет, в лесу.
— Это худо. Хорошо хоть тебя встретил. Это что, твой питомец фортели-то выкидывает?
— Ага!
— Смотри, как вымахал! И ведь совсем ручной. Чудно прямо! Вот ведь что значит — среди людей вырос! Да, а братец его другую школу прошел!
С этими словами Птицын заметно помрачнел и молча полез в лодку за куревом.
— Какой братец?
— Такой! Ты ведь тогда не всех волчат взял. Одного, видать, мамаша у тебя из-под самого носа уперла. Ты к логову, а она с волчонком в сторону, Ну, чего глядишь? Ты, понятно, и знать об этом не мог, да и вины твоей тут нет.
— В общем, есть у твоего Гая братец. С матерью да с тремя переярками в Синявинских логах живет. Вчера только его чудный голосок слушал. Ничего, самостоятельный, только пискливый больно. А третьего дня они всей пятеркой к нам пожаловали. Такого наворочали, что вспомнить страшно. Восемнадцать овец порушили да одну с собой мамаша уперла.
— Я два дня по лесным дорогам гулял, без ног остался. Следов видел не густо, но все на Синявинские лога показывают. А вчера там семейный концерт слушал да батьку твоего вспоминал. Он ведь у тебя человек музыкальный и такие концерты страсть как уважает. Если его сейчас не увижу, передай, чтобы приезжал и не тянул с этим делом. Да и ты с ним.
На вабу
Кажется, больше всего на свете Гай не любил неволю. Закрытый по каким-либо хозяйским соображениям в сарай, он энергично боролся за свое освобождение. Под натиском крепких челюстей сокрушались доски, летела земля из-под лап и он, наконец, обретал утраченную волю. Однако вновь добытой свободой Гай не злоупотреблял и за пределы усадьбы не отлучался. Он устраивался где-нибудь на виду и ждал, пока не вернутся хозяева. Должны же были они понять, что он не может жить без света и воздуха.
Наконец на усадьбе появилась огромная конура и длинная цепь. Конура Гаю понравилась: там на сене было мягко и не так беспокоили мухи. Сидеть же на цепи было не так уж скучно и унизительно. Гай в конце концов смирился с этой, видимо неизбежной по хозяйскому разумению, необходимостью. Да и садил-то на цепь его сам Сашка. Значит, так было надо.
Однако сегодняшнее заключение было непонятным и самым обидным из всех пережитых ранее. Как ни пытался Сашка скрыть за лаской и шутками свое предательство, волчина разгадал его замыслы. Сашка уходил в лес. Об этом свидетельствовали его сапоги и охотничья роба. Когда он ушел в избу, Гай все еще с надеждой тянул цепь, нетерпеливо подпрыгивая. Потом тихо скрипнула калитка, послышались осторожные шаги и далеко за заборчиком в сторону леса уплыли хозяйские головы.
Гай до глубокой ночи пролежал в конуре, не спуская глаз с леса и тревожно прислушиваясь к шагам прохожих. Не ведал серый, куда в этот день увели охотничьи тропы его добрых хозяев. А шли охотники покосной дорожкой прямо к Синявинскому увалу, на встречу с Гаевой мамашей и его кровным братцем Лобастым. Гай хоть и сильно преуспевал в охотничьих науках и даже в уроках волчьего пения, однако пел робко, неуверенно, часто срывался на лай. А если учесть его страсть к баловству и ко всяким неожиданным ребячьим фокусам, то выходило, что волк он еще легкомысленный и малограмотный, следовательно, для настоящего дела негодящийся. Поэтому и сидеть ему было на цепи до возвращения хозяев.
* * *
Синявинский увал далеко растянулся с северо-запада на юго-восток. На многие километры покрыт он ельником и пихтачом, прикрывающим лога, речки да карстовые ямы.
На северо-запад с увала ветвятся к Говорухе Синявинские лога, а напротив их, к юго-востоку, тоже бегут темные складки к речке Сухонке, вырываясь на простор светло-зеленых покосов, обрамленных мелколесьем. Среди него на кромках лугов торчат огромные кудрявые шапки одиноких сосен.
На покосы легли вечерние сумерки, а сосновные кроны еще в лучах солнца. Внизу, у корней, где расположились на перекур охотники, тень. Ствол дерева огромный, в два обхвата, с темной корявой корой и старым натесом, из которого свисают гроздья янтарно-желтой смолы.
Птицын сидит сгорбившись. На колене он держит изрядно потрепанный планшет, по которому водит пальцем. С одной стороны к Семену Алексеевичу привалился Барсуков, с другой — Сашка.
— Вот, гляди, Ваня. До Сухонки тут рукой подать. Следов к Синявинским логам больше всего по речке. По правую и левую сторону Сухонки покосы и мелколесье, тут нам с Сашкой и встать. А ты по речке спустишься метров сто, там с правого берега сосновный угорчик. Вот с него бы и вабить. Я в прошлый раз там подал голос, так они единым духом из-за увала ответили. Ну я, понятно, ходу, чтобы дело не портить.
Иван Александрович отвалился от Птицына и внимательно посмотрел в сторону мерцавшего в последних закатных лучах елового увала.
— Эх, обложить бы их! А так ведь что выхватим? Да и выхватим ли еще, а зверей стронем, уйти могут.
— Конечно, обложить бы лучше. А как это сделать? Гляди, какое место. Одно слово — крепь. Нет, Иван, тут только к себе звать.
— Да я и сам вижу. Лучше ничего не придумать. Жаль только, если волчицу упустим. Ну, ладно, пошли… Ты когда курить-то бросишь, волчатник?
Семен Алексеевич виновато отвернулся, затоптал папиросу и, сорвав пучок сосновой хвои, затолкал ее в рот.
— Привычка окаянная!
Иван Александрович хмыкнул:
— А капканы-то свои зачем хвоей мажешь? Нетто зубами волка словить хочешь? Ни черта не поможет! Курить бросать надо!
Охотники спускались к Сухонке. Осторожно обходили завалы, валежник и снова выходили на тропу. У Сухонки остановились. По обе стороны речки, обозначенной редкими кустами черемухи, узкими цепочками протянулись покосы.
Иван Александрович, указав Сашке на две маленькие, словно нарочно выбежавшие в кромку покоса сосенки, шепнул:
— Тут встанешь. Гляди в оба, да хорошенько приметь, где Семен стоять будет.
Сашка молча кивнул и пошел к укрытию.
Перейдя ложок, отец повернул вниз, а Семен Алексеевич, помахав Сашке рукой, стал устраиваться у кустов малинника.
Из-за сосенок, надежно скрывавших его по самые плечи, Сашка хорошо видел подходившее к нему слева редколесье, покос, уткнувшийся метрах в ста от него в ельники, и левый берег Сухонки, где стоял Птицын.
На увале, на самой высокой ели, пикой воткнувшейся в светлое небо, еще мерцал последний луч солнца, а на редколесье уже наползли вечерние тени. Только скошенный луг с пробивавшейся на нем ярко-зеленой отавой по-прежнему был светел и лишь в малых впадинах, где, видимо, было влажно, подернулся еле заметной дымкой испарины.
Тихо. Казалось, ничто и никто не посмеет нарушить умиротворенную тишину задремавшего леса…
И тем более чужим, непрошеным показался Сашке возникший словно из самой земли, сначала робкий, потом разлившийся над лесами властный и устрашающий, тоскливый волчий призыв:
— У-у-у-о-о-о-а-а-о-оу…у!
И снова тихо. Только цыркнула всполошившаяся пичуга и, трепыхнув крылышками, замолкла.
Призыв матерого повторился. И не успели еще растаять в далеких лесах его отголоски, как за Синявинским увалом разом запели волки. Несколько секунд в воздухе звучал нестройный плачущий хор. Потом он стих, растрепался на отдельные срывающиеся голоса, снова взлетел над лесом тревожным всполохом и нежданно прервался визгливым взлаиванием.
Волки молчали. Молчал и Барсуков. Потом он коротко и властно позвал еще. И снова тишина. Только теперь была она томительна и тревожна, как предгрозовое безмолвие.
* * *
Волчьей семье решительно не везло. Уже который день звери возвращались с охоты с подтянутыми животами. Их не покидало раздражение.
А тут еще утром, возвращаясь с неудачной охоты, молодая волчица буквально из-под носа своих собратьев ухитрилась выхватить зайчишку и ускакать с ним. Вернулась к логову она позднее всех. Неся на своем «чутье» и лапах запах парного мяса, волчица не рассчитывала на ласковый прием и потому поторопилась устроиться на лежку в стороне. Из-под пихтового навеса за ней наблюдали внимательные холодные глаза матери. Молодая волчица торопливо легла и, сунув нос под основание хвоста, затихла.
По возвращении с охоты Лобастый некоторое время мотался близ логова. Подвернувшаяся мышь только больше растравила голод, и, вконец рассерженный, он вернулся к логову.
На середине поляны, служившей волкам столовой, лежал переярок и мусолил голую, как камень, кость. Второй переярок, не желая, видимо, заниматься самообманом, яростно ловил блох.
С наступлением жаркого дня волков все больше одолевали мухи. На появившегося у логова Лобастого они накинулись целой тучей. Забравшись под густую пихту, Лобастый некоторое время недвижно лежал с высоко поднятой головой и застывшими в прищуре глазами. Лишь иногда он с каким-то равнодушием, без особой надежды ухватить осатаневшую муху, лязгал зубами, но тут же снова застывал.
Вечером, когда из леса ушло солнце и исчезли мухи, волчий стан оживился.
Все были готовы к новому походу и теперь ждали только решения матерой. А та все еще лежала под елью и словно вообще не собиралась ни на какую охоту. Однако волки отлично знали, что очень скоро настанет конец бездействию. Матерая встанет, отойдет от лежки, размашисто потянется и, не обращая ни на кого внимания, деловито затрусит прочь от логова. Этого безмолвного приглашения к выходу на охоту ждали все и вдруг…
Из-за увала опять, как и в прошлый раз, раздался призывный вой матерого волка.
Несколько секунд звери сидели с высоко поднятыми головами, неподвижные, словно тесанные из серого камня. Вскочила старая волчица. Второй раз на этом Синявинском угоре она слышала голос матерого. Второй раз испытывала непонятную тревогу и возбуждение, которое, впрочем, ничем не проявляла внешне. На этот раз в голосе матерого она уловила звуки, совсем непохожие на тот — первый — вой.
Тогда она долго бродила по Сухонке, но, кроме ненавистного запаха человека, оставившего свои следы на просеке, ничего не нашла. Это сильно встревожило старую волчицу. И вот снова этот призывный зов. Теперь он был несколько иным, более настойчивым и властным. Он даже чем-то напоминал голос погибшего на Говорухе друга.
Меж тем призыв повторился. Не обращая внимания на молчавшую матерую, волки, сбившись в кучу, в одном порыве разразились ответным воем. Запрокинув острые морды, переярки бросали в вечерние сумерки одну тоскливую высокую ноту за другой. Лобастый беспокойно крутился около. Несколько раз он пытался провыть, как братья, но срывался на визг и лаял.
В наступившей тишине волки некоторое время сидели неподвижно. Властный призыв матерого звал к себе.
И вот, не ожидая нового приглашения, молодая волчица решительно вскочила и пошла размашистой рысью. Следом за ней ушли переярки. К сунувшемуся было за ними Лобастому подскочила матерая и больно куснула его за лопатку.
Осадив не в меру горячего сына, волчица не спеша затрусила следом за ушедшими. Достигнув вершины, остановилась. Здесь она снова услышала короткий настойчивый зов волка. Однако, потоптавшись на месте, матерая оставила спускавшийся к Сухонке след переярков и, забрав значительно в сторону, осторожно пошла с увала к осиновому редколесью.
* * *
У Сашки затекла нога, но переступать было нельзя. К дальней кромке покоса несколько минут назад один за другим вышли три волка. Сейчас они в какой-то нерешительности, оглядываясь, топтались у черемухового куста.
Сашка нервничал. Не упуская волков из поля зрения, он изредка косился в осиновое редколесье и все не терял надежды на более близкую встречу со зверем. «Ведь их всего пять. Где же еще два волка?».
Но вот, наконец, в вечерней тишине раздался совсем негромкий, но вкрадчивый и властный голос матерого.
Волки разом скатились в пологое русло Сухонки и один за другим ходко пошли вниз. Теперь их хорошо должен был видеть и Птицын. Сейчас они окажутся совсем-совсем близко от малинника.
Сашка взглянул влево и обмер. В каких-нибудь двадцати шагах от него в осиннике стоял… Гай. Только вглядевшись как следует, удалось заметить разницу. Волк был немножко темнее.
Затаив дыхание, Сашка потянул ружье кверху, и в это время тишину разорвал выстрел Птицына. Сашка вскинул ружье, но было поздно. Двойник Гая исчез.
От Сухонки, пересекая покос, прямо к Сашке скакал волк. Ныряя и вскидываясь корпусом, он стремительно приближался. Вот уже отчетливо видна, его широкая башка с плотно прижатыми ушами.
Сноп огня полоснул сумерки. Сашка видел, как высоко взлетели задние ноги зверя. Безжизненное тело волка перевернулось через голову и распласталось, по лапам пробежала конвульсивная дрожь. Глядя на них, Сашка невольно обратил внимание на свои колени. Они тоже дрожали.
* * *
Матерая неслась во весь мах. За ней с высунутым языком еле поспевал Лобастый.
Уйдя далеко от Синявинских покосов, волчица поднялась в сосновый угор и, наконец остановившись, отдала голос. В ответ прозвучал все тот же предательский голос матерого. Теперь волчица стояла молча. Ее натруженные бока тяжело вздымались. Настороженные уши отчетливо слышали приближение зверя.
Среди чернеющего по склону подлеска замелькала светло-серая тень, и на угор выскочила молодая волчица.
Волки еще некоторое время стояли неподвижно.
От Синявинских покосов снова прозвучал вой. Не обращая на него внимания, старая волчица пошла в глубину леса, а следом тронулись Лобастый и молодая волчица.
Всю ночь шла волчья семья.
Когда забрезжил рассвет, волки вышли к большой, еще по-ночному дремавшей реке. Отсюда, с высокого известкового берега, далеко по пойменным лугам и лесным увалам снова прозвучал жалобный вопль матерой. Она выла часто и долго, и лишь когда стало совсем светло, спустилась к воде.
Больше ждать было некого.
Полакав студеную воду, матерая зашла в реку и, увлекая за собой Лобастого и молодую волчицу, поплыла к тому берегу.
В кумачовом кругу
Места вокруг Раздольной веселые, светлые. Все тут есть: и кондовые сосновые боры, и лиственные перелески, и поля.
У Раздольной две речки: одна тихая, задумчивая, вся в черемухе; другая быстрая, озорная, в ивняки прячется.
Жилья вокруг мало. Деревушки одна от другой на многие километры.
Колхозы тут не то чтобы богатые, но крепкие, хозяйственные, и животноводство у них в большом почете, потому как луга кругом и пастбища богаты отменными травами.
Края эти, удобные для поживы, приглянулись старой волчице.
В двух десятках километров от Раздольной хозяйничал малый выводок. Остался он с весны без матери, с одним матерым, и за лето растерял чуть не всех щенят. Однако мест своих матерый не бросил и теперь пиратствовал с двумя прибылыми да с подвалившей к выводку молодой самкой, переярком.
Об этом старая волчица узнала сразу же. Не желая, однако, знакомиться с выводком поближе, она только однажды вместе с Лобастым и молодой волчицей обошла владения матерого и, оставив доступные одному волчьему носу следы и памятки, вернулась в боры к Раздольной.
Сначала серые пришельцы были осторожны. Они часто меняли места, избегали встреч с человеком. На первых порах люди думали даже, что имеют дело с каким-то одним бродягой, как видно, «отшатившимся» от своих собратьев. Однако «отшатившийся бродяга» чем дальше, тем все больше досаждал колхозникам.
Пастухи вооружились берданками, на места происшествий неизменно вызывался «наилучший охотник» Иннокентий Федорович, или попросту Кеша, имевший за свое пристрастие к рябчиковой охоте прозвище «старого рябчика». Но все было напрасно. Серая троица была неуловима, хотя и квартировала чаще всего в бору у Раздольной, под самым Кешиным носом.
Шло время. Уже на осинники отлетал глухарь, и на оголившемся березняке по утрам все чаще качались приодевшиеся в новые черные телогрейки косачики.
На Лобастом теперь была светло-серая теплая шуба с пышной горжеткой, словно наброшенной на крепкую высокую грудь и шею. Этот пышный наряд красиво подчеркивал его сухую голову. И все же было в нем еще много угловатого, щенячьего, что сразу отличало его от взрослых волков.
Матерая не препятствовала самостоятельности прибылого, не мешала ему и только в крайнем случае шла на помощь.
* * *
По прихваченной морозцем дороге звонко и весело барабанили некованые копыта. Табун годовалых жеребят резво скакал от Раздольной и уже спускался к речушке. За ней, сквозь все еще не облетевший ольховник, светились луга, зеленела отава.
Речушка была сильно заболочена, с топкими, поросшими рогозом и осокой берегами. Поэтому, чтобы миновать болотину, дорожка тут пробиралась по зыбкой гати, а дальше переваливала через горбатый бревенчатый мостик и снова через гать уходила в луга.
Сбегавшие с угора кони вдруг вздыбились, заметались. Послышался сбивчивый топот, тревожное ржанье, лошади напирали и лезли друг на друга. Сзади растерянно скакал пастух и, не понимая причины смятения, отчаянно стрелял хлыстом.
Вырвавшись из придорожного бурьяна, три страшных зверя погнали к речке одичавшего от страха, отбитого от табуна жеребенка.
Бешено затрещала гать. Жеребенок, срываясь копытами с жердей, осел на все четыре, и дрожа корпусом, в безумном страхе затоптался на месте.
Впереди, на мосту стоял Лобастый. Его ощеренная, с прижатыми к затылку ушами, башка была чуть опущена и вытянута навстречу коню. Корпус, подобно сжатой пружине, напряжен и недвижен. Только нервно вздрагивающий конец толстого хвоста выдавал возбуждение и боевую готовность.
Замкнув страшную западню, волки остановились.
Стоя сзади коня на почтительном расстоянии, матерая казалась спокойной и даже миролюбивой. Холодные немигающие глаза волчицы глядели из раскосых глазниц с внимательным любопытством.
Молодая волчица хоть и старалась во всем подражать матери, однако заметно нервничала, нетерпеливо переступала лапами.
Нервы несчастного, попавшего в западню животного не выдержали. С тревожным ржанием жеребенок бросился с настила и, глубоко увязая в болоте, тяжело поскакал в сторону.
Этого только и ждали волки. Вслед за конем в болото метнулись огромные серые тела зверей…
Через час на место происшествия прибыл председатель колхоза с Иннокентием Федоровичем и двумя пастухами. В руках у Кеши была одностволка двадцатого калибра, заряженная «сеченым картечем», у председателя — малокалиберная винтовка, а пастухи вооружились увесистыми батогами. Однако волков на месте не оказалось.
Следствие вел сам Кеша. Он долго лазал по болоту, осматривал жалкие останки коня, измерял и сравнивал между собой волчьи следы. Председатель сидел на мостике и, наблюдая за Кешиной работой, смолил цигарку. Пастухи, как понятые, опершись на батоги, стояли сзади и тоже наблюдали за «старым рябчиком».
Наконец председатель не выдержал:
— Иннокентий Федорович! Давай вылазь! Я сегодня в область звонить стану. Пущай волчатника посылают!
* * *
Вот уже третий день на вконец простывшую землю падает запоздавший ноябрьский снег. Выплывая из бездонной черноты ночи на свет Кешиного оконца, мохнатые снежинки повисают в воздухе и словно с любопытством заглядывают в избу.
Четвертый день здесь гостят волчатники.
За столом у пузатого самовара в нижней рубахе сидит Василий Дмитриевич Субботин. Его, старого и опытного волчатника, охотники называют просто и почтительно: Митрич.
Митрич кряжист, невысокого роста, на первый взгляд кажется медлительным в движениях. Как и все настоящие следопыты, он не очень охоч на слово, предпочитает лишний раз послушать.
Напротив него, привалясь к стене, сидит большой, распаренный горячим чайком Барсуков.
Иннокентий Федорович, щупленький, живой, хлопочет у бездонного самовара. Все эти дни его буквально распирает от гордости. Как же! Ведь ни у кого другого, а у него остановились эти знаменитые гости.
Отодвинув кружку, Митрич повернулся к Барсукову:
— Что, Ваня, долго еще задарма колхозный хлебушко жевать будем?
— Что ж поделаешь? Только думается мне, Василий Митрич, что завтра волки на приваде будут. Голод не тетка. По себе знаю. Я бы, например, не выдержал.
Настроение у охотников шло на лад. Сегодня, наконец, тройка серых разбойников подала о себе весточку. Правда, телятины они не отведали, но бугор, на котором Кеша вот уже с неделю назад выложил приваду, обошли трижды.
То, что волки не тронули привады, охотников не смутило. Не сходя с саней, они разобрались в оставленной на снегу волчьей грамоте и, проехав с полкилометра по выходному следу, повернули к Раздольной. Преследовать голодных волков не было смысла. Решено ждать до следующего утра.
Митрич подошел к окну и долго следил за игрой снежинок. Теперь они вылетали на свет откуда-то сбоку. Толклись из стороны в сторону и вдруг стремительно улетали в кромешную темноту.
— Поземка будет! — глядя в окно, сказал Василий Дмитриевич.
* * *
К утру потеплело, за поскотиной вовсю шуровала низовка. По полю ползли снежные языки.
В эту ночь на приваде пировала волчья семья. Туша телка была разворочена и розовела свежим оглодом. Местами из снега торчали растащенные по сторонам кости. От волчьих следов кое-где виднелись еще не задутые снегом лунки.
Барсуков отогнул воротник полушубка:
— Вот, Кеша, всех бы волков растеряли, если бы вчера отраву бросили!
— Да я уже вижу! Нешто в такую погоду выследишь.
Беспокойно брякая удилами, лошадь стригла ушами. Василий Дмитриевич, стоя в санях, все смотрел туда, где начинался отороченный мелким березняком ложок, уходивший далеко к горизонту.
Старому волчатнику места эти были известны еще с давних охот.
— Иннокентий Федорович, давай трогай! К вершине того ложка держи!
Карька стронула сани и бойко затрусила под гору. Здесь, под горой, было значительно тише. Поземка только кое-где с бугорков сдувала снежную пыль.
Канавку волчьих следов охотники увидали еще издали. Она начиналась слабо заметным желобком и чем ближе к лесу, тем становилась глубже. В березовом колке следы разделились и на повлажневшем снегу были отчетливы.
Вглядываясь в них, Барсуков тихо присвистнул.
— Что, родню встретил?
— Родню и есть! Не иначе как старая знакомая, Гаева мамаша. А это братец его и волчица-переярок. Ну, гляди, Митрич, матерая шибко грамотная. Все университеты прошла.
— Ладно! Мы с тобой тоже читать-писать умеем!
Василий Дмитриевич поманил к себе Кешу:
— Вот что, Иннокентий Федорыч! Поедешь по левую сторону лога. И чтобы все время на виду был. Держи связь с Иваном. А я, ежели зверей обойду, сойдусь с ним и тебе сигналить буду. Только гляди, вперед не вырывайся!
На выходе из березняка волчьи следы снова слились в одну канавку и ровной стежкой потекли вниз по логу.
Митрич напористо зашагал по глубокому снегу. Два раза он, бросив волчью тропу, широким кольцом обходил подходящие для звериной дневки места. Но следы все шли и шли дальше.
Зимний день короток, нужно было спешить. Впереди лог сильно расширялся, потом, раздвоившись, рукавами уходил в широко раскинувшийся остров соснового леса.
В обход острова охотники пошли с обеих сторон, сошлись в редком березняке. Еще издали, глянув друг на друга, они поняли, что звери обойдены. Барсуков остановился и, подождав Митрича, вместе с ним поспешил в сторону просвечивающего сквозь лес поля.
Кеша не заставил себя долго ждать. Увидав отмахивающих ему шапками охотников, он вскочил в сани и понукнул Карьку.
Заметно вечерело.
Сквозной, пролетавший через ложок, ветер затих. Меж лохмотьями облаков показался светло-зеленый кусок вечернего неба.
Охотники торопились. Выкидывая из саней катушки с кумачовыми флажками, Митрич на ходу инструктировал Иннокентия Федоровича:
— Карьку привяжи. Забирай мое ружье и вставай на входной след. Гляди в оба. Флажить будем сразу с обеих сторон.
Тихо в логу. Вправо и влево от Кеши в охват сосновой рёлки уходят ложки и где-то за сосновым островом сходятся снова. Кеша хорошо знает этот взлобок. Он не раз оттуда высвистывал рябчиков и теперь старается представить себе спокойно лежащих там волков.
Кеша внимательно огляделся и тут заметил спускавшегося в ложок Митрича. Действия окладчика уверенны и проворны. Широким взмахом руки он скидывает с катушки шнур, навешивает его то на ствол дерева, то на торчащую из снега валежину. За ним над белой скатертью снега, как елочная гирлянда, тянется, играет кумачовыми языками волчья оградка. Вот и слева от Кеши средь сосновых стволов уже мелькают такие же красные огоньки флажков, и в лог скатывается разгоряченный Барсуков.
Круг замкнут. Но передохнуть некогда. Слишком уж мало остается светлого времени. Василий Дмитриевич утирает вспотевшее лицо шапкой и, махнув рукой охотникам, спешит назад по кумачовому кругу. Стронуть и выгнать зверей на стрелков надо умеючи. Это Митрич всегда делает сам.
Кеша осторожно входит в оклад и останавливается перед кустом можжевельника. Теперь полянка с синей канавкой следов совсем близко. Барсуков слева за ложком. Вот он тоже заходит в оклад и останавливается у кучи валежника.
Тихо. Очень тихо стало кругом. Бегут одна за другой минуты и с каждой из них все быстрей надвигается вечер.
Вот впереди где-то еле слышно тенькнула синица и снова мертво в лесу…
Чуть выдвинувшись из кустов, волчица осторожно огляделась и разом припала к снегу. В логу на чистой поляне она увидела все те же страшные, пахнущие человеком, красные тряпки, на которые уже натыкалась дважды. Из-за спины волчицы показалась лобастая башка другого волка.
Кеша что есть силы давил на гашетку, но ружье упрямо молчало. «Предохранитель! Забыл!»
Руки у Кеши дрожали. Чуть слышно щелкнула планка предохранителя, и с куста посыпалась словно сдутая вихрем серебристая пыль… Волки исчезли.
За ложком сначала один, затем другой раз хлестко ударил барсуковский тройник, и над островом воцарилась щемящая душу тишина.
У куста шиповника показался Василии Дмитриевич. Шапка его была сдвинута на затылок. Из-под лохматых бровей он пристально посмотрел на «старого рябчика». Вконец пришибленный этим взглядом, Кеша молчал. Словно не замечая его, Митрич еще раз внимательно осмотрел волчьи следы, молитвенно сложил ладони и, приставив их к губам, тонко, тоскливо завыл волчицей. По мере того как он выпрямлялся и отнимал ото рта руки звук крепчал, разливался по острову и наконец, широкой волной расплескавшись над могучими соснами, неуемный и жалобный, полетел в далекие дали.
Откуда-то из-за поля жалобно откликнулась матерая волчица. И совсем неожиданно, в ответ ей, с другой стороны лога послышались далекие голоса волчьей стаи.
Сняв шапку, Митрич слушал волчий концерт. Затем примирительно кивнул Иннокентию Федоровичу и споро пошел по волчьим следам к полю. Барсукова он нагнал у самой кромки.
Иван Александрович порядком вымотался. За схваченные ремешком передние лапы он волок за собой молодую волчицу. Ее тяжелая башка с узкой мордой и прикушенным розовым языком все время зарывалась в снег.
— Ну что, ушла твоя родственница?
— Ушла! Вон меж флажками валежина. Так через нее — с ходу. И сынок за ней.
— Да, умна, ничего не скажешь. Не то, что охотники некоторые! — Митрич кашлянул и многозначительно почесал бороду. — Ну, ладно, давайте флажки снимать. Затемняли совсем! Завтра за выводок надо браться. А с этими, пожалуй, пока толку не будет. Далеко уйдут!
* * *
Вторую неделю изо дня в день вместе с ленивым рассветом тягуче скрипели ворота, и из кешиного двора в серых сумерках выезжали сани, запряженные Карькой. Возвращались охотники поздно, когда всюду уже светились окна, а в избе пахло парным молоком и ужином. Мокрые и усталые, они подолгу толкались в сенях, стаскивая схваченную ледком, забитую снегом одежду.
Охота никак не клеилась. Матерая волчица с Лобастым невесть куда унесла ноги. Малый выводок во главе с матерым волком в район Раздольной, где лежала привада, заходить почему-то отказывался.
Но вот, наконец, выводок удалось обойти. Звери лежали в глухо заросшей мелким леском старой вырубке и, видимо, хоть и слышали обходившего их окладчика, покинуть укромную дневку поленились. Однако офлажить себя они не дали и, уйдя из оклада, направились в бор к Раздольной.
Преследовать их охотники не стали, а вечером, подъехав к приваде, долго звали зверей к себе. Выводок ответил уже по-темному, как-то разом и совсем близко. Тогда, не слезая с саней, волчатники поспешили к дому.
На пути к Раздольной они еще долго слышали разноголосые волчьи песни. Волки, очевидно, уже натекли на приваду, но все еще в нерешительности мотались вокруг да около.
На следующее утро терпение и настойчивость охотников были вознаграждены.
Оклад был легкий. Набившие до отказа животы, звери к полдню были окружены в бору кумачовой оградкой. А через каких-нибудь полчаса уже весело громыхал барсуковский тройник и дважды ударил наконец заговоривший в Кешиных руках зауэр Митрича.
Когда охотники выволакивали волков на лесную дорожку, Карька беспокойно ерзала у коновязи, стригла ушами и таращила свои большие глазищи. Укладывая волков в розвальни, Кеша то и дело косился на свою волчицу и, сравнивая ее с барсуковскими прибылыми, довольно покрякивал.
И все же успех не очень радовал ни Барсукова, ни Василия Дмитриевича.
Ушел матерый. Ушел, правда, раненный, но настолько легко, что преследовавший его по следу Митрич скоро остановился, почесал бороду и, с досадой сплюнув под ноги, побрел назад.
В деревню въезжали в самый полдень. В передке в лихо сдвинутой на затылок шапке сидел Кеша и важно понукал Карьку. У саней скоро завертелись вездесущие ребятишки. Потом навстречу в наспех накинутых полушубках и просто в одних платках заспешили старики и старушки. Толпа росла на глазах. Слышались радостные возгласы, ругань, смех. Ко всему этому примешивался еще многоголосый заливистый собачий лай. Дворовые псы буквально вылезали из своих всклокоченных, поднятых дыбом загривков.
Раздольная ликовала…
Было уже далеко за полночь, а у Кеши не спали.
На пороге, прячась от жары, сидели за последней беседой окладчики. Наутро Барсуков собирался уехать домой, а Василий Дмитриевич хотел еще задержаться дня на три.
— Он, Ваня, тут долго один болтаться не будет. Время такое. Семью скоро создавать надо. Ежели не ухватить его этими днями, верняком с твоей «родственницей» спаруется. Может и так статься, что тебе с ними первому придется свидеться. Волчица не иначе, как к своим старым логовам пойдет.
— Возможно, — сказал Барсуков. — Но ведь зверина хитрая и может еще пойти на какую-нибудь уловку.
В сенях послышались шаги Кеши. Он вошел в избу, разделся, сел у печки и, сняв валенки, предложил:
— Ну, хватит, мужики! Давайте спать. Утро вечера мудренее.
Снежной зимой
Отдурил ноябрь. Надежно прикрыв поля и леса пухлым снежком, отступил, пораздувал низко нависшие тяжелые облака и ушел, уступив вахту декабрьской стуже. Укрывшись белоснежным, сверкающим под лучами холодного солнца покрывалом, затаилось, притихло лесистое Предуралье.
Кажется, нет такой силы и не будет такого тепла, чтобы могло оно отогреть, разбудить спящую землю. А когда поблекнет серебро морозного дня, убегут в черноту леса синие вечерние сумерки и над землей бездонным куполом вздуется, засверкает мириадами золотых льдинок звездное небо, становится еще холоднее и неприютнее.
На наезженной санной дорожке аккуратными дырочками от когтистых лап тянутся звериные следы. Долго и неотступно бредут они вслед убегающей от них дороге. Это следы матерой волчицы и молодого волка. Нескончаемо долги их пути в эту пору. Поэтому в народе и сказано: «Волка ноги кормят».
С тех пор как погибла молодая волчица, матерой и Лобастому добывать пищу стало, много трудней. Только раз они рискнули отбить у лосиной семьи теленка, да и то чуть не поплатились за свою наглость жизнью Лобастого.
Пришлось заняться мелким разбоем.
Этот период жизни с умудренной опытом матерью стал для Лобастого настоящей школой звериного мастерства.
Матерая привела сына в места, богатые всякой лесной живностью. По ложкам да заросшим молодой порослью лесосекам много было зайчишек. В заболоченных березняках немало тетерева, а в хвойном лесу да по ольховым ложкам — глухаря и рябчика.
У волков настала хотя и трудная, но относительно спокойная жизнь. Главное — не было больше пугающих встреч с человеком. Однако тут надо оговориться: далеко не все люди внушали Лобастому и его матери чувство страха.
На тех, которые, закутавшись в тулупчики, мирно почмокивали из саней на трусившую по дороге лохматую лошаденку, волки посматривали с абсолютным спокойствием. Они даже не особенно пытались скрыть свое присутствие. Но если сани догоняла какая-нибудь кудлатая ротозейка из деревенских дворняг, волки тотчас прятались. В этих случаях Лобастый научился действовать нагло и непромедлительно. Не обращая внимания на дикие крики возницы, он единым духом настигал обезумевшую от страха собачонку.
Однако такие случаи выдавались не часто. Редко посещали волки и населенные пункты. Лишь иногда глухой ночью обходили спящие деревеньки. Иной раз в таком походе удавалось перехватить бродячую собачонку, но чаще эти экскурсии не давали никаких результатов.
Мать научила Лобастого искусству скрадывания пернатой дичи. Прежде всего он научился распознавать, где и когда следовало искать спящих тетеревов.
Углядев тетеревиную стаю, расположившуюся на вечерней кормежке по березняку, волки усаживались где-нибудь в отдалении и терпеливо ждали.
Тетерева кормились, перелетали с места на место, иногда ворчливо кукеркали. Не видимые ими звери, казалось, с полным безразличием поглядывали в сторону суетящихся птиц.
Но вот наползали сумерки, тетерева один за другим срывались с деревьев, стремительно падали и исчезали под снегом поляны. Вытянув шеи и навострив уши, волки теперь зорко и внимательно следили за каждым таким падением.
Поляна пустела, а волки все еще не покидали своего укрытия. Они терпеливо ждали, когда вместе с угомонившимися тетеревами уснет и их бдительность. И только тогда, подобно наползавшей на землю ночной темноте, к поляне медленно и сторожко устремлялись две серые тени.
Решающий момент охоты всегда был стремителен и краток. Обычно волки в одновременном броске накрывали каждый по тетереву, а иногда расторопная и опытная волчица ухитрялась в поднявшемся птичьем переполохе прихватить и второго.
Но больше всего Лобастому нравилась охота на зайцев. Она, кстати, в этих местах была самой добычливой. В этой охоте Лобастый, как правило, исполнял роль загонщика, но и эта задача требовала от зверя немало находчивости, остроты чутья и терпения. Прихватив свежий след или подняв зайца с лежки, Лобастый устремлялся в погоню. Волчица тяжелыми прыжками некоторое время шла стороной, потом исчезала. Она хорошо знала, когда нужно было идти на перехват косого.
Шло время. Но вот однажды в однообразные волчьи будни, в которые успел крепко вжиться Лобастый, впуталось событие, которое разом перевернуло все привычное.
Стояли дни нежданной январской оттепели. Маленькая волчья семья возвращалась к дневке. Раннее утро не принесло похолодания, и на отмягшей дороге от лап оставался четкий след. Не доходя до знакомого перекрестка, шедшая впереди волчица вдруг остановилась. Она некоторое время жадно принюхивалась, потом побежала к перекрестку и, опустив голову, стала внимательно изучать следы. Лобастый уловил незнакомый запах чужого волка. Охваченный неясным волнением, он подбежал к матери.
Волчица была сильно возбуждена. Она несколько раз прошла взад и вперед по волчьему следу, потом уселась, высоко вздернула голову и завыла. Почти тотчас с соседнего холма раздался короткий басовитый голос матерого зверя. Волчица продолжала сидеть и, навострив уши, внимательно вглядывалась в белесую даль дороги.
Светло-серый матерый бежал крупной, размашистой рысью. В предутренних сумерках он сначала казался расплывчатым, неясным пятном. По мере того как волк приближался, все яснее и контрастнее выступали его мощные, крупные формы.
Глядя на непрошеного гостя, Лобастый решительно не знал, что ему делать. На всякий случай он вздыбил загривок и принял угрожающую позу.
Матерый, не обращая внимания на Лобастого, подошел к волчице. Большой и собранный, он остановился рядом и сейчас же, по-хозяйски, обследовал все ее волчьи достоинства.
С этого дня в жизни Лобастого все пошло кувырком.
Матерый больше не покидал волчицу. Сначала, правда, все трое предприняли несколько совместных охот и честно делили трапезу. Но Лобастый все больше и больше чувствовал отчуждение матери. И когда однажды был изгнан старшими, то принял свое изгнание безропотно.
Вот когда ему пригодилась школа и навыки, полученные от матери. Он по-прежнему оставался в районе обжитых дневок. Охотиться в одиночку было много трудней. Ему стало знакомо постоянное изнуряющее чувство голода.
Иногда Лобастый незримо чувствовал близость матерых, но приближаться к ним не решался. Сошлись они снова, когда днями сильно стало пригревать солнце, а к ночи можно было легко ходить по твердому насту. Матерые приняли его просто, без излишних эмоций, как будто и не было никакой размолвки.
Повинуясь старой привычке, Лобастый покорно затрусил вслед за взрослыми. Новая семья шла всю ночь и на рассвете остановилась на дневку у большой реки, точно в том месте, где проходил Лобастый полгода назад. Тогда, покидая родные края, он расставался со своим детством. Теперь возвращался взрослым и взматеревшим зверем.
* * *
Ничего похожего на жизнь Лобастого в биографии его бусого братца, пожалуй, и не было. Тут все шло наоборот. Если Лобастый боялся людей и привык видеть в них врагов, то Гай обожал людское общество. Когда Лобастый голодал и с риском для жизни добывал себе пропитание, Гай в точно установленные человеком часы ложился перед кормушкой. Когда в лихое ненастье Лобастый долгими часами лежал под пихтой с засунутым под основание хвоста носом и ощущал своим боком падение тяжелых, надоедливых капель, Гай, не изменяя волчьей повадке, свертывался калачом и сквозь сладкую дрему вслушивался в мерную стукотню дождя по тесовой крыше своего жилища.
И если Лобастый, распростившись с детством, научился быть дерзким и сильным, злым и осторожным, то Гай, вступив в зрелость, стал ласковым и послушным, верным и доверчивым.
…На Шатры валил и валил снег. Огромные сугробы накрыли баньку, конуру, колодец, прясло, превратив все окружающее в волнистое снежное море. Для того чтобы выбраться из своего жилища, Гаю в иное утро приходилось немало поработать лапами. Побренчав цепью и навалявшись в снегу, Гай забирался на крышу своей хижины и часами обозревал окрестности.
Вообще снег Гаю даже нравился. В нем можно было хорошо поваляться. Трудновато, конечно, было ходить, но зато, если умело воспользоваться старой лыжней или заячьими тропами, сколько можно узнать в лесу интересного! Если бы еще не мешала ременная сворка, на которой приходилось таскать за собой либо Сашку, либо тяжеленного, как сама конура, Барсукова.
Но как-то так получилось, что с появлением снега на Гая навалилась целая куча неприятностей. Прогулки в лес и на реку стали значительно реже. Ребята ходили в школу, и Гаю теперь уделяли совсем мало времени. Сашка все куда-то торопился и забегал утром всего на минуту, а то и вовсе не заходил до вечера, и тогда завтрак приносил Иван Александрович, либо бабка Андреевна. Бабка ужасно боялась Гая и поэтому ставила ведро на таком расстоянии, которое как раз соответствовало длине цепи.
Однажды Андреевна, видимо, куда-то спешила и, не разглядев места, на которое обычно с величайшей предосторожностью ставила пищу, сунула ведро в снег на целых полметра дальше от будки.
Гай изо всех сил тянул неподатливую цепочку, сердился, прыгал от нетерпения и, наконец, кое-как дотянувшись до ведра лапой, опрокинул его в снег. Однако и теперь пища осталась недосягаемой. Удрученный случившимся, Гай улегся в отдалении и стал ждать хозяйской подмоги. Но вместо хозяев к конуре явились гуси. Они и раньше наведывались к Гаю и любопытства ради любили заглянуть в пустое ведро. На Гая это обычно не производило решительно никакого впечатления.
Заметив у опрокинутого ведра целые залежи отменного кушанья, гуси забеспокоились. Оценив обстановку, гусак вытянул шею, воинственно пошипел в сторону ощеренной волчьей пасти и смело пошел к ведру. Приглашая к столу всю стаю, он солидно гагакнул и приступил к трапезе.
Это было уже слишком. Цепь натужно звякнула. Гай опрокинулся навзничь, но длинную шею наглеца из пасти не выпустил. Затем он вскочил на ноги, крутнул гусака в воздухе и отбросил за будку.
Вечером, когда поостыли страсти и всё, не исключая и ведра, встало на свое место, у Гая произошел длинный и серьезный разговор с Сашкой.
Гусь был захоронен и предан забвению. Завтрак с этого дня подавался Гаю только мужчинами и к самой конуре. Но зато продолжительность «строгого режима» для Гая увеличилась вдвое. Теперь он всю первую половину дня до прихода Сашки или ребят, которым Барсуковы все еще доверяли волчонка, сидел на цепи.
…Итак, забравшись на снежную крышу конуры, Гай любил смотреть в снежные дали. В ясную и морозную пору он хорошо видел даже далекий, покрытый снегами речной плес, на противоположном берегу которого в серой дымке ольховника желтел камыш, а на белой простыне водоема чернели согбенные фигурки рыболовов. Там ранней осенней порой Гай впервые извлек на берег подбитого Сашкой селезня и там же, потрепав Гая за ухо, Сашка сказал: «Теперь вся битая птица будет наша!»
Бывал он там с Сашкой и по перволедку. Сашка долбил пешней лунки, садился на ящик и, опустив в лунку блесенку, дергал коротким прутиком. Когда не было клева, Гай бегал по берегу и охотился за мышами. Но стоило ему заметить, как Сашка часто отмахивает рукой лесу и резко нагибается к лунке, Гай со всех ног летел к хозяину. Начинался клев. Гай усаживался вблизи и внимательно наблюдал за черной дырой, из которой на лед вылетали полосатые окуни. Одного окуня Сашка бросал в сторону, другого — Гаю. Усвоить этот порядок было совсем не трудно и «своего» окуня Гай ожидал с особенным трепетом. Иногда получалось так, что окунь, предназначавшийся Гаю, попадался не в пример своему предшественнику — «огромадный». Тогда Сашка с досады крякал, но, поглядев на нетерпеливо переступающего лапами «приятеля», правилу не изменял и, сняв горбача с крючка, кидал его Гаю под ноги.
С другой стороны огорода с конуры хорошо был виден угор с сосновыми мелочами и полянками, на которых рос остроконечный можжевельник. Это был «учебный полигон», как называл его Барсуков-старший. Там Гай проходил охотничью науку.
Сначала ему давали набегаться, а потом начиналась учеба, к которой Гай проявлял большое радение, — ведь за каждое хорошо выполненное упражнение он получал лакомство. Чего только не придумывали его хозяева: по приказу голосом или вытянутой в его сторону руки он ложился, ползал на поляне вместе с Сашкой, таскал поноску, занимался поиском и, наконец, пел… О, это было здорово! Барсуков поднимал вверх руку и заводил волчью песню. От нее щекотало под кожей и все существо охватывала сладостная истома. Гаю тоже очень хотелось спеть. Он беспокойно ерзал, задирал голову и пытался подстроиться к Барсукову. Вначале из этого ничего не получалось. Голос его рвался, пищал. И тогда, вконец раздосадованный, Гай жалобно взлаивал и скулил.
Барсуков не утомлял своего воспитанника, но изо дня в день повторял одно и то же. И наконец Гай запел. Запел тонким, неустойчивым дискантом. Но все же это была настоящая дикая песня о волчьей доле. Как бы, наверное, порадовалась его серая матушка, услыхав эту песню! Мачеха же в этом искусстве ровно ничего не смыслила. Однажды, придя к конуре вместе с Лапкой, Сашка не утерпел и решил проэкзаменовать четвероногого друга. Лишь только он поднял руку, Гай с таким усердием залился песней, что Лапка, поджав хвост, мгновенно ускакала в подворотню, а в Шатрах пугливым брехом ответили собачонки.
Но с тех пор, как Шатры завалили снега, стало скучно. Прогулки и тренировки в лесу были только по воскресеньям. Приближения этого радостного дня Гай ждал с нетерпением. В остальные же дни сидел или лежал на своей будке и смотрел в дальние дали. Если в огороде появлялись гуси, Гай сейчас же уходил в будку — не любил вспоминать о случившемся. Но зато с каким восторгом и радостью он встречал своих друзей-школьников! С приходом шумливой братии в огороде начинался настоящий переполох. Получив свободу, Гай с упоением скакал по глубокому снегу, а потом безропотно поступал в полное распоряжение своих горластых товарищей. На дорогу вывозились сани, Гай покорно влезал в постромки и под смех и гиканье лихо катал ребятню…
С крыш по сталактитовым узорам ледяных потоков уже звенела мартовская капель. На будке под утрамбованной волчьей лежкой вытаяли доски.
Приближалась пора охотничьих испытаний.
В одиночестве
Бегущие над лесами плотные свинцовые тучи долго мешали рассвету возвестить о наступившем утре. Но когда перестал поливать дождь и с невероятной быстротой над лесом развеялись облака, стало сразу совсем светло. По оранжевому, подметенному ветром небу проносились редкие сизые обрывки облаков, а в остывшем воздухе, кувыркаясь, летели к земле одинокие снежинки.
Поднявшийся еще с вечера отчаянный ветродуй, запутавшись в лесной чаще, одичало шумел, рвался на волю. Под его шальными порывами деревья осуждающе качали вершинами.
И все же это было майское утро. Утро любовных песен, утро пробуждающейся к новой жизни природы. Весной на Урале вовсе не обязательно быть ему теплым и ласковым.
По просеке на полянку вышли охотники в лоснящихся мокрых телогрейках. На длинной сворке шел большой, как теленок, Гай. Остановившись, он энергично встряхнулся, во все стороны разлетелись мелкие брызги.
Птицын отдал Сашке свое ружье и, раскуривая папиросу, проворчал:
— Надо же, выбрали погодку!
Барсуков глянул на быстро летящие ошметки облаков, чему-то улыбнулся.
— Да, погодка что надо. Нам бы только следок найти, Гаюшка! — Он ласково похлопал мокрую голову волка. — Сухонку перейдем и, если ничего не будет, придется обходить увал и лога по просекам, а там выйдем на елани и дорожками замкнем круг. Держи, Санька, своего ирода. Все руки пооттянул!
По размокшей прошлогодней траве охотники двигались мягко, бесшумно. Даже попадавшие под сапоги мокрые ветки чаще просто вминались в землю и, если уж ломались, то глухо, без предательского хруста и треска.
Гай шел впереди Сашки. Иногда он останавливался, поворачивал голову и, навострив уши, к чему-то прислушивался. Ни одно движение его чутких ушей и носа не было беспричинным. Он всегда хорошо слышал то, чего не слышали охотники, и отчетливо чувствовал то, о чем они могли только догадываться.
По степени его возбуждения, по тонко вздрагивающим ушам, по неторопливому переступанию передних лап или неожиданной потяжке Барсуковым иногда удавалось довольно точно определять — кто из лесных обитателей и чем привлек внимание волка. Но чаще познаваемый зверем мир оставался недоступным для людей.
Выйдя на тот самый покос, на котором осенью Сашка убил переярка, Гай внезапно остановился. В следующее мгновение он с такой стремительностью бросился к речке что Сашка бегом едва поспевал сзади. Шагов через десять Гай ткнулся носом в жухлую прошлогоднюю траву, заметался из стороны в сторону и вдруг, снова натянув поводок, потащил Сашку по берегу Сухонки. Шерсть на его хребте дыбилась, тяжелый хвост вытянулся и вздрагивал.
Не было никакого сомнения — он шел по свежему следу.
Барсуков догнал Сашку и помог придержать рвущегося вперед Гая. Перед ними была небольшая низинка, по которой к Сухонке из леса стекали талые воды. Волчьи следы на плотно слежавшейся и вылизанной дождем грязевой косе виднелись необычайно отчетливо. Крупные и узловатые, словно нанизанные на невидимую нить огромные бусы, они тянулись в сторону леса. Даже на расстоянии Барсуков без особого труда определил, что принадлежали они крупному волку-самцу.
— Матерый! Держи Гая как следует, а то все дело испортишь. Пошли!
Сашка перекинул повод через плечо, обмотнул его вокруг пояса и только тогда двинулся.
Гай, которому ошейник давил горло, отчаянно сопел, но, упираясь лапами, все тащил и тащил Сашку за собой. Покос миновали чуть не бегом. В лесу идти стало еще трудней. Почти сразу начался подъем в Синявинский увал. Гай не сбавлял хода. Он ловко перепрыгивал упавшие деревья, нырял под бурелом и кустарник и все пер и пер в гору.
Достигнув вершины увала, Барсуков знаком руки остановил сына. Для того чтобы осадить рвущегося вперед волка, Сашке пришлось сесть на землю. Держась одной рукой за ошейник, другой он гладил настороженную голову своего питомца и что-то шептал ему на ухо.
Здесь, на вершине увала, ветер свирепствовал еще сильнее. Могучие ели и пихты мотались из стороны в сторону и, неумолчно скрипя и охая, пели скорбную лесную песню.
Передохнув, Барсуков подал предостерегающий знак Сашке, стоящему в стороне Птицыну и осторожно пошел под гору.
Преследователи быстро миновали основной лесистый склон увала. Спуск был положе. Могучий ельник сменился смешанным лесом. Начались вершинки Синявинских лугов, то тут, то там виднелись небольшие, заросшие хвойной молодью карстовые ямы.
Гай все напористее и настойчивей тянул Сашку. Рука, вокруг которой петлей захлестнулась ременная сворка, немела, но Сашка не обращал на это внимания. Он зорко поглядывал то на идущих по сторонам и несколько впереди охотников, то на лесные заросли.
Потянув к чисто подметенному талыми водами пологому ложку, Гай с такой силой рванул Сашку, что тот еле удержался на ногах. Стараясь не терять равновесия, он следом за Гаем перебежал чистинку и единым духом влетел на противоположный берег ложка.
За пихтачом сверкнула наполненная водой карстовая яма и показался спадающий к ней желтый от прошлогодних трав взлобок. На нем взметнулись и словно вросли в землю две огромные фигуры волков. Гай стоял и в упор смотрел на недвижных сородичей. Меж матерью и сыном лежала только небольшая, всего в десяток метров желтой травы, поляна.
Потом случилось все как-то сразу. Сашка помнит, как он бросил в плечо приклад, как с поляны метнулись звери, сильно за руку рванул Гай, прогремел сбитый с прицела выстрел. И еще ему показалось, что в прыжке один из волков дернулся головой к спине и лязгнул челюстями. Затем на взлобок вбежал отец, а с другой стороны из пихтача показался Птицын.
Несмотря на то что в логове нашли девять волчат-слепышей, Барсуков был недоволен исходом охоты. Посмотрев на сына, он спросил с участием и надеждой:
— А может, задел, сынок? Как стрелял-то?
— Стрелял вон у тех елушек. Гай, паразит, дернул. Но, кажется, волк-то зубами лязгнул, — неуверенно добавил Сашка.
— Так что ж ты молчишь? Давай наставляй Гая!
Барсуков сразу оживился и поспешил следом за исчезнувшим в ельнике сыном. Через несколько минут он появился снова.
— Семен, посиди у логова. Волчица ранена и, видать, здорово. Мы с Сашкой пойдем. Если дважды сряду проваблю, иди к нам.
С этими словами он поспешно исчез в зарослях.
Перекидав волчат в просторный рюкзак, Птицын ушел с поляны и, привалившись к коряге, стал ждать. Прошло около часа. И вот в непрестанный шум леса вплелся далекий, еле уловимый вой волка. Минута, и снова тот же призывной голос. Птицын вскочил, ответил и, захватив рюкзак, быстро пошел под гору…
Волчица лежала в кустах малинника. Широко распластав огромное тело, она была страшна даже мертвая. Тяжелая голова нелепо запрокинулась в сторону, а челюсти в последней хватке все еще цепко впивались в корневище поваленного бурей дерева.
Гай больше не рвался. Он сидел в стороне на привязи и глядел на волчицу. Около него стоял Сашка и ласково чесал ему за ухом. Знал ли сейчас этот ручной волчина о том, кто сражен выстрелом его господина? Наверное, нет.
Барсуков снова дважды провыл волком. Потом он улыбнулся сыну и кивнул на Гая:
— Отведи-ка, сынок, его в сторонку. Не гоже ему смотреть на это.
С этими словами Иван Александрович взялся за нож.
* * *
Возвращение Лобастого в свой коренной район сначала принесло ему сытную и вольготную жизнь. Троица серых разбойников в течение месяца безнаказанно разгуливала по лесам и лугам. Ни в Шатры, ни в другие деревни волки не заглядывали. Предводимые сильной и мудрой матерой волчицей, они путешествовали от одного лосиного стойбища к другому и всюду находили себе корм.
Однако привольной жизни Лобастого скоро настал конец. В поведении матерой волчицы все больше и все заметнее проявлялась нервозность. Она стала раздражительна и все чаще показывала Лобастому свои белые, как фарфор, клыки. Неласков с Лобастым был и его новоявленный отчим — матерый волк. Новых охот волчица больше не предпринимала, а предпочитала довольствоваться остатками от прошлых набегов. При этих трапезах Лобастому становилось совсем лихо. Устрашенный лютым материнским оскалом, он отсиживался в стороне, а после ухода матерых, помусолив чисто оглоданные кости, снова понуро плелся вслед ушедшей на дневку матери.
Однажды поздним вечером, поднявшись с дневки, волчица выбралась на проселочную дорогу и трусила по ней до самой полночи. Сзади вплотную за ней бежал матерый. Лобастый по привычке замыкал шествие, держась на расстоянии.
Была лунная, светлая ночь, когда малоезженная лесная дорожка вывела волков на Синявинские покосы. Здесь волчица, повернувшись к выбежавшему из леса Лобастому, ощерилась. Лобастый сейчас же остановился. Убедившись, видимо, в безропотном повиновении сына, волчица перестала щериться и, сойдя с дороги, пошла к увалу. Вслед за ней ушел и матерый…
Теперь одиночество Лобастый переносил легче. Обосновавшись на том же Синявинском увале, между логами и речкой Говорухой, он часто встречал следы матерого, однако свиданий с ним не искал.
Когда по Предуралью вовсю разгулялась весна, жизнь стала куда вольготней. Лобастый начал поправляться. Ввалившиеся за последнее время бока зверя заметно выровнялись, однако выглядел он все же ужасно. Куда только девалась его звериная красота? Вместо пышной, роскошной шубы теперь на боках и груди висели лишь жалкие лохмотья. На хребте и шее, словно спелые бобы, болтались досыта напившиеся волчьей крови клещи.
Возвращаясь с охоты, Лобастый любил завернуть на укромное лесное польце. Здесь он устраивался на куче прошлогодней соломы и, подставляя бока ласковому весеннему солнышку, часами приводил свою шкуру в порядок.
Шли дни. Никто не нарушал распорядка жизни Лобастого. Однако он ни на один час не терял привычной бдительности и своего лютого врага — человека — не забывал никогда. Были случаи, когда он слышал неприятный запах его следов. Тогда шерсть на его спине поднималась, верхняя губа нервно вздрагивала, и, обеспокоенный и рассерженный, зверь спешил прочь.
В ту ночь, когда над Синявинскими лесами хлестал дождь и с самого вечера куражился неуемный ветер, Лобастый на охоту не вышел. Свернувшись под лохматой пихтой и надежно упрятав нос в основание облезлого хвоста, он уже чуть не сутки пребывал во власти нескончаемых звериных снов. Только уши, как верные часовые, были настороже и бдительно охраняли покой спящего волка.
Когда настало холодное утро и вокруг кружились непоседливые снежинки, издалека, от самых Синявинских логов, прилетел и, вырвавшись из лесного шума, глухо кашлянул выстрел.
Лобастый вскочил. Подобно локатору, его уши были в состоянии с невероятной точностью определить место рождения любого звука. Теперь звук пришел с вершины логов. Оттуда, куда ушла его мать и куда всегда уходили следы матерого. Непонятная тревога охватила Лобастого.
В этот день он больше не ложился. Не находя себе места, бродил по лесистому увалу. Иногда подолгу стоял на его вершине и чутко вслушивался в шум леса. К вечеру Лобастый добрался до Говорухи. Забредя в студеную воду, он жадно шлепал языком, потом, пройдя по отвершку, осторожно поднялся на сосновый взлобок и оказался у старой сухой сосны. На поляне, запутанные желтой прошлогодней травой, валялись позеленевшие от времени кости. Лобастый не мог вспомнить свое первое логово, но от всего, что он видел и чувствовал здесь, веяло родным и уютным. Обойдя поляну, он впервые за весь прожитый в непрестанной тревоге день, спокойно улегся у корневища сухого дерева.
Когда к вечеру притих измотанный непогодой лес и над Говорухой протянул первый вальдшнеп, по следу Лобастого на взлобок поднялся матерый. При его появлении Лобастый вскочил на ноги, но, сразу узнав знакомого зверя, спокойно пошел навстречу. Не проявляя ни радости, ни раздражения, звери обошли и обнюхали друг друга, спокойно устроились по своим лежкам.
На рассвете матерый провел Лобастого к осиротевшему логову. Потом они спустились под гору и обошли шиповник, где лежало ободранное и закиданное валежником тело волчицы. Близко к ней они не приближались. Здесь все еще витал еле уловимый, но ужасно устойчивый человеческий запах.
Волки ушли. Только теперь, окончательно убедившись в тщетности своих поисков, матерый, не останавливаясь более и не петляя по лесу, повел Лобастого на первый совместный разбой…
К концу подходило лето. О кровавых делах матерого волка и крупного переярка теперь знали во всех соседних с Шатрами деревнях. Километрах в пятнадцати от Шатров тоже пиратствовал волчий выводок, но разговоров о нем было значительно меньше.
По настоянию колхозников Барсуков и Птицын были вынуждены организовать облаву на волков. Желающих принять в ней участие было много, но в успех ее охотники не верили. Однако убедить колхозников в бесполезности этой затеи они не могли и в лесу все же основательно, хоть и без толку, пошумели.
Расплата за грабеж пришла позже. Настало наконец время, когда осторожности и хитрости хищников с успехом можно было противопоставить знание и охотничье мастерство.
После крепкого утренника, как часто бывает в погожее бабье лето, в обеленные инеем леса заглянуло теплое солнышко. Его косые ласковые лучи, слизнув с еланей и луговин непрошеную белизну осени, уже гонялись за снежными зайчиками в лесной чащобе. Растроганные таким нежданным теплом, березки роняли золотую листву. В полном безветрии на землю медленно, словно нехотя, падали их желтые лепестки.
Внизу, у ручья, в кромке большой светлой елани, с утра царило необычайное оживление. Над останками задранной вчера отставшей от табуна телки беспрестанно перелетали сороки и сойки. Их беспокойная трескотня в утренней тишине леса звучала назойливо. На высокой сосне сидела одинокая ворона и тоже методично, дрыгая хвостом и бесперебойно встряхивая опущенными вниз крыльями, орала, сзывая товарок.
Утром тут опять пировали волки. Туго набив животы и не чувствуя никакой заметной опасности, на дневку звери остались поблизости. Пройдя немного вверх по ручью, они поднялись на крутой солнечный угор и среди кустов можжевельника на полянке, усеянной посиневшими рыжиками, устроились на дневку.
Здесь, на ветерке, их не так одолевали злые осенние мухи, а теплое солнышко пригревало весь день. К вечеру, сползая за противоположный лесистый склон, солнце в последний раз лизнуло острые вершинки можжевельника.
От ключа потянуло прохладой. Лобастого давно мучала жажда, но, разморенный сытостью, он упорно не двигался с места.
Вдруг умиротворенную тишину вечернего леса прорезал громкий призывный голос волчицы. В далеких лесах еще трепетало его непогасшее эхо, а там, на елани, уже зародился новый, срывающийся на высоких тонах, вой молодого волка.
Вскочив с лежек, волки внимательно вслушивались в голоса волчицы и тоскливо скулящего переярка. Непрошеные гости были где-то совсем близко, там, где лежала недоеденная телка. А переярок снова завыл, жалобно и призывно.
Матерый больше не раздумывал. Не отдавая голоса, он спустился в низину и, готовый проучить непрошеных дармоедов, осторожно пошел ручьем к елани. Лобастый хотел было последовать его примеру, но, неожиданно изменив направление, пошел к елани горой. Он был очень встревожен. Лобастому казалось, что он уже когда-то слыхал этот голос волчицы, и отдельные его нотки странно ассоциировались в его звериной памяти с чувством какого-то неопределенного еще страха.
На елани опять пропел беспокойный переярок. Волчица теперь молчала. Это молчание еще больше тревожило и с необъяснимой силой влекло к себе. Надежно укрываясь за мелкой порослью, Лобастый вышел к елани. С высоты лесистого склона елань была видна как на ладони.
Переярка он увидел сразу. Волк сидел в дальней от него кромке, у самого дерева, и смотрел вдоль луга. Очевидно, он что-то слышал. Лобастый заметил и своего матерого напарника, который медленно вышел из ольховых зарослей и теперь, укрываясь островком черемуховых кустов, шел прямо на переярка. Вдруг какое-то еле уловимое движение в кустах черемухи заставило Лобастого припасть к земле.
Одновременно с тем как споткнулся на лугу матерый, из кустов брызнул огонь и громыхнул выстрел. Кинув в стремительном броске, через дыбки, свое мощное тело, Лобастый, заложив хвост, огромными прыжками пошел в гору.
И опять он, как и после гибели матери, долго колесил по лесу. Еще несколько раз слышал далекий предательский голос переярка, но сам голоса не подавал и если не спешил убраться подальше от этих мест, то только потому, что все еще ждал прихода матерого. Но в эту ночь так его и не дождался. Не встречал он его и во все последующие дни своих одиноких скитаний.
Жить одному стало много труднее. Лобастый не раз пересекал следы волков чужого ему семейства, но навязывать им свою компанию не решался. Однажды он услыхал их призывные голоса и совсем было решился пойти навстречу. Несколько раз даже подал голос, но неожиданно наткнулся на следы своего врага. Запах свежих следов людей был хорошо знаком. Вместе с ним отчетливо слышался запах волка. Лобастому хотелось внимательней изучить следы, но страх перед человеком оказался сильнее, и он поспешил прочь. На следующий вечер у Гнилой Пади он вновь услыхал волчьи голоса и тот же вой переярка, от которого теперь, как и от голоса волчицы, его охватывало беспокойство. Сидя на голом бугре озимого поля, он вглядывался в синеющие в вечерних сумерках леса Гнилой Пади и слушал далекие голоса волков. Когда там прогремели глухие выстрелы, Лобастый встал и, заложив хвост на брюхо, боязливо озираясь, побрел в сторону ближнего леса. Больше встречи с волками он не искал.
Многое теперь знал и умел Лобастый. Но еще большему его научили одинокие скитания. В постоянных встречах с людьми он привык хорошо различать опасности и прекрасно знал все, что не сулило никакой беды. Лежа на дневке близ полей, он мог часами спокойно слушать трескотню трактора, голоса работающих людей, шум проходящего над лесом воздушного корабля, далекую воркотню радио. Все это было связано с человеком, однако у Лобастого оно не вызывало никакого страха. Даже выстрелы, которых всегда больше всего боялся Лобастый, и те, оказывается, были совсем не одинаковы. Бесшабашная пальба на реке и полях его почти не беспокоила. Иногда выстрелы следовали за звонким, раздающимся сводного и того же места голосом лайки. Доводилось слышать их и после заливистого, заманчиво блуждающего по лесу ора гончих собак. Ко всему этому было нелегко привыкнуть. Но Лобастый привык и привык настолько, что уже не раз ухитрялся снимать с гона зарвавшуюся в погоне за зайцем гончую или облаивающую белку лайчонку.
Но все это не было ни беспечностью, ни отсутствием страха. Напротив, бдительность и осторожность, проявляемая им ко всему, что сулило хотя бы малейшую опасность, в поведении зверя теперь доходила до совершенства и трудно уже объяснялась одними инстинктами.
Так молодой волк превращался в бывалого, матерого зверя. Он был безудержно смел, даже нагл, когда чувствовал свою силу и превосходство, и наряду с этим мог впадать в панический страх перед преследовавшим его человеком. Законом его благополучия стало постоянное желание избежать преследования. Перехитрить, обмануть своего врага, быть незамеченным, а следовательно, и невредимым. Усвоив эту науку, он уже не раз избегал неприятностей. Но далеко еще не все испытал и познал Лобастый. А волчья фортуна изменчива, и беда к Лобастому подобралась неожиданно и негаданно.
Давно уже отзолотилось бабье лето. Простывшую землю и схваченные цепким ледком реки надежно заковало, законопатило снегом. В лесах отзвенели собачьи голоса, поумолкли выстрелы. Ходить по глубоким снегам стало убродно и муторно. По лесам и лугам, нарезая снежную целину, побежали санные дорожки. Много их приходилось исходить Лобастому, прежде чем удавалось набить пустое брюхо. Голодно в эту пору жилось зверю.
О существовании скотского кладбища Лобастый знал давно. Еще с прошлой осени, когда наведывался на него со своей матерью. Но тогда их отпугнули свежие следы человека. Теперь же на кладбище было тихо и спокойно. Все вокруг покоилось под глубоким снежным покрывалом, не видно было даже лисьих следов. Не под силу, видно, кумушкам была эта пожива.
Лобастый работал долго и настойчиво, чуть не целую ночь. Не легко было прогрызть, раскопать мерзлую землю. Но даже тогда, когда ему удалось наконец добраться до падали, легче не стало. Каждый смерзшийся кусок мяса давался с огромным трудом. И все же это была еда.
Лобастый стал постоянным, но к великому его сожалению, не единственным посетителем кладбища. Пожаловали сюда и лисы. О новой поживе их на следующий же день известили болтливые сороки. Это ужасно злило Лобастого. Раз он выследил и задавил одного лисовина, но есть его не стал. Ему всегда был противен лисий запах, да к тому же у него были теперь богатые запасы.
Как-то в морозное декабрьское утро, подходя к кладбищу, на чистой поляне Лобастый увидел следы человека. Простывшая с вечера лыжня доходила почти до самого волчьего следа и, не пересекая его, уходила в сторону леса. Лобастый ушел от нее подальше и кружным путем подошел к кладбищу. Назавтра он снова встретил лыжню, но уже в другом месте. Она подошла незаметно из-за кустов и опять почти к самому его вчерашнему следу. Лобастый снова свернул, но от завтрака не отказался.
Шли дни. Однажды целую ночь валил снег. Утром Лобастый брел к падали, почти не видя своих старых следов, однако с тропы не сбивался.
На этот раз Лобастый не видел подкравшейся из-за кустов и заваленной снегом лыжни. Не уловил он и запаха человека и старательно вываренного в пихтовой хвое железа. Все скрыла предательская пороша.
Перед самой мордой Лобастого из-под его левой передней лапы взвился снежный султан, омерзительно лязгнуло железо и на пальце мертвой хваткой сомкнулись зубастые челюсти капкана.
Метнувшийся в сторону и отдернутый назад внезапно навалившейся тяжестью, Лобастый упал в снег. Вскочил, с отчаянной силой дернул плененную ногу и, волоча за собой тяжелый капкан с привязанным к нему чурбаком, падая и поднимаясь вновь, неуклюже ковыляя на трех лапах, устремился к лесу. Он то беспомощно зарывался мордой в снег, то, крутясь и барахтаясь, пятился, волоча за собой ненавистный груз.
Однако эта безумная пляска продолжалась недолго. Словно поняв свое бессилие, Лобастый запрокинул голову и затих.
Было почти совсем светло, когда до его слуха долетело еле слышное, ритмичное поскрипывание охотничьих лыж. Кромкой поля шел человек.
Шерсть на волчьем загривке вздыбилась. Беспомощный, с плотно прижатыми к затылку ушами, с ощеренной пастью, нелепо распластав в снегу мощное тело, он с тоской и злобой смотрел на приближающегося врага.
Человек, видимо, уже заметил своего пленника. Широко размахивая руками, он легко и споро вспахивал снежную целину. Вот он стащил было с плеч ружье, но тут же снова забросил его за плечи и ходко побежал к Лесу. Негоже было охотнику тратить лишний патрон и напрасно рвать волчью шкуру. Теперь нужна была только увесистая жердина.
Новый отчаянный порыв страха и бессильной злобы охватил Лобастого. Бросившись в сторону и снова беспомощно повалившись в снег, он с ненавистью ринулся на неумолимого врага, зубами схватил железные дуги капкана. Глухо звякнула неподатливая сталь. Острые клыки зверя разжались, и Лобастый в приливе ярости сомкнул челюсти на своей лапе. Не ощущая боли, он единым духом отгрыз плененный капканом палец и, получив неожиданную свободу, не удержавшись на ногах, повалился навзничь.
Завидев неладное, человек уже снова бежал к нему. Он бросил ненужную больше дубинку и, путаясь на ходу в ремне, силился стащить с плеч ружье.
Но Лобастый огромными машистыми скачками уже уходил от своей гибели. Сзади двукратно прогремел гром. По его задней ноге и хребту ударили свинцовые пчелы. Лобастый пошатнулся, лязгнул назад зубами, потом справился и, продолжая скакать, скрылся в пихтовых зарослях…
Барсуков целый день преследовал так глупо и непростительно упущенного им волка. Два раза он находил его лежки и, внимательно изучив оставленные на снегу следы, все больше понимал бесполезность погони. Зверь совсем не заходил в крепи, ложился только на чистых местах и совсем ненадолго, с единственной, видимо, целью — зализать кровоточащие раны.
К вечерним сумеркам Барсуков остановился на крутом берегу большой, умиротворенной до весеннего половодья, реки. Внизу под ним, по белому покрывалу снега, уходила на другой берег ровная и прямая строчка волчьего следа.
За лесистым ежиком тлела светло-желтым холодным светом заря. Подмораживало. Под распахнутую телогрейку пробирался холодок. Стерев с лица шапкой соленые капельки пота, Барсуков еще раз посмотрел на уже потемневшую полоску следа, потом круто развернул показавшиеся ему сильно отяжелевшими лыжи и устало побрел в сторону Шатров.
Разлука
Весь день по Шатрам бродила и неумолчно пиликала засипшая еще со вчерашнего вечера гармошка. Мимо барсуковского дома нестройной ватагой тянулись гололобые новобранцы. Помятые от бессонницы ребята на людях бодрились, отчего вид у них был лихой. Немного поодаль цветастой стайкой переплясывали девчата.
Глядя в окно на сверстников сына, Сашкина мать смахнула слезинку и, не поворачиваясь в комнату, спросила Ивана Александровича.
— Где Сашка?
— Будку для Гая мастерит, мала стала. Да еще утеплить хочет.
— Ему дороже этого выкормыша никого нет. Ребят и тех бросил. Хоть бы с матерью посидел, ведь не на неделю едет.
— Насидится еще. А с Гаем у него дружба серьезная. Мешать не надо.
В огороде на вскопанных грядках кучками валялась жухлая картофельная ботва — спутница глухой осени. Под низким навесом висели волчьи шкуры. От них к конуре, где тюкал топором Сашка, легкий студеный ветерок наносил крепкий, ни с чем не сравнимый душок. Среди порядком уже усохших шкурок прибылых шкуры волчицы и матерого волка кажутся необычайно пышными и большими. Однако и они здорово уже сели. Словно бы не с того плеча сняты. Сашка нет-нет, да и поглядывает в ту сторону, вспоминает…
И надо же было так случиться — за целую неделю охоты так и не удалось выстрелить. И не то, чтобы зевал. Нет! Просто вот так вышло.
Удачно получилось у Гнилой Пади, когда отец завалил волчицу, а совсем по-темному на Гаев голос явился матерый и попал под дуплет Птицына. С волчатами было уже проще. Их подобрали в следующие два дня, и только один прибылой самец, от страха, видно, лишившись голоса, крутился молчком вокруг да около пади, пока наконец не выскочил на того же везучего Птицына.
А если бы не Гай — неизвестно, чем бы все кончилось. Ведь волчица-то вышла совсем не с той стороны, откуда ее ждали…
Вечер тогда был настороженный, тихий. Отец говорил, что лучше вечера не придумаешь, в такую пору зверь позывистее, охотнее идет на вабу.
За голым пологим ложком Гнилой Пади в угор уходит редкий осинник. Дальше на горе он путается в мелком пихтаче и постепенно теряется в глухом лесу. Там, накануне пел волчий выводок.
Охотники засели на поросшей редким липняком и кустарником вырубке, растянувшейся вдоль чистого, словно кем подметенного ложка с желтым ежиком кошенины.
Сашка устроился за старой трухлявой поленницей. Травы в лесосеке давно полегли, и ему отлично был виден весь ложок и противоположный склон. Видел он и Гая сидевшего на привязи шагах в пятидесяти, левее и чуть сзади. Прислонившись к такой же развалившейся поленнице, близ него сел отец. Птицын расположился в дальней кромке покоса, впереди и по другую сторону Гая. После того как на призывный вой Гая вместе с матерой волчицей дважды ответил весь выводок, воцарилась щемящая душу мертвая тишина. Даже одинокие, чудом уцелевшие на голой осине желтые листочки, и те не шелохнулись.
Сашка все время косился на Гая. Волк теперь стоит. Его навостренные уши и внимательные глаза устремлены к логу. Потом он прижимает уши, тянется головой к небу еще больше щурится. Его клыкастая пасть устремлена кверху, и в тишину вечернего леса врывается дикий вой зовущего к себе зверя.
Волки молчат. Но что с Гаем? Сашка даже не успел приметить, когда он повернулся. Теперь он смотрит совсем в другую сторону, в лесосеку. Высоко поднимает голову, тянется на передних лапах и вдруг разом оседает к земле, словно прижатый навалившейся тяжестью. Сашка смотрит во все глаза, вглядывается в каждый пень. Волк? Или просто старая серая валежина? Легкое движение звериной головы. Как это он мог перепутать!..
Зверь стоит неподвижно, смотрит в сторону Гая. Потом нерешительно озирается, словно выбирая дорогу. Крадучись, осторожно плывет от укрытия к укрытию, приближаясь к поленнице, где притаился отец.
Неожиданно зверь мощным броском кидается в сторону и одновременно с хлопком выстрела валится наземь.
Теперь Сашка снова видит отца. Барсуков стоит на коленях с высоко поднятой рукой и смотрит на Гая. Волчина встревожен. Ему очень хочется освободиться от привязи и поспешить к месту происшествия. Однако рука хозяина властно поднята, и Гай подчиняется: садится и, высоко запрокинув голову, воет.
Откуда-то издалека, со стороны Абдуллинских полей, долетает короткий басок зверя. Сашка сразу узнает в нем голос певшего вчера волка. Отец утверждал, что это Гаев братец, и что он ни за что не придет, потому как из молодых да ранний и на людской «подлой науке» уже нажигался дважды.
Чернота наступающей ночи заливает осинник серой непроницаемой пеленой. Только полоска покоса все еще будто светится. А Гай все зовет и зовет.
Ну, можно ли стрелять в таких потемках? И, словно отвечая на этот вопрос, раз за разом мечет огонь птицынская двустволка. Глухо отвечает двукратным эхом Гнилая Падь, и снова текут томительные минуты. Потом дважды тихо и коротко, возвещая конец охоты, провыл отец…
Хлестко вогнав топор в стоящий у конуры чурбак, Сашка направился к лежащему на картофельной ботве Гаю. Голова волка покоилась на вытянутых передних лапах. Он все время следил за Сашкой и теперь, не меняя позы, приветствовал его трепетным движением кончика хвоста. Сашка сел рядом, положил руку на голову зверя.
Чутко разгадав его состояние, Гай был сильно встревожен. Он не бросился, как обычно, к хозяину с ласками. Лежал неподвижно, и только большие умные глаза выдавали тревогу. Перехватив его взгляд, Сашка занервничал. Придвинувшись ближе, он начал трепать рукой волчье ухо и говорил, говорил…
Утром Сашка, не заходя к Гаю, вышел на улицу, закинул «сидор» в подкативший к дому грузовик с новобранцами, обнялся с плачущей матерью и, подойдя к отцу, неожиданно сказал совсем не то, что хотелось:
— Ты с ним как-нибудь поласковей, что ли…
Барсуков весело рассмеялся и обнял сына:
— Ладно, езжай спокойно! Уберегу!
Зеленый фургон
Средь пестреющих осенними красками лесов, лугов и полей нескончаемой серой лентой бежит и бежит жестко накатанный грейдер. Он то нырнет в крутую падь, то переваливает через горбатый мостик и изнуряющим тягуном снова лезет в гору. То петляет и крутится по дремучей тайге, а то, вырвавшись на простор полей, стремится вдаль, прямой и скучный. По нему, шурша и цокая галькой, несется старая полуторка с брезентовым тентом.
Под тентом на соломе развалились охотники. Несмотря на тряскую дорогу, время идет незаметно. Не часто ведь им, четверым, давно знающим друг друга волчатникам, удается быть вместе.
Справа, привалившись к кабине и набросив на себя рыжий потрепанный полушубок, лежит Митрич. В ногах у него беспрестанно возится Птицын. Слева расположился Барсуков, а к нему привалился Воронцов.
Между охотниками, свернувшись, лежит Гай. Ему два с половиной года — солидный, знающий себе цену зверь. С тех пор как Сашка ушел в армию, он стал избегать общества, вежливо отказываться от предлагаемых ребятами игр и все чаще уединяться в своей обширной конуре.
Иногда вечерами его забирал Барсуков, и они отправлялись в лес. Гай оживлялся и с прежним интересом ко всему окружающему таскал за собой хозяина. Однако как ни старался Барсуков, а по Сашкиному влезть в звериную душу не мог. Он и разговаривал с волком, и чесал ему за ухом, но восторженных эмоций у зверя никогда не видел. Сказывались, видимо, и чисто возрастные перемены характера. В обеспеченной и сытной жизни волка все же чего-то не доставало. Разлука с Сашкой только сильнее обострила тоску о звериной воле, и Гай стал замкнутым и мрачным.
Весной Гай повеселел, но прежняя беспечная жизнерадостность так больше к нему и не возвратилась.
Раз в весенний погожий день к барсуковскому дому подкатила крытая зеленым тентом полуторка. Не обращая внимания на трусливо поджатый хвост, охотники без особых церемоний погрузили Гая в кузов. Так началась его государственная служба.
Первое время Гай ужасно не любил этот трясучий, вечно дурно пахнущий фургон. Залезал в него только по принуждению, а когда ехал, то все старался высунуть морду за борт и глотать рвущийся навстречу свежий ветер. Однако скоро смирился с неизбежными неудобствами, и когда появлялся знакомый фургон, прыгал в него без лишнего приглашения.
После скучного летнего перерыва первую осеннюю командировку Гай встретил с особым волнением. А когда в проезжающий через город фургон к охотникам подсели Субботин и Воронцов, Гай принял их с радостью. Митрича даже облобызал в бороду…
Когда охотники устроились по своим обычным местам, первым разговор завел Барсуков.
— Я сейчас братца его вспомнил, — кивнул он на Гая. — Вот что значит среда, в которой зверь вырастает! Ведь попадись он тогда нам волчонком, верняком вырос бы таким же ручным и смиреным…
Барсуков помолчал, потом, улыбнувшись своим мыслям, покачал головой.
— Скажи на милость — не могу забыть его взгляда! Сколько перевидел волков, и в капканах не одного забил, а этого зверюгу на всю жизнь запомнил…
— Как же! Он ведь тебе родня! — съязвил Птицын.
— А что ты думаешь? Я когда к нему шел, не раз о Гае вспомнил. Сперва еще за бадожком побежал, а как в глаза ему посмотрел, какой уж тут бадожок! Тут, брат ты мой, все: и ненависть лютая, и страх, а больше всего тоска какая-то, от которой на душе муторно. Да… Много ли тогда я промешкал? А он, подлец, на что пошел!.. Стыдно сказать, было у меня тогда какое-то такое послабление в чувствах: ну, думаю, молодец, зверюга!
Митрич, почесав бороду, урезонил:
— Что и говорить! Нюни-то распустил, а теперь твой «молодец» людям страху нагоняет!
— Каюсь, Митрич, каюсь!
— Каюсь, — передразнил Митрич. — Ну какое может быть послабление? Враг он тебе или впрямь родственник?!
— Василий Митрич, — вмешался в разговор Птицын. — Ты ведь зимой в Раздольной был? Что там у Кеши случилось?
Все понаслышке знали об этой истории. Однако никто, кроме Митрича, не слыхал о ее подробностях. На этот раз дважды просить Митрича не пришлось.
— Что с Кешей? Кешу прежде всего знать надо! Охотник он изобретательный, так сказать, новатор-охотник!
Митрич нарочито серьезно почесал бороду и, собравшись с духом, продолжал:
— Послали меня зимой в Раздольную — волки там безобразничали. Приезжаю, а на станции меня уже конюх ждет, Гришка. Такой разбитной, старательный парнишка.
Сели, поехали. Я и спрашиваю: что, мол, Кеша сам не приехал? Гляжу, Гришка что-то ерзает и рукавицей вроде бы смешинку сгоняет. «Занемог», — говорит. — Что такое с ним? — «Да не велел он, Василий Митрич, сказывать, животом мается».
Ну, думаю, шут с тобой, не рассказывай. Молчу. Бросил Гришка вожжи, повернулся ко мне и прорвало его: «Вы уж только, Василий Митрич, не сказывайте Иннокентию Федоровичу. Через волка у него болезнь эта!».
— Ладно, — говорю. — Выкладывай.
Он и начал: «Как мы от вас известие получили, ко мне Кеша прибежал. Решил вас с волчьей добычей встретить. «Закладывай, — говорит, — кобылу в розвальни и как стемнеет, ко мне. Охотничать с поросенком будем. Председатель разрешил». Приехал я к нему, а он всю деревню обегал, поросенка искал, да так и не нашел. «Мы, — говорит, — Звонку возьмем, не хуже порося орать будет». Это у тетки Семеновны сучонка была. Ну такая, знаете ли, голосистая, что звонок. Побежал он к Семеновне, уговорил. Сели, поехали. Я в передке на вожжах, он сзади с ружьем. «Айда на «Красный Маяк», а оттуда лугами на Чкаловскую бригаду». Еще велел все его приказания в точности выполнять. Выехали на Раздольную, он мешочек достает. Дух от него страшный! Выбросил его на веревке. «Это, — говорит, — потаск, потроха разные, приманка». Едем дальше. Тут он командует: «Ну, Гриша, пошибче», а сам Звонку из саней скинул. Та и визжит, и лает, аж на все леса, а нагнать не может. Гляжу, уже к «Маяку» подъезжаем. Свернул, гоню дальше, только кусты мелькают. Ночь светлющая была, вызвездило. Хотел уж было бастовать, а тут слышу: «Держись, Гриша, волк нагоняет!» Обернулся и враз неловко стало. Наддает сзади зверюга, да такой громадный, с телка, не менее. Ну, тут я все уговоры разом забыл. Хлестнул кобылу вожжами, она заскакала и сразу ход сбавила. Звонка визжать перестала, видно, из последних сил нагоняла. Иннокентий Федорыч все какие-то команды мне дает. А я только и думаю — что же он не стреляет? Озлился Иннокентий Федорыч, да как заорет: «Придержи кобылу-то, дура!» Не знаю, со страху, что ли, померещилось мне, что погонять, а не придержать надо. Я как крутану над головой вожжами. И надо же — он как раз свою бердану нацелил. Зацепил я ее за ствол вожжами да так из рук у него и выдернул. Что тут было! Гляжу, Звонка уже в санях, а этот черт серый расчухал, что ружье-то выкинули, и одним махом за ней в розвальни. Я только за передок сильней уцепился и глаза закрыл. Не слыхал даже, сникала ли Звонка. Только открыл глаза — ни волка, ни суки, один Иннокентий Федорыч плашмя лежит…»
Василий Дмитриевич переждал, пока перестал взвизгивать утиравший слезы Воронцов и малость успокоился зашедшийся от смеха кашлем Птицын.
— Просили рассказать, так слушайте до конца. Я следующим же днем на место происшествия подался. Выпадки не было, ездили по дороге мало и всю эту картину я углядел в точности, как Гришка рассказывал. И что интересно: след левой передней лапы у волка трехпалый оказался.
Неуловимый
…А над Предуральем опять шумела весна. В жизни Лобастого она была, пожалуй, самой беспокойной и хлопотной из всех пережитых им весен. С тех пор как его молодая волчица обосновалась на логове, он стал единственным кормильцем и опекуном большого семейства. В постоянных поисках пищи Лобастый был, как и раньше, неутомимым, но стал значительно осторожнее.
С того декабрьского дня, когда он, пораненный зарядами картечи, с изуродованной лапой, дотащился до Раздольненских лесов, утекло много времени. С тех пор он встречался со своим ненавистным врагом лишь однажды. Это случилось той же злосчастной зимой. Лобастый только оправился от увечий, набирал силы, с утроенной наглостью принялся за разбой. Он часами выслеживал на окраинах деревень собачьи свадьбы, а иногда заходил за поживой и в деревни. Однажды ночью на луговой дороге он услышал заливистый собачий лай и не раздумывая начал преследование. Но в руках у человека оказалась страшная палка… И в то же время человек удирал… Все это было необычно. Лобастый продолжал погоню, готовый в любую минуту шарахнуться в сторону. Когда же возница вдруг выбросил свое страшное оружие в снег, Лобастый забыл страх. Он мгновенно вскочил в сани и схватил собачонку.
И вот через день или два после этого случая он почуял врага. Человек по широкому кругу обходил волчью дневку. Лобастый встал, долго вслушивался в шуршание лыж, потом осторожно пошел в сторону. С этого дня волк все время чувствовал преследователя. Он не стрелял, не ходил напролом по его следу, но Лобастый всем своим звериным нутром чуял опасного врага.
На старой пустоши появилась лошадиная туша. Падаль привезли издалека. Люди, не сходя с саней, скинули тушу в снег и уехали. Лобастый несколько раз обошел приваду, но лакомиться не стал. На следующий день близ этого места наткнулся на свежий санный след и лыжню, и даже не подходил к падали, хотя вечером около нее настойчиво и призывно выла волчица. Под утро к приваде пришел знакомый Лобастому выводок. Он слыхал разноголосый вой и грызню зверей, но, охваченный какой-то непонятной тревогой, бродил в отдалении. На рассвете Лобастый увидел идущего от привады волка. Он часто останавливался, отрыгивал пищу, мотался из стороны в сторону. Наконец, волк упал и, неестественно изогнув тело, забил по снегу тяжелым хвостом. Внимательно наблюдавший за ним Лобастый бросился в лог и, прикрываясь зарослями пихтача, замахал прочь.
В лес около Раздольной Лобастый вернулся вместе с молодой волчицей, когда уже сильно припекало весеннее солнце и в лугах под сугробами ворчали талые воды. Волчицу он встретил еще в первые дни своего бегства. Она пришла по его следу не одна. За ней неотступно волочился долговязый матерый волчина. Матерого Лобастый встретил неласково, и кровавая драка состоялась в ту же ночь. Когда изодранный долговязый, заломив под себя хвост, ударился в бегство, молодая волчица подошла к возбужденному жаркой схваткой Лобастому и, доверительно прижимаясь к его могучему телу, встала рядом. С этого дня они всегда были вместе.
Свое первое логово волчица устроила в старой лесосеке, под самой Раздольной. Однако возникший вскоре низовой пожар беспощадно расправился с лесосекой. Молодая неопытная волчица, зачуяв беду, долго беспомощно металась у логова и, в панике схватив одного слепого волчонка, прорвалась через огненный вал. Но и этот волчонок был мертв… Лобастый увел свою ослабевшую от материнской тоски подругу далеко от Раздольной. Лето и малоснежную холодную зиму волки провели там, где некогда Лобастый коротал первую зиму с матерью.
И вот опять настала весна. Волчицу потянуло в родные края, в свой коренной район. Теперь ее логовом стал сухой и укромный, густо заросший островок, затерявшийся в моховом болоте километрах в пяти от Раздольной…
Лобастый стоял на вершине высокой, горбатой пустоши. Вся его поза являла величие дикой красоты уверенного в своей силе зверя. Сейчас он был спокоен. Спокоен так, как может быть спокоен не знающий себе равных и свободный от преследования матерый волк.
Внизу протянулся прикрытый утренней тенью луг. В опадавших в него ложках белели языки вешнего снега. Влево луг убегал к поблескивавшим от крепкого утренника крышам Раздольной, а справа упирался в темную стену соснового бора. За лугом в гору влезало яровое поле, отороченное на горизонте реденькой кисеей березового колка, через который уже пробивались лучи восходящего солнца.
Лобастый прищурился. На поле торчал трактор, около которого вот уже битый час возился тракторист. В сотне метров от трактора бродило стадо здоровенных лопоухих свиней. Они ковыряли талую землю и, визгливо хрюкая, гоняли друг друга по луговине. Лишь две из них были несколько меньше своих товарок; на них-то чаще всего и посматривал Лобастый. Случись эта встреча в иное время, он не стал бы так долго медлить. Теперь же у него была семья и рисковать не хотелось. Однако охотничье утро прошло неудачно. И теперь, когда хоть и непосильная, но все же весьма реальная добыча была под самым носом, отступать было решительно невозможно. Лобастый больше не мешкал.
Низко припав к земле, прикрываясь редкими кустиками бурьяна, он стал быстро спускаться к лугу. Отрезав свиней от Раздольной, пошел открыто, не торопясь и, словно пастух, старательно собирающий стадо, все время заходил то в правую, то в левую сторону. Какая-то из свиней, завидев надвигавшегося зверя, тревожно хрюкнула. Все ее товарки, тупо уставившись на пришельца, замерли. А Лобастый, словно не замечая их смятения, продолжал свои замысловатые маневры.
Животные не выдержали: с отчаянным визгом и хрюканьем они всем стадом кинулись наутек. Лобастый небрежным наметом шел сзади, стараясь как можно ближе подогнать одичавших от страха животных к лесу. Свиньи все больше разбегались в разные стороны. Каждая из них, спасая свою шкуру, с дикими воплями неслась невесть куда, лишь бы подальше от страшной опасности.
Свинячий переполох привлек, наконец, внимание тракториста. Он встал на крыло трактора и увидел что-то совершенно необычное и непонятное. Волк и свинья бок о бок трусили к лесу. Остальные животные были уже далеко. И лишь одна избранница, словно в парной упряжке со здоровенным зверюгой, казалось, весело и беспечно совершала прогулку по полю. Будто найдя закадычного друга, она ни на шаг не отставала от своего рослого, склонившегося над ней кавалера и только отчаянные визгливые вопли выдавали ее страх. Цепко ухватив свою спутницу за ухо, Лобастый продолжал бежать к лесу.
Тракторист соскочил на землю и, выхватив из кабины тяжелый ломик, пустился в погоню. Он бежал, тяжело вихляясь по пахоте, запинаясь и посылая на волчью голову отчаянные проклятья. Несмотря на то, что расстояние между ними медленно сокращалось, Лобастый не обращал внимания на погоню. Он настойчиво тащил свою жертву и вскоре скрылся в зарослях. Тяжело переводя дух, тракторист остановился и, смачно сплюнув, побрел назад. Еще долго слышался из леса медленно удаляющийся голос плененной свиньи, потом где-то далеко в последний раз раздался ее истошный визг, и все смолкло.
* * *
— Опять пожаловал! Живой, дьявол трехпалый!
Иннокентий Федорович, еще раз глянув на четко отпечатавшиеся по пашне волчьи следы, поднялся и забросил за плечи новую тулку. Свинью, несомненно, задрал старый знакомый. Это открытие взволновало и обрадовало. Появление в эту пору в Раздольной матерого зверя свидетельствовало о близости логова. Разыскать волчье гнездо было давнишней мечтой. Кроме охотничьего интереса, это могло принести не маленький доход. Поэтому вечером на вопрос председателя, — не стоит ли сообщить волчатникам, — Иннокентий Федорович ответил решительно: «Пока надобности не видно!»
За дело Кеша взялся круто, дома его теперь почти не видели. Иной раз, захваченный дальней дорогой, он не возвращался и к ночи.
За несколько дней Иннокентий Федорович обегал все известные ему лазы и звериные переходы, обошел крепи и хоронилища, где могла огнездиться волчица. И все было напрасно.
— Ты где сёдни бегал? — встретила однажды Кешу жена. — Опять, поди, на «Красный маяк» мотался? А волки твои на Липовой горе коз дерут!
— Что-о? — насторожился Кеша.
— Вот тебе и «что-о»! Две козы сподряд у Ивана Захарыча нарушили.
Наскоро отобедав, Иннокентий Федорович собрался в поход. Пчельник на Липовой горе был в восьми километрах от Раздольной. Туда Кеша еще не заглядывал. В сумерках позднего морочного вечера на крыльце хутора в ослепительно белой, свежеотглаженной берендеевской рубахе, в широких полотняных штанах его встретил сам хозяин.
— А я тебя поджидал, Федорыч! В самый раз пожаловал. Вымок ведь, заходи в избу.
— Нет, погодь. Тут покурю сперва, — Иннокентий Федорович тяжело опустился на завалинку.
— Слыхал? Заели меня, Федорыч, волки! По первости старшую козу уволокли. Тут я Шурку в пастухи нарядил. И надо же, не углядел парень! Вчера вторую нарушили!
Кеша с невозмутимым видом частного детектива выслушал жалобу, закрутил окурок каблуком в землю и, направляясь за хозяином в темные сени, отдал первое распоряжение.
— Завтра, Иван Захарыч, с утра скотину далеко не пущай. Оглядеться надо!
Утром он, сопровождаемый пчеловодом, осмотрел место происшествия. Метрах в трехстах от пчельника средь зарослей липняка и невысокого пихтового леса раскинулась ровная, как небольшое зеленое озеро, круглая еланка. На ближней от пчельника кромке стоял старый погнивший сруб в три-четыре венца. Мимо него через елань перебегала малоезженная покосная дорожка и в дальней кромке лужка, заскочив в узкую лесную щель, терялась в зарослях.
По рассказам Ивана Захаровича, обе козы были схвачены у дальней кромки елани и унесены прямо в лес. От позавчерашней жертвы на примятой траве под деревьями еще сохранились следы крови и белой шерсти. При выходе дорожки из леса, на размокшей с вечера грязи, Кеша увидел знакомый ему след. Трехпалый был здесь сегодня утром…
Вернулся на пасеку Иннокентий Федорович сильно уставший и огорченный неудачами. За весь день он не нашел больше ни одного следа.
Оставалось одно: попытаться встретить трехпалого здесь, на пасеке. Обе козы зверь унес почти в одно время, да и сегодня утром побывал у пасеки. Такая пунктуальность зверя не могла быть случайной. Вечером, за медовухой, Кеша поделился своими планами с Иваном Захаровичем.
— Придется, Захарыч, твою недойную приманкой использовать.
— Ну, раз требуется, забирай! Под твоей-то охранкой куды она к бесу денется, — разом согласился Иван Захарович.
— Мне бы вот еще веревку подлинше, да колышек.
— Ты, Федорыч, вожжи возьми. Они у меня ременные, в траве путаться не будут. А колышек я сейчас разом стешу!
Ранним утром Иннокентий Федорович отправился на охоту. Придя на елань, он воткнул колышек на середине луга и пустил привязанную к нему за вожжи козу на выгул. Потом залез в старый сруб и стал ждать. В верхнем венце, обращенном к елани, был выем для оконца. Из этой бойницы Кеша и вел наблюдение, лишь иногда выставляя над срубом голову, чтобы осмотреть фланги.
Время потянулось томительно и скучно. Высоко взошло солнце. Кеша устал, ему хотелось есть и курить. Коза не проявляла ни малейшего беспокойства. Под охраной она, видимо, чувствовала себя превосходно. Кеша просидел до полдня, окончательно заголодал и покинул засаду.
На следующее утро все повторилось. Коза возвращалась на пчельник насытившаяся, довольная. Иннокентий Федорович — голодный и огорченный бесплодным ожиданием.
За ужином, приняв изрядную порцию медовухи, Иннокентий Федорович решил капитулировать.
— Скажи, какая незадача, Иван Захарыч! Видать, отшатался зверь. Посижу завтра еще зорю, да надо домой подаваться…
Утром от не в меру принятого угощения у Кеши болела голова. Сидя в своем «дзоте» и наблюдая за опостылевшей козой он все чаще посматривал на вершины деревьев за которыми необычно долго задерживалось солнце. Хотелось курить, и Иннокентий Федорович несказанно обрадовался неожиданному появлению Шурки. Соблюдая крайнюю осторожность, Шурка рапортовал жарким шепотом:
— Дядя Кеша! Деда велел вам завтракать идти. Голова, говорит, у него обязательно болит. Идите, я пока погляжу за Милкой!
— Ладно, гляди. Ежели что, ори пуще. Да не таись, садись на сруб. Пущай она еще пожирует, а я через полчаса прибегу.
С этими словами Кеша бойко зашагал к пчельнику.
…Лежавшему под разлапистой пихтой Лобастому хорошо было видно и сидевшего на срубе мальчонку и быстро удалявшегося охотника. Когда человек с палкой скрылся, Лобастый встал и уверенно пошел по лугу.
Обалдевшая коза замерла и тупо воззрилась на приближавшегося к ней зверя. Потом она с диким блеянием бросилась в сторону и, давясь в ошейнике, распластав упертые в землю ноги, в смертельном страхе забилась на месте.
Все более возбуждаясь, Лобастый ускорял шаг, нервно помахивал хвостом, по широкому кругу обходя свою жертву. На застывшего в ужасе мальчонку он не обращал внимания.
У Шурки язык словно присох. Вылупив немигающие от страха глаза и крепко вцепившись в бревно сруба, он не находил сил ни двинуться, ни кричать. И лишь когда Лобастый с закинутой за спину козой скрылся в зарослях, из Шуркиного нутра рванулся нечеловеческий дикий крик.
Без шапки и босиком, с ружьем в руках Кеша летел, словно на крыльях. За ним белым архангелом спешил дед. Заметив подмогу, Шурка обрел дар речи.
— Волк, во-о-олк! Милку волк упер, де-е-да!
Иван Захарович хлопал себя по бедрам и, глядя вслед убежавшему в лес Иннокентию Федоровичу, стонал:
— Вожжи, паразит, уволок! Колхозные, небось, вожжи-то!
В это время из леса с вожжами в руках вышел Иннокентий Федорович. Увидя его, дед просветлел. Бережно неся в руках вещественное доказательство волчьего разбоя, Иннокентий Федорович еще издали кричал:
— Гляди, Захарыч, как обсек. У самого нашейника! Словно бритвой отхватил, бандюга окаянный!
* * *
Погожим и тихим осенним вечером Барсуков с Гаем на своре пробирался кромкой мохового болота. Дойдя до волчьего лаза, Гай сильно натянул поводок и потащил Ивана Александровича к острову.
Успокоив и привязав в стороне разгорячившегося помощника, Иван Александрович внимательно осмотрел волчью тропу. Среди множества следов он сразу нашел и след трехпалого. Выходя из болота, тропа узкой щелью прорезала заросли пиканов, малинника и крапивы, а у подножия соснового увала терялась, словно таяла. Барсуков отвязал Гая и поднялся с ним в увал. Там он, ничем не нарушая покой тихого вечера, просидел до самых сумерек. Когда на острове раздались волчьи голоса, он ухватил рукой морду Гая и, строго погрозив ему пальцем, стал вслушиваться в звериный концерт. Голоса слышались отчетливо: на логове пела волчица и штук шесть или семь прибылых. С трудом успокаивая рвущегося к болоту Гая, Барсуков заспешил к дому.
Добравшись до Раздольной, Барсуков, несмотря на поздний час, с помощью Иннокентия Федоровича разыскал спящего дома связиста и, притащив его в почтовое отделение, позвонил в город Василию Дмитриевичу.
Крича в трубку, Барсуков тыкал в грудь Иннокентия Федоровича здоровенным указательным пальцем.
— Вот он тут стоит да совестится. Сам, видишь, хотел управиться!.. Ага!.. Волчица с прибылыми… Сегодня нашел, с Гаем… Да, в моховом болотце, на острове… Окладывать, думаю, надо! Только стрелков вези дельных, человечка три-четыре. Место трудное…
Через день от Кешиного дома к лесу потянулась пестрая вереница людей, похожая на партизанский отряд. Во главе с ружьем за плечами вышагивал Барсуков. Следом за ним, растянувшись по луговой дорожке, шли охотники и человек пятнадцать отряженных колхозом загонщиков. Шествие замыкала группа из трех дюжих ребят. Двое из них тащили катушки с флагами, а третий вел на сворке здоровенного волчину.
На полпути до болота сделали привал, чтобы выслушать последние напутствия Митрича.
— Ну, мужики, до времени никакого шума. И курить потерпеть. Мы с Барсуковым пойдем с флажками вкладывать. Начнем гнать с дальней кромки острова. Пойдем тихо. Только вначале я крикну: «Пошел!» Вот тогда пойдете цепью и будете реденько похрустывать сучочками. Но глядите, мужики, чтобы не переусердствовать. Ну, а уж если увидите, что волки через загон прорываться будут, тогда давайте духу во все глотки.
— Ясно! Это мы можем!
— Ну, а твоя задача, — обратился Василий Дмитриевич к сидевшему с волком парню, — до времени сидеть с Гаем на увале и чтобы от вас ни звука!
По голубому полуденному небу летели белые комья облаков. Не по времени горячее осеннее солнце то и дело пряталось за их кудрявые завитки, и тогда по болоту бежали плотные тени.
Иннокентий Федорович, Воронцов и Птицын в ожидании окладчиков молча стояли у волчьего лаза. Окладчики вышли совершенно мокрые и вымотанные нелегкой работой, но довольные. Круг был замкнут. Не мешкая ни минуты, Василий Дмитриевич повел загонщиков на свои места, а Барсуков, захватив висевший на сосне зауэр, поспешил в стрелковую цепь.
Впереди стрелков лежало болото, на котором, играя и переливаясь красками, волновались на ветру травы. Кое-где торчали одинокие деревца — карандашник. С правой и левой стороны в болото уходили трепещущие гирлянды алых флажков.
— Па… шо-о-ол! — голос окладчика донесся сначала слабо, потом вдруг, осилив беспокойный шум леса, вырвался на простор и уже окрепшим и басовитым «о-о-о-л!», подхваченный ветром, полетел над болотными травами.
По травам бегут темные волны. Все крепче лютует ветер. И кажется, что во всей этой одичавшей пустыне нет ни одной живой души, а только тревожно шумящие сосны да стремительно летящие по небу облака.
Звери, хоть их и ждут, всегда появляются неожиданно. Волчица некоторое время внимательно вглядывается в сосняк на увале. По обе стороны от нее в зарослях малинника двигаются неясные контуры прибылых. Волчица неуверенно двигается вдоль кромки острова, затем, видимо, заметив колыхающиеся на ветру флаги, стремительно исчезает в зарослях.
Томительно бегут минуты. И вот потревоженные Митричем звери выходят вновь. Теперь они легким наметом по своей тропе устремляются прямо на стрелков. Впереди, опустив голову, скачет волчица. За ней, сбиваясь в тесной цепочке, путаясь в строю и вскидывая из травы головами, спешат прибылые. Шагах в двадцати от стрелков волчица неожиданно оседает назад и бросается в в сторону, подставляя свой бок под барсуковский тройник.
Одновременно с выстрелами на правом фланге загонщиков поднимается суматоха. Сквозь шум леса слышны выкрики, свист, улюлюканье. Потом крики разом смолкают.
«Ушел, подлец», Барсуков ясно представляет себе лобастую башку матерого зверя, такой, какой он видел ее в последние минуты давнишней декабрьской встречи…
Заговор
Надо же! Не раньше, не после навалилась на Митрича хвороба! В поясницу ударило. Злится Митрич, с домашними ссорится. Проковыляет к окну и все вглядывается — есть какие весенние признаки или еще не видно?
А весной пахнет. Чуть только выбьется из сил поземка, и вот, пожалуйте, — солнышко…
Весенние размышления Василия Дмитриевича прервал телефонный звонок. О своем появлении в городе докладывал Барсуков. Старый волчатник несказанно обрадовался:
— Какие у тебя там еще дела? Бросай все ко всем чертям и шагай ко мне. У меня, брат, дела поинтересней твоих…
В комнате Василия Дмитриевича все было как перед сборами в большую дорогу. Однако, поглядев на улыбающегося Барсукова, Василий Дмитриевич не без грусти заметил:
— Ты, Ваня, на эту ярмарку не гляди. Маскарад это! Для успокоения нервов. Как модно теперь звучит — «психотерапия».
Барсуков вопросительно вздернул брови.
— Что смотришь? Думаешь, охотник, так и болеть не обязан? Прихватило, брат, и здорово. Одно только и утешительно, что болезнь с божественным названием: «рай-ди-кулит».
С этими словами Митрич негнущимся поплавком прострочил комнату, забрал с книжной полки конверт и такой же прямой, словно загипсованный, сел в кресло:
— Ну, слушай Кешино послание. Тут он поклоны всем знакомым отвешивает, как в поминальнике… Так… Ну вот, отсюда и начнем… «а еще, Митрич, сообчаю тебе, что объявился трехпалый. На прошлой неделе затребовали меня в Установку Калининского району, километров тридцать от нас. Там у их волки озоровали. Приехавши, я определил следы трехпалого и с им волчицы, а поодаль от их следок переярка. Переярка я в первый же заход на вабу и кончил, а со старшими поделать ничего не могу. Вот и пишу тебе, Митрич, об оказании мне подмоги».
— Молодец, Кеша! Осторожен стал. Я тебе говорил, Иван, что дельный из него охотник получится. Слушай, что он дальше пишет!
«Сперва они к свиной туше ходили. А как я капканы к приваде повыставил, за версту мои следья обходить стали. Я ловушку-садок у одной фермы изладил, в книге вычитал. Сделал все как надо, а они не зашли. Волчица, было, сунулась, так по следьям видать — трехпалый ее отогнал. А еще сообчаю, что теперь ихней житухе, если бы не скотское кладбище, совсем труба. Насту нет, снег глубокий да рыхлый. Ни скота, ни лесной живности не достать. Так вот они и определились на скотском кладбище у Петуховской фермы, это опять же в пяти километрах от Установки. Я то кладбище два раза сдалека объезжал, а подступиться боюся. Чтобы, думаю, не отпугнуть. Травить бы их надо, а травить нечем…»
— Ну, что скажешь? — произнес Митрич бесстрастно, закончив чтение.
— Что ж, Василий Митрич, Кеша, конечно, поступил очень правильно. Пропускать такую возможность никак нельзя. Но тебе сначала подлечиться надо. Кончай со своей райской болезнью да и поедем.
Василий Дмитриевич стрельнул на собеседника колючим взглядом и, резко вскочив с кресла, прямой и строгай в корпусе, убежал к окну.
— Ишь, утешитель какой нашелся!
Сердито глядя в окно на таявшие на стекле снежинки, Василий Дмитриевич не пытался скрывать своего раздражения:
— Тебя как охотника спрашивают! Как ты считаешь лучше поступить надо? А ты, меня жалеючи, охоту загубить хочешь.
Тут Митрич повернулся к вконец растерявшемуся Барсукову:
— Сегодня же оформляй командировку, выписывай яд и немедля поезжай за Гаем. Сейчас в инспекции получена новая потрава — фторацетат бария. Пройдешь инструктаж, получишь ампулы и будешь знать, как с ними обращаться.
Слушай дальше. Трехпалый — зверь не совсем обычный. Умнейший из умнейших и осторожнейший из самых осторожных волков. И нас с тобой он околпачивал не раз, чего там греха таить! К нему подход особый нужен. На вабу он не пойдет, даже если твой Гай звать будет. Это уже испытано. Флажить его тоже бесполезно. Уйдет. Всякие ловушки и капканы — чепуха, на которой его не проведешь. Остается привада и ее потрава. В этом деле скверно то, что он чертовски осторожен ко всякому следу. Кроме того, со стрихнином он хоть и не знаком, но на волчьем опыте напуган был здорово. Это обстоятельство в расчет не брать невозможно.
Теперь поглядим на его слабые стороны. Голодно им сейчас с волчицей? Очень голодно, и кладбище они за всяко просто не бросят. Однако от следов твоих он уйдет обязательно. А как зарядить мерзлую падаль ампулами, да если еще она в глубокой ямине? Как же тут не наследишь?! Подбросить потравленную птицу или поросенка? А если он ее не возьмет при твоем даже санном следе?
Вот я и думаю, что тут нам без помощи Гая не обойтись. Это будет, по-моему, надежней. Попробуй-ка ты вот как. Сыщи в колхозе посвежей приваду, свези ее на кладбище, а Гая в сани с собой не бери. Перед этим кормить его не надо. Ты отъезжай, а он пусть как следует на приваде полакомится. Волки в первый день к падали, конечно, не подойдут, но следом Гая заинтересуются и приваду без внимания не оставят. А ты на следующий день опять по кладбищу проедешь, а потом Гая туда отпустишь. Пусть наследит как следует да нажрется. И так до той поры, пока к приваде не подойдут волки. Ну, а как подойдут да позавтракают, считай — дело сделано. Ты следующим же разом, как Гай отобедает, приваду-то ампулами и заряди, да еще мелочь какую-нибудь подбрось с потравой. Тут, Ваня, самое главное — приучить их к твоему следу, что нет, мол, в нем никакой опасности. А в этом деле вернее помощника, чем Гай и его следы, не сыщешь.
Братья
Пообмякшие от ранней оттепели снега сковала цепкая корочка наста. Под голубым шатром безоблачного неба вот уже третий день разгуливал запоздалый морозец. Прибыл он в Предуралье с попутным северным ветром да и загостился.
Тихо в полях и лесах. Ниоткуда не дунет, а холодно. Оделись куржаком после оттепели деревца. Взойдет утром солнышко, старается, а за весь трудовой день только что вершинник да пенек какой-нибудь на самом солнцепеке и обогреет.
Опоздал Барсуков. В предпоследний день оттепели прошла выпадка, а после нее на скотском кладбище были волки. Схваченные морозцем следы Лобастого отпечатались четко, словно вылитые из гипса. После того, как ухватило талые снега крепким настом, волков не стало. Не пришли они и на другое, и на третье утро.
Призадумались волчатники. Волков никто не тревожил, и не явились они к привычной кормушке по какой-то своей причине. Третий день колесили охотники по всем проселочным дорогам, а ни единого следа не видели.
Из передка кошевы торчат кисовые лыжи. Иннокентий Федорович и Барсуков в белых полушубках и шапках-ушанках сидят на сене, по обочинам смотрят: не проглянут ли где когтистые следочки. Сегодня легче. С вечера на простывшее за прошлые дни небо наползли кисейные облака и хоть к утру и рассеялись, а за ночь все же успели натрусить пушистую легкую порошу.
Время шло к полдню. Солнышко весело посмеивалось над вконец сморенным морозцем. День обещал быть по-мартовски теплым. Барсуков, распахнув полушубок и сдвинув на затылок шапку, все чаще поглядывал на темнеющие за полем леса. Его уже давно томило сомнение.
— Федорыч! Ты в устиновских борах лосиных стоянок не знаешь?
— Нонче не был, не знаю. А лонись они в двух местах зиму отстаивались.
— Переходов-то нет нигде. Может, за лосей взялись…
Некоторое время они ехали молча. Вдруг Иннокентий Федорович разом осадил лошадь.
Такое если и бывает, то раз в жизни. Можно всю жизнь прожить средь лесов и полей, а подобного никогда не увидеть.
Метрах в двухстах от дороги, там, где бугрились закиданные снегом кучи соломы, на совершенно открытом поле стоял огромный волчина. Освещенный яркими лучами солнца, средь бесконечного моря сверкающего серебром снега, он был великолепен. Роскошная шуба Лобастого лоснилась, башку с короткими, остро поставленными ушами он высоко поднял.
Барсуков хорошо знал, что таилось за этим кажущимся ленивым спокойствием матерого хищника. Медленно вытягивая из кошевы тройник, он не отрывал глаз от зверя, отлично понимая, что теперь ни одно его движение не остается незамеченным. В этой немой дуэли хозяином положения был Лобастый, поэтому действовал Барсуков не очень уверенно.
Когда, наконец, над кошевой показался извлеченный Барсуковым тройник, Лобастый, с неимоверной легкостью бросив свое мощное тело в сторону, скрылся за копной соломы. Одновременно с его прыжком взметнулась с лежки волчица.
Барсуков не признавал неприцельную, рассчитанную на случайный успех, стрельбу. Стоя в кошеве, он лишь продолжал следить за удалявшимися по полю зверями.
Проскакав всего с сотню шагов, волки перешли на рысь, потом остановились, постояли, медленно побрели в сторону леса. Впереди теперь шла волчица. В сравнении с ней шедший сзади Лобастый казался великаном.
— Вот это зверю-ю-га! — с нескрываемым восхищением протянул Кеша.
— Да, хорош, ничего не скажешь! А ты, Федорыч, не обратил внимания, какие они брюхатые? Нажрались они где-то, вот что! — С этими словами Барсуков решительно полез из саней и загромыхал лыжами. — Ты давай к дому. Гая не выпускай, чтобы ему ничего не перепало, да и сам не корми. Пусть поголодает.
Кинув в кошеву полушубок и оставшись в одной телогрейке, он, забросив за плечи ружье, встал на лыжи и, махнув Кеше рукой, сошел с дороги.
От волчьей лежки Барсуков пошел «в пяту», по входному следу зверей. Тропить по свежей порошке было легко, и он шел по крепкому еще насту ходко, размашисто. Скоро следы привели к лесу и, пройдя по плотному ельнику, потянули к блеснувшему средь деревьев просвету.
Тушу зарезанного волками лося Иван Александрович увидел сразу. На белом снегу она выделялась, как черная, чуть припорошенная снегом земляная куча. Вокруг нее и по соседнему с ней осиннику сновало множество пернатых нахлебников. Завидя нежданного гостя, они забеспокоились. Тревожно застрекотав, на вершину осинника взлетело сразу несколько сорок. За ними с громким карканьем поднялись вороны.
Снег у туши лося был выбит глубокими, обозначенными синеватыми тенями, провалами и яминами. Такие же темные провалы уходили в осинник, откуда, видимо, и вышел преследуемый хищниками лесной великан. От внимательных глаз охотника не ускользнула и покосная дорожка — «зимник». Она чуть заметными припорошенными снежком полосками тянулась через поле и, проходя совсем близко от лосиной туши, отворачивала в сторону Установки. Сюда и спешил по насту загнанный лось. Но выбраться на твердую дорогу ему не пришлось. И всего-то каких-нибудь двадцать-тридцать шагов оставалось…
Барсуков вышел на запорошенный снежком зимник и, почувствовав под лыжами приятную его прочность поспешил к дому.
* * *
Гай привык в охотничьих поездках к активным действиям, а теперь вот уже которые сутки томился взаперти. Больше того — вчера не было даже ужина! Получив только удвоенную порцию хозяйской ласки, Гай коротал ночь голодным. Утром хозяин зашел к нему в телогрейке, с заплечным мешком за спиной и опять с пустыми руками. Ведра с варевом не было. Обиженный еще с вечера, Гай решил выдержать характер и навстречу хозяину даже не поднялся. Но увидев, что тот снимает висевшую с гвоздя сворку, вскочил мгновенно. Это уже дело! Тут можно было простить любую голодовку.
От радости волчина прыгнул козлом в сторону, попытался ухватить зубами конец собственного хвоста и так толкнул Барсукова в грудь лапами, что тот едва устоял на ногах. Попутно он успел несколько раз визгливо зевнуть и, наконец, взметнув на полу задними лапами мусор, вытащил Барсукова за поводок на улицу.
При подходе к лесу Гай получил полную свободу. Сначала он очертя голову носился по твердому насту широкого поля, потом побежал к опушке и сразу стал серьезнее. В лесу Барсуков очень любил наблюдать за своим питомцем. Там он заметно преображался и вел себя так, как подсказывал ему инстинкт. Легкая, грациозная рысь, какая-то особенно изящная настороженность на первый взгляд даже не гармонировали с мощным телосложением зверя.
Особенную ловкость и изящество Гай демонстрировал при поимке мышей. Приходилось только удивляться тому каким невероятным слухом должен был он обладать, чтобы заслышать пискнувшую где-то за десятки метров, да еще под глубоким снегом, мышку-малютку. Словно ведомый волшебным локатором, без малейшей ошибки, приближался он к цели. А потом следовало несколько крадущихся осторожных шагов и — стремительная атака.
Однако сегодня продемонстрировать свое мастерство Гаю не удавалось. Ни одной мышки. В лесу Гай, правда, нашел белку, но что в ней толку? Лаять он не умел. Постояв под деревом, на котором запрятался зверек, и послушав его возню, Гай затрусил дальше. Потом он встретил довольно свежие заячьи наброды и уже было засуетился в поиске, но, услыхав свист хозяина, вынужден был бросить и эту охоту. Хозяин почему-то всегда был против его увлечений зайцами.
Скоро до волчьего слуха долетели далекие голоса птиц. Гай сейчас же остановился. Он ясно различил ворчливое карканье ворон и дробную стрекотню сорок. Гай вопросительно посмотрел на идущих по дорожке охотников.
— Смотри, Федорыч! Это он, наверное, сорок заслышал, — с этими словами Барсуков поднял руку, указав Гаю нужное направление.
Получив хозяйское разрешение, Гай еще раз прислушался и только тогда легкой рысью пошел прямо к лосиной туше. Охотники еще издали услыхали, как там неистово заорали взбудораженные появлением волка крылатые мародеры.
Разогнав птичью братию, Гай побродил вокруг туши, тщательно принюхиваясь. Особенный интерес у него вызывали волчьи следы. Но следы были старые, и он только для порядка потыкал в них носом.
Утренняя прогулка неожиданно закончилась великолепным завтраком. Получив хозяйское благословение, Гай около часа ворочал неподатливые, схваченные морозом останки животного…
Новый поход к лосиной туше ничем от вчерашнего не отличался. Так же противно стрекотали сороки да на осиновом вершиннике хохлились и ругали непрошеного гостя вороны. Однако одно обстоятельство вызывало живой интерес не только у Гая, но и у охотников. В дальней кромке поля Гай нашел свежие следы своих собратьев. Волки там были, видимо, долго, потому что успели натоптать целые тропы. Следы охватывали лосиную тушу почти замкнутым кругом и только немного не доходили до ведущей к Устиновке дорожке.
Гай нервничал, часто отрывался от завтрака, вновь уходил к волчьим следам и только по свисту хозяина возвращался обратно.
На этот раз Гай закончил свой завтрак несколько необычно. Выгрызть изрядный кусок из лосиной шеины не представляло особых трудов, и к охотникам он явился с заготовленной впрок глыбой превосходного мяса. Такая рачительная хозяйственность просто обрадовала Барсукова. Вот это молодец! Ловко придумал. Кусочек пригодится.
Надев брезентовые рукавицы, Барсуков завладел добычей и уложил ее на берестовый лист. У самой Установки охотники разрубили мясо на несколько больших кусков и, забравшись на скирду, основательно упрятали его в соломе.
К ночи из «гнилого угла» поползли тяжелые тучи. Под их теплым покровом так и не успел затвердеть размягший за день снежок. К утру на вчерашние следы охотников пали первые лохматые снежинки. В полном безветрии снежные хлопья опускались, словно нехотя. Когда совсем рассвело, снег повалил сплошной белой массой.
В это утро на лесном поле побывали волки. Следов от них на снегу почти не было видно, зато на развороченной туше повсюду горели кровяные свежие оглоды. На растащенных по сторонам костях пухлыми горками громоздилась пороша.
Гай разволновался не на шутку. Вспахивая мордой пушистый снег, он суетился около туши, отбегал по невидимым тропам в поле, возвращался снова и наконец, минуя осинник, видимо, по выходному следу зверей, устремился в лес.
Завидев неладное, Барсуков властным свистом остановил его и тут же забрал на поводок.
— Ну, Кеша, настал и наш черед…
Не теряя времени, охотники вернулись к скирде. Мясо Барсуков извлекал из соломы в брезентовых рукавицах. Ловко орудуя остро отточенным топором, он зарядил четыре куска капсулами фторацетата бария и, уложив их на берестяной лист, потащил на лесное поле.
У лосиной туши охотники вновь спустили Гая со сворки. На этот раз волчина не стал терять времени на поиски и решил сперва как следует заправиться. Охотники его не торопили.
Отозвав, наконец, волка и передав его Кеше, Барсуков приблизился к туше и стал осторожно бросать потраву. Разбросанные им близ лосиных останков куски мяса сейчас же затонули в пушистом снегу.
Оглядев результаты своей работы, Барсуков машисто развернулся на лыжах и заскользил к стоящему на дорожке Иннокентию Федоровичу. Домой охотники шли молча.
* * *
Уходя от опасности после встречи в чистом поле, Лобастый знал теперь, что в районе его скитаний опять появился заклятый враг. Быть может, в иное время он бы немедленно бросил обжитые леса и ушел куда-нибудь далеко. Но теперь Лобастый был не один. Теперь он неотступно следовал за своей упрямой подругой.
На старой, заросшей пихтачом и лиственным мелколесьем вырубке волки дневали не первый раз. Повсюду непроходимой стеной ершился малинник и заросли такого «чапыжника», что через него и зайцу-то нелегко было продраться, не то что какому-нибудь любознательному охотнику.
Добравшись до места, отяжелевшая от обильной пищи волчица влезла на муравейник, раскидала его верхушку и грузным калачом плюхнулась на мягкое ложе. Постояв около подруги, Лобастый отошел в сторону, потоптался на старой лежке и, наконец, повернувшись головой к входному следу, устроился на покой. Сон матерого был тревожен и чуток. Скоро до его слуха донеслись далекие голоса кем-то потревоженных птиц. Лобастый вскинул голову. Сорочья стрекотня и воронье карканье неслось оттуда, где лежала туша лося. Скоро птицы умолкли, но Лобастый долго еще лежал с поднятой головой и, щурясь от теплого солнца, вслушивался в тишину леса.
В течение всего теплого дня и всей наступившей холодной ночи волки не вставали с нагретых лежек. От чрезмерной сытости зверей все еще тянуло ко сну и ленивому бездействию. Когда совсем рассвело, с далекого лесного поля опять пришли тревожные вести. Как и вчера, там волновались сороки. Лобастый опять долго и беспокойно вслушивался в их суматошную болтовню. На этот раз к далеким голосам прислушалась и волчица. Однако прошел еще целый день и полночи, прежде чем она встала с лежки и решилась, наконец, покинуть обжитое пристанище.
К лосиной туше волки подошли еще затемно. Обходя ее с привычной настороженностью по широкому кругу, они наткнулись на следы стороннего волка. Распутывая его наброды, Лобастый долго ходил по полю и тут, приблизившись к зимнику, увидел лыжню. Постояв в нерешительности, он вдруг круто повернул в обратную сторону и рысью пошел прочь. Волчица насторожилась, но, не почуяв никакой опасности, нехотя затрусила следом. Голод еще был не велик, и волчица, не очень, видимо, сетуя на осторожного друга, сама повела его к лесосеке.
На следующую ночь, когда голод уже основательно давал о себе знать, а в потеплевшем воздухе кружились первые вестники надвигающегося снегопада, волки осмелели. К лосиной туше по следам чужого волка волчица подошла решительно, а когда обнаружила следы разбоя, то за дело взялась с удвоенной алчностью. Успокоенный смелыми действиями подруги, к завтраку, наконец, приступил и Лобастый. Иногда он отрывался от еды и, встав передними лапами на лосиные останки, подолгу всматривался в ту сторону, где проходила ненавистная и все еще тревожившая его лыжня.
Светало. Снег валил такой густой массой, что лежал на широких спинах зверей белыми накидками. Надежно прикрывающий следы снегопад окончательно успокоил Лобастого. Свернувшись колесом на своей лежке, он впервые за эти дни уснул глубоким, спокойным сном. Даже тогда, когда вновь загорланили сороки, Лобастый только навострил уши и, даже не поднимая головы, сквозь сладкую дрему вслушивался в их далекие голоса. Теперь он знал, кто тревожил крылатую братию, и раз там, на лесном поле, прогуливался волк, не такой уж страшной казалась напугавшая его лыжня.
К ночи в лес забралась поземка. Словно извещая о своем приближении, по еловому вершиннику еще в вечерних сумерках она пробежала шумливым ветерком, посдувала с ветвей снежные скопища и, скользнув книзу, запуталась в зарослях. Добравшись до волчьих ухоронок, поземка раздула, размотала снежные холмики, взъерошила тугую волчью шерстину.
Первой с лежки поднялась волчица. Стряхнув с себя остатки снежного одеяла, она потянулась, и не то по привычке, не то от лихой алчности, но уж совсем не от голода, снова направилась к лесному полю. Сначала Лобастый следил за своей подругой, не поднимаясь с лежки. Когда же она исчезла в зарослях малинника, неохотно поднялся и побрел следом.
* * *
Плохо спалось охотникам этой ненастной ночью. Еще с вечера, уловив первые признаки бурана, встревожился пришедший со двора Иннокентий Федорович. Ночью, когда за окнами в полную силу моталась шальная метелица, Кеша не выдержал:
— Плохо ведь, Лександрыч!
— Хорошего мало!
Барсуков сел и, чиркнув спичкой, посмотрел на часы.
— Сколько? — спросил Кеша.
— Пятый. Нам, пожалуй, больше и не поспать. Сегодня идти надо пораньше, к самому свету.
Изба просыпалась. Загорелся свет, заскрипела лучина, а скоро и засвистел свою немудреную песенку туляк-самоварчик.
Идти было трудно. В поле дорогу так передуло, что она, постоянно теряясь, убегала из-под ног. Пришлось встать на лыжи и идти целиной. Гай шагал по лыжне сзади, проваливаясь по самое брюхо. Лес серой шумливой стеной показался как-то неожиданно совсем рядом. Отыскав накатанную дорожку, охотники скинули лыжи. В лесном заветрии дышалось вольготнее.
Лесное поле встретило охотников неприветливо. Дорожку здесь, правда, не задуло, а даже, наоборот, подмело, расчистило, и она бугрилась длинной лентой. Зато навстречу дул и бросался колючим снегам ветер. Как ни силились охотники разглядеть что-нибудь впереди, так и не могли. Признаки пребывания волков на приваде они увидели лишь тогда, когда поравнялись с лосиной тушей.
— Гляди, были! — крикнул Иннокентий Федорович.
Волчьих следов почти совсем и не было. На снегу только едва отсвечивали небольшие, свежо занесенные лунки да местами, где их было особенно мною, обозначились провалы.
— Взяли, Федорыч! Не могли не взять, раз на самой потраве топтались, — с этими словами Барсуков встал на лыжи и снял с плеч тройник. — Ты подержи Гая, а я обойду кромкой. Если найду выходной след — крикну.
Иннокентий Федорович еле сдерживал тянувшего поводок зверя. Гай то нетерпеливо поглядывал вслед ушедшему к лесу хозяину, то энергично тянул к лосиной туше.
Скоро на поле опять появился Барсуков. Следов в лесу не было. Иван Александрович растерянно развел руками и, глядя под ноги, медленно пошел по дорожке. Взволнованный Иннокентий Федорович поспешил навстречу. Гай, завидев хозяина, натянул поводок, но, пройдя всего с десяток метров, неожиданно остановился и сунулся носом в сторону.
Тут Иннокентий Федорович обратил внимание на уходившую из-под волчьей морды в открытое поле еле приметную светлую полосу занесенных поземкой следов. Между тем, вскинув запорошенную снегом морду, Гай потянул в поле. Сдерживая зверя, Иннокентий Федорович силился всунуть валенки в лыжные ремни, но от рывков волка оступался, лыжи разъезжались в стороны, и он, оставив эту затею, обеими руками ухватился за поводок:
— Лександрыч! Гай на следу!
Подкативший Барсуков перехватил из Кешиных рук сворку и, увлекаемый отчаянной потяжкой зверя, размашисто побежал полем. Следы то ясной, ослепительно белой полоской бежали в снежную даль, то становились совсем неприметными. Однако Гай ничуть не сбавлял хода. Он шел ведомой одному его чуткому носу волчьей тропой.
Поле кончалось. На опушке леса сквозь снежную мглу летящей поземки Барсуков увидел большое темное пятно. «Волк!» Однако Гай резко повернул в сторону и потянул прочь. Барсуков, удерживая его, повернулся к догонявшему Кеше:
— Федорыч, волчица! — и, не теряя времени, побежал к лесу.
По лицу охотника текли ручейки пота, рука немела от сдавившей ее в кисти сворки, а Гай все тянул и тянул дальше.
Позади осталось лесное поле, широкая гряда ельников, а след хищника, прямой и строгий, настойчиво поднимался в увал. Потерять этот след уходившего от привады зверя теперь было почти невозможно. В лесу узловатая волчья тропа была ясна и отчетлива, и только кое-где на открытых местах слегка расплывалась в снежном наносе. Трудно было поверить, чтобы отравленный зверь мог так долго сохранять силы. Барсуков все пытался отыскать в следах хоть какие-нибудь признаки недомогания или слабости волка, но напрасно. Волчья тропа по-прежнему была прямолинейной и ровной.
«Не взял! Обманул, ворюга».
Сзади стукнули и зашуршали лыжи. Послышалось возбужденное дыхание Иннокентия Федоровича:
— Лександрыч, погодь малость. Дай дух перевести. Теперь все одно никуда не уйдет! К Осиновке путь держит. В ней и зимой вода не стынет. Видал, снег глотать начал?
— Где ты видел, что снег глотает?
— Да вон, под липняком. Ты в обход шел, не видел.
Барсукову было совестно за свою оплошность. Как он мог так раскиснуть?
— Пошли, Кеша. А то я, признаться, думал, что он опять отмотался.
В подтверждение Кешиных слов Барсуков скоро увидел длинные полосы от выхваченного волчьим языком снега и желтые нити тягучей слюны.
Волку изменяли силы. Тропа его стала неровной, сбивчивой. В одном месте, потеряв равновесие, он споткнулся и, мотнувшись в сторону с широко расставленными лапами, повалился назад. Однако зверь не сдавался. От места падения Лобастый пошел неровным вихлястым махом.
Впереди под горой забелели полоски покосов. Гай, вывалив язык, что есть силы волок за собой хозяина. В предвидении близкой развязки Барсуков остановил рвущегося вперед волка и, передав его Иннокентию Федоровичу, взял в руки ружье. Теперь он шел рядом со следом и мог внимательно осматривать лежащую впереди местность. Обзор был плохой. Повсюду лес был захламлен буреломом и мелким кустарником. Поэтому Лобастого он увидел совершенно неожиданно и очень близко.
— Стой! Держи Гая! — взревел Барсуков. Но было поздно. Гай так рванулся вперед, что Иннокентий Федорович выкатился вместе с ним на поляну и оказался нос к носу с Лобастым.
На какие-то доли секунды все замерло.
Гай, тугой, как пружина, здоровый и сильный, стоял словно вкопанный. Его настороженные уши, вскинутая голова и внимательный взгляд выражали не столько боевую готовность, сколько огромное любопытство и даже недоумение. Сзади него, вкопавшись в снег лыжами, замер Иннокентий Федорович.
Всего в трех шагах перед ними сидел Лобастый. Заслышав приближавшихся врагов, он собрал остатки сил, приподнялся на слабеющих лапах. Его массивная широколобая голова с плотно прижатыми к затылку ушами и дрожащим оскалом безвольно клонилась к земле. В холодном тусклом свечении зеленых немигающих глаз чудилась неуемная тоска и бессильная злоба. В них словно не оставалось места для страха.
С поднятым к плечу зауэром Барсуков осторожно шагнул в сторону. Но, готовое свести с коварным врагом многолетние счеты, ружье упрямо молчало.
Глядя на безвольно клонившуюся к земле голову и конвульсивную дрожь, прошедшую по телу Лобастого, Барсуков медленно опустил ставшее теперь ненужным оружие. Лапы Лобастого дрогнули, подломились. Тяжелая голова сунулась книзу и ощеренной пастью зарылась в пушистый снег.

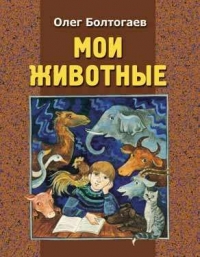





Комментарии к книге «Вне закона», Владислав Иванович Акимов
Всего 0 комментариев