В КРАЮ ТАНЦУЮЩИХ ХАРИУСОВ
Избушка у Чуританджи
Щедрое озерко
У самой вершины перевала с таинственным названием Аринкида лежит озеро. И до того оно маленькое, что, если бы не бьющие со дна тугие родники, его вернее называть обыкновенной лужей. А так — озеро!
Один его берег густо зарос осокой, у другого лежит серый, покрытый известковыми потеками камень. Гуляющие по сопкам снежные бараны заворачивают к камню вычесать свисающую клочьями теплую зимнюю шерсть, и ее наперегонки растаскивают по своим гнездам птицы. Длинноногий кулик-улит нахохлившись сидит у воды и выглядывает баранов.
По обе стороны от камня журчат вытекающие из озера ручейки. Тот, что поближе к кулику, проскочив узкую лощину, заворачивает в ручей Ледниковый, затем соединяется с рекой Ямой и наконец попадает в сливающееся с Тихим океаном богатое рыбой и клешнястыми крабами Охотское море. Путь второго ручейка куда длиннее. Ему придется долго плутать до небольшой горной речушки Чуританджи, чтобы потом уже вместе с нею бежать по рекам Эльген, Буюнда, Колыма. В конце своего путешествия ручеек окажется среди ледовых полей Восточно-Сибирского моря, а затем в Северном Ледовитом океане.
Получается, что это озерко питает собою два великих океана — Тихий и Северный Ледовитый. А само-то — кулику-улиту по колени, не глубже.
У черта на куличках
«Аринки» по-эвенски — злой дух, или черт, а «аринкида» — место, где этот черт живет. Поэтому-то раньше пастухи-эвены никогда не ставили свои яранги у перевала и вообще обходили эти места стороной. Кому охота связываться с чертом?
Там и в самом деле случаются удивительные вещи. То прямо из-под скалы ударит фонтан такой горячей воды, что в нем можно запросто сварить картошку; то вдруг провалится земля и там, где вчера была сопка, разлилось озеро. Или наоборот — на совершенно ровном месте вырастет высокий бугор.
А однажды здесь отправилась в путешествие целая роща. С лиственницами, беличьими гнездами, бурундучьими кладовками и даже похожим на небольшой вулкан муравейником.
Раньше эта роща была совсем в стороне от проложенной через перевал дороги, теперь — шоферы едут и неожиданно передняя машина упирается в стену деревьев. Была дорога — и нет ее. Даже маленькой тропинки не осталось.
Когда осмотрелись, поняли, что виновата вечная мерзлота. Она подобралась под самые деревья, приподняла их вместе с корнями, и вся роща укатила вниз, как на салазках.
И ничего. Ни одна лиственница не пострадала. Белки тоже, как прыгали, так и прыгают, муравьи вообще без внимания, а бурундукам даже радость. Раньше к голубичнику нужно было бежать кто его знает куда, а теперь — рукой подать.
А вот людям неприятность. Другой дороги здесь нет, новую через такую рощу прокладывать опасно. Чуть тронь — вместе с деревьями скатишься в пропасть. Пришлось делать объезд и каждую машину вытаскивать на перевал трактором.
Выстроили под сопкой избушку, привезли туда бочки с соляркой, запас продуктов и даже немного угля. Дрова прогорают быстро, и, когда мороз, приходится подкладывать в печку всю ночь. Уголь — совсем другое дело. Ведро засыпал — тепло в избушке держится до утра. Хорошо, уютно.
Трактористом на Аринкиде работал мой товарищ Васька Чирок. Я охотился в тех краях и частенько гостил у своего друга. Помогал ему строить избушку, пилить дрова, ремонтировать бульдозер. Когда наледь заливала дорогу и на целую неделю, а то и две движение по ней прекращалось, мы с Чирком отправлялись на охоту. Так что теперь мы с ним можем всякому сказать, что почти три года прожили не где-нибудь, а у самого черта на куличках.
Рукавица
В прошлом году Васька Чирок потерял в тайге свою рукавицу. Не то чтобы совсем потерял, а на время. В тот день метель надула на перевале огромный сугроб, никак машинам через него не пробиться. Принялся Васька этот сугроб сталкивать за обочину, да сам и въехал в канаву. Он и вперед подаст, и назад — бульдозер ни с места. Пришлось ему вылезать из кабины и браться за лопату. Пока отгребал снег, пока рубил ветки, чтобы подложить под гусеницы, — рукавица и потерялась. Правая есть, а левой нет. Погоревал он немного и снова взялся за работу.
Наконец выехал из канавы, смотрит, а на самом ее дне лежит рукавица. Оказывается, он впопыхах положил рукавицу на гусеницу, а гусеница ее и подмяла. Обрадовался Васька находке, а взял в руки — расстроился пуще прежнего. Стальная гусеница так пережевала ее своими зубьями, что она разваливается на кусочки.
«Ни на что не годится теперь моя рукавица, — решил Васька, — а ведь была почти новая». И выбросил.
Летом мы с Чирком отправились на рыбалку и решили на перевале отдохнуть. Там в любую погоду ветер, комаров ни одного. К тому же сверху каждый ручей, каждый распадок как на ладони видно. Я набрал в котелок воды и прилаживаю у костра рогульки, а Васька собирает дрова. Вдруг он зовет меня:
— Иди сюда скорее!
Подошел я к Чирку. Он показывает под куст голубики, а там гнездо. В гнезде затаилось пять пушистых птенцов. Маленькие, желторотые.
— Уходить надо, — говорю. — Сейчас явятся родители и будут волноваться.
— Да ты посмотри, из чего они свили себе гнездо! Это же мех из моей рукавицы.
Чуть в стороне мы нашли еще один кусок от Васькиной рукавицы. Он лежал возле коряги, и мех с него был обстрижен словно ножницами.
— Это мыши, что живут под корягой, шерстинки обстригли и унесли себе в нору, — говорит Васька. — Представляешь, как теперь мышатам мягко спать. Давай поищем еще. Рукавица-то была большая.
Искали-искали, но больше не нашли ни одного лоскутка. Наверное, их по всей тайге разнесли лесные жители, чтобы утеплить свои дома-теремки. И еще мы приметили, в той канаве, где застрял бульдозер, отпечатались огромные медвежьи ступни.
— Только вчера мишка здесь был, — говорит Чирок. — Это он тоже искал мою рукавицу. Но опоздал. Рассердился, наверное, и отправился на брусничник собирать прошлогодние ягоды. И славно!
Хозяева и гости
Если вы думаете, что избушку у перевала мы строили на совершенно пустом месте, это не совсем верно. Как раз посередине облюбованной под избушку поляны возвышалась кочка на тонкой ноге, а на кочке лежало круглое как шар гнездо рыжей полевки. Свито оно было из стеблей осоки, а внутри выстлано куропачьими перьями и медвежьей шерстью. Где полевка собрала все это — можно только догадываться.
Гнездо на кочке — ее зимняя квартира, летняя находилась под лежащей неподалеку корягой. Когда мы откатили эту корягу в сторону, обнаружили и саму хозяйку. Небольшая рыжая зверюшка с усатой мордочкой и черными глазками страшно нас испугалась и бросилась наутек. Шариком прокатилась у ног Васьки Чирка, мелькнула в зарослях голубики и исчезла.
Мы думали, теперь она не покажет на поляну и носа, но лишь закончили строительство, полевка тут как тут. Пролезла между бревен, забралась на стол и принялась изучать лежащую там пачку печенья. Мы вспугнули ее, она отважно шмякнулась на пол и больше в тот день на глаза не попадалась.
С тех пор и пошло. Пока мы готовим обед, колем дрова, ладим снасти на налимов, полевка отсиживается в своей норе, но лишь отправимся сопровождать очередную машину, она сразу же взбирается на стол и принимается собирать крошки. Иногда мы слишком засиживаемся в избушке, она не выдерживает и принимается бегать по столу в нашем присутствии. За это мы злимся на нее, а вчера запустили поленом. Ах, мол, такая-сякая, по столу бегаешь, продукты портишь!
А ведь мы не правы. Она подолгу живет здесь в одиночестве, выглядывает нас, как самых дорогих гостей, и даже скучает, если мы где-то задерживаемся. Так что она здесь хозяйка, а мы всего лишь гости. Только нехорошие гости. Вместо гостинцев и доброго слова… поленом!
Преступление и наказание
Большой рыжий паук с желтыми ногами забрался в мою охотничью избушку и устроил настоящий разбой — натянул паутину, поймал и съел единственную живущую у меня муху. Эту муху я выковырял из лиственничной чурки, отогрел и ухаживал как мог, а этот бандит съел.
Я отругал паука и пообещал выбросить на мороз. Угрюмый и виноватый паук до самого вечера просидел у зарешеченного паутиной окна, словно сам себя посадил в тюрьму.
Вкусное бревно
Потолок нашей избушки набран из сырых неошкуренных бревен. И нужно же было случиться, что лежащее как раз над Васькиной постелью бревно приглянулось жукам-дровосекам. Тяжелые черные жуки с похожими на антенны усами пробираются в избушку всякими способами. Они летят через неплотно прикрытую дверь, лезут в щели между бревен, а есть и такие, что въезжают в избушку на ком-нибудь из нас. Выйдешь за водой или дровами, возвращаешься, а он уже пристроился на рукаве или за воротником. Сидит и недовольно шевелит усами. Чего, мол, уставились? Жуков не видели, что ли? Затем вжи-ик! — перелетел на бревно и давай его уписывать. Аж треск по избушке.
Из-за этих жуков у нас с Васькой Чирком куча неприятностей. То и дело на голову падают кусочки коры, опилки, какие-то колбаски.
Иногда сваливается и сам жук. При этом он путается в волосах и скрипит. Васька подхватывается с постели, вылавливает жука и принимается его ругать:
— Это он специально прыгнул. Никакого покоя от этих усачей! Тайги им мало, что ли? Прямо на голову лезут.
Но зло его притворное. Можно в минуту содрать с бревна всю кору или просто заколотить это бревно куском фанеры. Васька же ничего делать не хочет. Более того, я подозреваю, что он специально бросает дверь открытой и даже выковырял мох из стены, устроив таким образом приличную щель. Ваське льстит, что у нас гостят эти жуки. Это же надо! Летел, может, за десять километров от избушки, пронюхал, что у нас есть вкусное бревно, и завернул в гости. Коры пожевать, на нас посмотреть и самому показаться.
А нам для него бревна жаль, что ли?
Смерть жаворонка
В детстве мне часто приходилось пасти нашу корову Зорьку. Поднимешься пораньше, сунешь за пазуху кусок хлеба — и в степь. Помню, очень хотелось спать.
Плетешься по дороге с закрытыми глазами и даже не видишь коровы. Но лишь выйдешь за деревню, вымочишь ноги в росе, весь сон как рукой снимет.
Больше всего мы любили пасти коров у Скифской могилы. Там всегда росла хорошая трава, главное же, в этом месте можно запросто отыскать все, начиная с наконечника стрелы и кончая осколком артиллерийского снаряда.
Когда надоест копаться в земле, ложишься на спину и наблюдаешь за жаворонками. Хорошо смотреть, как эта птичка плавными кругами набирает высоту, как подолгу трепещет на одном месте, а потом вдруг камнем устремляется вниз. Все почему-то утверждают, что в жаворонке самое интересное — его песня. Нас больше увлекал его полет. Недавно закончилась война, и каждый из нас в глубине души мечтал стать летчиком, чтобы вот так же бросать в пике свой ястребок. Но, может быть, нам тоже нравилось его пение, только мы стеснялись признаться в этом даже себе.
Однажды мы с братом вот так любовались жаворонком, что, словно подвешенный на ниточке, трепыхал в поднебесье и лил оттуда свою песню. Мы знали его давно. Он любил ловить мошек перед пасущейся Зорькой, а однажды поймал мотылька, что вылетел из-под моих ног.
Вдруг пение оборвалось и перешло в какой-то писк, а сам жаворонок начал спускаться, выписывая в небе небольшие круги. Обычно он садится без единого звука, здесь же — спускается и пищит. Да так отчаянно, просто жаль его.
Наконец сел и притих. Мы заметили кустик полыни, за которым он скрылся, и не сговариваясь кинулись туда.
То, что мы увидели, заставило нас попятиться. На небольшом заросшем травой бугорке лежала крупная серая гадюка, а изо рта у нее выглядывали крылья и хвост жаворонка…
Мы часто слышали, что змея может загипнотизировать не только лягушку или там мышь, а даже человека, поэтому были уверены, что подобное случилось и с жаворонком. Непонятно только, как змея сумела загипнотизировать птичку на таком расстоянии? Ведь пел-то жаворонок до того высоко, что был едва заметен…
Прошло тридцать лет. Я давно уехал с Украины на Север, то событие как-то сгладилось из памяти и, если бы не один случай, пожалуй, никогда не вспомнил бы о нем. А произошло вот что.
Мы с Васькой удили хариусов на впадающей в Чуританджу речушке Хити, а на противоположном берегу у заросшей кедровым стлаником осыпи сидел куропач и бередил наши охотничьи души. Хотя в это время всякая охота запрещена, да и ружей у нас не было, а все равно каждый из нас уже не один раз мысленно подкрадывался к неосторожному куропачу и снимал его удачным выстрелом.
Зимой все куропатки белые, а с наступлением тепла курочка, чтобы быть не так заметной, надевает скромное серое оперение. Куропач же становился еще нарядней. Голова, шея и зоб у него красно-коричневые, хвост черный, крылья и туловище белые. В этом наряде куропач и так заметен издали, а наш еще без конца взлетает со своего камня и кричит на всю тайгу:
— Бе-бе-бе-бе-бе-бе! Квек-квек! — словно дразнится. Чирок даже пригрозил ему кулаком, чтобы не очень-то хвастался…
Мы заворачивали за излучину Хиты, как вдруг куропач закричал снова:
— Кок-кок-кок! Бе-бе-бе-бе-бе-бек! Блек-блек-блек-блек! И такое отчаяние слышалось в этом крике, что мы поневоле оглянулись.
Петух уже не сидел на своем камне, а белым комком бился на склоне сопки. Со стороны стланиковых зарослей к куропачу изо всех ног бежал песец. Невероятно тощий и грязный, словно его только что выкупали в болоте. До куропача ему оставалось метров двадцать, не больше. Мы думали, через мгновенье птица взлетит, и даже не пытались шумнуть. Но куропач никак не взлетал. Песец наддал, в несколько прыжков настиг его и подмял. Мы с Чирком принялись кричать, размахивать удочками и бросать вверх шапки. Но зверь, даже не оглянувшись, скрылся вместе с добычей в густом стланике.
Мы долго обсуждали случившееся и решили, что где-то там у осыпи было гнездо с сидящей в нем куропаткой, а может, даже целый выводок цыплят. Вот петух и кинулся песцу в зубы, чтобы отвести беду от малышей. Пусть, мол, насытится мною, а сытый не станет охотиться и оставит их в покое. В крайнем же случае за это время куропатка успеет увести выводок подальше от зверя и надежно спрятать…
Вот здесь мне вспомнилась и стала понятна причина гибели жаворонка из того далекого детства. Наверняка его никто не гипнотизировал. Просто сверху жаворонок увидел ползущую к гнезду с птенцами гадюку и ценой своей жизни отвел беду. Пищал же он для того, чтобы змея заметила его и отвернула в сторону от гнезда.
Откуда берутся сказки
Мы с Васькой Чирком теперь хорошо знаем, откуда берутся сказки. Не все, конечно, а вот насчет одной из них у нас нет никакого сомнения.
Виноваты ласточки. Обыкновенные городские ласточки с белой грудкой и черными острыми крыльями. Этих ласточек сколько угодно можно встретить в любом поселке. Только наши почему-то не захотели жить под крышей какого-нибудь многоэтажного дома, а свили гнезда в глухой тайге.
Недалеко от нашей избушки по правому берегу Чуританджи есть высокая скала с нависшим над водой козырьком. Под этим козырьком и поселились ласточки.
Насчет квартир у наших соседей проблем, по-видимому, не было. На девять птиц приходилось одиннадцать гнезд. Мы решили, что часть слепленных из глины домиков осталась от прежних лет, а вот почему ласточек девять — к общему мнению так и не пришли. Может, их сначала летало десять да одну схватил ястреб или другой хищник, а может, девятая жила при поселении бабушкой или там дедушкой.
Васька пытался узнать, какая из ласточек «на пенсии», но только и выяснил, что ночью все ласточки сидят в гнездах по одной, а в ближнем к нашей избушке — две. Но он считает, что там просто очень дружная пара и даже яички насиживает вместе…
Раньше мы думали, что ласточки не придерживаются особого порядка и летают где попало. А что здесь такого? Они-то питаются комарами, а комаров везде сколько угодно. Уж это-то мы испытали на себе, и не один раз.
Но все оказалось далеко не так. С восходом солнца ласточки охотились только у скалы. В это время на нагретых солнцем выступах собираются целые рои мух. Ласточки вспугивали их, пролетая совсем рядом со скалой, и уже в воздухе ловили.
К обеду ласточки перемещались поближе к нашей избушке, а после кружили над рекой или поднимались высоко в небо.
Самое большое восхищение вызывала у нас любовь этих птиц к пению. Скажем, овсянка, для того чтобы петь, сначала устраивается на ветке, какое-то время молчит, словно собираясь с духом, и лишь потом уже подает голос. Ласточки начинали петь, как только отрывались от гнезда. Мелодичное «трич-трич» звенело над тайгой с утра до ночи. А когда появились птенцы и работы у ласточек стало совсем невпроворот — щебетание стало еще звонче. Как когда-то у нас в деревне. Страда. С ночи до ночи все в поле. К тому же с достатком не все хорошо. И голодные, и одеты неважно. А чуть что — поют. Днем — поют, вечером — поют, ночью тоже над деревней льется:
Просияла огирочкы нызько над водою, Сама буду полываты дрибною сльозою…Это сейчас и работа полегче, и живем — дай бог всякому, а кроме охрипших магнитофонов ничего не слышно. Говорят, все от того, что стали очень культурными…
Наконец вылетели птенцы, но забот у наших соседей не поубавилось. Нужно было учить малышей летать, ловить мошек и даже сражаться с залетающими сюда хищными птицами. К тому же слетки каждый вечер возвращались в гнезда и ночевали там, сбившись в тесный ком, а родители их обогревали…
Но в начале августа вдруг захолодало и в оставленном на улице ведре с водой образовалась ледяная корка. Почти все ласточки сразу куда-то улетели. Осталось всего лишь три. Может, эти оставшиеся надеялись, что холода ненадолго. Лето все-таки.
Комары с мошками попрятались в траву, ласточки целый день кружили над зеленеющей у реки осокой, пытаясь выгнать их из утаек, но, по-видимому, это у них получалось неважно. Впервые за все время мы не слышали их песен.
Васька тоже поскучнел. Ходил, выглядывал комаров и ругался. Попрятались, мол, как специально. Раньше кусались в любую погоду, а сейчас, видишь ли, холодно им!
А на следующий день я нашел у реки мертвую ласточку. Васька с рассветом ушел к Глухому омуту ловить рыбу, и до его возвращения я положил ласточку под навес. Увидев мертвую птицу, Васька до того расстроился, что забыл похвастаться уловом. Он взял ласточку в руки, долго рассматривал ее, потом принялся убеждать меня, что птичку нужно похоронить у скалы. Там, мол, ее дом и все такое. Я возражал. Резиновая лодка давно упакована в мешок, а вброд реку сейчас не перейти. Можно похоронить и возле избушки. Ей-то какая разница? Все равно этим не оживишь.
Только я так проговорил, как лежащая на Васькиных ладонях ласточка шевельнулась, затем ловко так вспорхнула и с веселым «трич-трич» закружила над рекой. К счастью, уже потеплело и у воды появились первые мошки…
Мы с Васькой на все лады обсуждали событие. Ведь мертвее мертвой была и вдруг ожила!
Потом он до вечера проторчал у скалы, а вечером приходит с сияющими глазами и заявляет, что он хорошо знает, кто написал «Дюймовочку».
— Помнишь, — сказал он, — Дюймовочка тоже нашла мертвую ласточку, согревала ее, а та ожила и унесла девочку в страну эльфов? На самом деле этот человек просто гулял возле речки, видит, лежит мертвая ласточка. Ему, конечно, стало жаль ее. Поднял с земли, подержал в руках, может, даже подышал на нее, она и ожила. Человек хорошо все запомнил, возвратился домой и думает: дай-ка сочиню сказку.
И сочинил.
Озеро Бусинка
Недалеко от перевала Аринкида есть три озера: Нижнее, Среднее и Бусинка. Два первых — настоящие озера. Большие, глубокие с рыбой, утками, уловистыми и неуловистыми местами. Бусинка же — совсем маленькое. Если, к примеру, в нем вздумает купаться медвежья семья, то лезть в воду им придется по очереди. Сначала медвежатам, потом медведице. Вместе нельзя — не поместятся.
Я почему вспомнил о медведях? Рядом с Бусинкой до середины лета лежит толстая ноздреватая наледь, и вся она в медвежьих следах. Больших и маленьких, давних и совсем свежих. Что здесь делают мишки, я даже не представляю. Может, отсиживаются от комаров, может, собирают дикий лук, а может, и на самом деле купаются.
Мы с Васькой Чирком открыли это озеро совершенно случайно. Возвращались с рыбалки и заблудились. Дождь, рюкзаки тяжелые, а лощина, по которой проложена тропинка, вдруг разделилась на рукава. Главное же, что раздвоилась и сама тропинка. Я говорю, что нужно поворачивать вправо, Васька — влево.
Идем, выясняем отношения и натыкаемся на эти озера. Все три как на ладони, а у маленького стоит самый настоящий шалаш: сухой, просторный, даже с постелью из лиственничных веточек.
Быстро разожгли костер, я достал чайник, наклонился зачерпнуть воды из озерка, а там хариус. Застыл в метре от меня, шевелит жабрами, а во рту что-то блестит. Никак не пойму, что это у него. Наверное, поймал какого-то слишком кусачего жука и теперь не знает, что с ним делать, — и глотать страшновато, и отпустить жалко. Сразу чайник в сторону, наладили удочку и опустили крючок с жирным короедом прямо хариусу под нос. Тот хамкнул приманку, мы подсекли и вытащили добычу на берег.
Все произошло так быстро, что хариус наверняка не успел ничего сообразить. Лежит в мокрой траве и удивленно таращит глаза.
Только теперь мы разглядели висящую на рыбьей губе тяжелую медную мормышку. Рядом с этой мормышкой торчал небольшой ржавый крючок с обрывком лески.
Это уже совсем непонятно. Хариус знаком с рыбаками и, конечно же, должен был сообразить, что в этом озерке он у всех на виду. Заверни в вытекающий из Бусинки ручей — и через пару минут будешь в Среднем озере, а там, если пожелаешь, можно перебраться и в Нижнее. Так нет же, сидит в Бусинке. То ли вода здесь вкуснее, то ли комаров побольше. А может, это очень принципиальный хариус. Мол, ловите меня — не ловите, а я буду здесь жить и все тут.
Мы вытащили крючок и мормышку из хариусовой губы и отпустили его на волю. Да и почему не отпустить? Рыба у нас есть, хариусу мы особого вреда не нанесли. Главное же — Бусинке авторитет возвратили. Без рыбы оно что — обыкновенная лужа, каких в тайге сколько угодно, а с хариусом — совсем другое дело. С хариусом — озеро!
В краю танцующих хариусов
Пока сушили одежду, пили чай, дождь перестал, и вдруг мы совершенно явственно услышали далекий гул автомобильного мотора. Сначала он как бы нарастал, затем стишился и растаял совсем. Через некоторое время донесся новый гул. На этот раз он принадлежал другой машине. Тот был звонкий, а этот низкий и какой-то добродушный.
Без всякого сомнения, за сопками проходила дорога. Мы торопливо уложили рюкзаки и по ведущей вдоль озер тропинке заторопились навстречу автомобильному гулу.
Тучи уплыли к горизонту, над головой открылось высокое синее небо. На тайгу, сопки, озера хлынуло солнце. Теплые ласковые лучи затопили весь мир, кусты и деревья вспыхнули мириадами блесток, над озером замельтешила комариная метель. Одни комарики кружились высоко в небе, другие спускались к самой воде и присаживались на нее отдохнуть. Покачавшись на волнах, они снова взмывали в воздух и присоединялись к веселому хороводу.
Неожиданно рядом с берегом раздался звонкий всплеск. Крупный оранжевоперый хариус выскочил из воды, прошелся на хвосте и, рассыпав каскад брызг, исчез. Не успели поднятые им волны коснуться прибрежных камней, как чуть в стороне выметнулись сразу две рыбины, на мгновение зависли в воздухе и так же дружно нырнули.
Словно разбуженная их плеском, с распустившегося у самого берега ириса взлетела бабочка-аполлон и принялась порхать вокруг нас. Описала круг, другой, третий, затем переместилась к озеру и зависла в каком-то полуметре от воды. Тотчас из озера выпрыгнул угольно-черный хариус, взмахнул широким плавником и попытался схватить бабочку на лету. Не дотянувшись до нее всего лишь чуть-чуть, он плюхнулся в воду и сразу же взлетел снова. Он подскакивал, кувыркался, шлепал хвостом и трепыхал плавниками; бабочка частила крыльями, иногда приподнималась или опускалась над озером, и, казалось, эта игра увлекает их обоих…
Наконец бабочка возвратилась к берегу, незадачливый охотник, плеснув хвостом, ушел в глубину, и только тут мы заметили, что вся вода вокруг кипит от жирующих хариусов. Килограммовые черныши, узкие, как ножи, хариусы-селедочники, похожие на тонкие серебристые гвозди, мальки — все дружно охотились на комаров-звонцов. Самые проворные успевали схватить комара, лишь на мгновенье высунувшись из воды, другие старались сначала сбить кружащуюся над ними добычу, затем уже съедали ее, третьи ловили звонцов, взлетев высоко над озером.
Чаще всего мы не могли разглядеть комара, и нам казалось, что все эти прыжки, кульбиты, пробежки и нырки рыбы исполняют просто так. Потому, что светит солнце, поют птицы, у воды горят желтым и фиолетовым цветом распустившиеся ирисы…
Мы шли уже больше часа. Давно остались позади Бусинка, Среднее и Нижнее озера, а танец хариусов не затихал. Рыбы плескались в бегущем рядом с тропой ручье, в развалившихся у скальных выступов плесах, в открывающихся перед нами новых озерах. Иногда они взлетали так близко, что брызги падали на наши сапоги, но и после этого хариусы не торопились в спасительную глубину, а охваченные каким-то азартом нетерпеливо кружили у берега, чтобы через мгновенье выметнуться из воды снова.
Где-то свистел бурундук и недовольно фыркала белка, в осоке надрывно кричала утка-чирок, а над водой взлетали и взлетали серебристые рыбы, словно никак не могли дотанцевать этот удивительный танец.
Огонек
Снег лежал вторую неделю, и все решили, что это уже до весны, но вдруг затеплело, брызнул мелкий дождь, и к утру мы проснулись снова в осени. Опять запахло грибами и прелым листом, а полевки из снежных норок переселились в земляные.
Но сам мир, лишившись яркой белизны, потускнел и выглядит каким-то обиженным. Словно ребенок, которого поманили игрушкой, а потом ни с того ни с сего отобрали. Над рекой целый день бродят густые туманы, под ногами чавкает раскисшая осока, кедровки нахохлившись сидят на мокрых ветках и чего-то ждут.
Лишь на спуске к реке весело горит одуванчик. Он тоже побывал под снегом, но не замерз, не потускнел и вообще не потерял веры в жизнь. Все так же упрямо тянется к солнцу, радуясь пусть пасмурному, но все же дню, усевшимся на его лепестках капелькам росы и даже хмурым кедровкам на ивах.
Что это? Безрассудство, отвага или самообман? Ведь все козявки, для которых он распустил яркие лепестки, давно спрятались в свои утайки, а созреть и рассеять по земле семена-парашютики он не успеет. Вот и цветет без всякого смысла, лишь бы покрасоваться.
Наклоняюсь сорвать одуванчик и вдруг замечаю в середине венчика длинного серого жука и небольшую осу. Оба с головы до ног вымазаны в цветочную пыльцу, словно мельники в муку. У них то ли ранний обед, то ли поздний завтрак. Копаются, шевелят усиками, переступают лапками и на то, что стою рядом с ними, — никакого внимания.
Здесь меня и осенило. А ведь одуванчик-то как раз для них и цветет! Природа хорошо знает, что не все букашки в одночасье спрячутся в свои щели. Некоторые опоздают с переселением и будут летать по миру в голоде и холоде. Вот тогда и проглянет через осеннюю слякоть спасительный огонек одуванчика.
Так маленьким я любил бегать к дедушке Колотию в гости. Его низкая крытая соломой хата стояла на самом краю села. Дальше простиралась степь с глухими балками, непролазными терновниками, заросшими чебрецом и полынью скифскими могилами. И всякий раз, когда разыгрывалась непогода, дедушка Колотий ставил на окно лампу. Вдруг какой-нибудь горемыка заблудится в степи, вот и выйдет на наше окошко.
И не раз, и не два среди ночи раздавался стук в это окно, затем уже в сенцах кто-то бухал обмерзшими сапогами, проклиная непогоду и радуясь тому, что вот, когда уже так замерз, хоть ложись и помирай, неожиданно увидел свет…
Хлопотали вокруг нечаянного гостя дедушка и бабушка, я, свесившись с теплой лежанки, во все глаза смотрел на выбирающего сосульки из бороды и усов черного дядьку, а на окне по-прежнему светил огонек неяркой керосиновой лампы, как светится сейчас у дороги раскрывшийся не ко времени одуванчик.
Таёжные угодья
Малышок
Если кому случится бывать в Хурчанской долине, это место найти очень легко. Вернее, его и искать не нужно. Держитесь левого берега Хурчана и на второй день пути сразу за широкой наледью выйдете к ручью, что неторопливо струится среди защипанных куропатками тальников. Вода в ручье темная, водоросли не длиннее мышиного хвоста, у самого дна играют песчаные фонтанчики. Из живности кроме личинок ручейника здесь ничего не встретишь, да и те держатся на самой глуби.
За ночь вода в ручье подстывает, и к утру над ним появляются хрустальные мостики из переливающихся всеми цветами радуги льдинок. Правда, мостики эти всего со спичку толщиной и даже оляпка предпочитает садиться не на них, а на выглядывающие из воды камни, но, может, эти булыжники ей просто привычней.
Дело было к обеду. Мы с Васькой Чирком возвращались с охоты, устали и решили устроить привал у этого ручья. К тому же на самом берегу, уставившись в небо толстыми сучьями, лежала сухая лиственница. Так что за дровами далеко ходить не нужно.
Васька занялся костром, а я, прихватив котелок, спустился к ручью. И вот, когда зачерпывал воду, обратил внимание на небольшой припорошенный снегом островок, белеющий посередине ручья. Дело в том, что весь этот островок был испещрен следами горностая. Интересно, что он там делал?
— Наверное, под снегом лежит какая-то дичь, — решил Васька. — Может, утка, а может, кулик или что другое. Вот горностай и пировал. Теперь островок от берега отрезало, а то обязательно прибежал бы снова. Это уж точно — каждое утро поглядывает с берега, не затянуло ли воду ледком?
— А где же его следы? — посмотрел я вокруг. — На островке они совершенно свежие, а на берегу кроме оставленных оляпкой крестиков ни одного следочка.
Васька Чирок огляделся:
— И на самом деле нет. А ты случайно не затоптал? Давай проверим. Я по камням перейду на ту сторону ручья, может, горностай сделал дорожку оттуда.
Стали искать место, откуда зверек попал на остров, и обнаружили его метрах в тридцати выше по ручью. Там русло перехвачено двумя ледяными мостиками. Перекат бойкий, вода все время подтачивает льдинки снизу. Возле такой горе-переправы слово громко скажи — обрушится, а горностай раз пять с берега на берег гонял. Вот и добегался, пока не обрушил один из мостиков.
Другой бы на его месте бултыхнулся в воду и подался к берегу, а этот так на льдинке и поплыл. Представляю, как он здесь путешествовал! Если бы потерпел минуту-другую, обязательно прибило бы к берегу. Так нет же, поторопился высадиться на островок, теперь загорает. Вон там и норки темнеют в снегу.
Мы даже о костре забыли. Любопытно все-таки, здесь ли горностай? Притащили валежину, плюхнули на воду чуть повыше островка. На сам островок класть побоялись — вдруг придавим Малышка (так мы успели прозвать горностая). Я придерживаю валежину, а Васька с сучка на сучок — и уже на островке. Копнул снег рукой раз, другой и вдруг резво так ее отдернул:
— Вот он, враг, щерится! Что с ним делать?
— Хватай, — кричу, — за шиворот и тащи сюда! Только осторожнее, не придави!
Васька Чирок шапку с головы, зачерпнул в нее добычу вместе со снегом и на берег. Горностай оказался еще мельче, чем можно было ожидать. На хвосте и передних лапках заледенел снег, сам дрожит от холода, шкурка переливается в частых судорогах. Но, гляди, зубы показал да грозно так:
— Цирк! — цирк! — цирк!
Я снял рукавицу, устроил в нее Малышка — и за пазуху. Оно, конечно, и рукавица крепкая, и горностай полузамерзший, а все равно таскать полдня зверя в пазухе — занятие не из приятных.
К вечеру мы были в избушке. Отгородили под нарами угол, постелили в нем старую куртку и вытряхнули туда Малышка.
Он уже обтаял и высох, но шерстка по-прежнему оставалась взъерошенной. Лишь только плюхнулся на куртку, глазками зырк-зырк, угрожающе так циркнул да в рукав. И ни звука.
Ночью я проснулся. Вижу, сидит наш Малышок у двери, сунувшись мордашкой в выступивший на досках иней. Услышал, как скрипнули подо мною нары, в два прыжка в свой угол и спрятался в рукав. А прыжки у него совсем не похожи на беличьи или, скажем, зайца. Те прыгают, словно их выстреливает пружина, этот же будто переливается над землей…
На третий день горностай совсем освоился. Ел на виду, и по избушке стало опасно ходить. Ничуть не прячется — того и гляди, наступишь. Много ли ему нужно?
Мы, когда уходили домой, оставили в двери приличную щель. Пусть живет там, где ему больше нравится.
Недели две не показывались на Хурчане, а вчера приходим:
— Жив Малышок!
Только намного дичее стал, но ел-то все равно вместе с нами.
Если кому случится бывать в тех краях, там, напротив ручья Ульбука, и стоит наша избушка. В той избушке живет Малышок. Вы его угостите кусочком масла или мяса — он не откажется. Но не давайте, пожалуйста, ничего соленого. Хищникам соль очень вредит. Не стоит портить зверя. Хорошо?
Таежные угодья
Тайга, что растет по правую сторону от Ульбукского перевала, — угодья одного лесничества, та, что по левую, — другого. Все вместе — угодья иссиня-черного ворона, и то, что, облетая их, он по нескольку раз на день пересекает границу двух лесничеств, его ничуть не волнует. Для него главное, чтобы сюда не забрался чужой ворон.
Здесь же живут: росомаха, пять лисиц, десятка три зайцев, много горностаев, сов, поползней, дятлов и еще, наверное, целая тысяча различных зверей и птиц. И у каждого вокруг перевала свои угодья, каждый охраняет их и сражается, если кто нарушит их границы.
А недавно мне привезли бумагу, где черным по белому написано, что тайга по обе стороны от перевала отведена мне под охотничий участок. Так что теперь это и мои угодья.
Но мне-то отстаивать их как-то там особо не приходится. У меня есть документ, а вот птицам и зверям потруднее. Однажды я поднимался на перевал и сломал палку, с которой обычно хожу по тайге. Вернее, не сломал, а сделал чуть заметную трещину. Но все равно палка с трещиной помощник ненадежный, пришлось вырезать новую. Старую же воткнул в снег да так на перевале и кинул.
Уже на третий день к моей палке завернула лисица и оставила рядом с нею желтое пятнышко. По этому пятнышку любая лисица сможет узнать о первой лисице все: сильная она или слабая, сыта или голодна, здоровая или больная и даже какое у нее настроение. Главное же, этой отметкой лисица предупреждала всех других лисиц, что она здесь живет и это ее охотничьи угодья.
Через неделю у моей палки отметилось еще четыре лисицы, росомаха и неизвестно откуда забредший волк. С тех пор и пошло. Как идет зверь через перевал — обязательно завернет сюда отметиться. Я даже научился определять, кто это был — ОН или ОНА. Если желтое пятнышко появилось между отпечатками лап, значит, его оставила ОНА, если чуть в стороне от отпечатков — ОН.
А в начале марта к отмеченной лисами, волками и росомахами палке завернул заяц и тоже оставил там свое пятнышко. Интересно, кто он? Может, такой храбрец, что все это зверье ему нипочем. Или причина в том, что вот-вот наступит время заячьих свадеб и к этому времени каждый уважающий себя заяц должен отметить свои угодья. А здесь уже хочешь не хочешь — нужно храбриться.
Король горы
Сначала в моей избушке было только два окна. Да и куда больше? Одно над печкой, другое над столом. У печки я сушу одежду, подшиваю валенки, строгаю на растопку «петушки» и, конечно же, готовлю еду. У стола ем, ремонтирую лыжи, точу пилу, привязываю к рыболовным крючкам леску и вообще выполняю массу разных дел.
И вот не так давно у меня появилось еще одно окошко — над нарами. Как будто бы оно мне совсем ни к чему. От окна тянет холодом, и в сильные морозы его приходится закрывать старой курткой. К тому же, если стекла оттаивают, вся вода бежит прямо мне под бок.
Но из всех окон оно у меня самое любимое, потому что через него я могу наблюдать за снежными баранами. Попробуй в ожидании осторожных круторогов просидеть три-четыре часа где-нибудь на перевале — ничего не получится. Я же любуюсь ими, как в кино, — в тепле-добре да еще и с кружкой чая в руках.
Каждое утро бараны спускаются с обрывистой покрытой скальными останцами сопки и направляются к протекающему недалеко от моей избушки ручью с красивым названием Лидия. Вокруг сколько угодно всяких ручейков, совсем рядом бежит быстрая и светлая Чуританджа, они же предпочитают пить воду только из Лидии. Я пробовал воду из этого ручья и ничего особенного в ней не заметил. Вода как вода. Чистая, холодная, мокрая.
Первыми к ручью направляются бараны-толстороги. Большие, важные, неторопливые. Хотя от тропы до моей избушки каких-то две сотни шагов и вся она на виду, бараны даже не глянут в мою сторону. Словно и мое жилье, и струйка поднимающегося над трубой дыма, да и я сам им не в диковинку.
Минут через двадцать на тропе появляются овцы-ярки и молодые бараны. Эти — самые осторожные и пугливые из баранов. Даже задремавшая на лиственнице ястребиная сова вызывает у них тревогу. Задрали головы, переживают, откуда она взялась? Вчера ведь не было, а сегодня сидит.
Почти вплотную за ними идут старые овцы с ягнятами. Ягнята довольно крупные, но, как все дети, игривы и любопытны. Увидели выглядывающую из-под снега каменную глыбу — и сразу к ней. Один обнюхивает, другой скоблит копытом, третий норовит боднуть. Спинки у малышей светлые, хвостики торчком, на лбу бугры-рожки. Сами шустрые, как зайчата.
Старой овце, что идет в конце цепочки, не нравится такая беспечность ягнят. Рядом запах человеческого жилья, а они разыгрались. Она останавливается, поворачивает голову и глухо блеет. Барашки отвечают ей звонким: «Бе-ек!» и бросаются вдогонку. Но уже через мгновенье останавливаются у висящей на суку консервной банки и принимаются разглядывать. Половина цветной этикетки отстала, шевелится на ветру. Ягнятам и боязно, и любопытно, что же оно такое?
Овца снова зовет зазевавшихся ягнят, и опять они напередогонки несутся за стадом. Хвосты торчком, уши торчком, сами словно на пружинах. И надо же было здесь скрипнуть спрятавшемуся в тальники куропачу. Ягнята сразу же замерли. Что оно там? Нельзя ли посмотреть?..
Сегодня я проснулся задолго до рассвета. Принес воды, подложил в печку дров и сел выглядывать баранов. Жду час, другой — никого. Только несколько раз туда-сюда пролетела кедровка, да еще на стоящую у реки лиственницу опустилась стая щуров. Это похожие на снегирей птицы. Такие же степенные, красногрудые, толстощекие. Сели, подремали на увешанном снежными комками дереве и подались на сопку искать кедровые шишки.
Когда солнце высветило вершины деревьев, на тропе показались первые бараны. Ягнята! Один, два, три, четыре… десять, нет, одиннадцать. Целый детский сад, и ни одного взрослого барана.
Поравнялись с выглядывающей из снега глыбой и сразу к ней. Самый шустрый барашек в один прыжок оказался на камне, расставил копытца, наклонил голову — не подступись! Пока он вот так бычился, другой малыш обогнул камень, поднялся на задние ноги и — бац! — столкнул задиру вниз. Сам в один прыжок забрался на его место, уши прижал, хвост туда-сюда скачет. Ну, кто смел?
На этого напали сразу два. Раз-раз и спихнули. Вместе спихнули, вместе забрались на каменную глыбу, но не поместились и скоро оба очутились внизу…
Я-то думал, что, оставаясь без присмотра, ягнята превращаются в этаких сироток: тихих, пугливых, беззащитных. А они-то, наверное, никак не могли дождаться, когда взрослые овцы и бараны уйдут за перевал. Лишь те с глаз — сразу все заботы в сторону и давай играть в любимую всеми детьми игру «король горы».
Оляпкина память
Зимой рассвет приходит поздно. Уже восьмой час, а за окном сплошная темень. Дрова давно прогорели, таившийся у порога холод полонил избушку и начинает забираться в спальный мешок. Просыпаюсь от этого холода и какое-то время лежу, прислушиваясь к рождающимся за толстыми бревенчатыми стенами звукам. Сначала ухо ловит только шум ветра в лиственницах да погулькивание недалекого переката. Но вот откуда-то прилетело еле слышное: «Блек-блек-блек-блек!». Это кричит выбравшийся из снежной лунки краснобровый куропач. Выспался, оголодал и торопит стаю. Я даже представляю, как он стоит на пригорке, вертит головой и от нетерпения дергается всем телом.
«Фуг-фуг-фуг-фуг!» — прошумело над самой крышей. Показалось, даже воздух качнулся у моего лица. Куропатки минули просеку, на которой стоит моя избушка, обогнули лиственничную гриву и опустились в тальниковых зарослях. Это совсем рядом. Метров триста, может, немногим больше. Там глубокий снег, и, на мой взгляд, куропаткам совершенно ни к чему гонять на ночлег за реку. Но осторожные птицы предпочитают густым тальникам совершенно лысый пригорок. Может, их пугает шум недалекой реки, а может, зайцы? Эти трусишки набили в тальниках глубокие тропы и всю ночь носятся по ним. Человеку оно бы и ничего, а забившимся под снег куропаткам страшновато.
«Тук-тук-тук-тук! Си-си-си-си! Туку-тук-тук-тук!» Явились. И постукивание, и сисиканье принадлежит двум черноголовым синицам, что держатся у моего жилья с самой осени. Не пойму, отчего их только две? Здесь всегда можно найти хоть какую-то поживу, но кроме этих синиц, кедровки, красноголового дятла желны да пары молодых поползней за всю зиму у избушки не появилось ни одной птицы. То ли мои соседи прогоняют их отсюда, то ли они сами предпочитают не залетать в чужие угодья.
Вчера я сварил пшенную кашу со свиной тушенкой, половину съел, а остальное переложил в миску и выставил на холод, в надежде, что там она будет посохранней. Выносил еду уже ночью, а эти, гляди, отыскали!
Синички сисикнули и замолчали. Даже кашу не клюют. Может, наелись?
«Так-так-так-так-так!» Удары тяжелые и довольно редкие. Словно кто-то старательно заколачивает длинный гвоздь. Это кедровка. Прилетела, выжила синичек и принялась набивать зоб. Нет, так дело не пойдет. Они мне за утро съедят всю кашу. Освобождаю из спального мешка руку и барабаню пальцами по стеклу. Кедровка притихла, но скоро застучала снова. Хитрая птица, знает, что через окно я ее не достану. А пока открою дверь — улетит. К тому же, если улетит, то недалеко. Спрячется за ближней лиственницей и будет сидеть, как мышка. Вот когда наестся — другое дело. Сразу начнет орать на весь мир, будто она здесь самая главная.
«Фью-твить-твить! Фью-твить-твить!» Веселая переливчатая песенка родилась у самого окна и тут же растаяла. Даже кедровка притихла и тайга не шумит. Только струйки в реке: «Тириль-тириль-тириль». Словно рожденное этой песенкой эхо.
Плеснула вода, звякнула льдинка и снова: «Фью-твить-твить! Фью-твить-твить!» Поет хозяйка студеной реки Чуританджи — оляпка. С виду она немного похожа на скворца, немного на дрозда, а вот хвост — как у поползня, кургузый. Сначала оляпка жила у старой вырубки. Я часто встречал ее, когда проходил мимо. Но осенью рыбаки перегородили реку железной сеткой, вода отвернула в сторону и потекла по новому руслу. Целый месяц я не видел оляпки и уже забыл думать о ней, но однажды проснулся и услышал ее песню. Я даже удивился — откуда ей взяться? Оказывается, я сам и виноват в ее появлении. Вчера набирал воду из образовавшейся у берега продушины и уронил ковшик. Там мелко, ведром не зачерпнуть, а он обледенел и выскользнул из рук. Проплыл чуть-чуть и остановился. Покачивается рядом, а в валенках не достать. Пока бегал переобуваться в сапоги, его затащило под самый лед. Пришлось возвращаться за топором и рубить огромную полынью. За ночь эта полынья взялась льдом всего лишь по кромке, а утром прилетела оляпка. Наверное, поверила, что прорубь появилась сама собой и теперь не замерзнет до конца зимы.
В тот же день я натаскал от обрыва камней и устроил как раз напротив окна настоящий перекат. Узкий, быстрый, с маленьким водопадом. Не знаю, где гуляла оляпка, пока я возился с камнями, но стоило уйти в избушку, как она промелькнула над берегом и с лету плюхнулась в воду. Там не так уж и мелко. Оляпке как раз по шею. Казалось, сама птица была ошарашена такой глубиной, отчего какое-то время сидела в воде и не двигалась. Точно так ведет себя отчаянный мальчуган, прыгнувший с берега в холодную воду. Обожгло его как кипятком, воздух комком застрял в горле, не может шевельнуть ни рукой, ни ногой, но вида не кажет. Молчит и даже пробует улыбнуться.
Оляпка чуть посидела, несколько раз качнула головой и отправилась под воду. Нет, не нырнула, как утка, и не провалилась, как камень, а просто взяла и пошла. Вот вода ей до клюва, до глаза, наконец скрылась и темная шапочка. Была оляпка и нет, только быстрые струйки поигрывают на том месте.
Появилась она из воды секунд через двадцать. Стоит, пританцовывая, на льдинке, а в клюве приличный гольян. Вчера я провозился здесь с полдня и не заметил ни одной рыбки. Оляпка же не только заметила, а еще и поймала. Вот она наклонилась, положила рыбку у своих ног, внимательно ее осмотрела, только затем проглотила. Чуть отдохнула, пропела негромко: «Фью-твить-твить!» и снова отправилась под воду…
Я часто наблюдаю за оляпкой и успел к ней привязаться. Да и как не привяжешься? Такая уж она звонкоголосая да поворотливая — диву даешься. Только плохо, что все время одна. К тому же недоверчива, как ни одна птица в тайге. Чуть скрипнешь дверью — «Фр-р-р-р», промелькнула и скрылась за излучиной реки. Где она прячется — даже не представляю, но пока стою у переката — не подлетит ни за что. Я никогда не пугал оляпку, более того, устроил ей пещеру-спальню под берегом Чуританджи и самую настоящую кормушку. Куда уж больше? Синицам никак не угождаю — они же чуть на голову не садятся, а эта не верит.
Мне кажется, виноваты кочевавшие когда-то здесь эвены-оленеводы. Был у них обычай пришивать к одежде своих детей перышки этой птицы. Мол, если кто носит такой талисман, станет, как и оляпка, ловким, веселым, удачливым. Лишь только родится сын или дочь — отец ружье в руки и на речку…
Давно это было. Люди об этом обычае забыли начисто. А оляпка помнит.
Дятлова особинка
Птиц в нашей тайге не так уж и много, но зато у каждой своя особинка. Поползень бегает по деревьям вниз головой, оляпка в любой мороз ныряет в реку на самое дно и ловит там ручейников. Один только дятел ничем себя не проявил.
— Как же так? — говорили мне. — Он ведь деревья лечит. Червяков добывает прямо из-под коры.
— Ну и что? И поползень, и кукша, и даже синица умеют это делать.
— А ты знаешь, что дятел — единственная из птиц, которая болеет сотрясением мозга?
— Ну, во-первых, это еще нужно доказать. Во-вторых, однажды ночью я вытоптал глухаря из-под снега, тот с перепугу так шарахнулся о лиственницу головой, что только в избушке в себя и пришел. Нет, что ни говори, а сотрясение мозга — это не особинка.
Как-то я услышал, что лесной доктор до того бдительно сторожит свои угодья, что в этом не может с ним сравниться ни одна из наших птиц. Лишь застучит чужой дятел на его участке — он прямиком туда, пристроится рядом и давай барабанить. Да не как-нибудь, а непременно четче и звонче, чем пришелец. Тот сразу же сконфузится и наутек. То ли ему стыдно, что его перебарабанили, то ли такой уж у них неписаный закон: не можешь барабанить — не лезь!
Интересно, а если проверить? Выбрал подходящую лиственницу и принялся стучать. Чего я только не перепробовал, чем только не барабанил! Железным прутом, топориком, палкой, ручкой ножа, ледяной сосулькой и даже кулаком. Стучал часто и не очень, громко и потише, с перерывами и совсем без них.
И что же? Ни один дятел не обратил внимания на мои стуки-грюки. Только и того, что прямо мне на голову свалился снежный ком и чуть не зашиб насмерть.
Расстроившись, я возвратился в избушку и принялся ладить печную трубу. Она у меня держалась три года, а потом возьми и прогори. Дым ест глаза, пламя пробивается в щель — далеко ли до беды? Взял пустую консервную банку, вырезал из нее хорошую заплату и прикрепил проволокой. Может, не так красиво, зато надежно. Не дымит и ладно.
Управился, залез в спальный мешок и слушаю музыку. Радио в тайге первое дело. Ни газет, ни журналов здесь не достать, а включил транзистор — хочешь слушай новости, хочешь песни. Я, когда обживал избушку, прежде всего соорудил антенну. Взял и приколотил к углу зимовья длиннейшую жердь. На ее вершину пристроил медный ершик, а от этого ершика прямо в окно тонкая проволока. И Магадан, и Москву — все слышно.
На другой день просыпаюсь — холодно. Бр-р-р-р-р. За окном только начало светать. Наложил в печку дров, сунул под них горящую спичку и быстро в постель. Пусть сначала прогреется избушка, потом можно и одеваться.
Дрова разгорелись, накалили трубу, она сразу же: «Так-так-так-так!». А заплата следом: «Чок-чок-чок-чок!». Настоящий тебе концерт. Лежу и слушаю сквозь полудрему. Хорошо!
И вдруг: «Тр-р-р-р-р-р-р-р!». Загрохотало, загудело так, что звон по избушке пошел. Я выскочил из спальника, а понять ничего не могу. А оно снова: «Тр-р-р-р-р-р-р-р!». Я за кочергу да за порог. Гляжу, а надо мною дятел долбит антенну, только голова мельтешит. Что он там сумел найти? Жердь у вершины не толще мизинца, в такой утайке не то что короед, самая зряшная кузька не зазимует. К тому же древесина сухая, выстоянная. Как он ни старается, а не может отколоть и единой щепки. Того и гляди, сам останется без клюва.
— Эй, ты! — кричу. — У тебя и на самом деле с мозгами не все в порядке?
Он услышал меня, перестал стучать, сидит и поглядывает по сторонам. В это время труба пустила струйку дыма и заговорила: «Так-так-так-так-так». Следом заплата: «Чок-чок-чок-чок-чок». Дятел вздрогнул, сердито так чивикнул и как забарабанит: «Тр-р-р-р-р-р-р-р!».
Здесь до меня и дошло. Да ведь явился сюда дятел совсем не за короедами, а на самый настоящий рыцарский турнир. Он принял мою трубу за чужака-пришельца и решил с ней сразиться.
Возвращаюсь в избушку и тихонько закрываю за собой дверь. Добавил в печку дров, поставил на нее кастрюлю с водой и принялся одеваться. А надо мною труба звенит, заплата стучит, дятел старается изо всех сил. Любопытно мне, кому же в этом поединке достанется победа?
Поденки
Известно, в январе солнце поворачивает на весну, а зима на мороз. Но в этом году небесная канцелярия что-то перепутала, в середине января подул теплый ветер и наступила настоящая оттепель. Снег стал донельзя липким, в избушке из щелей полезли большие серые мухи, лёд на реке покрылся пятнами промоин. Оттаяв, почки приобрели потерянную было упругость, куропаткам стало трудно обрывать их с веток, и птицы бродили по тальникам до самой ночи.
Я отправился за водой и вдруг увидел, что весь лед у проталин усеян поденками. Обычно эти насекомые появляются на свет тихими летними вечерами и подолгу кружат над рекой, то опускаясь к самой воде, то взмывая высоко в небо. Я почти не видел, чтобы поденки садились на берег. Чаще всего они опускались прямо на воду и сразу же становились добычей хариусов или уплывали по течению, подгоняемые ветром, как маленькие парусники.
Больше всего в поденках меня поражало то, что на всю жизнь им отпущен всего один день и что у них нет рта, а вместо желудка воздушный пузырек. Обидно все-таки родиться, чтобы к вечеру умереть. Но сегодня им отпущено и того меньше.
На льду поденки расположились правильными полукругами. У самой воды ползали только что родившиеся насекомые, чуть дальше, приподняв крылышки и вскинув вверх хвосты-ниточки, застыли те, что попали на лед немногим раньше, и уже за ними лежали растрепанные ветром давно погибшие поденки.
Лёд, на который их выносило, был тонкий. Я легко отломил осколок с двумя десятками еще живых насекомых и, прикрывая их от ветра, понес в избушку. Там налил в таз воды, осторожно пересадил поденок на дощечку и пустил плавать. В избушке было тепло, из окна на таз с водой светило неожиданно яркое солнце, от лежащих возле печки дров исходил смолистый аромат. Я надеялся, что сейчас поденки согреются, запах тайги и яркое солнце напомнят им теплый летний вечер и они устроят в избушке свой танец.
А те выползали на край дощечки, по нескольку раз разворачивали и складывали прозрачные крылышки, затем снимались и летели к окну. Там приклеивались к стеклам и замирали, чтобы через некоторое время упасть на подоконник уже мертвыми.
Буквально через полчаса ни на дощечке, ни на окне не осталось ни одной живой поденки. Мне стало грустно, я оделся и вышел из избушки. По-прежнему дул теплый ветер, с совершенно чистого неба летели снежинки, в воздухе горьковато пахло тальником.
Я спустился к реке и увидел, как от промоины метнулась оляпка. Она пролетела над тальником, обогнула нависшую над рекой скалу и скрылась за излучиной. Льдина, на которую вода выносила поденок, была совершенно чистой, только у самого приплеска угадывались крестики от птичьих лапок. Это прилетала оляпка и съела всех поденок: и живых, и мертвых.
А может, так лучше?
Новогодняя гостья
Знаете, кто больше всего досаждает мне на охоте? Полевки. Обыкновенные рыжие полевки с маленькими черными глазами и короткими, словно обрубленными, хвостами. Они подчистую съедают приманку, портят добычу, днем и ночью осаждают мое жилье. Придешь в избушку, а хлеб прогрызенный, на столе следы мышиного пиршества, а из кружки с чаем выглядывает рыжая спина.
Чтобы покончить с этим разбоем, я решил смастерить мышеловку. В поисках подходящей дощечки заглянул под навес и пришел в ужас. От навеса к лежащей у ручья лиственнице тянулась широкая дорога. Да-да! Не следок там или тропа, самая настоящая дорога, по которой полевки совершали набеги в мою избушку. Была она очень широкой и не походила ни на одну из виденных раньше звериных троп. Оставленные крошечными лапами цепочки следов не пересекались друг с дружкой, а бежали рядом, словно уложенные в мириады рядов узкие ленты. Под лиственницей они сходились и ныряли в обледенелую нору, как рельсы в туннель. Впечатление усиливала веточка пушицы, желтым светофором маячившая у самого входа.
И под навесом, и в норе было тихо. По-видимому, на время моего возвращения в избушку полевки объявляли «тихий час» и спокойно отсыпались в своих гнездах.
— Да мне этих врагов не выловить за весь охотничий сезон! — ужаснулся я и махнул на полевок рукой.
Так мы и жили. Ночью в избушке хозяйничал я, днем полевки. Соседство не очень приятное, но что я мог сделать?
И вдруг полевки исчезли. Не исподволь или как-то там иначе, а все сразу. Еще вчера эти изверги забрались в висящий под потолком мешок с сухарями и принялись строить там гнездо, а сегодня их нет. Как лежал на столе кусок сала, так и лежит. Рядом до половины наполненная сгущенным молоком банка — все целехонькое.
Что же их так напугало? Неужели, думаю, к избушке подбирается наледь? Мне-то под снегом ее не видно, а полевки предчувствуют любое изменение погоды, вот и поторопились переселиться. Ушли полевки, но спокойней мне не стало. Начал я замечать, что кто-то опять хозяйничает в избушке. Не шебуршит, не гремит, не оставляет никаких следов, но вот что хозяйничает — это точно.
Скажем, сплю, и вдруг слышу, как кто-то бежит по моей ноге. Нет, не полевка. Эти зверьки все-таки имеют вес и коготки у них царапучие, а оно передвигается, как комарик или какой-нибудь жучок. Когда-то в детстве со мной случилось подобное, я пожаловался маме, а она говорит:
— Это нервы у тебя, сынок.
Но при чем здесь нервы, если оно вот-вот взберется на живот? Зажигаю свечку, перетряхиваю постель, заглядываю под нары — нигде ничего…
В другой раз эта животина запуталась в моих волосах. Только начал дремать, вдруг что-то шмякнуло на голову и барахтается. Я схватил его рукой, а оно сквознячком прошмыгнуло между пальцев и исчезло. Пришлось в ту ночь спать с зажженной свечой.
…Новый год я встречал в тайге. Смастерил из стланиковых веток елку, приготовил праздничный ужин и сел к столу. Хорошо зимой в избушке. Весело трещат в печке лиственничные дрова, в лад им пощелкивает труба, на бревенчатых стенах играют светлые блики. Тепло, уютно. Одно плохо — скучно. Праздник все-таки, а я один. Только так подумал, как вдруг лежащая на полу банка шевельнулась и покатилась ко мне. Я даже глаза протер, может, чудится? Ведь какую-то минуту тому назад выковыривал из этой банки колбасный фарш и никого в ней не было.
Банка остановилась, постояла немного и покатилась снова. Теперь уже в обратную сторону. Я тихонько подкрался и прикрыл банку ладонью. Заглядываю между пальцев и вижу под ними зверюшку с грецкий орех величиной. Толстенькая, пушистая, круглая, как шарик, а из этого шарика хоботком торчит нос. Длинный и с усами.
Землеройка! Так вот кто пожаловал ко мне в гости! Вот кто разогнал от моей избушки всех полевок!
Рассмотрев гостью как следует, я поставил банку на стол и принялся готовить угощение. Отрезал кусочек мяса, крошку масла, налил в крышечку от бутылки молока.
— Ну, — спрашиваю, — будешь есть или очень уж я тебя напугал?
Ничуть не напугал. Только убрал руку — землеройка сейчас же направилась к еде. Неторопливо обследовала все и принялась за ужин.
…Сейчас полночь. Я сижу у транзистора и слушаю новогодний концерт, а рядом пристроилась маленькая пушистая зверушка и с аппетитом пьет молоко со сливочным маслом вприкуску.
Золушка
Лиственница среди своих хвойных родичей — Золушка. Мало того, что каждую осень злые северные ветры срывают с нее всю хвою и она потом долгую зиму стынет на морозе раздетая, лиственницу, как и ее сказочную сестрицу, обходят праздниками. Елку под Новый год наряжают в красивые игрушки, водят вокруг нее хороводы, поют песни. Если нет елки, можно украсить сосну. У нас на праздники наряжают ветки кедрового стланика. Иголки у него густые, зеленые, в комнатах долго держится смолистый аромат. Рады елке из веток стланика и взрослые, и дети.
А вот лиственницы на новогоднем празднике я не видел ни разу. Однажды мне посоветовали:
— А ведь ты и из лиственницы можешь сделать замечательную елку. Только сруби ее примерно за месяц до Нового года да поставь в ведро с теплой водой. Она тебе выпустит такую хвою — загляденье! Главное, не забудь.
Не забыл. Срубил, принес домой, поставил в воду. Она долго молчала, потом покрылась такими блеклыми худосочными иголочками, что никакого разговора о приглашении ее к празднику не могло быть. Купили в магазине за пять рублей елку из стланика, а лиственницу выбросили на свалку…
В этот раз мы с Васькой Чирком встречали Новый год в тайге. Домой нас не пустила Чуританджа. Как ни пытались ее проскочить — везде одни наледи. Васька набрал полные валенки воды, я чуть не утопил лыжи. Кое-как обсушились у костра и решили выходить к поселку кружной дорогой.
Поднялись на перевал. Пусто там, неуютно. Где какой кустик рос, все под снег спряталось, все до весны затаилось. Лишь одинокая лиственница стынет на гребне. Низкорослая, угрюмая, заиндевевшая.
Солнце как раз садилось за перевал, и только маленький его краешек пламенел над горизонтом. И вот перед тем, как исчезнуть совсем, оно вдруг выбросило последний луч. Тот скользнул по гребню и попал на лиственницу.
Случилось чудо. Расплавленным золотом вспыхнул иней на тонких ветках. Крупные синеватые блестки, как праздничные огни, загорелись на их кончиках. Дерево вдруг подросло и стало на удивление нарядным и стройным. Казалось, воздух заструился и зазвенел вокруг охваченной сиянием лиственницы.
Забыв о крутом подъеме, о тяжелых рюкзаках, о том, что до поселка еще шагать и шагать, стояли мы на перевале. Чудилось, нам одним глазком удалось заглянуть в сказку. В то самое мгновенье, когда Золушка становится принцессой.
Хвастливые синицы
Пока принес от ручья воды, вокруг стоящей на пеньке консервной банки собралась целая стая синичек и принялась таскать оттуда мясо. При этом они так галдели, что мне показалось, у этих шустрых желтогрудых птичек случилась драка. Подпустив меня совсем близко, синички вспорхнули на лиственницу и стали ждать, когда я отлучусь снова. Я не уходил. Это действовало им на нервы, против обыкновения синички не сисикали и не перепархивали с ветки на ветку, а сидели и молча поглядывали на пенек с консервной банкой. Наконец одна из них не выдержала и опустилась на пенек. С опаской покосилась на нож, которым я чистил картошку, и принялась за мясо. Скоро к ней присоединились и остальные птицы.
Я старался не делать резких движений и даже чуть отодвинулся в сторону. Они же не очень и боялись. Чуть поклюют, вспорхнут над головой, потрепещут крылышками и снова к угощению.
Наконец наелись, возвратились на лиственницу и принялись весело переговариваться: «Си-си-си-си! Си-си-си-си!». То ли после еды у них поднялось настроение, а может, просто синички хвастались друг перед дружкой, как отважно таскали мясо и ничуть меня не боялись.
Олений аппетит
В начале февраля в долину реки Чуританджи спустилось стадо оленей. Большое. Две с половиной тысячи. Правда, об этом я узнал много позже. А сначала увидел цепочку оленей, что шла от перевала. Впереди, покачивая рогами, выступали оленухи-важенки, за ними оленята-энкены, быки-корбы и жирные чалымы. Сзади на легких нартах ехали пастухи. Каждую нарту тянули два ездовых быка-ондата.
Ондаты — самые крупные олени в стаде и в то же время самые доверчивые. Как только пастухи-эвены распрягли их, ондаты направились к моей избушке. Сначала они съели мясной фарш, которым я подкармливал кедровку, затем стащили повешенных на лиственницу замороженных хариусов и наконец принялись грызть снег в том месте, где я вылил остатки борща.
А сена не тронули. Еще с осени под нарами лежал мешок сена. Сухое, зеленое, ароматное. Я, как увидел оленей, сразу достал и выставил за порог. Дай, думаю, угощу. А они брезгливо фыркнули и отвернулись.
И это называется олени!
Друзья-недруги
Еще какую-то неделю назад возле моей избушки жило всего восемь куропаток, а сегодня их более полусотни. Виноваты спустившиеся с перевала олени. Они разрыли снег, обнажили заросли богатых почками кустов, открыли россыпи камушков-гастролитов. Раньше голодные куропатки, охотясь за каждой почкой, чуть ли не до сумерек бегали по снегу, сейчас солнцу еще светить да светить, а они уже в лунках. Закопались поглубже в снег и на боковую. Да и чего не спать? Зоб полон отборных почек, под снегом тепло, лиса не увидит, сова не схватит.
Поэтому-то зимой у оленьего стада всегда можно вспугнуть хороший табун куропаток.
Летом же страшней оленя для куропаток врага нет. Пусть хоть десять лисиц охотятся в долине, хоть двадцать сов летает, а всех куропаток им не выловить. Но пройдет по долине оленье стадо — и сразу же разорит все гнезда. Яйца съест, цыплят поглотает. Не оставит ни скорлупы, ни перышка.
Вот и получается, что летом олень куропатке лютый враг, а зимой — первый друг.
Тальниковое полотенце
Сегодня я гостил у пастухов-эвенов. Прямо на снег они настелили лиственничных веточек, прикрыли оленьими шкурами и над всем этим натянули палатку. Посередине палатки топится большая железная печь, и от ее тепла лиственничные веточки источают пряный аромат. На дворе январь, а здесь пахнет, словно в весеннем лесу.
Пастухи расспросили меня, не встречались ли где-нибудь следы волков, росомах, рысей? Не заглядывают ли сюда дикие олени-буюны? Еще осенью буюны увели из их стада двадцать оленух-важенок, и до сих пор никто не знает, где их искать.
Потом мы обедали. После еды я оглянулся, где бы помыть руки, но ничего похожего на умывальник не обнаружил. Бригадир пастухов Коля улыбнулся и подал мне комочек очень тонких тальниковых стружек. Небольшой комочек, всего с полкулака величиной. Но им я насухо вытер губы, до скрипа протер руки, тарелку, нож. После этого и лицо, и руки долго источали тальниковый запах.
Заячьи дорожки
Летом зайцы бегают по тайге как попало, зимой — по тропам. В верховьях Чуританджи таких троп ровно семь. Три ведут на сопку, две к сухому ручью, одна в Медвежий распадок, и последняя по моей лыжне. Правда, случается, какой-нибудь заяц отвернет к выглядывающему из-под снега кустику пушицы или сломленной тополиной ветке и проторит новую дорожку. Но разве это тропа? Через неделю от нее не останется и следа.
Когда вдоль Чуританджи прошло оленье стадо, вся долина преобразилась. Там, где раньше лежал пушистый снег, темнеют разрытые до самой земли ямы-копанки, везде сломленные ветки, клочья сухой травы. На опушке тайги, где все заячьи тропы сходились в одно место, олени вытоптали такое поле, хоть играй в футбол.
Ну, думаю, теперь зайцы разгуляются. Скачи, куда вздумается. Ан нет. Дня через три выпала небольшая пороша, и вижу, что зайцы-то своих троп оставлять и не думали.
Вот здесь раньше они ныряли под наклоненную лиственницу, и сейчас заячьи следы ведут как раз в ту сторону. В другом месте тропа делала петлю вокруг куста карликовой березки. Теперь того куста нет и в помине, а петля на новой дорожке осталась.
Получается, как ни старались олени, а ни одной заячьей тропы не порушили.
Постой, а может, зайцы и летом тоже бегают по дорожкам, да только мы этих дорожек не можем разглядеть?
Гости
Откуда взялся этот паучок — я не могу даже представить. Может, я занес его вместе с дровами, а может, он зазимовал в одной из щелей, которыми так богата моя избушка, и, почувствовав идущее от печки тепло, решил, что наступило лето.
Я сидел у печки и подшивал валенки, и вдруг он. Распустил паутину и словно плывет в воздухе. Мне говорили, если паук черный — значит, к одному гостю, а если рыжий — к трем. У этого брюшко желтое, ноги красные, а голова коричневая. «Рыжий!» — решил я про себя и, когда варил суп, налил воды по самый рубчик. Вдруг и на самом деле явится целая толпа гостей? Потом глянул — дров под нарами маловато, за топор и на улицу. Люди придут, а топить нечем.
Пила у меня острая, но все равно в одиночку быстро не погонишь. Да я и не гоню. Одет тепло, времени сколько угодно, пилишь себе да поглядываешь по сторонам.
Сразу же, как только вжикнула пила, откуда-то заявился дятел желна. Сам как смоль, а на голове красная шапочка. Пристроился на стоящую неподалеку лиственницу и принялся за работу. Трудится дятел споро, старательно и в то же время с большим расчетом. Раньше мне казалось, что дятел это так себе. Сел на одно дерево, на другое, третье, постучал, есть короед — съел, а нет — полетел дальше. Теперь вижу, что это далеко не так. Прежде всего он очень расчетлив. За все время, пока я возился с дровами, он обследовал четыре лиственницы и ни на одной не поднялся и на сантиметр. Залетит под самую вершину, приклеится к стволу и начинает потихоньку спускаться. Прежде чем ударить клювом, он долго и придирчиво смотрит, стоит ли ударять? Потом сильным боковым ударом: «Тук-тук!», небрежно взмахнет головой, отбросит в сторону щепку и принимается собирать поживу. Аккуратно приложится клювом раз, другой, третий, словно целует лиственничный ствол. Я даже различаю, когда он берет добычу, лежащую под корой, и когда извлекает ее своим крючковатым языком из глубокого хода.
Обработал один участок, спустился на десять шажков и принялся за следующий. И вот так, пока не ткнется хвостом в снег. Там немного посидит, словно в раздумье, за какое дело ему приняться, пурх! — и уже у самой вершины высокой сучковатой лиственницы.
Да все молча, все с оглядкой. И голос подал только под конец своего обеда. Добрался до нижних сучков, отколол кусок коры величиной с хорошую тарелку, крикнул победно: «Клить-клить-клить!», мелькнул среди деревьев и исчез.
Желна никогда не подбирает оброненных короедов, и они достаются синицам или поползням. В этот раз никого из этих птичек рядом не было и я решил сам собрать короедов. Под тремя первыми лиственницами ничего кроме россыпи щепок, ошметков коры и желтых хвоинок не оказалось, а вот под четвертой среди всего этого хлама лежала шмелиха Машка. Мне это имя как-то сразу пришло в голову. Ведь все самцы у шмелей погибают еще осенью и зимовать остаются только женские особи. Ну а шмель среди всяких там комаров, мух и мотыльков все равно что медведь среди зверей — толстый, мохнатый, добродушный. И если медведя обычно зовут Мишкой, то медведицу — Машкой.
Я занес добычу в зимовье, устроил в коробку из-под сахара и решил подождать, когда она проснется. Машка, наверное, больше часа лежала без движения, затем шевельнула одной лапкой, другой, продвинулась на несколько маленьких шажков и принялась умываться. Все правильно. Как-никак дама и после сна нужно привести себя в надлежащий вид. Умылась, ступила еще несколько шажков и наткнулась на капельку сиропа. Это я, пока Машка наводила туалет, размешал в воде крошку меда и добавил туда сока из брусничной ягодки.
Машка не стала как-то там ломаться, сразу же сунула хоботок в сироп. Напилась, чуть отдохнула и принялась разминать крылья. Вжикнула ими и чуть не взлетела. Я не дал. В углу горячая печка, над нею пышущая жаром труба — коснется и погибнет. Вот поэтому я на самом взлете накрыл Машку ладонью. Стою и не знаю, что делать? И отпускать боязно, и вот так держать страшно — шмель все-таки. Жиганет в руку — радости мало.
Она как будто ничего: не вырывается и даже перестала жужжать. Приподнял руку, заглядываю, а Машка… спит! Лапки поджала, живот к коробке прислонила и уснула. Правда, ненадолго. Через минуту проснулась и принялась умываться. Умылась, туда-сюда усиками повела и снова вжикает, чтобы взлететь. Я опять накрыл ее ладонью, и опять она сразу же уснула. И вот так раз десять. Уснет, проснется, умоется и принимается вжикать.
— Хватит тебе красоту наводить, — смеюсь я. — Сороки украдут.
А Машка и на самом деле красавица. Воротничок на ней оранжевый, кофточка коричневая, юбочка черная в желтую полоску, а может, желтая в черную полоску — кому как нравится. На ногах у Машки настоящие унты. Сама полненькая, бархатная и немножко сонная.
Меду у меня литровая банка, брусники ведро, воды тоже сколько угодно — можно было бы прокормить Машку до самого лета. Да слишком уж ей опасно в моем зимовье. Печка, труба, свечи. К тому же такая маленькая, что не всегда и заметишь. Сядет на скамейку, а я сверху. И мне, и ей горе.
Налюбовался я Машкой, еще раз сиропом угостил и отнес к сучковатой лиственнице. Там отвернул кусок коры, устроил шмелиху в выеденную короедом ямку и привел все в прежний вид. А чтобы до весны не смогли добраться дятел или поползень — придавил сверху снегом. Так и теплее, и безопаснее.
Пока возился с Машкой, забыл, что ожидал гостей, и вспомнил о них только поздно вечером. Выходит, обманул меня паучок. Не то что трех, а даже одного гостя в этот день не пришло.
Хотя зачем же? Были гости! Дятел желна прилетал? Прилетал. Шмелиха Машка сиропом угощалась? Угощалась. А третий гость? Третий — наверняка сам паучок. Интересно, куда он девался? А никуда. Погостил, отогрелся и снова залез в свою щель. Глядишь, через недельку появится снова и снова накличет мне гостей со всей тайги.
Куропатка и фантик
Более скучной птицы, чем куропатка, в тайге поискать надо. Поползень даже в самый лютый мороз может поднять такой свист, словно давным-давно весна на дворе. Кедровки — эти любят качаться на ивовых ветках. Как бы ни торопились за шишками, а если по пути случится ива, хоть на минуту сядет, туда-сюда качнется и аж заскрипит от удовольствия. Кукши каждого встречного провожают через всю тайгу. Лишь человека увидят, все заботы в сторону и в путь. Ты идешь, они летят. Если отстал — подождут да еще и песню споют:
— Ти-ви-ти-и! Ти-ви-ти-и!
Мол, давай, браток, шагай веселей!
А куропатки? Эти все время или спят, или едят. Спать на свежем воздухе надоест — лезут под снег. Правда, я не видел, чем они там занимаются, но не станут же они петь под снегом песни или, скажем, играть в салки? Спят, наверное.
Вот так я и думал бы до сих пор, если бы не фантик. Обыкновенный розовый фантик с карамели «Яблоко». Он лежал недалеко от проталины, из которой я всю зиму беру воду. Кроме меня этой проталиной пользуются оляпка и выдра. Неудивительно, что каждый раз перед тем, как спуститься к реке, я осторожно выглядываю из-за деревьев. А вдруг там кто есть?
Ну так вот: с правой стороны от проталины лежал фантик, а с левой проходила куропачья дорожка. Каждое утро живущие на болоте куропатки заглядывали ко мне в гости. Рядом с моей избушкой целая ивовая роща, ветер обламывает хрупкие ветки с этих деревьев и разбрасывает по всей реке. Чуть сквозняком потянет, куропатки тут как тут. Сразу на речку и давай склевывать ивовые почки.
Избушка пугает куропаток, неудивительно, что напротив нее осторожные птицы не задерживаются. Выскочат на открытое место, оглянутся по сторонам — и дай бог ноги. Только одетые в густые перья лапки мельтешат.
И вот однажды я заметил, что не все куропатки ведут себя у проталины одинаково. Спустился зачерпнуть воды, смотрю, а от общей дорожки отделяются три цепочки следов и направляются к фантику. И особенно любопытно, что одному следу побольше недели, другой — всего лишь чуть-чуть припорошен снегом, а третий совсем свежий. Наверняка, думаю, это у моих куропаток слишком уж осторожный вожак. Вывел свою стаю на завтрак и вдруг видит — рядом с проталиной что-то краснеет. Он скомандовал всем затаиться, а сам отправился разведать, что там такое? Подошел, посмотрел, сообразил, что никакой бедой этот фантик ему не грозит, и повел куропаток дальше.
Но мозги-то у него куриные. Через три дня снова привел своих подопечных на реку и снова заметил фантик, а что уже проверял его — забыл. Вот он снова скомандовал всем быть настороже, а сам, готовый в любое мгновенье дать стрекача, отправился к фантику. Нужно же узнать, что оно там такое?
Я улыбнулся такому обстоятельству, подхватил ведро и направился к избушке. Только нырнул под деревья, слышу: «Кок-кок!». Куропатки! Обычно после такого вот «Кок-кок!» вся стая взлетает и стремглав несется к болоту.
Стою и жду взрыва куропачьих крыльев, но вместо него откуда-то, словно из-под снега, долетело тихое и протяжное «Кер-р-р-р!». Ага! Успокоились, голубчики. Я даже дыхание затаил. И тут из-за излучины показалась цепочка куропаток.
Впереди, сторожко вытянув шею, выступает вожак. За ним все остальные. Одна, две, три… восемь штук. Остановились у лежащей на снегу ивовой ветки, склевали почки и снова в путь. Вот они минули вмерзший в лед камень и вышли к проталине. Сейчас этот петух остановит стаю и отправится в четвертый раз знакомиться с конфетной оберткой. Я даже рот варежкой прикрыл, чтобы не расхохотаться. Но нет. Даже не оглянувшись, куропач минул проталину и замельтешил лапами дальше. Не обратили никакого внимания на фантик и вторая куропатка, третья, четвертая.
«Запомнили все-таки», — подумал я, и почему-то стало обидно, словно меня надули.
А до проталины уже добежала последняя, восьмая, куропатка. Крупная такая пожилая курица с черными перьями в хвосте. Поравнялась, значит, с проталиной, глянула туда-сюда и вдруг направилась к фантику. Подошла, наклонив голову, уставилась одним глазом, другим. Будто никак не могла понять, что это перед нею? Сделала еще шажок, чуть постояла и наконец, словно спохватившись, побежала догонять стаю.
У меня долго не шло из головы такое поведение куропатки. И так прикладывал, и иначе, но объяснить виденное мною не мог. Но вот однажды убирал в избушке, наткнулся на связку флажков, которыми отмечал лыжню, и вспомнил, как лет пять тому назад мы нашли гнездо куропатки рядом с карьером. Оно было уже пустое, и только по разбросанным вокруг скорлупкам можно было определить, что куропатка благополучно высидела цыплят и увела в более тихое место.
И вот в том гнезде вместе с сухими травинками и пухом лежала полоска ткани, оторванная от флажка, какими горняки отмечают место взрыва. Узкая чуть вылинявшая полоска ситца была приспособлена куропаткой для утепления гнезда. Мы тогда почти не обратили на нее внимания, нас больше интересовало, как куропатка могла высидеть здесь птенцов? В карьере каждый день гремели взрывы, камни летели кто его знает куда, а она сидела.
Теперь я вспомнил ту полоску и подумал: «А что, если и у моей куропатки в гнезде был такой фантик?». Ну и что здесь такого? Строила ее мама-куропатка гнездо где-то у стоянки рыбаков или геологов и вместе с травинками вплела в лоточек выброшенную людьми конфетную обертку. Потом вот эта куропатка только из яйца выглянула, а здесь фантик. Яркий, нарядный. Он ей на всю жизнь и полюбился. А сейчас, глядя на него, она вспоминает теплое звенящее комарами лето, гнездо в зарослях голубики и маму с братиками и сестричками.
Кедровкина одежда
С самой осени у моей избушки держится кедровка. Мы с ней дружим. Я угощаю кедровку мясным фаршем, она сторожит мое жилище. Лишь увидит зверя или человека — летит на поленницу и кричит на всю тайгу.
Каждый вечер, как только солнце коснется вершины стоящей неподалеку скалы, я беру топор и отправляюсь готовить дрова на ночь. Вернее, сначала я одеваюсь. В январе ночи длинные, дров уходит много, в другой раз провозишься на морозе больше часа, пока не завалишь угол за печкой лиственничными чурками.
Когда на улице не очень холодно — хватает куртки. Если же мороз покрепче, добавляю еще и меховую поддевку. Получаюсь толстый, неуклюжий, но зато тепло.
Дрова мы готовим вместе с кедровкой. Я орудую топором, а она проверяет чурки. Случается, под корой зимуют мухи, жуки и разные личинки. Вот кедровка их и собирает.
И что интересно, как я, так и она одеты по погоде. В оттепель кедровка небольшая, аккуратная. Перья на ней лежат плотно. Но лишь мороз — кедровка перья взъерошит, крылья в сторону отведет — раза в два толще сделается. Получается, и она под свою одежду натягивает теплую поддевку. Только у кедровки она из воздуха.
Избушка на Лакланде
Если кому придется побывать на Лакланде, можно остановиться в нашей избушке. Она стоит на небольшой морене при впадении в реку необыкновенно быстрого и прозрачного ручья Тайный. Мы с братом построили ее лет десять назад. У этой-то избушки я впервые и встретил филина.
Заметили мы с Леней, что по ночам нас посещает какая-то птица. Я и раньше видел следы крупных лап и отпечатки крыльев на снегу рядом с избушкой, но был уверен, что это глухарь.
Его наброды встречаются по всему простирающемуся за мореной болоту, ничего удивительного, если он заглянул и к избушке. За это время к нам, не считая росомахи, приходили в гости заяц, белка, горностай, залетали поползень, кукши, кедровки, дятлы и куропатки. Но больше всего нами, вернее нашими припасами, интересуются полевки. Откуда эти издревле живущие в тайге зверьки узнали вкус сухарей, макарон и других продуктов? Только оставишь на столе тарелку с супом или кружку с чаем — полевка тут как тут. Смело взобралась на тарелку, бултых в нее и поплыла. И тебе неприятно, и полевке горе.
Зайца к избушке привадил Леня. Мы привезли с собою мешок проваренных в хвое кедрового стланика капканов. Кроме того, все они были переложены травой. Трава зеленая, душистая. Мы ее специально для этого дела сушили под навесом. Когда разнесли капканы по шалашикам, мешком обили дверь в избушке, а сено Леня высыпал в конце морены, где проходила заячья тропа.
Заяц почти каждую ночь поднимался к нам, делал круг у избушки, затем направлялся к сену. Там усаживался на задние лапы и не торопясь выбирал понравившиеся травинки. Был заяц хуторянином, ни с кем дружбы не водил, и ни разу его след-малик не уходил дальше левого берега Тайного. Сена он съедал немного. Так, лишь бы попробовать. Его больше привлекал мешок из-под рыбы, брошенный тут же за ненадобностью. В грубой облепленной чешуей ткани заяц выгрыз две большие дырки. Любопытно, что у сена заяц оставлял немало объедков, возле мешка не валялось и ниточки.
Как-то часов в пять утра Леня разбудил меня и с тревогой заявил, что где-то только что кричал ребенок. Брат сидел на краю нар в наброшенной поверх майки куртке и в валенках на босую ногу. Голыми коленками он сжимал ружье:
— Я сквозь сон слышу, кто-то кричит, — рассказывает он. — Понимаешь, вот так: «Уве-уве-уве!». Хочу проснуться и не могу. Потом пересилил себя, открыл глаза, а за стеной ребенок плачет.
Быстро одеваюсь, берем фонарик и за дверь.
Сплошная темень. В луче фонарика медленно проплывают снежинки. Освещаю припорошенные снегом стволы стоящих вокруг деревьев, черные кустики карликовой березки, испещренные следами рыжих полевок сугробы. Нигде никого не видно.
— Эге-гей! — кричу в темноту. Она, как вата, поглощает мой крик. Кричу еще и еще, словно хочу разбудить тайгу. Но в ответ только присаживающиеся на лицо снежинки. Леня поднимает ружье и стреляет в беззвездное небо. Снопик пламени вырывается из ствола, выстрел рвет тишину, но через мгновенье она снова властно обнимает все вокруг. Стоим и слушаем. Если затаить дыхание, то слышен шум крови в висках и шорох падающих снежинок. Больше ничего.
Возвращаемся в избушку, подкладываем в печку дров и, от нечего делать, завтракаем. Хотя в такую рань нет никакого аппетита. Потом я зажигаю еще одну свечку и берусь за дневник. Леня пробует читать книгу, но то и дело поднимает голову и прислушивается.
— С чего это тебе дети стали чудиться? — обращаюсь я к брату с улыбкой. — Как Борису Годунову. «И мальчики кровавые в глазах…»
Леня откладывает книгу и принимается доказывать, что кто-то кричал и на самом деле.
— Ну хорошо, — говорю ему. — Верю. Только все же не ребенок. Птица или зверь какой. А может, деревья скрипели.
— Я же говорю, что ребенок! — сердится брат и наклоняется к книге.
А утром по дороге к ручью на самом спуске с морены Леня нашел полуразорванного зайца. Зверек уже застыл. Он лежал на боку, раскинув сильные ноги. Спина зайца была в крови, на животе зияла большая дыра. Возле него на снегу отпечатались огромные крылья. Те самые крылья, гофрированные оттиски которых мы несколько раз видели около избушки. Здесь же, на спуске, глубокие наброды мощных лап и след волока. По-видимому, выстрел вспугнул хищника, тот бросил добычу и больше сюда не возвратился.
Одетый в роскошную зимнюю шубу заяц-беляк был из матерых и уже не раз попадал в переделки. Правое ухо от самого основания до черной верхушки было разорвано. Это случилось давно. Ухо зажило, несколько раз вылиняло, и зверек, верно, привык к такому треухому состоянию. А может, уродство и сделало его отшельником? Кто его знает, как к этому относились другие зайцы?
Велика и сильна была напавшая на зайца птица. Однако справиться с треухим ей с ходу не удалось. Заяц дважды вырывался из когтей и выбил несколько светло-коричневых перьев. Правда, каждый раз ему удавалось сделать только несколько прыжков, но следы говорили о том, что заяц сражался до последнего.
С тех пор началось. Порой мы не спали до полуночи, подхватывались и выскакивали по малейшему шороху, но хищник себя не обнаруживал. Хотя ухал, дразнил нас и пугал сколько ему хотелось.
Как-то утром я отправился за дровами да так и застыл у поленницы. Кедровки, кукши, синицы, чечетки слетелись со всей Лакланды и устроили возле нашей избушки базар. Кричат, суетятся, перепархивают с ветки на ветку. Сначала я не понял, в чем дело, а присмотрелся — охнул. На толстой коряжине сидит огромная светло-бурая птица с яркими пестринами на груди. Над большой, втянутой в туловище головой торчат острые рожки.
— Филин! Леня, филин!
Хлопает дверь, брат выскакивает из избушки.
— Ты чего? — спрашивает он, а сам гоняет глазами по лиственницам.
— Ниже. Ниже смотри!
Леня наконец замечает птицу, морщит лоб и качает головой:
— Ой-ой-ой! Вот это громадина!
Филин завозился и переступил с ноги на ногу.
— Ах ты, враг, ах, печенег! — зашипел на него Леня. И мне: — Давай ближе подойдем. Говорят, он днем слепой, как крот.
Заметив нас, окружившие филина птицы засуетились, часть их благоразумно перебралась на дальние сухостойны. Но были и такие, что, словно дождавшись поддержки, запрыгали перед самым филином. Тот снова переступил с ноги на ногу, защелкал клювом. Перья на загривке поднялись дыбом. Теперь можно было хорошо рассмотреть толстые, покрытые перьями лапы, большие острые когти, которыми филин вцепился в коряжину. Его клюв показался мне небольшим, а может, его скрывали перья. Удивили уши. С виду они, как настоящие, а на самом деле всего лишь пучки перьев. В какой-то момент эти перья разделились, и стал виден просвет между ними.
Огромные глаза с ярко окрашенной роговицей смотрели на нас до того внимательно, в них таилась такая глубокая мысль, что мы невольно замерли.
Филин наклонился, развернул огромные крылья и бесшумно сорвался с коряги. Птичья мелочь взорвалась отчаянным щебетом, изо всех сил заорали кедровки, а он, огромный и невозмутимый, скрылся за деревьями.
Кастрюля страха
Когда я жил в охотничьей избушке на Лакланде, у меня было аж три живых уголка. Первый — обыкновенная мыльница с симпатичным цыпленком на крышке. В ней я держал личинок короедов и жуков-дровосеков. Я собирал их у поленницы, когда колол дрова для моей печки. Зимой мне эти личинки вроде бы ни к чему, но когда отойдет от берегов лед и начнут клевать хариусы — лучшей наживки не сыскать. Я набрал в мыльницу свежих опилок и переселял туда свою добычу. Каких личинок у меня только не было! Большие и маленькие, жирные, как сосиски, и тонкие, как папиросная бумага; белые, желтые, коричневые и даже розовые; с длинными черными хвостами-иглами, с короткими вильчатыми хвостами и совсем бесхвостые. Чувствовали они себя в мыльнице очень даже нормально, и, когда я прикладывал ее к уху, слышал, как они там чавкают жвалами. Может, пережевывают опилки, а может, обмениваются новостями.
Второй живой уголок — это промоина на Лакланде, из которой я беру воду. В ней совсем мелко, и, как ты ни старайся, а больше половины ведра не зачерпнешь, но зато под лежащими в промоине мелкими камнями живут ручейники, личинки поденки и жучки-подкаменщики. Правда, просто так их заметить трудно, но, если приноровиться и зачерпнуть воду вместе с камнями, сразу же увидишь и ручейников, и личинок, и бычков.
Конечно же, и в ведре они долго на виду не держатся, сразу под камни и нет их. Но я-то знаю, что они здесь.
Этот живой уголок я тревожу не очень часто, потому что оляпка тоже считает себя его владелицей и по нескольку раз на день проверяет, все ли там в надлежащем виде. Прилетит к промоине, залезет с головой в воду и смотрит, не торчит ли из-под камней хвост или голова. С нерадивыми она поступает довольно строго — вытаскивает на белый свет и съедает, но все равно живется в Лакланде всем этим обитателям не так уж плохо.
Третий живой уголок — большая четырехведерная кастрюля с прохудившимся дном. Правда, дырка там совсем маленькая, я запросто заткнул ее огрызком карандаша, но именно из-за этой дырки жена мне ее и подарила. Говорит, что она ей такая ни к чему, а мне в тайге пригодится. То ли продукты сложить, то ли стирку устроить.
Я, как приехал, сунул кастрюлю под нары, и в первую же ночь в нее свалилась маленькая, круглая, как шарик, полевка. Шуба у нее пышная, хвост маленький, глазки бусинками. Я накормил гостью колбасой, а потом выдрал из матраца клок ваты и кинул в кастрюлю, пусть, мол, организует себе постель. Полевка чуть посидела, привыкая к новой обстановке, затем принялась за дело. Она исследовала вату и начала ее взбивать. Я сварил ужин, пришил к куртке две пуговицы, вырезал из консервной банки подсвечник и приколотил его к стене, а она все шебуршала. Наконец стихла.
Заглядываю в кастрюлю и никого там не вижу. Белеет, значит, на дне шар из ваты и все. Я взял его в руки, осмотрел со всех сторон, но ни входа, ни выхода не нашел. Куда ни ткни — одна вата. Меня даже одолело сомнение, здесь ли полевка? Надорвал шар, а она в самой середке, глазами сверкает. Я, как мог, заделал дыру и положил шар на место. Но полевке такая работа не понравилась. Она сразу же выбралась наружу и принялась взбивать вату по-своему.
С тех пор и пошло. Чуть мне скучно станет, я к полевке в шар загляну, немного полюбуюсь и снова положу в кастрюлю. Та чуть посидит без всякого движения, подождет, пока я займусь своими делами, и принимается перестраивать свое жилище.
Я кормил полевку колбасой, сгущенным молоком, лепешками, приносил ей из тайги колоски вейника и травы-кровохлебки, а однажды знакомый охотник отсыпал мне целую горсть семечек подсолнечника. Полевке они очень понравились, одно плохо — слишком уж большой от этих семечек треск, аж звон по кастрюле идет.
Как-то я собрался обследовать ручей Тайный и решил лечь спать пораньше. День в январе, что хвост у моей полевки — здесь тебе начало, а рядом и конец, так что выходить нужно затемно. Уложил с вечера рюкзак, покормил свою полевку, послушал, как шебуршат в мыльнице личинки, и, забравшись на нары, потушил свечку.
Не знаю, сколько я спал, но вдруг открываю в темноте глаза и слышу: под мною какая-то паника.
— Цок-цок-цок-цок-цок-цок! — звенит кастрюля. — Цок-цок-цок-цок! — аж эхо по избушке.
Я чиркнул спичкой, заглянул под нары, вижу — выбралась моя полевка из постели и сидит, прижавшись к стенке кастрюли. Вид у нее взъерошенный, глазки блестят. Но вокруг никого не видно и причин для беспокойства как будто нет. Я прочитал полевке мораль. Мол, чего это тебе вздумалось носиться ни свет ни заря? Все воспитанные грызуны давно спят, а она, видишь ли, разгулялась! Затем нырнул под одеяло и попытался уснуть. Но лишь чуть задремал, как полевка пискнула и снова понеслась по кастрюле: цок-цок-цок-цок-шж!
Ничего не пойму. Опять свешиваюсь с нар и свечу в кастрюлю. Там полная разруха: крышечка, из которой я поил полевку, перевернута вверх дном, гнездо разорвано на части, везде клочки ваты. Полевка, как и прежде, сидит, сжавшись рыжим комочком, еще больше взъерошенная, а что с ней — понять невозможно. Да я и не стал как-то там особенно разбираться, натянул одеяло на голову и уснул до утра.
Утром, даже не заглянув в кастрюлю, подхватился, кое-как позавтракал и за порог.
Часы давно показывают за семь, а в тайге ночь ночью. Луна, звезды. Под лиственницами притаились густые тени. Я включил фонарик и вдруг увидел, что весь снег вокруг моей избушки истроплен горностаем. Не далее, как сегодня ночью ко мне в гости заглянул этот зверь и устроил здесь свою охоту. Следы большие, глубокие. Попадись такому в зубы — несдобровать. Правда, мне он не страшен, но вот моей полевке — совсем другое дело. Она, конечно, сразу же услышала его приближение и бросилась наутек. Да далеко ли убежишь в кастрюле? Куда ни ткнешься — везде голые скользкие стены. Вот полевка и металась — горностай-то рядом.
Говорят, во время испуга животные выделяют какие-то волны страха, они передаются другим животным, и те бросаются наутек. Значит, сегодня под моими нарами была полная кастрюля страха, а я-то и не понял.
Недолго думая, снимаю рюкзак, возвращаюсь в избушку и переворачиваю кастрюлю набок. Пусть полевка живет, где хочет. Пожелает — может остаться в избушке, а нет — беги на все четыре стороны. Там, может, не так тепло и сытно, зато на воле.
Костер
Каждый раз на полпути от избушки я делаю привал. По торчащим из-под глубокого снега сучьям угадываю, где лежит подходящая валежина, утаптываю рядом с нею площадку и развожу костер. Буквально в считанные минуты на совершенно пустом месте возникает временное жилье с видом на все четыре стороны. Здесь у меня кладовая для продуктов, кухня с посудой, прихожая для лыж, ружья и боеприпасов.
Но главное, конечно, костер. Это, если хотите, душа моего пристанища. Выстрою шалашиком тонкие сухие веточки, обложу их чурками, поднесу спичку — и вот рядом со мною еще одно живое существо. Сначала тихое, несмелое. Но, гляди, через мгновенье оно уже набирает силу, дышит теплом, пыхкает дымом.
Я вешаю над огнем чайник, пристраиваю палочку с нанизанными на нее кусочками сала и, пока готовится обед, разговариваю с костром. Мол, здорово вот так посидеть рядом с ним, отдохнуть, высушить носки и рукавицы. У меня сегодня суматошный день. Два раза попадал в наледь и под конец чуть не провалился в реку. Хорошо, сообразил ткнуть палкой в подозрительное место.
Зато видел, как лиса подкрадывается к собравшимся в тальнике куропаткам, а оляпка выудила на перекате во-от такого бычка-подкаменщика.
Сначала костер слушает меня молча, потом щелкнет раз-другой, словно никак не решаясь прервать мой рассказ, наконец не выдерживает и рассыпается настоящей скороговоркой. Мол, мог бы и провалиться и ничего страшного не случилось бы. Все равно я отогрел бы тебя и высушил. Гляди, от носков и рукавиц уже валит пар, еще чуть и можно надевать. Потом он вдруг подскажет, чтобы я убрал подальше сало, а то он не удержится и сожжет его начисто. Сам же между делом тормошит чайник, лижет его дно алым языком и, дождавшись, когда тот наконец засипит простуженным носом, восторженно стрельнет угольком прямо в воду.
Я ем сало, пью чай, а он разговаривает. То вдруг вспомнит, как прошлой осенью у этой валежины дрались дикие олени-буюны, то расскажет о токующем на стоящей по соседству лиственнице глухаре, а то примется передразнивать красноголового дятла желну. Рассказывает все это он сумбурно, часто перескакивает с одного на другое, и я толком не понимаю, когда речь идет об оленях, когда о глухаре, а когда о дятле. Но все равно слушаю, киваю головой, затем допиваю чай и принимаюсь укладывать рюкзак. Делаю все не торопясь. Кому хочется расстаться с таким уютным местом? Наконец надеваю лыжи, цепляю за спину ружье и, благодарно улыбнувшись костру на прощанье, иду дальше.
Летом я тщательно тушу свои костры, зимой же оставляю как есть. Все равно полутораметровый снег не даст разгуляться огню, зато на вытаявшем месте найдут поживу кедровки, зайцы и даже соболи.
И еще. Я никогда не возвращался к оставленным кострам и никогда не интересовался, что там без меня происходит. Но однажды мне случилось пройти мимо своей стоянки всего минут через пятнадцать после того, как ее покинул. Поднялся на бугор, осмотрелся и увидел, что в темнеющем за спиной лиственничнике целые гроздья беличьих гнезд. Я решил проверить, нет ли там белок, и по пути снова вышел к той валежине, возле которой недавно делал привал. Снег хранил вмятину от рюкзака и оставленный закопченным чайником кружочек. Рядом валялась палочка, на которую я надевал куски сала, конфетные обертки. А посередине глубокой снежной ямы все еще горел костер. Он по-прежнему пыхкал дымом, сорил искрами и разговаривал, разговаривал.
Наверное, увлекшись, он не заметил, что я давно оставил его, а может, костер просто знал, что жить ему осталось совсем мало, и спешил выговориться. В этот раз он рассказывал о спрятавшемся под снегом ручейке, о подслушанной им песне пеночки-веснички, о недавно гостившем здесь ямщичке-поползне.
Но никто его не слушал и никому эта болтовня не была интересной. А ведь что мне стоило задержаться здесь еще немного, чтобы выслушать все до конца, и сколько таких невыговорившихся костров я оставил за своей спиной?
…Возле беличьих гнезд я не нашел ни одного зверька, и вообще в тот день мне не везло. Может быть, от того, что надвигалась метель и все живое попряталось в свои утайки, а может, потому, что до самого вечера меня не оставляло чувство вины, будто я совершенно незаслуженно кого-то обидел.
Встреча с вороном
Дорога к Березниковому мне известна давно. Нужно идти вдоль Фатумы до того места, где она сливается с неглубоким, но довольно бойким ручьем Манчуком.
Когда-то здесь было эвенское стойбище. У ручья стояли яранги, между ними играли одетые в меховые одежды ребятишки, по таежным тропам к стойбищу тянулись оленьи караваны-аргиши. Сейчас об этом напоминают лишь черные пятна очагов, обломки выбеленных солнцем оленьих рогов да потемневшие от времени тяжелые лиственничные кресты.
От стойбища мне нужно повернуть к лежащему высоко в сопках безымянному озеру, из которого и берет начало Манчук. Оно без рыбы, но зато здесь почти всегда можно встретить снежных баранов. Летом они приходят к озеру на водопой, зимой копытят у его берегов траву.
Сразу за озером возвышается перевал Тягун, а дальше уже Березниковое. Оно не в нашем водоразделе, и река там другая — нерестовая. Осенью в ней мечут янтарно-красную икру мальма и еще неизвестная мне желтогубая рыба, которую местные рыбаки называют топь.
В пути особых приключений не было. Вспугнул две огромные стаи куропаток, понаблюдал за баранами, что бродили у противоположного берега горного озера, да еще встретил ворона.
Обычно эта недоверчивая птица держится от меня в стороне. Неторопливо проплывает над тайгой, кинет в небо грустное «крун-крун» — и нет ее. Я никогда в ворона не стрелял, даже не пробовал пугать криком, но все равно, никакого доверия. А здесь стою у озера, любуюсь баранами, и вдруг прямо ко мне летит ворон. Из оружия у меня только палка, о которую я опирался, взбираясь на перевал, да еще нож. Вот эта мудрая птица, наверное, и поняла, что бояться меня нечего. А может, ворон привык встречать людей только в долинах и захотел посмотреть, кого это занесло на такую высоту?
Короче, не знаю, о чем он подумал, но, подлетев ко мне, ворон принялся кружить над самой головой. Я же ни с того ни с сего начал декламировать Пушкина:
— Ворон к ворону летит, Ворон ворону кричит: — Где нам, ворон, отобедать? Как бы нам о том проведать?Вот так я декламирую, а он кружит и улетать не собирается.
— Слушай, — кричу ему, — может, ты голодный?
Достаю бутерброд, разламываю его пополам: — Здесь хлеб, масло, сыр. Давай, ворон, замори червячка!
Гляжу, где бы пристроить гостинец, и вдруг замечаю, что снег у моих ног взрыт. На свежей пороше угадываются отпечатки больших крыльев. Чуть в стороне чернеет перышко. Что здесь произошло? Может, ворон с кем-то дрался? Так с кем же? Ничьих следов, кроме вороньих, не видно, а друг с дружкой в эту пору вороны не дерутся. Вот весной — другое дело.
Обожди! А не откапывала ли здесь птица какую-нибудь добычу? Снег порушен только в одном месте, и ямки довольно глубокие. Наблюдая вполглаза за вороном, снимаю лыжу и принимаюсь раскапывать снег. Он плотно сбит ветром, слежался и поддается с большим трудом. Да к тому же еще лыжа — это не лопата. И копать неудобно, и сломать страшно.
Наконец показались ягель и листочки брусники. Внимательно приглядываюсь к каждой веточке, продолжаю расширять яму. Ага, вот попался комок белого пуха. Такой длинный и нежный пух может быть только у зайца. Наверняка где-то здесь лежит беляк. Рискуя остаться без лыжи, отваливаю новые глыбы, и наконец за одной из них открывается бок матерого беляка. Пробую вытащить застывшего зайца из ямы, но ничего не получается. Что-то там его держит. Туда-сюда качается, а подаваться не хочет. Нужно копать снова. Вскоре лыжа цепляется за коричневую от ржавчины проволоку. Все понятно — зверек в петле. Осенью здесь проходила заячья тропа, и кто-то насторожил на ней петлю.
Оставляю добычу в яме, рядом пристраиваю свой бутерброд и отхожу в сторону. Ворон описал небольшой полукруг, прогундосил удовлетворенное «крун!» и упал возле копанки.
Интересно, как он смог узнать, что здесь лежит заяц? Может, еще осенью заметил бившегося в петле беляка, а приблизиться побоялся. Только испугался не зайца, а петли. Вдруг она схватит и его? А может, просто летел сегодня утром над перевалом и учуял зайца под толстым снежным покровом. Известно, у ворона самое хорошее обоняние среди всех его родичей семейства вороновых. А ведь в этом семействе такие прославившиеся удивительными способностями птицы, как сороки, сойки, кедровки, грачи.
Найти-то зайца он нашел, да не по зубам, вернее, не по клюву и когтям оказался утрамбованный метелями снег. Или это я ему помешал? Поэтому-то ворон и кружил. Уходи, мол, товарищ, скорее. Сам откопаю.
Птица голодная летала, а я ей стихи декламировал. Чудак. Ей-право, чудак…
Когда-то я работал на сельскохозяйственной станции на Украине. Рядом с нашим полем был танковый полигон. Там сусликов развелось — тьма! Над ними танки грохочут, пальба идет, а грызунам хоть бы что. Живут да плодятся. Подошло время созревать пшенице. Она у нас дорогая, элитная. Такой уступить сусликам нельзя ни зерна. Решили их вывести. Пригласили специалистов, те насыпали во все норы яда, а сами норы закопали. У каждого суслика по нескольку нор. Закапывали все подряд. Поди угадай, в какой из них сегодня живет суслик?
Через два дня приходим — часть нор раскопана. Это их разрыли орлы-степняки и вытащили мертвых сусликов. Вот тогда все и удивились. Степняки раскопали только те норы, в которых лежали мертвые суслики. Пустых же не тронули и единой. Как они смогли определить через толстый слой земли, какая нора с добычей, а какая пустая? Теперь и у меня почти такой случай с вороном…
Радуга
С вечера над рекой клубился туман, а утром ударил сильный мороз. Наверное, этот туман вместе с морозом и родили две удивительные радуги.
Сначала я никаких радуг не заметил. Вышел на улицу, гляжу, хорошо ли затянуло промоину на реке, не наследил ли этой ночью возле моей избушки какой-нибудь зверь, а в сторону лежащей за рекой сопки и не смотрю. Потом привязал лыжи к валенкам, распрямился и охнул. На самой вершине сопки горит яркое-яркое солнце, а по обе стороны от него всеми цветами переливаются радуги. Из-за каждой радуги выглядывает еще по одному солнцу. Раз, два, три! Да-да. Целых три солнца! Каждое светит, от каждого во все стороны идут лучи, вокруг каждого, словно рой комаров, играют блестки. Хорошо, если бы от каждого солнца и тепло шло. А то ведь пяти минут не постоял, а уже пробрало холодом до костей. И жалко с радугами расставаться, но нужно идти.
Шагнул за деревья — та радуга, что по левую сторону сопки, сразу исчезла, а та, что по правую, — прыг и зависла в двадцати шагах от меня. Правда, немного пожухла, укоротилась и солнышко свое куда-то спрятала, но в остальном все нормально. Все до единой краски налицо. Я даже проверил. Стою и бормочу:
— Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
Наверное, у всех в школе была такая хитрая считалка, чтобы не забывать, какой цвет за каким следует. «Каждый» — значит красный, «охотник» — оранжевый, «желает» — желтый и так далее. Интересно, думаю, как долго она будет гоняться за мною? Взял и нырнул за толстую лиственницу. Теперь куда денешься? А она никуда и не девалась. Осталась рядом. Правда, бледная-бледная, всего в одну блестку толщиной, но если присмотреться — здесь она! Протянул руку и… коснулся радуги!
Отправился дальше. Глаза щурю от удовольствия. Если бы не лыжи, наверное, затанцевал бы. Никогда не думал, что придется дотянуться до радуги. Да не какой-нибудь, а таежной, морозной, еще и с солнышком в утайке. Расскажу — не поверят. И пусть не верят. Я-то знаю, как оно было на самом деле.
…Вот так иду и радуюсь, а по кустам да по кочкам скачет моя тень. То запрыгнет на склон сопки, то растянется вдоль распадка, а то возьмет и разломится надвое. Одна половинка на ближней террасе, а вторая мельтешит аж за увалом.
Прыгала-прыгала моя тень да и легла на тальниковый куст, а оттуда заяц как сиганет. Здоровый! Прижал уши и наутек.
А ведь от меня до него было, наверное, чуть ли не целый километр. Ни палкой не докинуть, ни из ружья не достать. С чего бы ему удирать? Перетерпел бы, а потом мог перед знакомыми зайцами хвастаться. Мол, на меня тень охотника навалилась, а я хотя бы что. Даже усами не повел. Что мне этот охотник?
Все зайцы от зависти, наверное, умерли бы. Так нет же, припустил так, только штаны замелькали.
Сова и выдра
Повадилась ночевать, вернее дневать, у моей избушки ястребиная сова. Птица маленькая, незавидная. Сама чуть крупнее кедровки, и ничего хищного в ее облике нет. Всю ночь она охотилась, с рассветом усаживалась на вершину стоящей неподалеку от моего зимовья лиственницы и спала там весь день. Нормальные совы отдыхают в дуплах или забиваются в таежную чащобу, а эта — как будто специально устраивается на виду. Ветка под нею в спичку толщиной, чуть забудешься и загремишь вниз. Но нет, держится. Так уже устроены у нее ноги. Чем сильнее нажимает на них птица, тем крепче они когтями обхватывают ветку.
Вот так усядется сова на лиственницу, повернется «лицом» к солнцу и целый день не шелохнется. Хотя чего там? Наверное, она все-таки немного шевелится. Утром она повернута к солнцу, в обед — к солнцу, вечером тоже смотрит на солнце. А оно-то не стоит на месте.
Порхающие вокруг моей избушки синицы и поползни почти не обращают на сову внимания. Ковыряются себе под корой, цивикают, туда-сюда перелетают, а в ее сторону не кинут даже глазом.
Не боялись сову и собравшиеся на берегу реки белые куропатки. Известно, куропатки, глухари, рябчики — большие любители покопаться в гальке. Эти камешки помогают им переваривать ольховниковые и ивовые почки. Как-то я наблюдал за куропаткой, что ходила по дороге, вдоль которой только что проехал бульдозер. Он выравнивал бровку и открыл целые россыпи камешков всевозможной формы и величины. Куропатке их нужно было десяток, может, немногим больше. Я набрал бы их за минуту. Она же копалась больше часа. Ковырнет клювом, перевернет камешек, внимательно на него посмотрит, качнет головой, не подходит, мол, и ищет снова. Наконец как будто бы насобирала сколько там ей было нужно. Взлетела и, описав дугу, опустилась на дорогу… перебирать камешки…
Еще осенью я попросил знакомого бульдозериста подрезать у реки небольшой холм. Получился отличный галечник с ровной площадкой, крутым обрывом и даже маленьким козырьком. После снегопада я расчищаю его деревянной лопатой. О моем галечнике знают многие птицы и звери. Почти каждое утро сюда заглядывают суетливые куропатки и степные глухари. Любопытно, что куропатки прилетают все вместе: и петухи, и курочки, глухари — порознь. Вчера, скажем, были одни петухи-токовики, сегодня только курицы-капалухи. Иногда на галечник заглядывает живущий в ольховнике заяц, а однажды завернул лось. Правда, ни заяц, ни лось камешков не тронули, они просто зашли посмотреть, что это за пятно темнеет среди снежных сугробов?
Как-то утром вожусь я с дровами у поленницы и вдруг слышу — что-то мои куропатки заклекотали. У них это бывает. Возьмут да и расшумятся на перемену погоды или же испугаются, сами не знают чего. Так вот, колю дрова, а куропатки закричали: «Ве-ве! Бе-бе-бе-блек-блек!», захлопали крыльями и стихли. Наелись, думаю, и улетели. А самому и не туда, что буквально полчаса тому назад сова сидела на своей лиственнице, теперь куда-то исчезла.
Занес я дрова в избушку, растопил печку и отправился к Фатуме за водой. Иду, брякаю ведром. Вдруг из-за деревьев вылетает сова и заворачивает мне навстречу. Не долетев нескольких метров, она села на ивовую ветку и начала пристально всматриваться в мое лицо. Я на нее:
— Чего уставилась? А ну, кыш отсюда!
Она крыльями замахала и пересела еще ближе. Прямо рукой подать. Что это с нею? Мне сразу же в голову полезли разные мысли о животных, что ищут помощи от человека. Я никогда не верил этому. Ведь даже птичка, что, удирая от ястреба, бросается в ноги «натуралисту», совсем не ждет от него защиты.
Ей просто кажется, что это на пути случился пень или какая коряга, вот она под защиту и нырнула. А то, что этот пень хлопает глазами и размахивает руками — она просто не успевает заметить. Есть когда рассматривать, когда сзади ястреб настигает? Ученые делали опыты и установили это достоверно.
Опыты опытами, но вот подлетела же и чуть не в руки просится.
Смотрю на птицу. Все у нее в порядке. Крылья целые, длинный полосатый хвост на месте. Вот только на лапах что-то краснеет. Словно по ним мазнули кровью. Но эти же лапы довольно цепко держатся за ветку.
Сова наклонилась ко мне так близко, что ее ярко-желтые глаза оказались совсем рядом с моим лицом, и вдруг как закричит: «Кик-кик-кик-кик!». Потом клювом щелк-щелк. Я на нее ведром:
— Да отвяжись ты, курица!
Ведро громыхнуло, птица сорвалась с ветки и улетела на свою лиственницу. Там устроилась на самой вершине и принялась чистить клюв.
Подхожу к галечнику и вижу — под обрывом лежит растерзанная куропатка. Вокруг перья. Снег и камни в крови. Так вот в чем дело! Оказывается, сова-то не помощи просила, а совсем даже наоборот. Схватила куропатку, принялась есть, а здесь я. Вот она и бросилась защищать свою добычу. Не брякни я ведром, чего доброго — кинулась бы в лицо.
Отнес воду в избушку, возвратился к галечнику, а куропатки нет. Неужели сова успела унести? Но нет. Сидит голубушка на старом месте и дремлет. Так куда же девалась куропатка? Я-то пробыл в избушке не более десяти минут. Подложил дров, сполоснул и залил водой кастрюлю.
Осматриваю растущий возле галечника тальник и вдруг замечаю пропаханную в снегу борозду. Выдра! Точно, она! У выдры на лапах перепонки, к тому же она, когда бежит по рыхлому снегу, проваливается в него всем туловищем. Ее след с другими не спутаешь. Канава добежала до промоины и оборвалась у самой воды. Здесь же, на ледяном закрайке, кровь и три белых перышка.
Стою у закрайка и пытаюсь представить, что же тут произошло? Наверное, совершенно случайно выдра увидела сову, что с аппетитом поедала куропатку, и решила отнять добычу. А может, она услышала, как сова напала на стаю, и поторопилась узнать, чем закончилась охота? Куропатки-то кричали, только я их тревоги не понял. Выдра же понимает язык всех живущих в тайге птиц и зверей, вот и явилась на галечник. Не приди я со своим ведром, выдра еще раньше отобрала бы куропатку у более удачливой хищницы. А так ей пришлось ждать, пока я наберу воды и уйду к избушке.
Послушайте, а может, выдра с совой здесь даже дрались? Вот бы посмотреть! Не зря же сова так рассвирепела, что чуть на меня не бросилась?
Разговоры
Мороз за пятьдесят. Угол в избушке покрылся инеем, на окне накипел лед, по полу гуляют сквозняки. Нужно без конца подкладывать дрова в печку, а здесь вышел из строя топор. Я оставил его на улице, утром стукнул по чурке, и прочная сталь разлетелась на куски, словно топор сделан из стекла.
Пришлось колоть дрова тракторным катком. До сегодняшнего дня на этом катке я выравнивал гвозди и расклепывал рыболовные блесны, теперь приспособил вместо топора.
Положу сухое бревно на две чурки, заберусь повыше, каток подниму — трах! Бревно пополам. Только щепки в стороны.
Рядом пристроились две синички. То ли ждут, когда уйду в избушку и они смогут собрать вытряхнутых на снег личинок, то ли им просто нечего делать.
Перьев на синичках — одна видимость, сами чуть побольше ногтя, но, не глядя на мороз, веселые. Сидят и деловито сисикают. То одна:
— Си-си-си-си!
То другая:
— Си-си-си-си!
И так без конца.
На мне овчинный тулуп, но я все равно продрог. А им хоть бы что. Словно две подружки, что встретились по дороге из школы и остановились поговорить. Час разговаривают, два разговаривают, три — все равно разговаривают! Холод ужасный, оставь ее одну — в полчаса замерзнет. А за разговорами даже раскраснелись. То одна:
— Ля-ля-ля-ля!
То другая:
— Ля-ля-ля-ля!
Разговорами греются, что ли?
Вчера и сегодня
Вчера, добираясь с верховьев Чилганьи, так устал, что пришлось оставить рюкзак на лыжне. Да и то едва успел засветло переправиться через реку. Уже не помню, как разжигал печку, колол дрова, ходил за водой. Помню, что очень хотелось спать и даже после трех кружек чая не мог согреться.
Но утром поднялся бодрый и сразу же отправился за оставленным рюкзаком. Вышел к реке и замер. Казалось, еще один шаг и окажусь в сказке. Укрытые снежными шапками пни за одну ночь стали похожими на диковинные грибы, стог сена превратился в избушку Бабы-Яги, а самые обыкновенные вешала для рыбы напоминают ворота в Снежное Королевство.
И, словно приветствуя новый день, у дымящейся полыньи танцует неугомонная оляпка. На ее коготках намерзли льдинки, птичка выстукивает ими, как кастаньетами, и их звон рассыпается по всей реке.
Вчера я проходил здесь, но ни грибов-пней, ни сказочной избушки, ни ворот в Снежное Королевство не заметил. Хотя точно так же сияло солнце, искрился снег и вызванивала льдинками оляпка.
Наверное, вчера другим был я.
Салки
Зимой Чуританджа тихая. Спрячется под лед, словно и нет ее. Летом здесь плескались хариусы, снежные бараны ходили на водопой, а однажды я у самой избушки встретил бородатого лося. Я видел их немало, и у каждого на подбородке висит борода-серьга, но чтобы такая! Патриарх какой-то, а не лось.
Сейчас на Чуритандже ни лосей, ни баранов. Только заячьи петли да куропачьи наброды узорятся по снегу. Морозно, тихо и чуть-чуть грустно.
Но в том месте, где Чуританджа прижимается к скалам, все наоборот. Здесь январь проморозил реку до самого дна и пошла она искать выход. Лед трещит, вода урчит, пар поднимается выше скал, наледи разлились до самых вырубок. Какая наледь постарее, та белая или желтоватая, а свежие — зеленые или голубые. Словно Дед Мороз подмешивает в них разноцветных красок.
Чуть ниже скал посередине Чуританджи в небо брызжет фонтан метровой высоты, будто вода кипит в кастрюле. Здесь я с рекой играю в салки. Вокруг скал обходить далеко да и снег там глубокий, а выберешься на реку — только лыжи постукивают по льду. Красота!
Но Чуританджа коварна. То тоненький ненадежный ледок замаскирует инеем, то нагонит под снег целое море воды, а то возьмет да и пустит вдоль берега водяные ручьи.
В прошлый раз я прорвался мимо «фонтана», пересек промоину, а стал выбираться на берег — снег вдруг расступился под лыжами, словно манная каша, и я оказался по щиколотки в воде. Мороз такой, что останавливается дыхание. Мокрый снег мгновенно прикипел к лыжам, и на ногах у меня уже не послушные бегунки, а бесформенные глыбы ноздреватого льда. Еле я выбрался на берег. Развел костер, сушусь и ругаю Чуританджу.
А она клокочет, словно смеется:
— Ну как я тебя засалила?
Сегодня я хитрее. По свежеледью прокрался на цыпочках, ручей обогнул у самых скал, а там, где снег просел от воды, бросился что есть силы. Мчусь и слышу — снег плывет под ногами, но оглянуться некогда. Выскочил на старую, пожелтевшую от времени наледь, а мой след уже залило водой. Но лыжи-то сухие!
Чуританджа прямо кипит от злости. А я смеюсь:
— Ну, кто кого засалил?
Правда, долго не стал смеяться. Мне ведь завтра возвращаться нужно.
О столбе
Есть в верховьях таежной реки Чуританджи длинная и узкая просека. Давным-давно прорубили ее связисты, чтобы только что родившийся среди колымских гор поселок мог разговаривать со всем миром.
Многое передавали провода. Где-то прозвенел первый звонок, открыли золотую россыпь, построили многоэтажный дом. Было и другое: ужасно волнуясь, молодой геолог просил приехать к нему любимую девушку, к кому-то вызывали врача, третий, взбудоражив среди ночи телефонисток, умолял разыскать своего друга Петю, «ну того, что живет в крайнем бараке», и передать ему привет.
Теперь поселок стал знаменитым северным городом и разговаривает по толстому, как удав, спрятанному глубоко в землю кабелю. О старой же линии забыли. Лишь одинокий лось выйдет сюда полакомиться ивовыми побегами да вездесущий соболь протянет по снегу цепочку следов-двухчеток.
Возвращаясь с охоты, я каждый раз останавливаюсь в выстроенной связистами избушке и тогда вдоль просеки тянет сизым дымком. Из окна мне видно излучину реки, с десяток высоких, прикрытых снежными шапками пней и склонившийся почти до самой земли телеграфный столб. Поседевший от времени, с глазницами фарфоровых чашечек и усами свисающих вниз проводов, он кажется мне живым существом. Стоит придавленный годами лесной мудрец и думает нелегкую свою думу.
Когда-то он был стройным деревом. На его ветках пели птицы, присаживались отдохнуть и пожевать красноватой лиственничной коры жуки-дровосеки, лакомился смолистыми почками диковинный зверек летяга. Весной лиственница одевалась в изумрудную, хвою, в злую стужу ее веточки сверкали в кружевах инея.
Вспоминает он и тот день, когда парни-связисты превратили его в сверкающий белизной телеграфный столб, украсили нарядными чашечками, обвешали певучими проводами. Горели костры, звенели людские голоса, до самого перевала рассыпался перестук топоров. С тех пор долго ни днем, ни ночью не знал столб устали, поддерживая тонкие нити проводов.
Помнит ли он все это? Наверное, помнит. Разве можно забыть то, что было с нами в дни юности? Но никому нет дела до его воспоминаний. И не от этого ли клонится он к стылой земле, а в редкие солнечные дни по выбеленным непогодой щекам скатываются слезинки живицы?
Добрая лиственница
Иду по тайге, поглядываю по сторонам. Возле реки дикие олени-буюны раскопали весь снег и открыли целые заросли карликовой березки. Сразу же сюда явились куропатки и принялись наперегонки склевывать почки. Бегают от куста к кусту и все время оглядываются — словно яблоки воруют. Меня увидели, затаились, а сами от нетерпения дергают шеями. Скорей бы проходил, не мешал бегать.
А вот по пробитой вчера лыжне наследила рыжая полевка. Ночью легла пороша, и сейчас по следам я могу проследить, где полевка перебралась через комок снега, где остановилась погрызть колосок вейника, где пробовала выскочить на снежную целину. Всего она сделала три попытки и в каждом месте наскоблила снежные холмики. Но стенки-то у лыжни высокие и каждый раз полевка оставалась ни с чем. Скоро замечаю и самого зверька. Пушистым комочком сидит полевка в снежной канавке и уже застыла.
Подержал ее в рукавице, гляжу, куда бы приткнуть, и вдруг замечаю у подножья ближней сопки россыпь небольших черных шариков. Интересно, а они откуда взялись? Заячьих следов поблизости не видно, олени тоже не проходили. Сворачиваю с лыжни и, проваливаясь в снег чуть ли не по колени, бреду к сопке.
Это россыпь лиственничных шишечек. Шишечки небольшие, чуть коричневые, с приподнятыми вверх чешуйками. Лежат широким полукрутом, и от каждой в сторону сопки хвостик-дорожка. Поднимаю глаза и вижу лиственницу, что посеяла эти шишечки. Она на вершине сопки, в целом километре от меня. Корявая, низкорослая, ветки сбиты на сторону. Но ничего — держится.
Только теперь обращаю внимание на поросль молодых лиственничек, что пробились из-под снега рядом с моей лыжней. Это, наверное, детки той лиственницы. Как и все мамы, она постаралась пристроить своих детей в затишке, а сама мается на юру. Ветер треплет ее ветки, мороз обжигает кору, корням недостает воды, она же все терпит и выполняет главное свое предназначение — сеет шишечки.
И еще по великой своей доброте лиственница выполняет много хороших дел. Гнался за чечеткой сорокопут. Сопка совершенно голая — куда спрячешься? Еще немного — и схватил бы. Да, к счастью, на пути случилась эта лиственница. Чечетка юркнула между веток и затаилась. Остался сорокопут с носом.
Летела стайка розовых с головы до колен щуров, присела на лиственницу отдохнуть, угостилась семенами из шишечек и, весело переговариваясь, полетела дальше.
После щуров к лиственнице завернул заяц. Пощипал выросшей у корней травки, почесался о корявый ствол и оставил на коре клочок белого пуха. Потом этот пух собрала в свое гнездо маленькая птичка овсянка-крошка и согрела им своих птенцов.
Наконец пришел я, подивился доброму дереву и настроение у меня поднялось. А хорошее настроение — это тоже немаловажно.
Одна
На краю широкой вырубки растет лиственница. Собравшийся на ветках снег согнул ее до самой земли, издали и не понять, где у лиственницы корень, а где вершина. Интересно все-таки: в таежной чаще такие вот деревья стоят ровно, как свечи, хотя на них тоже валит снег да и ветер не жалеет. Ну, бывает, обломит ветку или наклонит чуток. Но чтобы до земли!
Я завернул к вырубке, стукнул по согнутому стволу палкой и, боясь, как бы тяжелые комки не полетели на голову, отпрянул в сторону. Снег с шорохом сполз вниз, освобожденная лиственница вздрогнула, немного приподнялась да так, согнутая, и застыла.
А ведь и она когда-то росла в самой чаще, и наверняка ей казалось, что больших врагов, чем стоящие по соседству деревья, у нее нет. Одни колются ветками, другие забирают от корней влагу, третьи еще что-то.
Теперь их всех срубили и увезли. Кажется, расти себе на просторе хоть до самого неба, а ее видишь как свело в дугу.
Бывает, другой человек злой на весь мир. И тот ему плохой, и этот. Одного обидел, на другого сам обиделся, третьего и видеть не тянет. Но чуть беда, те, кто вместе, пошумели, поскрипели да и выстояли.
А он согнулся.
О деревьях
Всю ночь гулял ветер, и всю ночь рядом с избушкой скрипели две переплетенные ветками лиственницы. Сквозняк быстро выдувал из моего жилья все тепло, приходилось через каждый час заглядывать в печку, поэтому я и спал, и не спал. Подложишь дров, заберешься в постель и слушаешь сквозь полудрему, как стонут деревья. Здесь и отчаянный крик попавшего в западню зверя, и гортанное карканье голодного ворона, и плач потерявшего оленуху-важенку олененка-энкена.
Случается, ветер на какое-то мгновенье стихнет, деревья угомонятся, но откуда-то уже накатывается новый вихрь, и мои лиственницы, замученно всхлипнув, снова принимаются голосить на всю тайгу.
Наконец за окошком забрезжил рассвет, и я принялся натягивать валенки, чтобы сходить к реке за водой, как вдруг совсем рядом раздался сильный треск и ухнуло так, что качнулась земля.
Как был в одной рубашке выскочил из своего зимовья и увидел, что мои лиственницы лежат на земле, сцепившись ветками и прижавшись стволами друг к дружке. Казалось, они не хотят расстаться и после смерти.
Только теперь я рассмотрел, что одна из них никуда не годная, с гнилой сердцевиной и источенным личинками стволом. Другая же совсем крепкая, и, если бы не соседка, стоять бы ей еще не одну сотню лет. Мне вдруг стало жаль вторую лиственницу. Это она, чувствуя, что не может удержать соседку, просила, мол, отпусти, не могу больше. Но та не отпустила, теперь обе мертвые.
Не так ли и люди? Сойдутся, переплетут свои судьбы и маются всю жизнь. А сообрази, что не пара и нечего им вместе делать, — глядишь, хоть один да пожил бы.
И… нужно драться
В начале осени возле моей охотничьей избушки поселилась пара молодых поползней. Он был совсем маленький, какой-то взъерошенный и слишком уж куцехвостый. Она — более аккуратная и вела себя как настоящая дама. Правда, одна-единственная желтая пушинка на покрытой сизыми перьями головке выдавала ее, в полном смысле этого слова, с головой. Обычно эти пушинки исчезают недели через две после того, как птенцы покидают гнездо. У этой же остались до осени.
Прилетели поползни рано утром. Она взялась обследовать сваленные под ивами лиственничные чурки, он забрался в консервную банку и с аппетитом доклевывал «Завтрак туриста».
Сижу в избушке, слышу — кто-то звякает банкой, выглядываю за дверь, а там поползни. Она, как увидела меня, произнесла: «Тви-вить!» и быстро убралась на иву. Он же, то ли не поняв ее предупреждения, то ли решив не обращать на меня внимания, продолжал старательно барабанить в донышко. Я даже особо не подкрадывался, просто подошел, наклонился, прикрыл банку ладонью и заполучил поползня в руки. Он пару раз дернулся, тихонько пискнул, потом притих, уставившись на меня черным любопытным глазом. Словно спрашивал: «Ну поймал, а теперь что?» Я вытер с его головы томатный соус и отпустил. Поползень улетел на иву, что-то там возмущенно тювикнул своей подружке, но, стоило мне скрыться за дверью, как оба вернулись к поленнице. Она — обследовать чурки, он — доклевывать «Завтрак туриста».
С тех пор я каждый день видел их рядом с избушкой. Чуть за порог, они тут как тут. То возятся у спрятанного под навесом мешка с продуктами, то исследуют колоду, на которой я чищу рыбу, то гоняют вниз головой по стволам ив. И всегда они в работе. Кедровка, скажем, может от безделья сколько угодно качаться на ивовых ветках, куропатки после завтрака соберутся в ольховнике и до самого обеда переваривают почки, даже оляпка, накупавшись до одури, пристроится у проталины и хоть на минуту, а уснет. Эти же, чуть заморив червяка, принимаются запасать еду впрок. Их потайки можно обнаружить в трещинах ив, за корой полусгнившего пня, в поленнице дров, просто на земле под небольшой щепкой. Устанут запасаться, сядут рядышком: «Тью-вить! Тью-вить!» Спрятать мол, спрятали, а надежно ли? И давай менять потайки. То туда перекладывают, то сюда. Да все дружно, все ладно.
Их припасами пользовались все кому не лень: дятлы, синицы, чечетки и даже рыжие зверьки — полевки. Но поползней это не тревожило. Синицы, значит, клюют с таким трудом собранных поползнями комаров да личинок, а хозяева бегают себе по стволам ив да тювикают. Словно подзадоривают. Ешьте, мол, нам не жалко.
Но вот с живущими по соседству поползнями мира у них не получилось. Несколько раз у избушки появлялась пара других поползней. По-видимому, они лишились своего участка из-за прошедшего по ту сторону реки большого пожара и теперь никак не могли подобрать себе новые угодья. Эти птицы постарше и посолидней и, казалось, готовы были жить с кем угодно в полном согласии, но не тут-то было! С разбойным свистом мои поползни налетели на пришельцев, и возле избушки вспыхнула ожесточенная драка. Крик, писк, пируэты вокруг деревьев, схватки на снегу и в воздухе. И вот уже гости выдворены за реку, а хозяева, потратив какую-то минуту для того, чтобы привести перья в надлежащий вид, словно ничего не случилось, ковыряют пень в компании говорливых синиц.
Ночью поползни отсиживались в дупле, выдолбленном в толстой сухой иве. Когда наступили морозы, я попробовал заманить их в свою избушку, но они даже не подлетели к порогу. Наверное, в дупле им было уютней. Во всяком случае даже в тот день, когда от мороза выкрошился мой топор, а отправившись к реке за водой, я по пути нашел замерзшую чечетку, поползни чувствовали себя превосходно. Бегали по стволу, свистели, как настоящие разбойники, и даже задирали сидящую на лиственнице ястребиную сову…
Сейчас конец февраля. Потеплело. Откуда-то в тайгу налетело много кукш, все чаще в избушке вжикают проснувшиеся не ко времени мухи, на реке появились проложенные кочующими выдрами следы-канавки. А вчера я видел токующего поползня. Возвращаюсь с протоки, где пробовал ловить щук, гляжу — на самой вершине высоченной лиственницы, вытянувшись солдатиком, сидит поползень и рассыпается на всю тайгу:
— Твить-твить-твить-твить! Тью-и, тью-и, тью-и-тью-и-и!
Значит, скоро весна. Не сегодня — завтра живущие возле моей избушки поползни покинут друг дружку и разлетятся в разные стороны. Он будет искать самочку, чтобы устроить с ней семью, свить гнездо и вывести птенцов. Она будет искать самчика.
Так что через месяц или немногим больше в тайге образуются две новые семьи поползней, готовых до последнего вздоха защищать свои гнездовые участки. И очень даже возможно, что ОН и ОНА еще встретятся при разделе территории. А что здесь такого? Она, скажем, вместе со своим избранником облюбует деревья вокруг ручья Аринка, он — ольховниковый распадок. И кому достанется лежащая между ручьем и ольховниками богатая личинками старая вырубка — без драки не выяснить.
Представляю, сколько всего пережито! Вместе добывали еду, вместе мерзли, согревая друг дружку своим теплом, радовали один другого песнями, потом расстались и, кажется, как-то забыли один другого. И вдруг глаза в глаза! Какой комок эмоций, аж голова кругом и… нужно драться.
Рыжий хвост
В конце зимы я подружился с двумя кукшами. Эти красивые и доверчивые птицы жили в нескольких километрах от моей избушки, и я каждый раз встречал их, когда ходил к Соловьевским озерам на рыбалку. Если день был успешным, делился с кукшами уловом, а за это они дарили мне свои незатейливые песенки.
Иду себе тайгой, а птицы летят рядом. Если немного обгонят — усядутся на деревья и поджидают. Да не просто поджидают, еще и тивикают. И так хорошо от того, что кто-то доверяет тебе — даже трудно передать.
Сначала птиц было две. Но как-то утром ко мне навстречу вылетела только одна кукша, и я решил, что вторая попала в когти ястребиной сове. Я давно на нее зуб имею. Сидит себе на лиственнице и то ли греется на солнышке, то ли просто дремлет, не понять. А потом, глядишь, от куропатки одни перья остались. Если бы не следы ее когтей и крыльев, ни за что бы на нее не подумал. Маленькая, невзрачная, куда ей? И вот, пожалуйста, теперь нет кукши. Пожалел я пропавшую кукшу и решил при случае шугануть хищницу из ружья.
Потом вижу, сидит оставленная, как я считал, в одиночестве кукша и держит в клюве мошек. По всему видно, собралась кого-то кормить. Но кого?
Устроился на поваленную лиственницу и принялся наблюдать. Некоторое время кукша сидела и с неподдельным интересом рассматривала лиственничные шишечки, что висели буквально у ее клюва. Наверное, она заметила там что-то очень вкусное, но полный клюв мешал ей достать лакомство, вот она сидела и переживала. Неожиданно птица сорвалась с ветки и, прижимаясь к кустам карликовой березки, направилась к низкорослым лиственничкам, что, сбившись в тесный гурт, темнели в стороне от других деревьев. От моей валежины до лиственничек было далековато, и я не сумел рассмотреть, что делала среди них кукша. Вскоре ее рыжие перышки промелькнули над тропой, и кукша как ни в чем не бывало плюхнулась на стоящую рядом со мной лиственницу. Теперь ее клюв был пуст. Я подумал, что птица наконец-то сможет приняться за лиственничные шишечки, но она явилась только затем, чтобы взглянуть на меня. Склонив голову, она произнесла удовлетворенное «тиву-вить!» и, подпрыгивая в воздухе, улетела за Фатуму.
Я направился к стоящим на отшибе лиственничкам и уже на подходе к ним увидел гнездо. Оно было устроено в развилке низкорослого деревца и хорошо заметно издали. Кажется, в гнезде кто-то сидит. Точно. Из лоточка выглядывает знакомый мне рыжий хвост. Интересно, что она там делает? Может, ночевала и запуталась в подстилке. Случается, вместе со строительным материалом птицы приносят в гнездо различные волокна или волоски, потом запутываются в них и погибают.
Так и есть. Заслышав мое приближение, птица не взлетела, а только втянула поглубже голову и сидит не шелохнется. Гнездо в каком-то метре от земли. Наклоняюсь, беру кукшу в руки и осторожно приподнимаю. В глубоком, вымощенном разноцветными перышками и пухом лоточке лежат два бледно-зеленых, усыпанных буроватыми пятнышками яичка. На острых краях пятнышки пореже, на тупых погуще. Яйца довольно крупные, прямо как голубиные. Мне очень хочется рассмотреть их получше, но сейчас холодно и я возвращаю птицу в лоточек. Она умостилась, несколько раз качнула головой и притихла.
Только теперь замечаю, что кукша, собственно, не рыжая, а скорее всего серо-стальная. Рыжие у нее лишь зеркальца на крыльях да несколько перьев в хвосте. Брюшко, крылья, грудь и шея словно припорошенные пережженной золой. На голове задорным хохолком вздымается черная шапочка.
Сейчас апрель. Всего неделю тому назад утренние морозы достигали двадцати градусов, а эти взялись высиживать птенцов! Сколько брожу по Колыме, о подобном не слышал. Хотя почему же? Ведь налим мечет икру в середине января, а медведица в пятидесятиградусные морозы рожает медвежат. Почему бы не приспособиться и птицам? Стенки гнезда толстые, лоточек глубокий, еды достаточно. Ведь кроме комаров да мошек кукши едят бруснику, голубику, смородину и даже грибы. При случае могут подобрать где-нибудь у реки снулую рыбу и даже заклевать неосторожную полевку.
Пока я любовался кукшей, снег под лыжами потемнел и взялся водой. Наледь! Она уже залила тальники у опушки и теперь добралась сюда. Бедные кукши! Ведь вода может запросто затопить и их гнездо.
Возвращаюсь к тропе и начинаю ломать голову, как бы помочь кукшам? А что, если поднять гнездо повыше? На соседнем деревце, в каком-то метре от гнезда, есть удобная развилка. Наледи, к ней, пожалуй, не добраться. Перенесу туда гнездо, и пусть насиживают себе на радость.
Интересно, как все это у них организовано? Сидят по очереди или одна самочка? Скорее всего второе. Для того чтобы хорошо прогревались яйца, у кукши на брюшке образуется голое наседное пятно. А полураздетым по нашей тайге не полетаешь даже в апреле.
На лиственницу у тропы опустилась уже знакомая мне кукша. Она то ли успела побывать в переделке, то ли начала линять. На правом крыле выбилась белая пушинка, из-за этой пушинки птицу можно узнать даже на приличном расстоянии. В клюве у кукши снова какие-то мошки. Где она их добывает? Повертелась с минуту, затем направилась к гнезду. Я подождал, пока она отдаст еду своей подружке, и, рискуя провалиться в наледь, перенес гнездо с сидящей в нем птицей на новое место…
Около месяца тому назад у меня случилось довольно-забавное происшествие. Вместе с дровами я занес в избушку целый рой комаров. Комары на зиму забрались в середину сухой лиственницы и, сбившись в клубок, уснули. Ничего не подозревая, я распилил эту лиственницу на чурбаки и свалил возле печки. Обычно перед тем, как лечь спать, я пристраиваю на угли два-три неколотых чурбака. Они горят медленно, и их тепла хватает до утра.
Сплю себе, и вдруг перед рассветом что-то в щеку как жиганет. Просыпаюсь и слышу знакомое «у-у-у-у-у-у-у». Комары! Включил фонарик, а их полная избушка. Злые, ужас! Я даже не пытался с ними сражаться, а пригасил печку, открыл дверь на улицу и забрался в спальный мешок с головой.
Утром в избушке прохладно, но комаров ни единого. Гляжу, а они лежат на печке сплошным ковром. До последнего мгновенья, значит, льнули к теплу. Я собрал их в коробку, чтобы похвастаться перед бригадиром, теперь они пригодятся мне угостить кукш. Для них комары в эту пору все равно, что человеку арбуз к новогоднему столу. Добавил к комарам немного брусники, настрогал горстку оленьего и щучьего мяса. Под кормушку решил приспособить вырезанную из огромного гриба-трутовика чашку. Таких трутовиков кукши встречают в тайге каждый день и, заметив один у своего гнезда, не напугаются.
Утром прихватил резиновые сапоги и ушел к кукшам. За ночь наледь не поднялась ни на один сантиметр. Как выглядывали из-подо льда верхушки тальников, так и выглядывают. Даже мой след не залило. Может, я поторопился с этим переселением? Птицы не такие уж и дураки, чтобы лепить гнездо где ни попадя. Им лучше меня знать, куда вода дойдет, а куда нет. Нужен я им со своей услугой.
Вот и гнездо. Все нормально. Рыжий хвост, словно яркий флажок, по-прежнему выглядывает из лоточка. Птица, не мигая, глядит на меня со своей утайки. Лишний раз пугать ее не к чему. Тихонько отступив назад, пристраиваю на соседнем дереве похожий на лошадиное копыто гриб-кормушку, затем прячусь за парой сросшихся лиственниц и ожидаю вторую кукшу.
Ее не было очень долго. Наконец появилась и принялась с тревожным писком гонять по веткам. Сядет на одну, чуть повертится — пурх и уже волнуется на новом месте. Несколько раз она подлетала к самому гнезду, но тут же, словно в испуге, шарахалась от него в сторону и снова кружила между деревьев.
Постой, да она же ищет гнездо со своей подружкой и не может найти! Подобное я уже видел, когда гостил у оленеводов. У них прямо возле стойбища жила оленуха с олененком. Доверчивая до удивления. С ней все приезжающие в гости к оленеводам люди фотографировались. Так вот, ее олененка можно было катать по земле, переворачивать на спину, водить на двух копытцах — никакого беспокойства. Бегает следом и ждет угощения. Стоило же этого олененка поднять на метр от земли, как она его теряла. Переживает, хоркает, носится туда-сюда, ей олененка под нос суешь, а она его в упор не видит. Поставишь на землю — снова успокоилась.
Теперь так и с кукшей. Перенес гнездо на пару метров в сторону, все на виду, а она… Бестолочи! Неужели они не могут перекликнуться между собой? «Тив-тив? Ты, мол, где?» А та ей: «Я здесь. Сижу на новом месте». Да и вообще, почему он не помнит «в лицо» ни своей подружки, ни построенного самим же гнезда? Ведь прошли почти целые сутки, а они не смогли разобраться.
На взволнованный писк кукши не замедлили явиться две кедровки. Они сразу же включились в общую суматоху. Птицы скрипели, как ржавые петли, каркали простуженными голосами, свистели, что самые настоящие дрозды. Наконец одна из них обнаружила мою кормушку, и кедровки дружно принялись за угощение. Встревоженная кукша даже не смотрела в их сторону. Она искала свой дом и не могла найти.
Я не вытерпел, обломком сучка разогнал кедровок и перенес гнездо на прежнее место. Не успел отойти и десяти шагов, как следившая за мною с вершины лиственницы кукша перелетела к гнезду и о чем-то восторженно защебетала сидящей в лоточке птице. Ответила та бестолковому своему кормильцу или нет, я не слышал, а вот по тому, как выглядывающий из лоточка хвост несколько раз качнулся и приподнялся, я понял, что и вторая птица радуется от того, что ее наконец нашли…
Минут через пятнадцать самчик прилетел к гнезду с набитым клювом и принялся кормить изголодавшую кукшу. Я подозреваю, что где-то рядом у него тайный склад, потому что добыть корм так быстро иным путем просто невозможно.
В следующий раз я попал к кукшам через три дня. Виновата наледь. Она разгулялась до самого Лиственничного, и пробиться на Соловьевское можно было только в обход. Правда, я не очень и торопился. У птиц корма, по-видимому, хватает, и рисковать провалиться в наледь не было нужды.
Когда на четвертый день я подошел к тому месту, где жили кукши, то почти его не узнал. Везде, куда ни кинешь взгляд, гуляла наледь. У самой реки она дымилась, урчала, брызгала злыми фонтанчиками. Достигнув деревьев, вода успокаивалась и тихонько струилась между стволов, захватывая новые и новые участки.
Даже не переобувшись в резиновые сапоги, как был в валенках я бросился к кукшам. Одну из них я заметил еще издали. Нахохлившись, сидела она на суховерхой лиственнице тихая и безучастная. Ломая валенками тонкую ледяную корку, добрался до гнезда и пораженный застыл на месте. Вода давно поднялась к самому гнезду и залила его больше чем наполовину. В глубоком лоточке, все так же втянув голову, сидела кукша. Изо льда выглядывал только ее рыжий хвост.
Песни весны
Весенние дорожки
Оттепель. Снег мягко скользит под лыжами и почти не скрипит. Справа от меня темнеет заросшая ольховником и кустарниковой березкой лощина, слева нависла крутая сопка. Еще неделю тому назад над ней была одна единственная заячья тропа да еще по левому скату оставили свой след чубуки, так у нас называют снежных баранов. Сейчас же сопка сверху донизу исполосована тысячью новых дорожек. Виноват кедровый стланик, что растет у самой вершины сопки. Он уже начал подниматься, при этом сбрасывает со своих лап комочки снега, те скатываются по склону, превращаясь на бегу в такие громадные глыбы, что из них впору лепить снежных баб.
После каждого такого комка на сопке остается дорожка. Одна широкая, другая поуже, третья вообще напоминает куропачий след, четвертая — мышиный. Вот прокатился ком с какой-то загогулиной, и на снегу отпечатались глубокие трехпалые следы. Словно здесь гулял страус величиной с хорошего быка. Чуть в стороне три бегущие рядом колеи, будто кто-то очень уж отважный скатился с сопки на трехколесном велосипеде.
Иду по пробитой у самого подножья сопки лыжне и пытаюсь представить, кому могла бы принадлежать та или иная дорожка. Вот прошел «глухарь», чуть дальше проползла «выдра», а вот канавка, оставленная «змеей» или «ужом». Поперек лыжни, прямо в лощину, прошлепал «снежный человек». Нет, скорее «большой медведь». Отпечатки в точности повторяют медвежьи, и даже можно угадать, где оттиснуты пальцы, а где пятка.
Делаю еще несколько шагов и уже начинаю вглядываться в очередную снежную дорожку, как вдруг меня осеняет внезапно пришедшая мысль:
— А ведь лыжню и на самом деле пересек медведь!
Замираю на месте, осторожно оборачиваюсь и сразу же замечаю медведя. Он в какой-то сотне шагов от меня сидит на дне лощины под небольшим обрывом и вылизывает шерсть. Она у него рыжая и местами до того вытерта, что, кажется, мишку подстриг неумелый парикмахер. Теперь медведь забрался подальше от чужих глаз и старается привести свою прическу в более или менее божеский вид.
Вот медведь дотянулся языком до подмышки, хотел было лизнуть ее, да вдруг учуял меня и так с вытянутым во всю длину языком и замер. Варежки ушей нацелены в мою сторону, глаза смотрят вовсю, на свисающем, словно красный флаг, языке комок рыжей шерсти. Никак зверь не поймет, кто это перед ним: человек или обыкновенный пень? Нападать, удирать или оставить все без внимания?
Я стою, затаив дыхание, и даже не моргаю.
Кто кого переглядит? Кто кого перетерпит? Медведь не шелохнется, и я не шелохнусь, у меня свело ногу, у него язык наружу, я терплю, и он терпит.
Прошло кто его знает сколько времени, еще чуть-чуть — не выдержу и выдам себя. Да, к счастью, с сопки сорвался очередной снежный ком и с разбегу влетел в лощину.
Медведь вздрогнул, спрятал язык и повернулся в сторону шума. Я только этого и ждал. Присел, стараясь не скрипнуть лыжами, отполз за выступ сопки, затем еще раз оглянулся и во всю прыть понесся домой.
Лиственничное царство
Лишь спустишься в Буюндинскую долину, сразу попадаешь в лиственничное царство. Высокие и низкие, стройные и корявые, с побелевшими от старости сучьями и совсем юные, лиственницы давно заполонили всю долину, укрыли склоны сопок и теперь, карабкаясь на скалы, рвут корнями их скалистую твердь.
Все, кто хочет существовать в этом краю, должны подчиниться лиственницам. Проложенная через перевал дорога уже на второй год покрылась ершистыми лиственничками, русла ручьев спрятаны в заросли лиственничек покрупнее, даже на серой каменистой осыпи, где, кажется, не вырасти и лишайнику, зеленеют неприхотливые деревца.
Одна река не хочет уступить лиственницам. Более того, стремительный ее поток подмывает нависший над водой берег и вместе с ним роняет стоящие у воды деревья. Те долго кружат у приплеска, словно никак не хотят расстаться с берегом, но все же выплывают на стремнину и, выставив рога-корни, несутся вниз, пугая пасущихся в тальниках лосей и зайцев. И вот уже там, где вчера шумели царственные деревья, бежит река.
Но гляди, на противоположном низком берегу зеленеет поросль молодых лиственниц. Все у них пока очень маленькое. Ствол тоньше карандаша, ветки как спички, сами до того низкие, что не затаиться даже куропачьему выводку. Пройдет немало времени, прежде чем они станут такими же большими, как те унесенные водой деревья. Но ведь — обязательно станут! И никогда не будет их в этой долине меньше, потому что лишь обрушит река кусок заросшего лиственницами берега, тотчас намоет неподалеку полоску новой земли. И поднимутся взамен поверженных деревьев еще более пышные и стройные.
Король умер! Да здравствует король!
Синицы и трясогузка
Весеннее солнце до того жаркое, что щекам горячо. Но с распадка нет-нет да и дохнет промозглым ветром, и тогда не понять, чего же сейчас в тайге больше — тепла или холода?
На шероховатых стволах растущих вокруг моей избушки лиственниц собрались большие серые мухи с обтрепанными крыльями и подтянутыми животами. Они деловито ползают по коре, что-то там изучают, умываются или, сойдясь голова к голове, мирно беседуют. Самые непоседливые вдруг взлетают и, крутнувшись юлой в стылом воздухе, торопливо опускаются на прежнее место. Они видят соседние деревья, слышат жужжание разгуливающих там мух, но лететь страшновато. А вдруг по дороге замерзнешь?
Наконец одна из них срывается и, вихляя в воздухе, мчится к ближней лиственнице. Там долго сидит, переводя дух, затем прихорашивается и отправляется вверх или вниз по стволу знакомиться.
Вечером я пошел за дровами и увидел на снегу россыпь застывших мух. Не долетели…
Над головой суетятся проворные синицы, шуршат лиственничными шишечками, заглядывают под кору, но мух почему-то не трогают. Может, не видят, а может, замерзшие насекомые кажутся им кусочками коры.
Откуда ни возьмись трясогузка. Спина у нее зеленая, голова серая, а живот и грудка желтые. Она сразу же заметила мух и принялась их клевать. И синички заинтересовались поживой, спустились пониже и вскоре присоединились к трясогузке.
А та мышкой бегает по снегу, сердито постукивает хвостиком и не столько ест, сколько цивикает. Наверное, торопится рассказать синичкам о виденных в теплых краях пальмах, попугаях, зубастых крокодилах. Сидите, мол, здесь, а там такое творится!..
А может, она вычитывает им за то, что вокруг столько вкусных мух, а они ковыряются в пустых шишках. Если бы не поторопилась из Африки, могли и умереть с голоду.
Гуттаперчевый снег
Что, если я скажу: «А снег растягивается!»? Честное слово, никто не поверит. И правильно. Он же не резиновый. Я бы и сам не поверил, если бы не увидел все своими глазами.
В прошлом году я к Щучьим озерам всю зиму ходил вдоль ручья. Ручей там небольшой, но бойкий. Не один десяток лиственниц подмыл и уронил на мох. Некоторые лиственницы легли поперек ручья и превратились в мостики. По ним белки, горностаи, соболи из долины в заросли кедрового стланика перебираются за шишками. Несколько раз даже росомаха проходила.
И что интересно. Все звери из долины на сопку переходят по одним мостикам, обратно уже по другим. Правило у них такое, что ли? Вот только белки бегают как попало.
В январе эти мостики от снега становятся раза в три толще. И до того он крепко лежит на деревьях, запросто переезжаешь на лыжах. Здесь главное только не торопиться и не свернуть в сторону. А то ведь запросто загремишь прямо в ручей.
Весна к Щучьим озерам приходит рано. Возле поселка еще ни одной проталины, а здесь уже стланик порскает из-под снега. Особенно интересно после полудня. Тепло-тепло. Снег сочный, рыхлый. Только хочешь переставить лыжу, а стланик из-под нее — щелк! — и выскочил. Отойдешь на несколько шагов, хочешь не хочешь — оглянешься. Стоит на белом искристом поле одинокая зеленая веточка и качается. Пушистая, нежная и немного заспанная. Но все равно радостная. Кажется, так и кричит каждому: «Вот она я! Уже выспалась и теперь хочу поиграть с солнышком!»
Иду я вдоль ручья, здороваюсь с этими веточками и вдруг — стоп! Лежало через ручей одно бревно, а теперь два. Я даже головой завертел — туда ли иду? Потом присмотрелся к бревнам и удивился еще больше. Оказывается, это снег сполз с дерева и висит над ручьем. Толстенная снежная колбасина метров в десять длиной прогнулась чуть ли не до самой воды, и хотя бы что.
Да не просто висит, еще и мостом служит. Горностаи, белки, всякая мышиная мелочь натропили по нему целую дорожку. А вот соболь через снежный мост перескочить побоялся. Потоптался у краешка, даже попробовал его лапой, но передумал и полез по дереву через сучья.
Вот видите, все-таки растягивается снег, а ведь никто не верил.
Весна-а-а!
Апрель. Терпеливо сидим каждый на своем месте и сторожим весну. Я расстелил на льду охапку лиственничных веток, прикрыл их старым брезентом и выглядываю хариусов. Всю зиму они держались в глубоких ямах, а с теплом должны выйти на мелководье. За наживку у меня шустрый таракан, мормышка из настоящего серебра, место самое уловистое — но нет весны и нет клева.
На склонившейся над рекой иве с самого утра маячит кедровка. Самая пора достраивать гнездо, но погода какая-то непонятная. С утра выглянуло солнце, затем поднялся ветер и полетел густой мохнатый снег. Сейчас снегопад как будто стихает, но хлопья стали еще крупнее. К теплу это или к холоду — не понять. Вот кедровка и сомневается: «Строить? Не строить?».
Третьим в нашей компании дятел. Этот прилепился к стоящей у подножья Столовой сопки лиственнице, и я его отсюда почти не вижу, но зато хорошо слышу, что он там делает, и прекрасно понимаю.
Лиственницу у сопки он облюбовал недели две тому назад. Дерево сухое, звонкое, чуть коснешься — гремит на всю тайгу. У дятла давно чешется клюв отбарабанить приход весны, а ее все нет. Вот он и мается не хуже нас с кедровкой. Чуть выглянет краешек солнца — он сразу: «Тук-тук! Весна-а-а!». Но тут же прямо на голову шмякнется снежинка в пол-ладони величиной, и дятел торопливо выстукивает отбой: «Извините! Пока что не весна». Снова потянет теплым ветерком, озорно перекликнутся собравшиеся на вырубке желтобрюхие синицы — дятел рад: «Весна-а-а!». Но опять же, посмотрит вокруг — нигде ни одной проталины, снежные тучи висят над сопкой, а синицы, так те резвились и в самые лютые морозы. «Нет, не весна», — стучит он и стыдливо прячется за ствол лиственницы.
Вот так до самого обеда: я не поймал ни единой рыбешки, кедровка не вплела в гнездо самого тоненького прутика, а дятел то объявлял весну, то отменял. Сам замаялся, и нас замучил.
Не знаю, чем бы все это закончилось, да, к счастью, на самой вершине Столовой сопки проснулась веточка кедрового стланика. Она словно пружина выскочила из-под снега и стрельнула в небо прошлогодней шишкой. Шишка упала на снег, выбила в нем небольшую ямку и покатилась вниз. Через мгновенье она облепилась снегом и стала величиной в мой кулак, к середине сопки достигла размеров хорошо накачанного футбольного мяча, а когда докатилась до подножья — стала огромней самого огромного медведя.
Снежный медведь с шумом протаранил ольховниковые заросли, вспугнув дремавших там куропаток, и, врезавшись в сухую лиственницу, развалился на куски. Удар был такой сильный, что чуть не стряхнул задремавшего было на этой лиственнице дятла. Но тот ничуть не испугался, а даже совсем наоборот — весело чивикнул и сразу же выдал частую и звонкую дробь: — Тр-р-р-р-р! Тр-р-р-р-р! Весна-а-а! Весна-а-а! В ту же минуту стих ветер, прекратился снегопад и из-за туч выглянуло яркое и теплое солнце. Обрадованная кедровка снялась с ивы и полетела достраивать гнездо, а я выдернул из-подо льда серебристого хариуса.
Глухарь и водяное колесо
В верховьях реки Чилганьи есть похожая на лежащего верблюда сопка. Если хорошо приглядеться, можно угадать не только два покатых горба, но и шею, голову и даже брезгливо приподнятую верхнюю губу. К левому боку Верблюда прижимается озеро, а голову обтекают ручьи Витра и Эврика. Дальше простирается широкое болото и щетинятся скальными останцами бараньи отстой.
Давным-давно эти места облюбовали каменные глухари. На болоте всегда родилось много разной ягоды, склоны сопок укрыты зарослями кедрового стланика, вдоль озера и по террасам темнеют густые лиственничники. В таких местах глухарям самое раздолье.
Чуть ниже переднего горба у глухарей токовище. Ранней весной, когда еще нигде ни одной проталинки, а ночные заморозки достигают двадцати градусов, все глухари собираются к этому месту. На заснеженных полянах между закостенелых от холода лиственниц они чертят крыльями канавки-черточки, отмечая таким способом свои токовые участки.
Пройдет неделя-другая, и одну из ночей разбудят гортанные щелчки: «Чок-чок-чок-чок-чок!». В этом чоканье можно угадать звон весенней капели, пощелкивание открывающихся почек, веселый перестук прыгающих по тонкому льду камешков и еще что-то такое, от чего сжимается сердце и пересыхает в горле.
Тихие и робкие вначале щелчки вдруг оживают, набирают силу и рассыпаются с такой скоростью, что сливаются в ликующую трель. Развернув усеянный белыми пестринами хвост и вскинув голову, льет и льет глухарь в темное небо свою песню… Года три тому назад в долине Чилганьи нашли какую-то полезную руду, и спустя недолгое время там вырос большой поселок. Поселившиеся в поселке люди скоро проведали о глухарях и в первую же зиму выбили почти всех. Остальных добрали привезенные людьми собаки.
Когда опять наступил апрель и заблестели наливаясь ивовые почки, к подножью Верблюда прилетел последний глухарь. Какое-то время он токовал на давно облюбованной им поляне, затем снялся и полетел над тайгой. Он минул «шею» и «голову» Верблюда, ручьи Витра и Эврика, обогнул болото и скоро оказался у поселка.
Минувшим днем возле мастерских появился первый ручеек. Перемешанный тракторными гусеницами снег начал таять под теплыми лучами, и расцвеченная маслянистыми разводами струйка воды устремилась к Чилганье. Проведавшие о ручье мальчишки устроили на нем запруду и приладили водяное колесо. Сначала оно вертелось до того быстро, что лопасти сливались в сплошной круг, но к ночи воды стало меньше, и теперь колесо проворачивалось с большой натугой.
— Чвак-чвак-чвак-чвак, — старательно выговаривало оно, поблескивая в темноте мокрыми лопастями.
Эти звуки и услышал глухарь. Опустившись рядом с запрудой, он какое-то время стоял, прислушиваясь к ночи, затем развернул хвост, вытянул шею и бросил в небо частую призывную дробь:
— Чок-чок-чок-чок-чок!
— Чвак-чвак-чвак-чвак, — бесстрастно ответило ему колесо, ничуть не изменив ни частоты, ни интонации.
Глухарь быстрыми шагами обогнул запруду, царапнул крыльями пахнущую соляркой землю и снова рассыпался частым чоканьем:
— Чок-чок-чок-чок-чок!
Обычно так глухарь приглашал на токовище глухарок-капалух, и те не замедляли явиться на его зов. Если даже к этому времени в гнезде глухарки было уже несколько яиц, она прикрывала их сухими стебельками и торопилась к токовищу. Сейчас же в ответ глухарю донесся только далекий собачий брех.
Глухарь опустился на землю и опять затоковал, бросая в пустое, безразличное ко всему небо новые и новые трели. Но его никто не слышал. Всех глухарей вокруг давно выбили, а люди ночью спят.
Наговор
Наверное, нет ничего в мире холодней колымской земли. Май на исходе, с далекого юга возвратились кулики, пеночки и дрозды, а она все прячется под глубоким снегом.
Вчера вечером мы видели летучую мышь. Словно подхваченный ветром обрывок бумаги, голодный зверек кружил высоко над лиственницами. Выбравшимся из щелей комарам и мошкам у земли показалось слишком зябко, вот они и льнули к самому небу. А кожанку волей-неволей пришлось лететь следом за ними. Стою у конца речной косы, греюсь под щедрым весенним солнцем и разглядываю торчащие из-под снега ивовые веточки. Снизу почки у них закрыты крепко-накрепко, а вот у вершин уже раздобрели и выставили наружу желтые пушинки, словно из этих почек и вправду проклевываются цыплята. Через день-два цыплята-почки вылупятся на свет, знаменуя торжество неудержимой поступи весны.
Большой мохнатый шмель покружил у моей головы, басовито гуднул в самое ухо и понесся над косой. Провожаю его взглядом и вдруг замечаю поднимающуюся над тальником струйку пара. Словно там, в зарослях, кипит огромная кастрюля. Бреду по снегу к тому месту и вижу полоску голой земли. Когда-то здесь бежал ручей, сейчас один из его берегов открылся и запарил. Середина проталины уже просохла, а на взгорке выглянул пушистый листок сон-травы. Присаживаюсь у этого листка, опираюсь рукой о землю и неожиданно ощущаю идущее от нее тепло.
Значит, я ошибся и наговорил здесь совершенно напрасно. Это снег холодный и своей стынью не дает разгуляться весне в полную силу. А ЗЕМЛЯ — ОНА ВЕЗДЕ ТЕПЛАЯ.
Трясогузкины сны
Весна. Теплынь. Одна за другой плывут источенные водой и солнцем льдины по спрятавшемуся в тальниковые заросли Хурчану в широкую и полноводную Буюнду. На большой реке гуляет ветер, плещут волны. На маленькой — тихо и уютно. Лишь изредка отзовется вскипевшая у переката струйка да где-то в склонившейся над берегом лиственнице проскрипит кедровка.
На продолговатой льдине, что качается посередине Хурчана, сидит возвратившаяся из далекой Африки трясогузка. Она уже наелась мошек, теперь пригрелась и дремлет. Вода кружит льдину, вместе с нею поворачивается и трясогузка. То одним боком к солнцу, то другим. Хорошо!
Но вот птичий кораблик доплыл до середины большой реки, волны качнули его и трясогузка полетела на поиски новой льдины. Пропустила несколько, на мой взгляд, совершенно замечательных льдин и скрылась за поворотом. Я думал, она улетела совсем, но минут через пять сверху выплыл настоящий айсберг, а на нем знакомая мне длиннохвостая птичка. Пристроилась на самой вершине и спит. Наверное, ей сейчас видятся берега Голубого Нила, отдыхающие в воде добродушные бегемоты и выкрашенные в цвет зари длинноногие фламинго.
Как совсем недавно там, в далекой Африке, снились трясогузке окруженная заснеженными сопками тайга, склонившаяся над рекой лиственница и плывущие по воде ноздреватые льдины.
Перевал
К озеру Алык ведут две тропы. Одна проложена по распадку, другая через перевал. Та тропа, что в распадке, намного длинней, зато по ней легче идти. Шлепай себе по напоенному талой водой мху да поглядывай, чтобы не влететь в лапы отощавшему после зимней спячки хозяину тайги. Выбравшись из берлог, медведи отправляются из Буюндинской долины к нерестовой реке Яме. Там много снулой рыбы, главное же, снег сходит еще в начале апреля. Вот они и торопятся встретить весну чуть ли не на полмесяца раньше. Через перевал дорога короче, но на спуске зима оставила такие крутые снежники, что в самом, казалось бы, безобидном месте можно запросто сломать шею.
Я долго в раздумье стою у развилки: то ли спускаться в распадок, то ли заворачивать к перевалу? Наконец решаю, что медведи страшнее всяких снежников, и карабкаюсь на сопку.
Гребень перевала покрыт ковром колкого ягеля, из которого выглядывают бледно-зеленые лапы кедрового стланика. На чахлых ветках желтеют оставшиеся с осени крупные шишки. Там, внизу, их давным-давно собрали бурундуки и кедровки, здесь же ими почему-то никто не интересуется.
Иду по вершине гребня, грызу орешки и поглядываю по сторонам. Слева от меня северный склон — сивер, справа — увал. На увале весна в полном разгаре. Журчат ручьи, качается поднявшийся в полный рост кедровый стланик, цветут подснежники и даже помигивает крыльями бабочка-капустница. А уж птиц! Зеленые коньки, пеночки, дрозды, горихвостки, кедровки. Тенькают, свистят, перепархивают.
А вот по левую руку самая настоящая зима. Под солнечными лучами искрится снег, темнеют промороженные насквозь лиственницы, на тонких прутиках карликовой березки ни единой набухшей почки. Но и на сивере постукивают дятлы, скрипят кедровки, о чем-то распевает неугомонный поползень. Кажется, чего проще — взмахни пару раз крыльями и перелетишь в весну. Они же никак не догадаются сделать это и маются в холоде и неудобстве. А может, здесь их родина и они терпеливо ждут, когда весна придет и сюда?
Только что к ним присоединилась желтая с головы до ног трясогузка. Возле поселка все трясогузки светло-серые, а эта — что цветок-рододендрон. Прямо горит на снегу.
Рядом с гребнем на небольшом снежнике россыпь невесть откуда взявшихся ногохвосток. Наверное, снежная плешина кажется трясогузке настоящей скатертью-самобранкой. Крестики от птичьих лапок — кружевные узоры, веточки карликовой березки — бахрома, а ногохвостки — мед-пиво и гуси-лебеди, поданные на стол заморской гостье.
А вот на снегу проложенная каким-то зверьком дорожка. Следы мне совершенно незнакомые. У белки они гораздо крупнее, у полевки мельче. Дорожка огибает куст кедрового стланика и, не дотянув до сухой дуплистой лиственницы какого-то шага, исчезает. В этом месте на снегу отпечатки широких крыльев и клочок светло-коричневой шерсти. Бурундук! Захотел прогуляться из весны в зиму и попал в когти к сове.
В конце гребня темнеет небольшая скала, сразу за нею начинается крутой спуск. Пробую валенком, крепок ли наст, последний раз гляжу на залитый солнцем южный склон и, улегшись на живот, качу прямо в зиму.
Сережки
Снег залежался, и только в начале июня у реки появились первые проталины. Кусты карликовой березки заблестели, словно умытые, но раскрывать почки не торопятся. Зато весь тальник оделся в серебристые сережки. На одних ветках они раздобрели под щедрым солнцем и уже выбросили желтые тычинки, на других — только начали открываться и напоминают выглядывающие из форм праздничные куличи.
Над ожившей рекой носятся два больших черных ворона. Они что-то не поделили и орут на весь мир. В кустах мышкой снует серая пеночка, чуть дальше на сухой лиственнице токует кулик-улит. Покружив немного над деревом, он пытается пристроиться на тонкую, почти невидимую отсюда веточку. Это у него не получается. Улит так отчаянно кричит и трепещет крыльями, словно вот-вот свалится на землю и убьется.
Я насобирал дров, развел костер рядом со старым пнем и присел на этот пень отдохнуть. Скоро из-под коры вылез рыжий паук с желтыми ногами, пригрелся у моего огонька да так и задремал. Я отгреб угли в сторону — не угорел бы с непривычки.
Откуда ни возьмись муха. Длинная и серая. Крылья у нее обтрепаны, живот подтянут к самой спине, грудка покрыта какой-то плесенью. Муха села на носок сапога и принялась охорашиваться. Почистила плоское брюшко, грудку и начала умываться. Но тут с ревом налетел шмель, и она бросилась наутек. Шмель даже не обратил на муху внимания, а стал проверять по очереди все ивовые сережки. Улетать не торопился, но вместе с тем делал вид, что мой костер ему ни к чему.
Позже всех прилетел комар. Гудя, словно он маленький вертолет, покружил у моего костра, отогрелся и, вместо того чтобы сказать спасибо, подкрался к уху и засилил в него длинный хобот. Я махнул рукой. Комар с перепугу шарахнулся прямо в огонь. Я думал, он сгорел, но комар все же выровнялся и полетел прочь, жалуясь всем встречным, как его здесь несправедливо обидели.
Песни весны
Это только кажется, что соловей поет от великой радости. Мол, весна пришла, тепло, хорошо. Как здесь умолчать? На самом деле он своей песней всем соловьям-соперникам подает знак. «Тветь-тветь-тветь-тветь! Тев-тев-тев-тев! Не подходи! Не подлетай! Мой лес! Моя поляна!» И чем громче да забористей поет такой забияка, тем быстрее явится к нему соловушка. За таким отважным да голосистым соловьем она будет как за каменной стеной.
Дятел не умеет петь, зато барабанит здорово: «Тр-р-р-р-р! Вот какой я сильный! Тр-р-р-р-р-р! Поколочу, кого только пожелаю!» И что же. Глядишь, а рядом уже сидит подружка. Голову набок склонила и любуется своим суженым.
Каждую весну, как только откроются первые проталины, отставляю в сторону все дела и тороплюсь в тайгу. Еще на ветках ни одного листочка, еще на реке синеет толстый лед, а все равно весна пришла. По тропинке бежит-погулькивает веселый ручей, налетающий с распадка ветер колышет ивовые сережки, у самого уха зудит голодный комар.
Но главное, конечно, птицы. Несмотря на голую тайгу и лежащий вокруг глубокий снег, поют-заливаются, аж звон в ушах.
У реки над старой ивой токует зеленый конек. То жаворонком завьется в высокое синее небо, то, выписывая плавные круги, устремится к земле, а то начнет подпрыгивать в воздухе, словно расшалившийся жеребенок. И все время: «Тир-тир-тир…»
На реке у самого приплеска весеннюю песню исполняют зуйки-галстучники. Для этого случая они надели белые рубашки, черные галстуки и узкие очки-полумаски. Словно вырядились на самый большой праздник. Правда, песня получается у них не очень-то радостной. Посидят какую-то минуту рядышком, затем: «Пиу-пиу!», переместятся метров на десять в сторону и снова притихли. Нахохлились, спины сгорбили, словно и не весна на дворе.
Но вот и цель моего путешествия — темнеющая среди большой затканной ягелем поляны лиственница. Ветки у нее начинаются у самой земли, поэтому издали лиственница похожа на огромный куст. И на этом кусте-дереве целый птичий хор. Одна птичка поет у вершины, другая чуть пониже, и еще две пристроились на боковых ветках.
«Пью-пью-пью-пью! Тля-тля-ля-ля-ля-ля!» — разливается серебряными колокольчиками над тайгой весенняя песня удивительной красоты. Это самые звонкие солисты нашей тайги — пеночки.
Но почему они поют вместе?
А кто их знает? Может, сообща им легче охранять свои гнездовья, а может, и на самом деле песня у этих маленьких лесных птичек для красоты, для радости, для весны.
Песни горного конька
Место, где Чилганья сваливается на гряду высоких порогов, пастухи-эвены называют Аринктанджа. Аринка — значит «черт», танджа — «бусы». Получается — «Чертовы бусы».
Здесь и на самом деле веет нечистой силой. Грохот падающей воды, густые снопы поднимающихся над порогами брызг, мрачное ущелье, куда уносится вспененная порогами Чилганья.
Зато в ямах возле порогов держатся крупные хариусы, а иногда удается выудить и пятнистого линка.
Еще в тайге глубокий снег, и, добираясь сюда, я почти не снимал лыжи, а на Аринктандже настоящая весна. Словно маленькие мохнатые шмели, обсели ивовые ветки распустившиеся почки, у воды пробивается густая осока, над головой зудят голодные комары. На выросшей в стороне от других деревьев лиственнице токует горный конек. Весь какой-то по-особому подтянутый, на тонких высоких ножках, с темными пятнышками на крыльях, он виден мне до последнего перышка.
С минуту конек поет, сидя на верхушке лиственницы, затем взмывает высоко в небо и, описав крутую горку, возвращается на прежнее место. Чуть посидит, покачает головой, подергает хвостиком и снова устремляется ввысь.
Мне хочется услышать токовую песню этой птицы, но сколько ни прислушиваюсь — ничего не выходит. Вижу, как раскрывается и закрывается клюв, как топорщатся перышки под клювом, сама же песня начисто растворяется в шуме порогов. Иногда напор реки как будто стихает, еще чуть-чуть — и песня пробьется ко мне, но тут же грохот воды наваливается с такой силой, что мне не услышать даже собственного голоса.
Я промаялся с полчаса и махнул рукой. Наверняка это молодая, не сумевшая подобрать более тихого места птица. Будь у конька хоть какой-то опыт, обязательно поселился бы подальше от порогов и тогда его песня звенела бы на всю тайгу. И самому хорошо, и другим приятно.
В это время на один из выглядывающих из воды камней, чуть ли не в самый фонтан брызг сели две оляпки. Согласно так покачали хвостиками, что-то чивикнули друг дружке и, прошивая зависшие над порогами радуги, унеслись в ущелье.
Здесь меня и осенило. А ведь поет-то конек совсем не для меня. Лично я в этом деле ни с какой стороны. Все — и песня, и пируэты в воздухе, и весенний наряд токующего конька — предназначены его самочке, что вот-вот прилетит из далекой Африки. А уж она-то сумеет присесть рядом с ним так близко, что услышит всю его трель до последнего коленца, и даже как-то там полюбить конька за то, что выбрал для своей песни столь необычное место.
Тропинка на память
Звезды в колодце
Однажды в детстве я услышал, что если спуститься в очень глубокий колодец, то и в самый солнечный день можно увидеть звезды. Меня это очень взволновало, и всякий раз, когда в нашей деревне копали или чистили колодец, я приставал к вымазанным в земле мужикам с просьбой опустить меня в колодец. Те отмахивались и советовали не путаться под ногами. Но однажды, когда я принес им полную пазуху груш-медовок из нашего сада, меня посадили на привязанное к веревке сидение от косилки и опустили на самое дно колодца.
Прежде всего меня поразило, что я ничуть не ощутил глубины. Казалось, стою в конце очень высокой поставленной на землю трубы и, если проткнуть ее перед собой, то окажешься на улице. Поэтому-то мне ничуть не было страшно.
Главное же, что я не увидел никаких звезд. Там, наверху, белел небольшой круг неба, на фоне которого угадывалась голова одного из спустивших меня в колодец мужиков, и больше ничего. Разочарованный, я ушел от колодца и потом нигде никому не говорил, как хотел увидеть днем звезды и что из этого вышло.
Вспомнил я об этом лет через двадцать, когда впервые попал на север. Была светлая полярная ночь. На небе не проглядывало ни единой звездочки. Машины шли с потушенными фарами, а на гребне нависшей над дорогой сопки можно было пересчитать все лиственницы. В ожидании автобуса я сидел у обочины и читал книжку. Помню, все время меня не оставляло восторженное чувство: «Надо же! Ночь, а я читаю книжку! Рассказать маме — не поверит».
Автобуса долго не было. К утру погода стала портиться, подул ветер и с севера наползли темные низкие тучи. Они в полчаса закрыли и небо, и лиственницы на вершине сопки, и саму сопку. Стало сумеречно и неуютно. И вдруг над головой открылся небольшой просвет, и на нем сразу же проглянули яркие звезды. Я легко узнал и Малую медведицу с Полярной звездой на хвосте, и туловище Дракона.
Наверное, все-таки были правы те, кто рассказывал мне о виденных со дна колодца звездах. Я же не разглядел их тогда лишь потому, что мой колодец оказался недостаточно глубоким.
Таежная история
На спуске к Мулканским озерам лежит большой белый камень. Рядом с ним растет похожий на ежика куст кедрового стланика. У этого куста всего лишь три коротких ершистых лапки, но хвоя такая же темно-зеленая и ароматная, как и на больших кустах.
Как-то я присел у камня передохнуть и, пока отдыхал, попытался разгадать историю этого кустика.
Года три или четыре тому назад возвращался от озера рыбак и, как и я, решил сделать здесь привал. То ли его слишком уж заедали комары, то ли просто рыбаку захотелось почаевничать — этого точно сказать не могу. Знаю, что рыбак остановился здесь надолго. Развел костер, достал из рюкзака котелок и принялся готовить чай. Об этом мне рассказали прибитое дождями кострище и оставшийся от заварки полуистлевший кусочек фольги.
Пока рыбак собирал дрова, кипятил воду, чаевничал, запах лежащей в рюкзаке рыбы пропитал весь мох под рюкзаком. Этот запах и привлек медведя, что шел через перевал, может, на второй, а может, и на третий день после того, как здесь побывал рыбак. Голодному зверю показалось, что подо мхом спрятана рыба, и в ее поисках он выкопал приличную яму. Ничего, конечно, он не нашел, обиженно рявкнул и, растревоженный рыбным ароматом, заторопился к недалекому озеру.
Осенью неугомонная кедровка спрятала в медвежью покопку целую горсть орешков кедрового стланика. Но попользоваться ими не смогла. Виноваты бараны. По самому гребню проходит их тропа, и они часто заворачивают к камню почесаться. Даже сейчас на острых гранях темнеют вычесанные из теплых шуб шерстинки. Следы снежных баранов остались и на медвежьей покопке. Сами того не желая, бараны притоптали орешки, и когда кедровка прилетела за ними, не смогла отыскать ни одного.
Часть орешков съел горностай, часть сгрызли рыжие полевки, но один все же сохранился и пустил росток. Короткий, ершистый, так похожий на зеленого ежика. А через год выросли еще две лапки, и иголок стало куда больше.
Вот и вся история маленького куста кедрового стланика, что зеленеет на спуске к Мулканским озерам.
У подножья сопки этого стланика целые заросли. Кусты большие, разлапистые, и у каждого своя история. Только узнать их нам уже не суждено.
Запах весны
В начале июля, когда жимолость готовилась одарить людей первыми ягодами, вдруг захолодало и пошел снег. Крупные липкие хлопья, словно притомившись, торопливо падали на открывшуюся теплому лету землю, и, казалось, не будет им конца. Непривычно и как-то боязно было смотреть на выглядывающие из-под снега золотистые рододендроны, согнувшиеся под его тяжестью зеленые тополиные ветки, стайку острокрылых ласточек, промелькнувшую в белой кисее.
Только Голубое озеро не приняло зимы. Чуть коснувшись его, снежинки мгновенно превращались в дождевые капли и бесследно исчезали в водной глади. И не от этого ли к концу дня как раз над озером солнце пробило пелену туч и затопило все своими лучами?
Озеро вспыхнуло мириадами зайчиков, а зависший на траве и деревьях снег приобрел розовую окраску.
Близился вечер, солнце было на излете и грело всего лишь чуть-чуть. Но и этого тепла оказалось достаточно, чтобы под лиственницами зазвенела капель. Освобождаясь от снега, ветки хлопали друг о дружку, наполняя тайгу легким шорохом. Сорвавшись с вершин, маленькие комочки падали вниз и сбивали новые, более крупные комки. Казалось, с деревьев осыпаются тяжелые перезревшие плоды.
С распадка дохнул теплый ветер, и сразу же ему отозвался первый ручеек. Словно опомнившись, тучи торопливо уплывали за сопки, открывая высокое голубое небо.
И вдруг на стоящей у самого озера лиственнице запел самчик пеночки-веснички. Время его песен давно прошло, в затаенном среди веток ольховника гнезде его подружка выгревала желтопузых птенцов. В эти дни все птицы ведут себя тише воды ниже травы, а этот запел.
С его песней в воздухе вдруг запахло весной. Откуда он взялся, этот запах? Ведь минуту тому назад его не было, хотя вот так же звенел ручеек, веял теплый ветер и с веток срывались крупные капли.
Я замер, стараясь запомнить его и угадать, откуда он идет. Сейчас я наконец узнаю, что же пахнет весной. И вдруг все стало понятно. Запах источал тающий снег. Удивительно нежный и пряный, он щекотал ноздри, заставляя биться сердце и навевая добрые мысли. Правда, он не мог жить сам по себе. Для полного его звучания нужны были звон капели, лепетание первого ручейка, дыхание теплого ветра и вот эта песня пеночки-веснички.
Корешок
На самом берегу реки Ингоды рядом с кучей мертвых деревьев зеленеет выброшенная половодьем ива. Ствол ее пригнут книзу, вершина обломлена, местами от коры остались одни лохмотья. Бедному дереву давно бы погибнуть, да случилось так, что один-единственный корешок сумел зацепиться за землю и, работая за десятерых, поит его. По всему видно, ива чувствует себя не так уж плохо. Она не только выпустила листья, а даже гонит новые побеги и те радостно шумят на ветру, совсем не задумываясь, кому они обязаны своим рождением.
К счастью, ива попала на самый наволок — то место, куда Ингода вот уже сколько лет выносит песок, и скоро все корни тоже спрячутся под ним. Тогда они дружно примутся за работу, и даже в таком неудобном положении ива сможет дожить до глубокой старости.
И все это время, ничем не выделяясь и ничего не требуя за то, что в трудную минуту сумел спасти попавшее в беду дерево, вместе с другими корнями будет трудиться и наш корешок.
Да ему ничего и не нужно. Лишь бы шумели над ним листья, лишь бы тянулись к небу новые ростки, лишь бы чувствовать свою причастность к их счастливому лепету.
И не от того ли, что никто и ничто в природе не ждет за свой труд ни благодарности, ни награды, она существует в такой красоте и гармонии?
Хариус и бабочка
К концу лета вода в Горелых озерах становится до того прозрачной — диву даешься. Порыбачишь пару дней — и все дно изучишь, со всеми рыбами перезнакомишься.
Недалеко от скалы в водорослях любит прятаться молодь хариуса. Водорослей много — целый сад. Они заполнили толщу воды снизу доверху. Рыбки находят в них тысячи лазеек, а вот поднимающиеся со дна пузырьки газа запутываются. Со временем пузырьков набирается столько, что весь подводный сад всплывает и газ с клокотанием вырывается на свободу.
Чуть дальше на дне желтеет газета. Глубина метра четыре, а я сумел прочитать написанное крупными буквами: «Петух в телятнике» и даже рассмотреть картинку. Правда, большего прочитать не смог. Любопытно было бы узнать, что делал петух в таком неподходящем для него месте?
Метров через пять глубокий провал. В нем бьют родники, и хариусы почему-то обходят их стороной. Кажется, ухоронка лучше не придумаешь, но за все это время я не видел там ни одной рыбки.
А вот чуть в стороне настоящая рыбья дорога. По утрам хариусы спешат по ней на жировку к дальней отмели, вечером возвращаются. Но крупная рыба появляется здесь редко. То ли ее пугает близкий берег, то ли она не желает плавать в одной компании с хариусами-недомерками.
Если плыть, придерживаясь правого берега, то у похожей на сторожевую башню скалы плот окажется под затопленной ивой. В ее ветках любят отдыхать хариусы-«медвежатники». Толстые, угрюмые, неторопливые. Меня они совершенно не боятся, но и на спущенную прямо в их стан мушку не обращают никакого внимания. Разве какой-нибудь чуть отодвинется, когда утяжеленная свинцовым грузом мушка стукнет его по заспанной морде.
Я промаялся над «медвежатниками» целый день и наконец подобрал к ним ключик. Оказывается, время от времени один из этих хариусов покидает убежище и выходит на промысел. Сделав неторопливый круг над ивой, «медвежатник» на минуту замирает, соображая, что же ему делать дальше, затем всплывает к самой поверхности и принимается за охоту. Он крадется по озеру, не оставляя без внимания даже самой маленькой мошки. Кроме насекомых по озеру плавают парашютики одуванчиков, пушинки иван-чая, хвоинки лиственниц. Все заметит, все обследует своим носом, везде оставит след-бурунчик. Случается, присевший на воду комар пытается спастись и взлетает. Тогда хариус выпрыгивает из воды, раздается всплеск, и насекомое исчезает в прожорливой пасти…
До десяти утра я рыбачу на отмели, затем перегоняю плот к охотничьей тропе хариусов-«медвежатников». Сижу, прихлебываю чай из закопченной консервной банки и поглядываю на озеро. Вскоре у плота появляется пара хариусов-мизинчиков. Первый чуть покрупнее, второй совсем малыш. У малыша на верхнем плавнике черное пятнышко. Я подбираю на плоту слепня и бросаю в воду. Мизинчики делают вид, что испугались, и шарахаются под бревна, но потом дружно нападают на кровососа. От азарта они часто выпрыгивают из воды и раздается всплеск, словно на озеро упало несколько дождинок.
Наконец у скалы-башни вскипел бурунчик, за ним другой, третий. «Медвежатники»! Стараюсь угадать момент, когда разыгравшаяся рыбина окажется на расстоянии броска, и отправляю мушку ей навстречу.
Полчаса назад этот хариус отворачивался от слепня и даже от густо нанизанных на тончайший крючок комаров, сейчас же с восторгом устремился к изготовленной из медвежьей шерсти обманке. Накололся раз, другой, но все равно не успокоился, пока не оказался у меня в сумке.
Я уже выудил двух «медвежатников», когда над плотом закружила бабочка. Может, ее привлек запах банки со сладким чаем, заинтересовала плавающая рядом с плотом яркая конфетная обертка или она просто устала и решила отдохнуть. Сначала она присела на сумку с рыбой. Но только что пойманный хариус шевельнулся, бабочка взлетела и принялась искать место по-надежней. Носок сапога, банка с чаем, камень-якорь, лиственничный сук. Везде посидела, покачалась. Нет, все не то. Теперь ее внимание привлекло бамбуковое удилище. Она обследовала его сверху донизу и опустилась мне на руку. Как раз на большой палец. Чуть повозилась, сложила крылья и притихла.
Увлекся бабочкой и прозевал хариуса. Он успел обследовать все пушинки плеса и, отсалютовав хвостом, направился к скале. Хотя это был самый настоящий «медвежатник», я даже не расстроился: «Плыви на здоровье да скажи спасибо бабочке. Если бы не она, не миновать тебе моей сумки».
Только я так подумал, бабочка взлетела и понеслась у самой воды. Вот она минула островок всплывших водорослей, пересекла подводное ущелье и заиграла над спасенным ею хариусом. Раздался всплеск. Сбитая рыбиной бабочка отчаянно затрепыхалась на воде. Хватаю шест, чтобы помочь ей. Но плеснуло еще раз, и в том месте остались только полукружья разбегающихся волн.
Танцующая тучка
Возле Горелого озера живет больше тысячи моих знакомых. Хвастливый куропач с черной уздечкой у клюва, отставшая от перелетной стаи краснозобая гагара, похожая на ястреба-перепелятника кукушка и дружная компания комаров-звонцов.
Есть там и другие птицы и насекомые, но знакомые мне или нет — угадать трудно. Скажем, трясогузки. Вчера их было три, сегодня — две. Те самые или новенькие — даже не представляю. Все бегают, все постукивают хвостиками.
Я, наверное, смог бы познакомиться и с подружкой куропача — небольшой серой куропаткой, что поселилась в зарослях карликовой березки, да слишком уж она недоверчива. Выглянет на какое-то мгновенье и сразу же исчезает, словно и нет ее. Сначала куропатка сидела на яйцах, теперь возится с цыплятами.
Почти возле каждого растущего у озера стебелька можно встретить комара-пискуна. В отличие от комаров-звонцов пискуны пребольно кусаются, и после встречи с ними на лице, шее и руках остаются хорошо заметные следы. Услышав меня, пискуны торопливо выбираются из травы и с радостным подвыванием кружат над головой, норовя пристроиться то на ухо, то где-то у глаза. За дружбу с ними нужно платить кровью, поэтому все их попытки сблизиться со мною я преследую увесистым шлепком, после которого от претендента на знакомство остается мокрое место.
Самые интересные среди моих знакомых — безобидные и дружные комары-звонцы. Вернее, не комары, а комарихи. К тому же не просто комарихи, а невесты вместе со сватьями и дружками.
Живут они у старого кострища, что темнеет на берегу озера. Когда холодно, звонцы отсиживаются в траве, но стоит чуть распогодиться, собираются над давно остывшими головешками и заводят веселый хоровод.
Я не понимаю по-комариному ни одного слова, но о чем они поют — знаю. Это свадебная песня, с помощью которой они скликают разлетевшихся по распадку комаров-женихов. Если ее петь в одиночку, то дальше обгорелого куста не услышит никто. А вот так, хором, — звенит на всю тайгу.
«Поют» звонцы крыльями. Чем чаще комарики машут ими, тем песня звонче. Молодые комарики-дружки выводят свою партию слишком высоко, старые свахи — глухо, комарики-невесты — в самый раз. Явившиеся к кострищу комары-женихи ни на дружек, ни на свах не обращают внимания. Но те и не в обиде. Попели, потанцевали, и то ладно.
Налюбовавшись звонцами, я прихватил удочку и заторопился к плоту рыбачить. Гляжу, а комариная тучка оставила кострище и летит следом за мною. Сообразили, что над моей головой им будет теплее, и решили попутешествовать. Я к берегу — и они к берегу, я на плот — и они туда же. Плыву по озерку, а комары пляшут сверху. То собьются в плотную шапку, то вытянутся в струйку, а то вдруг подпрыгнут так высоко, что не достать и удилищем.
Сначала я даже обрадовался. В компании-то рыбачить веселее. Но вдруг солнце спряталось за тучи, потянуло холодным ветром, звонцы прильнули к плоту и кинулись искать спасения на моем лице, в волосах, за воротником. Часть звонцов уселась прямо на мокрые бревна, и даже самая маленькая волна грозила смыть их в озеро. Гляжу, а рядом с плотом заплескались небольшие, но очень проворные хариусы. Учуяли поживу и уже тут как тут.
Недолго думая, я подогнал плот к берегу и, стараясь не растерять остатки комариной тучки, возвратился к кострищу. Там лег у самых углей, подождал, пока звонцы переберутся на старое место, и на четвереньках возвратился к озеру.
Гагара, что как раз вынырнула неподалеку, очень удивилась, увидев меня в столь необычной позе. Она захлопала крыльями и восторженно закричала:
— Уа-ак! Уа-ак!
То ли она хвалила меня за то, что возвратил домой заблудившихся танцоров, то ли ругала, что лишил любимых ею хариусов вкусной поживы? Из ее крика я совершенно ничего не разобрал. Я ведь и по-гагарьему не понимаю ни одного слова.
Солнце и цветы
От Земли до Солнца 150 миллионов километров, но каждая травинка, лишь только проклюнется, сразу же начинает тянуться к нему. Ее гнет ветер, бьют дожди, случается, наступит ногой зверь или человек, а она все равно тянется и тянется. Глядишь, уже и поднялась на целый метр, а то и выше.
Но никогда ни одному стебельку не дотянуться до солнца. Слишком уж мал прирост, и слишком высоко солнце. И падают по осени обожженные холодом травы, отдав все силы своему устремлению, чтобы с новой весной опять ринуться ввысь.
И все без толку.
Но посмотри, как красивы цветы! Яркие, нарядные. Каждый цветок — что небольшое солнышко. Люди давно заметили это и дали многим из них самые что ни на есть солнечные имена: солнцецвет, жарок, подсолнух, горицвет.
И все от того, что, если кого любишь по-настоящему, к кому тянешься, на того и похожим стать хочется. А если очень хотеть, очень стараться, то обязательно получится.
Утро или вечер?
У нас на севере в теплую летнюю пору наступает такое время, когда ночи почти не бывает, а солнце заходит там же, где и всходит. Кажется, можно запросто перепутать утро с вечером. Ну и что здесь такого? Порыбачил, прилег у костра отдохнуть, затем проснулся — солнце как раз над Столовой сопкой. Взошло оно или садится — непонятно. Хочешь не хочешь — запутаешься.
Я же не ошибся ни разу. Дело в том, что утром птицы поют не так, как вечером, по-разному пахнет трава, журчат ручьи, даже комары и те кусаются неодинаково. Не видя никаких явных различий, я четко улавливаю их своим подсознанием и уверенно говорю: «Смотри, какое теплое утро!» или: «Вот и вечер наступил!».
Если же усну в комнате, куда не доносится ни пение птиц, ни шум ручья, ни звон комаров, то запросто перепутаю все на свете.
Со мною это уже бывало. И не раз.
Первый полет
Недалеко от моей избушки в толстой разлапистой лиственнице поселилось семейство дятла желны. Из окна хорошо видно, как дятлы по очереди ныряют в дупло, как, покормив малышей, вылетают оттуда и каждый раз бросают под деревом капсулу помета. Дятлы очень похожи друг на дружку, только у самчика шапка поярче, и еще — она не так криклива, как он. Правда, когда появились малыши, он кричать почти перестал и даже там, где нужно бы подать голос, предпочитал обходиться клювом. Дятлы никогда не забираются в дупло вдвоем. Может, там и без того тесно, а может, у них вообще так принято — не знаю. Однажды она задержалась возле птенцов, а дятел успел слетать за кормом и возвратиться к лиственнице. Как-то там выяснив, что квартира занята, он приклеился к стволу чуть пониже дупла и несколько раз стукнул клювом. Словно спросил, можно ли войти? Тотчас из дупла выпорхнула самочка, а он нырнул кормить малышей…
А вчера наступило время вылета птенцов. Деревья со стороны дупла давно спилены, и для того, чтобы перебраться на ближнюю лиственницу, малышам нужно было пересечь всю вырубку.
Взрослые дятлы кружили у дупла и криком подбадривали самого смелого птенца, что выглядывал из дупла и никак не мог собраться с духом. Еще вчера чувство страха перед простирающимся за дуплом миром довлело над желанием попробовать крылья и птенец даже не помышлял о полете. Но сегодня желание попробовать крылья и отправиться в этот самый мир почти сравнялось со страхом. Вот они и качались, как чашечки весов, туда-сюда, туда-сюда. Лететь — не лететь, лететь — не лететь.
Наконец наступил миг, когда чувство страха уступило желанию лететь. Птенец отважно бросился вниз, оперся крыльями о воздух и полетел, полетел, полетел…
Шиповник и пни
Когда-то вдоль дороги росли толстые лиственницы, их спилили, и на месте деревьев долго маячили черные пни. Со временем сердцевина у них выгнила, бурундуки, полевки и лесные мыши натаскали туда семян шиповника, и в одну из вёсен прямо из пней поднялись толстенькие бледно-зеленые ростки. Сверху донизу они, словно только что родившиеся ежата, были покрыты короткими мягкими иголками. Года три на эти ростки почти никто не обращал внимания, только пауки развешивали на них свои легкие паутины да иногда в поисках поживы по стебельку пробегал головастый лесной муравей.
Но прошлым летом кустики вдруг зацвели и словно вдохнули в давно мертвые пни новую жизнь. Над крупными яркими цветами загудели шмели и мошки, нежный аромат цветущих роз поплыл над вырубкой, и даже поднявшиеся по вырубке молодые лиственнички казались стройнее и выше.
Все, кто проходил мимо, останавливались и долго с благоговейным восторгом смотрели на таежное чудо. Теперь заброшенная лесовозная дорога казалась им аллеей парка, а черные полусгнившие пни — дорогими вазами.
Доверчивость
В темном лиственничном лесу береза заметна издали. Кора белая, листья светлые — попробуй спрятаться! А она прячется, еще и как прячется. Есть на Старом плесе целая березовая роща, а всего два или три человека в ней и побывало. Я сам открыл ее неожиданно. Говорили, где-то у Старого плеса стоит охотничья избушка. Ее, мол, еще Кадацкий построил. Жил в этих краях знаменитый рыбак и охотник. Вот я и хотел найти его избушку.
На попутной машине добрался до плеса и начал искать. Полдня затратил, перемерял все болотины, пересчитал все кочки, но так и не нашел зимовья. Зато наскочил на эту рощу. Оно даже не роща, а так: темнеет небольшая бочажина, с одной стороны в нее втекает ручеек, с другой вытекает, и вокруг бочажины штук двадцать берез. Стоят себе кружком, глядят в воду, словно любуются. Да интересно так стоят. Большая береза, маленькая, снова большая и снова маленькая. Хоровод да и только.
Лишь в одном месте пусто. Как раз там должна бы стоять маленькая березка. То ли сама не выросла, то ли срубил кто? Я даже пень поискал, но ничего не нашел и представилось мне, что это березы-красавицы водили вокруг бочажины хоровод, а одна взяла и убежала тайгу посмотреть. Теперь заблудилась, ходит одна среди хмурых лиственниц, аукает сестриц-подружек.
Полюбовался я стоящими вокруг бочажины березами и говорю им:
— Что же это вы, красавицы, прячетесь от людей? Шли бы к дороге или куда на видное место. Пусть все на вас смотрят, все радуются.
Молчат березы, только круглыми зубчатыми листьями шелестят тихонько.
Я напился из ручейка воды, еще немного отдохнул у берез и ушел к дороге. И вот там, у самой обочины, я увидел ту березу-беглянку. Вернее, не всю березу, а оставшийся от нее метровый пень. Вершину у березы кто-то срубил на топорище. Ехал на машине, остановился и срубил. Хозяин! Знает, что березовое топорище самое отменное, вот и срубил.
А может, он казнил эту березку за то, что к людям вышла?
Родничок
На самом спуске к Горелым озерам как раз среди тропы пробивается родничок. Серьезный, страх! Обычно голос у родничков звонкий, веселый, этот же ворчит, словно старый дед: «Бум-бурум, бум-бурум».
Здесь же, на тропе, разлилось озерко в суповую тарелку величиной. Вода в нем прозрачная, дно усыпано желтыми песчинками. Из-за этих-то песчинок озерко далеко видно, будто солнце играет на тропе.
Как-то в сторону озер прошел медвежонок. Где ступил ногой — там след. На болоте небольшие залитые водой ямки, на косогоре — пальцы пересчитать можно, а в озерке заметны даже коготки. Я, как увидел этот след, насторожился. Обычно такой малыш не гуляет в одиночку, встретиться же с мамашей — радости мало. Кто знает, что у нее в голове? Но ничего, обошлось.
Дня через два, как только прошумел теплый июньский дождь, я прихватил удочки и снова отправился к озерам. Вода давно размыла все следы, словно никакого медвежонка здесь и не было.
Подхожу к серьезному родничку, гляжу, а в озерке отпечатана медвежья лапка. Четкая-четкая, будто медвежонок прошел здесь какой-то час тому назад. Хорошо просматривается круглая пятка, чуть дальше развернулись веером небольшие пальчики, у каждого пальчика оставил свою бороздку коготок.
Вот она какая, вода! В одном месте все следы уничтожила, в другом сберегла, словно на память. Мне даже представилось, как дождевые капельки солдатиками выплясывали над этим следом, а достать не смогли.
Постоял я у озерка, полюбовался отпечатком медвежьей лапы, а потом вдруг взял да и поставил рядом свой сапог. Пусть, мол, вода посторожит и мой след.
Кедровка, что наблюдала с ближней лиственницы, аж подпрыгнула от возмущения. Смотрю на нее, слушаю, а что кричит, не пойму. Может: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней!», а может, ей обидно, что не сообразила раньше меня оставить свой след рядом с медвежьим.
Росинки
Чаще всего роса выпадает в ту пору, когда под деревьями стоят густые тени и только уханье совы да крик зайца будят уснувшую тишину. Свершается все быстро и совсем незаметно. Только что ходил проверять поставленные на налимов жерлицы и трава была совершенно сухой, а через каких-то полчаса вымочил брюки выше колен.
Конечно же, ночью от росы никакой радости. Скорее наоборот. Сыро, зябко, неуютно. Росинки же терпеливо висят на траве и ждут своего звездного часа — ждут солнца. Лишь оно взойдет, каждая вспыхнет, что настоящая звездочка, рассыпет вокруг мириады колючих лучиков, отразив в себе и деревья, и реку, и даже высокое небо.
Только с солнцем к росинкам приходит настоящая жизнь. Но оно же скоро и убьет их. Посветило час-другой, и уже качаются да качаются на ветру совершенно сухие травинки, словно никакой росы и не было.
Ан нет. Вот под корягой, что выставила из осоки свои рога-корни, притаилась целая семейка выпавших ночью капелек. Не захотели рисковать собой, не стали выставляться на солнце и сохранились. Пусть в тени, пусть в неуютности, да и отражают в себе не деревья, реку и небо, а одни гнилые сучья, но все равно до обеда продержались. Хитрые росинки, расчетливые.
Наверное, найдется человек, которому эти росинки по душе. Мне же больше нравятся те, сгоревшие на восходе солнца. А эти что? Только плесень развели.
Цветы и мухомор
Вторую неделю льет дождь и так всем надоел, что даже гагара вылезла на берег и спряталась под корягу. Поникли ветки кедрового стланика, волнами легла вдоль тропы пышная осока, раскисший мох чавкает под ногами, словно квашня.
Поднявшийся же у медвежьей покопки куст иван-чая горит так ярко, словно на дворе самое вёдро. Он, конечно, тоже устал от дождя, но не унывает и упорно тянется розовым султаном к спрятавшемуся за тучами солнцу.
Чуть в стороне раскрылся самый красивый цветок севера — рододендрон золотистый. Его тонкие, очень широкие лепестки до того нежны, что их может смять даже дождевая капля. Но как ты их спрячешь, если в любую минуту может выглянуть такое долгожданное солнце? Вот он и развернулся под проливным дождем во всей красе.
Иду по тайге и всюду замечаю устремившиеся навстречу солнцу цветы. Белоснежный тысячелистник, голубая герань, скромная камнеломка. Снова иван-чай, и снова рододендрон золотистый. И все к солнцу, к солнцу, к солнцу.
Чу! У самой тропы гриб мухомор. Шапка у него совсем осклизла, сам еле держится на тонкой ноге, но вид довольно бравый. Тоже тянется вверх и тоже к солнцу.
Память
Стланик — самый близкий родственник высокой и стройной кедровой сосны. Когда-то ее росло в наших краях очень много. Но похолодало, и она вымерзла. А стланик устоял. Правда, в борьбе со стихией он потерял могучий ствол и стал уже не деревом, а кустарником. От былой красоты у него осталась одна хвоя. Роскошная, ярко-зеленая, душистая. Поэтому-то кедровый стланик бережет свой наряд, как ни одно растение в мире. Зимой прячет под снег, весной поднимает к солнцу.
Лет пять назад за Буюндой загорелась тайга. Стланик там рос буйный. Более пышных кустов я, пожалуй, нигде и не встречал. Пожар печенегом прошелся вдоль сопок, оставив за собою черное пепелище. Пока народ подняли, пока добрались — поздно. На обгорелом ягеле торчат голые, покрученные огнем ветки да дымится несколько валежин.
Долго-долго стояли люди, в бессильном отчаянии глядя на пожарище. Потом Паничев — лесничий наш — отвернулся, махнул рукой и говорит:
— Поехали, что ли? Не могу смотреть, как они к небу руки тянут. Словно проклинают кого или пощады просят.
Он так и сказал «руки», а не ветки или стволы. И никто его не поправил. Слишком уж яркой и жуткой была ассоциация…
Стланик выгорел начисто. Не осталось и хвоинки. Но где-то там, внутри покрученных и обожженных веток, остались нетронутые огнем живые струны. Осенью они пригибали голые ветки к земле, а весной поднимали к солнцу и держали так, чтобы каждая хвоинка искупалась в ярких лучах, вдохнула свежего ветра, умылась живительным дождем…
В детстве я жил в украинской деревне, и был у моего отца друг. Он еще в войну с белофиннами потерял ногу. И с тех пор, когда ложится спать, то место, где была нога, накрывает двумя одеялами. Мерзнут у него пальцы на правой ноге и все. Стынут так, что криком кричи. Пока не укутает, не уснет. А нога-то по самое бедро отрезана…
Ручей и деревья
В самом верховье Алыкчана, там, где долину пересекает оленья тропа, растет толстая лиственница с похожей на панцирь черепахи корой. Между ее корней пробивается едва заметный ручеек. Вода в нем до того светлая, что можно пересчитать на дне все песчинки, а гоняющий напередогонки с водомерками жук-плавунец кажется ртутным шариком.
Какое-то время ручей струится вдоль оленьей тропы, затем поворачивает к заросшей пушицей и диким луком каменной гряде. Эта гряда тянется до самого перевала и издали похожа на стадо улегшихся на отдых баранов. И исчезнуть бы ручью среди серых гранитных глыб, как уже исчезли там десятки других ручьев, да, к счастью, на его пути встречается роща невысоких, но очень ветвистых ив. Тесно стоящие деревья прижали ручей к самой сопке и отвернули в сторону от гряды.
Дальше ручей бежит в окружении деревьев и ни на минуту не расстается с ними. Ивы купают в нем свои ветки, тополя укрепляют сыпкие берега, лиственницы защищают от срывающихся с сопок лавин и оползней. В весеннюю пору деревья собирают ручью всех птиц и зверей, летом прикрывают от жаркого солнца, осенью украшают желтой хвоей и багряным листом, зимой хоронят от злых метелей.
Ручей в свою очередь ласкается к деревьям, щедро поит водой, а когда те, сбросив зеленый наряд, погружаются в зимний сон, украшает в кружева из серебристого инея.
Так и бежит ручей в обнимку с деревьями не один десяток километров, и, кажется, вернее дружбы не сыскать.
Но кончается каменная гряда, ручей принимает в свое русло Целый каскад других ручьев и ему вдруг становится тесно в окружении деревьев. Все стремительней несется он по долине, с шумом плещет в берега, безжалостно подмывает корни растущих у воды ив и тополей.
Вконец разъярившись, ручей принимается обрушивать берег, роняет в воду и уносит прочь вырванные с корнями когда-то так дорогие ему деревья. Вот он сминает последний стоящий на его пути лиственничный островок, вырывается на простор и… попадает в болото.
Теперь его окружают заросшие мхом и осокой кочки, среди которых то там, то сям белеют стволы выброшенных им же деревьев. Вода в ручье напоминает крепко заваренный чай и отдает тиной. И уже не бежит он, а тихо стекает между топких берегов, и никто кроме жирных пиявок да липкого гнуса им не интересуется.
К счастью, болото скоро кончается. Вырвавшись из него, ручей долго кружит по долине, словно никак не может прийти в себя.
Теперь его русло пересекает голую пустыню, лишь приторно пахнущий багульник да кустики чахлой голубики ютятся на низких берегах.
И только неподалеку от того места, где ручей впадает в Чилганью, встречается первая роща. Она очень большая, эта роща, и даже издали слышен пересвист собравшихся в ней птиц. Среди стройных лиственниц проглядывают кудрявые вершины тополей, чуть в стороне зеленой кипенью волнуются ивы.
Ручей оживает, радостно всплескивает водяными струями и во всю прыть устремляется к роще. Еще чуть-чуть — и он нырнет под надежную и так привычную сень деревьев, прильнет к их корням, пожалуется, как скучно и одиноко ему было среди пустой долины. И, конечно же, он покается в том, что так неразумно поступил с теми уничтоженными им деревьями. Теперь он никогда не уронит на землю и единого.
И вот, когда до цели остается совсем немного, когда к ручью уже доносится запах лиственничной хвои, на его пути вдруг вырастает цепь высоких скал. Ручей вскипает от обиды, из всей силы бьется в гранитную преграду, мечется и кружит, пытаясь отыскать хоть самый узкий проход.
Но все тщетно. И его раскаяние, и попытки пробиться через скалы. Те прочно стоят на месте и не хотят пустить ручей к деревьям, а может, просто не верят ему.
Лисий секрет
В весеннее половодье выбросило на завал лисицу. Худая, грязная, лежала она на осклизлых бревнах и почти не дышала. Как она попала в реку — неизвестно. Может, затопило остров, на котором была ее нора, а может, просто хотела переплыть на другой берег, ее и закрутило течением.
Увидели эту лисицу дорожники и забрали в свой вагончик. Отогрели, угостили молоком, консервированной свининой и вообще ухаживали, как могли. Она сначала дичилась, потом привыкла. Стала брать из рук рыбу и даже разрешала почесать за ухом. Дорожники отвели ей угол под нарами, поставили ящик наподобие собачьей конуры, выделили две миски. Одну под воду, другую для еды.
Неожиданно в ящике обнаружили трех лисят. Когда они родились, не заметил никто. Сидят себе дорожники, обедают. Лисица здесь же, угощается хариусами. Вдруг слышат, что-то запищало в ящике. Бригадир туда, а там лисята. И что интересно, лисица не проявила никакого страха за своих детей. Зверь все-таки. Скажем, медведица своих детей даже не показывает отцу-медведю — съест. Волчица целый месяц не подпускает к малышам волка, а ведь он в это время кормит и ее, и детей. Эта же, когда ее детей вытаскивали из ящика, даже на зарычала. Стоит и смотрит спокойно, словно хвастает: «Вот видите, какие у меня дети!»
Так они и жили в одном вагончике. Люди и звери. И никто никого не обижал. Когда дорожники на работе, лисица от малышей ни на шаг. Придут домой, она сразу же на охоту. Полевок в том году развелось много. Крупные, упитанные. Час-другой поохотилась и сыта…
Лисята уже открывали глаза и стали показываться из ящика, когда в гости к дорожникам завернул их знакомый рыбак и охотник Лобов. Полюбовался он зверьками, а потом просит:
— Продайте их мне, а? Я хорошо заплачу. За каждого щенка по двадцать рублей, а за нее все пятьдесят. Вы скоро закончите ладить мост и уедете. Куда они вам? Да и запах от них. А на вырученные деньги можете закатить пир на весь мир или купить хороший приемник. Ваш-то хрипит — слов не разобрать.
Все, конечно, запротестовали:
— Ты с ума сошел. Она с доверием, а ты ее на воротник!
Дорожный мастер Колька Рак тоже запротестовал, но иначе:
— По двадцать — это дешево. Вот если по тридцать — можно бы и подумать. В конце концов я ее первый нашел и в вагончик доставил. А насчет приемника ты прав, только нам нужен такой, чтобы и пластинки крутил. И вам нечего упираться. Не за здорово живешь музыку слушать будете…
Вечером они поговорили, а утром глядь: нет лисы. В ящик сунулись — тоже пусто. Лисица ночью унесла всех малышей в тайгу. Рак с Лобовым искали-искали, без толку. Может, время пришло уходить лисе от людей, а может, она как-то там поняла их разговор. Не знаю.
Нина
Когда-то очень давно у богатого ягелем озера голодная росомаха съела вырезанный из моржовой шкуры аркан-маут. Прочный, длинный, с медным кольцом на конце. Этим маутом пастухи эвены ловили ездовых оленей, что убежали от стойбища к самому озеру. Отвернулись на какой-то час, а маута нет. Даже кольца не осталось. Только росомашьи следы узорятся на припорошенном первым снежком берегу.
Пастухи выругали хитрого зверя, пригрозили при первой же встрече снять с него шкуру и возвратились к оленям.
Уже давно нет той росомахи, и пышную шерсть ее разнесли по гнездам дрозды и чечетки, а озеро до сих пор кличут Маут. Даже на картах так обозначено. Там и другие названия есть. Реку, у которой встретили диких оленей-буюнов, зовут Буюнда, а ту, что с голубыми, как крупные бусы, плесами, — Чуританджа. Если кто по-эвенски понимает, тот сразу переведет: «Чуританджа» — низка бус…
Бродили по Буюндинской долине изыскатели. Устали, оголодали и, конечно же, первый встретившийся на пути безымянный ручеек нарекли Голодный. Известно, голодной куме хлеб на уме. Но хлеб в походе испечь трудно, а вот галушки сварить можно. Было бы муки побольше да кастрюля поглубже. Поэтому-то следующий ручей наименовали Галушка. Вкусное название, сытное…
Однажды я рыбачил в тех краях и встретил пастуха-эвена. Тот сидел у костра-дымокура, кипятил чай и поглядывал на плещущееся у самых ног озеро. Оно не так чтобы очень большое, но до того аккуратное — диву даешься. Берега гладкие, ровные, трава на них бархатная, чуть выше белой канвой тянутся кусты цветущей спиреи.
Отдохнул я рядом с пастухом, выпил две кружки чая и, когда принялся за третью, спросил, как зовется это озеро.
— Нина, — ответил он сквозь зубы, потому что как раз откусывал кусок сахара.
— Вот это здорово! — обрадовался я. — Наверное, среди изыскателей был кто-то влюбленный в девушку Нину. Увидел озеро, сразу ее вспомнил и записал: «Нина». Представляю, какая она красавица! Волосы светлые, глаза голубые, ресницы…
— Не-е, — покачал головой мой собеседник. — Нина — это деревянное блюдо, на которое выкладывают вареную оленину. Его из тополя делают. Приготовят полную кастрюлю, вывалят на блюдо, немного подождут, пока пар сойдет, и едят. Вкусно!
— Блюдо-о? А я-то думал…
От обиды даже чай не допил. Размотал леску и принялся удить хариусов. Ветер в этом месте тянет от берега. Пустишь «мушку» по воздуху, она летит игривым комариком чуть ли не до середины озера. Хватай, хариус, не зевай!
Когда я вытянул из воды второго стригуна, на стоящую у берега лиственничку опустилась небольшая серая птичка с темными пестринами на груди. Посидела с минуту, стараясь угадать, стоит ли ей опасаться замученного комарами рыбака, затем приспустила крылья, чуть подала вперед голову да звонко так: «Нина! Нина! Нина!»
От неожиданности я чуть не уронил удилище. Хариус теребит «мушку», а я на него — никакого внимания. Стою и думаю, кто же на самом деле назвал вот так это озеро? Бродяги-изыскатели, пастухи-эвены или эта птичка?
А может, все вместе?
Мой заяц
Не секрет, что я отношусь к охотникам довольно доброжелательно и, повстречав какого-нибудь обвешанного оружием и патронташами бродягу, желаю ему ни пуха ни пера.
Но вот мне случилось наткнуться у Хитрого ручья на зайца. Молодой лопоухий зверек сидел в зарослях иван-чая в каком-то метре от меня и испуганно косил и без того косым глазом. Он все еще надеялся, что я его не вижу, и удирать не торопился. По щеке у него ползал небольшой черный жук, его усы путались в усах зайца, зверек мужественно терпел такое неудобство и только подергивал носом. Я присел перед зайцем на корточки, посочувствовал ему и отправился дальше.
А когда осенью увидел собравшегося на промысел охотника, глянул на него очень неприязненно и, если бы это было можно, отобрал бы у него ружье. И все только потому, что там, на своей охоте, он мог подстрелить моего зайца.
Река
Буюнда еще в истоке показывает свой характер. Разрезая каменистую лощину, стремительным потоком несется она через перекаты, вскипая у порогов и завалов.
Вода в ней холодная, и донный лед лежит в ее верховье до конца июня.
И уже потом, превратившись в широкую полноводную реку, Буюнда не теряет своего задора. Подмывает деревья, роняет высокие берега, а то возьмет и поменяет русло. Перенесет для этого с одного места целую гору песка, нагромоздит высокие завалы и вот уже катит новой дорогой, пугая своим грохотом лосей, медведей и прочий таежный люд.
Есть у реки при всей ее силе и неукротимости и какая-то особая доброта. Принимая в свое русло новые ручьи и речки, она на мгновенье приостанавливается, кружит на месте, как бы давая им чуть пообвыкнуть, приноровиться к ее течению, а затем опять катит стремительно и неудержимо.
Всякий раз, вбирая в себя ручьи и реки, она вбирает и их чистоту, звон струй, плеск рыб — все, чем полнились они по пути к ее берегам, и становится от этого еще светлее и краше.
Но вот за одной из излучин она встречает грязную, болотного цвета и запаха реку Гербу. Наша река возмущается, даже чуть вспучивается, словно хочет отодвинуться от Гербы, и долгое время в общем русле текут две совершенно непохожих реки. У правого берега светлая, у левого — грязная. В одной плавают рыбы, ползают личинки поденок и веснянок, купается светлогрудый воробей-оляпка. В другой же реке в любую пору мутная безрадостная пустыня, словно там вообще не вольная вода.
И все-таки, как бы Буюнда ни силилась, а от Гербы ей не уйти. Сначала почти незаметно, а потом все больше и больше смешивают они свои воды, и километрах в пяти от слияния уже бежит мутный, от берега до берега, поток, и не отыскать в нем ни одной светлой струйки.
Не так ли и другой человек? Встретившись с грязью, возмущается, протестует и, кажется, никогда не смирится с окружившим его болотом. Но со временем все же смиряется, привыкает и уже почти не замечает когда-то так испугавшей его грязи.
А может, и сам становится таким?
С черного хода
Сразу за излучиной, там, где из Чилганьи выглядывают оставшиеся от старого моста сваи, есть небольшая заводь. Вода в ней словно подкрашенная аквамарином, дно песчаное, между редких водорослей играют тугие родники. Из-за этих-то родников заводь не замерзает в самые трескучие морозы.
Хариусу или линку здесь спрятаться трудно, зато краснопузым гольянам и бычкам-подкаменщикам самое раздолье. Гольяны целый день толкутся среди водорослей, а бычки-подкаменщики отсиживаются, конечно же, под камнями, лишь время от времени проскакивая из одной схоронки в другую.
Кроме бычков и гольянов в заводи обитают личинки ручейников, а летом можно встретить водомерок и жуков-гребляков.
О заводи знают все живущие неподалеку птицы и звери. При случае они заворачивают сюда, отчего весь берег истроплен их следами.
Чаще других бывает здесь оляпка. Она подлетает к заводи со стороны Чилганьи, с ходу плюхается в воду и скоро выныривает с ручейником в клюве. Хлестнет склеенным из песчинок домиком о камни, вытряхнет из него личинку и с аппетитом проглотит. Чуть посидит, словно соображает, что же делать дальше, и… отправляется в воду за новым ручейником.
По утрам к заводи заглядывает вечно голодный мартын. Его интересуют гольяны. Но проворные рыбки знают, чем грозит встреча с этой птицей, и напередогонки прячутся в водоросли, а мартын улетает ни с чем. И все же, случается, он вдруг спикирует на воду, хлопнется о нее грудью и взлетает уже с гольяном.
А однажды я видел, как здесь охотилась водяная землеройка-кутора. Небольшой темный зверек с белым низом и похожим на хобот носом. За какую-то минуту землеройка съела двух ручейников, поймала гольяна и вытащила из-под камней головастого бычка. Меня кутора ничуть не испугалась. Скорее наоборот — услышав, как плеснула вода под сапогами, развернулась и, оставляя за собой цепочку воздушных пузырьков, приплыла узнать, не подойду ли ей в качестве поживы?
Еще вчера я встречал у заводи следы кулика, выдры и даже американской норки. Чем они занимались здесь, можно только догадываться, но ни рыбок, ни ручейников после их гостевания особо не убавилось.
Казалось, так будет всегда, но как-то прихожу к заводи и вижу — гольянов осталось совсем немного, а ручейники исчезли совсем. По следам хорошо заметно, что кроме трясогузок и зайца здесь никого не было. Правда, оляпка и мартын обычно садятся на камни и никаких следов не оставляют, но не могли же они за три дня выловить всю живность.
Немного растерянный иду вдоль заводи и неожиданно там, где она сливается с Чилганьей, замечаю крупного налима. Сунувшись головой в камни, он лежит на самом виду, такой же серый и крутобокий, как и они. Сначала мне показалось, налим неживой. Но тот вдруг завозил похожим на толстую плеть хвостом, и я понял, что налим просто застрял на перекате.
Я подскочил к рыбине и в один мах выбросил на берег. Налим несколько раз свернулся и развернулся, тряхнул жабьей головой и выплюнул на траву помятого гольяна. Скоро из широкой пасти вылетел еще один гольян. Только чуть поменьше. А следом показался бычок-подкаменщик. Похоже, этот налим перебрался ночью через перекат и так наелся, что обратно протиснуться уже не мог. Теперь лежит на берегу и плюется рыбой.
Так ему и нужно! Залез с черного хода и всех обворовал: оляпку, мартына, землеройку и даже меня. Представляю, как он здесь разбойничал. Глаза в темноте блестят, рыбьи хвосты лезут из пасти, ручейники трещат на зубах, а он жрет и жрет…
Я поднял налима за облепленный травою и листьями хвост, щелкнул пальцем по ставшему дряблым животу и понес домой варить уху.
А если это любовь?
Раньше мне тоже казалось, что из всех живых существ лебеди — самые верные друг другу. Да и может ли быть иначе? Ведь они словно созданы для любви.
Она — воплощение нежности и изящества, он — настоящий рыцарь. Стройный, сильный, внимательный. Нет ничего удивительного, что эти птицы не могут жить в разлуке. Даже песня такая есть. Кто-то застрелил лебедушку, так лебедь поднялся под облака, сложил крылья и ударился оземь.
Теперь скажите, могут ли любить вот так же пищухи? Это зверюшки такие, почти с кулак величиной. Мордочки у них, как у зайцев, а все остальное мышиное. В прошлом году мы ремонтировали мост возле колонии пищух и я наблюдал за этими зверьками с утра до ночи.
Больших истеричек и представить трудно. Мы возимся себе с бревнами метрах в пятидесяти от них, не кричим, руками не размахиваем, а у них паника. То выглянет из-за одного камня, то из-за другого, да все сторожко, все с опаской. Наконец самая отважная продвинется в нашу сторону на несколько шажков, но тут же как заверещит и изо всех ног в камни. Там тоже тревога. Пищат, свистят, прячутся в дальние отнорки.
С чего им быть такими нервными? Ну пройдет по дороге трактор, прошумит машина. Так ничего же им не угрожает, никто за ними не гонится.
А отношения у них какие? Мы не видели ни разу, чтобы две пищухи хоть пять минут посидели рядышком. Выскочит из норы, скусит три-четыре стебелька и наутек. Только и того, что, встретившись на тропинке, обнюхивают друг дружку, словно иначе не могут признать.
И нужно же случиться, что одна из пищух попала под автомашину. И все из-за своей нервной натуры. Ведь собирала траву совсем в стороне от дороги. Ей бы немного переждать, она же стала метаться и угодила под колесо. Нам, конечно, жалко пищуху, но, откровенно говоря, сейчас было не до нее. На этой же машине мы должны ехать домой, а шофер куда-то опаздывал.
Утром возвращаемся к мосту, а рядом с раздавленной пищухой — еще одна. Толстая, взъерошенная, сидит нахохлившись и ни на кого не обращает внимания. Машина подъехала совсем близко, сигналит, а она как глухая. Шофер вылез из кабины, носком сапога откатил пищуху в сторону, только тогда смог проехать.
Глядим, а пищуха снова направилась к погибшей подружке. Подошла, обнюхала трупик и застыла. Здесь, конечно, начались всякие разговоры. Это, мол, супружеская пара, она погибла, а он теперь переживает. И вообще, шоферу можно было бы хоть немного смотреть под колеса. Такой человека задавит, не оглянется…
Наш бригадир подошел к нахохлившейся пищухе, бережно пересадил ее в шапку и отнес за ручей. Через воду, мол, не переберется. Но не тут-то было. Скоро зверек снова появился на дороге. Мокрый и от этого еще больше взъерошенный.
Тогда мы больше не стали его трогать, а оградили дорогу ветками, чтобы шоферы объезжали стороной.
До самого вечера сидела пищуха возле своей подружки. В полуметре ездят машины, грохочет бульдозер, а она даже не оглянется. Когда стало темнеть, кто-то из шоферов смял ненадежную защиту и вторая пищуха тоже погибла под колесами автомашины.
Возрождение
Раньше у Горелого озера была густая тайга. Заберешься туда на рыбалку и с утра до ночи слушаешь птичьи песни. А те знай стараются: свистят, сипят, тивикают. Аж звон в ушах.
Самое же удивительное, что каждой птице было отведено свое время. Будили меня кедровки с кукушками, умывался я с куликами и трясогузками, завтракал с дятлами и синицами. Только кукши не признавали никакого расписания и могли завести свой концерт когда им вздумается.
Но все равно чужой песне эти рыжехвостые птицы не мешали. Глядишь, сидят себе на ветках и свистят, что самые взаправдашние синицы, или вдруг примутся вплетать свои голоса в токовую песенку зеленого конька. Удивление на этих пересмешниц да и только.
Но случилось, кто-то оставил на берегу озера костер и тайга выгорела до Снежного перевала. С тех пор там тишина. И хотя избушка у озера сохранилась и хариусы клевали по-прежнему, рыбаков там поубавилось. Да и какой интерес рыбачить в такой пустыне? Мертво, тихо, неуютно.
Недавно мы ехали к реке Чилганье и остановились на ночевку у Горелого озера. Тайга вокруг него уже начала отходить от пожара. Между обугленных деревьев то там, то сям проглядывали молодые лиственнички, шелестели листьями кусты ольховника, кивал розовыми султанами вездесущий иван-чай. Где-то задорно тенькала синица, свистел поползень и кричал дятел-желна. Словно человек после долгой и трудной болезни, тайга училась говорить.
Качай-молочай
Я возвращался от наледи, где наблюдал за дикими оленями, и случайно вышел на небольшое, засеянное овсом и бобами поле. Овес только начал выбрасывать метелки, зато бобы расцвели белыми, розовыми, фиолетовыми цветками. Казалось, на поле опустилась стая разноцветных бабочек. Те бабочки, что не нашли удобного стебля на поле, перелетели к меже и устроились на кустиках багульника, голубики, карликовой березки.
Иногда среди метелок овса проглядывали так знакомые с детства и в то же время непривычные здесь, на севере, сурепка, осот, конопля, кустики щирицы. Эти растения прибыли сюда «зайцем» вместе с семенами овса и бобов. Но ничего — прижились. Некоторые издали напоминают небольшие деревца, значит, длинный полярный день им на пользу.
А это что? Передо мною небольшое, очень похожее на осот растение, только без колючек и несколько светлее. Что-то очень знакомое, а что — признать не могу. Отрываю краешек длинного широкого листа, гляжу, как в месте разрыва собирается молочная капелька, и тотчас зачесались ладони, а в голове зазвенело:
Качай-молочай, Приходи к нам на чай. Тебя в поле Бык заколет, Пойдешь в лес — Волчок съест. И на море Будет горе. А у нас Все горазд…Как мы любили тебя, молочай! Трудные послевоенные годы. Давно закончились свекла и картошка, в доме ни крошки хлеба, а до нового урожая еще ждать и ждать. И тогда мы отправлялись в поле собирать пастушью сумку, козлобородник, конский щавель, кислицу и еще, наверное, добрый десяток трав, названия которых я уже и не помню.
Но больше всего мы любили молочай. Нужно было отыскать его где-нибудь у межи среди зарослей вьюнка и осота, оборвать чуть прохладные листья и долго катать в ладонях сочащийся молоком стебелек, обязательно напевая при этом:
Качай-молочай, Приходи к нам на чай…Пели ровно десять раз. Только после этого можно было есть ставший мягким и сладким стебелек.
А как старательно мы считали! Это теперь лишь малыш научится загибать пальцы, его торопятся продемонстрировать всем дядям и тетям. Он пыхтит, тужится, сбивается и по нескольку раз начинает сначала, уже и сам не рад, что связался с этим делом.
Мы же учились не сбиваться со счета, качая молочай. Нам хотелось есть, а голод, как известно, не тетка. Вот и усваивали мы азы арифметики почерневшими от молочая ладонями.
«Качай-молочай… раз… Качай-молочай… два…»
Теперь батоны и булки нередко выбрасывают в мусорные бачки. Недавно я сам слышал, как расцвеченная бантами девочка, не пожелав брать к супу хлеб, заявила: «А меня от хлеба тошнит». Сегодня никого не прельстит эта когда-то лакомая нам трава. Значит, уже никто и не споет: «Качай-молочай, приходи к нам на чай. Тебя в поле бык заколет…»
Так и умерла песенка. А когда умирает песня, всегда немного грустно.
Принцессы и королевства
Был теплый летний вечер. У дороги цвели заросли иван-чая, легкий ветерок доносил от них запах меда, а над вырубкой, что начиналась сразу за обочиной, кружили муравьиные принцессы. В пышных юбочках, с тонкими талиями и прозрачными крылышками взмывали они высоко в небо, пролетали над поднявшимися среди пней молодыми лиственничками и словно таяли в вечерней сини. Их было так много, что издали казалось — там, за лиственницами, нерадивый рыбак оставил костер и над вырубкой струится дым от этого костра.
Я продрался через иван-чай, нырнул в лиственничник и увидел высокий почерневший от времени пень. Вся его верхушка была облеплена крупными черными муравьями. В основном здесь были приготовившиеся к вылету самцы и самочки. Между ними суетились обыкновенные рабочие муравьи. Крылатые муравьи какое-то время неторопливо ползали по срезу пня, щупали усиками щели и выступы, словно никак не решаясь оставить его, а может, просто прощались с родным домом, затем расправляли крылья и взмывали вверх. На смену им из щелей показывались новые крылатые муравьи, и поверхность пня все время была покрыта ими, как леток улья пчелами.
Не гремела музыка, не звучали напутственные речи, но здесь происходило одно из самых великих событий в жизни муравьиной семьи — молодые муравьи отправлялись в дальнее путешествие, с тем чтобы там, за синеющей у скал рекой и заросшей тальниками долиной, устроить новые муравейники.
Крылатые муравьи вскоре после вылета погибнут, а самочки улетят далеко-далеко, опустятся на приглянувшийся пень или валежину и начнут создавать новую семью. Для этого самочке нужно будет отложить немного яичек, вырастить из них личинок, затем куколок и дождаться, когда из них появятся новые муравьи. Нужно будет кормить-поить их, прикрывать от непогоды, охранять от врагов. Крылья к тому времени у нее отпадут, и далеко не каждый узнает в этом суетящемся муравьишке недавнюю принцессу, которая в родном муравейнике даже есть самостоятельно не могла и ее кормили специально поставленные на это рабочие муравьи. О более трудных занятиях не могло быть и речи, ведь растили из нее не кого-нибудь, растили царицу. Здесь же — одна на весь мир, вся в заботах с утра до ночи, никто не поможет, не пожалеет.
И только потом, когда из куколок наконец выведутся муравьи, наша принцесса сможет отдохнуть. Тогда уже эти муравьи будут ухаживать за нею, кормить самыми изысканными блюдами, чистить ее тело, следить, чтобы ей всегда было тепло и уютно. С тех пор она станет царицей — самой важной особой в муравейнике, и далеко не каждый муравей будет иметь право заглянуть в ее хоромы.
Я долго наблюдал за вылетом муравьев, пробовал подсчитать их и, насчитав около полутысячи, уехал домой.
Ночью меня разбудила гроза. Сверкала молния, гремел гром, тяжелые капли хлестали по окнам. В такие минуты дом кажется особенно уютным.
Здесь я вспомнил о тех муравьишках. Где они сейчас? Как переживают непогоду? Помните, в известной сказке вот в такую дождливую ночь в одно из королевств постучалась принцесса? Голодная, озябшая, она просилась переночевать, и ее уложили на гору тюфяков, положив предварительно под самый нижний горошину. Там все кончилось хорошо. А здесь?
Ведь если в нашей долине тысяча муравейников и через год их станет вдвое больше, то это значит, что из всех вылетевших на моих глазах принцесс только одна станет царицей. Потому что и остальные муравейники тоже отправили в путешествие своих принцесс и те тоже будут стараться создать новые муравьиные поселения.
Значит, одна станет царицей, а остальные погибнут. Какая раньше, какая позже. Та вместо пня села на сырую кочку, та упала в реку, третья уже и яички отложила, и личинок выкормила, да прилетел дятел желна и всех склевал. А будут и такие, что опустятся на уже занятый другими муравьями пень и те прогонят ее прочь в холод и слякоть.
Ах, как жаль, что странствующих принцесс добрые королевства ожидают только в сказках!
Муравьи-путешественники
Раньше я думал, что муравьи расселены по тайге более или менее равномерно. Как, скажем, синички или поползни. У меня на Энкене четыре охотничьих избушки. Одна возле наледи, вторая в устье Глухариного ручья, третья у перевала и четвертая на выходе к Налимьим озерам. И возле каждой избушки держатся пара поползней и три-четыре синички. Урожайный год или нет, холодная зима или не очень — они без внимания. Как с первого дня поселились, так и живут.
А чего не жить? Тайга вокруг почти не тронута, лиственницы стоят часто. Есть где вкусно поесть, есть где спрятаться от хищника.
А вот муравьи почему-то уважают одни поляны возле Глухариного ручья. В тех местах муравейники встречаются почти на каждом шагу. Возле остальных избушек их почти нет.
Мне говорили, что виноват дятел желна, который ест этих муравьев и на первое, и на второе. Я верил этому, пока геодезисты не поставили рядом с ведущей к Налимьим озерам тропинкой свой знак. Очистили от кустов поляну, насыпали гору камней, а в середину закопали столб с табличкой: «Академия наук СССР. Охраняется государством». Чуть ниже подпись: «Кандидат географических наук Гаврюшкин».
И что же? Сначала поляна была совершенно чистой, но уже через два года возле знака появились три муравейника. Дятел желна рядом летает, медведи прогуливаются, а они ничего — живут.
Мы с сыном, когда идем на рыбалку, всегда останавливаемся в этом месте отдохнуть. Я устраиваюсь неподалеку от муравейника и принимаюсь наблюдать, как муравьи сражаются с подкинутой им личинкой жука-дровосека. Личинка жирная, что сосиска, но дерется отчаянно. У нее челюсти больше муравья, того и гляди перекусит пополам. Но муравьи тоже не дураки — спереди на личинку не нападают. Навалились кто сверху, кто сбоку и потащили добычу в муравейник.
Сына больше интересует геодезический знак. То спрашивает, зачем его здесь поставили, то кто такой кандидат географических наук или еще что…
Здесь у нас последняя передышка. От знака мы поднимаемся на террасу, огибаем сопку с любопытным названием Дедушкина лысина, а там рукой подать до избушки.
В тайге так: лишь до места добрались, в первую очередь кипятим чай. Я колю дрова и разжигаю печку, сын разбирает рюкзак, приносит от ручья воду и накрывает на стол. Это мы только дома лодыря гоняем — ждем, когда мама и ложку подаст, и хлеба нарежет. Словно и вправду ни на что не способны. В тайге надеяться не на кого.
И вот однажды Ильюшка доставал из рюкзака сахар и обнаружил трех муравьев. Наверное, когда мы отдыхали у знака, эти проныры учуяли в рюкзаке лакомство и решили поживиться. Теперь-то поняли, что попались, бегают по коробке, растерянно шевелят усиками, а спрятаться некуда.
Сын обрадовался находке и понес устраивать муравьев под растущей неподалеку ивой. Пусть, мол, и у нас будет свой муравейник.
Пришлось его огорчить, объяснив, что из этой затеи ничего не выйдет. Наши муравьи очень скоро погибнут. Эти существа могут жить только в большом коллективе. Ведь каждый муравей может выполнять только одну работу. Тот добывает еду, другой ухаживает за мурашатами, третий следит, чтобы в муравейник не забрался чужой муравей, четвертый копает подземные ходы или еще что. При этом муравьи постоянно подкармливают друг дружку. Сойдутся и сразу же начинают угощать один одного. Без этого у них никак нельзя. Лишь более десяти собравшихся вместе муравьев могут прожить два-три дня, да и те скоро погибнут.
— А домой они сами не добегут? — спрашивает Ильюшка. — Давай их сейчас выпустим.
— Что ты! — говорю. — Им за этот вот ручей пропутешествовать все равно, что тебе в Африку или Америку. А от ихней поляны до нашей избушки — это уже на Луну или Марс. Оставь их в покое, теперь уже ничем твоим муравьям не поможешь.
Но сын меня не послушал, пересадил муравьев в спичечный коробок и, не дождавшись чая, побежал к геодезическому знаку. Там вытряхнул своих пленников на муравейник, понаблюдал, как их примут живущие там муравьи, и возвратился в избушку.
Так что теперь возле геодезического знака, поставленного кандидатом наук Гаврюшкиным, в крайнем от тропы муравейнике живут три знаменитых путешественника. Может, даже доктора географических наук.
А они знают
Я спустился к реке, чуть постоял у переката и пошел навстречу солнцу. Иду от излучины к излучине, от плеса к плесу и не могу остановиться. Не знаю, что меня ведет, и никакой цели у меня нет, а все равно иду.
Опомнился километрах в пяти от дороги. Стою и ругаю себя за то, что забрался так далеко, и в то же время очень хочется пройти еще хоть чуть-чуть — посмотреть, что там, за лиственничной гривой.
Не удержался, пошел и сразу же наткнулся на бурундука.
Полосатый зверек сидел на пеньке и недовольно клохтал. Услышав меня, он стремглав метнулся на ближнюю лиственницу и принялся свистеть. Словно у меня только и дела — гонять за бурундуками.
Придется возвращаться. Бурундук клохчет к непогоде, а у меня с собой ни плаща, ни спичек. Обидно. Нет, не за то обидно, что сунулся в тайгу без плаща и спичек, а потому, что зверек всего в треть моего кулака величиной загодя знает о приближении непогоды, а я нет. И, если бы он не подсказал об этом, — ни за что не догадался.
Но ведь знал же когда-то. Знал! Не я, так мой далекий предок. И сколько этих знаний навсегда похоронено в глубинах моего подсознания — никому неизвестно.
Стою, с завистью гляжу на бурундука и вдруг вижу стайку чечеток. Небольшие говорливые птички пролетели над головой, обогнули лиственничную гриву и скрылись. Интересно, что их туда поманило? Ведь в той стороне, откуда они прилетели, стоит чудесная погода, сколько угодно еды, ни пожаров, ни вырубок. Живи хоть сто лет. Они же все оставили и улетели.
Но я сам-то как здесь оказался? Ничего особенного отыскать в этом краю не надеялся, ружья с собою нет, удочки тоже. А я пошел.
Наверное, и меня привело сюда что-то таящееся в моем подсознании. Что именно — мне уже никогда не узнать. А чечетки — те хорошо знают да ни за что не скажут.
Кедровка и стланик
Что-то случилось с мотором, и автобус, еле выбравшись на перевал, затих серьезно и надолго. Мужчины вышли покурить, а женщины, устроившись поудобнеее в своих креслах, продолжали дремать.
Перевал был пустой и неуютный. Только иногда в поднебесье проплывали пушинки иван-чая да из заросшего ольховником ущелья доносились голоса кедровок. Вот одна из птиц заметила автобус, опустилась неподалеку на камни и, чуть наклонив голову, принялась рассматривать людей.
— Что, поживу учуяла? — с какой-то снисходительностью произнес высокий пожилой мужчина в наброшенной на плечи нейлоновой куртке. Остальные улыбнулись и согласно кивнули. Мол, и вправду учуяла. Хотя ничего кроме окурков они оставить здесь не могли, и о какой поживе сказал этот, в куртке, — непонятно.
А кедровка, сверкнув белым подхвостьем, вспорхнула и перебралась к кустам кедрового стланика, что темнели на каменистой осыпи неподалеку от нас. Там немного повертелась, словно проверила, все ли на месте, и подалась за перевал.
Я проводил ее взглядом и только сейчас обратил внимание на сопку, у которой остановился автобус. Весь ее скат сверху донизу был завален гранитными обломками. На самой вершине сопки щерились в небо зубчатые останцы. Солнце и непогода продолжали разрушать их, откалывая новые и новые. Обломки обрушивались вниз, катились по осыпи и застревали. На серых глыбах белели хорошо заметные прочерки, словно шрамы от ударов и ссадин.
Сопка была очень крутая, чудилось, крикни погромче, тотчас вся осыпь оживет и, высекая искры, с грохотом покатит вниз.
Лишь в одном месте каким-то чудом сохранился живой островок. То ли там выпирала слишком уж прочная скала, то ли причиной послужило что другое — не знаю. Но докатившись до этого островка, камни останавливались, а особенно нетерпеливые обтекали его и уже без всякой остановки обрушивались в ущелье.
На этом-то островке и росли три куста кедрового стланика, два — довольно буйные и один — совсем маленький. Как же они оказались здесь? В ущелье кроме ольховника ничего нет, чуть ниже перевала маячит несколько чахлых лиственничек и кривая желтокорая береза, у останцев вообще пусто.
Конечно же, это работа кедровок. Интересно, сколько времени затратили они на то, чтобы вырастить здесь кедровый стланик? Прежде всего нужно было где-то собрать орешки и принести на эту сопку. А ведь прятали не для того, чтобы оставить. К тому же нужно было, чтобы припасами не попользовался бурундук, не погрызли полевки, не подобрал соболь или другой зверь, чтобы зернышки не засохли в каменной пустыне, а проклюнувшиеся ростки не погибли в самом зачатье. К тому же урожай на шишки кедрового стланика случается один раз в четыре года и не всякий раз кедровки устраивают свои тайники на этой сопке. Да и расти кустам до первого урожая в столь неблагоприятных условиях лет пятьдесят, а может, и все сто.
Если бы этот мужчина в нейлоновой куртке посадил яблоню, мы бы его полюбили и зауважали. Как же, для внуков старается.
А она для кого? Живет-то лет пять-семь — не больше, и сколько пра-пра-пра нужно назвать, чтобы наиболее вероятно угадать, для кого она старается.
Может, и мы, когда сажаем дерево, руководствуемся чем-то другим. А чем именно — представляем даже меньше, чем эта кедровка. Ссылаемся же на внуков и правнуков лишь потому, чтобы оправдать это свое незнание.
Сны
Ночую у таежного костра. Под боком охапка лиственничных веток, под головой полупустой рюкзак и шапка, сверху теплая куртка. Хорошо, удобно. Казалось бы, спи себе на здоровье, но спать ни капельки не хочется. Просто лежу и слушаю тайгу.
На чудом уцелевшей после недавнего пожара лиственнице заночевала стайка чечеток. Непоседливые птички возятся во сне и тихонько попискивают. Если мой сын вот так же возится в своей постельке, то утром с восторгом сообщает, что он летал во сне.
Интересно, а что снится птицам? Тоже летают? Так они могут это и на самом деле. Наверное, им снится нетронутая огнем тайга или что у людей сломались все ружья и топоры.
А может, чечеткам снится, что они разговаривают с людьми и те их понимают.
Первооткрыватели
Я брал воду из бегущего вдоль дороги ручья и вдруг заметил две черные ягоды, что покачивались у самого приплеска. С виду они походили на плоды шикши, только были несколько крупнее их. Ничего ядовитого за исключением мухомора и бледной поганки мне на севере встречать не доводилось, поэтому я без всякой опаски отправил одну из ягод в рот.
Горная смородина! Без всякого сомнения, это ягоды горной смородины, только как они оказались в ручье? Выронить их никто не мог, в долине эта ягода не растет.
А что если я ошибаюсь и где-то неподалеку ее целые заросли? Оставив ведро с водой на берегу, отправляюсь вверх по ручью. Он долго вихляет между кустов спиреи, затем поворачивает к нависшей над долиной сопке. Вся сопка сверху донизу укрыта каменной осыпью. Серые с острыми гранями глыбы словно всего лишь какой-то час тому назад свалены здесь в неимоверно высокую кучу, и на этих камнях не то что смородина, даже лишайники не успели бы прижиться.
Ручей, вильнув в последний раз, исчезает под осыпью, не оставив снаружи и маленькой струйки. Оглядываюсь удостовериться, что не пропустил за спиной смородиновых кустов, и начинаю карабкаться на осыпь. Тяжелые гранитные глыбы качаются под ногами, некоторые срываются и, высекая искры, катятся вниз. Тогда в воздухе на мгновенье повисает знакомый с детства запах. После войны не хватало спичек, и мы добывали огонь кресалом. Иной раз обобьешь все пальцы, пока не затлеется свитой из ваты жгут. После этого руки долго пахли жженным камнем.
Ручей где-то неподалеку. Мне хорошо слышно погулькивание его быстрых струй, но, сколько ни заглядываю под камни, обнаружить его не могу. Наконец, когда лоб уже покрылся испариной, а ноги стали дрожать, между скальных обломков мелькнуло зеркальце воды, за ним второе, третье.
И здесь за одним из особенно крупных выступов открылась терраса. Она была всего со стол величиной, но этого оказалось достаточно, чтобы ручей разлился в небольшое озерко, на берегу которого и вырос куст горной смородины. Темные упругие ветки были увешаны гроздьями спелых ягод. Некоторые ветки касались озерка, и ягоды купались в студеной воде.
По озерку, вздымая усы волн, носились два жука-плавунца, здесь же, натянув на сухую ветку тонкую паутину, дремал небольшой паучок.
Без сомнения, никто никогда не бывал у этого озерка, и я обрадовался своему открытию, как мореплаватель, увидевший неизведанную землю. Потом подумал и понял, что здесь я далеко не первый. Сначала сюда попало семечко горной смородины. Может, его занесла птица, а может, оно приплыло откуда-то с самой вершины сопки. Потом на озерко прилетели жуки-плавунцы, за ними на паутинке спустился паучок,
И наконец явился я.
Отважный куст
В конце августа случаются дни, когда можно в один и тот же миг наблюдать три времени года. Вот и сейчас: в тальниках посвистывают дрозды, у самой реки цветет белоснежная спирея, чуть поодаль качает золотистыми зонтиками пижма. Лето да и только.
Но поднимешь глаза — и сразу встретишься с осенью. На склонах сопок полыхают обожженные первыми утренниками заросли ерниковой березки, словно свечи тянутся к небу пожелтевшие лиственницы, выставляя на ветер голые сучковатые ветки, торопливо сбрасывает листья ольховник.
А на перевале уже настоящая зима. Белеют заснеженные гольцы, метет поземка, из-под снега выглядывают до того пустые и холодные камни, что от одного их вида становится зябко.
Покрытая хлопьями тумана стремительная Ингода катит потемневшие свои воды в десяти шагах от меня, и кажется, нет в ней ничего живого. Изо дня в день она подтачивает довольно высокий берег, тот опустился уже метра на три и вместе с ним опустился густой куст кедрового стланика. С каждым всплеском Ингода уносит добрую горсть каменистой почвы, еще немного — и куст обрушится в воду.
Сверху река кажется мне огромным удавом, а куст стланика — смертельно испуганным кроликом. Куст-кролик больше всего на свете боится реки-удава, но, зачарованный глубокой бездной, ползет и ползет навстречу своей гибели.
Наверняка деревьям, как и всему живому, ведомо чувство страха. Говорят, у стоящего среди вырубки клена при приближении к нему человека с топором поднимается температура, а когда на выросшие у опушки сосны набросилась листовертка, то стоящие в глубине чащи деревья тоже принялись выделять защитную смолу, хотя на их ветки еще не опустилось ни одно насекомое.
А чем этот стланик лучше клена или сосны?..
Перевожу взгляд на противоположный берег и замечаю три зеленеющих чуть ли не у самой воды новых кустика. Небольшие, в пять-шесть лапок, они выстроились в ряд и покачиваются на ветру, словно они и на самом деле молодые нетерпеливые кролики. Вернее, не кролики, а зайчата. Где кроликам у нас на Колыме взяться? А вот зайцев сколько угодно.
И вообще, с чего это я взял, что тот большой куст боится реки? Разве станет он праздновать труса на виду у малышей? Скорее наоборот — завис над водой и ждет не дождется, когда та посильнее подмоет берег, чтобы прыгнуть в реку и отправиться в дальнее путешествие, может, к самому Ледовитому океану. А то проживешь век и не узнаешь, что делается за ближней сопкой.
Вот он и изготовился: уши прижал, лапы подогнул и задорно подмигивает собравшимся на другом берегу кустам-зайчатам. Мол, глядите, как сейчас прыгну. Только брызги в стороны.
А те во все глаза смотрят на отважный куст, в возбуждении перебирают мохнатыми лапками и отчаянно завидуют.
Тропинка на память
В нашей тайге у птиц и зверей сто дорожек, и у каждой своя особинка. У выдр они проложены прямо по реке. Где в воде, где через песчаную косу, а где и под завалом. У полевок дорожки между кустов и кочек. Зверек это маленький, лапки нежные, но в другой раз такую канаву протопчут — удивиться впору.
Медведи прокладывают свои тропы вдоль рек и по распадкам. Если идешь по хорошо набитой тропе и тем не менее ветки раз за разом хлещут тебя по лицу — значит, попал на медвежью дорогу. Медведь-то передвигается на четвереньках и так высоко, как мы, не достает. И еще: в таком месте всегда немного боязно. Если человек идет по медвежьей тропе и ему ничуть не страшно, значит, он совсем не чувствует тайги и делать ему здесь совершенно нечего.
В сырую дождливую погоду на медвежьи тропы выводят своих птенцов глухарки, куропатки, рябчики. Мокрая трава для малышей очень опасна. На тропе всегда сухо. К тому же здесь им удобнее охотиться за комарами и мошками.
А недалеко от ручья Тенкели есть и муравьиная тропа. Сразу у дороги под невысокими лиственницами — пять похожих на египетские пирамиды муравейников. Сооружены они довольно близко друг от дружки. И от этих пирамид-муравейников к зарослям голубики муравьи протоптали чудесную тропу. Движение по ней — все равно как по проспекту в людном городе. Одни бегут в голубичник, другие торопятся обратно уже с поклажей.
Раньше я думал, что муравьи живут очень обособленно и ничего общего с соседями не имеют. Чуть границу нарушил — сразу же драка. А эти ничего. Все пять муравейников пользуются одной тропинкой, и никаких недоразумений.
Когда мы приехали косить сено на Ольховниковое, никакой дороги от Ольховникового к Фатуме еще не существовало. Там и расстояние чуть больше двух километров, но как раз на пути очень крутой перевал, а под ним такие заросли кедрового стланика — сам черт ногу сломит.
В полной темноте нас выгрузили вместе с палаткой, кучей матрацев, косами, граблями, как могли объяснили, где косить траву, где ставить стога, и уехали. Мы кое-как прокоротали ночь у костра, а утром осмотрелись и сразу пропало все настроение. Место-то, оказывается, низкое, мокрое. С одной стороны густая тайга, с другой — сопки, а посередине болото и небольшое озеро в колено глубиной. Значит, комарам самое раздолье. Воду тоже непонятно откуда брать. В озере какие-то черные пиявки парами плавают, вода между кочек покрыта ржавчиной, ручей тоже в радужных разводах и отдает гнилью.
Правда, трава на болоте и вдоль ручья хорошая, да и у озера тоже ничего, но как здесь жить — трудно даже представить. А сразу за перевалом река. Там тебе и рыбалка, и комаров меньше, да и место куда веселее. Решили прорубать тропу прямо к реке и ставить палатку там.
Засучили рукава и где топором, где пилой к вечеру пробились к перевалу. А там лишь в самом крутом месте сделали десяток ступенек да перебросили через лощину пару бревен и вышли к реке.
У воды, конечно, совсем другое дело. Палатка на самом берегу, чуть что — за удочку и на рыбалку. А на ночь насторожишь жерлицы и слушаешь, как налимы в колокольчики звонят. Чего греха таить, от Фатумы к сенокосу ходить далековато, но в тайге дорога не скучная. То глухаря встретишь, то зайца вспугнешь, не успел оглянуться — уже и пришел. «Спидолу» на «Маяк» настроил, косу подправил, и только трава под лезвием шуршит!
Самое интересное, что почти сразу же все живущие по соседству птицы и звери проведали о нашей, тропинке. Чьих только следов мы на ней не встречали! Белок, лисиц, соболей, зайцев. А птичек разных так и не сосчитать. Однажды даже медведь прошел.
А осенью кедровки приноровились лущить на ней шишки. Оказывается, кедровка расклевывает шишку не где попало, а обязательно на твердом месте. В тайге везде кусты, мох, трава — никакого удобства. На тропинке же в самый раз. Вот она и приловчилась. Идешь, и то в одном, то в другом месте прямо под ногами кучи пустых шишек.
На другой год наша тропинка совсем в тайге прижилась. Глядим, вдоль нее уже осока выросла, иван-чай расцвел. Нигде ни одного цветка, а здесь настоящая аллея.
Мы в то лето даже до конца сенокоса на Ольховниковом не доработали, собрались и оставили его навсегда. А тропинку свою подарили живущим там птицам и зверям. На память подарили. Пусть пользуются.
Отметины
За Гремучим озером кто-то подпалил тайгу. Специально или нечаянно — утверждать не буду, а что подпалил, это точно. Загудели — заполыхали деревья, шугануло в небо высокое пламя, черной тучей завис над сопками дым.
Гореть бы тайге не один день — деревья вокруг стоят часто, стланик зеленой подушкой укрыл все сопки, долина тянется аж до Аринкидского перевала. Да, к счастью, в тот вечер Васька Чирок перегонял бульдозер на новый участок дороги и случился недалеко от пожара. Как только увидел огонь, сразу же развернулся и пошел его обрезать. Отвал у бульдозера широкий, часа не прошло, а вокруг пожарища легла полоса перепаханной земли. Ткнулся огонь в эту полосу, зачадил и потух.
Однажды я снова попал в те края. Там, где пожар гулял, отметины на многие годы остались. Стланик выставил голые ребра, мертвые лиственницы пиками торчат в пустое небо, когда-то белый ягель превратился в сыпкую золу. Ни птицы, ни мотылька, лишь одинокая пищуха посвистывает среди голых камней.
В том месте, где прошел бульдозер, далеко приметная полоса. Вдоль полосы темнеют проложенные гусеницами колеи. По верхней поднялась поросль молодых лиственничек, по нижней журчит веселый ручеек. А между лиственничками и ручейком грибов маслят целые заросли. Следов же разных и не сосчитать. Здесь вот собирал грибы дикий олень-буюн, чуть дальше ими угощалась белка, а у поворота куропатки пили из ручейка воду.
Я присел на камень возле этого ручейка, а рядом со мною на обгорелое дерево спустилась пеночка-зарничка, посмотрела на меня глазком-бусиной и спрашивает:
— Пить? Не пить?
— Пей на здоровье, — говорю пеночке. — Всем хватит.
Она напилась и улетела. А я сидел и смотрел на отметины, что оставили после себя два человека.
Здравствуй, кукша!
В голодную зимнюю пору все живое жмется к поселку. Выйдешь из дому — здесь тебе синицы и дятлы, чечетки и поползни, куропатки и кедровки. Даже глухари залетают поклевать рассыпанных на дороге камешков. А вот кукш у поселка я не видел ни разу. Но стоит забраться хоть на пару дней в таежную глухомань — кукша тут как тут. И до того ручная, только на голову не садится. Главное, до всего ей есть дело. Повесишь вялить рыбу — она обследует каждого хариуса и самого жирного спрячет в кусты. Сваришь макароны, она сбросит с кастрюли крышку и расшвыряет по земле весь обед. Даже с только что выстиранной рубахи норовит оторвать последнюю пуговицу.
Когда я косил сено у Черного озера, сражался с нею все лето. Вечно взъерошенная, с непокорно торчащим хохолком рыжая разбойница казалась неистощимой в своих проказах.
Известно, росную траву косить легче, поэтому-то я поднимался на рассвете. Выйдешь из избушки — сыро, зябко. Туман на озере лежит плотной подушкой, трава купается в росе, словно в инее. Даже комары не летают.
Но кукша уже здесь. Успела сбросить со стола все ложки, оставила на скамейке белое пятнышко и теперь с самым сосредоточенным видом тянет из ящика отвертку с наборной ручкой.
— А, чтоб тебя! Кыш отсюда!
Она прикидывается, что страшно испугалась, да на лиственницу. Сядет на нижний сук, склонит голову набок и нежно так: «Ти-ви-ти-и-и! Ти-ви-ти-и-и!». Словно говорит: «Ах, как славно, что ты наконец проснулся! Видишь, как одна здесь маюсь».
Когда эта проныра забралась с ногами в кастрюлю с супом, моему терпению пришел конец. Насторожил перевернутый вверх дном ящик и заполучил свою мучительницу в руки. Ох, как она кричала! На ее крик слетелись птицы со всей тайги. Невозможно даже представить, как они меня поносили. Если бы я понимал их язык, у меня от стыда сгорели бы уши. Пришлось пленницу отпустить.
Пристроившись на лиственницу, она с полчаса оправляла смятый наряд и возмущенно поглядывала в мою сторону. Но хватило ее ненадолго. Вскоре она уже подбиралась к столу и косила глазом на мой завтрак.
К концу лета, когда вдоль покоса уже поднялось с десяток стогов, а на кустах кедрового стланика созрели первые шишки, откуда ни возьмись у моей избушки опустилась стайка рыжих птиц. Наверное, это были родственники моей кукши. Она сейчас же признала их и пригласила угоститься моими хариусами.
До самого вечера, словно красные планеры, носились птицы между деревьев, но к ночи исчезли. Вместе с ними улетела и моя кукша. Сначала я обрадовался. Не нужно прятаться с продуктами, посуда спокойно стояла на столе, даже приготовленным на рыбалку короедам ничего не угрожало. Но потом заскучал. То хоть какая-то живая душа была рядом, а сейчас кому ты нужен? Возвратишься с покоса — никто тебе не рад, никто тобой не интересуется. Даже не хочется заходить в избушку. Только озябшие комары мельтешат у дышащего теплом кострища, да где-то в бревнах пощелкивает короед. Пусто стало на моем стане, неуютно.
Но вот однажды проснулся — и что-то хорошо мне на душе. А отчего — не пойму. Гляжу, вокруг те же бревенчатые стены, то же заставленное консервными банками окно, та же веточка можжевельника над дверью. Но откуда такое настроение?
И вдруг меня осенило. Кукша! За стеной распевает кукша!
Сбрасываю с себя одеяло и, как был, выскакиваю на улицу. Вижу, сидит моя птаха на краешке стола и выводит незатейливую свою песню. Такая же взъерошенная, все с тем же непричесанным вихром на голове и задоринкой в черных глазах.
Мне прямо комок к горлу. Гляжу и не могу наглядеться.
— С возвращением тебя домой, сударушка! Здравствуй, кукша!
Кедровкины захоронки
Август для зверей и птиц месяц хлопотный. Нужно делать зимние припасы.
Белка сушит грибы, бурундук носит в свою кладовку орешки с ягодами, пищухи косят сено и прячут под коряги. Одному медведю не нужны потайки. Он откладывает припасы под собственную шкуру. Нагуляет побольше жира и спокойнехонько ложится в берлогу. Такому никакие воры не страшны.
Кедровка — совсем другое дело. У нее, наверное, больше тысячи тайников и столько же любителей поживиться за ее счет. Кто только не пользуется припасами этой птицы, кто только из ее кладовых не тянет! Белки и соболи, лисицы и горностаи, бурундуки и полевки. Каждому вкусен кедровый орешек, всякому в аппетит.
Второй день моросит мелкий дождь. Сижу под навесом и от нечего делать наблюдаю за кедровкой. Она носит орешки с дальней сопки и прячет рядом с моей избушкой. Где-то у нее здесь гнездо. Я пробовал искать, но ничего не получилось. Только вымок напрасно.
От кедровника птица возвращается, прижимаясь к самой земле. То ли так легче лететь, то ли кедровка не хочет, чтобы видели, куда она будет прятать орешки. Мешок под клювом раздулся так сильно, что сейчас она немного напоминает пеликана.
Плюхнулась у корней высокой сучковатой лиственницы и сейчас же сторожко оглянулась. Не видит ли кто?
Как бы не так! На берегу гуляет целая стая куликов песочников, из-за коряги выглядывает бурундук, к тому же следом приспела еще одна кедровка. Кулики с бурундуками — куда ни шло, а вот кедровка — это совсем плохо. Моя соседка угрожающе скрипит и бросается на пришелицу. Вот это уже напрасно. Случись драка — ей несдобровать. Прилетевшая следом за нею птица выглядит внушительней, к тому же мешок у нее пустой. А у моей переполнен так, что даже клюв открывается сам собой.
Но не тут-то было. Пришелица виновато шарахается в сторону и улетает.
Теперь нужно бы прогнать и бурундука. Ишь, как с коряги зыркает! Но кедровка почему-то не обращает на зверька никакого внимания. Спокойно присаживается у моховой кочки и, задрав клювом клочок мха, выкладывает туда часть орешков. Вторую порцию кедровка заталкивает под корягу, на которой сидит бурундук.
Мне интересно, сколько орешков в кедровкиной потайке? Как только кедровка улетает, выбираюсь из-под навеса и пересчитываю. Под мхом 23 штуки, под корягой 24. Говорят, кедровка откладывает столько орешков, сколько съедает за один раз.
А что, если добавить самому? Подсыпаю в оба склада по 20 орешков и отмечаю места лиственничными ветками.
Когда на второй год я снова попал на сенокос, то сейчас же бросился к кедровкиным захоронкам. Под корягой пусто, даже скорлупок не осталось. Зато у моховой кочки прямо у всех на виду горстка орешков. Рядом россыпь скорлупок. Пересчитываю целые орешки и удивляюсь. Ровно 20 штук. Вот это умница! Сколько спрятала, столько и съела. Или больше не осилила, а возвращаться на прежнее место у кедровок не принято.
А те, что у коряги, наверное, уворовал бурундук. И мои, и кедровкины. Он еще тогда, словно тать, из-за коряги зыркал.
Люди, птицы и звери
Почти до сумерек я собирал бруснику на Столовой сопке, затем перебрался через широкое заросшее редкими лиственницами болото и вышел на дорогу. Здесь меня и подобрал разбитной словоохотливый шофер, что вез сено на совхозную ферму. Он сразу же принялся объяснять мне, как из одной тонны сена сделать две и при этом никто не прикопается. Он часто забывал о дороге, поворачивался ко мне и так старательно растолковывал детали операции, словно я только тем и занимаюсь, что заготавливаю сено, а все стремятся меня надуть.
Вдруг у дороги мелькнула какая-то птица. Мой попутчик тотчас забыл о сене, высунулся из кабины, посмотрел, куда эта птица полетела, и, усевшись на место, сокрушенно покачал головой:
— Сова шмыгнула. Давленых мышей собирает. Сейчас на дорогу только мыши и выглядывают. Раньше зайцы, олени, лоси толпами ходили! Один раз я здесь чернобурку задавил. Еду вот так под утро, и прямо на дороге лиса. Попала в свет, растерялась и по колее как прищучит. Минуты не прошло — догнал. Потом своей Валюхе шапку сделал. Роскошная получилась, все стонали от зависти. А сколько я здесь глухарей взял. Бывало, катишь, а они на лиственницах сидят и ничуть не боятся. Прямо так из кабины и стрелял. Теперь вот одни мыши бегают…
И правда, если не считать той совы, до самого совхоза мы не встретили ни одного живого существа. А ведь сегодня на Столовой сопке, что в каком-то километре от дороги, я видел медведя, двух глухарей и стаю куропаток. Кроме того, по кромке болота целая россыпь лосиных и оленьих следов. И все совершенно свежие.
Значит, есть и зверь, и птица в тайге, и дичи не сильно убавилось, но все знают, что к дороге выходить опасно. Чуть высунешься — сразу тебя в суп или на шапку.
Вот они и не высовываются.
Ручейники
Стараясь не зацепиться удочкой за нависшие над водой ивы, я прошел несколько шагов по перекинутому через Холодную протоку бревну да так и застыл. Все дно протоки, сколько хватал глаз, было усеяно ручейниками. Одни ползали у самого берега, другие забрались на глубину, третьи облепили затопленные в протоке коряги. Здесь были настоящие великаны, с выстроенными из разноцветных камушков домиками, были ручейники, жилище которых походило на камышовую трубочку, встречались и совсем малыши, в треть спички величиной, и их схоронка была склеена из мельчайших песчинок.
Все ручейники, от мала до велика, занимались одним делом — жевали ивовые листья. Я был уверен, что ручейники настоящие хищники, какую-то неделю тому назад они ели из моих рук комаров, мух и мошек, а сейчас, гляди, пасутся, как коровы. Правда, едят не все подряд, а одну мякоть, так аккуратно отделяя ее от жилок, что обработанный ими листок становится похожим на ракетку для игры в теннис.
Лучшей наживки, чем ручейники, для рыбалки не сыскать. Я ополоснул лежащую на берегу протоки консервную банку, пересадил в нее десятка три самых отборных ручейников и заторопился к Чуритандже. Один из переселенцев не захотел расстаться со своим листком и оказался в банке вместе с ним. Через минуту почти все ручейники окружили этот листок и принялись дружно его уписывать.
Я почему-то был уверен, что сегодня наловлю рыбы полную сумку. Уже давно высветилась вода от последнего половодья, до вишневой красноты созрела брусника, по утрам трава звенела от инея — самая пора линкам и хариусам собираться в стаи и отправляться на зимовку. Но то ли рыба успела спуститься ниже, то ли все еще жировала где-то в ручьях — в этот день клевали одни недомерки, да и те предпочитали изготовленную из медвежьей шерсти «мушку».
Поняв, что крупной рыбы не будет, я смотал удочку и прямо через тайгу отправился домой. Уже на полпути вспомнил, что ручейники так и остались в рюкзаке. Их нужно было бы выпустить в реку или какой-нибудь ручей, но, как назло, поблизости не было даже приличной лужицы.
Я достал банку, посмотрел на озабоченно ползающих по дну ручейников, хотел было высыпать их прямо на траву и… не смог. Какой-то час тому назад я без всякой жалости цеплял этих ручейников на крючок и, случись хороший клев, извел бы всех до единого, но сейчас просто взять и выбросить — не поднимается рука.
Смотрю на часы, потом снова на ручейников и решительно поворачиваю к Холодной протоке. Там вытряхнул ручейников в воду и долго наблюдал, как они расползаются по песчаному дну.
И хотя рыбалка была неудачной, до самого вечера меня не покидало хорошее настроение. Перед глазами стояла усеянная ручейниками протока, среди которых ползали и мои возвратившиеся из дальнего путешествия ручейники, и каждый доедал свой оставленный утром ивовый листок.
Зайчонок
Зайчонок попался на удивление шустрый. Шлепая болотными сапогами, мы добрый час носимся за ним по маленькому острову и уже поймали бы, но этот хитрец всякий раз умудряется то шмыгнуть под огромный выворотень, то буквально раствориться среди камней, а то просто замереть на полном скаку, и тогда мы с грохотом проносимся мимо.
Совсем недавно мы с Васькой Чирком едва тянули ноги под моросящим дождем. Уставшие, голодные, мечтающие об одном: спать, спать, спать! И вдруг заяц! Ружья, рюкзаки, удочки полетели на землю, а мы, круша тальник, бросились за серым.
— Вась! — крикнул я на бегу. — А зачем нам заяц!
От удивления Чирок аж остановился.
— Как это, зачем? Конечно, незачем. Погреем и отпустим. Гляди, снова не пропусти его к выворотню!
Наконец зайчонок был схвачен и посажен Чирку за пазуху.
— Ох, и дрожит, — прислушиваясь к поведению зайчонка, сообщил мне Васька. — Давай-ка подберем ему самый большой и уютный остров, там он хоть спрячется по-человечески. Хорошо, что мы на него наскочили, а если бы лисица или сова? Раз — и съели…
…А через неделю меня обидели. Один мой знакомый, услышав, сколько мы заработали в прошлом сезоне, присвистнул:
— Вот это да! Так жить можно. А я-то, дурак, думал, они в пятидесятиградусный мороз от одной романтики в тайгу отправляются. Да за такие денежки…
Ничего я ему не ответил, только вспомнил: холод, дождь, покрытый чахлым тальником островок. А два сорокапятилетних дяди носятся за маленьким зайчонком, чтобы… погреть.
Ценить счастье
Почти весь август стояла чудесная солнечная погода, и все смотрели на это довольно равнодушно, словно иначе и быть не должно. Но вдруг захолодало, сырой порывистый ветер погнал над сопками рваные тучи, и те с утра до ночи сыпали то дождем, то снегом, а то просто мелкой крупой, что весело скакала по дороге, сбиваясь у обочин в белые валики.
Перелетная утка валом валила на таежные озера, люди надели шапки и теплые пальто, гвоздики и астры продавались у магазина уже по пять рублей за пару цветков.
И вдруг в воскресенье нежданно-негаданно, словно хороший подарок, утро проснулось тихое, ясное, а за ним грянул по-настоящему летний день. Расплавленным серебром сияли вершины заснеженных сопок, подпаленные первым морозом заросли ольховника и ерниковой березки полыхали так жарко, что глазам было больно смотреть. А над всем этим веселое щебетание чечеток, пересвист куликов, озорное цик-циканье собравшихся у реки трясогузок.
Все, от мала до велика, радуясь такой погоде, высыпали за поселок. То и дело можно было услышать:
— Господи, какой день!
— А сопки-то, сопки! Вы только посмотрите, какая красота!
— Век бы глядел!
И такой восторг на лицах — диву даешься. А ведь всего неделю тому назад таких дней было сколько угодно и никого это не волновало. Наверное, и правда, для того чтобы ценить счастье, нужно узнать и несчастье.
Сон
У меня жил бурундук. Жил безбедно — сыт, весел, ухожен. Я привез его с реки Ямы. Это далеко от моего дома. В тех краях растет ель, водится проворный зверек ласка и летает длиннохвостая и белобокая сорока. Каждую осень в Яму заходит на нерест радужная мальма и желтогубая рыба — топь. У нас все это можно видеть разве что на картинке.
Однажды ночью мне приснилась мама, наш дом, сад. Я разволновался и долго не мог уснуть. А утром пошел к знакомому охотнику, что как раз собирался ехать на Яму, и попросил отвезти туда бурундука. И притом, не куда-нибудь, а к тому месту, где в реку впадает ручей Утиный. Как раз там я этого зверька поймал.
Кто знает, если бы не тот сон, может, бурундук до сих пор жил бы в моей квартире.
Обиды
Хотя дорогу к Тринадцатым озерам прокладывали давным-давно, но тайга до сих пор хранит нанесенные бульдозером раны. В одних местах это кучи камней, вырванные с корнями кусты ольховника, клочья посеревшего мха. В других же под камнями открылись родники, и теперь возле них зеленеет густая осока, лакированными лепестками желтеют яркие лютики. Чуть выше алеет брусника, выглядывают коричневые шляпки грибов маслят.
Мы любим отдыхать у этих родников. Хорошо там. Присядешь на минутку, и, кажется, никуда бы и не уходил.
Не так ли и человек? Потревожат его, обидят чем-нибудь, он на весь мир озлится и знай только ходит да сует всем под нос свои шрамы. Другой же наоборот — переживет все, переборет и станет еще интереснее, еще лучше. И, может, если бы не эти обиды, мы так никогда и не узнали бы, какие родники скрыты в его душе.
Оборотень
Неподалеку от Лиственничного, сразу за излучиной, Фатума сливается с ручьем Товарищ. Кто дал таежному ручью такое уважительное имя, не знаю, но наверняка это был хороший человек.
В самом устье ручья весеннее половодье устроило завал. Вырванные с корнями деревья занесло кусками коры, мелкими ветками, травой. Все это качается и дышит под ногами. Я хожу по завалу, как по подушке.
Слева от завала темнеет омут. У его берегов из воды выглядывает густая осока. Время от времени желтые стебельки начинают шевелиться. Это возятся щуки, устраиваясь в засаду на хариусов. С первыми заморозками рыба устремилась вниз по Фатуме, а речные разбойницы не преминули явиться наперехват.
Потемневшая к осени, но по-прежнему быстрая Фатума, сливаясь с ручьем, закручивается в тугой водоворот. Каждый появившийся у завала хариус задерживается у этого водоворота, чтобы обследовать плавающие на воде лиственничные хвоинки. Иногда среди них попадаются мошка или мотылек. Хариус тыкается в насекомое острым носом, на воде вскипает бурунчик, и мотылек исчезает в пасти прожорливой рыбы.
Удовлетворенно плеснув оранжевым хвостом, хариус заворачивает к омуту. Проходит несколько долгих секунд. За это время он доплыл до щучьей засидки, щука увидела хариуса и зеленой торпедой ринулась на него. В какое-то мгновенье замечаю возникшую у осоки узкую волну, что стремительно бежит к середине омута. И вдруг впереди нее взлетает хариус. Широко расставлены грудные плавники, коричневым флажком трепещет спинной парус, далеко в стороны летят серебристые брызги. Прыжок, другой, третий. Достигнув крайних бревен, он проскакивает между ними и только здесь в поле зрения появляется щука. Она уже не гонится за добычей, а тихонько плывет, чуть шевеля плавниками. Спокойная и невозмутимая, уверенная в своей силе хищница. На какое-то мгновенье она зависает у завала и вдруг, увидев меня, вжимается в глубь реки.
Сегодня щукам не везет. Стоит появиться хариусу, как я опускаю к воде «мушку» — пучок медвежьей шерсти со спрятанным в этой шерсти крючком. Чуть качнешь удилищем — и на воде уже не самодельная обманка, а пытающийся взлететь нерасторопный комар. Правда, ног у него не шесть, а целых двадцать, да и сам завис на какой-то паутинке, но разве есть время считать-приглядываться? Того и гляди, взлетит. Не задумываясь, хариус устремляется к «мушке» и через мгновенье пое-ехал на завал в мое ведро, где уже собрался добрый десяток таких же торопыг.
Те хариусы, которых мне не удалось обмануть, не менее успешно удирают и от щук. Одна из хищниц так оголодала, что заинтересовалась моей «мушкой» и долго приглядывалась к ней, застыв рядом с играющей обманкой. Так ни на что и не решившись, щука уплыла в осоку, а у завала высыпал целый косяк рыбешек-гвоздиков. Меня давно интересует, как называются эти рыбки и кто у них самый главный? В стайке их, может, сто, а может, и больше, каждая не более гвоздика, но дружные до удивления. Всей стаей под завал нырнут и остановятся, словно по команде. Постоят так минут пять-семь, потом — раз! — отодвинулись на полметра в сторону и снова застыли. Отдохнут вот так, затем вся стайка вздрогнет, словно подтянется, и в стремнину. Засеребрится, заиграет река — и нет их.
Ушли-уплыли рыбки-гвоздики, а у завала уже нарисовался хариус. Оказывается, малыши от него-то и убежали.
— Ах ты, хулиган! Зачем пугаешь маленьких? А ну, иди сюда!
Но хариус то ли не голодный, то ли успел познакомиться с «мушкой». Как только обманка коснулась воды, он стремглав бросился под бревна и больше я его не видел.
Интересно, сколько щук в омуте. Вываливаю хариусов на траву, зачерпываю в ведро свежей воды и берусь за спиннинг. Небольшая верткая блесна, описав полукруг, аккуратно ложится как раз у осоки. Даю ей немного просесть и быстро подматываю леску. Когда блесна дошла до середины омута, удилище передало тугой толчок, и после резкой подсечки на леске заходила-заиграла полукилограммовая щука. Опускаю добычу в ведро и таким же образом ловлю еще четырех полосатых хищниц. На первый взгляд, все щуки одинаковы. Тонкие, длинные, белобрюхие. Но, приглядевшись, сразу же замечаю различие между моими пленницами. У одной перед хвостом крутой горб, на боках другой разошлись какие-то пятна, у третьей нос задирается кверху.
Еще и еще бросаю блесну, но безрезультатно. В это время мимо завала прошла стая хариусов и завернула в омут. Спокойно плавают, ловят мошек. Никто за ними не гоняется — все щуки у меня в ведре.
Выщипываю из грудных плавников моих пленниц по нескольку перышек и выплескиваю всех пятерых в омут. Собравшиеся там хариусы, как ошпаренные, выскакивают на стремнину и уносятся вниз по Фатуме.
Какое-то время сижу и наблюдаю за новой стайкой рыбок-гвоздиков, затем забрасываю блесну к осоке. Сразу же энергичная поклевка, и после короткой борьбы щука у меня в руках.
Она! Точно она! Только что помеченная и выпущенная в омут щука снова клюнула на блестящую железку.
Вскоре таким же способом тяну к завалу вторую щуку. Неожиданно, когда мне осталось подмотать метров семь лески, под водой мелькнула длинная тень, спиннинг согнулся так, что, казалось, вот-вот треснет склеенный из бамбуковых реечек сверхпрочный кончик.
Забыв, что на блесне уже сидит полукилограммовая добыча, резко дергаю удилище, но рука не встречает никакого сопротивления и на бревна ложится оборванная леска. Какое-то время растерянно гляжу на омут, затем прыгаю с завала и бегу домой. Отправившись на рыбалку, я не захватил запасные блесны, понадеявшись на безотказность уловистого «шторлинга», теперь остался с пустыми руками.
Коробка с блеснами стоит на подоконнике. Выхватываю три или четыре самые крупные — и назад. В голове одно: «Только бы не ушла! Только бы не ушла!» Несомненно, это та черная щука-оборотень, о которой мне рассказывали совхозные мальчишки. Это та загадочная рыбина, которую вот уже сколько лет никто не может поймать.
Омут притих, потемнел. У завала не видно ни единой рыбешки. Привязываю к леске стальной поводок с тяжелой, оснащенной самодельным тройником блесной и забрасываю ее в конец омута. Щука долго не давала о себе знать. Только на шестой проводке вдруг забурлила вода и миллиметровая леска зазвенела так, словно за нее и вправду уцепился крокодил. Больно ударив вертушкой по пальцам, взвизгнула катушка и в один мах распустила леску почти на всю длину.
Ставлю спиннинг на трещотку и начинаю по нескольку сантиметров отвоевывать расстояние между мной и мечущейся в воде рыбиной. Наконец она сдается. Перевернувшись на спину и широко расставив крылья, щука дает подтянуть себя к завалу, хватаю ее за жабры и вытаскиваю на бревна.
И я, и рыбина какое-то время лежим на завале, отдыхая от борьбы. Щука огромная, невероятно толстая, с задранным вверх широким клювом. Весит она никак не меньше десяти килограммов. Но главное, что бросилось в глаза, это ее цвет. Щука была необыкновенно темной, почти черной. Я ловил щук в Днепре, Енисее, Амуре. Все мое детство прошло на кипевшей щурятами реке Конке. Но щук такого цвета встречать не доводилось.
Рассматриваю ряды загнутых внутрь зубов, изъеденную оспинами темно-свинцовую морду и вдруг вижу, что щука… слепая! В недоумении переворачиваю ее с боку на бок. Все правильно. Там, где у плавающей в моем ведре щучки блестят маленькие злые глаза, у лежащей на завале рыбины пустые ямы. Сажусь на лиственничный ствол и оглядываюсь: с кем бы поделиться невероятным открытием?
Но вокруг только тайга, вдали темнеют пустые избушки косарей, из-за избушек выглядывают приземистые цистерны.
Я один, а передо мною лежит щука-крокодил, таскавшая под воду уток, пугавшая по ночам отдыхающих у костра рыбаков и без промаха клюнувшая на мою блесну. Рыбина, снискавшая славу оборотня, — оказалась слепой!
Сейчас я оттащу ее домой, начиню солью и буду хвастать перед приезжими шоферами, как лихо расправился с нею. И уйдет с Фатумы еще одна тайна, не будет она больше будоражить сердца рыболовов. Станет для них Фатума обыкновенной речкой, где ничего крупнее хариуса-селедочника или небольшой щучки не увидишь.
Еще раз смотрю на пустые глазницы моей рыбины, вынимаю из ее пасти блесну и пускаю щуку в воду. Словно не веря, что снова оказалась в родной стихии, она тычется мордой в бревна, затем, чуть качнувшись, исчезает в студеной воде Фатумы.
Удивленная сова
Давно заметил: если поднимешься на очень высокую сопку, нет, не за брусникой, а намного выше, то обязательно к тебе подлетит какая-нибудь крупная птица. То ли они думают, что это пасется отставший от стада снежный баран, то ли что другое? Для собственного успокоения я думаю, что меня принимают за что-то другое, очень уж не хочется, чтобы тебя перепутали с бараном, пусть даже со снежным.
Иногда подлетает орел, иногда ястреб, чаще всего ворон. В долине он облетает меня далеко стороной, здесь же сваливается чуть ли не на голову.
Когда я забрался на Маутскую сопку, ко мне вдруг завернула огромная сова. Сделала круг над головой, зависла в трех метрах, уставилась желтыми глазищами и смотрит, словно никак не может признать. Когда наконец признала — встряхнула от возмущения крыльями и подалась за перевал. Летит и качает на лету головой, словно удивляется: «Надо же, куда забрался! Делать ему нечего, что ли?»
А то, что сама среди бела дня устроила охоту, ничего. Ей, видите ли, можно.
Счастье
Вчера вечером поселившийся у моей избушки бурундук закрывал голову лапками и грустно трумкал. Поведение зверька предвещало близкую непогоду, но с утра разыгрался самый настоящий летний день, какие не всегда случаются и в июле. Теплый, безветренный, с тучей надоедливой мошкары.
Сижу, облокотившись о метровый пень-останец, и выглядываю снежных баранов. Вернее, не баранов, а их малышей. Сейчас у баранов время свадеб. Они собрались в небольшие компании и ушли за перевал. Ягнят же оставили на престарелого толсторога, которому все эти свадьбы ни к чему. Васька Чирок говорил, в здешнем «детсаду» около тридцати малышей. Дважды в день они приходят на водопой к лежащему высоко в горах озеру и уже натоптали вокруг него хорошо заметные тропы.
Когда-то вдоль ближней сопки прошел пожар, и сейчас ее склон напоминает поле давней битвы. Белые камни — обмытые непогодой черепа воинов и их коней, покрученные стланиковые ветки — кости, торчащие так и сяк обгорелые лиственнички — сломленные копья. Впечатление усиливает иссиня-черный ворон, что сидит на одном из камней и, кажется, спит. Голова втянута в плечи, тяжелый клюв опустился вниз, черные мозолистые ноги крепко держатся за опору.
Интересно, что ему здесь нужно? Может, как и я, ждет баранов, а может, просто сел отдохнуть и задремал.
Над озером пронесся быстрый вихрь, встеребил воду, пригнул кустики обожженной первыми утренниками голубики и вместе с листьями поднял в небо необычно крупную бабочку-аполлона. Сначала мне показалось, что это просто оброненная кем-то бумажка, но вихрь неосмотрительно влетел в ольховниковую гриву, запутался в ней и сразу умер. Листья опустились на землю, а бабочка выровнялась и, помигивая крылышками, направилась ко мне. Летела она так легко и красиво, что, казалось, купалась в настоянном на осени воздухе. Она то опускалась к самой земле, то взмывала высоко в небо, а то просто зависала на месте, словно подвешенная на невидимой ниточке. Наконец она устала и опустилась на покрытую змеистыми трещинами валежину. Теперь бабочка походила на северный цветок рододендрон, что распустился под щедрым солнцем. Бабочка шевелила тонкими усиками и без конца то складывала, то разворачивала широкие почти прозрачные крылья в красных и черных узорах. Казалось, она никак не может остыть от танца, ей хочется бесконечно кружить в небе, радуясь теплому дню, ярким осенним краскам, самой жизни.
Я загляделся на бабочку и чуть не прозевал кедровку. Словно челнок, она вынырнула из-за перевала, прохрипела недовольное «Кер-р-р-р» и плюхнулась рядом с вороном. Тот проснулся, подозрительно уставился на пришелицу и зачем-то открыл клюв. То ли он зевал, то ли таким способом предупреждал кедровку. Мол, летать летай, но свое место знать должна. Та сделала вид, что не замечает сердитого соседа, и принялась обшаривать куст кедрового стланика, что зеленел неподалеку от ворона. В этом году случился неурожай на шишки, и все кедровки откочевали в поисках более кормных мест. Эта же осталась. Может, она умудрилась сделать какой-то запас, а может, просто не смогла покинуть это озеро, заросший ольховником распадок, щетинящийся обгорелыми лиственничками склон…
В колымской осени семь погод в припасе. Только что светило солнце, вдруг появились тучи, и сразу же над головой закружили легкие снежинки. Ворон взлетел, недовольно квакнул и направился в долину. Исчезла и бабочка-аполлон. Она, как и бурундук, предчувствовала эту непогоду и, забившись в одну из щелей, уснула. Лишь кедровка продолжала суетиться среди кустов в поисках редкой поживы…
Говорят, первый снег — недолгий гость. Полежит день-другой и стает. Может, где-нибудь и так, только не у нас. Лежать теперь ему до самого июня. Лишь тогда откроется земля, нарядится в зеленый лист, заголубеет пушистыми прострелами. Глядишь, и встретятся здесь, у озера, кедровка и бабочка-аполлон. Кедровка будет сидеть на одной из лиственниц и распевать нежную и светлую песенку: «Ти-и-и-и-тир-р-р-р-р-р! Ти-и-и-и-тир-р-р-р-р!» Осталась, мол, позади голодная зима с трескучими морозами, злыми метелями, долгими темными ночами. Снова пришло лето, теплое, сытное, веселое.
«Счастливая!» — позавидуют ей кедровки, что ищут счастья в чужих краях. Им-то в эту зиму тоже достанется. Кто кедровок там ждет? Своих запасов приготовить не успели, а таскать чужие — радости мало. Может, какая и выживет, но большинство погибнет…
Будет радоваться лету и бабочка-аполлон. Хотя зима для нее совсем не то, что для кедровки. Она для бабочки один короткий сон — уснула и проснулась. Никогда не знающая ни холода ни голода, она уверена, что на земле всегда тепло и зелено. От того-то ей, наверное, никогда не понять, какое оно — настоящее счастье.
Оптимисты
Вторую неделю живу в палатке на небольшом островке, что вздымается посередине реки Чилганьи. Ловлю рыбу, варю уху и слушаю, как собаки гоняют медведя. Километрах в пяти отсюда косят сено, вот косари и привезли собак, чтобы те побегали, значит, на воле. Но возле покосов ничего живого нет. Тайга давно выгорела, болото раскорчевали и засеяли зеленкой. Ни птицы, ни зверя. А здесь медведь! Вот они и прибегают отвести душу.
У реки всегда родила хорошая жимолость. Я планировал набрать ее ведра три-четыре и даже прихватил с собою сахар, чтобы прямо в тайге варить варенье, но в середине июля случился сильный заморозок, вся ягода померзла и осыпалась. Та же, что осталась на кустах, потемнела, сморщилась и плывет между пальцев, как кисель.
Пришлось переключиться на рыбу. Рано утром и сразу после обеда клюют хариусы, перед сумерками начинают браться ленки, с наступлением сумерек на охоту выходят речные разбойники — налимы. В то же время является и медведь. Собаки встречают его у старой вырубки, с полчаса лают на одном месте, затем их лай обтекает меня по широкой дуге и снова останавливается у Лосиного болота. Здесь он кружит до самого рассвета, то притихая, то взрываясь с новой силой, а с рассветом все умолкает, и до следующей ночи я собак не вижу и не слышу.
Собак три. Верховодит ими худая нервная сука с истерическим голосом. Когда она лает, кажется, наступила последняя минута в ее жизни, через мгновенье ее схватят и разорвут на части. Второй пес поспокойнее, голос у него густой, низкий и чуть хрипловатый. Последний в собачьей компании — совсем щенок, и лает он по-щенячьи, скорее радостно, чем сердито.
Ночи сейчас не так чтобы очень темные, я пытался увидеть медведя, но ничего не получилось. Пойдешь на собачий гам, а там такие заросли — не все разглядеть и днем. Собаки стоят на опушке и брешут в эту чащу, а где тот медведь, чем занимается — не понять.
С вечера упала роса, ночью подморозило, да так, что вся трава стала белой от инея и холод достал меня даже в спальном мешке. Я выбрался из палатки, сходил за дровами и, когда глянул на оставленный в траве след, понял, что сейчас могу проследить каждый медвежий шаг.
Светало. Собак не слышно. Отлаяв положенное, они возвратились к косарям, а избавившийся от их сопровождения медведь, наверное, прилег отдохнуть. С его-то шубой этот морозец не страшен. Я проверил поставленные на налимов жерлицы, положил в костер пару толстых чурок и отправился на поиски медвежьих следов. Обнаружил я их чуть выше старых вырубок. Сразу за потемневшими от времени пнями шумит перекат, дальше простирается песчаная коса. Медведь перебрался на этот берег по мелководью, чуть побродил по косе и направился к вырубке. Здесь он задержался. Проложил среди кустов жимолости несколько извилистых дорожек и даже посидел у одного из них. То ли отдыхал, то ли пытался понять, куда девались ягоды? Затем он вышел на заросшую пижмой и иван-чаем лесовозную дорогу и прямо по ней дошел до голубичника. У голубичника снова сделал три или четыре петли и наконец спустился к болоту.
Прямо через середину болота протекает тихий заросший вахтой ручей. Весь его берег истроплен медвежьими лапами, чуть в стороне следы собак. На воде качаются толстые белые корни водолюбивой травы-вахты. Медведь вырывал эти корни и ел, а собаки сопровождали его и лаяли. По всему видно, косолапый почти не обращал на них внимания. Ни к собачьим следам, ни от них он не сделал ни одного шага. Брел себе по ручью и питался, а эти, значит, переживали.
Часть корней сморщилась и потемнела, часть — совсем свежая. Значит, медведь ходит сюда давно, словно на собственную плантацию. Но зачем он каждый раз заворачивает на старую вырубку и к голубичнику? Неужели никак не сообразит, что весь урожай ягод давно погиб и до следующего лета ему не полакомиться? Глупый он, что ли?
Хотя вроде бы нет. Ведь прекрасно разбирается, когда иду с ружьем, а когда со спиннингом. Более того, он уверен, что не собираюсь в него стрелять, поэтому и ходит мимо моей стоянки вторую неделю.
Или вот с этими собаками. Явись сюда охотничьи собаки — сразу убежал бы. Знает, что за ними могут явиться и сами охотники. А эти пустобрехи его не волнуют. Ни холодно от них, ни жарко. Пусть себе лают.
Так же и с ягодами. Медведь, конечно же, давно понял, что в этом году их не будет. Но где-то в глубине души таится надежда — а вдруг! Ведь родила же сколько лет! Может, еще как-то там уродит? Или просто не все кусты осмотрел и где-нибудь в уголке притаится весь голубой от спелых ягод куст.
Вот я — довольно опытный рыбак — иду вдоль ручья и, заметив вскипающие на воде пузырьки болотного газа, тороплюсь проверить — не хариус ли? Знаю, что никогда в этот ручей рыба не заплывает, и, если бы на самом деле взыграл хариус, ни за что бы не сомневался, не подумал бы, что этот пузырек газа или что другое. Но все равно спешу проверить каждый всплеск и тоже на что-то надеюсь.
А вдруг?
Наследники
Совсем того не желая, я забрался в медвежью семью. В самую ее середину. Скрадывал плавающих в ручье уток, но подшумел. Те взлетели и опустились на озеро в каком-то полукилометре от меня. Я хорошо видел, как они снизились над полоской лиственниц и спланировали на воду.
Прижавшееся к скалам озеро совсем маленькое, к тому же заросло по берегам осокой, так что подкрасться к уткам совсем не трудно. Где бегом, где ползком пересек лиственничник, добрался до осоки и, чуть приподнявшись, принялся высматривать уток.
В это мгновенье неподалеку кто-то рявкнул. Вернее, даже, не рявкнул, а громко и отрывисто проблеял. Мгновенно поворачиваюсь и вижу двух медведей. Один совсем маленький, другой взрослый. Стоят на задних лапах и внимательно смотрят в мою сторону.
Там, между озером и скалами, полоска голубики. Наверное, медведи занялись ягодой и прозевали меня. Что же теперь будет? Скалы довольно крутые и за голубичником подступают к самой воде. Чтобы убежать, зверям нужно или переплыть озеро, или прорываться мимо меня.
Наверняка это медведица с медвежонком. Правда, мамаша не очень крупная, но чему здесь удивляться? Люди тоже не все великаны. Зато гляди, какая упитанная. Шерсть на ней аж лоснится. Медвежонок похудее, длинный, ершистый и совершенно мирный. Стоит, рассматривает меня и ничуть не боится.
У меня в куртке два снаряженных пулями патрона. И еще шесть штук в рюкзаке. Когда идешь в тайгу, приходится быть готовым к любым неожиданностям. Торопливо переламываю ружье, роняю в осоку заряженные на уток дробовые патроны и тянусь в карман за пулевыми. Я не собираюсь охотиться на медведей, но если они бросятся в мою сторону, нужно быть начеку.
В эту минуту сзади затрещали кусты и из лиственничника, через который я пробирался какую-то минуту тому назад, выскочил медведь. Величиной с хорошего быка, косматый и ужасно злой.
Я, лишь увидел его, понял, что там, у скал, никакая не мамаша, а самый обыкновенный пестун. А вот эта громадина — мать и пестуна, и медвежонка. Наверное, она только что паслась. Я хорошо вижу свисающие с ее рта травинки, комочки вызелененной слюны на нижней губе, ряд крупных зубов над нею. Паслась, услышала крик детей и явилась творить расправу. Вот это влип! Пять-шесть хороших прыжков — и она накроет меня как цыпленка.
Забыв обо всем на свете, с переломленным ружьем в одной руке и рюкзаком в другой, бегу через осоку прямо в озеро. За спиной ревет медведица, впереди испуганно блеют медвежата, осока путается под ногами, а здесь прямо передо мной открылась болотина. Широкая, покрытая пузырчатыми водорослями, и кто его знает, где у нее дно? Проваливаюсь чуть ли не по пояс, вода заливает сапоги, а в голове одна мысль — нападают медведи на глубине или нет? Кажется, не нападают. Хотя, собственно говоря, какая здесь глубина?
Наконец пересек болотину и, скользя сапогами, выдрался на кочку. Дальше чистая вода. В это мгновенье словно лопнула и рассеялась окружавшая меня до сих пор завеса, и я начинаю понимать, что делал до сих пор не то, что нужно. Все так же спиной к беснующейся медведице достаю патроны, заряжаю ружье и с прижатым к плечу прикладом поворачиваюсь назад. В эти доли мгновенья успеваю увидеть все: поставленную на «огонь» пуговку предохранителя, нитку водоросли на ружейном стволе, все так же стоящих навытяжку медвежат и даже то, что брошенный у ног рюкзак сползает к воде.
Но главное, конечно, медведица. Она бежит по осоке, из-под ее толстых лап во все стороны летят ошметки грязи. Почему она не догнала меня до сих пор — даже не представляю. Увидев наведенное ружье, она резко затормозила, рявкнула так, что эхо загудело по скалам, и поднялась на дыбы.
Мною же руководит какая-то неожиданная уверенность. Охотник я не так чтобы очень, но сейчас чувствую, что могу попасть в любую точку на медведице. Словно между ружьем и зверем протянута какая-то ниточка и стоит только захотеть, как пуля пойдет строго по ней. Перевожу мушку ружья то к вылезшей подмышке медведицы, то к косматой шее, то к сверкающим злобой глазам.
Медведица моментально почувствовала происшедшую со мной перемену, поняла, что находится в моей власти, обиженно хрюкнула, опустилась на четвереньки и бочком-бочком подалась к лиственничнику. У самой его кромки еще раз обернулась и, удостоверившись, что я все еще стою на кочке, по большой дуге обогнула озеро и выскочила к голубичнику.
Медвежата у самых скал. Стоят, словно солдатики, опустив лапы по швам, и дружно так поворачивают головы то в мою сторону, то в сторону матери; снова ко мне и снова к матери.
Медведица подбежала к ним, что-то хрюкнула, и все дружно покарабкались по пробитой в скалах лощине. Камни с шорохом катились вниз, некоторые долетали до озера и плюхались в воду. Откуда-то с шумом налетела стая уток, пронеслась над головой и скрылась за лиственницами. Я проводил уток взглядом и вдруг пожалел о тех выроненных в осоку дробовых патронах. Стая летела довольно низко, и можно было запросто сбить парочку чирков.
Медведи уже у самой вершины. Впереди медведица, за нею, буквально уткнувшись носом ей в хвост, пестун, и чуть поодаль пыхтит медвежонок. Теперь он совсем маленький и круглый, как мяч. Вот звери уже на скале, немного постояли, поглядели в мою сторону и скрылись.
Я поднял рюкзак, выбрался на берег, слил из сапог воду и принялся собирать ветки для костра. Все делал спокойно, я бы даже сказал, хладнокровно. Но вот разжечь костер сразу не смог. Достал коробок, открыл, а захватить спичку не получалось — дрожали пальцы. Скоро озноб передался всему телу: тряслись руки и ноги, зубы выбивали такую дробь, что челюстям было больно.
Сижу у кучи дров, медведей ни слуху ни духу, рядом заряженное пулями ружье и еще наготове шесть медвежьих зарядов, а я трясусь.
…В ту ночь я спал в тайге. Соорудил шалаш, нарезал для постели прошлогодней травы. Словом, устроился довольно основательно. Тепло, уютно, рядом потрескивает костер, на ближней лиственнице возится стайка щуров — можно спокойно спать. Я же лежу и все пытаюсь понять, что произошло сегодня со мною? Почему я так вел себя? То праздновал труса, то готов был разделаться с этой медведицей в два счета?
Наверное, во мне, как и во всяком другом человеке, где-то в глубине подсознания хранится весь жизненный опыт моих предков. Только вызвать его к жизни можно не во всякий час, а лишь в минуты высшего напряжения. В первое мгновенье перед разъяренным зверем метался сегодняшний изнеженный цивилизацией человек. Потом, когда казалось, что медведь вот-вот настигнет меня, в подсознании проснулся мой далекий пра-пра…дед. Тоже бродяга и тоже охотник. Конечно же, он очень удивился моему поведению и сразу же как-то там одернул меня. Мол, что это ты, внучек, суетишься? Да я их еще пещерных дубиной гонял, а у тебя ружье! А ну, спокойней. Руку потверже, глаз поострей! Тоже мне, нашел от кого бегать!
Так он руководил мною минут двадцать, а когда опасность миновала — оставил меня, и я снова принялся дрожать, да так, что не мог удержать спичку.
Он, мой пращур, и раньше не раз выручал меня. Это было, когда я, заблудившись в метель, устроился ночевать у костра, хотя до избушки оставался какой-то километр. Задремав всего лишь на минуту, я проснулся с совершенно ясной головой и сразу же разобрался, где север, где юг. Поднялся, собрал вещи и через полчаса был дома.
А однажды я в такую же вот, как и сегодня, пору рыбачил на Явканских островах. Ложился спать, все было нормально, и вдруг среди ночи проснулся словно от толчка. Гляжу, мой остров заливает водой, главное же лодку начало относить от берега. Едва я ее догнал…
Выручил он меня, когда я учуял подкравшуюся к палатке рысь, когда мой плот затянуло под завал, когда целую неделю в пятидесятиградусный мороз выходил из верховьев Фатумы, проваливался в полыньи, попадал в наледи и лавины и не только остался жив, а даже пальца не обморозил.
Вот поэтому я с благодарностью думаю о своем давнем пращуре и за его приобретенный для меня опыт говорю спасибо!..
На этом я успокоился и начал дремать. И вдруг меня поразила внезапно пришедшая мысль:
— А как это будет со мною? Может, и мой опыт, мое умение тоже отложатся в подсознании моего потомка и в трудную для него минуту я буду приходить к нему на помощь? А ведь не так давно при мне оскорбили женщину и я сделал вид, что ничего не заметил; потом спасовал перед самодуром и хамом только потому, что он мой начальник и сможет потом как-то там ущемить меня, в третий раз я пожал руку вору и мошеннику. Знал, что вор, знал, что мошенник, а все равно пожал.
А если все это оживет в моем потомке в решающее для него мгновенье? Скажет ли он мне спасибо?
Спальник на двоих
Шапка
До чего же удивительная шапка у Васьки Чирка. Заячья! Теплая, пушистая. Не страшен в ней Чирку никакой холод. Заночует в тайге — шапка служит ему вместо подушки. Наш бригадир Шурига на ночь под голову кладет рюкзак, я — лиственничные веточки, а Васька Чирок спит на шапке и встает утром бодрее, чем дома.
— Вы не знаете самого интересного, — говорит он. — Я в этой шапке подберусь к самым осторожным уткам. Вот ползу я в кустах, а утки по озеру плавают и достают со дна водоросли. Меня они, конечно, услышат, насторожатся и смотрят — кто же там шуршит? А из-за кустов выглядывает моя шапка. Снизу она светлая, сверху серенькая — настоящий заяц. Селезень сразу спокойно так: «Кря-кря!» Не бойтесь, мол, это заяц щиплет траву. Его нам бояться нечего. Утки волноваться и перестанут.
Вот такая чудесная шапка была у Васьки Чирка.
А почему была? Разве ее нет сейчас?
Где-то, конечно, есть. Только Васька никак не может ее найти. Охотился он как-то на Щучьем озере. Дело утром было. Солнце еще не взошло, но уже высветило вершины дальних сопок. На озере туман, словно пуховая подушка. В тумане гагара полощется, чистит свои перья. У берега играют маленькие рыбки. А в ольховнике посвистывает рябчик, зовет свою курочку:
«Ти-и-ить, ти-и-ить!»
Дай, думает Васька, подманю рябчика. Искать рябчика в тайге дело хлопотное, перышки у него серые, словно кора на деревьях. Затаится на ветке — сто раз мимо пройдешь, а все равно не заметишь.
Вырезал Васька Чирок из тальниковой ветки манок-свистульку и давай свистеть: «Ти-и-ить! Ти-и-ить!» Рябчик в ответ: «Ти-и-ить! Ти-и-ить!»
— Чудеса! — радуется Васька. — Это рябчик думает, что здесь, в кустах, сидит, курочка. Сейчас он прилетит прямо ко мне.
И еще старательнее дует в манок. Рябчик отозвался еще раз, потом вдруг тревожно свистнул и замолчал. Наверно, Васька чем-то насторожил его. Сидит рябчик на ветке и молчит. Совсем рядом притаился, а все равно не разглядеть. Васька же, знай, старается: «Ти-и-ить! Ти-и-ить!»
Вдруг откуда ни возьмись налетела сова. Огромная, рыжая. Ударила крыльями по лицу, схватила когтями шапку и в кусты. Пока Васька пришел в себя, пока схватился за ружье, совы и след простыл. Улетела разбойница и унесла с собою шапку. С тех пор Чирок ходит на охоту в фуражке.
— Ну ее, эту шапку, — говорит он. — Хорошо, сова позарилась на нее, а если бы рысь или росомаха? Они ведь тоже уважают зайчатину.
Васькины ключи
Долина, в которой лежит наш поселок, знаменита тем, что в ней прямо из-под земли бьют горячие ключи. В таком ключе можно запросто сварить несколько картошин или узелок рисовой каши. И еще вдоль этой долины проходит птичья дорога, которой утки, гуси, кулики и даже лебеди осенью летят в теплые края, весной — обратно.
Первыми летят кулики, через неделю гуси с утками, затем уже лебеди. Когда пролетают лебеди, наступают морозы и уже зима.
Путь у птиц неблизкий. Одни зимуют в Африке, другие в Австралии, третьи еще дальше. Летят птицы ночью и на рассвете, а днем отдыхают на озерах и реках. Здесь они кормятся, спят, приводят в порядок оперение. Такие места я называю птичьими станциями. На Щучьем озере останавливаются черни, турпаны, свиязи. Гремучий плес нравится чиркам и шилохвостям. Гуси отдыхают на Лосином болоте. Гусь птица осторожная и садится только в открытых местах. Снова же корму на болоте много: шикша, голубика, разная трава.
А вот кулики в нашей долине не имели никакой станции. Шумнут над головой, пропищат жалобно «Ти-ви-ти! Ти-ви-ти!» и направляются к перевалу. Хоть и уставшие, и есть хочется, а нужно лететь дальше. Даже немного обидно за них.
И вдруг станция появилась. Соорудил ее мой товарищ Васька Чирок. Он и в самом деле немного похож на чирка. Небольшой, остроглазый, и нос лопаткой.
Как выстроили у нас животноводческую ферму, бригадир Дал Ваське задание осушить торфяник. Сел тот на бульдозер и прокопал вдоль торфяника глубокую канаву. Вода сбежала в эту канаву, и стал торф легким да ломким до удивления. Чуть пальцем придавишь — он уже крошится. Этот торф потом у нас вместо удобрения рассеивали по полям.
Пробивая канаву, Васька нечаянно открыл теплые ключи. Никто и не предполагал, что они там могут быть. А вот, гляди, как достиг двухметровой глубины, так ключи и заструились.
Чирок спрыгнул с бульдозера, сунул руку в воду, а она до того теплая, словно ее подогрели. В такой воде, конечно, картошки не сварить, но канава не замерзает никогда. Мороз под пятьдесят градусов, река до самого дна схватилась льдом, а в пробитой Чирком канаве только пар гуще берется. Нигде ни одной льдинки.
И стали останавливаться каждую весну здесь кулики на отдых. Придешь вечером к торфянику — тут тебе и перевозчики, и улиты, и турухтаны. Бегают вдоль канавы, добывают червяков длинными клювами прямо из-под земли. Шумно, колготно.
Так что теперь у нас появилась и куличиная станция. А называется она Васькины Ключи. Хорошо называется, не правда ли?
Зима и лето
С вечера ударил такой мороз, что заводь напротив избушки покрылась льдом и, чтобы набрать воды, пришлось спускаться к перекату. Пока ходил за водой, вспугнул полярную сову и вытоптал зайца. Огромная птица подпустила меня совсем близко, угрожающе щелкнула клювом и улетела к болоту. Я проводил ее взглядом, ступил несколько шагов, и здесь прямо из-под ног выскочил заяц. Наверное, он прятался под выброшенными половодьем деревьями, а эта сова на него охотилась.
Зверек давно приготовился к зиме, сменив короткую серую шерсть на белую а снега все нет. Вот он и отсиживается у реки. Здесь много старых завалов, рядом густой тальник — подкрасться к косому трудно.
И жил бы спокойно даже в такое бесснежье, если бы не сова. Каждую зиму она прилетает сюда из-за Полярного круга и нагоняет страх на все живущее у моей избушки.
К утру потеплело и пошел снег. Я обрадовался за зайца, но лишь взошло солнце, снег растаял, над головой целым роем закружилась мошка. На спуске к реке ожил застывший было ручеек и раскрылись одуванчики.
Значит, сегодня ночью сова опять будет охотиться за зайцем, а тот до утра будет дрожать в своей утайке, радуясь каждой упавшей с неба снежинке. Днем солнце в свою очередь будет охотиться за снежинками, и что за ночь нападает, обязательно к вечеру растопит. Даже следочка не оставит.
Вот так и кружат у моей избушки зима и лето. То один придет в гости, то другой. И каждый не прочь остаться надолго. Но у лета уже нет силы, чтобы прогнать зиму, а у зимы еще нет ее, чтобы расправиться с летом. Жить же рядышком мирно да дружно им не положено.
Одержимость
Глубокая осень. Лежу на ковре из березовых листьев и смотрю в небо. В нескольких шагах от меня под высоким тополем памятник вулканологу Былинкиной. Девушка поднялась на вулкан Ключевской и погибла. Через голые ветки проглядывает этот вулкан. Чуть ниже курящейся вершины белеет гряда заснеженных гольцов.
Интересно, что ее туда повело? Ведь знала же, что может погибнуть, и вряд ли была уверена, что в то свое последнее восхождение откроет тайны всех вулканов. Но все равно пошла.
Надо мною пролетают редкие пушинки. Иногда ветер отрывает лоскуток тонкой березовой коры, тот взлетает и устремляется за одной из пушинок, словно хочет догнать ее. Но скоро запал кончается и лоскуток стыдливо опускается на землю. Пушинка же блеснет серебром и растает, будто смеется над неудачником.
Вчера ветер тянул вдоль долины и эти пушинки летели целыми стайками. Каждая из них несла маленькое семечко. Значит, через год-другой там, в верховьях долины, среди зарослей иван-чая, пижмы и тысячелистника проглянут золотистые, так похожие на маленькие солнца цветы.
Сегодня холоднее. Ветер дует поперек долины, и одуванчики, словно зная, что их пушинки могут улететь в пустые, безжизненные гольцы, закрыли свои корзинки и крепко держат рвущиеся в небо парашютики. Но всех удержать не могут. Самые нетерпеливые вырываются на волю, подхваченные ветром, взмывают над деревьями и летят в сторону укрытых снегом гольцов и дышащих огнем и пеплом вулканов. Никогда ни одному из занесенных туда семечек не прорасти на обожженных лавой склонах, не порадоваться весне, теплому дождю, звонкому пению птиц. Ждет их каменная пустыня, безнадежность и верная гибель.
А они летят.
Человек
Вчера у меня был гость. Я поужинал и готовился спать, вдруг слышу — кто-то идет. Оказывается, километрах в пяти остановились оленеводы и их бригадир заглянул познакомиться. Это довольно рослый двадцатитрехлетний парень с шапкой кудрявых волос и чуть раскосыми глазами. Я соскучился по людям, на радостях зажег три свечи и достал из рюкзака пачку цейлонского чая.
Олег, так звали моего гостя, был сыном эвенки и украинца и довольно удачно наследовал характерные черты обеих национальностей. Были в нем и присущая коренным северянам деликатность, и истинно европейская напористость, и детская наивность, и в то же время поражающая своей логикой практичность.
Сейчас вокруг оленеводства ведется много разговоров. Олег внимательно следит за ними и настроен скептически.
— Представляете, они ругают пастухов за то, что мы перестали ездить верхом на оленях. Говорят, деды ездили, а эти, видишь ли, не желают. Но дед Пакко весит килограммов пятьдесят вместе с котомкой, к тому же он вот такого роста. А я этого учика раздавлю.
Я посмотрел на Олега и невольно улыбнулся. Действительно, сажать его на оленя — дело рискованное.
Потом бригадир рассказал, что недавно они нашли в речном обрыве большую кость и отправили в Академию наук, но ответа еще не получили. А после пятой чашки ароматного цейлонского чая мы перешли к спору о происхождении человека. Олег не верит, что в условиях нашей планеты могло вообще появиться живое существо — крокодил или даже каракатица. А уж о человеке и говорить нечего.
— Хотя, конечно, все необходимое для этого есть, но ведь его нужно было кому-то выстроить в таком порядке, чтобы каждая частица заняла только свое строго отведенное ей место, — поднимал мой гость палец вверх и щурил и без того узкие глаза. — Все равно как взять детали от приемника, высыпать в ведро и трясти до тех пор, пока из ведра не донесется музыка.
И такая в моем госте была убежденность, что я почти согласился с его доводами.
Но сегодня утром я отправился проверять поставленные на налимов жерлицы, увидел на речной заводи лисьи хвосты из лиственничных хвоинок, снежные хризантемы, выросшие на берегу Фатумы за одну только ночь, узоры, которыми мороз разрисовал молодой лед, и все доводы моего гостя рассеялись как дым.
Падают в реку желтые лиственничные хвоинки, та сносит их в заводь и вместо того, чтобы сбить в бесформенный ком, аккуратно, хвоинка к хвоинке, ткет узорчатый ковер. Возьми с узора хотя бы одну иголку — и сразу все нарушится, превратившись в нагромождение лесного мусора.
Точно так же со снежными хризантемами на камнях и узорами на льду. Испарялась себе вода, оседала на прибрежные камни, веточки сухой травы или лед, ну и что здесь такого? Образовались бы наплавы льда или комочки инея. Так нет же. Каждый кристаллик нашел себе такое место, что в результате образовались удивительнейшие цветы, какие не под силу самому искусному мастеру.
Но здесь-то все случилось за одну только ночь, а на человека природа отвела многие века. Вот она и составляла лучшие свои частицы в одно целое, не жалея ни сил, ни времени. Случалось, конечно же, и ошибалась, но все равно находила терпение исправить ошибки, довести свое творение до совершенства. И получился человек.
Жить и доживать
Поздняя осень. Трава у тропинки доживает последние дни. Потемнела недавно яркая пижма, будто ржавчиной покрылись листья иван-чая, упругими волнами лежит на земле пышная осока.
Лишь на самом спуске к реке по-прежнему цветет одуванчик. Словно и вправду недавняя ночь уронила здесь одну из своих звездочек.
Я ставлю ведро с водой на землю, долго с нежностью гляжу на распустившийся не ко времени цветок и пытаюсь понять, откуда у него такая отвага?
На седых от пыли листьях блестят иголки инея, лужица у берега покрылась тонким льдом, по реке идет шуга, а он цветет! Так, в самом цвету, и под снег уйдет.
Наверное, все от того, что этот одуванчик любит жить, а не доживать.
Осенний день
С утра светило солнце и совсем по-летнему тенькали синицы, потом вдруг нахмурилось, дунул промозглый ветер и бросил в лицо горсть колючих снежинок.
Я решил было, что наступила зима, но уже через час опять светило солнце, всеми красками радуги горели заросли ерниковой березки и разыгравшиеся вороны крутили над рекой веселую карусель.
Потом снова были ветер, снег, вёдро и непроглядная хмарь, а к вечеру брызнул частый дождик. С этим дождиком день и угас, забрав с собою солнце, ветер, снежинки, птичий гомон и разноцветье осенней тайги. Забыл он прихватить один лишь дождик, и тот сеял всю ночь, не умолкая ни на минуту.
Летом ведро воды — ложка грязи, осенью ложка воды — ведро грязи. Неудивительно, что к утру река вздулась и на улице нельзя было показаться без плаща и резиновых сапог.
Наконец пришел новый день и, словно спохватившись, тотчас убрал дождик. Вновь ожили птицы, вспыхнула роса на потемневших ветках, туман над рекою испуганно прижался к воде и скоро растаял.
А день, словно чувствуя вину за забывчивость своего вчерашнего брата, до самого вечера угощал нас непривычно щедрым и ласковым солнцем.
Спальник на двоих
Медведь забрался в мою охотничью избушку и устроил в ней погром. Смял и перевернул печку, разломал на щепки стол и, прихватив спальный мешок, ушел по своим медвежьим делам. Чем его прельстил мой мешок — не знаю. Может, спальник показался ему маленькой человеческой берлогой и медведь захотел попробовать, как в нем спится, а может, зверя смутил запах, идущий от завернутой в мешок пуховой подушки. Скорее всего второе. Потому что мешок он разорвал и выбросил уже в какой-то сотне шагов от избушки, подушку же распустил далеко за ручьем.
Рассеянный вдоль тропинки пух скоро прибило дождем, и пользовался ли им кто-нибудь из живущих в тайге птиц и зверей — неизвестно. А вот спальный мешок нашла белка и сразу же принялась выдергивать из него вату, чтобы утеплить гнездо. По этой-то вате я и нашел остатки своей постели. Иду вдоль ручья, смотрю, не плеснет ли где хариус, и вдруг прямо перед собой вижу увешанную ватой лиственницу. Словно кто-то праздновал вокруг этого дерева новогоднюю елку, потом игрушки убрал, а вату оставил. Беличьего гнезда я сразу не заметил. Оно было с другой стороны дерева. А когда заметил, понял, что эта белка где-то добыла ваты для утепления своего гнезда, и даже мысленно похвалил зверька за такую расторопность. Конечно же, при этом я не подозревал, что этот строительный материал выдернут из моего спальника. И только потом, когда завернул под лиственницу и нашел обрывки своей постели, понял, что к чему.
Зашел в избушку, немного погоревал, установил, что смог, на прежнее место и, завернувшись в обрывки принесенного от лиственницы спального мешка, лег спать. Утром проснулся — холодно. Гляжу в окно, как там чувствует себя ограбившая меня белка, а она, словно ничего не случилось, гуляет по деревьям. То спустится к самой земле, то завьется к гнезду, а то пристроится на ветке и что-то грызет.
Не знаю, может быть, у кого от вида этого зверька поднимается настроение, меня же вдруг взяла обида. И на медведя, и на белку. Ну украли мешок и шут с вами, так хотя бы с пользой. А то один порвал и выбросил, а другая вату повыдергивала и, пока донесла к гнезду, половину растеряла на ветках. Я же теперь благодаря им замерзаю.
А белка опять спустилась на землю, торопливо пересекла вырубку и направилась к моей избушке. Метрах в двадцати нырнула в траву, покопалась там и вскоре показалась с грибом в зубах. Чуть посидела, в три прыжка забралась на кучу веток и уселась там на самой вершине. Я думал, сейчас белка начнет этот гриб есть, и даже пристроился поудобнее у окна понаблюдать, а та воткнула свою добычу в развилку одной из веток и, даже не оглянувшись, поскакала к ручью.
«Это она мне гостинец приготовила, — подумал я и невольно улыбнулся такой мысли. — Наверное, знает, что сержусь за спальник, вот и подлизывается».
Налюбовавшись белкой, оделся и принялся растапливать помятую медведем печку. А когда она разгорелась и в избушке стало тепло, я уже перестал сердиться на белку.
Чего это я и в самом деле? Мне-то в любую минуту можно развести огонь, а у белки только на мой мешок и надежда.
Тем более, что часть его белка все же оставила нетронутой. Вот так, рядышком, мы всю зиму и жили. Я в избушке, белка в своем гнезде. И на двоих один спальник.
Предзимье
К зиме Фатума мелеет, и для того, чтобы перебраться на другую сторону, не нужно идти к перекату. Но лишь только начинаются морозы и появляются забереги, Фатума опять начинает полниться водой. И чем дальше ледяная кромка подбирается к стрежню, тем река глубже. Пройдет всего лишь одна-две недели, и там, где выглядывала отмель, бурлит темная холодная вода.
Ничего не пойму. Последний дождь был в августе, ручьи вымерзли до дна, а она…
Я долго возмущался таким поведением Фатумы, потом не выдержал — оделся потеплее и отправился искать причину. Оказывается, с первыми морозами все дно перед перекатом забил донный лед. Он-то и поднял воду над отмелью. К тому же, раньше поток притормаживался только дном и берегами реки, сейчас его сдерживает и лед, которым Фатума укрыта сверху. И еще, наверное, остывшая вода стала вязче и стекает не так быстро.
Я обрадовался своему открытию и уже не злился на Фатуму, хотя для того, чтобы перебраться на противоположный берег, мне снова приходилось идти к перекату.
Более того, если она вдруг переставала набирать глубину, во мне появлялось какое-то недовольство. Словно Фатума решила схитрить и как-то там умалить мою сообразительность.
Хариус и мальки
Две недели стояла хорошая погода, потом вдруг задул сухой морозный ветер, сыпанул желтой хвоей, закружил багровым листом. Небо оставалось по-прежнему высоким, но неторопливо плывущие у самого солнца тучи и даже солнце, казалось, дышали промозглым холодом. Снега не было, только колючие ледяные крупинки больно хлестали в лицо да на застывших лужицах надуло белые гребешки.
В речных заводях появился первый лед. Он был неширок и до того тонкий, что от малейшего усилия прогибался и стрелял белыми лучиками. Но сразу же под эту ненадежную с виду защиту устремились родившиеся в этом году хариусята, форельки-икроеды, краснопузые гольянчики. Плавают туда-сюда и, хотя слышат мои шаги и даже хорошо видят меня, — удирать не торопятся. Детский сад да и только.
Обязательно в такой вот стае рыбок-маломерок болтается полукилограммовый хариус. По своей природе крупный хариус — самый отъявленный хищник, и обычно его добычей становятся вот такие рыбки-малышки. Почему же здесь никто никого не хватает, никто никого не боится? Даже наоборот: куда хариус — туда и мальки.
Я долго не мог понять причину такого поведения рыб, пока не вспомнил жившего когда-то в нашей деревне Володю Мачка. Он работал в колхозной кузнице: ремонтировал сеялки, натягивал ободья на колеса и ковал коней. Все же остальное время он проводил с детьми. Играл с нами в казаки-разбойники, запускал змея и даже таскал арбузы с колхозной бахчи.
И везде, как эти мальки за хариусом, ходили мы за нашим предводителем. Сопливая босоногая ребятня и высокий, прокопченный кузнечным дымом Володя Мачко.
Может, такой Володя есть и у рыб, а?
Осеннее
Злой утренник обжег растущие в долине лиственницы, и вчера деревья больше походили на горящие свечи. Осыпающиеся с них хвоинки вызолотили тропу, покрыли лисьими хвостами речную заводь, даже шляпка примороженного гриба напоминала маленького ежика.
С вечера разгулялся сильный ветер, и к утру из былого разноцветья осталось только черное. Черная тайга, черные останцы на сопках, черные вороны в сумрачном поднебесье.
Лишь стоящая у реки небольшая лиственничка по-прежнему красуется в осеннем наряде. Деревья вокруг зябкие, голые, а эта — словно и не зима на пороге.
Мне бы порадоваться нарядной лиственнице, а сердце сжимает грусть. Вода подмыла корни у дерева, и в следующую весну оно уже не оденется в новую хвою. Поэтому-то и не торопится расстаться с прежней.
Антилопа гну, заяц и синичка
Избушку, которую занимает Шурига, косари называют бригадирской. Она самая просторная и служит им кают-компанией. Здесь проводят собрания, играют в шахматы, читают газеты и журналы.
Сейчас в ней пусто. Лишь только я заглядываю сюда, играю сам с собой в шахматы или копаюсь в старых журналах. В одном из журналов я встретил поразившие меня фотографии. Они рассказывали, как молодые львы охотятся на антилоп.
Молодые лев и львица подкрались к стаду животных и набросились на одного из них. Львица вцепилась жертве в морду, а лев подскочил сзади и пытается свалить антилопу на землю. Невдалеке растерянно топчется еще несколько таких же антилоп. Это очень похожие на наших коров крупные животные с острыми рогами и сильными копытами. Если бы они решились защищаться, то, без сомнения, расправились бы с хищниками. Но… львы возились с антилопой очень долго. Они нападали на нее с боков, хватали зубами за круп, рвали когтями шкуру, а она стояла и ждала, когда же ее в конце концов загрызут. Наконец хищники сумели повалить антилопу и устроили трапезу. Автор объясняет такое поведение антилопы тем, что она находилась в шоке. Я подивился его выводу. Допустим, животное было парализовано страхом на пять-десять секунд, но потом-то антилопа должна прийти в себя. А то ведь не шелохнулась до самого конца.
И вообще, как же так? Я много раз читал, как лось, отбиваясь от волков, убивал тех рогами и копытами. Да что там лось? Известный трусишка заяц в одном из рассказов перебил филину крыло, в другом расправился с коршуном, в третьем отбился от лисы.
Происходило все очень даже понятно и просто. Почувствовав, что хищник вот-вот схватит его, косой переворачивается на спину и принимается молотить в воздухе длинными и очень сильными лапами. Увлеченный погоней хищник попадает под одну из лап, и… «натуралист» сообщает: «…заяц поднялся, отряхнулся и неторопливо ускакал в кусты, а филин остался лежать на снегу с перебитым крылом». Вот видите, заяц сражается, а эта корова стояла и ждала, когда же ее наконец сжуют.
…Дней через десять я снова вспомнил об этих фотографиях. Приближалась зима. Похолодало, но снег еще не выпал. Ночью морозы достигали двадцати градусов. Почти все озера покрылись льдом, и перелетные утки останавливались на речных плесах.
У того завала, где я поймал щуку-оборотня, плескалась стая запоздавших чирков. Вечером к ним присоединилось штук десять шилохвостей. Следом за ними прилетел ястреб-тетеревятник. Он сел на вершину стоящей неподалеку лиственницы и, казалось, совсем не интересовался утками. Вооружившись биноклем, я забрался на тюки с сеном и принялся наблюдать за птицами.
Утки вели себя беспечно. Одни спали на берегу, другие ныряли на дно омута за водорослями, третьи склевывали ягоды с кустов голубики. Шилохвости были намного крупнее чирков. В бинокль я хорошо видел черные головы, светлые грудки. Чирки отличались от своих подружек зелеными зеркальцами на крыльях.
Ястреб сидел ко мне ближе. Оперение его оказалось неожиданно светлым, почти белым. Темными были только спина и пестрины на груди. Обычно тетеревятники темно-коричневые, а такие вот встречаются лишь у нас на севере. Бросались в глаза высокие сильные ноги в пышных «галифе», длинный хвост и крючковатый клюв.
Несколько раз ястреб наклонялся, словно примериваясь, как бы лучше слететь с ветки, но затем выпрямлялся и застывал, как статуя. По всему видно, он чего-то выжидал.
Вдруг утки всполошились и тревожно закричали. Одна из них взлетела и подалась в сторону перевала. Тотчас ястреб бросился ей наперерез. Летел он быстрее жирной осенней шилохвости, и ее минуты были сочтены. Но вдруг, когда расстояние между птицами сократилось до какого-то десятка метров, утка перевернулась через крыло и стала падать. Ястреб еще чаще замахал короткими крыльями и у самой воды настиг утку. При этом он стал почти вертикально, выбросил далеко вперед ноги и царапнул утку то ли по спине, то ли по боку. Над птицами зависло облако перьев, утка тотчас нырнула, а ястреб распластался на воде.
Сначала мне показалось, что он ранен. Ястреб же просто отдыхал. Широко раскрыв клюв, он лежал на самой стремнине и вертел головой, пытаясь понять, куда же девалась утка. А та вскоре вынырнула у берега и здесь же, на виду у ястреба, начала приводить в порядок перья. Она несколько раз расправляла и складывала крылья, проводила клювом по спине. Словом, вела себя так, будто не была только что на грани гибели…
Ястреб проплыл метров тридцать, взлетел и, описав круг над шилохвостью, направился к своей засидке.
Утки по-прежнему плескались в омуте, тихо переговаривались, дремали. Видели ли они, как ястреб напал на их подругу, не знаю. И еще меня удивило, почему он не трогает всю стаю, а сидит и выжидает одиноких уток?
Ястреб завозился, вытянул шею и начал всматриваться в противоположный берег. Я тоже глянул туда и увидел зайца. Он ковылял в какой-то сотне метров от меня, и были хорошо видны даже черные кончики на его ушах. Заяц успел вылинять и, наверное, понимал, как заметен среди низкорослых тальников. Поэтому-то, сделав пять-шесть прыжков, становился столбиком и осматривался. Вскоре он присел у выброшенного половодьем тополя и принялся обгрызать кору на ветках.
Ястреб переступил с ноги на ногу, щелкнул клювом и замер. Наверное, он выбирал удобный момент для того, чтобы напасть на зайца. Тополь лежал у опушки густого лиственничника, и достаточно косому сделать два-три прыжка, как он окажется в безопасности. Вот ястреб и ждал, когда тот удалится от тополя. А может, ему мешали нависшие над зайцем ветки.
Наконец заяц выбрался из-под сучьев, обогнул тополь и сел к нам спиной. Тотчас птица слетела и, прижимаясь к земле, устремилась к добыче. Сейчас ястреб подлетит к беляку, ухватит его когтями за спину, и тому несдобровать.
Я подхватился и закричал изо всех сил:
— Эй, косой! Спасайся-а!
Заяц присел, словно приготовился сделать прыжок, затем резко повернулся и увидел ястреба. Здесь и птица, и зверек повели себя более чем странно. Ястреб не бросился на зайца, а просто сложил крылья и сел в полуметре от него. А беляк, вместо того чтобы кинуться наутек, ни с того ни с сего засучил передними лапами, затем подпрыгнул вверх и уселся на прежнее место. Движения его были какими-то вялыми, словно в кино при замедленной съемке. Ястреб взлетел, часто махая крыльями, завис над зайцем, затем снова опустился рядом с ним. А тот не падал на спину, не пытался убегать и вообще не предпринимал ничего для своего спасения. Подпрыгнет еле-еле, сядет и глядит на ястреба, снова подпрыгнет и снова смотрит.
На мои крики ни птица, ни зверек не обращали внимания. Вот ястреб взлетел, опустился зайцу на спину, несколько раз ударил его клювом, и тот, дергая длинными лапами, упал на песок.
Я скатился с тюков и, стараясь криком отпугнуть хищника, бросился через перекат. Наконец ястреб услышал меня, поднялся на крыло и исчез за деревьями. Когда я подбежал к тополю, заяц уже не шевелился…
Я рассказал о случившемся нашему бригадиру Шуриге. Тот двинул плечами и сказал:
— Кто ее поймет до конца, эту природу? Хочешь, я тебе расскажу один случай? Как-то вечером, зимой дело было, на стоящую у крыльца колоду опустилась синичка. Недавно на этой колоде рубили мясо, пичуга и прилетела выковыривать остатки. Крылышки расставила, перья взъерошила и знай старается. Я из избушки вышел, а она меня и не видит. Протянул руку, хоп! и накрыл. Синичка сразу же затихла и не шелохнулась. Убрал руку, а она мертвая. Глаза закрыла, крылья раскинула, и голова вот так отвисла.
Ах, дурак, думаю! Зачем живую душу погубил? Она ко мне с доверием, а я… Только я так подумал, синичка вдруг шевельнулась, глаза открыла, пурх! и уже на ветке. Сидит, хитро так посматривает. А ведь мертвее мертвой была.
И ни за что не поверю, что она специально притворилась. Для того, чтобы такое придумать, даже человеку нужно какое-то время, а она ведь в один миг отключилась. Значит, это в ней природой заложено. Как опасность — так лапки кверху. Начни она вырываться, кто его знает, чем все кончилось бы. А так, гляди, замерла на время и спаслась.
Наверное, и антилопам с зайцами такое свойство когда-то сохраняло жизнь. В природе ведь все умно, все к месту. Только понять ее до конца нам пока что не удается.
Цветы у обочины
Однажды на рассвете я возвращался от Щучьего озера, где ставил жерлицы на налимов, и увидел нашего дворника Федю. Тот сидел на корточках у обочины дороги и что-то там разглядывал. Услышав мои шаги, он поднял голову, посмотрел, кто это там идет, и снова уставился себе под ноги.
Я подошел ближе и ахнул. Вдоль дороги за одну только ночь выросли белоснежные цветы. Выжатый морозом родник пролился на землю, окутал паром россыпь камней, и те превратились в крупные хризантемы, нежные ромашки и еще какие-то неизвестные мне, но очень красивые цветы. Солнце только-только всходило, косые его лучи просвечивали через прозрачные лепестки, и те загорались то желтым, то синим, то фиолетовым цветом.
Федя никудышный человек. Лгун, лодырь и пьяница. К тому же я подозреваю, что он частенько проверяет мои жерлицы и снимает с них налимов. Естественно, никакой симпатии я к нему не питаю. Но вот мы вместе с ним увидели чудо, стали хранителями одной общей тайны, и с тех пор при встрече с ним я испытываю тихую и добрую радость.
Отметины
А рожь сей!
Урожай в этом году не задался. Голубика встречалась только редкими жухлыми ягодками, на кустах кедрового стланика не созрело ни единой шишки, не было шишек и на лиственницах. К концу лета и зверь, и птица повели себя необычно. Медведи забрались на горелые сопки и паслись там на недозрелой бруснике, хотя обычно этой ягодой они интересуются только в начале весны. Бурундуки запасли в свои кладовые не орешки, а плоды водяники, пойманных в траве жуков и кобылок и даже таскали туда яичные скорлупки. Кедровики перебрались поближе к человеческому жилью и в компании с собаками и воронами дежурили у мусорных ящиков. Даже глухари и куропатки вместо того, чтобы таиться в голубичных зарослях, выходили на дорогу и, рискуя оказаться под колесами машин, общипывали придорожные кусты.
На берегу реки все чаще встречались следы белок. Все они вели на юг — в сторону далекого Охотского моря. Там, на побережье, неплохо уродил кедровый стланик, вот зверьки и отправились в путешествие.
К счастью, уже в начале сентября прошли дожди, установилась теплая погода и появились грибы. Тотчас таежные жители накинулись на долгожданное лакомство. Грибами угощались все: лоси и олени, снежные бараны и пищухи, бурундуки и полевки. Кто меньше, кто больше, но ни один из них не оставлял без внимания выглядывающую из-под ягеля коричневую шляпку гриба масленка или спрятавшийся в заросли ерниковой березки тонконогий подберезовик.
Но, конечно же, больше всех обрадовались грибной поре белки. С утра носились они по тайге, готовя зимние припасы.
У нас белки редко накалывают грибы на сучья, чаще они просто пристраивают свою добычу в развилку веточек или прячут под коряги. Любопытно, что они ни капельки не брезгуют червивыми грибами. Даже наоборот — такой гриб для них еще лакомей.
Поселившаяся неподалеку от моей избушки белка просыпалась затемно. Я слышал, как она шуршала лапками по коре и сердито фыркала, таким образом выражая недовольство слишком затянувшейся ночью. Наконец наступал рассвет, белка спускалась вниз и отправлялась на поиски грибов.
В первую очередь она осматривала заброшенную лесовозную дорогу, затем поворачивала на старую вырубку и от нее уже к заросшей ерниковой березкой покатой сопке.
Иногда белка заглядывала в гости и ко мне. На этот случай я оставлял у поленницы пару сухарей. Белка в несколько прыжков оказывалась возле добычи, оглядывалась и тащила ее в утайку под сухую лиственницу.
Я радовался за свою соседку. Если белка запасает грибы, значит, останется здесь зимовать. Путь к морю не близок, и далеко не каждая белка туда доберется. Одну при переправе через реку схватит щука, другую поймает ястреб, третью — лисица или соболь. А уж сколько их утонет в реках или просто погибнет от истощения — и говорить не приходится.
К тому же, кто их ждет в том далеком краю? Ни гнезда, ни дупла для них никто не приготовил, да и попадут ли на кормное место — это еще бабушка надвое сказала. Недаром же ни одна белка не возвращается из подобного путешествия. А дома-то и стены помогают.
И вдруг моя соседка исчезла. Я думал, она перебралась через ручей. Там грибов куда больше, к тому же недавно я обнаружил за ручьем целые заросли шиповника. Ягоды не так крупные, но при желании можно набрать ведро, а то и два. Может, белка решила заготавливать и ягоды?
Я натянул сапоги с высокими голенищами, сунул в карман пару сухарей и отправился на поиски. Перебрел ручей, обследовал шиповник, проверил всю пойму аж до Налимьего озера, но нигде своей соседки не встретил. И вообще, за полдня не встретил ни одной белки.
Раздосадованный, спустился к реке и сразу же заметил, что песок у берега истроплен беличьими лапками. Все следы, как и прежде, вели только на юг. Значит, моя соседка отправилась все-таки в рискованное путешествие к Охотскому морю.
Так почему она так старательно заготавливала припасы на зиму? Ведь не могла же не знать, что вот-вот покинет эти места?
Может, она все еще надеется возвратиться на родину, а может, у них точно так же, как и у людей: «Помирать собирайся, а рожь сей!»?
Первый снег
Снег в этом году где-то задержался и к концу октября успел выбелить только вершину Столовой сопки да пару гольцов рядом с нею. Живущий в ольховниковом распадке заяц давно оделся в теплую белую шубу и отрастил на ногах чудесные лыжи-пазанки, а снега все нет. В зимнем наряде среди голых ольховников он выглядит довольно несуразно. Словно нарядился к празднику, а его ни с того ни с сего отменили, вот он и бродит, не зная, где приткнуться.
Неуютно чувствует себя и белка. Она поседела, на ушах выросли длинные загнутые назад кисточки, но в бесснежье все это ей как бы ни к чему. Раньше белка по нескольку раз на день заглядывала к поленнице, что рядом с моей избушкой, случалось, даже взбиралась на крышу и я, лежа в постели, слышал, как она хозяйничает там, наверху. Теперь же грибы и сухари лежат у поленницы нетронутыми, а белка или отсыпается в утепленном ватой из моего спальника гнезде, или на весь день уходит в заросли кедрового стланика.
Наконец с вечера полетели редкие снежинки, потом запуржило так, что я, пока натаскал дров, стал похожим на всамделишного Деда Мороза.
Казалось, такая непогода надолго, но к утру утихомирилось и разгорелся по-настоящему зимний день — светлый, морозный, с поскрипывающей под ногами тропинкой и ароматом свежих огурцов.
Почему-то этот запах у северной природы самый любимый. Им пахнет морская рыба корюшка, житель наших рек хариус, первый снег и даже дующий с севера ветер. Хороший запах, бодрящий.
— Ну, — думаю, — теперь мои звери разгуляются. Куда ни посмотришь — везде снег. Мягкий, пушистый. Беги, радуйся!
Ан нет. Заяц больше суток сидел в утайке и не казал носа. Наконец отважился. Вернее, его выгнал голод. Потихоньку, с оглядкой доскакал до первых кустов выглядывающей из-под снега пушицы, пожевал стебельков, закусил корешками и снова в утайку. Страшно!
Белка и того больше. После снегопада она два дня сидела на ветках и только на четвертый спустилась вниз. Но при этом как спустилась!
Первый-то снег был с метелью, вот и налепило снега на лиственничные стволы целые подушки. Как дерево — так обязательно со снежной нашлепкой от комля до вершины. Если смотреть на тайгу от моей избушки — она из-за снега на стволах кажется белой, а если со стороны болота — черной.
И что же? Спускалась с лиственниц и взбиралась на них белка так аккуратно, что ни разу не коснулась лапками этого снега. Может, он ей казался слишком ненадежной опорой, но, скорее всего, слишком уж мало радости белке бегать по снегу. Чуть ступил — уже след.
Так белке-то что? Она по деревьям может пройти полтайги, потом спрячется в гнездо — и ищи ее. А заяц-то все время на виду. К кустику пушицы подошел — след, к тальниковой веточке завернул — след, через ручей перепрыгнул — все равно след оставил. Вот он и забирается на весь день к самой вершине Столовой сопки. Там, конечно, тоже следы остаются и тоже боязно, но зато и ему далеко видно. Сразу заметит и лисицу, и охотника. А заметил — уши прижал, хвост распушил и во всю заячью прыть наутек!
Бегать же зайца учить не нужно.
Декабрь
Солнце приготовилось спрятаться за горизонт и уже коснулось ободком Столовой сопки, да вдруг вспомнило, что светило сегодня всего лишь чуть-чуть, а уж о том, чтобы греть, не могло быть и речи. От стыда оно вспыхнуло такой алой краской, что вмиг выкрасило в этот цвет и облака, и сопки, и лиственницы на перевале. Даже снявшаяся с лиственниц кедровка казалась издали сказочной жар-птицей. Она неторопливо летела над тайгой и излучала вокруг себя розовое сияние.
А солнце горело еще очень долго, пока не сгорело совсем, и сразу же мир потускнел и наступили сумерки.
Ваньки-встаньки
Наша Невенкай знаменита вкусной водой и богатыми брусничниками, а река Таинка славится ветром. С разбойной удалью носится он над рекой, шныряет по распадкам, срывает остатки снега с перевалов и сопок. Он давно все подчинил себе и сейчас только следит, как бы что-нибудь не ушло из-под его власти. Снег он перемешал с песком и угнал в ущелья, у лиственниц обломил вершины и сбил в сторону ветки, даже кедровок, и тех приучил летать боком.
В долине еще куда ни шло, а поднимешься на перевал — попадешь прямо в Кащеево царство. Одна лиственница легла на скалы и ухватилась ветками за камни, другая хоть и в три обхвата толщиной, а имеет всего одну ветку, третья же так скручена, что не понять, в какую сторону растет. А поваленных деревьев вообще не сосчитать. Лежат на камнях, выставили в небо побелевшие сучья.
Поднялся я на перевал, немного отдохнул, подивился на ветровы проделки и стал спускаться. Скоро вышел на небольшую поляну. Гляжу и не верю глазам. Штук десять лиственниц выстроились передо мною, и, кажется, любой ветер им нипочем. Правда, и у них ветки в одну сторону смотрят, но сами-то лиственницы стройные, аккуратные. И, что самое удивительное, не вижу ветровала. Верно, снег на поляне лежит по колено, но поваленное дерево не спрячешь и под метровым снегом. Я смотрю и туда, и сюда — ничего не понимаю. Рядом деревья держатся за камни пауками, все кланяются ветру, все от него страдают, а этим хотя бы что. Сквозняк здесь тянет, словно в трубу, почва — сплошная скала, не за что ухватиться корням — а они стоят. Так ни в чем и не разобравшись, ушел домой.
Через месяц я снова попал на ту поляну. Теперь снега на ней почти не было. Ветер куда-то его угнал и этим открыл секрет непокорных лиственниц. Оказывается, растущие на поляне деревья имеют у самых корней огромные наросты. Один из них чем-то напоминает морду обиженного барана, другой похож на сказочного обжору, третий слеплен из каких-то кубиков. Все наросты большие и, конечно же, очень тяжелые. Они-то и не дают ветру прижать лиственницы к сопке. Как он ни давит на деревья, а ничего у него не получается.
Стоят себе стройные, как свечи, ваньки-встаньки колымские.
Случай на дороге
Ночь. В кабине новехонького УАЗа двое. Грузный лысоватый шофер, живот которого почти упирается в обвитую изоляционной лентой баранку, и худощавый парень в очках и с полоской усов над верхней губой. Они познакомились всего какой-то час тому назад, но уже были довольны друг другом. Первый радовался неожиданному попутчику, второй — тому, что не придется ждать автобуса и к утру он будет дома.
Машина спустилась с перевала, обогнула прижавшееся к сопкам озеро и нырнула в коридор из высоких лиственниц. Опушенные инеем ветки искрились в свете фар и сеяли на дорогу серебристые блестки. Вынырнувший впереди деревянный мостик, казалось, завис в искрящейся кисее.
Разговор прервался сам собой. Парень подался к стеклу, пытаясь разглядеть деревья до самых вершин, водитель, наоборот, вдавил широкую спину в дерматин, словно давал простор гостю. Мол, смотри, впитывай. Мы-то все это чуть ли не каждый день видим.
Проскочили мостик, выкатили на пригорок и вдруг прямо на дороге увидели какого-то зверя. Он стоял мордой к машине, его глаза светились зеленоватым огнем, и сидящим в кабине подумалось, что перед ними волк. Но тут зверь повернулся боком, стали видны длинный широкий хвост, чуть выгнутая спина, толстые короткие лапы, и те поняли — росомаха!
Подпустив машину совсем близко, она прыгнула к обочине, но вместо того, чтобы нырнуть в спасительную чащу, повернулась и бросилась наутек по накатанной дороге.
— Светом мигай! Светом! Уйдет ведь! — закричал парень.
Мотор натужно взвыл, скрежетнули шестерни коробки передач, и машина устремилась за зверем. Шофер даже не переменил позу. Он только сплюнул приставший к губе окурок да посуровел лицом. Глаза впились в мчавшегося впереди зверя, а руки и ноги, казалось, сами двигали рычаг скоростей, крутили баранку, нажимали педаль газа, включали и выключали фары.
То исчезая в кромешной тьме, то вдруг оказываясь в таком ярком свете, что чудилось — снег вот-вот вспыхнет под колючими лучами, убегала росомаха от настигающего ее УАЗа. Вот она ближе, ближе. Еще миг — и машина накрыла ее. Глухо громыхнул металл, толчок передался по всей машине, и водитель тотчас нажал на тормоз. Схваченные тугими колодками колеса заюзили по снежному накату и остановились.
Одновременно раскрылив обе дверцы, шофер и пассажир вывалились из кабины и кинулись к росомахе, что комом темнела посреди дороги. Шофер, то ли потому, что был грузнее, то ли от привычки делать все основательно, не торопясь, отстал от пассажира. А тот подбежал к росомахе, наклонился и отпрянул в сторону.
Росомаха сидела! Как и когда она поднялась — никто не заметил. Только что была без всяких признаков жизни, оба были уверены, что она мертвее мертвой, и вдруг сидит! Парень зачем-то принялся снимать с себя куртку, затем повернулся к шоферу и с хрипотцой выдавил:
— Давай быстро эту, как ее, монтировку… Уйдет ведь, зараза!
Вместе возвращались к машине, вместе искали запропастившуюся куда-то монтировку, наконец, решив, что хватит и молотка, возвратились назад. Но росомахи на дороге не было. Она лежала метрах в двадцати от обочины, и ее голова была повернута к людям.
Барахтаясь в снегу, парень начал пробиваться к ней, но росомаха вдруг поднялась, глухо рыкнула и в несколько прыжков исчезла за деревьями. Там скользнула под выворотень и затаилась. Какое-то время до нее доносились людские голоса, затем рокотнул мотор, лучи фар пробежали по вершинам лиственниц, и все стихло.
Прошло часа три. Все это время росомаха лежала в яме под выворотнем, затем выбралась наверх и направилась к белеющей за полоской ольховника сопке. Светало. На дне ямы, которую она только что оставила, можно было разглядеть небольшое красное пятно. Но след росомахи был чистым и лишь рыскающие отпечатки подсказывали, что с нею не все ладно.
А росомаха поднялась на сопку, обогнула ее правый скат и оказалась у глубокого заросшего ольховником ущелья. Там остановилась и начала было укладываться, но передумала и, горбя спину и почти касаясь мордой снега, направилась вдоль ущелья. Место было глухое, кроме зайцев да белых куропаток сюда в эту пору никто не заглядывал, но росомахе оно почему-то не понравилось. Может, в этом виноват вдруг встряхнувший ее тело хриплый кашель и оставшиеся на снегу яркие сгустки крови, а может, ей все еще чудился нарастающий рев машины и она торопилась уйти от него как можно дальше.
Там, где ущелье пересекается со сбегающей с перевала полоской чахлых лиственничек, росомаха чуть полежала, затем принялась карабкаться на перевал. У самой его вершины ветер надул густую щетку застругов, ноги не всегда отыскивали надежную опору, и тогда росомаха сползала вниз. Какое-то время она отлеживалась на снегу, потом поднималась и принималась карабкаться снова.
Почему она стремилась за перевал — понять трудно. Сразу за гребнем простиралась каменная пустыня, которую обходят даже неприхотливые снежные бараны и облетает стороной вездесущий ворон. Наверное, она чувствовала приближение смерти, а все звери почему-то предпочитают умирать в одиночестве. Может, опасаются заразить своей болезнью сородичей, может, совсем наоборот — боятся, как бы те не проведали об их слабости и не убили сами. А может, как-то там понимают, что вместе с жизнью от них уйдет вся красота, и не хотят, чтобы их видели некрасивыми…
А сбивший росомаху шофер уже возвращался из рейса и думал о сынишке, доме, рыбалке, на которую они отправятся с сыном в следующее воскресенье. В кабине его УАЗа сидел другой пассажир — высокий седой мужчина в кожаном пальто.
Придержав животом баранку, шофер закурил и, с аппетитом затянувшись, сказал:
— Не поверишь, сегодня ночью на росомаху наехал, а ей хотя бы что. Сначала вроде лежала, а потом чуть на голову не бросилась. Я тоже сообразил — с голыми руками на такую скотину сунулся. Могла запросто загрызть.
— Ну ты даешь! На росомаху с голыми руками! — удивился седой. — Да с нею иначе чем ломом разговаривать не стоит. — Улыбнулся какой-то своей мысли, сокрушенно покачал головой и заключил: — Живучие они, ужас! Наверное, сейчас где-то бегает да оленей шерстит. Нет, что ни говори, а лом для нее — самое подходящее…
А там, за перевалом, в каменной россыпи, лежала росомаха. Легкие неторопливые снежинки падали ей на открытые глаза и не таяли.
Послесловие к легенде
У меня сломалась лыжа. Ни с того ни с сего отвалился приличный кусок, и не было никакой возможности приладить его на место. Запасная лыжа осталась в избушке на Хурчане, и нужно было или строгать новую лыжу, или возвращаться к Хурчану на обломке.
Я решил вернуться, но на первом же метре дороги мой обломок закопался в снег так глубоко, что чуть не вывернул ногу. Пришлось привязать к концу пострадавшей лыжи веревку и при каждом шаге поддергивать ее вверх. От такой работы в голове сама собой родилась присказка: «Рубль двадцать — рубль двадцать — рубль двадцать».
Вот так двигаюсь, отсчитываю рубли с копейками, а здесь еще метель. С вечера тянул небольшой ветерок, но к утру загуляло так, что не видно белого света. По распадкам носятся снежные вихри, где-то, падая, ухают деревья, в лицо и за шиворот сыплет колючей крупой.
На реке сейчас опасно. Оттепель. Перекаты затемнели широкими промоинами, и можно запросто нырнуть под лед. Пришлось лезть на прижатую к левому берегу Буюнды террасу и прокладывать новую лыжню. К счастью, снег здесь неглубокий, лишь там, где террасу пересекают вымытые весенними ручьями канавки, лыжи проваливаются чуть ли не до колен. В таких случаях не помогает и веревка.
По одну руку от меня корявый низкорослый лиственничник, по другую — заросшая ивами и тополями буюндинская пойма. Иногда среди красноватых ив и светло-зеленых тополей проглядывает темный лиственничный островок или белая лента спрятавшейся под снег протоки.
Я обогнул куст подпаленного морозом кедрового стланика и выгнал из него кедровку. В три взмаха она перепорхнула на ближнюю лиственницу, проскрипела недовольное «Кер-р-р-р!» и подалась к пойме. Как только она вылетела на открытое место, ветер подхватил ее, смял и погнал над самыми вершинами ив.
Я проводил кедровку взглядом и вдруг как-то совершенно неожиданно для себя увидел лося. Он лежал на небольшом островке в затишке высоких густых чозений и больше походил на каменную глыбу. Такой же, как она, покатый и серый, но я почему-то сразу понял — лось!
Мечусь по террасе, а спуститься негде. Подо мною двадцатиметровый обрыв, впереди он еще выше, к тому же там к самому обрыву подходит наледь.
Возвращаюсь к лощине. Здесь ручей вымыл неглубокую канавку, и дальше скат не так крутой. А главное, внизу сугроб снега. Стараюсь запомнить деревья, под которыми лежит лось, запахиваю поплотнее куртку, ложусь на спину, пристраиваю рядом лыжи и… поехали-и! На полпути валенок зацепился за какую-то корягу, меня развернуло, и я влетел в сугроб головой. Но ничего. Все цело, и я почти не ушибся. Стряхиваю снег и, оставив лыжи под обрывом, крадусь к островку. Под деревьями на снегу образовался наст, и кое-где он выдерживает мои валенки.
Минул одну протоку, вторую, пересек лиственничную гривку и… потерял из виду чозении, под которыми лежит лось. Вот он, обрыв, хорошо вижу желтоватый куст кедрового стланика, из которого я вспугнул кедровку, но где же здесь островок — не пойму. Прохожу с полсотни шагов, спускаюсь в русло замерзшего ручья и решаю держаться его до самой реки. Ветер тянет от того места, где, по моим расчетам, лежит лось, к Буюнде. Самое главное, с берега я смогу отыскать чозении.
Снег в ручье глубокий, и каждый шаг дается с большим трудом, но зато меня никому не увидеть и не услышать. Скоро дорогу пересекает упавшая лиственница. Поднырнуть под нее не дают ветки. Придется идти в обход. Нащупываю валенком вымытый водою карниз, карабкаюсь наверх и, чуть высунувшись из ложбины, сразу же замечаю лося. Он лежит метрах в двадцати от меня. Залетающий с протоки ветер шевелит шерсть на его боку, обсыпает мелким снежком. Лось спит, свернувшись калачиком и положив голову на ноги. Мерно дышит широкий бок, нос спрятан на животе, но поднятые бантом уши начеку. Скрипнет раскачанное бурей дерево, хлопнет о ствол тяжелый ошметок коры или просто прошумит быстрый вихрь — уши сразу же поворачиваются в сторону шума. Где? Что?
Когда-то мне рассказывали старую чукотскую легенду. Два молодых охотника влюбились в одну красивую девушку и решили покорить ее сердце. Один из них отправился в тайгу, отыскал там спящего лося и положил на его спину ивовую веточку. Другой охотник пошел по его следам, подкрался к все еще спящему лосю, снял веточку и подарил ее девушке.
Сейчас я пытаюсь представить, как все это происходило? Наверное, в тот день над тайгой гуляла пурга. Скрипели деревья, хлопали куски коры, в вершинах чозении свистел ветер. Было часов десять утра. В это время лось уже наелся и лег на отдых. Осторожный зверь выбрал вот такое затишное место, иначе маленькую веточку тотчас сдуло бы ветром, а прикосновение более крупной лось почувствовал бы.
Подкрадывались охотники к нему со спины. Спереди к лосю сейчас никак не подойти.
Представляю, как охотник тенью скользит по снегу, затаив дыхание и стараясь укротить биение сердца. Лось — зверь сильный. Одним махом он может пробить насквозь волка или росомаху. Такого вот великана даже медведи обходят стороной. А ведь у охотников были одни копья, да и те наверняка пришлось оставить, чтобы не мешали.
Вот лось ближе, ближе. Уже слышен запах его тела. Еще миг и…
— Кер-р-р-р! Кер-р-р-р! — заорала над моей головой кедровка. Взметнув снег, лось подхватился, ухнул, так что у меня по спине побежали мурашки, и, ломая кусты, бросился в чащу.
Я подошел к лосиной лежке, поднял приставшую к снегу ломкую шерстинку, а затем долго стоял над обрывом, не в силах стронуться с места. Противно дрожали ноги и пересохло во рту.
Но ведь я был совсем в стороне от лося, а они подходили вплотную. Просто за веточкой. Для любимой.
Мост
Мост, что за нашим поселком, не вызывает у меня каких-то особых чувств. Бегают по нему машины, гуляют люди. Кто-то там сломал перила, кто-то свалился прямо на лед. А так ничего — мост и ладно.
Но вот однажды я больше месяца прожил в тайге без напарника. Сначала было нормально. Здесь тебе рыбалка, здесь и охота. Транзистор рассказывает про жизнь, поет песни. Что еще человеку нужно? А все равно через месяц заскучал. К тому же соболи ушли за перевал, капканы задуло снегом, в транзисторе сели батарейки. И вообще на люди захотелось. Я даже не все капканы поднял после метели. Проснулся пораньше, один котелок чая выпил в аппетит, другой про запас — чтобы в дороге не так скоро захотелось пить — и… домой!
Бегу на лыжах, поглядываю по сторонам. Вдоль осыпи оставил свои следы юркий горностай, у тальников куропатки с зайцами набили целые тропы, на старой вырубке снежные бараны наделали копанок. Тайга, глушь, одним словом.
И вдруг за густым лиственничником открылся мост. Да-да, настоящий мост. И не маленький. На двух быках и метров двадцать в длину. Когда-то хотели брать в этих краях лес да передумали, но мост выстроить успели. И стоит он теперь никому не нужный. На целехоньких перилах снег валиком лежит, накат такой, что и паровоз выдержал бы, а никому до моста нет дела. Даже лисица, что вела свою цепочку следов прямо к мосту, не захотела им попользоваться. Спустилась на лед по откосу, перешла речку и отправилась дальше по своим лисьим делам.
Хоть и не по пути мне было, и времени в обрез, а развернул я лыжи, на мост въехал, туда-сюда по нему прошелся, снег с перил сбил да еще и закричал так, что кедровки шарахнулись в кусты.
Пожалел я этот мост, что ли?
Булька
Два года я ходил в тайгу один, пока не познакомился с Булькой. Эта маленькая кривоногая собака с короткой грязной шерстью и всегда виноватыми глазами жила под досками за пекарней. Я часто встречал ее, когда ходил за хлебом. Она или сидела возле ведущей в хлебный магазин тропинки, или вертелась у мусорного ящика. Бульку часто обижали, и ее хвост, этот флаг собачьего достоинства, был постоянно прижат к животу.
Когда в Булькины владения попадал чужой пес, она вместо того, чтобы дать ему взбучку, падала на землю и подставляла пришельцу самое нежное место — живот. Еще более позорно вела себя Булька с людьми. Как-то она нерасчетливо перебегала тропинку и чуть не попала под ноги высокому парню. Тот просто так, из озорства, гикнул и притопнул ногами. Булька не метнулась прочь, а припала к земле, закрыла глаза и жалобно заскулила. Парень гадливо плюнул и отбросил Бульку с тропинки носком сапога.
Я ни за что не подружился бы с Булькой, если бы не наш слесарь Петрович. За ним водится масса грехов. Однажды ему прислали с материка посылку краснобоких яблок. В пути посылка развалилась. Он на почте переложил яблоки в авоську. По дороге домой его, естественно, спрашивали, где он достал такую красоту?
— В овощном, — отвечал тот вполне серьезно.
Женщины кинулись в магазин и устроили там грандиозный скандал.
В другой раз он подшутил над парнем, возвращавшимся с первой в его жизни охоты, — вытащил единственную добытую им утку и заменил ее бройлерной курицей…
В то утро я проспал и ужасно торопился. Груза было много. Рюкзак с лямками, рюкзак без лямок, запасная лыжа, большой сверток одежды, ружье и транзисторный приемник. Хорошо, встретился Петрович и подсобил дотащить все это до остановки. Я попросил его посторожить мое добро, а сам побежал в магазин за хлебом. Выскакиваю из магазина, а Петрович уже погрузил мои вещи в автобус и торопит:
— Ну, где ты там ходишь? Садись быстрее. Люди ждут.
Ехать по трассе мне всего пятнадцать километров, дальше уже нужно добираться пешком. Когда выгрузился и автобус, помигивая глазками, исчез за поворотом, тот рюкзак, что без лямок (в нем были сложены одеяло, капканы и десять банок консервов), вдруг задергался и заскулил…
И вот я иду по тайге на лыжах, а сзади метрах в тридцати плетется Булька. И меня боится, и тайге не доверяет. Я стану — Булька остановится. Зову — не идет, а даже наоборот: настораживается и потихоньку отступает назад.
Когда пришли к избушке, Булька села на лыжню и никуда. Я и дров натаскал, и обед сварил, и сбегал в распадок к лабазу, а она все сидит. Я не выдержал и сам направился к Бульке. Она от меня. Тогда я возвратился, сошел с лыжни и, описав полукруг, зашел Бульке с тыла. Булька кинулась от меня убегать и оказалась между мной и избушкой. Здесь я ее и поймал за загривок.
Днем я гулял по распадкам, сражался с росомахой, которая грабила мои ловушки, а вечером возвращался в зимовье, где меня ждала Булька. Когда я сидел возле печки и ремонтировал одежду или просто отдыхал, она подходила ко мне и смотрела в лицо своими рачьими глазами.
Однажды меня отрезала наледь, и я остался ночевать на озерах. С рассветом возвратился домой, Булька от радости визжит, прыгает. А вечером к нам заглянул сосед по охотничьему участку Сашка. От него ушел соболь вместе с капканом, и Сашка целый день гонялся за ним, а поймать не смог. Булька встретила соседа таким лаем — хозяйка дальше некуда.
— Я к тебе за сеткой зашел, — говорит Сашка. — В распадке в прошлом году заготавливали лес и навалили огромную кучу хвороста, вот он туда и нырнул.
Сетки у меня не было, но попытать счастья хотелось.
— Давай возьмем собаку, — предлагаю Сашке.
— Куда ей на кривых лапах? — смеется тот. — Ну ладно, бери. На безрыбье и рак рыба.
Надели лыжи, позвали Бульку, а она от избушки не отходит. Тогда я сунул ее в рюкзак. К месту подошли уже в полной темноте. Выпустили Бульку, зажгли по сторонам два костра и принялись разбирать хворост. Работаем осторожно. Ветку-вторую выдернешь и прислушиваешься.
Еще не разобрали и половины кучи, как Булька загавкала. Сидит под чозенией и лает. Присветили фонариком, а на ветке соболь. Не будь Бульки, ушел бы, только его и видели. Вот уж мы с нею носились! Не знали, как и приласкать…
Когда я возвращался в поселок, Булька всю дорогу бежала впереди и по-хозяйски заглядывала под каждый куст, будто она и вправду настоящая охотничья собака. Я даже ругал ее за то, что портит лыжню.
В тот день автобуса не было, и мы все пятнадцать километров топали пешком. Наконец добрались до водонасосной станции, а за нею открылся весь поселок. Заснеженный, нарядный. Булька вдруг остановилась, настороженно посмотрела на меня и села прямо на дорогу:
— Ты чего, трусишка? Иди, не бойся. Никто тебя не тронет.
А Булька не идет. Я к ней, она убегает. Откровенно говоря, мне было не до этого. Слишком уж соскучился по дому. О собаке вспомнил только на второй день. Кинулся к пекарне, водонасосной станции, побегал по поселку — нигде нет…
К той избушке, где я жил с Булькой, попал только в конце февраля. Избушка еще глубже ушла в снег, у порога намело сугроб метровой толщины. Чтобы открыть дверь, пришлось отгребать его валенком в сторону. Копнул раз-другой, и вдруг нога уперлась во что-то твердое. Копнул — Булька! Лежит, пристроив голову на лапки, словно спит. А голова ее повернута в сторону моей лыжни…
Эх, дети!
Избушку в Березниковом строил какой-то чудик. Мало-мальски искушенный в таежной жизни человек ставит зимовье так, чтобы и вода была рядом, и сухостоя на дрова хватало. Да и место выбирает поуютней. Этот же, наверное, пришел в тайгу отдохнуть от колготной городской жизни. Помню, что-то подобное я читал у поэта Завадского:
Друг, совмещенные блага Не для возвышенных душ! Надо бежать, бедолага, В одноэтажную глушь…Вот он и облюбовал возвышающийся над кочковатым болотом бугор. То ли этот бугор был из какой-то необычной почвы, то ли под ним бежала какая-то особая вода — не знаю, но лиственницы на бугре вымахали метров за тридцать. И не так, чтобы очень уж толстые, а высоченные — шапка валится.
Избушку чудак решил втиснуть между стоящих на отшибе четырех лиственниц. Подровнял вздутую у корней землю, вывел между стволов бревенчатые стены и прорубил три окна.
Не скажу, долго ли, коротко ли жил он в таежной глуши, но к концу лета его здесь уже не было. Осталась только надпись над дверью: «Человече, береги сей уютный вигвам. Он строен для отдыха души и измученного тела. Домовладелец Вася».
За Васей на бугор явились рыбаки. Они расширили нары, заколотили два окна толстой фанерой и принялись заготавливать рыбу. С ледоставом исчезли и они, оставив после себя десятка два пустых бочек и щетинящиеся гвоздями вешала для рыбы.
Меня избушка встретила полураскрытой дверью множеством звериных следов. Кто здесь только не гулял! Соболь, заяц, лиса, горностай и, конечно же, росомаха. А полевок так и не сосчитать. Уезжая, рыбаки вылили на мох рыбный рассол. Вот звери и кинулись на солонину.
Лиса с соболем, эти еще как-то осторожничали, а заяц и горностай наследили прямо у порога. Может, даже заглядывали в избушку. У самого окна две свежие ямы-копанки. Не так давно здесь гостили олени.
Хотелось повнимательней осмотреть все следы, но нет времени. Уже вечереет, а еще нужно натаскать с болота сушняку, сварить ужин и вообще приготовиться к ночи.
Когда принялся растапливать печку, неожиданно заметил у самого поддувала след от бараньего копытца. Махонький и до того свежий, словно только лишь отпечатанный. Гляжу на этот следок и радуюсь. А чему, собственно радоваться? Баран в гости заходил!
И кто бы мог подумать, что этот толсторог окажется легким на руку. Вернее, на копыто. Поужинав макаронами с «Завтраком туриста», я убрал посуду и лег спать. Спасибо, кроме бочек рыбаки оставили в Васином домовладении штук пять двухспальных матрацев и кучу всякой одежды.
Сплю тихо-мирно — и вдруг как загремит! Вообразите только, висевшая под потолком кастрюля вместе с мисками-ложками ни с того ни с сего свалилась на пол.
Мечусь в темноте и никак не могу нащупать фонарик. Ага, вот спички. Рядом с ними и фонарик. Лежали под рукой, а я шарил кто его знает где. Обегаю лучом фонарика избушку. Нигде никого. Здесь топор, там одежда на колышках сохнет, чуть в стороне валенки. На полу валяется котелок, мыло, кастрюля со всем содержимым и глухариное крыло, которым я сегодня подметал стол. Виновника, что устроил переполох, нигде не видно.
Подобрал я все, поставил подальше от края и снова закопался под матрацы. Лежу, прислушиваясь к каждому шороху. Тихо-тихо. Даже слышно, как стучит собственное сердце. Вдруг снова что-то на пол шмяк! Я фонариком щелк! Вот оно что! На полу, прямо рукой подать, лежит глухариное крыло, а на нем горностай. Белый, аж отсвечивается. Мордочка узенькая. Самочка, наверное. Уставилась на меня, ждет, когда я уберу свет.
— А, чтоб тебя! — выругал я полуночницу.
Горностайка фыркнула, потом сердито так: «Круц-круц!» — и потянула крыло под нары.
Мне часто рассказывали, что вот такой зверек может загрызть даже взрослого оленя. Уцепится рогачу в шею и висит, пока не перехватит сонную артерию. А сколько написано разных историй о горностаях, что летают на глухарях, тетеревах и куропатках, — не сосчитать. И тот наблюдал, и этот. Все смакуют его кровожадность. Словно это настоящий вампир.
Лично я этим басням ничуть не верю. Три года тому назад в моей избушке поселился горностай. К тому же крупный, не чета этой малышке. Ночью он часто влезал на нары, однажды я спросонья немного его придавил, но он ни разу не пытался меня укусить. Правда, он прогрыз в новехонькой заячьей шапке две большие дырки, но кому в тайге нужна моя красота? Тем более, он часто спал в этой шапке и, конечно же, считал ее своей собственностью. Вот и перекроил на свой вкус.
С этими мыслями я уснул снова. И даже спалось мне веселей. Что ни говори, а хорошо, когда рядом есть живая душа.
Не помню, долго ли я спал и что мне снилось. Наверное, что-то дорожно-транспортное. Потому что, когда в темноте открыл глаза и почувствовал, что куда-то еду, не испугался ни капельки. Ну еду и ладно. Туда еду, сюда еду. И только, когда на голову стали падать кусочки коры, я окончательно пришел в себя. Васино домовладение куда-то двигалось. Я хорошо слышал, как шевелятся бревна, поскрипывает печная труба, позвякивает посуда.
Первая мысль о медведе. Однажды этот зверь вот таким же образом своротил на сторону промысловую избушку и чуть не придавил самого охотника. Но у того был карабин, а у меня лишь нож.
Все равно ждать нечего. Еще немного нажмет — и потолок обрушится на голову. Не зажигая фонарика, нащупываю лежащий у изголовья большой охотничий нож и, выставив его острием вперед, как был в трусах и майке, бросаюсь к двери. Она легко распахивается. Прыгаю через порог и пробегаю метров тридцать. Дальше не пускает глубокий сугроб. Все так же держа нож наготове, оборачиваюсь назад. Ветер бросает в лицо колючие снежинки, но мне не до этого. Все внимание к избушке. Она стоит передо мною, облитая призрачным лунным светом, придавленная до земли снежной шапкой. Медведя или другого зверя не видно. Так кто же тогда чуть не своротил мое жилье? Поднимаю глаза вверх, и сразу все становится понятным. Разгулявшийся к ночи ветер раскачал высоченные лиственницы, а вместе с ними и мою избушку. Еще хорошо, что Вася связал бревна скобами и толстыми гвоздями. А то давно бы посыпались на голову.
Ругая незадачливого строителя, возвращаюсь в избушку и пробую уснуть. Но какой после такого переполоха сон? Интересно, куда девался горностай? Может, убежал, как крыса с тонущего корабля. И крыло с собою прихватил. Свесившись с постели, присвечиваю под нары. В углу валяется крыло. Истрепанное, пообгрызенное. Нет, кажется, я поспешил с выводами. Обычно горностай своей добычи не бросает.
Устроившись поудобнее, лежу и слушаю тайгу. Она грозно шумит, напоминая разыгравшийся морской прибой. Многие думают, в такие ночи в тайге очень страшно. На самом деле избушка сейчас уютная, как никогда.
К восьми утра за окном посветлело. В углу избушки обозначились печная труба и угол стола. Еще с полчаса поваляюсь — и подъем. Нужно засветло быть в Лиственничном. В тамошней избушке тепло держится до утра, а здесь бр-р-р. Из-под матраца выглянуть страшно. Нет. Вставать так вставать! Как перед нырком, набираю побольше воздуха, на мгновенье замираю и… слышу за окном: хрум-хрум-хрум.
Снова, как и среди ночи, без всяких там психологических подготовок выстреливаю из постели к окну.
У избушки олени. Три. Нет, четыре. Три больших и маленький. Один стоит совсем рядом. Рожки маленькие, но ветвистые. Раз, два, три… шестиконцовые. Передние отростки надломлены, а на кончиках нижних — разветвление, чем-то напоминающее змеиное жало. Сам олень, крупный, светло-серый. Кажется, это оленуха. Да, точно, важенка. Стоит и обнюхивает газету. Забрала в рот, пожевала, затем отодвинулась в сторону. И такая в ее позе торжественность, словно выполняет ужасно важную и ответственную работу.
Второй олень — тоже важенка. Стоит и копытит ягель. Лишайник давно сверху, а она скребет и скребет. Наконец принялась за еду. Сейчас же к ней направился олененок. Длинноногий, ершистый. А ходит, как взрослый. Только у тех ноги идут словно сами по себе, а у него за каждым шагом подскакивает все туловище.
И не так, чтобы очень маленький. Рожки-то, гляди, какие.
В его возрасте еду можно добывать самому, а он на готовенькое. Оленуха чуть посторонилась. Ешь, мол, всем хватит. Но то ли ему показалось мало, то ли у них вообще такой порядок. Залез всеми ногами в копанку и тычется оленухе в морду. Та отошла в сторону, потопталась и замерла. Стоит слушает тайгу. Большие уши, как локаторы, ходят туда-сюда.
Я вижу обеих оленух, олененка, а четвертый куда-то исчез. Отклоняюсь в сторону. Теперь вижу и его. Это старик. Спина горбатая, задняя часть провисла. Наверное, и зубов уже нет. Олень стоит у пня, на котором рыбаки разделывали улов. Обнюхал пень, несколько раз ткнулся мордой в снег и принялся рыть копанку. Снег глубокий, будет поболее метра, а он раз-раз — и уже яма. Сунулся туда, что-то обследовал и пошел работать. Только снег летит во все стороны. Не прошло и минуты, а из копанки вместе со снегом полетели веточки ягеля. Сейчас же олененок оказался тут как тут. Не стал даже ожидать, когда олень закончит работу. Прыг — и забрался в копанку.
«Ну, — думаю, — сейчас бык ему задаст. Хотя олененок его родной сын или дочь, а порядок знай!»
Ан нет. Буюн как стоял, с места всеми четырьмя копытами оттолкнулся и вылетел из ямы. Ешь, мол, мне не жалко. А может: «Принесла тебя нелегкая! Только хотел перекусить!» Короче, не знаю, что там подумал старый олень, но я хорошо видел, что олененок пастись не стал. Расположился в копанке и ехидно так поглядывает на родителя. А тот обогнул оленух сторонкой и стал копаться за бочками. Роет старательно, поворачивается туда-сюда. То ли устраивается поудобнее, то ли таким способом расширяет яму. Ему бы уже и кормиться, а он разошелся, словно никак не может остановиться. Ну, думаю, решил наесться из одной ямы на целый день. Только я так подумал — олененок в яму. Запрыгнул и вертится. Куда олень сунется мордой, туда и он.
Не знаю, то ли нарочно, то ли со зла, но вдруг олень так поддел малыша, что тот буквально вылетел из копанки.
Что тут сотворилось! Тихо-мирно дремавшие у избушки оленухи как фурии набросились на оленя. Он принял было оборонительную позу, но куда комолому против двух остророгих мамаш? Одна подскочила спереди, другая сбоку. Раз-раз! и посрамленный родитель уже за вешалами для рыбы. Стоит и мотает головой. Больно ведь!
А важенки обнюхали малыша, одна даже лизнула его в нос, и все трое возвратились к окну.
Олень бочком-бочком обошел их и направился к той копанке, что у пня. Но не успел сорвать и пары стебельков, как снова туда запрыгнул олененок и затолкался во все стороны. Олень в один мах убрался подальше от него, глянул на насторожившихся оленух и торопливо ушел по моей лыжне в сторону перевала.
Эх, дети!
Пожарник
За окном темень. По стеклам стучат тугие дождинки. Тоскливо скрипит старая ива, и время от времени доносятся чьи-то шаги. Словно большой зверь кружит и кружит у моей избушки. Остановится, постоит немного, и снова «Шух-шух-шух…».
Лежу, прислушиваюсь к шуму тайги и набираюсь храбрости. Нужно вставать и отправляться к Сокжоевым покосам. Бригадир наказывал ходить туда каждую неделю. На всех покосах стога до половины зимы стоят целехонькие, а на Сокжоевых олени проедают такие дыры — чистое разорение. Говорят, что северные олени питаются одним ягелем. Этого ягеля в тайге сколько угодно. Бери и ешь. Так нет! Дай им сена!
Бригадиру хорошо. Распорядился и спит себе, а мне пятнадцать километров брести по этой хляби.
Ругая бригадира, оленей и непогоду, поднимаюсь и принимаюсь за сборы. Выхожу, когда небо уже начинает светлеть. Услышав мои шаги, с реки, что протекает в какой-то полусотне шагов от избушки, подхватывается стая чирков. Они вывелись здесь и давно привыкли к людям. Последнее время я даже подкармливал уток. Но дня три тому назад к ним пристали два очень пугливых селезня и вся стая потеряла доверие ко мне.
Вода в реке поднялась. Волны сердито плещут в берег, взбивая на перекатах ноздреватую пену. Кое-где залило тропинку, и я бреду по колено, рискуя бултыхнуться в глубокую яму.
Первый привал делаю у Хитрого ручья. Этот ручей славится богатыми травами. Кроме того, каждое лето косари набирают здесь по несколько ведер жимолости. Ручей назвали Хитрым, потому что на протяжении какого-то километра он умудряется четыре раза спрятаться под землю.
Сначала он течет, как всякий обычный ручей. Где глубже, где шире. Рыбы в нем плавают, по дну ползают ручейники. И вдруг возле рябиновой рощи он ныряет в россыпь камней и исчезает. Был ручей — и нет его. Пройдешь немного — и опять натыкаешься. Снова он с рыбой, снова с козявками. Словно и не думал прятаться.
Я спрашивал у косарей, каким образом рыба попадает в верховье Хитрого? Они говорят, что ничего особенного в этом нет. Мол, там под землей такие дыры — человек запросто пронырнет. Вот хариусы туда-сюда и плавают.
А мне кажется, виноваты утки. Лишь только хариусы вымечут икру — утки тут как тут. Ныряют на самое дно и добывают еду. В это время икра и пристает к утиным лапам. Потом утки перелетают в другое место и переносят с собою икру.
Еще вчера на реке можно было отыскать сколько угодно мелких перекатов, но сегодня придется идти к мосту.
По всем признакам дождю пора утихомириться. Уже и ветер дует порывами, и тучи бегут против ветра, а он все льет и льет. Дорогу у моста залило до самого поворота. Река клокочет, разъедая откосы и унося с каждым всплеском добрую горсть земли. Чего доброго, размоет и мост.
Сразу за мостом натыкаюсь на табун уток-каменушек. Птицы собрались на бугорке и с удовольствием поедают голубику. Выше всех забралась старая утка. Она захватывает широким клювом перезрелые ягоды и торопливо глотает. Утята уже почти догнали ее в росте.
Вспугнутый моими шагами выводок во всю прыть бросился к реке и нырнул в стремнину. Я тоже заторопился к Фатуме, стараясь угадать место, где утки покажутся из воды. Ага! Вот река делает поворот, здесь же небольшой перекат. Добегаю до излучины и приседаю. Тотчас, как поплавки, из воды показываются головы юрких нырков. Одна, вторая… седьмая… двенадцатая. Утята выныривают и сбиваются под застрявшей на перекате ивой. А где же старка? Утка выныривает у моих ног, какое-то время удивленно смотрит на меня, затем с криком срывается на крыло. Утята тоже засуетились, но взлетать не стали. Суматошно хлопая крыльями по бурлящей воде, обогнули иву и дружно нырнули в Фатуму.
Сокжоевы покосы начинаются в километре от реки. На кочковатом лугу темнеют ряды длинных крутобоких стогов. Два последних косари складывали второпях. Сено намокло, просело и наверняка начало гнить. Остальные стога как будто в порядке.
Уже возле дороги встречаются глубокие отпечатки оленьих копыт. Здесь и маленькие следы оленят, и узкие отпечатки оленух-важенок, и широкие, почти как лосиные, быков-буюнов. Все следы одинаково замыты дождем. На рассвете олени пришли сюда из распадка, какое-то время повертелись у стогов, затем направились в глубь долины. Сена они почти не тронули. Пока не лег снег, травы оленям хватает и в тайге.
Под ближним стогом отыскиваю вилы и взбираюсь наверх. Мокрое сено слежалось, и каждая охапка дается с большим трудом. Все же расковыриваю его и принимаюсь сбрасывать почерневшие пласты вниз.
Наконец часам к трем привожу оба стога в порядок, кипячу на костерке чай и отправляюсь домой. Дождь не стихает. Тучи давно оставили свой бег, спустились к вершинам деревьев и старательно полощут и без того пропитанную водой тайгу. Под ногами болото. На кустах, деревьях, траве обильная роса. Сверху моросит дождь. Дорога давно превратилась в мутный ручей, и приходится держаться обочины. Но там тоже несладко. Чуть коснешься куста, и на тебя сразу же обрушивается ведро воды.
Иду завернутый в целлофановую пленку, как куколка шелкопряда в кокон, отвороты сапог подняты до самого паха. Кажется, запечатан так, что пальцем ткнуть некуда, но все равно брюки на коленях и ворот рубашки промокли насквозь и по спине бегут холодные струйки.
Ближе к реке вода затопила и обочину дороги, поэтому бреду напрямую, стараясь выйти как раз к мосту. Наконец он впереди. Правое его крыло провалилось и полощется в реке. «Этого мне только не хватало!» — приходят в голову слова из давно забытой песенки. Думал, к ночи буду дома, обсушусь, отогреюсь, а здесь такая неприятность. Придется возвращаться. Километрах в трех отсюда Фатума разделяется на четыре рукава, через которые можно перебраться, если не вброд, то по валежинам. Правда, вызывает сомнение последняя протока по названию Бешеная, но все равно здесь мне не пройти.
Нужно торопиться. Скоро стемнеет, а ночевать в такую погоду под открытым небом не пожелаешь и врагу.
Через две первые протоки перебрался легко. Если можно назвать легкой переправу по скользким бревнам в сапогах со сбитыми донельзя каблуками. Третья протока разлилась так, что смыла все валежины. Я с полчаса метался вдоль клокочущего потока, пока не отыскал наклонившуюся над водой иву. Вершина ее нависла над противоположным берегом. Правда, до земли оставалось не меньше четырех метров, но я был уверен, что под моим весом она прогнется достаточно низко.
Заправляю за ремень края пленки и взбираюсь на скользкий ствол. Сверху смотреть на протоку страшновато. Вода бурлит, как в котле. Ныряя в мутных волнах, по протоке несутся коряги, вырванные с корнями деревья, облепленные грязью кусты. Ива подо мною качается и потрескивает, вместе с нею раскачиваюсь и я.
Наконец половина пути позади. Дерево резко наклонилось, и его вершина устремилась вниз. Уцепившись за ветки, прикипаю к стволу и ожидаю удара о землю. В это мгновенье из-за излучины показалась лиственница. Толстая, ветвистая, она на моих глазах слизнула две растущие у берега лиственнички и увлекла за собою. В какой-то миг мне показалось, что лиственница остановилась. Но коварное дерево только приноравливалось, как половчее сбросить мою переправу. Вижу, как оно вздыбливается и зависает прямо над головой. Скользя по стволу, ломлюсь через ветки и вдруг чувствую, как ива снова поднимается вверх.
На мое счастье, лиственница зацепила иву недалеко от корня. Вода сейчас же начала прижимать оба дерева к тому берегу, куда стремился и я. Еще чуть-чуть — и спрыгну на землю. Но в это время ива задела корнями дно протоки, резко крутнулась, и я полетел в воду.
Уже на лету ухватился за какую-то ветку. Она треснула, но все же сдержала падение, и я тихонько ушел в воду по самые плечи. Ива снова прижалась к берегу. Цепляясь за нее, я выкарабкался из протоки.
В изнеможении опускаюсь на землю. Первая мысль о спичках. Коробок в кармане погиб безвозвратно. Нужно скорее снять рюкзак. Там, в сумочке с едой, должны быть запасные спички.
Принимаюсь освобождаться от лямок и вдруг прямо перед собою вижу лося. Огромный темно-коричневый зверь набычившись стоит в нескольких шагах и роет копытом землю. Налитый кровью глаз зло косит в мою сторону. К широким лопатообразным рогам прилипли кусочки коры, комья земли и желтые травинки. Сейчас у лосей гон. Обезумев, они носятся по тайге в поисках соперника. В такие дни даже медведи обходят их стороной. Сила лосиного удара страшна. Однажды добыли лося, на ноге у которого дорогой муфтой висела росомаха. Нерасчетливый хищник напал на лося, и тот пробил росомаху копытом навылет. Я знаю, пока лось не кинулся на меня, нужно крикнуть. Сейчас он может принять за соперника даже ивовый куст. Мой крик напомнит сохатому, что перед ним человек, страх перед которым заложили в его сознание еще мои пещерные предки.
Открываю рот, силюсь крикнуть, ничего не получается. Как во сне. Наконец собираюсь с духом и скорее хриплю, чем кричу:
— Эй, ты чего?
Лось вздрагивает, поднимает голову. Теперь вижу, что несколько отростков на его рогах сломлены, а на щеке запекся кровавый сгусток. Видимо, лось только что вышел из драки и не может погасить в себе злобу. Все же мой крик будит в нем проблески сознания. Животное мотает головой и отступает назад. Теперь я смелею:
— Иди, товарищ, отсюда! Сейчас я тебе все рога обломаю! Посмотри на него, какой храбрый нашелся!
Лось хрипит и бочком убегает в заросли. Но там останавливается и продолжает следить за мной. Мне не до него. Снимаю рюкзак и отыскиваю в нем спички. Они отсырели, но если немного подсушить, можно будет развести костер. Раздеваться не тороплюсь. Прежде всего отыскиваю корягу, под которой можно расположиться, и натягиваю из пленки тент. Дождь зазвенел по моему укрытию, но здесь сухо. Теперь можно раздеваться.
Пока возился с одеждой, лось выбрался из ивняка и снова направился ко мне. Стою перед ним совсем раздетый, размахиваю брюками и кричу что есть силы:
— Ты чего привязался? Иди, приятель, отсюда! Нашел с кем сражаться!
Лось наклонил голову и принялся стонать: «У-у-у-ухш-ш-ш!» Словно жалуется на кого-то.
В это мгновенье в кустах треснула ветка. Тотчас из тальников шмыгнула лиса и исчезла за деревьями. Я видел ее всего какую-то долю секунды. Прижав уши и вытянув мокрый хвост, она проскочила поляну в десятке шагов от меня и словно растворилась в тайге.
Надеваю выкрученную одежду и прячусь в затишке. Спички сушу на груди. Как только они немного просохнут, попытаюсь зажечь.
Дождинки стучат и стучат по натянутой пленке, словно кто-то сыплет сверху мелкие камешки. Под корягой длинная узкая щель. Там живет пищуха. Весь потолок своего жилища она завешала веточками с круглыми тройчатыми листьями. Веточки сушились в тени и поэтому совершенно зеленые. Не сено — чай! Вот у кого поучиться нашим косарям. Самой пищухи нигде не видно. Может, спряталась от меня, а может, отсиживается в соседней норе.
«Чап-чап-чап». Шаги за спиной заставляют меня вздрогнуть. Снова лось? Что он от меня хочет? Осторожно поворачиваю голову. Боже мой! Заяц! Вернее, зайчонок. Сидит и испуганно глядит на меня. Бедненький! Это зверье нас совсем загоняло. Как ты все это терпишь? Прячься сюда, длинноухий.
Зайчонок поднимается на задние лапы и заглядывает мне за спину, затем приседает и скачет к кусту жимолости. Я, наверное, смог бы его догнать, но мне не до зайцев. Холодно. Зубы выбивают мелкую дрожь, ноги совсем застыли. Ведь сижу на сырой моховой подушке, под нею вечная мерзлота — здесь не очень-то согреешься. Пора готовить костер.
Обламываю с ближней лиственницы мелкие веточки и нарезаю с коряги холмик тонких желтоватых стружек. Работа очень деликатная. Нужно, чтобы стружки получились не толще бумажного листочка. В то же время приходится следить, чтобы они не намокли от рук и одежды.
Снова за спиной чапанье. Возвратившийся зайчонок опять заглядывает за мою спину. Что ему там нужно? Может, пришел в гости к пищухе? На вид она мышь мышью, но относится не к грызунам, а к зайцеобразным. Вот он и решил проведать родственницу.
Ну сиди, парень. И мне веселей в компании. Сейчас разведем костер и будем пить чай. Чаю хочешь?
Снимаю шапку, отыскиваю на голове место, где волосы посуше, тру о них спичечным коробком, затем выбираю самую головастую спичку и, затаив дыхание, чиркаю.
Ура! Горит!..
…Просыпаюсь под утро. Дождь перестал. От костра осталась горка золы. Кругом вода. Протоки вышли из берегов и затопили всю низину. Вот-вот вода доберется и до меня. На коряге сидит уже знакомый мне зайчонок и испуганно смотрит в мою сторону.
Пока готовил завтрак, вода подступила к самому костру. Конечно, смертельной опасности нет. Деревья на острове высокие, стоят густо. День-два пересижу на них, а там вода спадет. Нужно только загодя облюбовать дерево и устроить на нем пристанище. Выбираю растущую на опушке сучковатую лиственницу и карабкаюсь вверх.
Кругом море воды. Там, где я вчера купался, бежит широкая река. Вода клокочет, подмывая новые и новые деревья. Сегодня мне там не перебраться.
Интересно, как там Бешеная? Через нее и в хорошую погоду не всегда проскочишь, а сейчас нечего и думать. Среди полузатопленных тальников скорее угадываю, чем отыскиваю, ее русло и вдруг замечаю, что вода там не движется. Может, это мне только кажется? Подтягиваюсь выше и вижу громадный завал, что перегородил протоку и навис над нею. Еще вчера там не было ни единого бревнышка, а сегодня гора. Вот тебе и Бешеная!
Пять минут на сборы — и в путь. Вода уже залила костер. Зайчонок сидит на коряге и испуганно перебирает лапами. Возвращаюсь, беру его одной рукой за уши, другой под живот и неожиданно замечаю, что усы-то у него припалены. Наверное, пока я спал, заяц сунулся в костер и подсмолился.
Я давно обратил внимание: если оставишь где-нибудь в тайге костер, уже на второй день зайцы набегают вокруг него настоящую тропу. То ли их интересует зола, то ли идущее от кострища тепло. Скорее всего зола. Выгоняют же птицы с помощью золы паразитов из-под своего пера. Заберутся в золу и прямо купаются в ней. Может, и зайцы так же?
— Ах ты, пожарник! Айда ко мне. Ну его, этот остров. Еще утонешь. Да и лиса может схватить. Видел, какая прошмыгнула?
Устраиваю зайчонка за пазуху и по колени в воде бреду к завалу.
В полдень я был дома. Поселил косого в загородку, набросал туда сена, веток, а под жилье приспособил ящик. Узнавшие о зайце шоферы привезли капусты, яблок. Чуть-что — бегут к загородке поглазеть. А он стал совсем ручным. Лишь услышит шаги, сразу из-под ящика и ждет подачки.
— Ты его совсем выпусти, — посоветовали мне шоферы. — Теперь его отсюда и палкой не выгонишь. Еды от пуза, лисицей и волком не пахнет. Да и как он найдет дорогу на свой остров? Сюда-то прибыл в пазухе. К тому же везде ручьи, протоки. Заяц он хитрый — воды боится.
И правда. Открыл загородку, а он никуда. Прыгает себе по Лиственничному да теребит сено. Однажды прискакал к моей избушке. Сел у порога и внимательно смотрит.
― Давай вместе жить, — предлагаю ему. — Скоро зима, метели, морозы. А ты сиди в тепле-добре да похихикивай в паленые усы.
Заяц поднял голову, туда-сюда ушами подергал и поскакал к загородке.
А утром он исчез. Сначала я ждал его, потом начал искать. Но все напрасно. Как в воду канул. Скорее всего его унес ястреб. Последнее время он что-то слишком уж часто заглядывал ко мне в гости.
Через неделю мы вместе с бригадиром поехали смотреть сено на Сокжоевы покосы. Пока добирались до моста, машина три раза застревала в колдобинах. Дальше хода нет. Мост начисто снесло половодьем.
— Может, — предлагаю бригадиру, — попробуем в обход? Здесь недалеко. Бешеную пройдем по завалам, а дальше по валежинам.
Он сначала упирался:
— Не те мои годы, по завалам, как бурундук, шмыгать. Потом согласился. — Веди. Только учти — я купаться не намерен.
Без приключений перебрались через Бешеную Протоку и вскоре были у той коряги, где я ночевал. Бригадир присел отдохнуть, а я смотрю вокруг и вспоминаю, где меня гонял лось, где я увидел лису, как меня напугал зайчонок.
Вода давно вернулась в свои берега, на сыром песке таежные звери успели оставить свои следы. У самой протоки прогулялась выдра, чуть выше бродила лиса, у кострища и вокруг коряги напетляли зайцы…
Вдруг слышу: «Чап-чап-чап-чап». Оглядываюсь, заяц! Присел у ног и внимательно смотрит на меня. Стой! Да это же мой пожарник! Точно, он. Как ты здесь оказался?
Заяц прыг-скок, снова уселся столбиком. Сидит, перебирает лапами и деловито шевелит палеными усами.
Спасибо!
В обледенелых лыжах, промороженный насквозь, чуть живой от усталости, лишь к полуночи добрался до своей стоянки на Килгичане. Половину пути шел в сплошной темноте, лыжню занесло снегом, а здесь еще морозы выжали из-подо льда воду, и я несколько раз проваливался почти до самых колен.
В такие минуты в тайге до невозможности тоскливо, чувствуешь себя совсем маленьким, и хочется, чтобы тебя пожалела мама. Но на сотни километров ни одной живой души, хоть упади здесь на лыжне и умри.
А здесь еще хочется пить. Я пробовал есть снег, но от мороза он стал жестким и обжигает язык, словно берешь в рот раскаленные угли.
Наконец избушка. Оставляю рюкзак у порога, наощупь забираюсь в свое жилье и опускаюсь на кучу сваленных у печки дров. Нет сил ни раздеться, ни зажечь свечу. Все так же наощупь набрал щепок, сунул под них спичку, поставил на печку чайник. Там на самом донышке немного льда. Но мне много и не нужно. Лишь бы промочить горло.
Пока разгорался огонь, я откинулся на бревенчатую стену и в полузабытьи слушал, как пощелкивает жестяная труба, сипит чайник, шуршит натянутая на окно пленка. Жажда мучит все больше. Нужно бы дождаться, когда закипит вода, но не выдерживаю, снимаю чуть подогретый чайник и ставлю на дрова рядом с собою. Затем все так же наощупь отыскиваю на столе чашку и, наклонившись к печной дверце, проверяю, не побывали ли в моей посудине мыши? Нет, все в порядке. Только к ободку присохли две или три чаинки.
От предвкушения первого глотка рот наполняется клейкой слюной, першит в горле и зудит обожженный снегом язык. Тянусь за чайником, и вдруг пальцы касаются шероховатого дна. Оказывается, мой чайник попал на сучок, перевернулся и все, что в нем было, вылилось до последней капельки.
Обескураженный, сижу с пустой чашкой у печки, и до того мне обидно — плакать хочется. И в этот миг прямо в чашку звонко так: «Кап!». Это растаял собравшийся на потолке иней, и капля упала как раз в чашку. Я поднял глаза и очень серьезно, словно там и вправду был кто-то живой и очень добрый, сказал полушепотом:
— Спасибо!
Виноватые лиственницы
Тот, кто строил избушку у Налимьего озера, наверное, хорошо знает натуру современных туристов. Эти «любители природы» ленятся отойти сколько-нибудь от избушки и рубят деревья у самого порога. Вот он и обмотал все стоящие вокруг лиственницы колючей проволокой. Если рубить такое дерево, рискуешь затупить топор, и туристам волей-неволей пришлось оставить их в покое.
Избушке лет двадцать, значит, столько же времени прошло с тех пор, как вокруг лиственниц была обвита проволока. Но, по всему видно, лиственницы чувствуют себя нормально и издали выглядят ничуть не хуже остальных.
У меня же, когда смотрю на закованные в колючую проволоку деревья, все сжимается от жалости. Уж лучше бы срубил.
Голубой снег
Один знает, что зимой снег белый, куропатки, зайцы и горностаи тоже белые, и ему этого вполне достаточно. Живет себе спокойно и очень собою доволен.
Другой почему-то начинает сомневаться во всем этом, отправляется в тайгу и узнает, что самый чистый снег бывает серым, голубым и даже ярко-синим, куропатки — голубыми и розовыми, зайцы с горностаями — желтыми.
Ему бы взять и рассказать обо всем этом, но он боится, что его не поймут, поднимут на смех, пройдутся ногами по самому сокровенному. Вот он и молчит.
Почему?
Понятно, почему так покойно сидеть у костра и долго-долго глядеть на его жаркое пламя. Еще давний мой едва прикрытый звериными шкурами предок любил держаться у спасительного огня. Есть огонь — будет тепло, вкусная пища, под его защитой тебя не тронут хищные звери. Понятно, почему так хорошо глядеть на водяные струи где-нибудь у ручья или реки. Там, где вода, человеку не угрожает жажда, есть надежда поймать рыбу.
Но почему я с таким восторгом брожу по опавшим листьям, гляжу на усыпанное звездами небо, не устаю любоваться забагровевшими к ночи облаками?
Почему? Почему? Почему?
Человек в тайге
За что мы так не любим пришедшего в тайгу человека? Ведь идут туда не одни невежды. Большинство искренне влюблены в природу и желают ей только хорошего. Я думаю, причина вот в чем. В городе, поселке или деревне человек живет всю жизнь. Здесь он родился, получил в наследство дом, улицу, деревья, мост через реку. Здесь он работает, чтобы оставить после себя еще более красивые дома, улицы, деревья, мосты.
Побывав же в тайге, он оставляет не лучшее, а худшее. Сломленное дерево, кучу консервных банок, темное мертвое кострище. И даже для того, чтобы создать в тайге что-то хорошее — построить дом или проложить дорогу, он должен сначала вырубить, смять, уничтожить.
Проданная радость
Вырвавшись из душного и тесного города в тайгу, человек испытывает великий восторг. Он радуется цветам, ягодам, грибам — всему на свете. И, чтобы продлить эту радость, он забирает с собою в город букет цветов, корзину грибов или ведро ягод. И потом уже, дома, усталый, обсыпанный хвоей и пропахший дымом таежного костра, он с увлечением рассказывает, как совсем неожиданно и здорово все это нашел, какая была при этом погода, что думал, что почувствовал. Рассказывая, он еще переживает свою радость, и кто его знает, какая из них больше: та, испытанная в тайге, или эта — повторенная дома.
Но есть и такие, что начинают всем принесенным из тайги торговать, и тогда вдруг чистая и светлая радость общения с природой исчезает. Желание побольше выручить, не прозевать, не продешевить — затмевает все на свете. И человек, несмотря на жиреющий кошелек, становится все беднее и беднее. Ведь, продавая свою радость, он уподобляется известным нам несчастливцам, продавшим свою тень, смех, душу.
Избушки
Сколько брожу по тайге, никогда не встречал двух похожих избушек. И совсем не потому, что построены они из разного материала, а оттого, что строили их разные люди. И каковы эти люди, таковы и их жилища. Хитрый и ленивый ставит избушку тесную, хлипкую. В такой ночевать — беды наживать. И дрова не горят, и сквозняки гуляют, и за шиворот каплет.
У доброго избушка просторная, уютная. У веселого — пусть немного кособокая, но обязательно с большим, на весь мир, окном и озорным петушком на крыше.
Один ставит избушку на открытом месте, другой прячет в глухую чащу. Есть такие, что безжалостно вырубают вокруг все деревья, но немало и таких, что стараются не порушить возле своего жилья и единого стебелька.
Одним словом, каки сами — таки сани. И получается, что, создавая свою избушку, человек как бы оставляет в ней частицу самого себя. Не от этого ли так болит душа, когда после долгой разлуки возвращаешься к своей избушке. И такой непередаваемый восторг, такое смятение чувств нахлынет вдруг, когда за деревьями откроется так знакомое тебе строение, что прямо комок к горлу.
Комар в записной книжке
Листая записную книжку, я нашел между ее страниц комара. Свои записи я делал на далекой реке Чилганье, где прожил больше месяца. В теплую погоду меня поедом ели комары, в холодную я ужасно мерз, потому что в первый же день случился пожар и половина моей одежды сгорела. От оставшейся так сильно несло паленым, что впору затыкать нос.
Тогда я считал свою жизнь чуть ли не каторгой, а сейчас гляжу на комара и с завистью к самому себе вспоминаю и утреннюю Чилганью, и распевающего в тальниках дрозда, и прилетавшего прямо к моему стану глухаря. Здорово все-таки было! Проснусь, а он ходит рядом с палаткой, как индюк, и что-то там клюет.
И мне вдруг так захотелось хоть на минуту очутиться там, на Чилганье, аж сердце заболело.
РОСКА
Лиственничное
В начале осени я переселился в Лиственничное — таежную деревню-малютку из десяти рубленых избушек. Летом здесь живет бригада косарей, в остальное время это мои владения. В каждой избушке одно окно, дверь, скамейка у крыльца. Окна всех избушек смотрят на реку с таинственным названием Фатума. Вода в ней прозрачная и вкусная.
Неподалеку от избушек возвышаются две поставленные «на попа» цистерны. На ближней нарисована грустная рожица, под нею подписано: «Шурига жмот!». Шурига — это бригадир косарей, а карикатуру на него рисовали дорожники, которым он не дал солярки. Бригадир и в самом деле прижимистый. Он пожалел краски закрасить карикатуру и, когда знакомил меня со своим хозяйством, смотрел не на цистерну, а куда-то в голубую даль. Словно собирался передать мне на хранение и одинокую тучку, как раз проплывавшую над Лиственничным.
Работы у меня немного. Следить, чтобы заезжие рыбаки и охотники не наделали беды с огнем, помогать совхозным шоферам грузить на машины спрессованное в тюки сено, убирать снег с навесов, под которыми хранятся эти тюки.
По соседству со мной в полоске ольховника живет хромой заяц. Он угодил лапой в капкан, каким-то чудом вырвался из него и теперь все железные предметы обходит десятой дорогой. Каждую ночь он является к навесам, собирает оброненные стебельки иван-чая, оставляя на снегу разлапистый след-малик и россыпь коричневых шариков. Меня заяц нисколько не боится. Услышав шаги, ныряет под навес и возмущенно фыркает. Уходи, мол, скорее!
Еще в Лиственничном живут три черноголовые синицы и один поползень. Синицы никакой выгоды от соседства со мною не имеют. Еду они добывают на растущих у реки ивах. А таких деревьев в тайге сколько угодно. Поползень — совсем другое дело. Дверь своей избушки я утеплил мешками, в которых раньше хранился комбикорм. Когда-то мешки побывали под дождем, и на ткани осталась корочка теста. Хотя на мешках написано, что продукция предназначена для крупного рогатого скота, поползню она тоже пришлась по вкусу. С самого рассвета он бегает по двери и стучит клювом. Доски в двери рассохлись, и через щели проглядывает мешковина. Когда поползень садится на дверь, его коготки прокалывают грубую ткань и оказываются внутри избушки. Я несколько раз ловил поползня за эти коготки, затем приоткрывал дверь и брал его в руки. Поползень делал вид, что ему очень страшно. Пищал и больно клевался. Выпущенный на свободу, он минут пять отсиживался на иве, затем как ни в чем не бывало снова принимался гонять по двери.
Стены моей избушки сложены из ошкуренных лиственничных бревен. От времени они потемнели и покрылись трещинами. В этих трещинах любят селиться толстые лесные мухи, угольно-черные жуки-дровосеки, тонконогие комары. Если ранней весной случается теплый день, самые нетерпеливые из многочисленных моих квартирантов выползают на солнечную сторону и дремлют там, выгревая настывшие за зиму тельца. Вечером жуки с мухами торопливо уползают обратно в щели, а комары замерзают и осыпаются на снег. Ни синицы, ни поползень ими почему-то не интересуются. Так бедные комары и лежат, пока их не соберет возвратившаяся из далекой Африки длиннохвостая трясогузка.
Внутри избушки трещин еще больше. Я втыкаю в них гроздья ягод рябины, затейливые сучки, полученные от Шуриги записки-наставления. Из щели, что темнеет над моей кроватью, выглядывает свернутый из газеты фунтик. В нем три дробинки. Две целые, а одна расплющенная. Это память о моей Роске — все, что еще связывает меня с этим удивительным зверем. Три свинцовые сложенные в пожелтевший от времени фунтик дробинки и все.
Я как сейчас вижу ее перед собой. Необыкновенно светлый, словно облитый солнцем, зверь с круглыми настороженными ушами стоит и не мигая смотрит на меня. А над тайгою плывет теплый июльский день, о чем-то своем воркует прыгающий по камням ручеек, где-то сипло кричит кедровка…
Нет, лучше сначала. О росомахе я услышал в первые же дни пребывания в Лиственничном. До этого я думал, что росомахи никогда не привязываются к одному месту. Зверь-изгой, зверь-бродяга, бежит, мол, и бежит, пересекая распадки и долины, уничтожая на своем пути все живое. Случится олень — съедает оленя, встретится маленькая мышка-полевка — не пожалеет и ее.
Если путь росомахи лежит на север, то остановится она только у Ледовитого океана. Поглядит на вздыбившиеся торосы, покопается в куче выброшенных на берег водорослей и поворачивает обратно. Теперь ее след тянется к богатому красной рыбой и огромными клешнястыми крабами Охотскому морю. И так день за днем, год за годом.
Но оказалось, каждая росомаха занимает строго определенный участок. Эту территорию зверь тщательно охраняет. Регулярно обходит ее, оставляя у границ своих владений «визитные карточки». Для этого росомаха трется животом о кусты, кочки, коряги, выделяя из железы пахучее вещество. Исследовав такую отметку, другая росомаха получает полную информацию о хозяине занятой территории — молодой он или старый, сыт или голоден и даже как отнесется к тому, если, скажем, заглянуть к нему в гости?
Как-то совхозный тракторист Пироговский Митька привез в Лиственничное двух молодых лаек. Собак звали Султан и Люта. Тайга была им в диковинку и вначале очень напугала. От каждого шороха в кустах они трусливо поджимали хвосты и дальше помойной ямы от избушек не отходили. Днем собаки путались под ногами поварихи Любы, ночью забирались под кровать к Пироговскому и до утра не казали носа.
Но вскоре они освоились и устроили в тайге настоящий разбой. Породистые собаки легко разыскивали в траве молодых зайчат, куропачьи и глухариные выводки, а однажды задавили даже матерого глухаря-токовика. Летом глухари линяют и от опасности стараются уйти пешком. Вот один и не уберегся.
С раздувшимися животами являлись собаки домой и, даже не взглянув на приготовившую для них косточки Любу, чинно разваливались у порога Митькиной избушки.
— Нужна ты им со своими объедками, — говорил Пироговский поварихе. — Добрая собака в тайге сама себя прокормит и хозяину пропасть не даст. — И, хлопнув Султана по животу, самодовольно заканчивал: — А ну, псина, признайся этой тете, сколько ты зайчиков сегодня схамкал? Ишь, как тебя разнесло!
В то утро собаки подзадержались и вылезли из-под Митькиной кровати, когда Люба уже приготовила завтрак. Они догнали идущую к Фатуме с пустыми ведрами Любу и, даже не посмотрев на нее, пробежали мимо. Повариха проводила собак взглядом, хотела было окликнуть, но передумала:
— Ну их! Словно волки стали. Даже вид звероватый.
Люба уже зачерпнула воды и сделала несколько шагов по направлению к кухне, как вдруг за деревьями взорвались неистовым лаем собаки. Такого с ними еще не было. Ну гавкнут разок-другой на кого-то из заезжих рыбаков и стихнут. Здесь же зашлись, аж захлебываются.
Люба оглянулась, подняла лежащую у тропы хворостину и заторопилась к собакам.
«Наверное, снова дорожники приехали, — думала она. — Чего это их в такую рань носит?»
Сначала повариха увидела Люту. Та вертелась вокруг одиноко стоявшей лиственницы и лаяла, как заведенная. При этом она не глядела ни вверх, ни вниз, а просто бегала и гавкала. Потом из ольховниковых зарослей вывернулся Султан. Он зло хватил зубами растущий у тропы куст и тут же прыгнул на лиственницу, под которой вертелась Люта. Повариха подняла глаза и обмерла. Метрах в четырех от земли среди частых веток сидела росомаха. До этого девушка видела росомах только на картинках, но сейчас узнала сразу. Небольшая голова с округлыми ушами, толстые лапы, мохнатый хвост. Вот только цвет у нее был совсем не таким, какой могла представить себе Люба. Она считала, что росомахи черные, ну в крайнем случае черно-коричневые, эта же была почти желтая.
Занятый собаками зверь не видел девушку. Он смотрел на лаек и угрожающе шипел. При этом он каждый раз приподнимал верхнюю губу и обнажал белые клыки.
Как-то совхозные косари рассказывали, что росомаха до удивления похожа на медвежонка. Сейчас Люба такого сходства не увидела. А вот на кошку — другое дело. Сидит загнанная на дерево огромная киска и шипит на извечных своих недругов. А те рады стараться. Прямо задыхаются от злости.
— Люта! Султан! Брысь отсюда! Кому говорят?
Росомаха вздрогнула, мгновенно повернулась к Любе и сразу же прыгнула вниз. По пути она зацепилась за ветку, сломала ее и вместе с нею плюхнулась чуть ли не на головы собакам. В мгновенье ока росомаха и лайки сплелись в рычащий клубок. Султан и Люта не уступали росомахе ни силой, ни размерами. Султан был даже выше росомахи, к тому же собаки сражались вдвоем против одного. Свирепея все больше и больше, они совсем не обращали внимания на суетившуюся вокруг Любу. Казалось, участь росомахи решена. Но вдруг случилось что-то непонятное. Раздался пронзительный визг собак, и клубок распался.
Задыхаясь и кашляя, словно ему вдруг перехватило горло, Султан бросился прочь от росомахи и закружил на месте. Люта с жалобным поскуливанием тоже отпрыгнула в сторону, ударилась головой о ствол лиственницы и, спотыкаясь на каждом шагу, словно слепая, побрела к Фатуме. Под лиственницей остались только распластанная на мху росомаха и все еще сжимающая хворостину Люба. Зверь коротко рыкнул, поднял голову и глянул на девушку. Глаза человека и зверя встретились. Но ни ненависти, ни злобы во взгляде росомахи не было. Скорее, она смотрела на Любу как-то растерянно, будто чувствовала за собой какую-то вину.
Девушка присела перед росомахой и участливо спросила:
— Тебе очень больно?
Словно только сейчас осознав, что перед нею человек, росомаха вскочила и опрометью бросилась в чащу…
Султан долго не мог прийти в себя. Беспрестанно кашляя, он то ложился на землю, то принимался тереть нос лапой или просто стоял и тряс головой. Из разорванного уха сочилась струйка крови. Наверное, собаке было очень больно, но вместо того, чтобы пожалеть ее, Люба злорадно сказала:
— Что, кончилась коту масленица? Это тебе не зайчат хамкать. — Она наклонилась к Султану и вдруг учуяла, что от него чем-то пахнет. Кислый чесночный запах был до того резким, что от него запершило в горле и выступили слезы из глаз. Люба поднялась и, недоуменно качая головой, заторопилась на кухню.
Ожидавшие завтрака бригадир Шурига и два косаря к взволнованному рассказу поварихи отнеслись с недоверием. Недавно она приняла за медведя лежащий у дороги выворотень, теперь вот ей привиделась росомаха. Будет она околачиваться возле человеческого жилья! Зимой — еще куда ни шло, но чтобы среди лета? Сейчас ее сюда и палкой не пригонишь.
Пока они спорили, никем не замеченные собаки возвратились домой. Сначала, припадая на переднюю лапу, прихромала Люта, за нею явился и Султан. Они забрались под кровать все еще спящего Митьки и, обиженно поскуливая, принялись зализывать раны. Скоро по избушке поплыл неприятный запах. Митька открыл глаза, повел носом и, легко определив источник зловония, принялся вытаскивать упирающихся собак на улицу.
Он отмывал собак в теплой воде, пускал в ход туалетное мыло и порошок «Кристалл», обливал собак духами «Милый друг» и огуречным лосьоном, но ничего не помогло. Более того, этим запахом пропиталась Митькина избушка и он сам. К вечеру, сопровождаемый ехидными репликами жителей Лиственничного, Пироговский уехал в совхоз. Вместе с ним отбыли и лайки.
Как долго держался запах, струей которого росомаха угостила собак, не знает никто, потому что ни Митька, ни его собаки больше в Лиственничном не появлялись.
Повторный визит
А вот росомаха осталась. Правда, к поселку она теперь не приближалась, но бригадир сам рассказывал, что дважды встречал ее по дороге к Сокжоевьш покосам.
— Она и в самом деле на других не похожа, — говорил Шурига. — Не то чтобы желтая, а какая-то светло-светло-коричневая. Но уж доверчивая — удивиться впору. Метров на двадцать подпустила. Стоит и совершенно спокойно так смотрит. Потом прыг в сторону — и нет ее.
Подозревали, что именно эта росомаха съела четыре низки вяленых хариусов, развешенных трактористами возле палатки. Медведь оборвал бы шпагат, лиса оставила бы объедки, соболю с таким количеством рыбы вообще не справиться. С вечера висела — хвост к хвосту, а утром проснулись — пусто. Одни веревочки остались. Чужих людей не было, зверья же в тайге сколько угодно. На кого хочешь — на того и думай. Подумали на росомаху…
Крупные, чем-то напоминающие медвежьи, следы я впервые встретил через три дня после того, как лег первый снег. Росомаха вышла к Фатуме километрах в двух от Лиственничного, повертелась у берега и направилась в сторону Хитрого ручья. Я долго шел по следу, стараясь узнать, с какой целью она подходила к реке, но так ни с чем и возвратился.
По пути росомаха отыскала обточенный полевками лосиный рог, оставила две желтые метки на выглядывающих из-под снега корягах, собрала перемороженные ягоды с куста голубики. Я давно заметил, что голубика для всех таежных птиц и зверей самая лакомая. На смородину они не обратят внимания, бруснику щипнут всего лишь чуть-чуть, голубику же соберут до последней ягодки. Любят ее и куропатки, и утки, и соболи, и лисицы, глухари так те вообще до глубокой осени на голубичниках пасутся, теперь вот и моя росомаха позарилась.
К куропаткам, что паслись в зарослях ерниковой березки, она не проявила никакого интереса. Так же безразлично отнеслась и к свежей лосиной лежке. Остановилась, переступила с ноги на ногу и пошла дальше.
Через неделю след появился снова. И опять росомаха прошла этой дорогой без всякой видимой причины. Правда, в этот раз она заинтересовалась темнеющими на снегу остатками моего костра. Обследовала горку сизой золы, подобрала остатки завтрака и неторопливо отправилась дальше. След ничем не отличался от предыдущего. Я едва прикрывал его ладонью. Без сомнения, здесь ходит один и тот же зверь. Но почему, приблизившись к реке, росомаха не пытается перебраться на другой берег? Вода с наступлением морозов упала, рядом усыпанный камнями перекат, а она постоит, потопчется и назад.
Здесь меня и осенило. А ведь бродит в этих местах росомаха далеко не случайно. У реки проходит граница ее владений, вот хозяйка и проверяет, не проникла ли сюда другая росомаха? Да и вообще вся раскинувшаяся за Фатумой тайга — ее дом, ее усадьба. А какая хозяйка не стремится знать, что творится в ее усадьбе?
…Наверное, я, мягко говоря, не совсем хороший человек. В зоопарке меня от одного вида запертых в клетки зверей и птиц начинает бить лихорадка. Бродить бы, скажем, топтыгину по горам и долам, копаться в муравейниках да пугать грибников, а его заперли в клетку и радуются, когда он лапу за кусочком печенья, как за подаянием, тянет.
Потом еще и ехидничают: «Сунул я ему гвоздь в булку — не жрет. Разбирается!» Еще больше я выхожу из себя, когда читаю или слышу о диких животных, что живут вместе с людьми. Себе в угоду любители домашней экзотики лишают зверей самого дорогого — Свободы. Запирают в душную и тесную городскую квартиру и умиляются: «Ах, как он нас любит!». Я уже не говорю, что почти всегда эти животные в скором времени погибают от какого-то случая. Тогда эти любители стараются найти оправдание. То милиционер не разобрался да по ошибке застрелил, то с девятого этажа совершенно случайно уронили или просто «сначала играл, потом лег в уголок и умер». Лучше бы сразу убили без всякого лицемерия. Благородней все-таки.
Но вот иду по следу росомахи и сам же мечтаю: «Хорошо бы иметь ручную росомаху! Куда я — туда и она. Красивая, сильная, послушная. Все понимает с полуслова. Приеду в совхоз, а вместе со мною эдакая зверина! Знакомые от удивления и зависти обмирают, дети толпой бегут. А мы следуем себе, словно так и нужно. Или вот тайга. Нужно — я ее в магазин за свежим хлебом или на почту за письмами пошлю. Я бы ее за это кормил сколько душе угодно. Почему она не понимает, что со мною ей было бы лучше и надежнее?».
Конечно, все мои мечты-планы сплошной бред, но все равно думается вот так.
А что, если и на самом деле познакомиться с росомахой? Взять да и прикормить зверя. Правда, мясом или рыбой я не особенно богат, но собрала же она мои объедки у кострища. Съела все до последней крошки, даже бумагу, в которую я заворачивал бутерброд, проглотила.
В кладовой у меня целая наволочка овсянки. Как-то Шурига решил кормить косарей овсяной кашей на молоке и закупил килограммов тридцать крупы. Но с молоком у него вышла промашка. Сенокосные угодья от совхоза далеко, дорога к нам трудная. Пока довезут молоко, из него уже получилась простокваша. Так и осталась овсяная крупа без дела. Возьму и заварю Роске каши. Пусть питается на здоровье. А сдабривать буду рыбьим жиром. Этого добра у Шуриги целая бутыль. Как она попала к бригадиру, стоит рассказать особо.
В прошлом году два заезжих парня решили заняться пушным промыслом в верховьях Фатумы. Места там богатые. Есть соболь, белка, горностай, встречаются лисицы и норки. Наняли они вездеход, завезли все необходимое и начали охоту. И надо же им было в самый первый день промысла наскочить на свежий медвежий след. Медведь был небольшой и наверняка довольно мирный. В поисках места под берлогу он бродил по тайге, заглядывая под завалы и выворотки.
Решив, что запас медвежатины будет как нельзя кстати, охотники зарядили ружья пулевыми патронами и, прислушиваясь к каждому шороху, отправились по следу. Медведя они увидели по другую сторону неглубокой лощины метрах в ста от себя. Тот стоял спиной к охотникам и что-то вынюхивал. Переглянувшись, медвежатники вскинули ружья и дружно пальнули в ничего не подозревающего мишку.
Ни одна из пуль медведя не зацепила, но напугался он крепко. К тому же медведь не успел разобраться, откуда грозит опасность, и поступил так, как в таких случаях поступают все медведи — развернулся на сто восемьдесят градусов и кинулся удирать своим же следом. С удивительной для неповоротливого на вид зверя скоростью он пересек лощину и вдруг оказался перед охотниками. Один из них успел юркнуть за лиственницу, другой стоял на медвежьем следу и непослушными руками перезаряжал ружье. Увидев перед собою человека, медведь напугался еще больше. Он рявкнул, ударом лапы отбросил охотника в сторону и скрылся за деревьями.
К счастью, медвежьи когти, располосовав грубую кожаную куртку, пиджак и рубашку, оставили на плече охотника лишь небольшую царапину. Однако и ее хватило, чтобы на второй день, прихватив только то, что вместилось в рюкзаки, охотники выбрались на трассу и попутной машиной укатили в Магадан. Брошенные на берегу Фатумы матрацы, мешки с провиантом и даже железная печка вскоре перекочевали в кладовку к запасливому Шуриге. Там же оказалась и пятилитровая бутыль рыбьего жира, которым охотники планировали приманивать к капканам зверей.
Каша получилась наваристая и очень ароматная. Я сам съел несколько ложек. Ничего. Только плохо, что без соли. Но солить никак нельзя. У отведавшего соленой пищи хищника притупляется обоняние. Ведь не секрет, что первобытные люди имели прекрасный нюх. Они не хуже волка или тигра могли учуять по запаху спрятавшегося в кустах оленя. Но со временем человечество пристрастилось к соли и теперь, если кто что и унюхает, то всего лишь, как у соседа пригорели блины или убежало молоко.
Часть каши я выложил рядом с кострищем, часть оставил на большом плоском камне, что лежит у тропы к Лиственничному. Затем намочил в рыбьем жире тряпку, привязал к ней веревку и проложил между кострищем и камнем ароматную дорожку. Как только росомаха отправится обследовать свои владенья, обязательно наскочит на эту дорожку. Тем более, что в прошлый раз она отметила кострище мочевой точкой. Волки, лисицы, росомахи и другие звери в тех местах, где им удалось поживиться, ставят свою отметку. Территория, мол, занята, и нечего здесь другим делать. Получается, что теперь это кострище не только мое, а и росомахино. Наше общее, так сказать.
Съев кашу, росомаха обследует поляну вокруг кострища и наткнется на пахнущую рыбьим жиром дорожку. По этой дорожке она дойдет до камня и таким образом получит еду уже ближе к Лиственничному. В следующий раз я подкормлю росомаху у ивового куста и в конце концов подманю ее к самой избушке.
В первую же ночь к моей приманке явились рыжие полевки. Удивляюсь, откуда у них такая прыть? Ведь ни овса, ни рыбьего жира эти зверьки и в глаза не видели. Но гляди, выели целый угол. Словно всю жизнь одной заправленной рыбьим жиром овсянкой и питались. Прибегали и убегали полевки каждая своей дорожкой. Вот и натропили за ночь добрую сотню строчек-ленточек.
Через два дня кашу отыскали горностай и заяц. Заяц ничего не тронул. Он потоптался у кострища, схрумкал стебелек кипрея и ускакал в ивняковые заросли. Горностай принялся было грызть замерзшую кашу, потом оставил это занятие и направился в гости к полевкам. Узкое и гибкое его тельце легко проскользнуло в нору, и скоро в подземном жилище начался великий переполох.
Одни полевки метнулись в узкие отнорки, в надежде, что горностай туда не пролезет. Другие, более проворные, выскочили наружу и стрельнули в разные стороны. Лишь самая толстая и неповоротливая полевка не успела ни убежать, ни спрятаться и попала горностаю в зубы. Маленький хищник выбрался из норы, унес добычу под корни старой ивы и там съел.
То ли полевки не заметили, как горностай расправился с их соседкой, то ли они давно платят дань этому злодею и принимают его разбой, как горькую неизбежность, — не знаю. Но, так или иначе, они, словно ничего не случилось, в следующую ночь снова собрались у каши и опять выели порядочный кусок.
Через неделю по успевшим запорошиться легким снежком следам горностая примчался соболь. В первую очередь он покопался под старой ивой, разыскивая то ли горностая, то ли его добычу. Затем направился к кострищу и принялся за овсянку…
А росомахи все не было. Я уже начал сомневаться в успехе своего предприятия. Наверное, это была случайная росомаха и задержалась у Фатумы на короткое время. Расстроившись я несколько дней не появлялся у кострища и даже затолкал овсянку и рыбий жир подальше.
Недели через две мы уехали грузить сено на Соловьевские покосы и провозились чуть ли не до ночи. Возвращаясь домой, я шел мимо Фатумы, и сразу же повезло. У самого берега наткнулся на следы моей Роски, как я успел окрестить росомаху. Молодец! Нашлась, бродяга!
У ольховникового куста росомаха остановилась, заглянула в пустое птичье гнездо и направилась прямо к кострищу. Там она подобрала всю кашу, даже снег, что лежал под нею, съела. Затем, без всяких кружений, вышла прямо на дорожку-потаск и вскоре отыскала камень. Там она тоже тщательно подобрала мое угощение и… что это? Роска направилась к дорожке, которую я протоптал, гоняя от Лиственничного к кострищу и обратно. Выйдя на дорожку, росомаха — умница какая! — повернула в сторону Лиственничного. Шла она без опаски. Ни разу не остановилась, чтобы оглянуться или прислушаться. Словно пользовалась этой дорогой всю жизнь.
Не дойдя до моей избушки какой-то полсотни шагов, она легла на снег и долго там лежала. Снег под нею подтаял и взялся коркой. На корке осталось несколько светло-коричневых волосков.
Ура-а! Наша победа! Это она. Та самая, что расправилась с лайками Пироговского. Пришла-таки, красавица, в гости. А я думал, ползимы подманывать придется.
От поселка росомаха уходила торопливо. Расстояние между следами большое, выволок (снег, выброшенный лапой зверя из следа) длинный. Наверное, я, выглянув на улицу, сильно хлопнул дверью. А может, ее вспугнула подъехавшая за сеном машина? Интересно, чего росомаха здесь ждала? Может, прибавки к каше? А может, просто хотела посмотреть на чудака, что ходит по тайге и просто так оставляет на своем следу вкусные вещи.
На второй день должен был приехать Шурига, с которым мы собирались отыскать удобную переправу через Фатуму. В ожидании гостя я поднялся задолго до рассвета. Приготовленная с вечера овсянка застыла и загустела. На этот раз кроме рыбьего жира я пожертвовал Роске банку сгущенного молока. Растопил печку, убрал в избушке и, позавтракав картошкой в шкурках, попросту мундиркой, прихватил ведро с кашей и отправился к кострищу.
Светало. С реки наплывал густой туман. Где-то хрипло кричала кедровка, ей вторил спрятавшийся в заросли ерниковой березки куропач. Было зябко и одиноко. Захотелось домой, на люди.
Через реку перелетел черный длиннохвостый глухарь и опустился на болоте. Он летает туда каждое утро. А ночует глухарь на склоне сопки в гриве высоких лиственниц. Сейчас ему плохо. Уже начались морозы, а снега всего лишь чуть выше щиколоток. Вот и приходится всю ночь зябнуть на студеном ветру.
Этой ночью у кострища побывал соболь. Наверное, ему снова захотелось каши. Я не очень-то радуюсь этому посещению. Тайга вокруг редкая, лиственницы и ивы низкорослые. Если дорогого зверька застанет здесь моя Роска, то ему не поздоровится. Она тоже хорошо лазает по деревьям, а ценный ты или не очень, ей все равно. Лишь бы был вкусным. В давние времена удегейцы съедали мясо добытого соболя, шкурку же выбрасывали или в крайнем случае шили из нее теплые чулки.
На этот раз распределяю кашу по всей тропе. Самую большую порцию оставил метрах в тридцати от избушки. Во мне живет уверенность, что Роска явится ночью. Все куньи — ночные хищники и днем на охоту выходят редко. А здесь еще совсем рядом человеческое жилье. Кто знает, что у меня на уме? Может, я подкармливаю ее кашей из любопытства, а может, давным-давно приготовил заряженное крупной картечью ружье.
Знакомство
Пока я бродил у Фатумы, погода начала портиться. Небо из голубого и высокого стало белесо-мутным и низким. Одна за другой в верховья реки пронеслись две стаи куропаток. За ними пролетел одинокий ворон. Птицы летели низко. В их напряженном полете чувствовалась какая-то тревога. Приближалась непогода. Вспомнив, что с крайнего навеса сорвало ветром толь, я поспешил в дом за молотком и гвоздями.
В избушке тепло и уютно. Домовито клекочет кастрюля. На окне поживкивает проснувшаяся не ко времени муха. Уходить на улицу не хотелось. И сразу же нашлась тысяча причин. Во-первых, сегодня воскресенье, во-вторых, я еще не завтракал, в-третьих — сейчас зима, дождя не будет. Так что ничего с этим сеном не случится.
У меня всегда так. Пока делаю работу — настроения и азарта сколько угодно, могу горы перевернуть. Но стоит чуть залениться — сейчас же появляется куча всевозможных оправданий. Может, это не так хорошо, но ведь и в самом деле, кто дал право гнать на работу голодного человека в его законный выходной?
Вытаскиваю из-под стола ящик с припасами и сажусь у окна чистить картошку. Через стекло хорошо видно опушку тайги, суховерхую лиственницу с сидящей на ней ястребиной совой, излучину Фатумы. Вдоль берега просматривается тропинка, у которой я разбросал кашу для росомахи. Интересно, что она сейчас делает? А что ей делать? Забралась в дупло или вырыла в снегу нору и спит. Недавно по транзистору слушал о том, как из Нарьян-Мара в Киров перевозили только что пойманную росомаху. Везли ее в сколоченном из толстых дубовых досок ящике. Изнутри ящик обили листовым железом. Всю дорогу росомаха рвалась на волю. Она кромсала зубами металл, остервенело грызла доски и, словно почувствовав, что в городе Кирове ее ожидает прочная железная клетка, прогрызла в металле и дереве дырку и убежала в лес. Ей бы сидеть в чащобе, а она, дурочка, отправилась в город. Что ее туда понесло — не представляю. Там росомаху окружили, загнали в крольчатник и принялись ловить. Ее травили собаками, тыкали в зубы палкой, набрасывали на шею петлю. Она с рычанием крошила в щепу концы палок, бросалась на собак, щелкала зубами на подступивших слишком близко людей. Словом, сражалась изо всех сил.
Когда же росомахе подсунули настороженный капкан, она обнюхала его и сразу поняла, для чего предназначена эта безобидная с виду железная штука. Росомаха легла на живот, вытянула лапы и, как ее ни дразнили, не хотела даже шевельнуться. Наконец ее каким-то образом обманули, затолкали в мешок и отвезли на биостанцию. Теперь она, мол, блаженствует в клетке и ей там очень нравится.
Так я им и поверил. Несмышленый зайчонок, в первый же день бравший еду из моих рук, и тот, предпочтя всем благам свободную жизнь, при первой возможности убежал в тайгу. А они такое о росомахе!
А вдруг и за моей Роской кто-то тоже охотится? Поймает и увезет от этих сопок, тайги, быстрой и студеной Фатумы. Может, мне не нужно ее подкармливать? А то приучу ее доверять людям, а они…
Отправив очищенную картошину в воду, бросаю взгляд в окно и вижу… росомаху. Она стоит на тропинке и смотрит в мою сторону. Шурига городил сущую чепуху, уверяя, что росомаха ничуть не похожа на медведя. Не знай я, что по этой тропинке может пройти только росомаха, я бы мог поспорить, что передо мною медвежонок. Забавный, мохнатый медвежонок с потешной мордашкой и любопытными глазами. Такие же маленькие круглые уши, вывернутые внутрь косолапые ноги, чуть горбатая спина.
Так вот ты какая, росомаха Роска! Красивая! И ничего сверххищного в твоем облике нет. Чем же ты насолила людям, что они так тебя ненавидят? Немецкое и французское твое название переводится на русский язык не иначе, как «обжора». Охотники саами, спасая от тебя свою добычу, строили ящик «пурну» или лабаз «луэвь». Североамериканские индейцы, пряча мясо на дерево, обивали весь ствол рыболовными крючками. Но ничего не помогало, потому что все умершее в тайге естественной или насильственной смертью ты считаешь своей законной добычей. А умом и смекалкой ты превосходишь любого живущего в твоих краях зверя. Не потому ли во многих странах истинным владыкой тайги считают не медведя, а росомаху?
Моя гостья обнюхивает горку выложенной у тропы каши и поворачивается ко мне боком. Хорошо вижу темное пятно-«сковороду» на ее спине, длинный и пышный хвост. Бока и голова росомахи светлые, на груди россыпь белых пятнышек.
Обследовав мое варево, росомаха принимается жадно есть. Разгрызая замерзшие куски, она мотает головой, помогает себе лапами, иногда ложится грудью на снег. Раза два она прерывала еду и настороженно оглядывалась по сторонам. При этом ее уши приподнимались, морда подавалась вперед, а ноздри усиленно тянули воздух. Торопливо проглотив последний кусок, росомаха еще раз глянула на мою избушку и, горбясь, побежала вдоль Фатумы.
Это был единственный случай, когда я видел Роску у своей избушки. Больше днем она в Лиственничном не появлялась. А может, во всем виноват я сам, потому что после этого перестал варить для нее кашу и вообще оставлял ей на угощение совсем маленькие порции. Пусть добывает еду сама, а то привыкнет к подачкам, заленится и тогда с ней беды не оберешься.
С другой стороны, наткнувшись на след росомахи у своего поселочка, а затем добившись того, что она приняла мое угощение, я вдруг возомнил, что не смогу подружиться с нею, что она никогда не подпустит меня даже на расстояние вытянутой руки и сколько я ни буду биться, а на большее, чем на мимолетную встречу где-нибудь на берегу Фатумы или вот так через окно, рассчитывать не стоит.
Но вскоре случилось событие, едва не закончившееся для меня трагически, а, главное, приоткрывшее завесу над жизнью росомах, хотя после этого она не стала для меня менее таинственной и непонятной. Во всем виноват Шурига.
Медведь
Ни с того ни с сего бригадир косарей вдруг вспомнил об оставленном на Сокжоевых покосах имуществе и распорядился вывезти все в поселок. Матрацы, одеяла, подушки, косы, грабли и даже бочки из-под солярки. Кажется, у него назначили ревизию и, чтобы не везти комиссию на покосы, он решил все представить прямо в контору. Как бы сказал в таких случаях сам Шурига: «Если Магомет не идет к горе, то гору везут к Магомету».
От Лиственничного к Сокжоевым покосам километров двадцать, дорога никудышняя, к тому же нужно собирать и укладывать вещи, так что справиться за день — нечего и думать. Свое распоряжение Шурига передал через совхозного тракториста Сережку Емца, что явился в Лиственничное на тракторе с санями. Невысокий краснощекий крепыш с усами, как у запорожского казака, и хорошо заметным брюшком — он с самого рождения живет на Колыме. Сын бродяги, Сережка унаследовал характер отца и в свои неполных тридцать лет успел поработать оленеводом, охотником, старателем и наконец попал к нам в бригаду. В тайге он человек не новый, поговорить любит, да и я соскучился по людям, и мы, пока доехали до покосов, наговорились до боли в скулах.
Летом здесь жило звено косарей. Два человека в землянке, остальные в вагончиках. Здесь у них баня, навес под столовую, мастерская и даже маленькая пекарня. Сначала жили все вместе, потом что-то там не поделили, и эти двое решили поселиться отдельно. Облюбовали за ручьем поляну, выкопали бульдозером глубокую канаву и накатали сверху бревен. Получилось довольно просторное жилье. Я однажды в нем ночевал. С одной стороны, как будто даже лучше, чем в вагончике. Ночью тепло, в жару прохладно, комары не залетают. Но, с другой стороны, слишком уж тихо. Обшитые досками земляные стены не пропускают ни единого звука. Не то что птички, трактора не услышишь. А ведь в тайгу за тем и рвешься, чтобы слушать ее. Такую же вот тишину можно организовать и в подвале где-нибудь среди поселка.
За весь путь ничего, кроме стаи куропаток, мы не встретили. Следов тоже было мало. Вдоль колеи набегал заяц, раза два дорогу пересекли олени да еще на самом въезде в Сокжоевы я обратил внимание, что весь снег у ручья истроплен каким-то зверем. На самом берегу ручья косари устроили коптильню для рыбы и то ли выплеснули рассол, то ли у них протухла рыба и ее тут же выбросили, а какой-то зверь унюхал и решил поживиться. Следы глубокие, мне даже показалось, что это работа медведя, хотя по времени ему пора давным-давно спать в берлоге. До вагончиков оставалось совсем немного, и я хотел было попросить Емца, чтобы остановил трактор, мол, посмотрю, кто там копался. Да как на грех, в это же самое мгновенье тракторист заметил глухаря. Крупный, черный петух пролетел над сопкой и уселся на лиственницу по другую сторону ручья. У Сережки, конечно, никаких лыж. Да и зачем они ему, если у него трактор? Он зарядил ружье, схватил мои лыжи и зашлепал к ручью. Я попросил его, чтобы он глянул, чьи там следы у коптильни? Сережка чуть покружил на берегу, пару раз наклонился и наконец крикнул:
— Лиса ходила! И еще росомаха! Давай к вагончику, кипяти чай, я быстро.
Он и на самом деле вернулся минут через двадцать. Глухарь не подпустил охотника на выстрел, снялся и улетел к реке. Приготовили обед, чуть отдохнули и принялись за работу. Вещей оказалось больше, чем мы думали. Пришлось нашивать борта и обчаливать все тросом. Пока Сережка возился с санями, я решил пройтись к землянке. До нее немногим больше двух километров. Для трактора минутное дело, но как раз на пути гнилой ручей и переехать трактором никак нельзя. Вернее, переехать можно, но сразу же на траки намерзнет лед и его придется до седьмого пота сбивать кувалдой. Решили, что поценнее, перенесем на плечах, а остальное пусть лежит до следующего сенокоса.
Подыскивая места, где снег поплотнее, я, то прижимаясь к ручью, то забираясь в густой лиственничник, в каких-то полчаса дошел до землянки. Уже показалась торчащая из заснеженной крыши труба, когда я вдруг наткнулся на совершенно свежий росомаший след. Зверь тоже шел вдоль берега, стараясь держаться у самой воды. Здесь снег проваливается не так сильно, к тому же местами ручей замерз и можно передвигаться по льду. Я сразу обратил внимание, что с этой росомахой не все ладно. Три лапы у нее нормальные, и в оставленных на снегу отпечатках все на месте. Пальцы, когти, подошвы, пятки. А вот задняя правая нога вместо похожего на цветок оттиска оставляет в снегу небольшую ямку. Может, росомаха попала в капкан и оставила там всю ступню, а может, такая от роду.
Я сразу же забыл о землянке и торопливо отправился по следу. Скоро росомаха перебралась по льду на другой берег, и здесь ее след пересекся со следом еще одной росомахи. У этой все лапы целые, а отпечатки крупнее. Звери какое-то время покружили у ручья, оставили на припорошенном пне желтые отметки и отправились дальше уже вдвоем. Там, где снег был глубоким, росомахи шли след в след, на выдувах держались рядышком.
Кто же они? Соседи по охотничьим участкам? Супружеская пара? Или все значительно проще: одна из росомах попала в беду, а вторая ей сочувствует? Подкармливает, помогает добывать еду, при случае защищает. Постойте! А если это мать и ее ребенок? Родной сын или дочь? У волков, если один из щенков родится слабым, волчица довольно долго ухаживает за ним так же внимательно, как и за остальными волчатами. Поит молоком, кормит принесенными с охоты зайчатами, тщательно вылизывает. Но вот малыши подросли, все чаще проявляют свой характер, и в один из дней волчица вдруг начинает вести себя необычно. Она внимательно осматривает играющих возле логова волчат, затем словно спотыкается взглядом на самом слабом из них и замирает. Предчувствуя недоброе, волчонок то скулит, поджимая под себя хвост, то ложится перед матерью на спину, то принимается лизать ей морду. Волчица же никак не реагирует на поведение малыша, просто стоит и смотрит.
Скоро вокруг них выстраиваются остальные волчата. Они тоже возбуждены, повизгивают от нетерпения, скалят зубы, переступают с ноги на ногу. Но вот мать отвернула голову от волчонка, и тотчас вся стая молодых его братиков и сестриц бросается на несчастного малыша, а уже через минуту тот тащит в зубах оторванный хвост, другой лапу, третий катает голову… Я думал, подобное случается и у росомах. Явление само по себе, конечно, очень неприятное, но в нем есть своя логика. Больному и слабому в тайге делать нечего. Но, наверное, у росомах все происходит иначе, а вот как именно, точно сказать трудно.
Так вдвоем росомахи описали вокруг землянки довольно широкую петлю и вышли на дорогу, которой мы сегодня ехали на тракторе. Уже начались сумерки, я снял лыжи и по тракторной колее направился к вагончику.
Сережка лежал на топчане и листал «Огонек». Я выпил кружку чая, чуть посидел у окна, затем прихватил фонарик и отправился за дровами. На улице уже настоящая ночь. Деревья и строения почти не угадываются в темноте, зато журчание ручья стало намного явственней. Где-то за сопками всходит луна, и небо в том месте чуть светлее. Дует легкий ветерок, лицо пощипывают колючие снежинки. Я подошел к поленнице, включил фонарик и вдруг увидел медвежий след. Совсем недавно, может, всего лишь день тому назад у поленницы побывал медведь. След не так чтобы очень крупный, но самое главное, весь снег под ним пропитан кровью.
Почти бегом возвращаюсь в вагончик, поднимаю Сережку и с ружьем наготове идем по медвежьему следу. Зверь обогнул баню, потоптался возле столовой и направился к темнеющей у тропы железной бочке. Одно дно поставленной «на попа» бочки вырезано. Перед самым отъездом косари сообразили спрятать в нее макароны, крупы и пятилитровые банки с маринованными помидорами. То ли они боялись, что их продукты испортят мыши, то ли просто спрятали от заезжих охотников. Первый же ветер сорвал обрывок толи, которым бочка была прикрыта сверху, и всю осень на припасы косарей лил дождь. Потом наступили морозы, банки полопались и выщерили из оставшегося от продуктов месива острые обломки. Вчера ночью медведь пытался добыть из бочки еду и порезал лапы. На ржавых боках длинные потеки крови, снег тоже набряк от нее.
От бочки направляемся к коптильне и удостоверяемся, что медведь рылся и там. Есть, правда, следы лисицы и росомахи, но их совсем немного. А вот медведь вспахал берег ручья до самой воды.
Сережка Емец, конечно, в большом конфузе. Он разводит руками и пытается доказать, что там, где он смотрел, и в самом деле натропили лисица и росомаха. Потом вдруг делает вид, что искренне удивлен, до чего же похожи между собой следы этих зверей. Бывает, мол, опытные медвежатники путаются.
Интересно, куда этот медведь девался? Ушел в тайгу или бродит где-нибудь неподалеку? Для острастки Сережка пару раз стреляет в темное, беззвездное небо, затем набираем дров и возвращаемся в вагончик.
Не спали до полуночи. Пили чай, читали, просто лежали и разговаривали. И все время прислушивались, что делается за окном. Не треснет ли сучок, не скрипнет ли снег?
Утром решили не торопиться. Сначала еще раз прошлись по всем медвежьим следам, а когда проложенная зверем тропа направилась к покосам, завели трактор и поехали по ней.
Медведь по очереди завернул к трем стоящим на старой вырубке стогам, под одним даже немного покопался, затем направился к ручью. Кровь из порезанных лап почти не выступает. Только в том месте, где медведь перебирался через ручей и проломил лед, она густо выкрасила весь закроек.
Я оставил Емца возле трактора, а сам перебрался на другой берег и пошел к землянке. Сережка порывался идти вместе со мною, но у нас только одна пара лыж, без них он будет только мешать. Дверь землянки зияет черным провалом. На подходе стишаю шаги, внимательно прислушиваюсь к каждому шороху и во все глаза смотрю вокруг. Все бы хорошо, но на оттепель снег так распелся под лыжами, что, наверное, слышно на всю тайгу.
Вот впереди какой-то след. Росомаха! Нет, две. Снова та же пара. Шли след в след, и ямка от культи почти неприметна. Росомахи проследовали за медведем совсем немного и свернули к полоске запорошенного снегом ольховника. Медведь же направился прямо в землянку.
Я хотел было бежать за Емцем, но вдруг увидел новый след. Снова прошел медведь, только теперь в обратном от землянки направлении. Этот след совершенно свежий, прямо парной. Ночью была небольшая пороша, она легла везде тонким налетом, на медвежьем же наброде ни пылинки. Поддеваю отпечаток медвежьей лапы рукавицей и пробую приподнять, но тот разваливается на куски. Зверь прошел часа два тому назад, примятый им снег не успел даже схватиться.
Обхожу землянку по широкому кругу, удостоверяюсь, что никого в ней нет, и, сняв лыжи, не без опаски переступаю порог. Сорванная дверь валяется на полу, за оставшимися от петель гвоздями клочья бурой шерсти. Кричу: «Эге-ге-ей! Живой кто есть?» и, затаив дыхание, прислушиваюсь, затем начинаю осторожно спускаться в землянку. Там пустыня. Стол, нары, скамейки разломаны в щепу. Везде клочья ваты, тряпки, перья. В углу у самого окна лужа крови. Ее очень много: разлилась по доскам, залила щели, застыла на плинтусах. В нее вмерзли клочья шерсти, мелкие щепки, клочья ваты. Всего какую-то минуту рассматриваю все это, затем мне вдруг становится до невозможности муторно и я почти бегом выскакиваю наружу.
Значит, вчера, когда я направлялся к землянке, медведь был здесь. Если бы я не занялся росомахами, мог влететь голодному и злому зверю в лапы.
Свинья и брехун этот Емец! Трепался, что два сезона работал штатным охотником, сам же медвежий след не отличит от росомашьего. Наверное, за это его из охотников и поперли.
Два зла
Чакая стальными гусеницами, подминая под себя то кустик ольховника, то молодую лиственничку, наш трактор катит по снежной целине. Чего бы это ни стоило, нужно догнать и убить медведя. Сейчас декабрь, все нормальные медведи давно сосут лапы в своих берлогах, а этот — шатун. Не дай бог, наткнется где-нибудь на человека. В прошлом году такой же вот зверь явился на лесоучасток и напал на лесорубов. Подняли на ноги всех охотников, дня три над тайгой летали на вертолете и только через неделю убили. Интересно, что, расправившись с лесорубами, медведь ушел километров за сто в глубь тайги, потом вернулся назад и его настигли рядом с лесоучастком.
Мы с Емцем долго ломали головы, но ничего лучшего придумать не смогли. У нас одно ружье, и к нему всего лишь два пулевых патрона. К тому же трактор в любую минуту может засесть в какой-нибудь канаве или провалиться в болото. Угробим машину, а до совхоза километров сто тридцать. Попробуй добежать. В то же время откладывать никак нельзя. Шатун есть шатун — страшнее его в тайге ничего не бывает. Отыскали старый аккумулятор, отлили из его свинцовых пластин десяток пуль, и Сережка заунывным голосом провозгласил:
— У нас как в Чикаго: в воскресенье соревнование любителей ходить по карнизам, в среду похороны победителей. Поехали, что ли?
Оставив землянку, медведь пересек ольховниковую гриву и направился вдоль заросшего чахлыми лиственничками болота. Одну за другой вспугнули две стаи глухарок. К зиме глухари разделяются. Петухи держатся в одних стаях, глухарки — в других. Первые — черные, здоровенные, вторые — серые и раза в два мельче. Если кто не знает, ни за что не поверит, что и те, и другие, возможно, даже вылетели из одного и того же гнезда.
Глухарки доверчивей петухов, садятся на деревья метрах в двадцати от нас и улетать не торопятся. Сережка хватается за ружье и принимается уверять меня, что сейчас медведю на всякую стрельбу наплевать, и вообще, он уже далеко отсюда — ничего не видит и не слышит.
Меня же занимает совсем иное. Впереди нас по медвежьим следам идут две росомахи. Это все та же пара, что кружила около землянки. Что им от медведя нужно? Может, надеются, что косолапый добудет какую-нибудь поживу и им перепадет с медвежьего стола? А может, ходят следом и ждут, когда сам добытчик протянет ноги? Вот уж действительно — санитары! Бедный мишка. Холод, голод, лапы изрезаны в кровь, а здесь еще эти попутчики.
Росомахи, и вправду, не отходят от медвежьего следа ни на шаг. Вот он потоптался у похожего на морскую звезду выворотня — росомахи тоже потоптались, заглянул под гривку высокоствольных лиственниц — и они следом.
Сразу за болотом началась такая густая тайга, что напрямую трактору не пробиться. Пришлось искать объезд. Проехали с полкилометра и снова остановка. На этот раз уперлись в глубокую лощину. В половодье здесь бежал ручей, навалил гору деревьев, и не то что на тракторе, пешком перебраться трудно.
Посоветовавшись, выбрались из кабины и отправились искать удобное для переправы место. Снег под деревьями неглубокий, к тому же довольно плотный, без лыж идти даже лучше. Я снял их, прислонил к лиственнице и, ступая в следы Емца, поторопился за ним.
Впереди росомашья тропа. На этот раз прошла одна росомаха. Та, у которой целы все лапы. Тропа спускается в лощину по крутому откосу и исчезает под кучей вырванных с корнями лиственниц.
Пока я ее рассматривал, Емец с ружьем в руках ушел далеко вперед, теперь обернулся и машет рукой. На его лице восторг. Кажется, там что-то случилось. Спотыкаясь, бегу к нему и замираю рядом. Под нами совершенно чистое от кустов и деревьев дно лощины. Лишь одинокая лиственница маячит на склоне да кое-где из-под снега выглядывают большие серые камни. Снег в лощине выбит донельзя, везде клочья шерсти, пятна крови, какие-то ямы. У корней лиственницы лежит обрывок чьей-то шкуры.
Выхватываю у Сережки ружье и стреляю вдоль лощины. Звери часто затаиваются возле своей добычи и набрасываются на всякого, кто посмеет к ней подойти. А то, что на дне лощины кто-то кого-то убил, — ни у меня, ни у Сережки не вызывает сомнения. Тотчас со стоящего неподалеку дерева взлетают два больших черных ворона. Сидели совсем рядом, а мы не заметили. И смотрели-то, кажется, во все глаза.
После меня, целясь воронам вслед, стреляет Сережка, потом снова я. Все тихо, лишь издали доносится гнусавый крик напуганных воронов. Никакой засады, конечно, нет. Оставляю Сережку с ружьем сторожить меня, а сам спускаюсь в лощину.
Погиб медведь. Под лиственницей большой кусок его шкуры и хребет из семи позвонков. Больше ничего, кроме клочьев шерсти и пятен крови, нет. Вверх и вниз по лощине разбегаются росомашьи тропы. Я насчитал их больше десяти. Где-то в конце их спрятаны останки медведя. Вот это прыть! Каких-то четыре-пять часов тому назад этот медведь брел по тайге, а сейчас от него почти ничего не осталось.
Росомахи действовали вдвоем. Наверное, они сторожили этого медведя не один день, потому-то и кружили у землянки. Теперь вот настигли.
Сережка взялся было искать спрятанное мясо, чтобы отведать медвежьего окорока, но я отговорил. Наверняка, медведь был болен, иначе давно бы спал в своей берлоге. Мы еще немного побродили по лощине, затем возвратились к вагончикам и через час укатили в Лиственничное.
Сережка переночевал у меня и на рассвете потащил набитые Шуригиным добром сани в совхоз. Я проводил его до самой наледи, возвращаясь, завернул к реке и сразу же обнаружил следы Роски. Она подошла к Лиственничному со стороны Фатумы, по льду перебралась на этот берег, съела приготовленный для нее кусок рыбы и, оставив у тропы желтую отметку, возвратилась назад.
Я долго вертелся вокруг ее следов, пытаясь определить, не их ли видел на Сокжоевых покосах? Но ни к какому выводу не пришел. Может, я неважный следопыт, а может, и вправду следы всех нормальных росомах похожи между собой.
Возвратившись в избушку, послушал «Спидолу», затем подхватился и начал укладывать рюкзак. Чего это я на самом деле? Здесь такой случай, а я лодыря праздную. Прямо сейчас отправлюсь Роскиным следом и все разведаю. Если на Сокжоевых покосах была она, то к самой лощине и выведет. К вечеру запросто буду там, переночую в вагончике, а утром сюда. В случае чего скажу Шуриге, что ходил проверять стога. Он сам наказывал заглядывать почаще, а то дикие олени за ползимы оставят от них одни остожья.
Уложил продукты, фонарик, топорик, свечи. Проверил, в кармане ли спички. Кажется, все нормально, можно идти.
Придерживаясь Роскиного следа, по льду перешел Фатуму и заскользил вдоль берега. Роска шла спокойно, почти нигде не останавливаясь. Не дойдя до дороги, на которой хорошо виднелись следы нашего трактора, она остановилась, чуть потопталась на месте и направилась параллельно ей. Местами след приближался к дороге чуть ли не вплотную, но даже на обочину она не ступила ни разу.
С каждой минутой я утверждаюсь в мысли, что моя Роска и та росомаха — один и тот же зверь. Но в то же время растет и недоумение. Зачем ей было идти за моими подачками в такую даль, если у нее в лощине спрятан целый медведь? Странно и непонятно. И еще: почему она не водит за собой ту, хромую? Не доверяет мне? А может, ей?
У сучковатой валежины развел костер, вскипятил чай, поджарил на огне кусочки сала. Когда завтракал, вдруг подумалось, что теперь и Роска будет тоже заворачивать к валежине. И это кострище тоже станет для нас общим.
Наконец впереди показалась лиственничная грива. Сразу за нею и будет та лощина. С каждым шагом тайга все гуще, деревья в ней все выше. Везде на ветках снежные комки. Словно это рассевшиеся на отдых белые куропатки. По стволам лиственниц зашуршал неугомонный поползень, где-то закричали дятел, желна, и тотчас над головой пронеслась стайка чечеток.
В тайге птицы живут островками. В каком-то километре отсюда я не встретил и единой, здесь же их сколько угодно.
Скоро в Роскину тропу вплелись два новых следа. Один принадлежит лисице, другой росомахе. Росомаха знакомая. Это та, хромая. А откуда лисица? Хотя почему же? Ведь у коптильни мы с Емцем видели точно такие следы. И там, среди отпечатков лап медведя и росомахи, прошлась аккуратная лисья лапка. Тогда я подумал, что лисица там оказалась случайно. Оказывается, на самом деле все далеко не так просто.
Минут через пятнадцать звериная тропа привела меня к лощине, чуть выше того места, где погиб медведь. Хотя хорошо знаю, что его давно нет в живых, и даже видел остатки медвежьей шкуры, но все равно на душе зябко. Стараясь ступать как можно тише, приближаюсь к обрыву и заглядываю на дно лощины. Медвежья шкура и позвонок исчезли, словно их никогда здесь и не было. Только клочки бурой шерсти шевелятся на легком ветру.
Мое внимание привлекает возня собравшихся на лиственнице синичек. Перевожу туда взгляд и сразу же замечаю застрявший между веток крупный ком. Чуть выше еще один. Могу спорить на что угодно, всего этого позавчера там еще не было. Мы-то с Сережкой Емцем осмотрели вокруг каждый сучок.
Спускаюсь в лощину, подхожу к дереву вплотную и ясно вижу, что на ветках лежит медвежья голова. Рядом с нею кусок мяса раза в два больше этой головы.
Наверное, в тот раз росомахи прятали свою добычу от воронов и, естественно, лучшего места, чем пустоты под поваленными деревьями, найти не могли. Но явилась лисица и поставила росомах перед сложной проблемой. На земле их припасами может полакомиться лисица, на деревьях вороны. Но у патрикеевны-то аппетит куда больше, вот они из двух зол и выбрали меньшее.
Доверчивость
С половины зимы сено стали возить тракторами. Прицепят к трактору сани, навалят целый стог сена и везут в совхоз. Обычно в такой рейс отправляли три-четыре трактора. Кроме трактористов и грузчиков с ними выезжали и совхозные охотники. Это же здорово — прокатиться в теплой кабине за сотню километров в глубь тайги! По дороге погоняют глухарей, куропаток, а там, глядишь, поднимут лося или табунок оленей.
Сначала сено выбирали с ближних покосов, но вот подошла очередь Сокжоевых и вся эта армия нагрянула ко мне в Лиственничное. За день до этого приезжал Шурига и предупредил меня, что в Родниковом распадке вышла наледь, вот-вот перекроет дорогу, и из-за нее мне недели две-три придется позагорать в одиночестве.
Я поужинал и перед тем, как забраться в постель, вышел на улицу посмотреть погоду. К ночи мороз усилился. Предвещая ясный день, на небе высыпали крупные зеленые звезды. Млечный путь протянулся через все небо и ушел куда-то за сопки. Раскаленный пятидесятиградусным морозом снег излучал матовое сияние. Облитые этим сиянием закостенелые лиственницы жались к стылой земле, и мне было жаль их. Не верилось, что в этой почти космической стыни есть что-нибудь живое. Молчит когда-то шумливая тайга, спрятались под снежное одеяло кусты кедрового стланика, ушла под ледяной панцирь звонкоголосая Фатума. Извивающееся среди тальников русло реки кажется широкой дорогой, и наоборот — дорога сейчас донельзя похожа на небольшую речку.
Над тайгой плывет тишина. Только изредка потрескивают, я бы сказал, даже покрякивают, деревья, да в глубине избушки о чем-то поет транзистор.
Неожиданно слышу какой-то рокот. Кажется, вездеход. Недавно сюда заезжали охотники из Магадана. У них две лицензии на лосей. Я напоил охотников чаем, пригласил переночевать и вообще встретил по всем правилам таежного гостеприимства. Но на вопрос, есть ли где-нибудь неподалеку лоси, схитрил. Сказал, что раньше здесь бродили лось, лосиха и малыш-лосенок, но на прошлой неделе их обстреляли приезжавшие за сеном шоферы и напуганные звери куда-то ушли. Я, мол, только вчера обследовал почти всю долину и не встретил ни одного свежего наброда. На самом деле лосей никто не трогал и они всей семьей держатся километрах в пяти от Лиственничного. Там у них лежка на лежке. Я даже удивляюсь, как они могут прокормиться на таком островке?
Вездеходчики посетовали, что теперь им придется пробиваться к самой Буюнде, и укатили. Сейчас, наверное, возвращаются.
Шум мотора на какое-то время стих, затем взорвался мощно и властно. Нет, это не вездеходчики. Скорее всего работает трактор, да к тому же не один. За сеном едут. Может, наледь отступила или Шурига нашел объезд.
Тороплюсь в избушку. Нужно ставить на огонь все три чайника, растапливать печку в бригадирской. Всем прибывшим в моем жилье не разместиться.
Минут через двадцать у реки появляется цепочка огней. Набрасываю куртку и тороплюсь навстречу. Все-таки я здесь хозяин, и долг вежливости требует встретить гостей у ворот. Трактора, пощелкивая разболтанными траками, проплывают мимо меня и заворачивают в Лиственничное. За каждым трактором широкие и длинные сани.
Пропустив последний трактор, какое-то время стою и смотрю на опустевшую дорогу, затем возвращаюсь в избушку. Там полно людей. Одни скромно жмутся у порога и глядят на все удивленными глазами. Это новички, и таежное житье-бытье им в диковинку. Другие ведут себя более чем уверенно. Тот подкладывает в печку дрова, тот разливает по кружкам чай. Высокий горбоносый парень успел снять валенки, забраться с ногами на мою кровать и роется в объемистой сумке, извлекая из нее различные припасы. На столе — гора всевозможной снеди: вареные куры, колбаса, сало, три каравая белого хлеба.
Под низким потолком плавают клубы табачного дыма. Все курят. Даже горевшая до этого вполне сносно керосиновая лампа отчаянно коптит.
На дровах возле печки — груда убитых куропаток. На взъерошенных перьях мазки крови. Длинный парень с высоты моей кровати и своего роста первым замечает меня:
— О, начальник явился! Давай к столу. Сейчас перекусим с дороги, а потом уху из куропаток заделаем. Самая вкусная уха из петуха. Вы даже не можете себе представить, до чего уважаю дичь!
Здесь он настораживается, а рыскающая в сумке рука замирает. Горбоносый медленно поворачивается к возившемуся с чайником трактористу:
— Константин, ты чего-нибудь соображаешь? Правильно говорят, если человек идиот, то это надолго. Как ты мог положить патроны вместе с продуктами? — Горбоносый извлекает из сумки четыре патрона в ярко-красной обертке и выставляет их на стол. — Из-за тебя я без такой шикарной шапки остался. Представляешь мое горе, начальник? — Это уже ко мне. — Выныриваем из ложка, и прямо перед нами росомаха. Стоит, как специально, ждет, значит. Я за ружье, а там дробь-пятерка. Мы перед этим куропаток гоняли, ну патроны с мелкой дробью в стволах и остались. Я за патронташ, а там пусто. Хорошо помню, что перед самым выездом сюда четыре патрона волчьей картечью зарядил, ищу-ищу, а найти не могу. Оказывается, этот артист их в сумку с продуктами спрятал. Я весь патронташ по патрону перебираю, а она стоит. Здесь из заднего трактора бегут: «Чего стали?» Она заволновалась, и на ход. Я ее дробью вжарил, а ей такой заряд как пшено. Даже шаг не прибавила.
— Стреляли где? — спрашиваю длинного.
— Да не так далеко. Сейчас за поворотом на Родниковое. Уже темнеть начинало, я даже мушки толком не видел. А что, знакомая?
Киваю головой и тут же спрашиваю:
— Вы ее не ранили?
Тот, что с чайником, пожимает плечами:
— Да кто там ее знает? Я хотел посмотреть, сунулся в снег, а там по шею. Ей-то что? У нее лапы, как лыжи. Раз, раз и подалась.
След у Родникового
Мне бы на следующее же утро сгонять к Родниковому и пройтись по росомашьему следу, но я должен был сопровождать трактора на покосы и руководить погрузкой. С другой стороны, что я мог сделать для Роски? Если ее даже ранили, к ней не подступиться. Это же росомаха, а не какой-то там зайчонок.
Наконец, покачиваясь на выбоинах, последний стог уплыл следом за трактором, и я вздохнул свободнее. Торопливо собрал рюкзак и заторопился к Родниковому. Можно было бы подъехать на тракторе, но не хотелось объясняться с трактористами. К тому же боялся, вдруг подумают, что отправился искать чужую добычу. По неписаным охотничьим законам добытый зверь или птица принадлежат тому, кто их ранил, и всякий пожадничавший на чужого подранка рискует оказаться в положении вора. Сразу за Лиственничным встретил стадо оленей. Четыре важенки, бык и тонконогий, очень резвый олененок. Стадом руководила крупная белесая важенка с небольшими аккуратными рожками. Раньше я думал, что вожаком у оленей может быть только сильный опытный буюн, что победил в турнирах всех своих соперников. Оказывается, эту роль чаще всего выполняет старая важенка. Она выбирает пастбище, распределяет места, когда нужно пробивать тропу через снежные сугробы, следит за порядком в стаде. С непокорными она расправляется очень даже просто — бьет рогами. Наверное, ей трудно было бы справиться с крупными поднаторевшими в драках быками, если бы о важенке не позаботилась сама природа. В октябре у буюнов отваливаются рога, и быки ходят комолыми до самой весны. Важенки же носят рога всю зиму. Удивляюсь, почему это олень-самец оказался среди оленух? Обычно на зиму самцы сбиваются в бычьи табуны и держатся в них до самой весны…
Олени вышли на дорогу собирать сено. Раньше у нас коровам заготавливали сено только из диких трав: вейника, пушицы, осоки. Но в прошлом году мелиораторы осушили и раскорчевали большое болото. Теперь на рукотворном поле растут овес и всякие бобы. Конечно, вызревать они не успевают, слишком уж коротко колымское лето, а вот сено получается отличное.
Оленям оно тоже пришлось по вкусу. Теперь они охотятся за каждым оброненным с саней стебельком.
Заметив меня, олени сбились в кучу и застыли с высоко поднятыми головами. Я тоже остановился. Ветер тянул в правую щеку, так что услышать мой запах они не могли. Вот белесая важенка отделилась от табунка, сделала несколько шагов мне навстречу, затем круто развернулась и в один прыжок оказалась далеко за обочиной. Следом бросились все олени…
Место, где горбоносый стрелял в Роску, я нашел легко. На спуске в Родниковое простирающаяся рядом с дорогой снежная целина вспахана глубокой бороздой. Это выпрыгнувший из трактора Константин лез по снегу, проваливаясь в него, наверное, по самую шею. Но надолго духу у него не хватило. За пропаханной им канавой угадывается легкий росомаший след. Надеваю лыжи и выбираюсь на целину. Теперь вижу, что Роскиных следов два. Неглубокий и частый ведет к дороге, и рядом с ним размашистый, убегающего от смертельной опасности зверя. Там, где следы пересекаются, снег исполосован узкими канавками. Эти прочерки оставили вылетевшие из ружейного ствола дробинки. Опустившись на колени, подбираю несколько светло-коричневых шерстинок. Крови нигде не видно. Но вот эти шерстинки утверждают, что выстрел достиг цели.
Сначала росомаха уходила от дороги почти по прямой линии, затем повернула к Родниковому. В тальниках она на какое-то время залегла. Краснеющие вокруг лежки тальниковые веточки хранят следы зубов. С какой стати Роска кусала тальник? Может, ее жгли засевшие в теле дробинки? А это что? Кровь! Почти в центре ложбинки пятно пропитанного кровью снега. Ночью была небольшая пороша, поэтому-то эту кровь я заметил не сразу. Ковыряю ножом снег, нужно узнать, как много крови потеряла Роска. Он пропитан сантиметров на пять, а может, и больше. Многовато.
— Бедная Росочка, тебе очень больно? За что они тебя так?
Поднявшись с лежки, росомаха направилась прямо к разлившейся по долине наледи. Мороз за сорок, и над выступающей из-подо льда водой поднимаются клубы пара. Словно вода и в самом деле горячая.
Там, где прошла Роска, снег уплотнился, пропитался водой и застыл, теперь я могу легко проследить ее путь через долину. Даже по наледи она шла строго по прямой линии. Зачем она туда направилась? Может, хотела отделить себя от охотников водной преградой, а может, там у нее есть логово и она надеется отлежаться.
За наледью долина упирается в крутую заросшую чахлыми лиственничками сопку. У самого ее ската что-то темнеет. Может, это Роска? А если и вправду она? Мороз-то нешуточный, а она ранена. Прилегла отдохнуть и застыла. Как же туда пробиться? Везде гуляет вода, а на мне валенки.
В книгах часто описывают способ, при помощи которого можно ходить в валенках прямо по воде. Для этого советуют на какое-то мгновенье окунуть валенки в реку, затем выставить их на мороз. Сейчас же на валенках образуется не пропускающая никакой воды ледяная корка. Надевай замороженные валенки и хоть всю зиму гуляй в них по болотам и рекам. Только нельзя заносить в тепло, иначе лед растает и придется морозить обувь сначала…
Теоретически выходит здорово, а на самом деле… Во-первых, какой бы толстой ни была ледяная корка, а в воде она растает за четверть часа. Во-вторых, ходить в таких валенках — настоящая пытка, напоминающая инквизиторский «испанский сапог». Я ходил. Однажды зимой, когда до избушки оставалось не больше двух километров, провалился в гнилой ручей. Все правильно, сразу же образовалась ледяная корка и больше никакая вода к ногам не доходила. Но сами валенки закостенели и превратились в… Короче, это расстояние я покорял часа два, а на второй день ходил по избушке, как матрос по качающейся палубе, потому что растянул связки на обеих ногах.
Стою у дымящейся наледи и, напрягая зрение, стараюсь разглядеть, что же темнеет под сопкой? Нет, отсюда ничего не видно, нужно перебираться на другую сторону… Неподалеку от наледи отыскиваю поваленную сучковатую лиственницу и разжигаю под ее корнями костер. Здесь же очищаю небольшую площадку и выстилаю ее мелкими веточками. Лыжи оставлю у лиственницы, к наледи можно пробраться и пешком.
Еще раз оглядываюсь на полыхающий костер и ступаю в воду. У берега чуть выше щиколоток. Кое-где вода успела покрыться тонким льдом. Он гнется, стреляет мириадами трещин, но держится неплохо. Уже с полпути вижу, что под сопкой не Роска, а самый обыкновенный камень, с которого ветром согнало весь снег. Но все равно продолжаю идти. Нужно же узнать, куда подевалась моя Роска.
Наконец берег. Отыскиваю место, где она обкусывала прикипевшие к лапам кусочки льда. На снегу шерстинки и пятнышко крови. Стараюсь внушить себе, что рана не опасная, к тому же крови не так и много.
Поднявшись, росомаха направилась к вершине сопки. С крутых ее склонов недавно сошло две лавины. Может, даже одну из них разбудила моя Роска, потому что ее след проходит как раз по кромке обрушившегося вниз снега. Лезть вверх опасно, да мне и не забраться. Валенки взялись льдом, а здесь такая крутизна, что можно запросто загреметь вниз.
Возвращаюсь к костру, разуваюсь и принимаюсь сушиться…
Через пару часов я уже шагал по дороге, которой увезли в совхоз сено. Тракторы, и правда, сумели обогнуть Родниковое стороной, но и по новой дороге уже гуляет наледь. Так что скоро мне гостей ждать не приходится. Разве что заглянут возвращающиеся с Буюнды охотники.
До вечера просидел в избушке. Читал книжку и поглядывал на тропинку, что тянется вдоль Фатумы. Казалось, еще миг — и на ней появится моя Роска. Даже когда наступили сумерки, не стал зажигать лампу, а пристроился у окна и принялся смотреть на улицу. Луна взошла над тайгой большая и яркая. До самого крыльца протянулась тень корявой лиственницы. Каждая ее веточка четко обозначилась на снегу. Только сейчас обратил внимание, до чего же их много! Словно на снег бросили грубую, густую сеть.
Иногда между окном и луной проплывает облачко идущего из трубы дыма. Тогда по стеклу пробегает тень, словно кто-то заслоняет его рукой. Сейчас все происходящее за окном кажется каким-то нереальным. Как будто там совсем другой мир. В этом мире можно представить что угодно. Гуляющего с вместительным лукошком косолапого медведя, бегущую в гости к бабушке Красную Шапочку, хрустальные сани, на которых Снежная королева мчит в свое королевство. Наверное, все красивые и добрые сказки рождаются в такие вот лунные вечера.
Гостья
Я ожидал Роску до полуночи, потом лег спать, а утром собрался и ушел к Сокжоевым покосам. Метель давно замела мою лыжню, и легче было бы идти дорогой, но мне почему-то казалось, что там я пропущу что-то очень для себя важное. Снова, как и в тот раз, сделал привал у сучковатой валежины. Помню, тогда я подумал, что теперь Роска всякий раз будет останавливаться у этого места. Тогда я оставил здесь кусочек поджаренного сала. Ни сала, ни веточки, на которую я его нанизывал, у кострища не оказалось. Побывала здесь Роска или какой-нибудь другой зверь — сказать трудно. Но и в этот раз я оставил у валежины немного своего обеда.
В лощине пусто. Нигде ни одного следа. Мне даже показалось, что все случилось совсем в другом месте. Не было следов и около землянки. Только на покосах весь снег истроплен дикими оленями. Возле остожьев осталось немного сена, вот олени его и подбирали.
Интересно, куда девалась хромая росомаха? Погибла или ушла в поисках другого, более тихого места? А может, она сейчас возле Роски? Звери как-то угадывают настроение друг друга на расстоянии. В человеке когда-то все это тоже жило и теперь проявляется только в исключительных случаях. Мама рассказывала, во время войны одной женщине из соседней деревни приснился сон, что ее муж лежит в госпитале в Новосибирске.
И город, значит, приснился, и госпиталь этот. Та продала корову, оставила детей на соседей и поехала в город, о котором раньше знала только понаслышке. Приехала, идет по городу и узнает дома. Видит госпиталь. Заходит и говорит: «Здесь, в крайней по коридору палате, у окна лежит мой муж». Проверили. Точно. Есть такой, и кровать у самого окна.
Так это люди, а у зверей это проявляется куда сильнее. Может, даже сейчас Роска чувствует, как я тревожусь за нее, и ей от этого немного лучше.
Нет, не нужно мне было ее прикармливать. Даже наоборот — пугнул бы хорошенько, чтобы не ждала от людей ничего хорошего. Глядишь, жила бы себе спокойно.
Возвращался в Лиственничное поздно вечером. Луна только-только всходила, и поселок едва просматривался на фоне заиндевевшей тайги. Почему-то с нетерпением жду, когда покажется дорога, что ведет от Лиственничного к совхозу. Она должна подсказать, побывал ли кто-нибудь у меня в гостях за эти два дня.
Наконец дорога. Даже в потемках вижу, что мою лыжню не пересекает ни один след. Ну и славно. Я, конечно, оставлял записку, но все равно неудобно. Люди приедут, а я в бегах.
Прислонив лыжи к глухой стене, стряхнул снег с куртки и подхожу к крыльцу. Дверь открыта настежь. Вот это новость! Неужели я забыл ее прикрыть? Теперь избушка так настыла, что придется отогревать до полуночи. Переступив порог, наклоняюсь сбросить рюкзак, и в то же мгновенье почти у самых ног раздается глухое рычание. Собака! Кто-то из охотников заявился таки в Лиственничное и поселился в моей избушке. Так где же он, и почему в избушке такая стынь? А может, собака приблудная? Трактористы рассказывали, какой-то мотоциклист потерял возле трассы свою собаку. Ехал с ней на охоту, остановился что-то подправить в мотоцикле, а собака тем временем убежала. Он ждал ее часа три и, не дождавшись, укатил. Теперь эта собака бродит по тайге и никого к себе не подпускает.
Выпростав руку из-под лямки рюкзака, отступаю к двери и пытаюсь достать спички. Это движение почему-то не понравилось моей гостье. Она зарычала и, показалось, щелкнула клыками. Взбесилась, что ли? Забраться в чужой дом и бросаться на хозяина!
«Палкой бы тебя по башке!» — сердито думаю я, но на всякий случай выскакиваю на порог и прикрываю поплотнее дверь.
Что делать? Нужно посмотреть следы. Может, и на самом деле пришла сюда с хозяином, а он на время отлучился. Зажигаю спичку и от неожиданности чуть не приседаю. На свежей пороше четко проступают, разлапистые росомашьи следы.
Роска! Точно, она!
Каким образом она очутилась в моей избушке? Одну за другой жгу спички, внимательно просматриваю след, стараясь рассмотреть, нет ли на нем крови. Отпечатки чистые. Росомаха шла довольно спокойно. Только слишком уж часто останавливалась. Сделает пять-шесть шагов и остановится. Может, ей было трудно двигаться, а может, просто боялась. Ничего удивительного, как-никак шла-то к человеческому жилью.
Сначала я решил покрепче запереть дверь и прикрыть окно доской. Короче, сделать все, чтобы росомаха не могла сбежать. Это у меня сработала жилка собственника. Нет, не в том смысле, что за шкуру росомахи в любую минуту можно получить двести рублей и еще спасибо скажут. Просто все это время во мне жило хотение иметь собственную росомаху. И вдруг она здесь, совсем рядом. Захочу — никуда не выпущу. Вот это хотение и сработало.
Но уже через минуту сообразил, что ничего предпринимать не нужно. Росомаха появилась здесь не от великой радости. Раненый зверь не смог добыть еду и пришел туда, где получал ее раньше. Я же, отправляясь на Сокжоевы покосы, совершенно выпустил из виду такую возможность и не оставил ей в обычном месте и крошки. Поэтому-то росомахе и пришлось забраться в избушку.
Пользоваться ее несчастьем подло. Тем более, сам виноват, приучив ее доверять людям. Вот она и попала под выстрел. Нужно оставить пока все как есть, а самому дней несколько пожить в бригадирской. Там аж четыре кровати. Выбирай любую. Правда, продукты остались у росомахи, и самое обидное — это то, что замерзли лук и картошка. Но ничего, сахара и чая у меня в рюкзаке дня на два. Может, что-нибудь откопаю в Шуригиной кладовке. А там, глядишь, подъедет и сам бригадир.
Ночью несколько раз просыпался и выходил на улицу. Луна поднялась высоко над сопками и залила все ярким светом. Если прищурить глаза, кажется, что светит солнце.
Стараясь не скрипеть валенками, на цыпочках обходил свою избушку и, удостоверившись, что росомаха все еще спит, возвращался в бригадирскую. Получалось неважно. С того времени, когда в нее стрелял горбоносый, прошло больше пяти дней. На протяжении этого времени Роска вряд ли поела хоть один раз. А ведь к тому еще она потеряла много крови.
Свои продукты я держу в ведре и небольших мешочках. Все это подвешено к потолку избушки, в которой сейчас сидит росомаха. Прятать таким способом еду меня вынудили поселившиеся в Лиственничном полевки. Уходя на Сокжоевы покосы, я закопал лук и картошку в свою постель и прикрыл все сверху тулупом. Там же спрятал и буханку хлеба. Вообще-то хлеб я держу в соседней избушке. В ней так же холодно, как и под открытым небом, и замороженный хлеб можно хранить всю зиму. Потом стоит его подержать над горячей печкой и он снова совершенно свежий, словно только что испеченный. В этой избушке у меня буханок двадцать.
Но росомаху хлебом не насытишь. Чего доброго, Роска погибнет от голода. Необходимо что-то предпринимать. Но что? Попробовать проникнуть в избушку? Или взять ружье да поохотиться на куропаток? А что, если порыбачить? Шурига рассказывал, что в прошлом году косари часто удили рыбу на Соловьевских озерах. Там неплохо клевали щуки и налимы. Иногда попадались и приличные хариусы. Мне не приходилось бывать на самих озерах, но рядом с ними небольшой покос и я несколько раз сопровождал туда машины.
Утро начал с того, что приготовил табличку со следующей надписью: «Внимание! В моей избушке живет раненая росомаха. Просьба ее не тревожить, а ожидать меня в бригадирской». Прямо среди дороги соорудил треногу и повесил на нее это объявление. Для гарантии здесь же устроил что-то напоминающее шлагбаум. Теперь уж точно никто, не прочитав, не проскочит.
На завтрак у меня четыре ложки рыбьего жира, сколько угодно хлеба и чай. С полчаса прокопался в кладовке, но все тщетно. Есть папиросы, лавровый лист, даже корица и пакетик с укропом, а вот чего-нибудь более или менее калорийного нет ничего. Отогреваю над печкой буханку хлеба, обильно поливаю ее рыбьим жиром и отправляюсь к росомахе. Прикрытая вчера вечером дверь осталась в том же положении. Стою, прижав ухо к мешковине, и стараюсь угадать, что делается в избушке. За дверью ни звука. Словно там вообще никого нет. А может, росомаха уже мертвая? Нет, скорее всего затаилась.
Заинтересовавшись моим поведением, синицы и поползень уселись на ближней иве и внимательно следят за каждым движением. Время от времени поползень коротко, словно отдавая команду, цивикает. Тогда одна из синиц срывается с ветки, выписывает над моей головой пируэт и возвращается на иву.
«Наверное, ждут представления, — подумал я. — Сейчас открою дверь, а она на меня. Глядишь, одним приручителем росомах станет меньше».
Хорошо бы заглянуть в окно. Но оно замерзло изнутри, и все попытки продуть хоть маленький глазок ни к чему не приводят. Придется открывать дверь. Не кинулась же она на меня ночью. А ведь тогда я стоял совсем рядом и ничуть не осторожничал.
Держась обеими руками за ручку двери, приоткрываю избушку, чтобы образовалась небольшая щель. У порога росомахи нет. Вижу печку, топор, консервную банку, в которую я набираю солярки, когда плохо разгораются дрова. Может, росомахи уже нет совсем? Делаю щель пошире. Теперь видны угол кровати и выглядывающие из-под нее сапоги-болотки. Ага, вот и она! Приподняв голову, лежит в дальнем углу и смотрит в мою сторону. Хорошо видно только морду и выставленные вперед толстые лапы. Они у нее черные как смоль.
— Ну здравствуй, Росочка! Что это с тобой? — тихо говорю ей. — Не бойся, пожалуйста. Ты же умница. Ну чего ты?
Она приподняла верхнюю губу и негромко рычит. Это даже не угроза, а чуть слышно вырывающийся из горла клекот.
— Да не злись, не злись, — упрашиваю ее. — Сейчас я тебя накормлю, а вечером принесу рыбки. Что у тебя болит? Ну чего ты сердишься? Видишь, руки у меня пустые.
От моего движения росомаха вздрагивает и начинает подниматься. Быстро захлопнув дверь, приваливаюсь к ней плечом. Нужно взять длинную палку и подсунуть хлеб под кровать. Только нельзя делать резких движений. Лучше всего пристроить буханку на лыжу. Нет, лыжа коротковата. А если снять с крыши лиственничное удилище? Оно-то будет в самый раз.
Теперь открываю дверь смелее. Росомаха на прежнем месте. Лежит и все так же настороженно глядит на меня. Накалываю хлеб на удилище и осторожно подталкиваю к росомахе. Она приподнялась, рычанье стало громче, уши прижались так, что я их совсем не вижу.
— Ничего, злись себе на здоровье. Прыгнуть на меня тебе не даст кровать, а пока ты выберешься из-под нее, я успею сто раз захлопнуть дверь.
Ну вот, как будто достаточно. Хлеб почти касается росомашьей лапы.
— Ешь, голубушка. Если хватает силы рычать — значит, не все потеряно. Теперь жди меня до вечера, да не вздумай удрать.
Рыбалка
Часа через два, нагрузившись топором, ломом и лопатой, я отправился к Соловьевским озерам. Хотел было идти туда по реке, но за первой же излучиной чуть не влетел в наледь и пришлось выбираться на берег.
И почти сразу же повезло — наткнулся на заросли красной смородины. Крупные рубиновые кисти висели на ветках, словно виноградные гроздья. Я от жадности хотел съесть целую гроздь да так и застыл с открытым ртом. Смородина до того настыла, что буквально прикипела к языку и больно ожгла его. Недолго думая, достал из рюкзака приготовленную под рыбу сумку и за полчаса наполнил ее почти доверху.
Никак не могу понять этих птиц. Сколько чудесной смородины, а они облетают ее стороной. То ли не понимают вкуса, то ли тоже боятся обжечь язык.
Оставляю сумку с ягодами на лыжне и тороплюсь дальше. Пусть лежит, буду возвращаться и захвачу.
Снег в тайге совсем не тот, что на реке. Там лыжи скользят, почти не проваливаясь, здесь же они ныряют чуть ли не до колен. Зато проложенная под защитой деревьев лыжня продержится до самой весны, а на реке день-два — и задуло.
Несколько раз пересекаю заросшие ольховником широкие лощины. Когда-то здесь жили рябчики, но косари выбили их начисто. Вот уже несколько лет никто не встречал и единого.
Огибаю выросшую на опушке толстую сучковатую лиственницу, и вдруг у самых ног взрывается снежный вихрь. Иссиня-черный глухарь вырывается из глубокой лунки, пролетает десяток метров и садится на первый попавшийся сук. Спросонья он никак не может сообразить, кто же его потревожил, и испуганно вертит головой. Наконец замечает меня, произносит хриплое «кок-кок» и с грохотом уносится в заснеженную чащу. К оставленной глухарем лунке тянется широкий след-наброд. Мне говорили, что перед сном глухарь долго летает над тайгой, потом с разлету падает в снег и, пробив его своим телом чуть ли не до самой земли, остается там до утра. Это, мол, он для того делает, чтобы не нашли лиса или соболь. Сейчас по следам вижу, что все произошло совсем иначе. Глухарь гулял здесь вчера очень долго. Ходил себе от кустика к кустику и щипал почки. А пришло время спать, тут же закопался в снег и на боковую.
За очередной ольховниковой гривой передо мною открылось большое озеро. Сейчас оно напоминает занесенное снегом поле. Даже не верится, что не так давно здесь плескалась рыба, на волнах плавали утки, в прибрежных зарослях возились и пели птицы. Сейчас все голо и мертво. Одни улетели в теплые края, другие уснули до весны, третьи спрятались под лед или одеяло пушистого снега.
По неглубокому ложку угадываю исток озера, на глазок отмеряю от берега метров пятнадцать и принимаюсь расчищать площадку под лунку. Снега на озере совсем мало. То ли его унесло ветром, то ли забрала наледь. Открывшийся под ним лед пупырчатый и мутный, словно воду перед тем, как заморозить, хорошенько взмутили. Снег укладываю валиком. Сейчас тихо, но в любую минуту может подняться ветер и тогда за снежной стенкой будет хороший затишек.
Площадка готова, можно рубить лунку. Стараюсь это делать так, чтобы отскакивающие льдинки не попадали в лицо. Сразу же на стук топора явились две нахохлившиеся кукши. Они устроились на ближних ветках и с любопытством наблюдают за мной. Сейчас кукшам в тайге голодно. Летом они подвизались у косарей, теперь вспомнили, что там, где останавливаются люди, почти всегда можно чем-нибудь поживиться. Поэтому-то сидят и терпеливо ждут. Но у меня с собой всего лишь с десяток полузамороженных короедов, да и те самому нужны для наживки. Пусть потерпят, если рыбалка получится удачной, обязательно поделюсь и с ними.
Даже на таком морозе работать топором жарко. Пришлось сбросить куртку и остаться в одном свитере. Уже минут через пять на длинных шерстинках осел густой иней, и я весь как бы поседел.
Наконец после очередного удара топор провалился в воду, и она с журчанием заполняет лунку. В какое-то мгновенье мне показалось, что сейчас вода выплеснется наружу и затопит весь лед. Я с опаской отступил к снежному валику, не хватало еще промочить ноги. Но нет. Не дойдя какого-то сантиметра до верхней кромки льда, вода успокоилась. Теперь в ход идет лом. Нужно расширить лунку. Отколотые льдинки всплывают одна за одной, и я тут же вылавливаю их рукой. Пальцы сводит от холода, но иного выхода у меня нет.
Больше всего меня сейчас интересует, какая глубина озера в этом месте? Мне бы метра полтора. Можно чуть больше.
На очень малой, как и на очень большой глубине, рыба клюет хуже.
Все готово, можно рыбачить. Достаю из рюкзака зимнюю удочку и наживляю согретого под свитером короеда. Пока возился со снастью, вода успела схватиться ледком. Пробиваю его носком валенка, и вот сверкающая мормышка вместе с наживкой исчезает в лунке.
Минут пятнадцать безрезультатно играю мормышкой. Вверх-вниз, вверх-вниз. На леску накипели бусинки льда. Я протянул было руку, чтобы снять их, но в это время сторожок моей снасти качнулся и скоро на льду запрыгал хариусок в палец величиной. Летом я обязательно отправил бы его в воду, нагуливать вес, но сейчас рад и такой добыче.
Торопливо наживляю второго короеда и снова забрасываю удочку. Вдруг там этих хариусов целая стая? Бывает так — не клюет, не клюет, а потом как навалятся, только успевай снимать с крючка.
Но это, наверное, был отбившийся от коллектива хариус-одиночка. Как я ни старался, больше поклевок не было. У меня начали застывать спина и ноги. Еще немного порыбачу и разведу костер. Почти машинально покачиваю удочкой, а сам шарю глазами по берегу. Нужно где-то найти сушняку. Вдруг сильный рывок вырвал из закоченевших пальцев снасть и она со звоном ударилась о лед. Подхватываю удочку, торопливо вытаскиваю мормышку. Она цела, короед тоже на месте. Даже шевелит челюстями.
Укладываюсь на живот, прикрываю голову курткой и заглядываю под лед. Сначала ничего не видно. Но вот глаза привыкли и я могу рассмотреть даже лежащие на дне камушки. Неожиданно их закрывает большая рыбина. Щука! Подплыла к лунке и застыла. Дремлет, что ли? Все так же лежа на льду, опускаю мормышку в воду и начинаю поигрывать ею прямо перед щучьей мордой. Та опасливо отодвигается в сторону, но уходить совсем не собирается. Что же делать? Короедом ее не соблазнишь. Ей бы живца или хотя бы блесну. Но ни того, ни другого у меня нет. Хариусов тоже ждать нечего. Когда у лунки такой страж, ни одному хариусу к приманке не прорваться. Так что на сегодня вся рыбалка закончилась.
Пока я так раздумывал, с противоположной стороны к лунке подплыла еще одна щука и тоже с любопытством уставилась на мормышку. Это развлечение им, вроде цирка. Ну обождите, разбойницы, я вам устрою представление!
Операция «Кафтан»
Но представление придется отложить. Сейчас три часа ночи, мне что-то нездоровится. Вчера на морозе форсил в одном свитере, а сейчас всего ломает и никак не могу согреться. Наложил полную печку дров, сходил проведать Роску, теперь сижу, завернувшись в тулуп, и шью вентерь. Попробую поставить его в заводи, может, попадется пяток гольянов. Они мне нужны для щук.
Роска лежит все на том же месте. От хлеба не осталось и крошки. Это уже неплохо. Но ведь ей нужна вода. Вчера, возвратившись с Соловьевских озер, я подтолкнул ей ком снега. Сейчас сижу и соображаю, как напоить ее по-настоящему?
Неожиданно в голову приходит испугавшая меня мысль:
— А ведь Роска может замерзнуть! Шуба у нее, конечно, теплая, но мороз-то какой! И она все время без движения.
Мамочка моя, вот это положеньице! Сколько времени мечтал о собственной росомахе, теперь она у меня под кроватью, а я отсиживаюсь кто его знает где и не могу зайти в собственный дом. Мало того, что оба больны и голодны, она меня не пускает к лекарству. Аптечка с таблетками и порошками чуть ли не у нее над головой.
А вдруг росомаха и вправду замерзнет? Однажды собака знакомого охотника попала в поставленный им же капкан. Он думал, что она убежала в поселок, и не стал искать. Когда возвратился домой и понял, в чем дело, — было поздно. Попадавшие в его капканы соболи, лисицы и горностаи замерзали в течение одной ночи. С того времени, как пропала собака, минуло четверо суток. Переживал он, конечно, сильно, но в таком деле слезами горю не поможешь. Придется охотиться без собаки.
Через день пошел охотник проверять капканы, а его собака жива-живехонька. Оказывается, попав лапой в капкан, она не вырывалась, а сразу же выкопала в снегу глубокую яму и отсиживалась в ней до прихода хозяина. Да не просто отсиживалась. Все это время она, как могла, согревала зажатую в железные тиски лапу. Когда охотник выручил ее из капкана, она не могла даже двигаться, до того замерзла. Пришлось ему свою собаку до самого дома гнать палкой. Жалко ее было, прямо плакать хотелось, а приходилось гнать, иначе бы погибла.
Но ведь собака сидела в снегу, а куда спрятаться Роске? К шуту этот вентерь! Нужно как-то проникнуть в избушку. Вдруг Шурига, на помощь которого я так рассчитываю, не явится сюда еще неделю. Но, с другой стороны, как это сделать? С росомахой шутки плохи. Цапнет так, только держись. Мне бы такой костюм, как тот, в каких тренируют собак на границе. Наденут его на солдата — и никакая овчарка не страшна. Вот в нем бы я действовал смело.
А если пошить самому? Пожертвовать ватное одеяло — и дело с концом. Нет, одеяло она прокусит насквозь. Лучше матрац. Возьму пару штук, сошью из них балахон с дырками для рук и головы. В таком одеянии мне и тигр не страшен. Но как быть с головой и руками? На руки я еще что-нибудь приспособлю, а на голову? Хоть ведро надевай, наподобие пса-рыцаря.
Решился и сразу стало легче. Даже знобит не так. Прежде всего нужно будет растопить возле росомахи печку. Приготовлю дров и только заберусь в избушку, осторожненько натолкаю их в печку. Разжигать их буду свечой, чтобы лишний раз не греметь рядом с Роской спичечным коробком. А свечу зажгу еще за порогом. Потом уже горящую занесу в избушку и суну под дрова…
Если кто не видел живого марсианина — спешите посмотреть. Я наряжен в кафтан из двух полосатых матрацев, голову прикрывает жестяной колпак, лицо спрятано под проволочное забрало. Точно такое я видел на вратаре канадской хоккейной команды. Вот только с рукавами вышла промашка. Испортил две фуфайки, но ничего не получилось. Пришлось рукава упразднить и минут десять тренироваться прятать руки в вырезы кафтана. Получается как будто неплохо. В крайнем случае буду работать одной правой. Одну руку спрятать быстрее.
Кажется, все готово. Дрова сложены у двери, там же стоит зажженная свеча. Все лишнее убрано с дороги, снег у крыльца посыпан золой. Это чтобы не поскользнуться, если придется удирать.
Читающий эти строки благодушно улыбнется: «Вот это нагородил! Яснее-ясного, что ничего с ним не случилось. Если бы случилось, тогда бы этих записей не было. Не напишет же он: «Она повалила меня на снег и съела». Все правильно, но почитайте-ка привезенную Шуригой книжку: «…движимая постоянной внутренней яростью, росомаха с абсолютным бесстрашием бросается на лося и, вцепившись зубами в холку, висит на нем, пока не загрызет насмерть. Даже попав в бурную реку, когда самой росомахе угрожает смертельная опасность, она не отпускает добычу». Вот видите, она в единоборстве с лосем выходит победительницей.
А кто мне скажет, как у росомах получилось с тем медведем? Ведь дрался он не на жизнь, а на смерть, и все равно они его победили. Теперь приравняйте этих зверей и меня. После такого — слепленный из двух протертых матрацев кафтан покажется тоньше папиросной бумаги.
Росомаха лежит, свернувшись клубком и прикрыв нос хвостом. Точно так отдыхает какая-нибудь дворняга, расположившись у крыльца хозяйского дома. На скрип двери она вздрагивает, но не поднимается. Даже головой не шевельнула. Словно мое появление ее не интересует. Матрацы затрудняют движения. Короткими семенящими шажками продвигаюсь к печке и принимаюсь заталкивать в нее дрова. Все делаю наощупь. По памяти, так сказать. Ни на мгновенье не отвожу глаз от росомахи. Почему она так себя ведет? Раненый медведь может притворяться мертвым до тех пор, пока с него не начнут снимать шкуру. Потом подхватывается и начинает драть самих охотников. Может, и росомаха ждет, когда я подойду к ней совсем близко. Все так же с оглядкой возвращаюсь за свечой, и вот она уже в печке. Пусть дрова разгораются, а мне предстоит самое трудное — подобраться, к столу и снять из-под потолка ведро и сумки с продуктами. Иду еле-еле. Сделаю шаг-другой и останавливаюсь. Нет, здесь что-то не то. Зачем я вот так пру напролом? А если она и в самом деле поджидает удобного момента? Еще шаг — и она бросится.
Отступаю к порогу, вытаскиваю руку из-под матраца, бью кулаком в стену и одновременно кричу:
— Роска! Алло, подъем!
Росомаха вскидывается, ударяет головой о низ кровати и грозно рычит. Но и ее движения, и рык слишком уж вялы. Мне кажется, она даже не открывает глаза. Да, точно, сидит с закрытыми глазами. Что с нею?
Посидев так с минуту, росомаха опускается на пол, широко зевает и начинает укладываться спать. Снова ее тело сворачивается калачиком, хвост ложится на голову и грозный зверь превращается в обыкновенную лохматую дворнягу.
Ой-йоюшки! Да она же замерзает! Я здесь праздную перед ней труса, а она, может быть, доживает последние минуты.
— Не спи, Роска! Слышишь, не нужно спать.
Росомаха, конечно, слышит меня, потому что лежащий под кроватью клубок отзывается рычанием на каждый мой звук, на каждое мое движение. Но она так застыла, что даже не хочет, вернее, не может поднять голову.
Снимаю с гвоздей ведро, сумки с крупами, макаронами и порошками, осторожно выношу все за дверь. Теперь веду себя смелее, к тому же появился опыт работы в этом одеянии. Если бы не ощущающаяся во всем теле слабость, можно было бы действовать еще четче.
У Шуриги есть любимая пословица. К месту и не к месту он любит говорить: «Хорошая мысля приходит опосля». Наверное, так и у меня. Заметив, что дрова в печке прогорают, набираю охапку побольше и уже приготовился заносить в избушку, как вдруг меня осенило: «Ну отогрею росомаху, а потом что? Сейчас она так застыла, что ей не до меня. Отогреется же — в избушку мне не зайти. Придется все начинать сначала». Насколько позволяет кафтан, бегу в бригадирскую, там переворачиваю одну из кроватей и сбиваю с нее спинки. Одна сетка есть. В коридоре висит бухта тонкой проволоки. Слабовата, но другую искать некогда. Привяжу сетку к кровати, под которой сидит Роска, и тогда она мне не страшна…
Сижу в бригадирской и пью чай. Руки дрожат и совершенно не ощущаю, сладкий ли чай, хотя высыпал в кружку две горсти сахара. Росомаха спит под кроватью, отгорожена кроватными сетками. Пока я возился с ними, она несколько раз подхватывалась, угрожающе рычала, но вскоре снова ложилась на пол. Я закрепил сетки проволокой, обставил их толстыми лиственничными чурками и сейчас жду, когда избушка выгреется по-настоящему. Роска лежит в дальнем углу, и тепло туда дойдет не скоро. Прежде всего нужно сварить болтушку и накормить росомаху, потом отправлюсь ставить на гольянов вентерь. А завтра с утра пораньше на рыбалку. Хорошо бы клюнула та щука, что вырвала из моих рук удочку.
На меня нашло озарение. Гениальные мысли рождаются одна за другой. Чего это я буду рыбачить на морозе под открытым небом? В хозяйстве Шуриги штук пять палаток, печки, трубы и вообще все, что захочешь: Да с этим оснащением я прямо среди озера отгрохаю такую дачу, все щуки с перепугу всплывут вверх животами. Мне бы только добыть гольянов.
По щучьему велению
У берега заводь покрылась толстым льдом, но середина замерзать и не собирается. Испытывая валенком лед на прочность, осторожно продвигаюсь поближе к открытой воде. До нее осталось метра три, лед под ногами трещит и прогибается. Дальше уже опасно. Толкаю к промоине шест с привязанным к нему вентерем, и наконец моя снасть исчезает в воде. Изнутри вентерь вымазан тестом, это самая лучшая приманка для гольянов. Тревожит одно: а вдруг они давным-давно переселились в Фатуму? Поздней осенью мы вдвоем с Шуригой ловили здесь раненого кулика, тогда этих рыбок было много. Сейчас что-то не видно…
Забыв о простуде, до вечера носился по Лиственничному, как угорелый. Зато переделал кучу дел. Уложил в рюкзак палатку и железные колышки к ней. Раздобыл два куска войлока. Хватит и под себя подстелить, и утеплить палатку. Печку решил нести вторым заходом. Здесь недалеко. К обеду переправлю все на озеро и примусь за рыбалку.
Поминутно бегаю в избушку проведать Роску. Она совсем ожила. Съела полведра болтушки, отогрелась и рычит так, словно не я здесь хозяин, а она. Никак не могу определить, куда же ее ранили? Как будто не хромает и крови не видно. Может, рана на правом боку, но тем боком Роска ко мне не поворачивалась. Да и много ли разглядишь под кроватью? Я растворил в болтушке две таблетки тетрациклина. Говорят, животных нужно лечить тем же лекарством, что и людей.
Кажется, все готово. Сейчас схожу к заводи, проверю вентерь и спать…
Намоченный в воде шест примерз к ледяной кромке так прочно, что, отрывая его, я чуть не наделал беды. Наконец из заводи показался сшитый из двух накомарников вентерь. С волнением прислушиваюсь, не застучат ли по его стенкам проворные гольяны? Кажется, есть. Один, два… шесть, нет, семь штук. Не густо, но и на этом спасибо. Пересаживаю рыбок в пятилитровую банку, какое-то время любуюсь, как они тычутся острыми носиками в стекло, и почти бегом отправляюсь в бригадирскую. Завтра будет отличная рыбалка.
…Не успело солнце окрасить в бледно-розовый цвет вершины заснеженных сопок, а я уже у Соловьевских озер. Сбросил возле замерзшей лунки рюкзак, немного отдохнул и назад. Кукши словно ожидали меня все это время. Лишь я ступил на озеро — они тут как тут. Сидят и дуются друг на дружку. Интересно, как они поделили подаренного мною хариуса? Все-таки нужно было разрезать его на две равные половинки. Тогда никому не было бы обидно.
Глухарь опять ночевал у толстой лиственницы. В каком-то метре от прежней лунки выкопал новую и завалился спать. На этот раз он услышал меня загодя. Высунул голову из-под снега, посмотрел, кто это там идет, и только потом улетел. Я сказал ему: «Здравствуй!». Поздоровался я и с кукшами.
У меня всегда так. Если долго не вижу людей, начинаю разговаривать с кем попало. С птицами, костром, избушкой и даже рюкзаком. Вот оставил его на озере и говорю:
— Лежи спокойно. Я скоро вернусь. А вы — это уже кукшам — смотрите за ним хорошенько.
Кукшам такое доверие понравилось, и они принялись посвистывать тонкими голосами. Наверное, им в тайге тоже скучновато…
Я сотворил большую глупость. Бегу к озеру по лыжне, в руках банка с гольянами, за спиной печка с трубой. Банку-то я завернул в остатки фуфайки, но что буду делать потом? Лунка промерзла насквозь, мне придется прорубать ее сначала, а это затянется на полчаса, если не больше. За такое время вода в банке превратится в лед и гольяны погибнут. А мне-то нужен живец.
Может, развести костер и поставить банку у огня? Нет, не то. Как в таком случае работать? Только я к лунке, а банка недогреется или перегреется. Глядишь, вместо наживки получится уха. А ведь можно было еще дома сделать из консервной банки садок да к тому же первым заходом прорубить лунку. Опустил садок в воду — и никаких проблем.
Сегодня ночью вдоль лыжни гулял соболь. Несколько раз он выскакивал на накатанный лыжами снег, но скоро снова заворачивал на целину. По пути он проверил все валежины, зачем-то поднимался к оставленному то ли кедровкой, то ли кукшей гнезду, подолгу кружил у ольховников.
Не добежав сотни метров до глухариной спальни, он свернул в сторону, и больше его следов я не встречал. Все-таки глухарь не такой и дурак. Нужно же было угадать для ночевки такое место, от которого соболь отвернет! Пройди соболь еще немного, и глухарю несдобровать.
Выскакиваю на озеро и сейчас же к банке. Внутри ее образовалась толстая ледяная корка, но гольяны плавают, как ни в чем не бывало. Рядом с лункой устанавливаю печку, закрепляю трубу, и вскоре из нее повалил густой дым. Как-то непривычно смотреть на дымящую среди озера печку. Словно я по щучьему велению приехал на ней порыбачить.
На небольшие чурочки пристраиваю на углу печки банку с гольянами и не спеша принимаюсь за работу…
С ума можно сойти! Да ведь этого не может быть! Сижу в палатке на куске войлока, под войлоком мягко пружинит постель из веток кедрового стланика, рядом исходит теплом печка, а на ней шипит чайник. Стланик успел оттаять, и пахнет, как в сосновом лесу. Можно рыбачить, пить чай, спать и вообще делать что душе угодно. Самое же удивительное, что затененная палаткой вода приобрела необыкновенную прозрачность. Я сейчас не то что камешки, песчинки на дне озера могу сосчитать.
Наживляю гольяна на крючок и отправляю в лунку. Рыбка, плавая, носит на себе крючок, следом описывает круги леска. Во все глаза смотрю под лед. Вот-вот появится щука. Но вместо нее возле гольяна высыпает стайка хариусов и принимается изучать невиданную доселе рыбку с красным животом.
Торопливо настраиваю вторую удочку, и вот рядом с гольяном заиграла мормышка. Хариусы дружно бросаются к ней, и вскоре самый проворный из стайки переселяется в банку. За ним поймался другой, затем третий. Хариусы небольшие, их с успехом можно использовать как живцов. Более того, для здешних щук эта добыча привычней. Любопытно, что попавшегося на крючок хариуса вся стайка сопровождает до самой поверхности. Поднимутся и так компанией на какое-то время застынут, словно раздумывают, куда же он подевался.
Когда вытаскивал пятого хариуса, сопровождающая его стайка неожиданно исчезла. Я даже не заметил, куда подевался незадачливый эскорт. Наклоняюсь заглянуть подальше под лед и вижу зависшую под ним щуку. Она внимательно глядит на живца, но хватать его почему-то не торопится. Делаю вид, что хочу вытащить гольяна из воды, и подтягиваю леску на половину длины. Это словно будит жадную щуку. Она стремглав бросается на живца и через мгновенье оказывается на льду.
Вторую щуку пришлось ждать совсем мало. Вернее, я не ждал ее совсем. Только живец прошел нижнюю кромку льда, как сразу же на него бросилась двухкилограммовая щука и я чуть не порезал пальцы леской.
Нет, такого не бывает! Десять живцов, десять щук. И каждая больше килограмма. Толстоспинные, остроносые, они лежат возле лунки и лениво шлепают хвостами. Куда нам столько? Вот уж Роска обрадуется. Это тебе не похлебка из нескольких горстей муки.
В банке плавают два последних хариуса. Нужно оставить их на завтра. А новых живцов я принесу в другой посудине. Этого добра в Шуригиной кладовке сколько угодно.
Завязываю банку носовым платком, привязываю к ней шнур и опускаю в лунку. Пусть подождет до следующей рыбалки. Только бы не перерубить потом шнур. А может, прикрытая палаткой лунка замерзнет не так сильно.
У двух уснувших щук я отрезал хвосты и положил их возле палатки. Это для кукш. Наверное, крутятся где-то неподалеку и ждут рыбки.
Пора уходить. Поплотнее прикрываю печку, надеваю заметно потяжелевший рюкзак и бросаю последний взгляд в щедрую лунку. То, что я там увидел, поразило меня не меньше, чем появление Роски под моей кроватью. Возле стоявшей на дне озера банки, тыкаясь мордами в прозрачное стекло, плавали две щуки.
Они то отходили немного в сторону, то подплывали к самой банке. Наверное, у сидящих там хариусов от такого соседства душа уходила в пятки, вернее, в хвост.
Слово
Была у меня в детстве знакомая девочка, Клавка. Жила она в Зеленой казарме — крашенном зеленой краской бараке, в трех километрах от деревни. Родители Клавки работали путевыми обходчиками. Были они много зажиточней деревенских. И зарплата не то что в колхозе, и хозяйство: корова, лошадь, гуси, куры. Есть где скотину пасти, есть где травы накосить. Я давал Клавке списывать уроки, за это она делилась со мною пшеничным хлебом.
С виду эта девочка ничем не отличалась от остальных ребят — худая, курносая, долговязая. Таких девочек в нашей школе было сколько угодно. И вот эта Клавка знала СЛОВО. Мы росли настоящими безбожниками. Никто из нашей ребячьей ватаги не верил ни в бога ни в черта, а вот в СЛОВО верили. Да и как не верить? Клавка могла спокойно пересечь дорогу идущему впереди стада бодучему быку Чемберлену, достать закатившийся к самой конуре Рябчика мяч, пересчитать все гвозди в Орликовых подковах. Подойдет к стоящему у коновязи жеребцу, возьмет его ногу в ладони и спокойно так:
— Орлик, ногу! Ну выше, выше!
Тот ногу и поднимет, а она в каждый гвоздь пальцем:
— Один, два, три… — словно бы делает важное дело. А жеребец, которого и цыгане купить побоялись, стоит как шелковый.
Когда Клавке было пять лет, она играла с волком. После войны их развелось у нас много. То корову зарежут, то козу среди белого дня уведут вместе с веревкой. А в соседней деревне они разорвали женщину. Шла на ночной поезд, они ее возле лесополосы и настигли…
Ни братьев, ни сестер у Клавки не было, а бегать к деревенским ребятам не близко. Вот она и дружила с конем и коровой. Однажды возвращаются отец с матерью с обхода, а их дочь играет во дворе с большой собакой. Прицепила ей на шею выкроенный из обрывков старого платья бант, теперь пытается завязать на голове свой платок. А та стоит себе и щурит глаза.
Мать ничего не поняла. Ну играет дочка с собакой и ладно. Вот только за платок отругать нужно. Такой холод, а она из одежды игрушку сделала. Долго ли простыть?
Отец же вдруг осекся на полуслове, побледнел и ни с места. Ему уже приходилось встречаться с волками, поэтому сразу понял, с кем играет его дочь.
А волк, как только увидел взрослых, голову из клавкиного платка осторожно высвободил и наутек. Так с бантом и убежал. С тех пор и пошел у нас слух, что зверь не тронул девочку неспроста. СЛОВО, мол, знает.
Больше людей с таким даром мне встречать не доводилось. Но вот сегодня…
Проснулся в два часа ночи. Подложил дров, выглянул на минутку за порог, теперь не могу уснуть. Тревожит Роска. Слишком уж неважно она выглядит. На правом боку вздулась большая шишка. То ли нарыв, то ли что другое. Роска непрерывно лижет это место, и рыжая шерсть слиплась от слюны. Говорят, слюна у зверей целебная, но что-то моей росомахе помогает плохо. А здесь еще кончился тетрациклин. Правда, в аптечке у меня сколько угодно всяких лекарств, есть даже слабительное и мозольная жидкость, но вот от каких болезней применять остальные таблетки — даже не представляю. Роска совсем заскучала и почти не обращает на меня внимания. Правда, от щук не отказывается. Съест рыбину, похлебает воды и лежит.
Если бы лето! Можно было бы выпустить ее на волю, и она сама отыскала бы целебную траву. А сейчас в тайге для нее верная гибель…
Где-то высоко над сопками, словно запутавшаяся в паутине муха, заныл самолет. Через полчаса он приземлится в Магадане. Там совсем другой мир. Все залито ярким электрическим светом, люди покупают журналы, газеты, жуют бутерброды, пьют кофе, толпятся у регистрационных стоек. А некоторые развалились в креслах и смотрят телевизор. Хотя, какой среди ночи телевизор? Скорее бы уже приезжал Шурига, а то совсем скисну. Вчера бегал к Родниковому. Наледь отступать и не собирается. На противоположном берегу хорошо видны свежие следы от трактора. Кто-то приезжал из совхоза на разведку, но перебраться не сумел и возвратился назад…
…Вечером, стрекоча гусеницами, из-за поворота вынырнула длинная приземистая машина. Не сбавив скорости, она завернула в Лиственничное, подкатила к бригадирской избушке и, обдав все вокруг снежной пылью, остановилась.
Первым из кабины выбирается Сергей. На нем белая куртка и обшитая куском простыни шапка. Ему лет тридцать, но он уже опытный таежник. Восемь лет Сергей работает геологом здесь, на Севере, и, конечно же, в тайге чувствует себя, как дома. В прошлый раз он учил меня с помощью бутылки из-под шампанского ловить куропаток. Выдавишь, мол, бутылкой ямку в снегу, бросишь туда несколько ягод брусники, куропатка полезет за этим лакомством, а выбраться обратно уже не сможет. Я не пробовал, но вообще-то в объяснении Сергея все звучало вполне правдоподобно.
Он сразу же интересуется, найдется ли у меня ведро бензина, и, услышав утвердительный ответ, кричит сидящим в кабине:
— Глушите! Приехали! Я же говорил, будем с бензином.
Суечусь у вездехода и вообще веду себя, как самый последний подхалим. То придержу дверцу, то приму ящик с продуктами, то, заискивающе улыбаясь, тороплю гостей в избушку. Таким гостеприимным сделала меня тайга. А может, я такой от роду? Хотя нет, от роду почти все одинаковы, это уже потом жизнь переделывает каждого на свой лад. Нас у родителей шестеро: две сестры и четыре брата. Жили мы открыто, и люди тянулись к нам со всей деревни. Все были нам рады, и мы встречали всех приветливо. Как-то решили семьей сходить в школу на елку. Оделись, вышли из дому, а дверь запереть нечем. Нет замка! Принялись вспоминать. Оказывается, мы еще в прошлом году одолжили его соседям. Получается, наш дом не запирался больше года.
В последний отпуск я поехал к сестре в гости. Она теперь живет в большом городе. Поднялся на пятый этаж, звоню. Что-то там, в квартире, хлопнуло — и тишина. Наконец звякнул ключ в одном замке, затем в другом и дверь открылась. Оказывается, все это время сестра рассматривала меня в дверной глазок.
Поехал к брату, и у него в двери глазок блестит. Так я брату, значит, одной рукой звоню, а другой в эту стекляшку показываю фигу. Обидно мне и сердито от всего этого.
Теперь попробуйте представить живущего в таежной глуши человека, что любуется на гостей через проделанную в двери дырку. Ни за что не получится. И после этого мне утверждают, что человек в тайге дичает! Да, кстати, как-то в одном городке я наткнулся на сбитого машиной человека и, вполне естественно, побежал сообщить об этом в милицию. Пробую открыть дверь, она закрыта на крючок, а из-за двери дежурный милиционер спрашивает: «Кто там?»…
Вскоре из вездехода выбрались и Сергеевы попутчики — Демьяныч и Степаныч. Это так кличет их Сергей. Демьяныч старше всех. Он уже давно на пенсии. Голова у Демьяныча совсем седая, усы же черные как смоль. Я даже присматривался, не крашеные ли? Он в этой троице за повара. Степаныч — водитель вездехода и главный охотник. Цепляясь патронташами и ружьями, он долго протискивался в узкую дверцу, а, спустившись, принялся всматриваться в меня, словно я мог быть объектом его охоты. Перед тем как подать руку, Степаныч достал очки, тщательно протер и, только нацепив их на нос, поздоровался.
Когда-то мне нравилась поговорка «Мясо недожарь, рыбу пережарь». Поскитавшись по северу, я заменил ее более удобной: «Горячее сырым не бывает». А сейчас сижу и спокойнехонько употребляю совершенно сырую рыбу. Дело в том, что мои гости не сумели добыть лося, зато хорошо порыбачили. Отыскали яму, куда собрались на зимовку хариусы, и наловили их полный ящик.
Демьяныч выпросил у меня томатной пасты, уксусу, красного перцу, перемешал все это с какими-то едучими корешками и крепко посолил. Получилось такое блюдо, что его забоялись бы и мексиканцы. Затем он достал из ящика несколько замороженных хариусов, настрогал из них холмик тонких пластинок и пригласил нас к столу.
Я выбрал самый маленький ломтик, макнул его в экзотический соус и не без опаски отправил в рот… Эту еду нельзя сравнить ни с чем! Прохладная, нежная, ароматная! К тому же из знакомых мне рыб только хариус да еще корюшка пахнут свежим огурцом.
После ужина все вместе отправились смотреть Роску. Заслышав приближение людей, она заметалась в своей загородке, раз за разом ударяясь о низ кровати. Я подал голос, Роска остановилась и принялась тихо рычать. Освещенные лучом фонарика, ее глаза мерцали в темноте избушки, как два огонька. Степаныч с Сережкой присели у порога и уставились на диковинного зверя. Демьяныч подошел к самой сетке, провел по ней ладонью и спросил:
— Слушай, а это не медвежонок? Я думал, росомаха как хорь или соболь, только покрупнее. А это настоящий медвежонок. И цвет, и морда, и уши.
Роска метнулась к сетке и царапнула по ней зубами.
— Ты чего? — наклонился к ней Демьяныч. — Я тебя чем-то обидел, да? Как тебе не стыдно? Разве вот так гостей встречают?!
В голосе этого черноусого деда звучало такое неподдельное огорчение, словно его и на самом деле очень крепко обидели.
— Да разве мы тебе враги? Погляди-ка, руки у нас пустые, и ничего плохого мы тебе не сделаем. Ну, что здесь у тебя случилось, приболела, что ли? Чего там у нас болит? Этот дурак теплую шапку иметь пожелал. Вот мы ему зададим! Да разве можно из-за какой-то шапки лишать жизни такую умную зверину? Ведь сообразила же ты, к кому идти за помощью. И правильно сделала. Ты хорошая-хорошая, славная-славная, и мы тебя очень любим. Ну ложись, ложись. Тебе же больно стоять. Ложись, а?
Он разговаривал с Роской так, будто она могла понять каждое его слово. Голос Демьяныча то тишился до шепота, то звучал довольно громко. И странное дело, Роска вдруг широко зевнула и принялась укладываться возле сетки.
— Вот и ладненько, вот и хорошо! — не прекращая увещевать зверя, Демьяныч сдвинул в сторону лиственничные чурки и приподнял сетку. — Сейчас мы тебя посмотрим, где оно у нас болит? Лежи, лежи! Ты же самая сладкая, самая красивая, самая умная. И шерстка гладкая, и ушки круглые…
Рука Демьяныча коснулась загривка росомахи и заскользила вдоль спины:
— Ой, милая ты моя, до чего же худющая! Он тебя не кормит, что ли? Как же можно обижать такую славную киску?
Росомаха несколько раз вздрагивала, тихонько рычала, но никакой попытки освободиться от руки человека не делала.
Наконец Демьяныч поставил сетку на место и кивком головы показал на дверь. За порогом он захватил в руку горсть снега, растер между ладонями, потом сказал:
— Пусть отдыхает. Завтра по солнышку что-нибудь придумаем. А зверина она славная. Ты ее и на самом деле корми получше.
…Проснулся я поздно. Солнце успело подняться над сопками, и в избушке было донельзя светло и уютно. Мои гости уже поднялись и успели убрать за собою постели. С улицы доносилось звяканье металла о металл. Наверное, там ладили вездеход.
Скрипнула дверь, в избушку вошел Демьяныч. Он поставил у порога какую-то коробку и принялся мыть руки. Мылся он тщательно. Неторопливо тер ладонь о ладонь, до тех пор пока на кистях рук не повисли гроздья пены. Демьяныч сбивал их водой и снова брался за мыло. Наконец он отошел от умывальника, поискал, чем бы вытереть руки, и только теперь заметил, что я лежу с открытыми глазами.
— А, хозяин! Не дали тебе гости поспать. Прими-ка на память. — Он стряхнул с пальцев капельки воды, взял из стоящей у порога коробки свернутый из газеты фунтик и подал мне. — Если этот придурок еще раз заявится к тебе с ружьем, побей ему его пукалку на голове. Моей рукой побей!
В фунтике лежали три темные дробинки. Одна из них сплющена. Я непонимающе уставился на Демьяныча:
— Так вы…
— Да-да, конечно, — улыбнулся в усы Демьяныч. — Она у тебя молодец. Правда, пришлось надеть ошейник, если надумаешь ее отпустить, не забудь снять. В лесу зверю эта цацка ни к чему. Давай, поднимайся, а то хлопцы скоро завтрак потребуют. Да и ее покормить не помешало бы. Я ей обещал, еще обидится…
Сосед
Как только вездеход скрылся за поворотом, я прихватил лопату и отправился расчищать снег у мастерской. Настроение отвратительное. Виновата, конечно, Роска.
Если Демьяныч принял в ее судьбе полное участие, то Сергей и Степаныч отнеслись к моей возне с росомахой довольно прохладно. Все куньи не отличаются приятным запахом, а росомахи в особенности. Больше всего выделяется его, когда зверь волнуется. А моя Роска ранена да к тому же живет под кроватью самого страшного своего врага — человека. И, конечно же, ничего удивительного в том, что моя избушка, да, наверное, и я сам, основательно пропитались этим ароматом. Мне показалось, что приехавшие с Буюнды охотники все время старались держаться подальше от меня, а Сергей, так тот даже спросил, не кормлю ли я росомаху из той же посуды, которую выставил на стол.
Но это не особо меня волнует. Приехали и уехали. А вот когда явится Шурига — сразу же поднимет крик, что я превратил в конюшню все Лиственничное, и выставит меня вместе с росомахой за порог.
Возле мастерской я еще с осени видел большой кусок проволочной сетки. Если обтянуть ею часть площадки под навесом, можно поселить там Роску. Под навесом, конечно, холоднее, но я набросаю туда сена или сооружу какую-нибудь берлогу, и тогда никакой мороз ей не страшен. К тому же дело к весне и Роска чувствует себя намного лучше.
С полчаса ковырял землю возле мастерской, но ничего не вышло. Трактора вдавили своими гусеницами сетку в грязь, та замерзла, и выручить ее не было никакой возможности. Все кончилось тем, что я махнул на свою затею рукой и решил обшить навес досками. То, что загородка получится не очень надежной, не страшно. Если у Роски хватит силы разрушить ее — пусть убегает на здоровье. Значит, сумеет отстоять себя и на воле.
Одно плохо — слишком рано уехали вездеходчики. С Демьянычем мы спокойно переправили бы Роску под навес, одному же мне с этим делом справиться куда труднее. Хоть снова надевай на себя кафтан из матрацев.
К обеду обшил навес досками и даже сделал небольшую калитку. Сначала доски подгонял плотно, потом решил, что между ними обязательно нужно оставлять просветы. Роска наверняка соскучилась по тайге, а из-за моей загородки она только небо и увидит. Конечно, через щели будет дуть ветер, но это даже хорошо. По нему ведь тоже можно соскучиться. Помню, я четыре месяца пролежал в больнице и впервые вышел на прогулку. Больше всего я обрадовался тогда не солнцу, траве или там птицам, а ветру. Расстегнул все пуговицы, подставляю лицо, ловлю его ртом и никак не могу натешиться.
Под жилье Роске я решил соорудить что-то наподобие собачьей конуры. Утеплю изнутри матрацами, вход оставлю самый маленький, лишь бы она могла протиснуться.
Я уже успел прибить к доскам две рейки, на которые должна была лечь крыша Роскиной конуры, как вдруг вспомнил о ящике из-под механической косилки. В прошлом году нам привезли косилку, предназначенную для работы на кочкарнике. На ящик употребили тщательно проструганные дубовые доски, саму же косилку даже смазать толком не смогли, и совершенно новая машина покрылась слоем ржавчины. Шурига распорядился привести косилку в божеский вид, я вытащил ее из ящика да так и оставил среди мастерской. Там работы не на один час, а в мастерской нет печки и все время стоит такой холод, что пальцы прикипают к железу.
А что, если устроить жилье для Роски из этого ящика? В нем же переправлю ее под навес. Главное, чтобы ящик протиснулся в мою избушку, иначе мне Роску в него не заманить.
Недолго думая, пристроил ящик на лыжи и потащил к избушке. Все нормально. Если поставить боком, проходит даже с небольшим запасом. Здесь же, у порога, выпилил в ящике окошко и обшил все изнутри вырезанными из матрацев кусками. Бедный Шурига, видел бы он, что я делаю с его имуществом! Но зато получилась замечательная конура. Ни ветер, ни холод в нее не заберутся, лежи себе да выглядывай весну.
Пока возился с ящиком, несколько раз обращал внимание, до чего же тяжелый дух стоит в моем жилье. Неудивительно, что Сергей и дед Степаныч крутили носами. Но ничего, переселю Роску, все отскребу, отмою и следа не останется. А потом выстелю пол лиственничными веточками, будет здесь аромат, как в весеннем лесу. Главное, заманить Роску в эту конуру и перетащить под навес.
Пока я возился с ящиком, росомаха лежала в своем углу и внимательно следила за каждым моим движением. Когда я слишком уж громко стучал молотком или ронял на пол доску, она вздрагивала и предостерегающе ворчала. Что-то незаметно, чтобы она хоть как-то ко мне привыкла. С самого начала жизни в моей избушке она ни разу не то что не вильнула хвостом, а даже не отнеслась более или менее терпимо к моему присутствию. Ухаживаю за ней, кормлю чуть ли не из рук, а она, вместо того чтобы приласкаться, лишь подойду к сетке, бросается на нее и так цапает зубами, что того и гляди перекусит проволоку.
Подтянул ящик к кровати и убрал часть лиственничных чурок, чтобы Роска могла забраться в новое жилище. Для приманки положил туда кусок щуки. Кормить сегодня Роску больше не буду. Есть захочет — полезет в ящик.
Пока Роска привыкает к новому жилью, можно успеть до вечера на вырубку, что километрах в пяти от Лиственничного. Демьяныч советовал поискать для Роски шиповника. Росомаха никогда не пройдет мимо этих ягод. Наверняка моей Роске в ее положении они будут очень полезны. У нас здесь сплошные вырубки. На недавних кроме пней и пустых железных бочек ничего нет, зато на старых всякой ягоды видимо-невидимо. Косари каждый год набирают там целые ведра жимолости и красной смородины. На тех, что у реки, целые заросли шиповника. Некоторые кусты растут прямо из полусгнивших пней, и плоды на них особенно крупные.
Осенью я любил бывать там. Бродишь себе между почерневших от времени пней и общипываешь ягоды. В одном месте наскочишь на синий от перезревших ягод куст жимолости, в другом — сорвешь кисть красной смородины, в третьем — прижухлую ягоду малины или морошки. Но главное, конечно, шиповник. Тронутые морозом плоды потемнели и стали до того мягкими, что их можно было давить губами. Я наедался их до тяжести в животе, а вот набрать про запас не дошли руки.
Интересно все-таки, какую-то неделю тому назад по дороге от избушки до верхнего переката я старался рассмотреть каждый следок, пусть бы это пробежала всего лишь маленькая полевка или присела общипать колосок вейника птичка-чечетка. Чуть что, остановлюсь и начинаю прикидывать, откуда след здесь взялся? Ведь как раз в этом месте я выкладывал кашу для Роски, здесь же она проложила ту памятную мне первую тропу. Сейчас же я шлепаю себе на лыжах и все внимание не под ноги, а на темнеющее узкими проталинами русло Фатумы. Лишь потеплело, на реке появилось множество проталин и уже несколько раз между ними прогулялась выдра. Выберется из воды и вихляет по снегу до новой промоины. А вчера она побывала даже в Лиственничном. Бежала себе по льду, потом вдруг напротив избушки повернула к берегу и, пробив в снегу длинный тоннель, вынырнула чуть ли не у стоящей за избушкой поленницы дров. То ли ее привлекли мои дрова, то ли она учуяла Роску и захотела на нее посмотреть. Росомаха и выдра относятся к семейству куньих. Так что, что там ни говори, а все-таки родственники.
Почти не отрывая глаз от реки, я минул камень, на котором раньше оставлял угощение для Роски, и уже заворачивал к перекату, когда вдруг совершенно неожиданно увидел свежий росомаший след. Сегодня ночью, а может и позже, здесь побывала росомаха. Отпечатки лап крупнее Роскиных, и расстояние между ними шире.
Зверь перешел Фатуму немного выше переката и, хотя все оставленные и мной, и Роской следы давно задула метель, сразу же направился к кострищу. Там он чуть повертелся и начал раскапывать снег как раз в том месте, где я подкармливал Роску. То ли его привлек запах рыбьего жира, которым пропиталась почва рядом с кострищем, то ли он учуял оставленные Роской отметины.
Не отыскав никакой ноживы, росомаха оставила на покопке желтое пятнышко и направилась в тальниковые заросли. Пятнышко у кострища было заметно издали. Оно-то и выдало забредшую сюда росомаху с головой. Правильно говорит Шурига: «Свято место пусто не бывает». Нет, не в том смысле, что он запросто может обойтись без меня и легко найдет мне замену. А в том, что отныне этот зверь является новым хозяином Роскиных владений. Наверное, раньше его охотничий участок граничил с участком моей Роски. Может, они даже как-то там дружили: ходили в гости, ухаживали друг за дружкой и по-своему, по-росомашьи, заверяли один другого во взаимной симпатии. Но стоило моей Роске отлучиться на время, как сосед решил, что ее уже нет в живых, и поторопился захватить ее территорию. Кулак какой-то! Я его сразу же невзлюбил. Да и за что его любить? Моя-то Роска возилась с хромой росомахой, делилась с нею добычей, а этот, вместо того чтобы хотя бы попытаться как-то помочь соседке, спешит извлечь из ее несчастья выгоду. Хорошо еще, что она спряталась в мою избушку, не то, глядишь, и горло перехватил бы.
Переселение
Снега в этом году очень много, к тому же все время держатся морозы и ходить очень бродно. Порой лыжи проваливаются чуть ли не до самой земли. К счастью, у первой же вырубки наткнулся на оленью тропу, и хотя она скоро отвернула в сторону, оставить ее не хватило решимости. Здесь вырубки тянутся одна за другой, и вполне возможно, на какой-то из них тоже растет хороший шиповник. К тому же я люблю ходить по незнакомым местам. Чаще всего всякие неожиданные встречи случаются как раз во время таких путешествий.
Вдоль вырубки и по раскинувшемуся за нею болоту олени передвигались шагом, и набитая ими тропа до того плотная, что по ней можно идти без лыж. Но вот долина стала уже, сопки подступили к самой Фатуме и олени то и дело переходили на прыжки. Прыгая, они выбивали в снегу глубокие ямы, и в таких местах мне приходится сворачивать в сторону, иначе рискуешь поломать лыжи.
Обогнул заросший лиственницами невысокий холм и увидел самих оленей. Их не меньше полусотни. Среди высоких и поджарых дикарей легко угадываются домашние олени. Эти ниже ростом, и шерсть на них светлее. Один олень так вообще рябый, как холмогорская корова.
Наверное, домашние олени убежали из совхозного стада и пристали к диким. Сергей говорил, в этом году их потеряли несколько тысяч. Целый месяц искали вертолетами, гоняли на вездеходах, но разве в тайге найдешь? Это тебе не тундра, где на сто километров ни одного бугорка.
Олени увидели меня, заволновались и, выстраиваясь на ходу в длинную цепочку, побежали в темнеющий слева от долины распадок. По дороге они подняли стаю куропаток. Словно белый вихрь, замельтешили птицы на фоне заиндевевших тальников и скрылись за ними.
Прохожу совсем немного и опять замечаю оленей. Этот табун совсем маленький. Четыре важенки и два довольно рослых олененка. Эти учуяли меня загодя, бросились наутек, и я увидел их уже на склоне сопки. Здесь одни дикари. Бегут легко, словно играючись, вскидывают высоко вверх светлые крупы.
В долине настоящее оленье засилье. Везде глубокие ямы-копанки, усыпанные крошевом сорванного ягеля или стеблями пожелтевшей пушицы. От каждой копанки во все стороны расходятся лучи оленьих троп. У подножий сопок — кучи сорвавшегося с крутых склонов снега. Олени карабкаются туда за ягелем и несмотря на то, что промороженный снег держится на склонах вполне надежно, почти с каждого крутого выступа умудрились столкнуть лавину. Местами эти лавины обнажили сопки сверху донизу.
Непривычно и как-то по-особому неуютно смотреть на открытые морозу и ветру куртинки брусники, зеленые лапы кедрового стланика, широкие листья золотистого рододендрона. Лишь сейчас по-настоящему начинаю понимать выражение «снежное одеяло».
В оттепель, когда снег станет скользким, здесь будет опасно даже хлопнуть в ладоши. Загремит так, только держись.
На лавине, что скатилась с ощерившейся скалистыми останцами сопки, прохаживаются четыре ворона. Осторожные птицы услышали скрип снега под моими лыжами и полетели посмотреть, кого это несет. Удостоверившись, что идет человек, перекликнулись между собой и расселись на лиственнице, что стоит у самой оленьей тропы.
Стараясь не вспугнуть воронов резким движением, искоса наблюдаю за ними и прохожу под самым деревом. Все птицы очень крупные, большеклювые и черные от головы до когтей.
Грудь и крылья отливают металлической синевой. Мне приятно, что птицы не боятся меня, и сердце полнится нежностью к ним. Нужно было прихватить из дому кусок щуки. Сейчас мое угощение было бы воронам как нельзя кстати.
Меня давно интересует один вопрос. С виду все вороны походят друг на дружку и оперением, и статью, да и повадки у них одинаковы. Но почему в нашем поселке возле ящиков с мусором всю зиму держится всего лишь две-три птицы? Еды там сколько угодно, никто на них не охотится, никто не обижает, они же лишь такой маленькой компанией и летают. Остальные же вороны маются здесь, в тайге, и к дармовой еде не торопятся. Не дураки же они в конце концов.
Недалеко от лиственницы с сидящими на ней воронами тропа уходит в сторону от сопки, я останавливаюсь полюбоваться птицами в последний раз, но те уже оставили дерево и вернулись на сброшенную лавиной кучу снега. Что они там нашли? Просто так вороны на одном и том же месте вертеться не станут. Разворачиваю лыжи и направляюсь к подножью сопки. Один из воронов предупреждающе произносит «Крум!» и, описав круг, опускается на склон сопки метрах в двадцати от лавины. Скоро туда же перелетают и остальные птицы.
Сброшенный лавиной снег непривычно грязный. Из серого месива выглядывают камни, ветки кедрового стланика, небольшие вырванные с корнями лиственнички. Ничего такого, что могло бы привлечь внимание воронов, не видно. Я уже хотел было возвращаться к лыжне, но вдруг заметил, что один из торчащих из снега сучьев несколько отличается от остальных. Сначала мне показалось, что это отколовшийся от скалы продолговатый камушек с сильно обкатанными гранями. Похожий голыш можно найти на берегу реки или моря. Но как он оказался здесь? Я ковырнул камушек лыжей, он не шелохнулся, хотя снег подо мною сравнительно рыхлый. Ничего не пойму. Снимаю лыжи и приседаю над непонятной находкой. Вороны заволновались и, сторожко ступая по склону сопки, подошли совсем близко. Сейчас их поведение напоминает игру «Холодно-теплее-горячо!». Чем ближе я к этому «камушку», тем они волнуются сильнее и тем смелее подступают ко мне.
Кажется, это олений рог. Боясь поверить в осенившую меня догадку, торопливо достаю нож, опускаюсь на колени и начинаю раскапывать снег. Скоро из лавины показывается ухо, затем открылась и вся голова оленя. Мне уже понятно, что здесь закопано все животное. Один из бродивших здесь оленей забрался на сопку, стронул лавину, а убежать не смог.
Рассматриваю склон сопки, пытаясь определить, где это случилось, но там целое переплетенье оленьих троп и понять, какой из проложивших их оленей спокойно спустился вниз, а какой попал в лавину — нет никакой возможности. А может, их было здесь целое стадо. Те олени, что паслись выше по склону, толкнули лавину, а этот копался себе внизу и не заметил. Я сам несколько раз натыкался на забравшихся в копанки оленей. Сунет морду в снег, лакомится ягелем и ничего не видит и не слышит, хоть бери его голыми руками.
Голова оленя качается от малейшего моего усилия, значит, погиб он не так давно. Будет мясо мне, будет и Роске. Конечно же, оставлю немного и воронам. Без их помощи мне этого оленя не найти ни за что.
Прежде всего развожу костер, заваливаю его сучьями, вывернутыми из земли полусгнившими пнями, кусками коры. Затем отрываю от сломленной ветром лиственницы широкую щепку и принимаюсь раскапывать снег вокруг оленя. Костер разгорелся, дышит теплом, так что можно работать в одном свитере. Настроение чудесное. В такие минуты работа прямо кипит в руках, и я нравлюсь сам себе. Все делаю легко и без всяких сомнений. Подправил в яме снежную стенку, сделал удобную полочку, чтоб можно было стать ногой, сгонял к ближней сухостоине и принес большую охапку сучьев. Попутно наметил куст кедрового стланика, ветками которого можно будет прикрыть мясо.
Пока то да се, решил сварить чай, но вытопленная из снега вода не так вкусна, надеваю лыжи и с котелком в руке бегу к Фатуме. Там же, на берегу, подобрал плоский голыш, пригодится точить нож.
Вот уж везет, так везет! Есть у меня одна привычка: как бы занят ни был, а всегда хоть на минуту задержусь у воды. Откуда это у меня — не знаю. Ни отец, ни дед рыбаками не были, а я лишь на воду гляну и уже не оторвусь.
Так и в этот раз. Стою с полным котелком в одной руке и с камнем в другой, гляжу на воду и вдруг замечаю трех хариусов. Выплыли на чистое место, чуть постояли и ушли под лед. Значит, где-то рядом у них зимовальная яма и можно будет порыбачить. А мне-то говорили, что вся рыба скатывается на зиму аж за Скалистые плеса.
Наконец снег отброшен в сторону, яма очищена от веток и олень лежит у моих ног. Это довольно крупная важенка со светлыми до белизны ногами. Несколько отростков на рогах сломлено, на морде застыл сгусток крови. Глаза оленухи открыты. Мне почему-то неприятно смотреть на них, и я накрываю голову животного курткой.
…Домой отправился уже в сумерках. До Лиственничного километра четыре, по готовой лыжне да еще вниз по реке это совсем близко. В рюкзак положил немного мяса и голову оленухи. Рога выглядывают наружу и все время спихивают шапку мне на лоб. Все остальное сложил там же, в яме, и прикрыл сверху ветками стланика. На всякий случай повесил над тайником мою майку. Звери боятся запаха человеческого пота и будут обходить яму стороной.
Прибежал в Лиственничное и сразу же в избушку. Роска по-прежнему лежит в углу, но рыба из будки исчезла. Бросаю туда еще небольшой кусок щуки и осторожно устанавливаю будку на прежнее место. Нужно было бы угостить Роску олениной, но я решил до переселения подержать ее на голодном пайке.
Пока выбирал из печки золу, ходил за дровами, Роска учуяла рыбу, вытащила ее из будки и принялась, есть. Ура! Все отлично. Завтра с утра приделаю к ящику дверцу, чтобы можно было захлопнуть, когда Роска полезет за мясом, и можно переселяться. Главное, чтобы к этому времени не явился Шурига, а то и на самом деле устроит скандал.
Поужинал, забрался в постель, немного поворочался и понял, что уснуть не смогу. Обычно, намаявшись, проваливаюсь в сон, едва коснусь головой подушки, здесь же будто меня подменили. Весь какой-то возбужденный, аж тело зудит. Мысли скачут одна за другой. Думается то о Роске, то об олене, то о Шуриге. Потом вдруг начинаешь перебирать папу, маму, братьев, сестер. Но в то же время мысли какие-то рваные, появляются и исчезают, словно в калейдоскопе. Нет, так нельзя. Зажег лампу, оделся и принялся хозяйничать. Прежде всего растопил баню и натаскал две бочки воды, затем с кастрюлей, в которой лежала нарезанная оленина, в одной руке и с зажженной лампой — в другой отправился к Роске. В кармане три свечи и длинная веревка. Устрою в избушке настоящую иллюминацию, приделаю к ящику дверцу, а потом этой веревкой попытаюсь захлопнуть в нем Роску.
Обычно при моем появлении она забивается в дальний угол, сейчас не стоит возле сетки и, чуть наклонив голову, смотрит на дверь.
— Ну как дела? — спрашиваю ее. — Понимаешь, нужно переселяться. Я там тебе новую квартиру организовал. Да и вообще, что это за жизнь под кроватью? Я бы на твоем месте давно возмутился.
Роска переступила с ноги на ногу и снова замерла, а я, все еще продолжая расхваливать удобства жизни под навесом, отодвигаю ящик и принимаюсь ладить к нему дверцу. Щуки там уже нет. Если бы она так же смело полезла и за олениной. Словно угадывая мою мысль, Роска нетерпеливо рыкнула и царапнула когтями по сетке.
— А, голубушка, так ты оголодала, поэтому-то такая и доверчивая. Да и здоровье тоже, по всему видно, пошло на поправку. Ничего удивительного, что появился и аппетит. Сейчас мы угостим тебя оленинкой, только будь, пожалуйста, умницей.
Роска чуть слышно ворчит и укладывается возле сетки. Я работаю пилой, стучу молотком, Роска лежит в каком-то метре от меня и время от времени рычит, приподнимая при этом верхнюю губу и обнажая острые клыки.
— Ничего, Росочка, можешь оскалиться, я-то все равно тебя не боюсь, тем более что улыбка у человека произошла как раз от такого приема. Встретятся два первобытных человека, неандертальцы или питекантропы, и показывают друг дружке! зубы. Мол, ты не очень-то выступай, прежде посмотри, какие у меня зубы. Цапну так, только держись! Потом, конечно, люди кусаться перестали, но зубы на всякий случай при встрече показывают по-прежнему.
Наконец закрепил дверцу, протянул через скобу бельевую веревку и, установив ящик со спрятанным в него куском оленины на прежнее место, бегу в баню подложить в печку дров.
На улице настоящая оттепель. Даже пахнет по-весеннему. Виноват тальник. У него этих ароматов сколько угодно. Один на мороз, другой на оттепель, третий на осень, четвертый на лето. Сегодня он пахнет весной.
Луна спряталась за облака, но ее свет все же пробивается на укрытую снегом землю и никакой фонарик мне не нужен. Я вижу отсюда даже дорогу до самого поворота.
От Фатумы доносится шум воды. Значит, перекат совсем открылся и завтра, когда отправлюсь за мясом, нужно будет прихватить с собою и удочку. Может, удастся хорошо порыбачить. Интересно, что сейчас делает выдра? Может, сидит где-нибудь у промоины и наблюдает за мной. В тайге одному всегда скучно, а увидишь рядом живую душу — уже и легче. Нужно будет угостить ее щукой. Прикармливать не буду, а просто брошу рыбину на перекате, пусть думает, что плыла и зацепилась за камни. Нам с Роской пока что хватит и оленины.
Подложил дров, проверил, как греется вода, и даже почувствовал приятный озноб от предстоящего купанья. Но рассиживаться некогда. Прикрыл поплотнее дверь и бегом в избушку, мяса в ящике, конечно, нет. Роска спокойно лежит возле сетки, словно она здесь ни при чем. Бросаю кусок побольше, поправляю протянутую к дверце веревку и отступаю за порог. Там затаиваюсь и в приоткрытую дверь наблюдаю за Роской.
Она с минуту лежала без движения, затем поднялась, облизала себе бок и, прихрамывая, направилась к ящику. Чуть постояла у входа, наклонилась и исчезла в нем. Дергаю за веревку и, услышав, как сработала защелка, бегу в избушку. Росомаха рычит, бьется о стенки, но ничего страшного. Ящик изнутри обшит матрацем, поранить себя она не сможет. На всякий случай обвязываю новое Роскино жилище веревкой, затем вытаскиваю его за порог.
В калитку, которую я проделал в загородке, ящик, конечно, не прошел. Пришлось отрывать доски. Потом попробовал установить их на место, но в потемках чуть не отшиб пальцы и решил оставить это занятие до утра. Пусть Роска посидит пока что в ящике. Так она лучше пообвыкнет на новом месте, а то начнет носиться по загородке и разбередит себе рану.
Даже в предбаннике стоит такая жара, что сразу же по спине, побежали струйки пота. В самой же бане даже дышать горячо. Забираюсь на полок, но долго выдержать не могу. Хватаю ковшик, сую его в бочку с холодной водой и обнаруживаю, что она пустая. Косари пробили в дне дырку, чтобы сливать остатки воды, я поленился проверить заглушку, и теперь вся вода ушла в камни.
Отыскиваю ведра и совсем раздетый, проваливаясь глубоко в снег, бреду к Фатуме. Можно было бы идти тропинкой, но напрямик гораздо ближе. К тому же раскаленное тело почти не чувствует холода, стынут лишь подошвы да еще почти мгновенно смерзлись волосы на голове. Бедная выдра, если она все еще наблюдала за мной из своей промоины, наверное, с перепугу пошла на дно.
Утром, лишь подхватился, сразу к навесу. Там уже сидят два ворона. Не из той ли компании, у которой я вчера отобрал оленя? Хотя вряд ли. Тем я оставил еды на всю неделю.
Из ящика доносится недовольное рычание. Но толчков или там ударов не слышно. Значит, немного пообвыклась, и вообще в темноте звери ведут себя спокойнее.
— Доброе утро, Роска! Как спалось? — говорю росомахе, какое-то время стою у ящика, словно ожидаю ответа, затем начинаю приколачивать оторванные ночью доски. Все росомахи хорошо лазают по деревьям, поэтому мне пришлось устроить вдоль загородки козырек из широких досок. Вчера в потемках я все сломал, теперь приходится устанавливать на прежнее место.
Наконец все готово. Рядом с ящиком куча сена и две миски. В одной рыба и мясо, в другой теплая вода. В дальнем от ящика углу за ночь надуло целый сугроб снега, но я не стал его убирать. Со снегом все выглядит более естественно. Закрываю поплотнее калитку, тяну за веревку, и дверца открывается. С минуту Роски не было видно, я уже хотел окликнуть ее, но тут она высунула голову, затем медленно, готовая в любое мгновенье нырнуть обратно, ступила на припорошенные снегом доски. Я думал, сейчас Роска начнет метаться в поисках выхода, она же немного постояла и, прихрамывая, направилась к сугробу. Подошла, обнюхала, хапнула снег ртом и вдруг принялась кататься по нему. Она то ложилась на спину и возилась так, часто загребая в воздухе лапами, то переворачивалась на бок и извивалась, словно хотела втереть весь снег в свою шерсть, то терлась о сугроб затылком или шеей.
Какой ужас! Наверное, Роска страдала от грязи, которую развела под моей кроватью, но ничего сделать не могла. А я не сообразил набросать туда снега, считая, что ей достаточно еды и питья.
Как часто мы берем на себя смелость думать, что знаем мысли и желания животного, а потом обнаруживаем, что ошиблись. Помню, как-то собрались мы съездить «дикарями» на Азовское море. Лето, жара, продукты пропадут за один день, а нам нужно прожить в палатках недели три, а то и четыре. Решили взять с собой живых кур, держать на привязи возле палаток и по надобности варить из них бульон. Купили в совхозе почти за бесценок десять выбракованных леггорнов. Несутся, мол, отвратительно, сами — одни кости да перья, вот зоотехники и решили, что держать их не к чему. Привезли куриц к морю, вытаскиваем из корзины, а они, очумелые после автобусной тряски, со связанными ногами и крыльями, лежат на боку и хватают ракушки. Мы их, значит, привязываем веревками, таскаем туда-сюда, они же на все это никакого внимания — знай клюют.
Утром просыпаемся, а у палаток прямо на этом ракушняке лежит четыре яйца, на другое утро уже шесть, на третье — все десять. С тех пор и пошло — как день, так десяток. И на глазунью, и всмятку поесть хватало. Оказались такие несушки — куда с добром. Мы на них потом у местных жителей свинины выменяли. А эти «специалисты», видишь ли, выбраковали!
Я не стал маячить у загородки и поспешил к своей избушке. Там в первую очередь выбросил за порог кровать и сетки. Завтра же нагрею побольше воды и отпарю так, что не останется и следа. Затем принялся выскребать мусор. Росомахи очень аккуратные звери, и туалет у них в строго определенном месте. Даже в такой тесноте Роска сумела сохранить совершенно чистый и сухой угол. Здесь мне в голову и пришла замечательная мысль. А что, если взять и разбросать все это у отметок, оставленных Роскиным соседом? Пусть знает, что Роска жива и уступать своей территории никому не собирается. Неплохо было бы еще и пригрозить ему, но как это делается у росомах — даже не представляю. Медведи — так те наносят царапины на деревья выше царапин соперника. Мол, видишь, как высоко достаю — значит, крупнее тебя и сильнее, уходи, мол, подобру-поздорову. Один захудалый, но довольно хитрый топтыгин приспособился ставить свои отметки, влезая на корягу. Подтащит ее к дереву, заберется повыше и всех медведей таким способом переплюнет. Потом уберет ту корягу в кусты, чтобы ни у кого, значит, не возникло подозрения. Медведи клевали на такую удочку и обходили этого заморыша десятой дорогой.
У навеса жизнь бьет ключом. К воронам присоединились две кукши, кедровка, стайка синиц и поползень. Чуть в стороне на вершине лиственницы дремлет ястребиная сова. Она тоже явилась на птичий гам, но ничего интересного для себя пока что не нашла и, пока суд да дело, решила прикорнуть.
Роска стоит у загородки, сунув нос в щель между досок. Вид у нее вполне нормальный, а вот ходит она плохо. К тому же у нее, наверное, мерзнет выстриженный Демьянычем бок. Роска лижет то место, иногда просто прислонит к нему нос и на какое-то время замрет. То ли греет его, то ли утоляет таким способом боль.
Смотрю на все это минут двадцать и возвращаюсь в избушку. Там я уже навел полный порядок. Все отскреб, отмыл, притащил из соседней избушки новую кровать и бросил под нее охапку лиственничных веток. До приезда Шуриги буду жить в бригадирской, затем возвращусь сюда. В Шуригиной конторе хоть и просторнее, но ее трудно натопить, к тому же она стоит совсем в стороне от Фатумы и из окон, кроме бочек с соляркой да пары механических граблей, ничего не видно.
Приготовил обед, еще раз заглянул к Роске и, прихватив ведро с собранным под кроватью мусором, отправляюсь отваживать Роскиного соседа.
Шурига
На второй день явился Шурига. До наледи он добрался на тракторе, перебрел ее, переобувшись в резиновые сапоги, и так, с валенками под мышкой, явился в Лиственничное. На широком, чуть приплюснутом его лице выражение брезгливости и недовольства. Вместо «здравствуйте» бригадир еще с порога принялся читать мне мораль. Сначала выговорил за не сброшенный со столовой и мастерской снег, затем поинтересовался, с какой стати я лазил к цистерне с бензином, и наконец спросил, почему я даже не попытался устроить какую-нибудь переправу через наледь. Ему, видите ли, «пришла мысля», что если положить на лед чурки и придавить сверху жердями, то можно ходить по наледи не переобуваясь.
Я внимательно гляжу на Шуригу и молчу. Нужно потерпеть и дать выговориться ему до конца. Его хватит минут на десять, не больше. К тому же в резиновых сапогах у него замерзли ноги, а если начнешь переобуваться, то ты уже как бы не начальник, а просто заглянул погреться.
Неожиданно Шурига споткнулся на полуслове и подозрительно уставился на меня. С минуту так разглядывал, словно видел впервые, и наконец спросил:
— Обожди-ка, а с какой это стати ты сюда переселился? Приезжал кто-нибудь?
Я согласно киваю головой и говорю как можно безразличнее:
— Были здесь одни из Магадана. Хариусов наловили целый ящик, ну и останавливались на ночь.
В глазах Шуриги мелькнули искорки любопытства. Он тоже заядлый рыболов, но спесь не дает признаться в этом. Как-никак начальник — и вдруг такое! Голос его тишится, близорукие глаза исчезают за узкими щелочками:
— Ты что, серьезно? Где они в это время нашли рыбу?
Я наклоняюсь, достаю из-под стола щучью голову и показываю Шуриге:
— Хариус что! Я на Соловьевских озерах таких вот десятками таскаю. У меня и живец есть. Можно было бы прямо сегодня и сходить, но вы же говорили, что вас трактор ждет.
— Мало что я говорил, — отмахивается Шурига. — Хорошая мысля приходит опосля. Давай, гони к наледи и скажи Алешке, чтобы уезжал. Я немного задержусь. Нужно выбрать место под удобрения, да и стога глянуть не помешает. — Шурига загорелся предстоящей рыбалкой. — Постой! Никуда не ходи. Готовь здесь снасти, я сам смотаюсь. А то еще чего напутаешь.
Так и не переобувшись, с валенками под мышкой, Шурига заторопился к наледи. Я прихватил топор и отправился за живцами. Они у меня прямо в заводи и живут. Я ловлю их вентерем, пересаживаю в банку и опускаю на самое дно. Таким способом их можно сохранять целый месяц, и они не то что не худеют, а наоборот — становятся еще более шустрыми.
Вожусь с живцами, приспосабливаю к банке проволочную ручку и обдумываю, как мне вести себя с Шуригой. Про Роску пока что говорить не нужно. Возвратимся с рыбалки, поужинаем и сядем играть в шашки. Шурига играет слабовато, подолгу думает и даже пытается плутовать. Проиграв, сердито перемешивает шашки и долго молчит. Но если выиграет — радости! Он тебя и похвалит, и чаю нальет, и даже шашки за обоих расставит.
Придется партии три ему проиграть, а когда он растает — и сообщу. Главное, чтобы он прежде времени не заглянул к навесам.
Пока привел в порядок гольянов, нажарил мяса и смастерил еще одну удочку, бригадир успел сгонять к наледи. Возвратился он уже в валенках, с лыжами и ружьем. Кроме того, принес целый рюкзак продуктов. Разохотившись, он решил задержаться здесь дня на три. Это мне не очень нравится. Шурига ни на минуту не забывает о том, что он начальник, будет указывать мне даже, в какой руке держать ложку. Но вида не подаю, рассказываю о хариусах, которых видел в верховьях Фатумы, и предлагаю завтра утром отправиться туда. Сегодня наловим щук, а завтра примемся за хариусов. На обратном пути завернем к стогам.
…То ли недавняя ревизия закончилась для Шуриги слишком удачно, то ли, вырвавшись из центральной усадьбы, он совсем ошалел от восторга — не знаю. Но даже за брошенную на озере палатку бригадир меня почти не ругал. А когда он вытащил из воды первую щуку, то чуть не пробил головой и саму палатку. Правда, под конец рыбалки, как бы между прочим, он предупредил меня, чтобы я ни в коем случае никому не рассказал обо всем этом. Я думал, Шурига не хочет, чтобы о его развлечении здесь узнали директор совхоза или главный инженер. Мол, с какой это стати Шурига занялся щуками в рабочее время?
Оказывается, бригадир смотрел куда дальше. Как только в совхозе проведают о добычливой рыбалке, сразу же в Лиственничное нагрянет толпа рыбаков и, как ты ни следи, а обязательно чего-нибудь не досчитаешься: бочки горючего, пары тюков сена или ватного одеяла с подушкой. Кстати, у нас такой случай был. Приехали из города артисты, выступили в поселковом клубе, а потом решили порадовать косарей и явились прямо в Лиственничное. Мы приняли их по-людски, накормили ухой, помогли набрать жимолости, а когда они уехали, Шурига глядь — нет двух одеял и подушки. Вот тебе и артисты!
Сегодня хариусы у лунки даже не появлялись. Но зато щуки словно с ума сошли. Мы поймали шестнадцать штук. Можно было и больше, но трех живцов эти разбойницы умудрились сорвать с крючков безнаказанно, да одного очень шустрого гольяна Шурига нечаянно уронил прямо в лунку. Перепуганная рыбка долго металась по лунке, мы чуть не обломали ногти, вымочили рукава до локтей, но поймать не смогли. Наконец гольян все же сумел нырнуть под лед, где его, без сомнения, встретила голодная щука.
Домой возвратились уже в сумерках. Шурига занялся щуками, а я выбрал из печки золу и отправился за дровами. Попутно решил заглянуть к Роске. Под навесом тишина, моей квартирантки нигде не видно. Наверное, до сих пор отсиживается в будке. Может, на ветру у нее мерзнет рана, а может, росомаха гуляла здесь, но услышала мои шаги и спряталась. В другой раз я обязательно попытался бы выманить ее из ящика, сейчас же лишь заглянул за загородку и, прихватив охапку дров, возвратился в бригадирскую.
Шурига почистил щук и ушел к Фатуме их полоскать. Я разжег печку, вымыл кастрюли, подмел в бригадирской пол, а он все еще не появлялся. Наконец пришел. С головы до ног припорошенный густым инеем, к тому же валенки на ногах обледенели. В одной руке у Шуриги кастрюля с рыбой, в другой ведро воды. Он брякнул этим ведром так, что из него плеснуло на пол, и принялся возбужденно рассказывать:
— Слушай, там выдры! Представляешь, две штуки, и толстые, как поросята. Иду вот так, а они играют. Немного побегали, потом схватились и давай бороться. То один придавит, то другой. И ни капельки не боятся. Вот так подошел, только потом нырнули. Я бы на твоем месте давно ими занялся. Говорят, их вместо кошки держать можно. Представляешь, какая потеха! А то сидишь здесь один. Так от безделья можно и прокиснуть.
Я горько улыбнулся:
— Спасибо, уже занимался. Такая потеха получилась — веселее не бывает. Думаете, почему я сюда, в бригадирскую, перебрался?
Шурига снял шапку и, прищурившись, внимательно посмотрел на меня:
— А что, собственно говоря, случилось? Уж не медведь ли нагнал на тебя страху? Алешка мне рассказывал.
— Нет, совсем не то. Вы помните росомаху? Ту самую, что потрепала собак Митьки Пироговского? Вы еще ее по дороге на Сокжоевы встречали. Светлая такая. Вот я эту росомаху и прикармливал. Она уже в Лиственничное, как домой, ходила. Думал, вообще приручу, а ее наши трактористы из ружья. Прямо вот сюда дробью попали. Прихожу с покосов, а она у меня под кроватью сидит. Чуть за ногу не цапнула. Это я искал, чем ее кормить, вот щук и обнаружил.
— Ты серьезно? — не понять, то ли из простого любопытства, то ли затем, чтобы по-начальнически пресечь такой непорядок, спрашивает Шурига. — А ну-ка, расскажи подробнее. То-то я вижу, слишком уж ты стал сговорчивый, а к чему — никак не соображу…
Минут через двадцать, прихватив фонарик, вместе с бригадиром отправились к навесу. Там по-прежнему полная тишина. Белеют у ящика пустые миски, рядом с ними валяются какие-то щепки, больше ничего не видно.
Мы постояли у загородки, несколько раз стукнули в доски, я даже пытался звать Роску, но она не появилась. Может, чуяла чужого и боялась показываться ему на глаза, а может, не доверял и мне.
Несмотря на то что ее поведение вполне объяснимо, мне вдруг стало очень обидно. Уж на минутку-то могла и выглянуть. Давно должна бы сообразить, что кроме добра я ей ничего не желаю. Обида долго не проходила, и когда, поужинав, убрали со стола, Шурига предложил отнести Роске объедки, я отмахнулся, сославшись на то, что она уже сыта и вообще в такое время я ее не кормлю…
Утром меня разбудил Шурига. В полушубке и запорошенных снегом валенках он стоял у кровати и осторожно дергал за угол одеяла:
— Вставай! Твоя росомаха тю-тю.
— Что-о? — не понял я бригадира.
— Вставай, сбежала твоя росомаха, говорю. Доски прогрызла и дай бог ноги.
Подхватываюсь, натягиваю валенки и, накинув куртку на плечи, бегу к навесу. Сзади с пыхтением поспевает Шурига.
У навесов все без изменений. Гундосят рассевшиеся на лиственнице вороны, сипят кедровки, тенькают синички. Даже ястребиная сова на месте. Сено разбросано по всему настилу, рядом с ящиком гора щепок, в самом настиле темнеет большая дыра. Наверное, одна из досок там оказалась с гнильцой, вот Роска ее и прогрызла. А я-то думал, что она в первую очередь постарается перелезть через загородку или в крайнем случае сделает в ней дырку.
Настил под навесом уложен на толстые схваченные коваными скобами бревна, и между ними ни одной щелочки. Значит, росомаха выбралась через боковой проем. Один из них выходит на кучу выбранной бульдозером земли, а вот другой совершенно открыт. Осенью через этот проем под навес залезал заяц, и я даже пытался его поймать. Там довольно просторно.
Бегу в конец навеса, уверен, что сейчас увижу Роскины следы, но там ничего такого нет. Просвет между землей и настилом занесло снегом. Везде лишь проложенные полевками строчки да давнишний нарыск охотившегося за ними горностая.
Я уже понял, что Роска никуда не убежала, а скорее всего промышляет под настилом полевок или устроила там гнездо и преспокойненько отдыхает. На всякий случай осматриваю снег с обратной стороны и вдруг замечаю там Роскины следы.
Ушла все-таки! Мне становится обидно до боли в сердце. Хотя давно был готов к тому, что Роска скоро покинет меня, и хорошо понимал, что это самый лучший выход для нас обоих, но, оказывается, все далеко не так просто. Я надеялся, что это случится значительно позже да и выглядеть будет несколько по-иному. Пусть бы она окончательно выздоровела, я бы ее хорошо в последний раз накормил, попрощался и беги себе куда хочешь. Но вот так, ни с того ни с сего…
Шурига что-то кричит мне с другого края навеса, но я его не слышу. Стою, гляжу на рассыпанные цепочкой следы, и на бригадира никакого внимания. Где же она пролезла? Подхожу ближе и вдруг вижу, что следы-то не Роскины! Сегодня ночью у навеса побывала хромая росомаха. Вот это событие так событие! Она-то как здесь оказалась? Может, Роска как-то там позвала ее. Хотя нет. Скорее всего Хромая наткнулась на мусор, который я собрал под кроватью и разбросал по следам Роскиного соседа. Она, конечно же, сразу узнала Роскин запах и отправилась на поиски. Нужно проверить, может, сюда заглядывал и Роскин сосед.
Проваливаясь в снегу чуть ли не по пояс, бреду рядом с отпечатками хромой росомахи, но больше ничьих следов не нахожу. Возвращаюсь к Шуриге и рассказываю о своем открытии. Тот и верит, и не верит:
— Ну ты даешь! Не может быть. Значит, эта, ну которую Чернышев ранил, здесь?
Ему не терпится поскорее выманить Роску из-под настила, но я здорово продрог и тороплюсь в бригадирскую. Переоделся, прихватил щуку покрупнее — и к загородке. Шуриге такое расточительство, конечно же, не понравится, но меня это ничуть не тревожит. Вчера снова поставил вентерь на гольянов, глядишь, какой десяток и поймается. А будут гольяны — будут и щуки.
Шурига стоит, прислонившись лицом к доскам, и ждет, когда появится Роска. Осторожно приоткрываю калитку, подтягиваю проволочным крючком пустые миски и оставляю здесь же, у настила, затем бросаю щуку рядом с дыркой.
Довольно долго все остается без изменения. Может, Роска услышала чужого человека и боится оставить свою утайку, а может, наелась полевок и вообще не покажется до самого вечера. Я принялся махать Шуриге рукой, чтобы он убрался подальше от навеса. Тот понимающе кивнул головой, потоптался на месте, изображая этим, что он как бы отправился в бригадирскую, и снова застыл на месте. Ну и Шурига! Он что, за дуру ее считает? Я снова начинаю сигналить бригадиру. В это время один из воронов снялся с лиственницы, сделал круг над навесом и плюхнулся рядом со щукой. Чуть постоял, обошел рыбину со стороны головы и принялся клевать. Скоро к нему присоединились и остальные вороны. Клюют споро, возят щуку по доскам, та под тяжелыми клювами подпрыгивает, словно живая.
Вдруг одна из птиц испуганно вскрикнула, все дружно замахали крыльями и стремглав кинулись прочь. В то же мгновенье из прогрызенной в настиле дырки показалась Роска.
У хищников плохое зрение, мы стояли притаившись за досками и даже дышали не в полную силу, но Роска хорошо видела и чуяла нас. Сначала она поглядела в мою сторону, затем повернулась к Шуриге, и снова ко мне. Словно хотела спросить: «А это кто?»
Чуть постояла, еще раз осмотрелась и неторопливо направилась к рыбине. Вид у нее был вполне нормальный и даже хромала совсем немного. Вот только движения ее были слишком уж осторожными, словно она в любую минуту ждала от нас какого-то подвоха. Наклонилась над щукой, обнюхала и скоро вместе с нею исчезла под настилом.
…Мы позавтракали, сыграли три партии в шашки и отправились за олениной. Я прихватил удочки, а Шурига ружье и лопату. Вчера я рассказал ему о встретившихся у вырубок оленях и куропатках, и бригадир надеялся хорошо поохотиться. Кроме того, он упрекнул меня за то, что я не обследовал до конца всю лавину. Вполне возможно, где-то под снегом лежит еще олень, а может быть, и не один. Я и сам подумывал об этом. Оленя-то я откопал у самого края лавины, все остальное даже толком не осмотрел. А может, в этом виноваты вороны? Больше ничего этих птиц в лавине не интересовало, я поверил им и не стал проверять.
Сразу за Лиственничным спустились к Фатуме. Почти вся ее середина покрылась окнами проталин. Везде видны следы выдр. Наверное, эти зверьки загодя узнали о предстоящей оттепели и явились на промысел. А может, здесь у них постоянные угодья и лишь на время сильных морозов они откочевывают к незамерзающим ключам. Нужно спросить Шуригу, когда выдры появились у Лиственничного в прошлом году. В ту зиму они возили сено с Сокжоевых покосов до майских праздников и, наверное, встречали выдр не один раз.
Хочу окликнуть бригадира, но тот вдруг остановился и поднял руку. Смотрю, куда он показывает, и… вижу росомаху. До нее метров сто, может, немногим больше. Застыла на бугорке рядом с лыжней и внимательно смотрит на нас. Без всякого сомнения, это Хромая. Я чувствовал, что она никуда не уйдет и будет вертеться у Лиственничного, и вот тебе, пожалуйста. Не успели отойти и километра, как она уже тут.
Шурига присел, обернулся ко мне и шепчет:
— Давай потихоньку назад. Попробуем и эту прикормить.
Я протестующе качаю головой и прошу отдать мне ружье. Тот делает удивленное лицо, но ружье все же снимает. Затем достает из кармана пачку патронов и тихо говорит:
— Держи. Только у меня одна дробь. Отсюда не достать.
— Достану, — отвечаю ему. — Еще и как достану! — Заряжаю ружье, все так же пригнувшись, огибаю Шуригу, затем поднимаюсь и стреляю в росомаху из обоих стволов. Я почти не целился, да если бы и попал, на таком расстоянии мелкая дробь даже ранить не может, а вот доверять людям отучит на всю жизнь. Росомаха взвивается на месте, в один прыжок слетает с бугра и бросается наутек. Торопливо перезаряжаю ружье, и еще два выстрела один за другим гремят вслед убегающему зверю.
Загадка
Дня через три после того, как Шурига возвратился в совхоз, я сидел у окна и наблюдал за желной. Этот большой красно-головый дятел решил разнести в щепки стоящую неподалеку от бригадирской избушку. Ничем от других она не отличалась, а вот не понравилась дятлу и все тут. Занимался он своим преступным делом с таким азартом, что я только диву давался.
Уцепится когтями в бревно, упрется жестким хвостом в другое, стукнет пару раз и слушает, что оно там, в середине, творится? По звуку он, наверное, определял, в какую сторону проделал ход зазимовавший в бревенчатой стене короед, а может, даже угадывал, тощий этот короед или жирный. Затем с озорным криком «Клить-клить-клить!» перемещался вверх или вниз и принимался долбить бревно. Удар следовал за ударом с удивительной силой и скоростью. Впечатление было такое, что там, за окном, кто-то работает отбойным молотком. Крупные, чуть ли не в ладонь щепки усеяли весь снег у избушки. Кое-где дятел навалил их целые холмики.
Наверное, дятла больше увлекала его разрушительная работа, чем короеды, потому что он ни разу не спустился вниз за оброненной добычей, и вскоре ею заинтересовались мои синички. Они тщательно изучали каждую щепку, подбирали короедов и удивлялись, как это их кормилец до сих пор не получил сотрясения мозга?
Внезапно у опушки подступившей к самому Лиственничному тайги мелькнула какая-то тень. Сначала мне показалось, что это глухарь. Вчера два токовика собирали камешки под обрывом у Фатумы, а один даже прогулялся по дорожке, которую я протоптал, бегая к реке за водой. Вот я и подумал на этих глухарей, но сейчас же вспомнил, что время-то позднее, вот-вот начнет смеркаться, и эти птицы давно забрались в лунки на отдых. Ведь глухари, куропатки, рябчики — те же куры. Поднимаются до восхода солнца, а спать ложатся чуть ли не с полудня.
Торопливо одеваюсь и бегу к деревьям, под которыми заметил промелькнувшую тень. Там уже никого нет, но на снегу хорошо видны росомашьи узоры. Роска! Кажется, она! Возвращаюсь к навесу и вижу, что в этот раз не ошибся. В сугробе под настилом темнеет большая нора. Роска легко пробила слежавшийся снег, выбралась наружу и кинулась наутек.
С чего это она? Вела себя тихо-мирно. Совсем недавно прямо на моих глазах съела кусок мяса, затем выбрала несколько травинок из охапки сена, которое я по совету Демьяныча подкладывал каждый день. Даже позволила почесать веточкой загривок. Правда, при этом она немного рычала, но от загородки не отошла.
Смотрю на пробитую в сугробе дыру и вдруг слышу — кто-то меня зовет. У бригадирской два парня. Один высокий, другой с меня ростом. В длинном я сразу же признал горбоносого, что стрелял в Роску. Он снял шапку, помахал ею над головой и крикнул:
— Привет, начальник! Ты здесь бока отлеживаешь, а мы полдня у Родникового, как папы карлы, вкалываем. Где у тебя трос? Трактор так засел, что мы свой порвали на куски…
Вечером в Лиственничное пришли четыре трактора с санями. Вместе с трактористами и грузчиками прибыли два плотника.
Они помогли грузить сено и остались в Лиственничном до весны. Шурига заключил с ними договор на строительство склада под удобрения. Сначала я обрадовался такому событию. Оба молодые, с виду вполне нормальные мужики. Не нужно будет одному заниматься приготовлением еды, заготовкой дров, топить баню и таскать в нее воду. В компании-то и батьку легче бить. И на рыбалку вместе сходим, и вечером есть с кем перекинуться словом.
Но дружбы не получилось. Они приехали на Колыму с единственной целью — заработать денег, а всякая там романтика им, естественно, до лампочки. Теперь в бригадирской то и дело слышалось: «Ты так много сахара не ложи. С такими потребностями мы и на штаны не заработаем!». «Ну и что с того, что воскресенье? Я тебе не Рокфеллер, чтобы рыбалкой развлекаться. Лучше я за это время пару копеек заколочу».
Я пробовал спорить с ними, но бесполезно. К тому же, стоило мне отлучиться из Лиственничного, как они затеяли на устроенном под обрывом галечнике охоту и убили трех куропаток. Этот галечник мне сделал Сережка. Подрезал берег Фатумы с таким расчетом, чтобы получился козырек, под который не залетает снег. Сюда часто заглядывали куропатки, глухари, всевозможная птичья мелочь. А эти, видите ли, устроили промысел. Кончилось тем, что я тайком подпилил бойки их ружья и оставил плотников в покое.
Здесь и произошло загадочное для меня явление. Вспугнутые выстрелом куропатки и глухари не появлялись у галечника одиннадцать дней. Не встречал в это время я и лосиных следов. На следующее же утро после того, как я вывел ружье из строя, на галечнике гуляла огромная стая куропаток, вскоре к ним присоединился и глухарь. Плотник ползает вокруг них с ружьем, а они никакого внимания. Только когда подобрался слишком уж близко — улетели.
А через час оба плотника метались по избушке, мастерили из гвоздей новые бойки и ругались на все заставы. Да и как им не ругаться? Рядом с Лиственничным только что заметили трех лосей. Стоят себе в тальнике и спокойно скусывают верхушки. Возле тальника удобная ложбина, можно подкрасться чуть ли не вплотную. Это же мясо!
С бойками, конечно, ничего не получилось, к тому же плотники подшумели лосей и те ушли в глубь тайги. Мои сотоварищи догадывались, кто виноват в их неудаче, и целый день со мною не разговаривали. Они сердито строгали бревна и без конца подсчитывали, сколько это говядины можно было получить из трех лосей? Меня же мучила совсем другая загадка: откуда птицы и звери проведали, что именно сегодня им у Лиственничного не угрожает опасность?..
Роска в поселке больше не появилась. Правда, я дважды встречал знакомые следы на старых вырубках, но Роскины они или какой-нибудь другой росомахи — не знаю. Это только в книгах легко отличить след от следа. В самом деле, если у зверя все пальцы на месте и ноги ничем не повреждены, разобраться трудно. Хромая росомаха тоже куда-то исчезла. А может, они ушли вместе?
Перевоспитанные воспитатели
Наконец закончилась суровая колымская зима. Растаял снег, открылись озера и реки, на склонах сопок расцвели голубые прострелы. Из далеких странствий возвратились трясогузки, коньки, соловьи, пеночки. В тайге стало шумно от птичьего пересвиста.
Нужно было готовиться к новому сенокосу, и Шурига отправил меня рубить остожья. Поставленные прямо на землю, стога подмокали и гнили. На остожьях же сено можно было хранить сколько угодно. Я решил начать с вырубки, рядом с которой бежит Хитрый ручей. От дому недалеко, а главное, представлялась возможность заняться тамошними хариусами. Очень уж они разномастные да и повадками не походят друг на дружку. Щука, скажем, зеленоватая, линь желтый, налим темно-серый. Назовите мне любую рыбу, и я скажу, на какую приманку можно ее поймать. А хариусы?
Хитрый ручей разделен на четыре отрезка-плеса. Между этими плесами нет даже маленькой канавки. От плеса к плесу вода течет под землей. И вот в каждом плесе свои хариусы. В первом — желтые, во втором — черные, в третьем — зеленые, вернее изумрудные, а в четвертом — бесцветные, словно выгоревшие на солнце.
Самый ближний к Фатуме плес мы называем Песчаным. Его дно покрыто желтым песком, вот и хариусы оделись там в золотистый наряд. Следующий плес Омут. Здесь много родников, большая глубина, под берегом какая-то пещера. Вода в Омуте непроглядная, а хариусы черные, да еще и с особинкой. Обыкновенные хариусы клюют утром, вечером, иногда в обед. Эти же только перед рассветом. Днем ты не соблазнишь их никакой приманкой. Да что там приманкой! Даже упавших на воду комаров и мошек никто не трогает.
Но как только забрезжит полоска зари — влезай на склонившуюся над омутом толстую лиственницу и пускай «мушку» по воде. Тотчас из самой глуби выметнется крупная рыбина, и, если рыболов удачлив, а леска надежна — быть ему с хорошим уловом.
Клев длится с полчаса, иногда чуть дольше. Потом прекращается почти на целые сутки. Становится светло, и рыба начинает замечать пристроившегося на лиственнице рыбака, а может, причиной тому что-нибудь другое. Догадываться можно сколько угодно, но никому еще не удавалось поймать «черныша», как мы называем живущих в Омуте хариусов, днем…
В сотне шагов от Омута плес Скалистый. В нем много водорослей. Здесь Хитрый прижимается к скалам, на вершинах которых вздымаются буйные шапки кедрового стланика. То ли от водорослей, то ли от стланика вода в ручье зеленого цвета, а хариусы — настоящие изумрудники. Словно селезни в весеннем наряде…
Верхний плес и плесом назвать трудно. Просто россыпь выбеленных солнцем камней, а между ними блестит вода. Под водой в самых глубоких местах лежит лед. Вода, конечно, холодная донельзя, но хариусов здесь, пожалуй, больше, чем в остальных плесах. Рыбки небольшие, светлые и очень проворные. Они могут перебираться из одной колдобины в другую прямо по камням. Клюют эти живчики бойко и так же проворно срываются обратно в воду. С пяти-шести поклевок только одна рыбка оказывается в ведерке. Поэтому-то в Верхнем плесе так много хариусов с рваными губами…
В июне солнце встает рано. Два часа ночи, а уже светло… Просыпаюсь, одеваюсь потеплее — и к Хитрому. Сегодня я ловлю «золотников» из Песчаного плеса. Эти хариусы особого доверия к «мушке» не питают. Целый день они копаются в мелких камешках, извлекая из-под них личинок стрекоз и поденок. Поэтому я ловлю их поплавочной удочкой. Наживляю на крючок пойманного здесь же ручейника и пускаю приманку к самому дну. Минут десять поплавок спокойно лежит на воде, потом исчезает. Происходит это в тот момент, когда меня отвлекает то ли прошумевший над головой табун уток, то ли раскричавшийся на ветке кулик-улит. Всего на мгновенье отведешь глаза — поплавка уже нет. Торопливо подсекаю, но «золотник» успел стянуть наживку и из воды вылетает пустой крючок.
Ругая не ко времени подвернувшихся птиц, забрасываю удочку с новой наживкой, и вскоре проворный «золотник» уже на берегу. Он и вправду словно облит солнцем. Даже на спинном парусе россыпь желтых пятен. Очутившись в ведерке, хариус возмущенно брызгается водой, затем успокаивается и начинает изучать новую обстановку.
Выудив семь «золотников», тороплюсь к Омуту. Я решил перевоспитать хариусов-чернышей и научить их ловиться в обычное для всех хариусов время. Ведь «золотники», «изумрудники» и «беляши» клюют, как и положено всем нормальным хариусам, а эти — только в предрассветную пору. Вчера я выпустил в омут двенадцать рыб со Скалистого плеса и столько же с Верхнего. А вот сейчас, отщипнув на память по маленькому перышку от пышного наряда «золотников», отправляю в гости к «чернышам» и представителей Песчаного плеса.
Интересно, как встретят «черныши» своих воспитателей? Первое время, конечно, будут сторониться, а потом привыкнут. А там, глядишь, вместе с новоселами начнут и комаров ловить. Может, «черныши» просто не знают, что можно неплохо поохотиться и в другое время? Отведу им дня четыре на знакомство и изучение обстановки, а потом устрою экзамены…
В субботу до полуночи разгружали удобрение, я здорово устал и проспал утреннюю зорьку. Омут встретил меня тишиной. Вся вода усеяна комарами, но нигде ни единого всплеска. У берега покачивается снулый хариус. По выщипнутому перышку узнаю «изумрудника». Интересно, отчего он погиб? Может, я неосторожно придавил рыбку, когда снимал с крючка? А вдруг причина в чем-то другом? Вдруг и остальные переселенцы погибли? День-два поплавали и уснули, а вороны с утками подобрали лакомую добычу. Только вот этот и остался.
Пробую ловить и на «мушку», и на поплавок — ничего не получается. Бросив удочку у лиственницы, отправляюсь домой.
Назавтра поднимаюсь затемно. С вечера упала густая роса, холодно так, что попрятались комары. Правда, один все же зудел и несколько раз садился на щеку, но я его не прихлопнул. Может, это какой-то особый морозоустойчивый комар и его пора заносить в «Красную книгу».
Омут маслянисто блестит среди деревьев. Кажется, из него скорее выудишь русалку или водяного, чем хариуса. Я совершенно не вижу скользящей по воде «мушки» и угадываю ее только по усам разбегающихся прямоугольником волн.
Тишину утра будит негромкий всплеск, и я чувствую заходившую на леске тяжелую рыбу. Вот это кочегар! С полкилограмма, если не больше! Бросаю его в мокрую от росы траву и снова опускаю «мушку» к воде.
Рыбы клюют одна за другой. Ах, как хорошо было бы продлить клев хоть на пару часов! Но нет, отгуляв положенные тридцать минут, хариусы ушли на дно и затаились. Понимая, что дальнейшая рыбалка бессмысленна, слезаю с лиственницы и сматываю удочку. Небо очистилось от туч, вокруг стало так светло, что я могу разглядеть пойманных хариусов. Некоторые успели уснуть, другие слабо шевелят жабрами и шлепают хвостами. Как я и ожидал, клевали одни «черныши». Штук пять настоящие великаны, остальные поменьше. Все рыбы — с широкими темными спинами, словно вывоженными сажей боками и такими же черными хвостами.
А это что? У одного хариуса надщипнут грудной плавник. Да это же «золотник»! Рядом с ним еще один меченый. Это «изумрудник» со Скалистого плеса. Но с чего они так почернели? Вот это воспитатели! Вместо того чтобы как-то там повлиять на «чернышей», они сами переняли и цвет, и повадки хозяев Омута…
Складываю и тех, и других в ведерко и, поеживаясь от холода, тороплюсь домой.
Последняя встреча
Сегодня последний день моей жизни в Лиственничном. Завтра уезжаю в совхоз, а оттуда в отпуск на «материк». Шурига просил меня задержаться, доказывая, что можно потерпеть еще месяц, но я решил ехать. Уже три года не был на родине, а здесь еще приболела мама.
Собрал вещи, узнал, когда будет машина в совхоз, и ушёл к Хитрому ручью.
Лето входило в свои права. Птицы перестали петь песни и занялись выращиванием птенцов. Вчера косари поймали глухаря. Он так вылинял, что не мог взлететь и бегал по тайге, как страус.
На плес прилетела первая стайка самочек куличков-плавунчиков. Значит, они уже отложили яички и отправились гулять до будущей весны, переложив ответственность за насиживание яичек и воспитание птенцов на самчиков. Давно отцвела голубика, у обочины дороги горят звездочки одуванчиков, над ними басовито гудят мохнатые шмели. Вчера на столе поварихи Любы появился букет ирисов. Вот-вот начнется сенокос.
На тонкой лиственничке у Скалистого плеса сидит куропач. Его куропатка притаилась в устроенном где-то неподалеку гнезде, а он бдительно ее охраняет. Заметив меня, куропач тревожно кричит: «Блек-блек-блек-блек!» и, описав в воздухе крутую горку, садится на выступ скалы. Хотя время куропачьих свадеб давно прошло, петушок все еще остается в брачном наряде. Снежно-белый фрак, ярко-коричневая манишка, в хвосте веер черных перьев. Жених да и только!
Я отгибал ветки, чтобы те не мешали забрасывать удочку, разматывал леску, а он сидел и переживал, не трону ли я его куропатку.
Поднявшееся солнце высветило плес до самого дна. Со скалы хорошо видно длинные хвосты водорослей, стайки плавающих между ними хариусов-«изумрудников», усыпанное обломками камней дно. Мое внимание привлек шум, раздавшийся где-то у Верхнего плеса. Кажется, там кто-то бродит. Но кто? Из наших сюда никто не собирался, заезжих рыбаков тоже не было. Может, там вообще не человек, а лось или олень? Когда их слишком уж допекает гнус, они забираются в воду по самую шею и долго отсиживаются на глубине.
Шум стих. Какое-то время над тайгой висела заполненная гулом комаров тишина, затем ее нарушил сильный всплеск. Впечатление такое, что там, на Верхнем плесе, в воду упал кусок скалы.
Стараясь ступать как можно осторожнее, крадусь между деревьев. Ветер тянет вдоль распадка как раз мне в лицо, если у воды зверь, то меня ему не учуять.
Над головой пролетела кедровка. Сейчас эта сплетница поднимет крик на всю тайгу и выдаст меня с головой. Но она даже не посмотрела в мою сторону. Кедровка торопилась к плесу, наверное, там и на самом деле происходило что-то интересное.
Наконец переплетенная ветками шиповника и красной смородины лощина осталась позади. Огибаю гриву поднявшегося на пятиметровую высоту кедрового стланика и, стараясь ступать поосторожнее, спускаюсь к плесу. Делаю шаг, другой, третий и от неожиданности замираю на месте. У плеса хозяйничает медведь. Мокрая шерсть на нем слиплась и блестит на солнце. Сейчас и морда, и лапы кажутся необычайно тонкими, а сам зверь каким-то слишком уж поджарым.
Покопавшись между камней, медведь забрался на огромный, в белых подтеках, валун и притих. В прошлый раз с этого валуна я удил хариусов-«беляшей». Может, медведь пришел сюда с той же целью. Но без удочки ему ничего не добыть. Плес возле камня довольно глубокий, а стограммовый хариус-молния — это тебе не застрявшая на перекате неповоротливая кета.
Медведь сгорбился на камне и внимательно смотрит в воду. На ближнем дереве сидят две кедровки и в свою очередь смотрят на медведя. Словно они в театре или цирке. Заплатили за билеты, устроились получше и ждут представления.
А медведь вдруг насторожился и как есть бултыхнул в воду. Брызги поднялись выше валуна, вода сердито заплескала о берег, а зверь погрузился в воду чуть ли не с головой. Но там не засиделся, торопливо выскочил на мель и принялся хлопать лапами по камням. Кажется, он кого-то ловит? Ага, поймал, забрал в рот, жует. Хариус!
Оказывается, комары здесь ни при чем. Медведь рыбачит! Надо же сообразить! Дождался, когда стайка подплыла к валуну, и плюхнулся на нее сверху. Рыбки, конечно, кто куда. Некоторые с перепугу выскочили на камни. А здесь поймать их нетрудно даже Потапычу. В этот раз он добыл всего две рыбки. Такому великану на один зубок, но медведь не расстроился, а может, на большее он и не рассчитывал. Отряхнулся, куснул зубами засевшую под мышкой блоху и снова полез на валун…
Он прыгал в воду еще раз пять или шесть. Но вот хариусы перестали подплывать к валуну. То ли они наконец сообразили, откуда грозит опасность, то ли удрали по перекату в соседний плес.
Не дождавшись хариусов, медведь спустился вниз, зачем-то понюхал воду и двинулся вдоль распадка. Я был значительно выше и хорошо видел его. Шел медведь не торопясь, несколько раз останавливался и общипывал верхушки кипрея. В эти минуты он напоминал… корову. Да-да! Возвращается себе буренка из стада и на ходу пощипывает травку.
Вел медведь себя на удивление беспечно. За все время он ни разу не осмотрелся и не прислушался. Вот уж действительно властелин колымской тайги.
Я крадучись отправился следом. Интересно все-таки понаблюдать за косолапым. И здесь я понял, что поторопился с выводами. Медведь не так уж и беспечен. Он ни разу не остановился за выступом сопки или у группы густых деревьев, а выбирал для этого открытые места. Стою за выворотнем и жду, когда медведь скроется за деревьями, затем выскакиваю из укрытия и, вприпрыжку добежав до этих деревьев, осторожно выглядываю. Мне кажется, что медведь должен быть совсем рядом, а он уже кто его знает где. Стоит, что-то вынюхивает. И задерживается там очень надолго.
Получается, хоть и ходит медведь густой тайгою, да все равно придерживается открытых мест. И ни охотнику, ни другому более сильному зверю к нему не подобраться.
У невысокой каменной гряды дорогу мишке перегородила поваленная лиственница. Он уже занес было лапу, чтобы перелезть через нее, как вдруг навстречу выбежал медвежонок. Малыш остановился напротив медведя и принялся подпрыгивать. Играет он, что ли?
Я не мог как следует рассмотреть малыша, мешал куст карликовой березки. Успел заметить лишь, что медвежонок значительно светлее медведя и слишком уж тощий.
Взрослый медведь не проявил к малышу никакой симпатии. Он зарычал и замахнулся лапой, словно намеревался его ударить. Я оглянулся. Сейчас можно было бы подкрасться поближе, но между мной и зверями совершенно открытое место. Чуть выше тянется грива кустов кедрового стланика. А что, если рискнуть?
Почти на виду у зверей проскакиваю лощину и ныряю под прикрытие густых тяжелых веток. Кажется, меня не заметили. Пригибаюсь, где на коленях, а где и на четвереньках добираюсь до края гривы. Теперь я как раз над медведями. Слышу, как они рычат и как гремят камни под их лапами.
Откровенно говоря, мне очень страшно. Я испугался еще когда увидел медведя на Верхнем плесе. Но слишком уж его мирный вид, а главное, желание рассмотреть таежного владыку поближе заставили меня следовать за ним. Постепенно меня захватил какой-то азарт. Я дрожал от возбуждения и в то же время, наверное, сильно нравился самому себе, потому что очень хотелось, чтобы в эту минуту меня видела мама. Мне и в голову не приходило, что на самом деле такая картина вряд ли порадовала бы ее. Скорее всего с мамой случился бы сердечный приступ.
Осторожно приподнимаю голову и выглядываю из-за кустов. Медвежонок куда-то исчез. Медведь все так же стоит ко мне спиной и дергается всей тушей. Шерсть на горбатом загривке успела высохнуть и дыбится, как на дикобразе. Вот он снова взмахнул лапой, и тотчас из-за лиственницы выскочил медвежонок. Ой! Да это же не медвежонок, а самая обыкновенная росомаха! Она темней и поджарей моей Роски, но в то же время в ее облике кроется что-то ужасно знакомое. Правда, эта слишком уж сердита. Сгорбилась, опустила голову к самой земле и глядит на медведя исподлобья. Моя Роска так никогда не сердилась. Ну порычит, прыгнет несколько раз, щелкнет зубами и успокоится. Помню, как она лежала под кроватью и смотрела на меня. Тихая-мирная, словно самая взаправдашняя домашняя киска. А эта — комок злобы.
Росомаха сорвалась с места, обогнула поваленную лиственницу и подскочила к медведю сзади. Тот стремительно развернулся и бросился на росомаху. Наверное, мишка схватил бы ее, но она нырнула под толстую ветку и медведь только царапнул когтями по дереву. На землю посыпались ошметки коры, медведь взревел, а росомаха уже выскочила с другой стороны и оказалась за спиной медведя. И на этот раз медведь не успел встретить росомаху, а та цапнула его за гачи. Косолапый рявкнул, рванул лапами мох и припустил за удирающей росомахой. Та бежала, прижав круглые уши и длинный мочалистый хвост.
На пути зверей случился выворотень. Росомаха проворно юркнула за него, а медведь проскочил мимо. Теперь она повернулась ко мне правым боком, и я увидел на нем так знакомое круглое светлое пятно. Роска! Да это же моя Роска!
Забыв обо всем на свете, я проломился через кусты и заорал сколько духу:
— Роска! Роска!
Росомаха резко развернулась и застыла на месте, а медведь, который только что дыбился и размахивал лапами, опустился на четвереньки и кинулся наутек. Он пробил густые ольховниковые заросли, выскочил на склон сопки и замахал прямо к ее вершине. Он мчался широкими прыжками, не останавливаясь и даже не оглядываясь. Я сейчас и не помню, куда он убежал, потому что мое внимание было приковано к Роске.
Она все так же стояла у выворотня и смотрела на меня. Я не узнал ее раньше потому, что она успела вылинять. Новая шерсть была темнее и короче. Поэтому-то росомаха мне и показалась слишком худой.
Без сомнения, и она признала меня, иначе давно бы убежала следом за медведем. Но, с другой стороны, никакой радости от встречи со мною она не проявила. Стоит и смотрит. Мне ужасно хотелось приласкать Роску или хотя бы подойти поближе, но только я ступил к ней, как она опасливо покосилась и отошла в сторону.
Поняв, что любая попытка приблизиться потерпит неудачу, я опустился на мох и стал молча следить за росомахой. Та сразу же успокоилась, обнюхала траву у выворотня и направилась к лиственнице, возле которой встретила медведя.
Только теперь я заметил, что у дерева что-то белеет. Точно. Там лежит какое-то животное со светлой шерстью. Поднимаюсь и осторожно направляюсь к валежине. Теперь мне хорошо видно, что там лежит снежный баран. Увенчанная улитками рогов голова откинута в сторону, на шее алеет кровавое пятно. Как росомаха сумела добыть это быстрое, обитающее среди обрывистых скал животное — не представляю. Скорее всего толсторог заболел и спустился в распадок в поисках целебной травы. А может, где-то здесь у снежных баранов водопой.
Хотелось подойти поближе, но Роска вдруг повернулась ко мне и зарычала. Ее вид не предвещал ничего хорошего. Вздыбленная шерсть, злые глаза, выглядывающие из-под приподнятой верхней губы желтые клыки.
Только что она отстаивала свою добычу перед медведем, сейчас не уступит ее и мне. Я медленно отошел и, стараясь ступать как можно осторожнее, направился к Скалистому плесу.
Перед поворотом к плесу я оглянулся. Роска стояла на валежине и внимательно смотрела мне вслед. Я поднял руку и крикнул:
— До свидания, Роска!
А над сопками плыло теплое июньское солнце. Где-то скрипела кедровка и постукивал дятел. Тайга шумела таинственно и мудро.




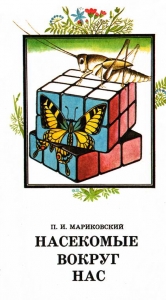



Комментарии к книге «В краю танцующих хариусов. Роска», Станислав Михайлович Олефир
Всего 0 комментариев