От автора
Альме, которая притерпелась к многоножкам и ко мне
Так как мне вовсе не хотелось превращать свое повествование в нескончаемый бессвязный монолог, изобилующий сплетнями, личными предрассудками и доморощенными анекдотами, я совершенно сознательно свел все, что касалось нас лично, к сухой скороговорке, сообщая только об отъезде или прибытии на место. Джунгли и обитающие там животные — вот то, ради чего мы отправились в путь и что меня, прежде всего, интересовало. А сопутствовавший этому пестрый калейдоскоп волнений, удовольствий, разочарований и забот, несомненно, для нас немаловажных, на всех остальных, я уверен, только нагнал бы невыносимую скуку. Во всяком случае, такие подробности могли пригодиться лишь для фельетона газетного борзописца, который бы всех нас сильно недолюбливал, и меня в первую очередь, вот там все это было бы описано с подлинной объективностью.
Однако рассказ, лишенный какой бы то ни было последовательности, может вызвать у читателя раздражение, особенно если в нем то и дело возникают и неожиданно исчезают некие таинственные личности, обозначенные только именем или прозвищем. Чтобы избежать обеих нежелательных крайностей, я предлагаю карту наших странствий в самом примитивном исполнении и сопровождаю ее нижеследующим лаконичным пояснением.
Мы с женой отбыли из Англии за два дня до рождественских праздников, в конце 1936 года, и прибыли на Ямайку как раз к каникулам. Затем мы отправились бродить без маршрута по Вест-Индии, наслаждаясь ее красотами, однако таская за собой повсюду ящик для сбора коллекций. Мы старались отдыхать, насколько это возможно для страстного зоолога и не менее страстного фотографа, в стране, где каждого из них манит множество интереснейших объектов. В феврале мы добрались до острова Тринидад с набитым битком ящиком для коллекций.
Больше мы были не в силах сопротивляться. Слишком неодолимо манила нас страна, где было такое изобилие невиданных зверей, особенно ее джунгли, перед которыми мы не могли устоять. До нас как раз дошли слухи о том, что там намечаются некоторые зоологические исследования. Иного предлога нам и не понадобилось, и мы, не мешкая, запаслись самым необходимым для жизни в джунглях. Теперь мы искренне считаем, что именно тогда и начались наши настоящие каникулы.
На Тринидаде мы провели всего два месяца — жили в палатке почти на самой вершине горы в государственном лесном заповеднике, занимающем большую часть северных нагорий. В этих лесах никто не живет, только изредка туда забредают охотники-одиночки с лицензиями. Это последний клочок первозданной тринидадской земли, какой она была до Колумба. Вместе с нами там обитал тринидадец по имени Вернон Диксон Каприата, в чьих жилах текла кровь англичан, французов, испанцев, негров и, без сомнения, карибских индейцев. Смею вас уверить, эта удивительная личность обладала всеми наивысшими достоинствами своих предков. Он был лучшим из охотников, каких нам приходилось встречать в Новом Свете, и самым расторопным помощником во многих других делах. Если вы собираетесь вести такую же работу в тех местах, советую вам запомнить его имя.
Когда мы наконец спустились с горных высот и ознакомились с ожидавшей нас почтой, выяснилось, что нужно добыть несколько очень редких видов животных на Гаити — а мы как раз туда и собирались! Более того, научные общества, которым были нужны эти животные, весьма великодушно соглашались оплатить расходы по их отлову. Итак, мы распрощались с Тринидадом и отправились через Кюрасао на Гаити, куда и прибыли в конце мая.
Мы провели там большую часть времени, собирая рептилий, змей и прочую мелочь, о которой я писать не буду. Положа руку на сердце — ни окружающая местность, ни наша добыча не интересовали и до сих пор не интересуют нас так, как жизнь джунглей. На Гаити нам дважды сказочно повезло: во-первых, мы получили, практически даром, настоящий «Роллс-ройс», а во-вторых, свели знакомство с неким Фредом Олсопом, который стал нашим постоянным спутником и сотрудником. Англичанин, он прожил много лет на Гаити. Бесчисленные, не поддающиеся определению причины связали нас троих крепчайшей дружбой, так что Фред решил провести свой отпуск вместе с нами, в путешествии в Сосновые леса. Привело это, попросту говоря, к тому, что Фред, увлеченный зоологическими открытиями, бросил прежнюю работу и связал свою жизнь и судьбу с нами.
Примерно в то же время в Соединенных Штатах вышла моя книга [1], где были описаны самые веселые эпизоды нашей экспедиционной жизни в Западной Африке, и на нас свалились деньги, совершенно не нужные в жизни бродячих зоологов. Это неожиданное богатство, притом, что до обычных мест, где принято сорить деньгами, было далековато, привело к тому, что я составил собственный план применения этих богатств. Экспедиция в Западную Африку проводилась на средства научных обществ, которые оплатили все расходы. Добычу экспедиции можно разделить на три части: первая — коллекция из нескольких тысяч экземпляров, предназначенная для изучения в музеях; вторая — оригинальные исследования, впоследствии записанные и опубликованные в целом ряде научных журналов, в том числе сведения, послужившие исключительно ценным вкладом в познание животного мира; и вот теперь третья часть — книга.
Мне казалось вполне естественным вложить доходы от предыдущей экспедиции в новую вылазку в джунгли и продолжить те исследования, которые принесли уже много интересного.
Как бы там ни было, Альма, Фред, Ролле и я отбыли из Гаити в Нидерландскую Гвиану в конце 1937 года. Я выбрал эту страну по нескольким причинам. В Британском музее, насколько я знал, нет коллекций из этих мест! Я обнаружил, что эта территория вообще почти не изучена и покрыта джунглями, где мы сможем продолжить исследования, подтверждающие теории, сложившиеся у нас во время работы в джунглях Западной Африки. Наконец, нам всем очень нравились голландцы.
Мы прибыли в столицу, Парамарибо, в начале января 1938 года и покинули страну перед самым рождеством того же года. Два месяца мы провели в Парамарибо, создавая запас экспедиционного оборудования, чтобы было чем оправдать расходы за весь год. Затем мы предприняли серию коротких вылазок (некоторые из них описаны ниже), стараясь охватить как можно больше интересных мест. Точная последовательность или продолжительность этих походов не имеет значения; интересны только особенности ландшафта и животные, которых мы нашли. Мы приняли в свою компанию еще двух местных молодых людей — Андре и Ричи, — они взяли на себя соответственно заботу о технике и о домашнем хозяйстве. Это были славные, хотя и довольно суматошные ребята, с особым чувством юмора — его мы полностью оценили только много времени спустя. Их главным достоинством была молодость. Они оставались всегда веселыми и не теряли бодрости духа ни при каких обстоятельствах; как бы туго ни приходилось, эти ребята, казалось, получают такое же удовольствие от всей этой жизни, как и мы сами.
Вот так и получилось, что щедрая поддержка американских читателей помогла организации серьезного научного предприятия, которое, насколько можно судить по предварительному результату, принесет очень ценные материалы. Нашей целью был не просто сбор множества заспиртованных животных. Главной нашей целью было изучение животных в природных условиях, составление на месте подробнейших описаний их внешнего вида и поведения, с тем, чтобы впоследствии можно было сравнить эти данные с экспонатами музеев и материалами специальных статей. Несколько лет назад мы разработали некоторые методы и приемы сбора таких данных, что позволило наглядно показать их выгодное отличие от музейных обработок. Это чрезвычайно важно для научного описания и классификации животных, то есть для раздела зоологии, носящего название «систематика». Наша работа имеет более широкое научное и даже экономическое значение.
Но книга, которая перед вами, — отнюдь не научный трактат об оригинальной методике или результатах нашей работы в поле. Научные материалы, детально излагающие все специальные аспекты этой работы, в свое время будут опубликованы в соответствующих изданиях, что позволит заинтересованным специалистам полностью ознакомиться со всеми находками и открытиями. Но на это понадобится время. Например, самые важные результаты экспедиции в Западную Африку только сейчас выходят в свет. А пока что мне придется просить специалистов дожидаться подобных публикаций и извинить меня за то, что некоторые наблюдения кажутся случайными и не подкреплены необходимыми, но отсутствующими здесь выводами.
Эту книгу надо воспринимать как рассказ о менее серьезной — бытовой и человеческой стороне экспедиционных приключений, но, поскольку повествование ведется от лица зоолога, в ней содержатся также результаты наших трудов, хотя и предварительные. Снова, как и в прежней книге, я привожу научные названия множества видов животных, чтобы дать вам возможность впоследствии получить о них более точные сведения. Латинские названия — единственные, под которыми эти животные известны; они не имеют аналогов на английском языке; я лично определял всех животных, латинские названия которых привожу, поэтому полностью отвечаю за их классификацию. Но мне хочется добавить, как бы это ни походило на жалобу, что научные сведения о животных Южной Америки находятся в весьма плачевном состоянии, и нам при дальнейшей обработке собранных коллекций, и в частности фауны региона, придется вносить множество дополнений. Но та информация, которую мы даем здесь, выверена настолько точно, насколько позволяет уровень современной науки.
Никто не может позволить себе надеяться на полный успех зоологической экспедиции. Куда бы вы ни отправились и чего бы вы ни достигли, домой вы неизменно возвращаетесь с печальной мыслью о том, чего не сумели увидеть илине успели сделать. Честно говоря, описанные здесь приключения изобиловали неудачами, намного превышавшими скромные успехи. Ряд особых заданий, ради которых мы и отправились в путь, нам выполнить не удалось, в этом вы сами убедитесь, читая книгу. Однако и то, чего мы достигли, безусловно, оправдало затраченные усилия; замечу, что для науки отрицательная информация не менее важна, чем новые открытия.
С чисто человеческой точки зрения мы получили очень много. Начать с того, что мы провели много месяцев кряду в состоянии небывалой радости и счастья, а в наше время слишком часто забывают, что это дорого стоит. Кроме того, мы оказались владельцами крайне необходимого для нашей дальнейшей работы снаряжения, которое мы своими руками усовершенствовали и отлично приспособили к делу. Наконец, мы сделали еще один шаг вперед в чрезвычайно значительных и интересных исследованиях, какими бы маловажными они ни представлялись со стороны.
Название книги может показаться читателю необдуманным, и я попытаюсь объяснить его возникновение. Прежде всего, слова «сокровища», да еще «карибские», непременно вызовут в вашем воображении дублоны, пиастры и прочую пиратскую добычу. Тем не менее, и автору, и издателям хотелось напомнить о связи новой книги с предыдущей, которая называлась «Сокровища животного мира», где речь шла о таких же поисках драгоценных для науки богатств. Слово «карибские» столь же многозначно, как и слово «джунгли». Разные люди вкладывают в него совершенно различные значения. Карибские земли — по сути дела земли карибских индейцев, которые обитали во всех Гвианах, а оттуда распространились на Тринидад и большинство островов Вест-Индии. В наши дни «карибские» стало синонимом Вест-Индии, к которой, строго говоря, не относятся ни Гвианы, ни Тринидад, хотя они считаются вест-индскими владениями Англии, Нидерландов и Франции [2]. Поэтому страны, где мы побывали, проще всего обозначить одним словом — «карибские». Кроме того, это удивительно красивое и выразительное слово.
А. Т. Сандерсон
[1] Речь идет о книге «Сокровища животного мира». На русском языке она была выпущена издательством «Мысль» в 1985 году. (Примеч. ред.)
[2] Ныне вместо Британской Гвианы существует независимое государство Кооперативная Республика Гайана (входит в Содружество наций), вместо Нидерландской Гвианы — независимый Суринам. Гвиана (Французская) остается владением Франции. (Примеч. ред.)
Часть первая. Из Тринидада
В джунглях
Растительность, пекари и мапипи
Наше нехитрое жилье на горе Арипо в Тринидаде было очень разумно устроено. Не считая палатки и навеса из пальмовых листьев, где мы готовили пищу, у нас была еще не пробиваемая дождем m'jupa, то есть лесная хижина, где мы работали и ели. К ней примыкала расчищенная площадка, а за ней стоял аккуратный маленький домик с каменными стенами и крышей из пальмовых листьев. Ее абсолютно вертикальные стены, гладкие и безукоризненно параллельные друг другу, создала Природа без малейшего вмешательства человека. Узкая дверь и три ступеньки, спускавшиеся к площадке, были такими же творениями природы, как и деревья, стоявшие вокруг. Каприата добавил только крышу и раздобыл три камня для очага, чтобы было где готовить пищу; интерьер он искусно украсил ярким, изумрудно-зеленым мхом и двумя пучками висячих орхидей. (Я знаю в Англии две семьи, которые жили в еще более тесных домишках, чем этот, и обстановка там была столь же скудная, а уж о красотах интерьера и речи нет. Вот вам и достижения цивилизации.)
Как-то раз в тени нашего домика мы занимались разбором и сортировкой крохотных улиток. Был полдень, и лес был залит мощными потоками солнечного света; сверкающие зеленые и золотые мухи сновали в воздухе, неизвестные птицы монотонно перекликались на неведомых языках, и кэрри из курицы с рисом аппетитно булькало на огне, источая ароматный парок. В такие минуты тропический лес словно залит слоем тишины высотой в четыре фута.
Вот почему мы с Альмой мгновенно подняли головы, услышав доносившуюся из домика Каприаты слабую возню. Мы подождали, прислушиваясь. Потом услышали тихие-тихие звуки — словно лилипутская собачка с аппетитом грызет косточку. Как можно осторожнее мы вылезли из-за стола и стали подкрадываться к двери домика согласно заранее разработанной стратегии наступления. Хруст прекратился, послышался шорох, и что-то как будто двинулось с места. Альма в этот момент уже заглянула вовнутрь и принялась отчаянно размахивать руками. Я подобрался поближе и тоже заглянул в домик. Поначалу я ничего не заметил, потом что-то там зашевелилось.
На полу сидела маленькая ящерка вида Gonatodes ocellatus, которых местные жители окрестили «собачками». Она была красновато-коричневая с ярко-желтыми полосками и пятнышками, обведенными черным, у нее были черные как смоль лапки и громадные золотые глаза. Это было само по себе прелестное и забавное существо, но нас поразило другое: своими острыми зубками этот малыш вцепился мертвой хваткой в черного скорпиона, который был в длину не меньше и куда объемистее самого охотника. Впрочем, оба воина терпели адские мучения: ящерка отгрызала хвост скорпиону, а тот старался не остаться в долгу. В тот момент, когда мы появились на поле боя, силы примерно уравновесились, а так как скорпион уже лишился своего наиболее опасного оружия (с тыла, так сказать), то я рискнул схватить обоих драчунов разом.
В мгновение ока они выпустили друг друга и вцепились в мою руку, так что мне удалось стряхнуть их только резким, сильным движением. Ящерица звучно шлепнулась на покрытую мхом стену и словно прилипла к ней. Мы, не мешкая, завладели скорпионом и стали подбираться к ящерице, но она и не подумала удирать в какую-нибудь трещину, а повернулась к нам и оскалила зубы! Я попытался ее схватить, но она свирепо вцепилась мне в руку. Никогда мне не приходилось видеть маленьких ящериц, которые бы так себя вели. Меня поразила ее смелость, и, хотя она не могла укусить больно своими мелкими зубками и слабенькими челюстями, мне пришлось повозиться, пока я ее отцеплял, чтобы не повредить ее непрочную шкурку. Ящерка была не только бесстрашная, а еще и умница — сначала она незаметно бочком отступала в сторонку, а потом нырнула в глубокую трещину стены у самого пола. Мы заглянули туда — она сидела, припав к земле, и грозно разевала пасть.
Мы сломали длинный прут и попробовали выдворить ее оттуда, но ящерка отступала все дальше и глубже, поэтому мне пришлось, пока Альма тихонько подгоняла ее прутиком, обежать вокруг дома и сторожить у щели, откуда она могла выбраться наружу. Стена утопала в густой траве, а внизу скопилась куча сухих громадных листьев: я принялся расчищать эту кучу, чтобы добраться до щели. Тут я неожиданно нащупал рукой что-то очень теплое. На ощупь оно и смахивало на лысую голову человека с повышенной температурой, хотя мне, признаться, не приходилось в жизни сталкиваться с таким редким явлением. Но вот кончик прута, которым орудовала Альма, высунулся наружу и зашевелился среди травы. В ту же минуту нечто вынырнуло из глубины — это была небольшая головка с подрагивающими ушами и парой любопытных черных глаз; высунувшись наружу, она обнюхала прут. Потом опять скрылась. Я не успел ни опомниться, ни сообразить, кто это был, когда зверек вылез из укрытия и оказался весь на виду.
Зверь был маленький, округлый и крепко сбитый. Он протрусил по площадке на цыпочках, чихая, тряся головой и хлопая ушами — точь-в-точь как поросенок. Он был облачен в панцирь и оказался броненосцем Tatusia novemcincta, хотя по виду совершенно не походил на свои изображения в книгах.
Я спохватился и бросился в погоню, но зверек и не думал удирать: он завернул за палатку, негромко похрюкивая себе под нос. Я опрометью помчался за ним — прошло не больше двух секунд, — а малыш как сквозь землю провалился! Я стоял в нерешительности, озираясь и соображая, куда он мог подеваться, пока прямо в меня не полетела земля, с силой выброшенная из палатки. Я нырнул под походные раскладушки, протискиваясь на животе туда, где «тату» с непостижимой скоростью углублялся в мягкую почву под стенкой палатки. Альма примчалась на помощь, я завопил, чтобы она перехватывала его снаружи, но зверек в считанные секунды выбрался из палатки и трусцой направился через площадку, так что Альма не успела его перехватить. Малыш взбежал по трем ступенькам к двери домика Каприаты, приостановился и негромко, испуганно и пронзительно хрюкнул. Оказывается, Каприата со связкой хвороста уже вернулся в домик через заднюю дверь.
Теперь «тату» был с трех сторон окружен врагами, а все остальные пути для отступления перекрывали каменные стены. Он застыл в недоумении, затем галопом поскакал прямо на меня, остановился, на минуту стряхнул презренную трусость и принял мгновенное решение. Развернулся, как гоночный автомобиль на гаревой дорожке, и ринулся в дыру, из которой вылез вначале. Не успели мы опомниться, как он уже протиснулся между стеной и большим камнем и был таков. Мы расчистили все пространство вокруг дома и откатили несколько больших камней, пока не докопались до скального основания. Но хотя было слышно, как маленький беглец похрюкивает и скребется где-то внизу, нам так и не удалось ни увидеть его, ни добраться до его убежища. Я не очень-то огорчался, честно говоря: за те минуты, что он был у меня на глазах, я понял, какое это славное, безобидное маленькое существо, а жизнь у него и без нас ужасно беспокойная, полная неожиданностей.
Кэрри к тому времени превратилось в нечто совершенно несъедобное. В джунглях все самое интересное случается как раз в обеденное время.
Гора Арипо сложена известняком, породой, которая с виду кажется очень прочной и плотной. В сущности, так оно и есть. Только вот к воздействиям погоды известняк гораздо чувствительнее, чем любая другая порода. Известняк неплохо растворяется в дождевой воде, которая в атмосфере отчасти насыщается углекислым газом и приобретает свойства слабой кислоты. По этой причине дождь может воздействовать не только на поверхность известняка, но и на его самые глубокие слои, проникая туда по трещинам и щелям. Трещины постепенно увеличиваются, их стенки разъедает вода, и, в конце концов, с течением времени под землей образуется лабиринт, подобный сотам в улье. Разумеется, в тех странах, где льют проливные дожди и в воздухе много углекислого газа, процесс идет гораздо быстрее. Вода постепенно просачивается, протекает все глубже, образуя небольшие подземные полости и ручейки. Ручейки в свою очередь собираются в подземные потоки, реки и озера, продолжая разрушать известняк и образуя все более обширные полости. В результате под твердой на первый взгляд поверхностью земли во всех направлениях разбегается прихотливая сеть пещер, коридоров, пропастей, сифонов и колодцев.
Время идет, и вода прорывается все глубже, оставляя бесчисленное количество сухих пещер в верхних горизонтах. Гора Арипо вся источена пещерами самого разного вида и конфигурации, и, если с нее снять всю растительность, она предстанет перед нами испещренной беспорядочно разбросанными круглыми оспинами. Наверху лежат крупные обломки породы, затем — глинистая почва, нашпигованная обломками, еще ниже — скальная порода, изрезанная на отдельные блоки трещинами, которые неустанно разъедает вода, и, наконец, просто каменный массив, пронизанный полостями всевозможного вида. Вот каков был тот камень, на котором мы построили свой дом.
Вся территория вместе с горой Арипо и несколькими другими, пониже, образующими северный хребет, густо заросла девственными джунглями. Лесные дебри, удаленные не более чем на двадцать миль от первоклассных автострад, по которым ежегодно проносятся мимо тысячи туристов из Соединенных Штатов, куда более изолированы от цивилизации, чем дебри Африки, и образуют своеобразный растительный мир — самый прекрасный из всех, какие мне случалось видеть на своем веку. Лес здесь невысокий, и лиственный полог не слишком густ — видимо, поэтому внизу буйно разрослась всякая растительность. Землю, каменные завалы, стволы деревьев вверх до того места, где они переходят в толстые сучья, сами сучья и ветки до последнего кончика, даже листья, каждое ползучее и вьющееся растение, будь оно обвито вокруг чего-нибудь или просто отвесно свисающее вниз, — все заполонили бесчисленные паразитические растения, от крохотных пухлых звездочек размером с пуговицу на рубашке до гигантских пучков громадных зеленых листьев: ни дать ни взять — капуста-переросток, только кочаны диаметром футов десять!
Сквозь эту массу зелени пробиваются, занимая все промежутки, диковинные вертикально стоящие растения под названием бализё (Heliconia bihai), родственные бананам и внешне похожие на них, только на месте малоприличных лиловатых выростов, которые бананы выдают за свои цветы, у этих растений находятся самые невообразимые образчики авангардного искусства, созданные самой природой.
Кроме бализё в этой битком набитой оранжерее теснятся во множестве другие странные растения, а два вида доминируют в ландшафте. Это пальма анаре (Euterpe pubigera) и дикая тания; оба растения настолько удивительны, что я попрошу вас подождать, пока мы снова на них не наткнемся, в буквальном смысле слова, что, кстати, крайне болезненно.
После полудня стояла удушающая жара, и в середине дня Каприата объявил, что вся вода кончилась. Я решил пойти вместе с ним, чтобы запасти побольше воды и покончить с этим нелегким делом. Мы жили на одной из вершин гребня, с двух сторон обрывавшегося в глубокие ущелья. Вся местность была пропитана влагой от ежедневных дождей, но проточной воды, кроме двух журчащих ручейков, на дне этих ущелий не было. Чтобы набрать запас воды на день, приходилось несколько раз спускаться вниз с ведрами без крышек — других у нас не было. Дело это в высшей степени нудное, поэтому мы подошли к краю обрыва в мрачном молчании.
Вдруг Каприата встал как вкопанный и прислушался. Я поначалу ничего не услышал, но немного спустя до меня донесся звук, который можно сравнить разве что с тихим хныканьем, — он шел из густых зарослей пальм и таний на самом дне ущелья. Поскольку звуки, которые издают животные в природных условиях, ни в какой мере не соответствуют их внешности, я оставался в полном неведении относительно того, кто их издает.
— Кванки! — прошептал Каприата, но для меня это был пустой звук; я еще слишком мало жил в этих местах и не разобрался в названиях местных животных.
— А на кого они похожи? — спросил я.
— Тш-ш-ш! — предостерегающе зашипел он. — Они очень хитрые.
— Может, сбегать за ружьем? — спросил я.
— Да, пожалуйста, сэр, а я постерегу их.
Я поставил ведра на землю и со всех ног бросился обратно в лагерь. Когда я вернулся, запыхавшись, Каприаты на месте не оказалось. Животные все еще были внизу, и производимый ими шум стал сильнее. Я стал оглядываться — нет ли следов нашего великого охотника? Он согнул и переломал множество мелких веточек, и я больше по догадке, чем по следам, обнаружил наконец его на верхушке высокой скалы, круто обрывающейся в ущелье. Я вскарабкался наверх и протянул Каприате ружье.
— Ничего не вижу, — прошептал я. — А если бы и видел, то не разобрал бы, что это; и я нипочем ни в одного кванка не попаду.
— По-моему, они уходят вниз по долине, — сказал он. — Куда ветер дует?
— Вверх по долине. А они большие? — не смог я удержаться от вопроса.
— Прошу вас, зайдите с верхнего конца, сэр, — умоляюще сказал он, словно не расслышав моего вопроса.
Я стал забирать дальше по ветру, вдоль края ущелья, двигаясь со всей доступной мне скоростью и не имея ни малейшего понятия, что за дичь я скрадываю. Я был вооружен только мачете, но не слишком беспокоился — крупные и опасные звери в этом регионе не водятся. И все же я пожалел, что не попросил Каприату хорошенько запомнить цвет моей рубашки и не стрелять, не присмотревшись, — тогда я еще не знал, как виртуозно он владеет ружьем.
Джунгли кажутся великолепными, когда любуешься ими, лежа в гамаке, но когда нужно быстро и бесшумно продираться через них, сталкиваешься с множеством неодолимых препятствий. Под ногами — сплошной ковер из сухих веток, которые щелкают, как батарея старомодных электрических выключателей, стоит только опустить на них ногу. Затем обнаруживаешь повсюду ямы и исключительно зловредную разновидность пальм (Maximiliana caribea), которую здесь называют кокорите. Эта тварь — а я убежден, что в ней живет жестокая и беспощадная душа, — растет купами. Каждый прямой, высокий ствол сплошь покрыт щетиной из тонких, как иголки, шипов длиной от трех до шести дюймов, черных, твердых и упругих, как металл, заканчивающихся крючком, который впивается в кожу, да так крепко, что вытаскивать его — сущее мучение.
Вдобавок именно в этом месте джунгли представляли собой густые заросли из множества других коварных растений, вооруженных копьеподобными шипами всех форм и размеров, которыми усеяны все их видимые и невидимые части. Но этого мало. Было там еще одно растение — его систематическое положение мне неизвестно, в Кембридже ботаники в такие подробности не входили, — похожее на жесткий гигантский тростник, цилиндрический стебель которого казался абсолютно гладким, и за него было бы очень удобно ухватиться, если бы не пара острых как бритвы ребер на внутренней стороне, смазанных какой-то липкой гадостью, от которой кровь перестает свертываться. И конечно, там росла все та же четырежды проклятая дикая тания.
Это растительное чудовище представляет собой пучок листьев, как у великанского ревеня, торчащий на стволе, который как две капли воды похож на пальму и кажется таким же прочным. На самом же деле он не крепче сельдерея: ствол в восемь дюймов диаметром можно скосить одним легким ударом мачете. Но дело в том, что его сок, в котором, кстати, обитает масса мельчайших нитевидных паразитических червей, с силой разбрызгивается во все стороны и действует на кожу как купорос, обжигая ее иногда до пузырей. В зарослях всегда таится эта бестия, о чем узнаешь только в тот момент, когда наткнешься на нее и она даст о себе знать своим особым, неподражаемым способом.
Даже человек с железной волей-более того, даже зоолог в погоне за самой драгоценной добычей — не может прорваться сквозь эту ощетиненную чащу с какой бы то ни было скоростью. Мне показалось, что прошли буквально часы, пока я поднялся к началу ущелья достаточно далеко, чтобы можно было рискнуть перебраться на другую сторону, не боясь спугнуть животных.
Я стал спускаться вниз по склону ущелья, вышел к ручью и, несмотря на азарт погони, застыл, потрясенный видом неописуемой красоты. Ярко-зеленые кроны деревьев сливались над головой в сплошной свод, сквозь который пробивался солнечный свет, озаряя блестящие кроны пальм, растущих на берегах ручья, и буйно переплетенные стебли и листву всех форм и размеров. Вода, которая струилась и кипела среди зеленых камней, была прозрачнее чистейшего хрусталя и на вкус оказалась более свежей, прохладной и пьянящей, чем любое шампанское, каким меня когда-либо угощали. Когда я преклонил колена, чтобы вволю напиться, откуда ни возьмись вылетела и закружилась в солнечном свете стайка крупных колибри, искрившихся такими радужными цветами и оттенками, которых я не ожидал увидеть даже среди птичьего народца. С шумом, похожим на мурлыканье и на гудение шмеля одновременно, они возникали то там, то тут среди россыпи изумительных белых цветов, клонивших к самой воде свои прекрасные восковые венчики с оранжевыми язычками. Зеркальные капли золота или меди с раздвоенными, как у ласточек, хвостиками ослепительно посверкивали перед моими глазами изумрудными, аметистовыми и сапфирными искрами, когда птички мгновенно перемещались из одной точки в другую.
В тихих заводях на воде кружились золотые лепестки, внизу, под водой, плавали ярко-голубые рыбки с алыми глазками, а между камнями громадными купами росли мелкие цветочки нежного, пастельного, розовато-лилового оттенка.
Опьянев от этой воды и буйства красок, я снова вступил в чащу нерукотворной колючей проволоки. Ни слуху ни духу ни о Каприате, ни о тех животных, ради которых я совершал все маневры; они были примерно в полумиле ниже по ущелью, откуда тянуло ветерком. Я пробивался дальше, но на противоположном склоне, более крутом, растительность оказалась еще гуще, и мне едва удавалось продвигаться вперед, а уж о том, чтобы уклоняться от шипов или двигаться бесшумно, и речи не могло быть. Пришлось искать выход, и поскольку я был уверен, что кванки — кем бы они ни оказались — рано или поздно перейдут пастись на другое место, то пробрался на самый верх гребня, где лес был гораздо реже, и поспешил дальше.
Тут меня пронзила мысль, что я совершенно не представляю себе, где может быть Каприата и какое расстояние я прошел вверх по ущелью.
Тропические леса отличаются возмутительным отсутствием каких бы то ни было ориентиров, рельеф то и дело меняется, но все так безнадежно утопает в толстом ковре растительности, что совершенно невозможно понять, куда тебя занесло. Ни солнце днем, ни луна среди ночи не помогут — в этом я убедился на горьком опыте, — даже если удается их увидеть, а это бывает не часто. Я продолжал пробиваться вперед, а когда почувствовал, что время и направление от меня окончательно ускользнули, круто повернул вправо и вскоре вышел на край отвесной скалы, обрывавшейся футов на сто вниз.
«Ага, это ущелье, — сказал себе я. — Осталось только сообразить, как найти Каприату!»
Я принялся высматривать его у подножия деревьев, росших на дне ущелья, кроны которых как раз достигали края обрыва. Каприаты я, разумеется, не обнаружил, зато услышал доносившиеся откуда-то снизу слабые звуки. Это было то самое невнятное бормотание и хныканье, которое я слышал раньше.
Надо было решить нелегкую задачу. Я пошел бы в обход, чтобы зайти в тыл животным и погнать их на поджидавшего Каприату, но он занял позицию на высоком обрыве, и я сделал то же самое. Стоит спугнуть животных, как они бросятся вниз по ущелью, и Каприата, занявший отличный наблюдательный пункт с широким обзором местности, их даже не увидит: ведь в густых зарослях на дне пропасти могло бы укрыться целое стадо удирающих слонов. Надо было понемногу теснить животных к тому месту, откуда он мог бы их увидеть, — это была единственная надежда на верный выстрел. Так как животных было несколько, я предположил, что это травоядные, только они собираются в стадо. Если их чуть потревожить, но не вспугнуть, они будут останавливаться попастись. Как бы мне ухитриться заставить их не спеша двигаться к другому склону ущелья? Я присел, чтобы обдумать свои действия, вглядываясь в далекое дно ущелья в надежде увидеть нашу добычу.
Сначала я подумал: брошу вниз небольшой камешек; но ведь пока он докатится до дна, поднимется грохот, как от пушечного ядра. Пришлось изобретать что-то более натуральное. Обдумав все вполне серьезно, я решил, наконец, что самый удобный объект, который может свалиться на ничего не подозревающих животных, — это я сам, собственной персоной. Обрыв тут не был помехой: на самом краю росло колоссальное дерево, с которого в глубину пропасти свешивалась целая сеть прочных, как канаты, ползучих растений любого мыслимого диаметра.
Как-то мы с Альмой пошли в Лондоне в кино посмотреть один из фильмов про Тарзана. Не успел Джошш Вайсмюллер совершить один из своих головокружительных полетов на конце мощной лианы, как позади нас в темноте раздался громкий шепот:
— Надо же состряпать этакую глупость! Эти киношники понавязали на сучья канатов и думают, что люди не заметят!
Этот случай произвел на меня неизгладимое впечатление: ведь раньше я и представить себе не мог, насколько средний горожанин на севере Европы не осведомлен о том, что такое тропические джунгли. Наверное, ему и вправду кажется, что похожие на канаты лианы — плод разгулявшегося воображения голливудских киношников. Кстати, в Голливуде довольно скромно представили настоящие растения. Они запросто могли изобразить с натуры некоторые ползучие гиганты со стволом диаметром два фута, какие встречаются в самых непритязательных зарослях, или попытаться исполосовать злодея при помощи лиан, усеянных грозными шипами. А те лианы, которые накапливают воду, можно было использовать для спасения героини от неминуемой гибели: ведь известно, что если нарезать такую лиану на двухфутовые куски, то из каждого куска можно нацедить прямо в рот примерно стакан горьковатого прохладного сока.
Трюки Тарзана — по крайней мере, его полеты среди деревьев — не столь уж фантастичны, а для охотников в некоторых лесах — обычное дело. Я сунул мачете за пояс, наклонился над пропастью, уцепился покрепче за три подходящих лианы и ринулся в воздух. Признаюсь, вначале у меня было ощущение какой-то нереальности, когда я пронесся над пропастью и купой высоких пальм-кокорите; разумеется, мне было далеко до грации Тарзана, тем не менее, я стал осторожно снижаться.
Примерно через десять футов я оказался лицом к лицу с существом, которое заставило меня забыть про кванков. Под карнизом на уровне моего лица висела, закутавшись в свои кожистые крылья, летучая мышь со светло-коричневой головкой, отмеченной четырьмя ярко-желтыми полосками. Этот вид (Vampyrodes caraccioli) был мне незнаком, и я, уцепившись руками и ногами за лиану, выудил из своих карманов носовой платок. Им я и накрыл летучую мышь!
Мне удалось изловить зверька, избежав укуса. Я уже заворачивал добычу в носовой платок, когда у меня над головой что-то стало рушиться. Потом события развивались лавинообразно. Я инстинктивно вцепился в две уцелевшие лианы, а мимо меня со свистом пронеслось множество довольно крупных и увесистых обломков. Вслед за тем на меня свалилась лиана по всем признакам бесконечной длины и опутала меня, едва не сбив вниз и не оглушив. Однако кое-что, в том числе и я сам, еще держалось на весу — правда, всего считанные секунды; и, наконец, все мы медленно, но неудержимо начали скользить вниз — и спуск по бесконечной путанице ползучих стеблей, казалось, никогда не кончится. В самом начале спуска мне в ладони впились какие-то занозы или шипы, и, пока я достиг конца лианы, они прошли насквозь и вышли с другой стороны. Я болтался на высоте нескольких футов над землей.
Летучая мышь и мачете куда-то подевались, и только надломленная лиана еще отчаянно цеплялась за меня. Я приземлился среди камней на дне пропасти почти с максимальным ускорением свободного падения, возможным на поверхности земли. Ощущение было ужасное, но мои беды только начинались.
Мне кажется, что острота восприятия резко возрастает от волнения, страха или внезапного падения вниз по вертикали. Я это замечал и раньше. Тогда же передо мной мелькнула картина: кучка перепуганных животных, глядящих вверх сквозь сетку зеленой листвы. Она запечатлелась в моей памяти, как на пленке, снятой отличной камерой. Существа были черные, большие и поменьше, с длинными рылами и маленькими глазками. Это оказались пекари (Dicotyles tajacu), животные, которые словно были выведены для скачек, если судить по их обтекаемым изящным формам. Самые крупные из них щеголяли в ослепительно белых воротничках. Вот что я успел увидеть, прежде чем грохнулся на землю и был вынужден заняться более неотложными делами.
Ну и задача — рассказывать словами о событиях, которые происходят в мгновение ока! Рассказ тянется невыносимо долго, а вот если бы я мог показать вам отснятый киноролик всех событий… так нет же — камера, как всегда в таких случаях, покоилась на своем месте в лагере, вдалеке от самого интересного. Приземление мое оказалось довольно чувствительным, но не таким жестким, каким могло бы быть, — ведь меня опутывали бесчисленные петли гибкой лианы. Стебли ее эластичны, хотя по прочности и уступают канату, петля лианы всегда пружинит, сохраняя форму. Когда моя затуманенная голова прояснилась — а это, надо сказать, произошло незамедлительно, — я увидел, что свалился в естественную западню: с двух сторон скальные отроги, с третьей — отвесная скала. Открытая сторона представляла собой сомкнутый строй пальм бализё.
Я перекатился на живот, пытаясь выпутаться, и увидел в пределах досягаемости свой мачете, но, как только протянул к нему руку, к рукоятке метнулось что-то живое. Это была змея, вся в красивых коричневых и розовато-бурых разводах. Мы заметили друг Друга одновременно; оба синхронно отшатнулись и приподняли головы.
Не стану притворяться: честно говоря, змей я не боюсь. С этими созданиями нужно быть начеку и обращаться поосторожнее, но они не вызывают у меня такого отвращения, как пауки и им подобные. Но на этот раз одного взгляда было достаточно, чтобы узнать знакомую по многочисленным рассказам местных жителей и наводящую ужас «мапипи», так что мои чувства приобрели совсем иную окраску.
Мапипи (Lachesis muta) — бушмейстер — пользуется на Тринидаде самой дурной репутацией. Большинство россказней о ней, как водится, полны преувеличений или откровенного вранья — и это не удивительно, так как, кроме нее, здесь практически нет смертельно опасных тварей, вносящих оживление в общую жизнь. Я искренне считаю, что наличие животных, способных прикончить человека или оставить его в живых, — большое преимущество для страны; они постоянно напоминают жителям, что люди — не боги. Но на меня, тем не менее, произвели должное впечатление рассказы о человеке, который после укуса мапипи отлетел на двенадцать футов от невообразимой боли, вызвавшей сокращение мышц. Вспомнились и малоприятные рассказы местных жителей о том, что укушенный, хотя умирает не сразу, оказывается парализованным, и муравьи, а также черви принимаются за его бренное тело без всяких проволочек!
Вспомнив все эти фантастические истории, я заорал во все горло, призывая на помощь спасительного Каприату. Тут меня охватил ужас, потому что на мой вопль никто не откликнулся, зато змея восприняла его как персональное оскорбление и наглый вызов. Она бросилась ко мне, и уж не помню как, но мне удалось увернуться. Змея обладала завидным упорством — интересно, часто ли змеи в подобных случаях нападают так свирепо, как эта?
Она делала выпад за выпадом, и я вспомнил путеводители, которые весело заверяли гостиничных туристов, что змеи часто устают, сделав несколько попыток ужалить. Моя чертовка оказалась всего-то в двадцать дюймов длиной, как мы потом выяснили, но она кипела злобой и была полна энергии. Я быстро понял, что змея настроена агрессивно и готова на все и что драка будет неравной — меня с головы до ног опутывали крепкие, как сталь, петли лиан. Я не мог бы ответить ей ударом, и, хотя поначалу мне не хотелось ее убивать, под конец маленькая бестия довела меня до бешенства. Вы не поверите, но ситуация была настолько безвыходной, что мне пришлось подумать о спасении бегством! Рассказ затянулся, но, уверяю вас, все происходило крайне быстро, особенно после того, как мапипи в очередном броске достала до торчащей петли лианы, которой я был опутан.
Я уж было подумал, что ее зубы застряли в сочной древесине, но тут лиана, как живая рассвирепевшая змея, дернулась и подбросила мапипи высоко в воздух. Я отчаянно извернулся, и змея приземлилась как раз на то место, где я только что лежал. Мне кажется, именно в тот момент я осознал, что мы не одни. В этой природной западне оказался еще и маленький кванк. Где он был раньше, я понятия не имел, но тут он стал метаться в ужасной тесноте, внося в сражение панику и неразбериху. Когда он пулей выскочил на меня, я испугался его не меньше, чем мапипи. Я только успел откатиться в одну сторону, а теперь пришлось рвануться в другую. К счастью, мои путы немного ослабли, и я ухитрился встать на ноги. Что произошло потом, я так и не понял.
Почти невероятно, но я оказался спиной к змее. Перепуганный донельзя кванк бросился прямо мне под ноги. Я подпрыгнул, петли лиан упали к моим ногам, и я оказался прижатым к скале. Кванк проскочил подо мной и изо всех сил лягнул змею; послышался звучный шлепок, и змея, пролетев по воздуху, стукнулась о каменную стенку; тут я, наконец, выпутался из лиан и вскарабкался на кучу камней. Когда я обернулся, кванка уже и след простыл — слышно было только, как он с треском продирается сквозь чащу бализё, жалобно крича. Я и позже наблюдал, как пекари расправляются со змеями подобным образом; видимо, это их врожденный оборонительный прием. Но мапипи отступать не собиралась. Она сновала, как бешеная, во всех направлениях по полу этой созданной природой арены, но преимущественно, казалось, в мою сторону. Не зная, на что она способна, я предпочел не рисковать. Взобрался повыше, выломал порядочный камень и запустил в нее изо всей силы. Само собой, я промазал на несколько футов, а змея разъярилась еще больше. Все, о чем я сейчас рассказываю, заняло несколько секунд. Второй раунд длился дольше. Я швырял камни, а змея металась внизу, то и дело скрываясь среди камней. Наконец я все же попал в цель и, увидев своего врага поверженным, рискнул осторожно подкрасться и прижать змею к земле подвернувшейся под руку сухой веткой.
Я завел на шею змее петлю из тонкой лианы, и ее обмякшее тело закачалось на конце длинной палки. Подобрав летучую мышь и мачете, я воззвал к Каприате. Ответа не было, и я опять заорал во все горло. После чего мне вдруг стало дурно, и я был вынужден присесть: не всем суждено быть неустрашимыми и хладнокровными истребителями змей. Помню, мне вдруг пришло в голову — а не успела ли змея цапнуть меня в этой свалке, и я подскочил, как пружина, в диком испуге, однако никаких следов укуса на теле не отыскал и решил, что пора выкурить сигарету.
Наш закуток походил на настоящую бойню. Из множества царапин, которые я заработал, спускаясь по лианам, обильно текла кровь, кровью были забрызганы и каменные стены, и петли лиан, и я сам, конечно. Кровь обладает потрясающей способностью разбрызгиваться вокруг; если бы кто-нибудь заглянул тогда к нам, то решил бы, что я выдержал единоборство с тигром. Каприаты не было, и я сидел, слегка оглушенный, покуривая и пытаясь привести в порядок свои чувства.
Так кончилось сражение, которое доставило бы немало удовольствия стороннему наблюдателю, хотя мне оно показалось крайне неприятным; здесь я должен отметить тот факт, что дальнейшие события того дня, если все взвесить, оказались куда хуже. Побродив вокруг, я обнаружил, что не только не приблизился к Каприате, но что и ущелье-то уже другое и встретил я, судя по всему, совсем не то стадо пекари, то есть кванков. Вполне возможно, что, выпутавшись из лиан, я пошел в прямо противоположную сторону. Может, Каприата был рядом, за поворотом, но не слышал моих криков — деревья в лесу намертво глушат все звуки. Как бы то ни было, когда я набрел на то место в ущелье, где мы брали воду, начало смеркаться, потом в непроницаемой тьме я добрался до лагеря, где меня встретила совершенно спокойная Альма — она полагала, что я переворачиваю камни в поисках ящериц. Ну как вам это понравится! Каприата вернулся на полчаса позже. Сначала он поджидал меня, потом сам пошел на кванков; не обнаружив их, он принялся искать место, где я нахожусь; затем ему пришлось сообразить, где находится он сам, и, наконец, искать лагерь. Когда наконец он нашел все это, у него просто отвисла челюсть при виде моей окровавленной рубашки и перевязанных ран. Он смог сказать только: «О-го!»
Известняковый молох
Крабы, светящиеся ящерицы и вампиры
Я собирался ставить ловушки, и откладывать это дело в долгий ящик не было смысла. Ловушки приносят множество самых интересных животных, но ставить линию ловушек — вовсе не интересно и требует времени и терпения.
Выйдя из лагеря, я пробивался через заросли бализё и таний, пока не решил, что достаточно углубился в лес; тогда я забил в землю колышек, насторожил ловушку и зашагал дальше. Альма осталась в лагере писать этикетки к нашим утренним трофеям, и я дал ей задание: свистеть каждые десять минут в свисток; ориентируясь на эти сигналы, я надеялся обойти лагерь по более или менее правильному кругу. Я находился на краю западного ущелья и направлялся на юг, вдоль гребня, на котором был разбит наш лагерь. Пока я переваливал через гребень, свистки доносились до меня хорошо, но стали глуше, когда я повернул обратно на север у края восточного ущелья. Я готов был поклясться, что иду в нужном направлении. Но тут свистки вообще заглохли. Я закричал во все горло — ответа не было; тогда я направился, как мне казалось, прямиком в наш лагерь.
И тут я наткнулся на высоченную каменную стену. Вначале сквозь кроны деревьев вдруг показалась верхушка скалы. Как она там очутилась и как я туда забрался, ни один человек в здравом уме не смог бы догадаться. В джунглях есть единственный выход из подобного положения: надо пожать плечами и смело лезть вверх, потому что стоит сделать попытку пойти в обход, как заберешься неведомо куда, а скоро начнет смеркаться. Я принялся карабкаться вверх, хватаясь за корни. Это было даже приятно — я вообще люблю вспоминать детство, когда я всласть налазился по деревьям, — приходится только жалеть, что с возрастом от нас все ожидают более солидного поведения.
Взобравшись примерно на пятьдесят футов по вертикали, я вылез на узкий карниз, покрытый землей и заросший кустарником, и сразу почувствовал очень странный запах. В нем было что-то от запаха сырой земли, как в пещерах, но это еще не все. С закрытыми глазами я мог бы сказать, что где-то здесь валяется дохлая рыба. Но рыбам тут взяться было неоткуда; кроме того, до меня донеслось попискиванье летучих мышей. Как ни странно, на этом небольшом карнизе — всего футов пятьдесят в длину и не больше двенадцати в ширину — я несколько минут разыскивал вход в пещеру, пока не понял, что весь карниз и есть отверстие пещеры, только наглухо закрытое растительностью.
Я отвел эту завесу и бросил первый взгляд на странный мир. Мне почудилось, что я перенесся, как в волшебном сне, в мир, каким он был миллионы лет назад. Даже сейчас это ощущение не притупилось, а, наоборот, стало еще острее, хотя мы пробыли в этом жутковатом, таинственном мире недели три, если сложить все проведенные там часы. Хочу вам напомнить, что в тот момент мои мысли были целиком заняты шустрыми маленькими крысами, сновавшими среди лесного подроста. То, что я увидел, отличалось от их светлого мирка, как ночь в окопах от вечера в оперном театре.
Мир, в котором я очутился, описать нелегко. Я стоял в середине длинной, узкой горизонтальной расщелины на склоне скалы. В среднем высота отверстия была футов пять. За моей спиной и вокруг меня сомкнулась сплошная масса переплетенных растений, сквозь которую едва пробивался и без того ослабленный дневной свет, так что в отверстие пещеры просачивался лишь его тусклый зеленоватый отсвет. Дно расщелины по всей своей пятидесятифутовой длине было сложено мягкой красноватой глиной, которая образовывала вал у края, а зев пещеры начинался круглым склоном под углом сорок пять градусов, который футов через тридцать выводил на дно пещеры.
Странно, но верхний карниз расщелины также представлял собой гладкий вал, слегка втянутый вовнутрь, отчего зев пещеры по форме чем-то напоминал гигантский каменный рот с выпяченной верхней и слегка поджатой нижней губой из глины. Внутри свод уходил вверх, как нёбо, а дальше отверстие сужалось. Эта круглая дыра была до странности похожа на глотку — даже сталактит свешивался сверху, как «язычок», а пол поднимался двумя ровными холмиками, испещренными отверстиями и усеянными кусками обвалившихся камней, — точная имитация миндалин близ корня языка, у входа в гортань.
Я стоял в глухой, мертвой тишине и вдруг почувствовал, что попал в пасть какого-то отвратительного чудовища, может быть, даже самой Земли, и все ужасные массовые жертвоприношения, известные из древней истории Центральной Америки, пронеслись перед моим внутренним взором. Как сообщали ранние проповедники христианства — не исключено, что со значительными преувеличениями, — дикари сгоняли толпы людей, предназначенных для жертвоприношения, к гигантскому пылающему жерлу в земле, похожему на чудовищный зев. Я чуял мощный дух этого мертвого Молоха.
Но если отбросить все эти дурацкие сказки, действительность представляла собой чрезвычайно интересный и важный материал для наблюдений. Во-первых, свод, или нёбо этого чудовища, был истыкан дырами абсолютно правильной круглой формы, которые вели в трубы, поднимавшиеся на разную высоту, как я впоследствии выяснил. Все отверстия были заляпаны какой-то темно-коричневой массой, которая раньше, без сомнения, была жидкой, однако не оставила следов на полу, следовательно, не капала вниз. Это были типичные так называемые рытвины, только вверх ногами. Если камни попадают в углубление подстилающей скалы в русле сильного водопада, их крутит течением, и углубления, постепенно становясь еще глубже, принимают форму цилиндрических или даже сферических полостей — это можно наблюдать у подножия многих водопадов.
Возможно, что эти необычные, перевернутые рытвины образовались таким же путем. Пещера, должно быть, некогда была целиком заполнена водой, каким-нибудь ручьем или речкой, или вода просто периодически заполняла ее и отступала. Песок, занесенный водой, крутился в водоворотах, вытачивая все более глубокие впадины на месте неровностей в своде. Теперь река пробила себе путь вниз, на дно ближайшей долины, и пещера, оставшись значительно выше, стала совсем сухой.
Стараясь не шуметь, я присел на краю и принялся осматривать пещеру, которая была заполнена осязаемой вязкой тишиной и тем же редкостным запахом, который никак не припишешь только залежам гуано летучих мышей. Послышались и внезапно затихли какие-то шорохи, что-то капало, что-то звякнуло, как легонько столкнувшиеся медные монетки; иногда раздавался отрывистый писк; но все эти звуки, казалось, были отдалены на сотни футов, как эхо в громадном пустом соборе. И после каждого звука наваливалась все более гнетущая тишина.
Когда я наконец пошевельнулся — стал доставать фонарь из коллекторской сумки, — в одной из вертикальных труб раздалось отчаянное трепыхание крыльев, и из нее стаей вырвались летучие мыши. В неверном, сумрачном свете серые тельца так сливались с серой каменной стеной, что уследить за их полетом было невозможно; только вибрирующее трепетание крыльев выдавало их, когда они проносились мимо. Это навело меня на одну идею, и я вылез наружу — подыскать подходящую палку, подлиннее. Это не представляет труда в джунглях, где молоденькое деревце вынуждено тянуться на сотню футов вверх, чтобы пробиться к свету. Через несколько минут я уже вернулся с длинным, тонким и легким шестом, к концу которого привязал небольшую сеточку-сачок, которую всегда носил с собой именно для таких оказий. Держа в одной руке свое приспособление, а в другой фонарь, я сел на землю и стал осторожно соскальзывать вниз по склону, ведущему вглубь пещеры.
Я спугнул летучих мышей, сидевших в трубах, но с некоторыми предосторожностями мне удалось подобраться прямо к одной из таких труб, и тут я внезапно включил фонарь. Моим глазам предстало зрелище настолько жуткое, что я его едва ли позабуду. Труба была глубиной всего в три фута, с круглым гладким сводом, и вся она была усыпана крохотными двойными огоньками. Я повернул колпачок, чтобы сосредоточить свет фонаря, и тьма наверху рассеялась; глаза перестали светиться, зато на их месте оказались бесконечные ряды сверкающих, острых, как иголки, белоснежных зубов. Летучие мыши поворачивались, стараясь не спускать с меня глаз, скалясь и щелкая зубами. Они были слишком перепуганы светом, чтобы слететь с места; я подвел сачок к отверстию, просунул его внутрь трубы и сделал скользящий взмах. В ту же секунду я, видимо, сместил луч фонаря — и летучие мыши посыпались вниз, прямо в сачок, хотя две-три ухитрились протиснуться между стенкой и обручем сачка, как крысы.
Сачок был вместительный, длинный. Я взмахнул им в воздухе, повернул вокруг оси и опустил на землю.
Затем я одну за другой переловил летучих мышей, выпуская их из зажатого в кулаке сачка. Пятая или шестая зверушка остановилась и вся затрепетала, как это свойственно только летучим мышам, не решаясь заползти в полотняный мешочек, и я повел себя, как идиот, — решил ее подтолкнуть. Она мгновенно извернулась и вцепилась зубами в мой палец. Без преувеличения скажу, что этот укус был хуже всякой пытки. Нет, это было далеко не первое животное, которое позволило себе меня цапнуть, кусали меня и более крупные животные, например шимпанзе и разъяренная циветта, но никогда зубы животного до такой степени не напоминали рыболовные крючки. Artibeus planirostris обладает челюстями довольно мощными для летучей мыши, и разжимать их она не собиралась. Я был вынужден придушить ее свободной рукой.
Покончив с маленькой фурией, я бросил трупик на пол пещеры, вытащил йод и оторвал полоску от носового платка. Как только кровь перестала течь ручьем, я опять принялся за дело — загонять оставшихся летучих мышей в полотняный мешок, да поскорее — сумерки сгущались с каждой минутой. Мышей было около трех десятков. Когда все они оказались в мешке, я повернулся, чтобы оторвать еще кусок от остатков носового платка и завязать мешок, и тут передо мной возникло самое жуткое зрелище, какое только способна создать сама природа. Вокруг меня, припав к земле на согнутых лапах, безмолвным кольцом сомкнулись неподвижные темные существа размером, как казалось в полумраке, с футбольный мяч.
Создания природы всегда открыто выражают свои весьма примитивные намерения, и каждое дитя природы обладает хоть какими-нибудь привлекательными черточками, даже такие мелкие твари, как черви или мушиные личинки. Только в испорченном человеческом воображении эти существа приобретают отвратительный, пугающий или неприличный облик. Мы, только мы сами себя пугаем, а не животные, какие бы острые клыки или диковинные движения их ни отличали. Люди, посвятившие свою жизнь наблюдениям или препарированию животных, гораздо меньше подвержены приступам страха или отвращения при виде любого животного, хотя и среди таких людей нередко встречается глубоко индивидуальный, почти оккультный ужас перед каким-нибудь одним видом животных.
Предполагается, что это наследственный страх, перешедший к нам от предков, которые объединялись в племена под знаком того или иного тотема, когда каждый род имел свой символ — как правило, изображение священного животного, на которое было также наложено табу — запрет убивать.
Я здесь делаю довольно слабую попытку оправдать себя в двух отношениях: во-первых, признаваясь, что струсил в обстоятельствах, которые не грозили ни малейшей опасностью, если на них спокойно взглянуть; во-вторых, прося прощения за то, что привлек ваше внимание к животному, о котором уже столько раз походя упоминал.
Это кольцо безмолвных, словно присевших на корточки, угрожающе припавших к земле созданий было сборищем громадных крабов.
Очевидно, они обитали среди скользких, скрытых в зелени камней, которые устилали естественный вестибюль пещеры. Крабы бесшумно и осторожно выбрались из укрытий с одной простой целью: поживиться, чем можно. «Учуяв» смерть или запах крови, они вылезли и терпеливо ждали возможности навалиться всем скопом на мертвых летучих мышей, а если удастся, то и на живых.
Я включил фонарь, и все окружившие меня твари тут же втянули свои выпученные глаза и замахали мне навстречу громадными клешнями. Некоторые выпустили пузыри, и они шипели и скрипели в напряженной тишине. Маленькие чудовища, конечно, были поменьше футбольных мячей, но у иных панцирь достигал дюймов пяти в поперечнике, а вместе с согнутыми лапами, толстыми клешнями и падавшей от них тенью они казались намного больше на фоне плоского пола. Через несколько секунд они снова выкатили свои глаза и уставились на меня.
Я немного опомнился от шока отвращения, но все же мне было очень не по себе: а ну как они обнаглеют и набросятся на мои ноги? Я понимал, что это маловероятно, однако все же для безопасности решил взобраться на скалу повыше; но, когда я обернулся, оказалось, что и там меня поджидает несколько крабов. Тогда я сам набросился на них, и они с шуршанием расползлись по трещинам среди камней; но некоторые выскочили на открытое место и двигались по полу короткими внезапными перебежками, все время размахивая выставленными вперед клешнями.
Мне очень хотелось изловить парочку крабов для коллекции, но после того, как я их спугнул, они были начеку, и я решил применить простой прием — преследовать одного из них до победного конца. Применив этот прием, я загнал крупную самку, которая в клочки разодрала мой сачок своими шиповатыми конечностями. Я метался по пещере, гоняясь за остальными, и оказался у входа в небольшую боковую пещерку. Ее потолок был увешан сталактитами, а в полу образовались удивительно интересные маленькие бассейны. Вода заполнила расширяющиеся воронкообразные углубления из того же твердого, просвечивающего материала, из которого состоят сталагмиты, а на дне этих перевернутых воронок лежал ровный слой очень вязкой глины. Некоторые воронки были в фут глубиной и до двух футов в диаметре у самого дна, хотя дырочка в сталагмите у поверхности воды была шириной всего в несколько дюймов. Когда я посветил туда лучом фонаря, там что-то задвигалось; а так как любое живое существо, обитающее в подобных подземных водоемах, безусловно, представляет громадный интерес для науки, я приложил все усилия, чтобы выловить хотя бы несколько экземпляров. Чтобы не терять времени, я проломил стенки бассейнов и выпустил всю воду, которая разлилась лужей у меня под ногами. На спокойной поверхности этой лужи я увидел белые кожистые яйца, плававшие комочками по три и по четыре. В длину они были около сантиметра, и их явно вынесло из какого-то укромного местечка.
Я держал яйца в сложенной ковшиком ладони, как вдруг одна пара подпрыгнула, а потом заметно надулась и опала несколько раз. Поднеся их к самому фонарю, я увидел внутри подвижное маленькое существо. Я проделал в одном яйце дырочку, оттуда показалась миниатюрная головка и немного спустя вылезла крохотная ящерка. Тогда я перестал обращать внимание на лужицы и принялся шарить вокруг. Тут меня ожидало настоящее чудо. В расщелине под нависшим карнизом я увидел неяркий свет, который тут же погас. Я зажег фонарь и увидел маленькую ящерицу. Загородив сачком один выход из расщелины, я попытался выгнать ящерку, но она и не думала вылезать, а вместо этого отвернулась и на несколько секунд включила линии огоньков на боках, как иллюминаторы корабля. Наконец я вытащил ее пинцетом, и, когда поднял ее, она снова ярко засветилась.
Эта ящерица (Proctoporus shrevei) с виду была довольно типичной: небольшие лапки, длинный хвост, острая мордочка. Спинка у нее была темно-коричневая, а брюшко розоватое, как лососина; на горле этот цвет переходил в желтый. Чешуйки на брюшке были крупные, прямоугольные, похожие на броню. По бокам от затылка до хвоста шли ряды больших кольцеобразных черных пятен, и в центре каждого выступало яркое, похожее на бусину, белое пятнышко. Разумеется, тогда в пещере я еще не знал точного названия этой зверюшки, но мог побиться об заклад с кем угодно, что ни одно известное науке животное, находящееся в систематике выше, чем рыба, не могло испускать свет. Такое открытие, признаюсь, поразило, заинтриговало и сильно взволновало меня.
Эту ящерку мы некоторое время держали в неволе, подвергая целой серии немудреных экспериментов: мы нагревали или охлаждали ее, помещали во влажную или сухую среду, громко свистели в свисток у нее над ухом, щекотали ее, ослепляли вспышками яркого света. Цель у нас была одна — заставить ее снова зажечь свои «иллюминаторы», потому что после единственной яркой вспышки в тот вечер, когда я ее принес в лагерь, она наотрез отказалась давать полный свет, хотя пятнышки заметно светились в затемненной коробке, когда самой ящерки видно не было.
Как и прочие животные, внезапно меняющие цвет, ящерка, судя по всему, отвечала свечением на эмоциональные раздражения, а не на чисто физические воздействия. Страх или беспокойство заставят хамелеона или осьминога принять грязно-бурый или глинистый оттенок. Громкий свист, внезапный ветер или вспышки света сильно пугали нашу ящерку, заставляя ее включать полную «иллюминацию». Мы отметили, что свет был гораздо ярче в первый раз после перерыва, когда ящерку не трогали, но яркость его еще более возрастала, если ящерку предварительно держали на ярком свету.
Мы были настолько потрясены удивительным свойством этого очаровательного существа, что я, записав все наши исследования, при первой же возможности отправил ее пароходом в Европу, но ничего не сообщил о ее привычках и поведении. Целый год мы страдали от наложенного на себя обета молчания. Совсем незадолго до нашего возвращения домой ящерка удостоилась внимания одного из наших ведущих специалистов, и первое, что я услышал от ученого, когда зашел к нему, был вопрос: а не обладает ли эта ящерица способностью светиться? Он изучил ее, произвел вскрытие и, исходя только из лабораторных данных, пришел к выводу, что белые пятнышки должны испускать свет. Это, пожалуй, самая увлекательная зоологическая головоломка, которая мне попалась в жизни, — я был твердо уверен, что мне никто не поверит, если я прямо объявлю, что поймал светящуюся рептилию. Может быть, я несправедливо приписываю всем зоологам такой консерватизм и ограниченность, но совсем недавно я столкнулся с прямо-таки поразительной неосведомленностью некоторых биологов о жизни животных в естественных условиях и при этом с категорическим отказом менять свои сложившиеся представления.
Увлеченный поисками этих ящериц, я осмотрел маленький грот, выходивший в вестибюль, прошел вдоль стены и оказался перед похожим на зев отверстием в глубине. Я включил фонарь, думая, что там еще один неглубокий грот, но луч высветил громадный туннель шириной футов тридцать и высотой футов двадцать под сводом. Свод, представлявший собой почти идеально круглую арку, был сложен из гладкого, чистого камня; на полу — точнее, на дне — громоздилась россыпь прямоугольных каменных блоков, словно сброшенных как попало великаном-строителем.
Туннель круто углублялся во чрево земли. Вход в пещеру, куда проникал свет и попадала влага, оброс плачущими сталактитами, порос мхом, а там, внизу, в каменной сухости, не было ни света, ни растительности. Туннель напоминал чистый больничный коридор, и не верилось, что эта симметрия и аккуратность возникли без участия человека.
Тишина сгущалась еще больше, и, когда я, переступив край, принялся спускаться, мне показалось, что я навсегда покинул мир, полный жизни, и вступил в какое-то иное измерение. Стоило мне выключить фонарь, как непроницаемая тьма наваливалась на меня, словно гипнотизируя, и возникало жутковатое ощущение — будто ты существуешь не в реальности, а лишь в собственном воображении. Я так подробно описываю эту пещеру потому, что мне приходилось спускаться в сотни больших и маленьких пещер, но ни в одной мне не довелось почувствовать такую гнетущую «атмосферу». Это место казалось зловещим, враждебным, и я внезапно вспомнил, что сказал мне Каприата, когда мы впервые вступили в Восточное ущелье: «А вам не кажется, сэр, что здесь кто-то жил и долго мучился?» Я ответил «да» вполне серьезно. И вот теперь, сам того не зная, я оказался в Восточном ущелье. В туннеле ощущение враждебности усилилось, как, впрочем, и всепроникающее зловоние, словно от дохлой рыбы.
По россыпи каменных блоков приходилось спускаться на четвереньках, поневоле не очень быстро. Внезапно я услышал резкий звук. Напряг слух — ничего, глухая тишина, хотя я был готов поклясться, что рядом со мной затаилось что-то живое. Стоило мне двинуться с места, как звук повторился, в сопровождении хорошо знакомого скрежета камня, который вот-вот сорвется.
Я всегда лучше чувствую себя в полной темноте, чем с фонарем, освещающим все впереди, поэтому я закрепился на камне, выключил фонарь и закурил сигарету — моя зажигалка долго не давала пламени. Через несколько секунд я уловил еще один короткий шорох; дальнейших признаков присутствия живого существа мне пришлось ждать очень долго. Несмотря на жутковатую обстановку, я не ожидал, что ко мне здесь кто-то подкрадется, и мне стало как-то не по себе, когда я почувствовал, что меня кто-то слегка дергает за левую ногу. В духов как таковых я в общем-то не верил, однако и не утверждал, что не верю в них, — просто я твердо придерживался одного принципа: я имею дело только с так называемыми живыми и осязаемыми существами. Я всегда старался предоставить людям, интересующимся подобными феноменами, все предметы, которые не являются в полном смысле живыми, абсолютно конкретными и не заслуживают названия живых существ. И вот теперь я убедился в своей печальной ошибке. Проклиная себя за полное невежество во всем, что касается общения с привидениями, укрощения злых духов или заклятия бесов, я с замиранием сердца включил фонарь и взглянул вниз.
На меня смотрела снизу вверх пара разумных, выпуклых черных глаз. Они принадлежали рыжеватой крысе невероятной величины. Она опиралась правой лапкой на мою ногу, словно собираясь произнести послеобеденный спич. Мы спокойно созерцали друг друга, кажется с одинаковым облегчением увидев, с кем каждый из нас имеет дело. Потом крыса моргнула и отступила на несколько шажков. Мы еще некоторое время глядели в глаза друг другу с нарастающим недоверием, и крыса наконец трусцой удалилась в щель между камнями. Она еще два раза неожиданно высовывалась и подглядывала за мной, но потом окончательно исчезла.
Стоило мне снова тронуться с места, как я наткнулся рукой на что-то невыразимо отвратительное; однако любопытство победило, потому что мне впервые предстояло увидеть существо, хорошо знакомое мне по рисункам. Оно называется Scutigera, представляет собой нечто вроде сороконожки с неимоверно длинными конечностями и встречается повсеместно в большинстве тропических стран и в теплых зонах умеренных поясов. Я бы назвал это существо длинноногим насекомым, удлиненным в восемь раз и по способу передвижения крайне напоминающим мой тотем — паука! Оно шустро бегает, шурша ножками.
Эта тварь тоже рванулась очень шустро, потеряв несколько ножек. Я бросился в погоню и в конце концов загнал ее в бутылку, что заметно придало мне бодрости. Водя вокруг лучом фонаря, я обнаружил множество этих существ — от них на стены падали уродливо вытянутые тени. Потом я чуть не умер от страха, увидев что-то движущееся в глубине. Громадное, черное, оно внезапно метнулось из-за каменного завала, но я наконец понял, что это моя собственная тень, и совсем приободрился. Я начинал осваиваться с живыми существами в таинственном и жутком подземном мире.
Туннель, казалось, тянулся вниз до бесконечности, но рыбный запах все крепчал и крепчал, и мне не терпелось разгадать эту тайну. Затем я столкнулся с формой жизни, несомненно выдуманной кем-то, не лишенным чувства юмора. Поначалу я увидел только тень, отброшенную на потолок, который стал значительно ниже. Тень была высотой добрых три фута и самой диковинной формы — вроде паровой яхты, к которой приделали несколько пар ног. С кормы торчало нечто напоминающее громадный ятаган, а на носу, казалось, уселись двое рыбаков с удочками. Время от времени все сооружение трусцой двигалось вперед, а потом отступало назад. Я наклонился к фонарю, взглянул вдоль луча и увидел существо еще более гротескное, чем его тень, зато, к моему облегчению, значительно более скромных размеров. Это оказался сверчок с антеннами несусветной длины, который тут же подпрыгнул и был таков. Но и его я сумел изловить. Тут я увидел, что россыпь камней переходит в крутой гладкий склон из ярко-красной глины.
Склон тоже казался бесконечным, но выяснилось, что это всего-навсего оптическая иллюзия. Глиняный скат представлял собой широкий веер, постепенно сужавшийся книзу, где он переходил в ровный и абсолютно правильный земляной круг. Я достиг дна туннеля, и запах здесь был еще сильнее.
Пол был совершенно плоский, но на двух концентрических уровнях обрывался ступеньками дюйма по два вышиной. Видимо, это были следы от лужиц, оставленные в разное время. Сейчас все высохло, но вдоль последней, внутренней ступеньки виднелись кусочки чего-то черного. Несомненно, это были угольки, но я не мог представить себе, как они туда попали. Рассматривая дно, я вдруг услышал, как вокруг меня кто-то словно пускает пузыри и чмокает.
Порою звуки раздавались совсем рядом, но всегда за моей спиной. Я каждый раз резко оборачивался, но там никого не было. Следя за линией угольков, я обнаружил остатки наполовину засыпанного очага. Когда я стал его раскапывать, нечто чмокнуло и зашипело прямо у меня под носом. Я копнул прямо в том месте и успел-таки перехватить червя, прежде чем он скрылся в углублении, наполненном водой. В очаге ничего не было, кроме слежавшегося слоя дерева да массы червей.
Тут я обнаружил и источник зловония. Его издавали крабы, в неисчислимом множестве валявшиеся на ровном глиняном полу. Они сохраняли подозрительную неподвижность, и, когда я ткнул одного из них, он рассыпался в прах. Крабы были мертвые, точнее, остались лишь побелевшие скорлупки мертвых крабов. Некоторые из них погибли раньше других — должно быть, они лежали тут много лет; в других панцирях еще оставалась гниющая плоть, а один еще слабо шевелился. Пока я рассматривал его, раздался треск, и по глиняному склону скатился еще один краб. Он упал на спину и слабо шевелил ногами, но сил перевернуться у него не хватало. У меня на глазах краб постепенно застыл и замер: он был мертв. Затем я нашел осколки крупных костей, и это навело меня на размышления.
Это была камера смертников, самая ужасная из всех. Всегда жалеешь старых и беспомощных, и поэтому истории о слонах, которые бредут в какое-то особое место, чтобы там лечь и умереть, переполняют нас возвышенной печалью. Мысль о том, что крабы пробираются в глубину пещер, чтобы скатиться по крутому склону и умереть на этой холодной и безмолвной голгофе, кажется жуткой, фантастичной и почему-то вызывает ужас.
Но может быть, это не обычай, а простое совпадение. Что, если крабы забрались сюда с какой-то определенной целью, а потом так наелись и так долго пробыли тут, что старость помешала им выбраться наверх? Может быть, какое-нибудь другое несчастное создание послужило крабам приманкой, но я мог назвать только одно существо, которое было способно принести сюда дрова и развести костер. От этой мысли меня пробрала дрожь, и я решил еще раз рассмотреть обломки крупных костей; но они от малейшего прикосновения рассыпались в пыль, да мне и не удалось бы узнать, не прихватило ли с собой это существо других животных, служивших ему пищей.
Я измерил дно пещеры, изловил еще несколько скутигер, потом взглянул на часы. Было восемь часов! Я вдруг понял, что даже Альма может начать беспокоиться, и принялся карабкаться вверх по глинистому склону. Добравшись до камней, я прибавил резвости, пока не выскочил с еще большей скоростью прямо в залитый луной лес. Вскоре я перевалил через гребень и увидел огни нашего лагеря далеко справа, где им быть вовсе не полагалось.
Дорогой я размышлял и о костях, и о крабах, и о зловещей тишине. Предположим, что просто застигнутый ночной темнотой пришлый охотник сделал там привал и готовил себе ужин. Для чего ему было спускаться на самое дно воронки? Для чего ему понадобилось тащить туда крупную дичь, чтобы ее приготовить? Почему крабы стремятся туда, вниз, где абсолютно нечем поживиться? Я задавал эти вопросы себе, а потом решил спросить у всезнающего Каприаты.
Это компетентное лицо выдвинуло вполне приемлемые теории — о беглых каторжниках и так далее, — вовсе не приправленные, как обычно у местных жителей, намеками на сверхъестественное. Он высказал также желание лично обследовать это место и внес еще одно практичное предложение — расставить там ловушки и изловить ту крысу. Итак, на другой же день мы вышли в поход, нагруженные всем необходимым снаряжением, и по редкостному везению сумели отыскать пещеру: хотя до нее было рукой подать, я не имел ни малейшего представления, где она находится.
Наши операции мы развернули недалеко от входа в пещеру, примерно в том месте, где я повстречался с крысой. Мы с Каприатой поделили ловушки и пошли каждый по своей стороне, а Альма тем временем занялась поисками мелких животных; ловушки ведь — существа мощные, и в них обитают коварные и агрессивные души, а настораживать их — дело хитрое и мудреное. Как часто после столь трудной операции, когда вы пытаетесь удалиться на цыпочках, они защелкиваются с ужасающим лязгом, даже подпрыгивают на месте. Мне случалось играть в эту изнурительную игру с ловушкой по полчаса, пока она не вцеплялась мертвой хваткой в мои пальцы, после чего благоволила оставаться настороженной, пока я не удалялся на порядочное расстояние.
Когда наши фонари скрылись за россыпью камней, в пещере снова воцарилась обволакивающая, душная тишина. В кромешной тьме мы чувствовали себя отрезанными от всего мира, и, казалось, было слышно, как копошатся мысли в наших головах. Спустя некоторое время, протяженность которого отмечалась только приглушенным расстоянием, стальным лязганьем и раздающимся немедленно вслед за ним взрывом ругательств, я закончил свою половину дела и спустился пониже, к Альме, чтобы выкурить заслуженную сигарету, в которой очень нуждался. Мы пристроились на большом камне, выключили фонарь и покуривали, слушая отдаленные высказывания Каприаты.
На этот раз я старался держать руки в наиболее безопасной позиции — скутигер, как я заметил, вокруг было еще больше, чем в прошлый раз. Через несколько секунд мы услышали негромкий звук, будто маленький вымпел трепещет совсем рядом с нашими головами. Я включил фонарь, и звук тут же умолк; но я знал, что где-то поблизости прячется летучая мышь, поэтому опять выключил фонарь и задумался: почему летучие мыши залетают так глубоко в пещеру? Ведь обычно они держатся только возле входа. Кроме того, было уже довольно поздно, и мы специально отложили эту работу напоследок, потому что она не требовала дневного света, который сюда все равно не проникал. К этому времени всем летучим мышам уже полагалось вылететь на свою ночную охоту. Трепыхание возобновилось, и, судя по звуку, что-то приземлилось на камень у нас за спиной. Мы вскочили, повернувшись на сто восемьдесят градусов, и включили свет, который озарил уродливое, во многих отношениях отталкивающее создание.
Черное, круглое, как мяч, существо сидело на камне, опираясь на четыре ходулеобразные конечности, изогнутые таким же жутким образом, как паучьи лапки. Голова у этой твари была фантастически уродливая, с громадными, похожими на раковины стоячими ушами, между которыми выглядывала нелепая морда, казалось почти целиком состоявшая из разинутой в сатанинской усмешке воронкообразной пасти, из которой торчали два ослепительно белых, острых, как у грызунов, резца. Это маленькое чудовище сновало во все стороны, двигалось вперед, назад и вбок с одинаковой легкостью, его движения напоминали движения краба, и оно не переставало ухмыляться и щелкать оскаленными на нас зубами. Я попробовал сбить его сачком, но оно и не подумало взлетать, а ловко ускользнуло за камень и оттуда скрежетало зубами и строило нам гримасы. Это был Desmodus, летучая мышь, пьющая кровь, главное пугало Тринидада, местное чудовище.
Так состоялось наше с ним первое знакомство, и нас охватил энтузиазм, который не угас и по сию пору, даже после того, как мы целыми месяцами охотились на маленьких злых духов. Наблюдать за всегда новыми, иногда удивительно забавными трюками этих существ никогда не надоедает, а их привычки, которые изучали в своих целях только медики, далеко не все известны. Мы наперебой звали Каприату, не переставая махать сачками, но летучая мышь играючи уходила от нас и наконец взлетела в воздух легко, как птичка. Облетев вокруг нас два или три раза, она села на гладкую каменную стенку и юркнула в узкую расщелину, откуда тут же понесся громкий сварливый писк и трескотня.
Мы заметили, что из некоторых более узких щелей выступает какое-то черное вещество. Теперь, рассмотрев его поближе, мы увидели, что это затвердевший помет десмодусов; их выделения всегда черного цвета и вязкие, как смола, — результат питания кровью. Когда Каприата к нам спустился, мы принялись подкатывать к стене камни поменьше — надо было добраться до расщелины. Я взмостился на этот ненадежный пьедестал и, балансируя, посветил фонарем в глубь расщелины.
Там было с полдюжины десмодусов. Они все шарахнулись прочь, сбились в кучу и ощерились, глядя на меня. Лезть туда голой рукой я не торопился, а сачком выковырнуть их оттуда было невозможно. Пришлось временно загородить выход в широкой части с помощью коллекторского мешка. Потом мы разломали одну ловушку и согнули кусок проволоки наподобие рыболовного крючка. Зверьки яростно кусали проволоку, и нам пришлось прикрепить к ней сигарету: как только дым стал забиваться в их убежище, эти мельчайшие млекопитающие сообразили, что пора удирать, и бросились прямиком в сачок, который невесть откуда оказался у них на пути. Мы мигом завязали сачок узлом и поспешили в лагерь, где можно было поближе познакомиться с нашими пленниками.
Внешне десмодус никакими поразительными особенностями не отличается. Есть множество видов летучих мышей, куда более диковинных с виду. От остальных видов его скорее всего отличает образ жизни, сходный только с образом жизни его родственника — Diphylla. Длиной десмодус дюйма три, а хвоста у него нет вовсе. Шерсть короткая и густая, и все четыре пойманных нами экземпляра были обычного для вида темного шоколадно-коричневого окраса с легким рыжеватым оттенком. Самое примечательное в зверьке — передние зубы. Верхняя пара передних резцов имеет треугольную форму и выгнута наружу, причем острые их кончики сближены, образуя нечто вроде ложковидной стамески с острейшими краями.
Передние зубы — главное орудие десмодуса; с их помощью он добывает себе пропитание. Вот как это происходит. Покинув свое убежище примерно через час после наступления темноты — позже других летучих мышей, которые вылетают за час до заката, — он отправляется на поиски животных, причем предпочитает теплокровных, хотя ими, насколько я понял, не ограничивается круг его жертв: мы своими глазами видели, как зверек напал на крупную жабу, и мне рассказывали, что пару таких зверьков в неволе долго кормили ящерицами. Выбрав подходящую жертву, вампир садится поблизости на землю и «пешком» незаметно подкрадывается к ней. Задние ноги у него длинные, а крылья он может туго сворачивать, опираясь на толстые подушечки свободных и обычно длинных пальцев передних лап. Если жертва крупная — корова, коза или человек, — маленький кровопийца вспрыгивает, помогая себе крыльями, на открытый участок тела, а потом ползает, отыскивая подходящее местечко для своей «операции». Операция состоит в том, что зверек выдалбливает или выскребает неглубокую ранку в шкуре или коже жертвы, затем следует серия быстрых «кивков» головой, и передние зубы работают, как мотыга или долото. Получается ранка длиной около сантиметра, из которой струей льется кровь. Десмодус лакает кровь язычком, который ходит туда-сюда, как поршень, в воронке, образованной раздвоенной нижней губой, прижатой к ране на манер водосточного желоба.
Самое странное, что животные никак не реагируют на эту процедуру. Кролики и телята, которых использовали в экспериментах, стояли совершенно спокойно, пока кровопийца не наедался досыта. То же самое происходит и с птицей, хотя при появлении разбойника поднимается дикий переполох. Существует поверье, что вампир взмахами крыльев нагоняет на свою жертву сон или оцепенение; достойные доверия наблюдатели подтверждают, что и на людей эти зверьки действуют усыпляюще. То же самое подтверждают вполне достоверные рассказы людей: видя, как вампир подкрадывается к их раскрытым ногам, многие из них вскоре засыпали, а когда наутро просыпались, с удивлением обнаруживали на своих ногах ранки от его укусов. Я сам наблюдал, как десмодус несколько ночей подряд подкрадывался к курице, трепетал крыльями у нее под самым носом — в двух дюймах, не больше — и явно достигал того, что всполошившаяся птица успокаивалась, а затем перелетал на спину курицы, заползал к ней под крыло и кормился кровью из ее бедра.
Лабораторными исследованиями доказано, что в слюне кровососа содержится сильнодействующее вещество, препятствующее свертыванию крови, поэтому после каждой успешной хирургической операции ему обеспечена сытная трапеза. Существует предположение, пока еще недоказанное, что десмодус выделяет какое-то маслянистое вещество, усыпляющее жертву.
Напитавшись таким своеобразным способом, десмодус сразу же улетает в какое-нибудь укрытие, обычно не в то, где он отсыпается днем, и заползает в щель, чтобы переварить кровь, которой насосался. Описанное вызывает неприятные чувства, но ведь это совершенно естественный, хотя и необычный, способ питания в общем довольно аккуратного и чистоплотного зверька.
А страх, который живет в невежественных людях и заставляет их считать десмодуса дьявольским отродьем, вызван совсем иной чередой событий, которые, несомненно, были так же тягостны и мучительны для летучих мышей, как и для людей. Вот эта история вкратце.
В XVII веке все поголовно лошади, завезенные в Центральную Америку из Северной Африки, были истреблены таинственной болезнью. Американские индейцы, которых испанцы обвинили в отравлении лошадей, уверяли, что их убили летучие мыши. Они также уверяли, что их далекие предки знали лошадей и ездили на них, но все лошади тогда погибли от той же напасти. Исследования показали, что в Америке в доисторические времена водились разные виды лошадей, но они вымерли задолго до появления там человека. Возможно, однако, что в субтропических регионах Америки лошади водились и в относительно недавнем прошлом.
С XVIII века сохранились доказательства, что крупные скотоводческие хозяйства на Тринидаде начисто разорились «благодаря вампирам», а в 1889 году человек, «вскрывавший летучую мышь, скончался от бешенства». Это, судя по всему, единичный случай такого рода, абсолютно не связанный с десмодусом, которого знали еще на заре колонизации.
Однако в 1906 году в Южной Бразилии разразилась повальная болезнь среди домашних животных, унесшая четыре тысячи голов крупного рогатого скота и тысячу лошадей. Были начаты исследования, которые завершились уничтожением 6799 собак, так как будто бы было доказано, что из-за них скот поразила эпидемия бешенства. Но избиение несчастных собак не принесло никаких результатов, и болезнь продолжала распространяться на север Бразилии, а также в Парагвай, Уругвай и Аргентину. Были проведены новые исследования, которые привели к открытию: переносчиком болезни оказался десмодус. В 1931 году погибло не меньше шестидесяти процентов поголовья скота в Мату-Гросу.
Жители Тринидада осознали опасность, связанную с летучими мышами, еще в 1925 году, когда почти прямо в Порт-оф-Спейне, на пастбище, погибли шестьдесят коров. Но «чудовищем» десмодус стал только четыре года спустя, когда в Сипарии, на юге острова, погибли тринадцать человек — и как раз на том месте, где сто лет назад потерпели крах скотоводческие фермы. После того как два очень способных тринидадских врача определили, что причиной смерти послужила паралитическая форма бешенства, все жители вдруг обратили внимание на количество покусов от летучих мышей и дружно возопили от ужаса; эти причитания не утихли до сих пор, хотя найдены профилактические меры, эффективные на все сто процентов, и в течение десяти лет погибло всего около шестидесяти человек из населения в 413 тысяч.
Люди обожают ужасы, и не так-то легко их уговорить, что все страхи позади. Хотелось бы мне знать, сколько людей, по недомыслию поднимающих панику из-за «летучего чудовища» Тринидада, способны умолкнуть хоть на минуту, чтобы задуматься об опустошениях, которые там сеют туберкулез и рак. Это всем привычные, но слишком неприметные для среднего человека напасти. Он предпочитает что-нибудь наглядное, к примеру летучую мышь, на которую можно показать пальцем и сказать, что она смертельно опасна для ваших детей. Было время, когда эта история с десмодусом и паралитической формой бешенства совершенно вышла из-под контроля — поднаторевшие в распространении «ужасных» историй зарубежные газетчики хлынули в страну, чтобы «на месте во всем убедиться», а туристы, заглянувшие сюда на несколько часов, тряслись от страха, что на них нападет «вампир».
А вот тем людям, которые изучили вопрос, приняли официальные меры для снижения численности десмодуса на острове, постарались познакомить население с методами защиты спален от десмодуса, а также выработали эффективные методы лечения и профилактики переносимых им болезней, пришлось очень нелегко. Если тот, кто всегда спал только под противомоскитной сеткой и мог обратиться к врачу в случае укуса, поднял вопль ужаса и впал в панику, то простой деревенский житель, которого летучие мыши кусали еженощно, порой до четырнадцати раз за одну ночь, наотрез отказался вообще иметь дело с врачами. Если, мол, нашим дедам от мышиных укусов ничего не делалось безо всяких там прививок, то, значит, и мне от них ничего не сделается.
Однако поиски десмодусов с целью их уничтожения в спальных и послеобеденных убежищах позволили углубить знания об этих животных. Но один вопрос так и оставался невыясненным: чем десмодус питается в своей природной среде обитания, в лесу, где нет ни упитанных коров, ни беспечных бедняков. Этот вопрос, среди прочих, мы и старались выяснить, и теперь у нас накопился вполне убедительный перечень диких животных, на которых кормится десмодус.
Хотя я решительно считаю все опасности в россказнях о десмодусах невероятно преувеличенными, должен признать, что в поведении зверька есть довольно пугающие и неприятные черты. В нормальной обстановке он питается, судя по всему, исключительно кровью других животных, что подтверждается и строением его пищеварительных органов, не приспособленных к перевариванию иной пищи. Заразившись бешенством, он, прежде чем погибнуть, на много месяцев становится его разносчиком и превращается в настоящего вампира. В то время как зараженные им люди страдают паралитической формой болезни и умирают долгой, мучительной смертью, сам зверек буквально впадает в бешенство: летает среди бела дня, нападает на себе подобных, ударяется о деревья, врезается в стены и кусает всех и вся, на что наткнется. Известен случай, когда такие взбесившиеся зверьки напали на женщину при ярком свете дня и она не могла от них отбиться даже шваброй! Люди, которым пришлось пережить болезнь, уверяют, что, хотя до того их во время сна не раз кусали летучие мыши, в роковую ночь они ощущали острую боль и внезапно просыпались от непривычно яростного нападения кровососа. Когда летучие мыши больны, они ведут себя как одержимые.
Это вполне очевидный и весьма неприятный признак опасности. Другой признак — совсем иного рода. Как оказалось, десмодусы переносят и другую болезнь крупного рогатого скота — так называемую «муррина», наносящую тяжкий урон скотоводству в Центральной Америке. В одной из стран более восемнадцати процентов всех отловленных десмодусов оказались носителями болезни Чагаса, и, наконец, некоторые из них были искусственно заражены двумя самыми ужасными болезнями — африканской сонной болезнью и желтой лихорадкой. Но это вовсе не означает, что род человеческий будет стерт с лица земли какой-либо из этих болезней при посредстве десмодуса, а лишь открывает глаза на те опасности, которые таит в себе незаметный мелкий зверек.
Далее, десмодусы вовсе не спят и не живут изолированными колониями в глубине пещер. Они часто обитают в дуплах деревьев и в других убежищах совместно с другими видами летучих мышей — плодо- или насекомоядными. Своих сожителей они могут заражать, кусая, — об этом говорит тот факт, что не менее пяти других видов тоже стали питаться кровью. Пойманные на месте преступления, эти зверьки оказались зараженными бешенством. Поэтому, учитывая способность десмодуса переносить ряд опасных болезней и заражать другие, «невинные», виды летучих мышей своей привычкой питаться кровью, необходимо постоянно наблюдать и контролировать ситуацию. В древние времена в таких удаленных друг от друга областях, как Карпаты, Южный Вьетнам и Египет, должно быть, действительно была распространена какая-то страшная болезнь, оставившая в памяти людей образ приносящего смерть Вампира и его связь с летучими мышами. Десмодус водится только в южной части Нового Света, где и по сию пору, распространяя смертельную болезнь, он наносит невосполнимый ущерб громадным стадам крупного рогатого скота.
Первая четверка десмодусов, выловленных в странном подземном обиталище, положила начало нашим чрезвычайно интересным наблюдениям. Мне остается только надеяться, что это хоть немного поможет часть энергии, впустую затрачиваемой на бессмысленную панику, переключить на поиски способов борьбы с колоссальными потерями, которых можно полностью избежать.
Пещера дьяволят
Летучие мыши, жирные птицы и прозрачная рыба
На всю жизнь я запомнил громадную книгу — «Потерянный рай» Мильтона с иллюстрациями Густава Доре, который изобразил ужаснейший ад, где в серном дыму клубились и извивались в страшных мучениях тела грешников, проносились сонмы падших ангелов или мятущихся духов, гонимые адскими вихрями и смерчами. Я подолгу застывал над каждой гравюрой, завороженный не столько созерцанием тех событий и существ, встреча с которыми, вероятно, ожидает большинство из нас, сколько тем величественным, грандиозным миром, на фоне которого развертывались эти сцены. Доре вырос среди мощных горных хребтов и ущелий в верховьях Рейна. Скалистые утесы и обрывы, мрачные, созданные самой природой бастионы и бездонные темные пропасти заполонили его душу.
Есть и другие уголки природы, которым свойственно это впечатление нереальности, уводящие нас в область фантазии и абсолютно не связанные с тем миром, который нам знаком: например, уэллсовские пейзажи схожи с глубинами океана или заоблачными вершинами гор в Африке. На этих вершинах, представьте себе, даже вереск бывает высотой с маленькое деревцо, а диковинные растения — гигантские лобелии — придают пейзажу инопланетный, странный вид, а точнее, создают атмосферу жуткой нереальности.
Чтобы увидеть бездонные провалы, фантастические по очертаниям скалы и пропасти, откуда нет спасения, вам обычно посоветуют отправиться в Большой Каньон или в горы Норвегии. Но там вы встретите лишь часть суши, поражающую своими грандиозными и великолепными формами, и ничего сверхъестественного. Даже в самые мрачные дни эти места — просто часть нашего мира. Вы заметите теплые блики света, игру теней и оттенков, суровое безмолвие Природы, простую, привычную для глаз красоту — прилепившиеся кое-где растения, лоскуты земли, расцвеченные мхами, или снег и лед, птиц и множество других знакомых, домашних, земных примет, пусть немногочисленных и случайных. Большой Каньон, одно из самых потрясающих на свете зрелищ, все же не похож на инопланетный пейзаж. Но в нашем земном мире есть места, словно созданные по фантастическим законам гравюр Доре; впрочем, не исключено, что только в определенном состоянии духа человек может воспринимать всю их грандиозность и потрясающее величие. Возможно, их «неземной» вид объясняется и контрастами восприятия.
Стоял один из тех переполненных блеском, сверканием и потоками света дней, какие бывают только в тропиках; любоваться им можно было, только находясь в глубине прохладного, влажного леса. Существуют свет солнца и солнечные лучи — это не одно и то же. В тропических лесах царит только солнечный свет — льющийся, сверкающий, фантастически резкий, так что каждый листок кажется вырезанным, выгравированным на меди. Восточное ущелье походило на кусочек рая с веерообразными листьями пальм, зарослями таний и величавыми деревьями, купающимися в хрустальном сверкании солнечного света.
Мы спустились к журчащему ручью и перешли заводь, где обычно брали воду. Как всегда, над россыпью цветов кружились ярко-синие бабочки и стайки отливающих металлом колибри, а на некоторых таниях расцвели белые фантастические цветки. Они распускаются на верхушках растений, вдоль средних жилок громадных листьев. Цветки напоминают пестики с лиловатым, похожим на луковицу, утолщением внизу, которое выше переходит в белый, слегка сдавленный с боков цилиндр. Затем он снова расширяется и завершается острым конусом, как толстая свеча. С трех сторон он кажется мясистым и сплошным, а с четвертой видно, что он на самом деле пустой — своеобразный лепесток, в глубине которого торчит вверх ярко-оранжевый пальчик, как Будда, скрытый в белой восковой нише.
Со дна ущелья мы стали карабкаться на обрыв противоположного склона, цепляясь за корни папоротников и копая остриями мачете ямки для ног в вязкой глине. В нужном нам направлении вел заметный «след», который мы с Каприатой проложили несколько дней назад. Выбравшись через перевал на гребень, мы вздохнули с облегчением: идти стало легче — на гребнях подрост гораздо реже. Затем мы начали спуск в другое ущелье.
Оно оказалось неглубоким, и там было меньше высоких деревьев. Солнечный свет лился на берега, покрытые высоким тростником. По дну струился другой ручеек, поменьше, но, как ни странно, в прямо противоположном направлении по отношению ко всем ручьям, которые нам до сих пор попадались. Каприата пришел в сильнейшее волнение.
— Гляньте-ка, — сказал он, — ручей бежит в гору!
Так оно доподлинно и было: рельеф повышался как раз в том направлении, куда тек ручей. Мы долго шли по течению ручья, а берега все поднимались и поднимались, словно гора заключала нас в свои объятия. Ущелье густо поросло красивейшей растительностью, а солнце стояло прямо у нас над головой.
Откуда ни возьмись до нас донесся какой-то звук — настолько жуткий и неуместный среди всей этой благодатной красоты, что он словно хлестнул по нашим нервам. Может быть, вам покажется, что это глупость, но если бы вы услышали собачий лай или вой автомобильной сирены в момент восторженного упоения музыкой оперного спектакля, то поняли бы, почему я говорю, что этот скрежещущий, скрипучий визг ударил мне по нервам. Мы стояли у подножия двух скал, сходившихся на дне ущелья. Каприата прорубал дорогу левее одной из них, а мы с Альмой решили тем временем выкурить по сигарете. Это был не просто отвратительный, дикий звук, он к тому же раздавался будто в ванной комнате или в пустом соборе, что нас удивило, так как ни того, ни другого поблизости, конечно, не было. Мы воззрились на Каприату, ожидая объяснения. Его бледно-голубые глаза на желтовато-смуглом лице только поблескивали, как обычно, и он продолжал невозмутимо врубаться в кустарник, пока не проложил тропу в обход скалы. Только тогда он сделал нам знак, чтобы мы шли за ним.
Как я уже пытался объяснить, ущелье спускалось, углубляясь во чрево горы. Это звучит не очень вразумительно, но мы вначале немного запутались, а здесь оказались лицом к лицу с неким логическим завершением ущелья — ведь не могло же оно продолжаться до бесконечности: что-нибудь одно — или спуск, или гора — должно было кончиться. К нашему крайнему удивлению, уступила в этом состязании непробиваемая с виду скала. Прямо перед нами она вдруг расступилась, то есть ущелье внедрилось в своды пещеры, оставив на склоне горы круглый широкий вход.
Хотя кругом теснилась буйная растительность джунглей, она не подступала к отверстой пасти ближе, чем на сотню футов: словно из черного зева исходило смертоносное дыхание, не подпускающее ближе и уничтожающее всякую жизнь. От того места между большими скалами, где мы стояли, спуск круто обрывался футов на шестьдесят вниз, где громоздились камни на глиняных ступенях, сплошь поросших странным темным мхом. Спуск уходил дальше в пещеру, иногда обрываясь отвесно, иногда — более полого и образуя нечто вроде гигантской лестницы. Мы стояли на пороге мира, столь же угрюмого и нереального, как и самые фантастические вымыслы Доре.
Люди практические или черствые могут иронизировать над нашими чувствами, я даже знаю нескольких человек, которые сами побывали в громадной пещере горы Арипо и, может статься, стояли на том самом месте, но проявили полнейшее равнодушие. Но я все же расскажу о том, что почувствовали мы. Из пещеры веяло действительно чем-то похожим на дыхание смерти — затхлый запах тления в сочетании с тем, что я назвал бы не тишиной, а противоположностью звука, и со своеобразной тенью тьмы, клубившейся возле провала в земле. Мы стояли в ярко озаренном мире живых, среди пиршества ярких красок и бьющей через край жизни тропического леса, и заглядывали в ледяную черную бездну; вся она дышала невидимой, нездешней жизнью, загадочное присутствие которой выдавали какие-то неуловимые для слуха признаки.
Спустившись по скату, мы остановились у входа, прямо под аркой широкого свода. Впереди царила мертвая тишина. Но вот опять послышался тот же отвратительный визг, на этот раз он был в сто раз громче, резонировал сильнее и невыносимо терзал наши уши. Это был словно сигнал, после которого разразилась настоящая какофония, продолжавшаяся несколько часов кряду.
Из темного зева земли вырывались хриплые завывания тысяч и тысяч бесовских отродий, и буквально мириады — я не преувеличиваю — крылатых бестий носились тучами от одного убежища к другому, пролетая у нас над головой с ревом взлетающего самолета. Их тела мелькали во всех направлениях, пересекая пещеру, вылетая и влетая обратно; что-то маленькое кувыркалось и кружилось в полумраке, а выше что-то крупное проносилось под потолком, гулко хлопая крыльями, и снова тонуло в непроглядном мраке. Шум был оглушительный. Но все звуки перекрывали резкие трескучие вопли, самые душераздирающие из всех, какие мне приходилось слышать, — притерпеться к ним я так и не смог.
Мы запаслись всем необходимым для работы — захватили веревки, фонари, сети и сачки — и, распрощавшись с землей живых, начали спуск. Недалеко от входа в пещеру крутой скат, усыпанный там и сям влажными камнями, оборвался у второго «края». За ним ощущалась только гулкая тьма и неизмеренная глубина. Мы обсуждали трудности предстоящего спуска, как вдруг Каприата заметил что-то живое у правой стены; оно пробиралось к выходу.
— Глядите! Это рыжая пещерная крыса, — прошептал он. — Дайте-ка сачок!
— Вам ее нипочем не поймать в этом навале, — безнадежно пробормотал я, протягивая ему свой жезл предводителя.
— Если сумею его разорить, крыса от нас не уйдет, — последовал загадочный ответ. И Каприата бросился за своей добычей.
Мы стояли — точнее, балансировали и поскальзывались — на мокрых камнях, наблюдая за ходом охоты. Зверек выглядывал на мгновение, Каприата тут же бросался следом за ним в каменную россыпь, потом наступала тишина — оба противника крались друг к другу, — затем следовал очередной рывок и перебежка. В конце концов зверек оказался прижатым к стенке, взбежал вверх по гладкой отвесной стене пещеры, сорвался и опрометью кинулся назад, в пещеру. Каприата несся за ним по пятам. Я рванулся вперед, чтобы перехватить крысу, пока она не нырнула в глубину, поскользнулся и с треском приземлился среди кучи бутылок, пузырьков и прочих предметов снаряжения, так что дальнейших событий я уже не видел. Когда я огляделся, Каприаты нигде не было, а Альма, как мне показалось, обнимала большой валун.
— Эй! Они оба туда провалились, — сообщила она, указывая на совершенно непроницаемую с виду скалу.
В эту минуту из чрева земли до нас донесся полупридушенный крик.
— Что с вами?! — заорал я.
Я убился, — послышался голос Каприаты.
— Что-нибудь серьезное?
— Прошу вас, дайте свет, — крикнул он, как мне показалось, слабеющим голосом. Я подполз к краю и, включив фонарь, взглянул вниз.
Каприата глубоко внизу вертелся волчком. Я ожидал увидеть другую картину — что-то наподобие отбивного бифштекса с кровью, — однако с нашим другом явно все было в порядке, если не считать его странного поведения.
— Вы сильно ранены?! — крикнул я ему.
— Что? — спросил он, перестав вертеться и глядя вверх. — Да нет, со мной все в порядке.
— Вы же сказали, что убились!
— Это точно, только теперь я уже вижу, как отсюда выбраться. Глядите! Вот она, крыса! — И он поднял в воздух обмякшее тельце. — Уж эти мне крысы и мыши! — возопил он, возобновляя свои пируэты.
— Да что там с ним творится? — спросила Альма.
— Давай спустимся и посмотрим, — предложил я. И мы стали спускаться, медленно и с большим трудом, передавая из рук в руки фонари, карабкаясь друг через друга, выпутываясь в тесноте колодца из сплетений своих и чужих рук или ног, пока наконец не свалились клубком к ногам Каприаты на кучу зловонного бурого вещества, мягкого, как перина. Там кишмя кишели какие-то молниеносно летающие существа, и Каприата без устали размахивал руками, пытаясь их поймать.
Так уж вышло, что мы, сидя на куче гуано летучих мышей, затеяли длинный спор о свойствах английского языка на родине и за границей. Собственно говоря, мы узнали, что «убиться» значит «сбиться» с пути, а «разоренный» для четырехсот тысяч местных британских подданных означает «разъяренный». В настоящий момент мы, несомненно, «убились», а крыса была в высшей степени «разорена»: кстати, это была вовсе не крыса.
Любому человеку, не очень интересующемуся биологией, это маленькое существо показалось бы вылитой крысой: и форма его тела, и даже голый чешуйчатый хвост и ушки — все было, как у крысы. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что большие пальцы на задних лапках у этого существа действуют так же, как у человека на руках, а вместо острых резцов грызуна в его пасти открывался ровный ряд мелких, острых, как иголки, передних зубов. По сути дела это животное в систематическом отношении было настолько далеко от крысы, насколько это вообще возможно для млекопитающего. То был мелкий вид опоссума (Marmosa chapmani).
Боюсь, что придется немного отвлечься и сказать несколько слов о мелких опоссумах. Очень трудно бывает не отвлекаться от рассказа, когда охотишься на животных; вся зоология состоит из интересных всем широких бульваров, которые разветвляются на боковые дорожки почти в любой точке, какую только вам вздумается выбрать. Опоссумы принадлежат к группе млекопитающих, так называемых сумчатых, в которую входят, как явствует из названия, животные, вынашивающие свое потомство в сумках. У многих видов сумки пригодны разве что для вынашивания блох, а некоторые и вовсе их лишены. У этих мелких опоссумов сумки никуда не годные, едва намеченные, и своих малышей они вынашивают на спине — как только те научатся цепляться своими хвостиками за родительский хвост. Большинство сумчатых обитает в Австралии, но две группы встречаются на обоих американских материках. Одна из них — Didelphidae, то есть опоссумы.
Описано более восьмидесяти видов найденных в обеих Америках опоссумов. Большей частью это животные насекомоядные, и только два или три вида проникли в Северную Америку. Обычный в Соединенных Штатах опоссум (Didelphus virginiana) в описаниях не нуждается. Его широкая известность и послужила причиной того, что публика совершенно неправильно представляет себе типичную внешность опоссума. Обычный североамериканский опоссум — самый крупный и нетипичный представитель опоссумов, а остальные — в большинстве, если не поголовно, — гораздо мельче и несколько иного сложения. Некоторые размером с большую крысу и мало чем от крыс отличаются; другие же — крохотные животные, не больше европейской землеройки и ведут сходный с нею образ жизни. Почти у всех короткая, блестящая или грубая шерсть, совсем не похожая на странную двухцветную и двухслойную шубку обычного опоссума. Эти мелкие опоссумы очень многочисленны, как вы убедитесь несколько позже.
В зловонной тесной пещерке мы затеяли горячий спор о точном систематическом положении этого зверька. Каприата настаивал, что он достоин лишь названия англо-франко-испанского происхождения, Альма называла один подрод семейства, я столь же упрямо стоял за другой. Учитывая, что никто из нас толком не знал, о чем идет речь, а разглядеть зверька при свете фонарей было трудно, вся перепалка была напрасной тратой сил. Вдобавок, хотя воздух вокруг гудел от бесчисленных летучих мышей, мы не поймали ни одной, не помогли даже акробатические трюки Каприаты.
Теперь, когда Каприата признал, что уже не «убился», он получил самый большой фонарь и был послан вперед. Мы вошли гуськом в низкий и узкий коридор, ведущий в нашу маленькую боковую пещерку, расположенную под полом большой пещеры. Весь свод коридора был прикрыт, как одеялом, скопищем крохотных, неустанно попискивавших и трепыхавшихся летучих мышей, и все они, облизываясь мелькающими, как у змей, розовыми язычками, глазели на наш фонарь. Но стоило нам поднять повыше сачок, как вся эта масса словно растаяла, оставив чистую серую гладь скалы. Расправив перепончатые крылья, они тут же растворились в окружающей мгле, и мы чувствовали их присутствие только по взмахам бесчисленных крыльев и по тоненькому, прерывистому писку.
Каменные стены были изрезаны трещинами и многочисленными горизонтальными расщелинами, отовсюду выглядывали сотни и сотни маленьких мордочек с блестящими живыми глазами; там, в своем опрокинутом мире, где потолок стал полом, зверушки вытягивали шеи и ползали друг по дружке, стараясь разглядеть вторгшихся к ним чужаков. Именно в этих небольших тупичках пещеры нам и удалось наловить нужное количество зверьков. Мы засовывали сачок в расщелину и извлекали его обратно доверху набитым бурлящей массой теплых, шелковистых, живых телец — однако это варево обладало весьма неприятным свойством. Суньте туда руку хоть на секунду, и вы ее вытащите облепленной летучими мышами, вцепившимися бульдожьей хваткой в вашу живую плоть. Крохотные существа выглядят очень трогательно, когда жмутся друг к другу в темноте своих таинственных убежищ, но на самом-то деле это бесстрашные, агрессивные твари, готовые бешено сопротивляться любому пришельцу. Таким образом, процесс отбора определенного количества самцов и самок был не лишен увлекательности, особенно если учесть, что самок было значительно больше, чем самцов, и поэтому для отбора равного количества тех и других нам пришлось перебрать несколько мешков с уловом.
Все эти летучие мыши относились к одному виду — Glossophaga soricina, название довольно подходящее, поскольку они и вправду напоминают землероек (Sorex) — так же миниатюрны, одеты таким же мехом и столь же зловонны. Питаются они плодами и относятся к группе листоносов, у которых на конце мордочки торчит вверх «лепесток» голой кожи. У этого вида мордочка удлиненная и остренькая, листовидный вырост очень мал, а язычок длинный и тонкий.
Мы провели в коридоре некоторое время, отлавливая летучих мышей. Наконец добрались до очень узкого места, так что дальше пришлось ползти на четвереньках, и мы все ввалились в фантастический мир совершенно неожиданно, не подозревая, что нас ждет. Если бы мы просто спустились вниз из мира солнца и сверкающих колибри в царство тьмы и каменных стен, то постепенно привыкли бы к иному миру, но очутиться вот так, словно провалившись в природную западню… Нас поразил контраст двух миров. Мы стояли, зачарованные и оглушенные, перед воплощенной гравюрой Доре — со всеми подробностями, не исключая и крылатых бесовских полчищ.
Мы оказались у подножия «обрыва», который пересекал пещеру невдалеке от ее входа. Вы знаете, что при свете дня все окна в домах кажутся темными и снаружи нельзя ничего разглядеть даже в хорошо освещенных комнатах. В пещере, когда заглядываешь в нее с обрыва, яркий полуденный свет за спиной мешает видеть глубину зева. И вот теперь, углубившись в тень, мы смогли рассмотреть громадную пещеру, освещенную падающим сверху дневным светом.
Заливавший пещеру свет был ярко-зеленым, и не только по ощущению — позднее, проявив пластинки, Альма убедилась в этом. Свет был сильный, едва переносимый для глаз, и все же почти ничего не освещал: казалось, этот подземный мир поглощает свет. Свод, круто вздымавшийся футов на семьдесят вверх, утопал во тьме; справа и слева подступали высокие каменные бастионы; впереди были видны лишь нагромождения камней, изрытые черными провалами теней.
Местами карнизы едва виднелись и, казалось, были готовы рухнуть от тяжести наслоений какого-то темно-бурого вещества. Вещество еще более непроницаемой черноты стекало с карнизов по гладким стенам и образовывало маленькие насыпи внизу на неровном полу. Сам пол был разъят глубоким провалом, начинавшимся справа от нас и расширявшимся вглубь; все остальное дно пещеры было поглощено пропастью и терялось за гранью следующего обрыва. Из глубины провала торчали зубцы скал, увенчанные мягкими шапками того же темно-бурого, гладкого на вид вещества. Но самое поразительное зрелище представлял собой миниатюрный лесок, какой можно обнаружить разве что на самой отдаленной планете. Это была поросль высотой фута три, состоявшая целиком из прямых, стройных, тоненьких и практически лишенных листьев стволов белого и ярко-желтого цвета, которая поднималась только на горизонтальных карнизах и тянулась прямо вверх. Растеньица укоренились в мягком буром осадке на полу и на карнизах, казалось, что их ярко-белые стволики растут прямо в воздухе, ни на что не опираясь; они тянулись вверх, как по струнке, безмолвные, недоверчивые и подозрительные, словно сторонясь друг друга, — призрачный лес в чуждом, нездешнем мире.
Здесь, должно быть, всегда царила мертвая тишина, но сейчас ее сменил оглушительный шум. Во тьме над нашими головами разразилась буря, поднятая взмахами и хлопаньем крыльев сотен крупных крылатых существ, которые метались, задевая крыльями за стены, скреблись и дрались за места на карнизах, роились в воздухе, лишь изредка спускаясь ниже полога тьмы. Они теснились в темноте, под сенью нависшего свода. Вырываясь из тьмы, они воспринимались как мгновенные проблески тускло-серого цвета с парой заостренных крыльев; мелькнет — и нет. А внизу, в непроницаемой тени, вились бесконечные вереницы всполошенных летучих мышей.
Я не сумею описать эту непостижимую слитность безмолвия и дикого шума. Шум был оглушительный; и все же, то ли благодаря акустическому эффекту «ванной комнаты», рождающему эхо, то ли из-за прямо противоположного действия темно-бурых масс, место было залито свинцовой, тяжкой тишиной. Иногда резкие крики над головой вдруг затихали; тогда кругом воцарялось могильное безмолвие, в котором все же ощущалось бесконечное круговращение летучих легионов внизу, в черноте теней, и скорее угадывалась, чем слышалась, многоголосица тоненьких попискиваний. В этом жутком обиталище не было ничего, чему можно было бы подыскать сравнение в нашем нормальном мире, но я все же попытаюсь провести вас по нему, указывая вам на подземные чудеса точно так же, как это делали мы, попав в пещеру впервые.
Скажу прежде всего, что бурое вещество, устилавшее все вокруг, было, как и следовало ожидать, гуано, только довольно необычное — его залежи почти целиком состояли из несчетных миллионов высохших орешков или семян, при этом лишь двух видов: одни — длиной в два с половиной дюйма и по форме напоминающие ромбовидный леденец, другие — мелкие, круглые и покрытые волосками, что-то вроде невзрачного крыжовника. Все они были смешаны с рассыпчатой массой цвета ржавчины, насыщенной мелким мусором неведомого происхождения и множеством мельчайших камешков, не крупнее дроби для духового ружья. Напомнив, что все эти залежи прошли через пищеварительный тракт каких-то живых существ, я хочу дать вам представление об их грандиозности.
В одном месте недавно сорвавшийся камень отбил часть плоского как стол карниза, нависшего над провалом, о котором я уже упоминал. Этот канувший в пропасть кусок пола оставил на краю обрыва чистый, более или менее отвесный срез. На нем ясно просматривалось строение пола пещеры и мощность слоев. Нижний слой, разумеется, состоял из подстилающей скалы, но над ним громоздился слой гуано не менее семнадцати футов высотой. Заметьте, что это было на остром выступе, с которого большая часть отложений и без того скатывалась, кроме того, он находился вблизи входного отверстия, где свет был еще настолько ярок, что очень немногие животные ночевали там, и то вряд ли. А каких колоссальных размеров достигали залежи гуано в центре пещеры под сводом главного коридора, тем более в углублениях, я не осмелюсь даже предполагать.
Есть в мире поистине удивительные явления. Некоторые растения, относящиеся к цикадовым и, если я не ошибаюсь, произрастающие в Австралии, насчитывают шестнадцать тысяч лет. Сколько веков ушло на то, чтобы в пещере накопилось такое количество гуано? Обитающие там животные съедают многотонные массы фруктов и насекомых в течение года, но ведь гуано — это остаток, самый последний, не только после этих крупных существ, но и после всякой мелочи, обитающей в залежах гуано, а следом за ними еще вносят свой вклад грибы, одноклеточные организмы и бактерии.
Семена, образующие основную массу гуано, принадлежат пальмам анаре и кокорите и составляют основной рацион местной породы бесовских отродий. Призрачный лес вырос из этих семян. Сами же бесовские отродья — дьяволята, или «дьяблотэн», как их называют на Тринидаде, — те самые, что оглушают нас своими дикими визгливыми криками, представляют собой редкий вид птиц, удостоенный названия Steatornis caripensis и известный также как гуахаро, или жиряк, что на местном наречии звучит как «уотеро». У этой птицы нет близких сородичей: в современном мире она стоит особняком, и ее самыми близкими родственниками можно назвать только козодоев — странных острокрылых птиц, которые, откуда ни возьмись, налетают на вас среди дороги и в теплые летние ночи (если уж в Англии такое случается!) развлекают вас неумолчным журчащим щебетанием.
Я всегда питал слабость к козодоям и их родне. Несмотря на странные реснитчатые клювы и приписываемые козодоям необычные ночные «подвиги», это загадочные и прекрасные существа. А недоступные дьяволята вызывали у меня острый интерес еще тогда, когда я о них читал много лет назад, задолго до того, когда я увидел их в одном из немногих сохранившихся убежищ.
Когда-то они встречались во всех пещерах у побережья Тринидада и повсюду в горах, но молодые птицы состоят главным образом из жира, если пренебречь широкими клювами и полными страха глазищами, и первые поселенцы сочли их лакомым блюдом. Началось их повсеместное и полное истребление; птицы в скором времени исчезли повсюду, сохранившись только в громадной пещере горы Арипо и в нескольких труднодоступных небольших пещерах северного хребта. Одно время думали, что они окончательно истреблены, но сейчас стало известно, что птицы водятся и в других колониях, в горах Венесуэлы и Колумбии. В Тринидаде они теперь охраняются декретом правительства, а это немалая сила, особенно в британских колониях. Необходимо спасти этих прекрасных птиц. Редкостное создание природы, они словно специально придуманы для того, чтобы заполнить особую нишу — природный собор, и куда ценнее, чем все знаменитые куропатки Шотландии. Стоя по колено в мягких отложениях гуано, мы смотрели вверх, где летали, хлопая крыльями и сварливо пререкаясь, озаренные призрачным зеленым светом диковинные птицы, и чувствовали всем сердцем, что заглянули в лицо самой вечности.
На дне провала, там, где он наконец пересекался с полом главного туннеля, мы наткнулись на невиданную мусорную кучу — там были осколки яичной скорлупы, перья, кости, куски полуразложившихся птичьих трупиков и один почти целый птенец, погибший всего несколько дней назад. Взглянув вверх, мы увидели нависший над провалом карниз, на котором птицы, теснясь, били крыльями, цеплялись, дрались друг с другом, — и прямо у нас на глазах еще один жирный, неуклюжий птенец едва не соскользнул с края карниза, обрушив нам на головы, в отчаянной попытке удержаться, целую кучу гуано. Но ему все же удалось зацепиться и вскарабкаться на безопасное место, хотя старшие птицы в пылу сражения то и дело награждали его тумаками.
Судя по всему, карниз был опасным местом для гнездящихся здесь птиц, и казалось довольно странным, что колония этих общественных по природе птиц не умела жить дружно в мире, как это более или менее удается олушам и кайрам. Разумеется, их напугало наше присутствие, но до нас люди сюда вряд ли заглядывали, а маленькое кладбище внизу явно свидетельствовало, что за последние несколько недель порядочное число бесценного птичьего потомства было сброшено вниз взрослыми птицами. Я считаю, что это признак роста колонии гуахаро — возможно, птицы стали агрессивными просто от перенаселения. На каждом карнизе, попадавшемся нам на глаза, они сбивались в тесную кучу, гнезда — кучки гуано — были понатыканы на самых неподходящих, едва заметных казенных ребрышках.
У этой колонии была и еще одна странность — в пещере, необъятной и спускающейся в неизмеримую, судя по всему, глубину, гуахаро обитали лишь в передней части — большом туннеле. Причем теснились они на самых верхних, недоступных карнизах и даже в полете не спускались ниже тридцати футов от пола.
Некоторое время мы полазили вокруг, собрали несколько образчиков призрачных растений, прихватили тельце птенца-дьяволенка, исследовали все боковые коридоры, ответвлявшиеся от большого туннеля, и наловили обитающих там мелких скутигер и амблипиг, а затем вошли в широкий туннель с низким сводом.
Здесь нас ожидала совершенно иная картина. Несмолкаемый гам дьяволят почти совсем заглох, нигде не было видно ни крошки гуано: стены, потолок и пол были одинаково чисты и гладки. Ровный поначалу пол углублялся, превращаясь в ров, становившийся все шире и глубже по мере того, как свод понижался, — так что туннель, в конце концов, приобретал в разрезе форму треугольника, стоящего вершиной вниз, и поэтому, на какой бы склон вы ни ступили, все равно соскользнете на дно канавы, где скопились лужицы воды.
Мы осматривали эти лужицы, когда из глубины пещеры раздался оглушительный визгливый птичий вопль, которому вторил во весь голос наш Каприата. Оказалось, что туда прямо перед нами пролетел один из «дьяволят», а теперь мы перекрыли узкий выход, вовсю светя фонарями, и птица боялась пролетать мимо нас. Это ведь и впрямь ночные птицы, не выносящие света: они вылетают из своих сумрачных убежищ кормиться в полной темноте и возвращаются задолго до рассвета.
Каприата, будучи босиком, сумел взобраться вверх по одной стороне рва почти под самый потолок. Он посветил фонарем вперед и сообщил, что видит птицу в следующем коридоре, который проходит ниже. Он разглядывал коридор, балансируя и упираясь сачком в потолок. Мы ждали внизу. Как вдруг я увидел, что сачок сам собою поднялся, словно его надули, а затем закрутился в тугой узел.
— Эй! — крикнул я. — У вас там что-то залетело в сачок!
Каприата оглянулся, заметил вздувшийся сачок, в котором что-то билось, попытался схватить его правой рукой, выронил фонарь и, как нам казалось, в страшно замедленном темпе стал валиться вниз со своего возвышения. Крутые откосы рва были покрыты скользкими сталагмитовыми натеками, вдобавок залитыми тонким слоем стекающей вниз воды, так что скат был скользким как лед. По этому склону и скользил Каприата, с каждым мгновением все больше теряя контроль над своими движениями.
Надо сказать, что здесь не только были очень крутые склоны рва, сходившиеся вместе у земли, но и сам ров направлен к центру земли, поэтому Каприата, пронесшись совсем рядом со мной, описал в воздухе пологую дугу и, достигнув дна коридора, продолжал скользить в глубь пещеры с нарастающей скоростью. Никогда не забуду, как бедняга исчезал в неведомой глубине со скоростью пушечного ядра, летя в кромешную тьму с обрыва в бездну нижнего туннеля.
Мы затаили дыхание и с ужасом ожидали непоправимого звука тяжелого падения тела, но вместо этого раздался сочный всплеск и фонтан брызг взлетел вверх из темноты. После короткой паузы, заполненной какими-то булькающими звуками, до нас донеслись звучные раскаты смеха, в которые вплелись истерические вопли до смерти перепуганного гуахаро. Мы присели, с превеликой осторожностью продвинулись поближе к краю и заглянули вниз. Довольно далеко внизу Каприата то ли лежал, то ли сидел, а может быть, и стоял в глубокой луже кристально чистой воды. Точно мы определить не могли, потому что в свете фонаря прозрачная вода была совершенно невидима, и свет дробился и отражался от выстланного белым известняком дна бассейна.
Когда мы все наконец перестали смеяться, а дождаться этого не так-то просто, если находишься в обществе Каприаты, то уговорили славного охотника выудить сачок из воды и взглянуть, что там запуталось. Там оказалась летучая мышь (Chilonycteris rubiginosa) с невероятно уморительной горизонтально сплющенной мордочкой и толстым, круглым тельцем, похожим на пончик, — и притом она сама залетела в наш сачок! Мы могли годами обшаривать пещеру и не увидеть ни одного подобного экземпляра!
Тут мы поняли, что надо решать более серьезную задачу: выручать Каприату. От нас до бассейна, куда он свалился, было добрых пятнадцать футов. Каприата находился в туннеле, или маленьком зале, нижнего горизонта, а стены там были абсолютно гладкие. Мы выглядывали как бы из окошка примерно посередине одной из стен — как назло, самой гладкой. Поначалу мы об этом не задумывались и пытались поймать еще хоть одну летучую мышь из тех, что летали вокруг. Альма первая обратила внимание на ожидающие нас неприятности: как я заметил, женщины всегда умудряются заметить в любых обстоятельствах самое досадное упущение. Сначала и я, и Каприата наперебой изобретали разные уловки, чтобы изловить мечущихся внизу летучих мышей, но потом мы решили, что мышей удобнее всего загонять сверху, где стоим мы с Альмой.
— Влезайте сюда! — весело крикнул я. И Каприата честно попытался последовать моему совету.
— Ему сюда не взобраться, — твердила Альма. Но мы не теряли оптимизма. Шли минуты за минутами, а Каприата раз за разом соскальзывал обратно в свою лужу.
— Похоже, мне отсюда не выбраться, — признался он наконец довольно-таки жалким голосом.
Мы решили было спустить ему веревку, но почти сразу поняли, что здесь у нас ее совершенно не к чему привязать, да и сами мы еле держимся на скользком скате, и вытянуть Каприату нам не под силу. Поэтому я решил запастись несколькими длинными шестами и довольно долго отсутствовал: вскарабкаться наверх по скользкому скату — дело не простое. Возвращаться было куда проще: я соскользнул вниз, опираясь на раздобытые шесты. И попал прямо в гущу бурных событий.
Альма и в лучшие времена умела трещать как сорока: на этот раз ее словоизвержение достигло такой рекордной скорости, что я едва уловил что-то вроде паузы и, воспользовавшись ею, рявкнул во весь голос, чтобы прервать этот бурный поток. Я приказал повторить все более вразумительно, но и на этот раз сумел уловить только часто повторяемое имя самого почтенного гражданина приютившей нас страны. Я ни черта не понял, о чем и заявил Альме напрямик; но когда я склонился вниз к нашему недосягаемому Каприате, он выпустил в меня словесную очередь столь же скорострельного характера. А так как он говорил по-тринидадски, стоя по пояс в воде и то и дело поскальзываясь и ныряя вниз, я понял, что мне тут вообще ни бельмеса не понять.
Однако после нечеловеческих усилий я наконец добился толку от этой пары. Выяснилось, что Альма заметила в луже рыбу, а так как она знала, что эта пещера — единственное местообитание редчайшего интереснейшего вида (Coecorhandia urichi) совершенно слепых рыб, названных в честь вышеупомянутого гражданина, который ее и открыл, то пришла в неописуемый (и вполне объяснимый с зоологической точки зрения) восторг. Далее выяснилось, что она видела только мелькнувшую на дне тень рыбы, которая была бесцветна почти до полной прозрачности; Каприата же, которому свет фонаря бил почти прямо в глаза, вообще ничего не увидел. Как и следовало ожидать, это привело Альму в состояние, близкое к истерике. Она металась наверху в диком танце, подпрыгивая, размахивая фонарем и вопя Каприате: «Да нет, вон там! Там же! Скорее, она повернула обратно!» — и прочие столь же туманные указания, а бедняга не имел ни малейшего понятия, где это «там» и куда рыба плыла, прежде чем повернуть «обратно».
К моему появлению, насколько я уловил, рыба только что забилась под кучу камней «во-о-он там»; даже пользуясь преимуществом человека, который держит фонарь в руках, я не мог сообразить, в каком пространственном отношении «во-о-он там» находится к Каприате, к нам двоим или хоть к какому-нибудь неподвижному предмету или точке. Эти метафизические препирательства так затянулись, что я спустил в лужу свои шесты и сам слез туда же. Но как видно, уникальный и нелюдимый обитатель счел, что родная лужа стала чересчур перенаселенной, и наотрез отказался вылезать «из-под оттуда», как выразился Каприата.
После долгих и бесплодных поисков (позднее мы обшарили и другие лужи дальше, внизу) мы сдались и прекратили охоту. С помощью шестов выбрались в туннель. Когда все благополучно вылезли наверх, я бросил назад последний тоскующий взгляд — и что же! По дну бассейна величественно и неспешно скользила тень, точь-в-точь как от маленького дирижабля графа Цеппелина! С громким воплем я снова ринулся вниз, и безнадежная погоня продолжалась, пока мы, доведенные до полного изнеможения и отчаяния, не признали себя побежденными. Но и на этот раз я не удержался и вновь оглянулся — нет, не видно даже тени. Это странное, бесплотное создание, отбрасывающее лишь тень и невидимое миру, сохранило в неприкосновенности все тайны, какими владело. Мы до сих пор не изобрели ловушек, которые годились бы для этого неуловимого призрака. Однако не могу не привести здесь дурацкий детский стишок, который сложился у меня на обратном пути в лагерь (вы узнаете переделку знакомого стихотворения):
Она прозрачна, словно льдинка,— Моя сардинка-невидимка. Я не застал ее вчера, Я не видал ее с утра. Как я мечтаю, чтоб она Мне стала наконец видна!Нагруженные добычей, мы принялись карабкаться по скользкому скату вверх, в главный туннель, и в ту минуту, когда мы туда выбирались, «дьяволенок», метавшийся в глубине пещеры, решил, что пора наконец прорваться к своим сородичам. Он бросился вверх по туннелю, хлопая крыльями, истерически вскрикивая и то и дело сбиваясь с пути из-за слепящего света, к которому он не привык. Я выбросил руку с сачком наугад, перепуганная птица с ходу влетела в сачок, громко закричала, но вдруг совершенно успокоилась, а в ее громадных распахнутых глазах застыло удивление.
Воодушевленные этой удачей, мы поспешили выкарабкаться наверх и сделать в угасающем свете дня все нужные нам фотографии. Для этого нам пришлось привязать птицу за лапки к упавшему дереву — ноги у нее оказались такими коротенькими, что стоять на горизонтальной поверхности она была совершенно неспособна. Мы обращались с ней очень бережно, но, когда фотопортрет был снят, птица закрыла глаза нижними веками и отрыгнула все, что было ею съедено. Ела она, должно быть, не позже, чем прошлой ночью, но размеры кучи орехов, которую птица извергла, нас просто поразили.
Птица отличалась своеобразной, зловещей красотой: темно-бурого цвета, вся в белых пятнышках, с громадными черно-золотыми неподвижными глазами на сплюснутой головке, в которых застыло недоброе выражение; громадный рот раскрывался от уха до уха и был окружен жесткими ресничками; он напоминал клюв орла или коршуна. Хвост раскрывался как веер, а крылья были узкие, заостренные. От птицы исходил душный, мускусный запах, оказавшийся крайне неприятным, удивительно прилипчивым и поразительно стойким.
Когда мы отпустили пленницу, — а сделали мы это с удовольствием, и не только потому, что она принадлежит к охраняемому виду, но и потому, что птиц мы не собираем, — она полетела в громадную пещеру, которая служила ее древнему роду убежищем от мира и, не сомневаюсь, привыкла к жутковатым голосам этих птиц задолго до того, как мир услышал о человеке.
Лунный свет в кронах пальм
«Бедняжка-я», лопающаяся лягушка и бромелиевые
Если вы взялись ловить животных, будьте готовы к разочарованиям. Вы выступаете в поход, нагрузившись банками, пробирками, ружьями, сачками и сетями, обследуя каждую кочку на громадной территории, и возвращаетесь с пустыми руками в лагерь, где узнаете, что повар поймал редчайшую змею в вязанке хвороста. Самый верный способ искушать судьбу — это отправиться на поиски определенного животного со снаряжением, специально для этой цели предназначенным. Стоит вам выйти в лес с сачками и высокими бутылками для ловли лягушек, как вы непременно наткнетесь на ящерицу, которую надо ловить удочкой, или на россыпь крохотных водяных клещей, которых не изловить без тонкого пинцета и не сохранить без маленьких пробирок. А уж с огнестрельным оружием такое творится — хуже некуда. Конечно, я не охотник на крупного зверя, но могу по пальцам пересчитать случаи, когда мне пришлось стрелять из винтовки, если я брал ее с собой. А вот сколько раз мне случалось сидеть с охотничьим дробовиком на коленях и наблюдать крупных животных, которых добыть можно только выстрелом из винтовки, я даже не решаюсь сказать — их попросту не перечтешь. Оставалось смотреть, как они спокойно расхаживают под самым носом, словно позируя в живых картинах на лоне природы. Но почти не было случая, чтобы я, выходя с пустыми руками — просто подышать воздухом, не возвращался домой со спичками и сигаретами «россыпью» в карманах, в то время как освобожденные от них пачки и коробочки, футляр от очков, носовой платок и порой даже моя рубашка были битком набиты разнообразной добычей.
Однако встречаются редкие исключения из этого правила, и их запоминаешь надолго. Один такой случай произошел на горе Арипо в тот день, когда мы проверяли и упаковывали все свои коллекции и снаряжение. Может быть, мы таким образом обманули судьбу.
Мы только что отобедали, и делать было нечего. Невероятных размеров луна плыла прямо над головой в пене облаков, словно в волнах темно-синего океана. Лес застыл в безмолвии под алюминиевой фольгой лунного света; громадные розетки листьев паразитических лиан глядели прямо вверх, раскрывшись, словно тысячи губ, пьющих лунный свет. Ночь была не беззвучна, но только не умолкающие голоса насекомых неслись из густой, черно-лаковой темноты теней. Лес, громоздившийся вокруг нас амфитеатром, казался кружевным филигранным узором, вырезанным яркими лучами луны из непроглядной тьмы.
Мы с Альмой побрели, взявшись за руки, по тропинке, ведущей к ущелью, стараясь двигаться как можно бесшумнее — нарушать очарование тропического ночного леса казалось святотатством. Вторжение человека в нетронутый мир такой красоты кажется мне прискорбным, и нам, вырывающим из него горсточку законных его обитателей, нет оправдания, как нет прощения и промышленникам, которые сметают всю эту красоту с лица земли и оставляют взамен кучи мусора и неизбежную, неизбывную, уродливую нищету.
Но вопреки всем уверениям в могуществе природных инстинктов, под тонким слоем восхищения, которое мы испытываем или заставляем себя испытывать при виде красот природы, таится одержимость цивилизованного человека и прочие его страсти. Я говорю это потому, что мне глубоко стыдно, и я от всего сердца каюсь в том, что произошло тогда среди волшебной прелести лунной ночи.
Наша бескорыстная прогулка была прервана, когда мы увидели длинную тонкую лиану, покачивающуюся в лунном свете. Я не знаю, от чего зависит способность человека замечать качающуюся лиану среди неподвижных: то ли древний инстинкт, то ли изощренность чувств цивилизованного человека. Тем не менее в тишине и неподвижности ночного леса это воспринимается, как четкий сигнал. Мы тут же сделали стойку и воззрились вверх: эта лиана среди дюжины других свисала строго перпендикулярно с верхушки высокого дерева прямо вниз, в пропасть.
Стебель продолжал тихонько качаться взад-вперед, как длинная водоросль, колеблемая медленным течением. Время от времени по ней пробегала еще какая-то волна. Несомненно, по ней кто-то взбирался или спускался, поэтому я, оставив Альму на посту, помчался в лагерь, вытащил из чехла ружье, а другой рукой схватил фонарь. Каприата благодушно жевал свой пеммикан, но, увидев, что я хватаюсь за ружье, тут же бросил свой обед.
Когда мы прибежали к Альме, лиана все еще слабо раскачивалась. Каприата направил луч фонаря вверх, но верхняя часть лианы и существо, которое ее качало, были скрыты за массой бромелиевых. Мы светили со всех сторон, но ничего не могли рассмотреть, а движение не прекращалось. В конце концов Каприата спустился в ущелье и ухватился за нижний конец лианы. Он туго натянул ее, подержал с минуту, а потом отпустил. Она тут же снова стала качаться. Потом он несильно ее дернул, и до нас тут же донесся протяжный, тоненький, пискливый и ужасно жалостный свист, исходивший из густой листвы.
— Слушайте, слушайте! — шепнул снизу Каприата. — Это «бедняжка-я».
— Что-что? — хором переспросили мы.
— Очень грустный маленький зверек, сэр. Он всегда прячет мордочку в лапках.
— Как будем его ловить? — спросил я.
— Думаю, я взберусь быстро-быстро, — послышалось в ответ. И мы тут же увидели Каприату, летящего над пропастью на паре подвернувшихся под руку лиан. Каприата был одним из лучших природных «лесовиков», каких мне приходилось встречать, и, пожалуй, единственным прирожденным охотником, который встретился нам в наших скитаниях по всему западному полушарию. Своим знанием лесной жизни, любовью к ней и умением молниеносно принимать решения он мог бы состязаться даже с обитателями африканских зарослей. Каприата проявлял неподдельный, поразительный интерес к зоологии; доказательством этого горячего увлечения служит то, что и сейчас, спустя более чем год после нашего отъезда, он продолжает сотнями присылать мне животных, безукоризненно законсервированных, этикетированных и внесенных в каталог, — а ведь он всю жизнь проработал на полях!
Мы стояли над обрывом, светя фонарем, а он лез мимо нас все выше и выше. Поначалу его освещала луна, но потом черные тени от развесистых сучьев наверху поглотили его, и мы долго стояли в полном безмолвии и ждали. Теперь все лианы раскачивались, как в бурю, но, так как мне было не велено светить наверх, пока Каприата не даст сигнал, я стал оглядываться вокруг и смотреть вниз. Мне тут же бросилось в глаза нечто блестящее и ярко-оранжевое, прилепившееся к узловатому подножию дерева, росшего поблизости. Я никогда не видывал подобных грибообразных наростов, поэтому подошел поближе. Каково же было мое удивление, когда он вдруг заметно съежился, и, приглядевшись, я заметил, что от этого загадочного образования к земле тянется дорожка блестящей слизи. Пришлось почти уткнуться в него носом (он у меня довольно длинный), и только я наклонился, как оно вдруг похудело, вытянулось с одной стороны и приподнялось, слегка коснувшись упомянутой выдающейся и драгоценной части моего лица. Я настолько потерял власть над собой, что дернул головой и изрядно ушибся о деревце, без всякого злого умысла стоявшее сзади. Это окончательно вывело меня из себя, но не успел я опомниться и снять — точнее, отлепить — эту оранжевую массу с дерева и увязать в носовой платок, как сверху послышался крик Каприаты. Я быстро завязал платок и схватился за фонарь.
Белый луч высветил сплошную зеленую массу наверху. Я не видел ни Каприаты, ни его добычи, но Альма принялась прыгать на месте, повизгивая от восторга и размахивая руками.
— Да что там? — сварливо рявкнул я. Я все еще не опомнился от своего приключения и потирал ушибленную голову.
— Не знаю, не знаю, но я это хочу! — услышал я в ответ. Голос Альмы звучал как-то особенно, хотя и знакомо: я привык связывать эти особые нотки с огнями парижских витрин.
Признаюсь, я с облегчением понял, что разделяю ее чувства, когда наконец разглядел нечто небольшое, округлое и мягкое на вид: оно болталось футах в двух ниже полога листвы, цепляясь за ненадежный стебель лианы. В ярком свете зверек казался совершенно беспомощным, глядя на нас несчастнейшими глазами, какие только можно себе вообразить.
— Сюда, сюда, спускайтесь по лианам! — заорали мы Каприате.
— Эту пару я видел, — глухо послышалось сверху. — Тут наверху лазает еще один, большой. Вы не можете дать мне фонарь?
— Нет! Ради всего святого, спускайтесь и ловите этого!
Мы ждали дальнейших событий, а маленький зверек безостановочно кружился вокруг стебля лианы, пока не решил, что пора отступать в укрытие. Когда он приблизился к пологу бромелиевых, оттуда высунулась голова Каприаты, показавшаяся нам головой великана, затем рука протянулась вниз, схватила зверька и, оторвав от лианы, вознесла вверх. Немного времени спустя зверек появился снова, увязанный в красный носовой платок; болтаясь на конце тонкой длинной лианы, он медленно опускался вниз.
Как только зверек оказался в пределах досягаемости, мы оба бросились освобождать его от красочной обертки. При виде его Альма издала писк, достойный грудного младенца, и я бы уж не преминул ее за это высмеять, если бы не увидел своими глазами неотразимо очаровательную мордочку малыша. Мордочка малого муравьеда (Cyclopes didactylus) не похожа ни на одну звериную физиономию, даже сравнивать не с кем. Она суживается в своеобразный длинный клювик, покрытый шерстью, с парой маленьких черных глаз в придачу, которые бывают и зажмурены, как в тот момент, хотя век мы не заметили. Глазки были полны слез.
Сидя у меня на руках, этот печальный зверек испустил еще один жалостный свистящий звук и затем свернулся в плотный клубок, засунув свою диковинную мордочку между передними лапами, а длинный хвост закинув за шею. Голая подушечка на самом кончике хвоста — бледно-розовая и в морщинках, точь-в-точь как подушечки ваших пальцев, — прикрепилась к пучку волос на крупе; зверек был одет густой, плотной, пышной и при этом шелковистой бурой шерсткой. Он казался таким беспомощным, пропащим и несчастным, что я передал его Альме, которая быстро сложила ладони и приняла зверька.
Однако это вызвало мгновенную реакцию: зверек развернулся, как пружина, и оказался далеко не беззащитным. Он был вооружен мощными загнутыми внутрь когтями — на «ручках» они были сомкнутые, крепкие и острые, как зубья остроги; когти смыкались у запястья с ладонью, а на задних лапках — с пяткой, где кожица была нежная и розовая, как у человека. В эту минуту маленький муравьед решил замкнуть свои природные капканчики, защипнув при этом кожу Альмы в четырех местах. Для своих размеров зверек обладал недюжинной силой; его хватка причиняла жуткую боль, потому что два самых длинных когтя на передних лапах впились глубоко в тело. Мне пришлось применить всю свою силу, чтобы разжать мертвую хватку, но, когда я, отцепив одну лапу, переходил к следующей, первая тут же вцеплялась в другое место.
Когда Каприата снова спустился к нам, неутомимый маленький зверь все еще не угомонился, хотя Альму я кое-как вызволил. Я протянул его Каприате, но он тут же передал мне в обмен точную копию зверька, только уменьшенную раз в восемь. Поначалу я глазам своим не поверил — мне казалось, что Каприата дурачит нас какими-то трюками. Оказалось, что это детеныш, который цеплялся за спину матери, когда мы сняли ее со стебля лианы. Теперь мы снова вернули его матери, которая не обратила на свое дитя никакого внимания, но малыш бесцеремонно и очень ловко вскарабкался на свое привычное, безопасное место и закрепился там, запустив все острые кривые коготки в густой и пушистый мех матери.
Это животное относится к одной из трех групп настоящих муравьедов, обитающих в тропических регионах обеих Америк. Cyclopes — самый маленький из всех, не крупнее белки. Рты у этих зверьков — трубкообразные, полностью лишенные зубов, а язык — необычайно длинный и тонкий. Все это — для более успешного поедания муравьев, которые служат им пищей. Помню, я задавался вопросом, откуда муравьеды добывают достаточное количество муравьев себе на пропитание и притом ухитряются не наглотаться еще и мусора из самого муравейника; если я что-нибудь и читал по этому поводу, то не запомнил, а теперь, наблюдая за живым зверьком, все понял.
Его язык покрыт обильной, липкой слюной; считается, что она действует на муравьев примерно так же, как липучка на мух. Но, как оказалось, это еще далеко не все: свежая слюна, если ею просто капнуть на лесную подстилку, привлекает муравьев. Кроме того, когда зверек уплетает свою привычную пищу — а нам удалось наблюдать и двух других муравьедов за этим занятием, — слюна крупными каплями вытекает изо рта, когда язык полностью втянут. Оказалось, что со слюной выбрасываются только кусочки земли из муравейника — муравьи, все до одного, остаются во рту.
Процесс питания протекает, судя по всему, таким образом: муравьед сует язык в пролом муравейника и не втягивает его некоторое время. Муравьи, привлеченные слюной, сбегаются полакомиться. Через несколько секунд они добираются и до самого языка. Когда достаточное количество муравьев впивается в язык, зверек быстро вбирает его в рот. Причем он втягивает щеки, и наблюдателю хорошо видно, как с языка постепенно стряхивается несъедобный мусор, который собирается в передней части рта и склеивается слюной. А когда язык снова высовывается, эта масса выталкивается и падает на землю.
Мы ужасно обрадовались своей добыче, и Альма побежала в лагерь со зверюшками, надежно увязанными в носовой платок, а мы с Каприатой тем временем принялись при свете фонаря разыскивать предполагаемого отца семейства. Как я уже говорил, кроны деревьев были густыми и вдобавок увешанными гирляндами бромелиевых. Это растения-паразиты, очень похожие на поросль ананасов, их и зовут в некоторых странах «дикими ананасами».
Немного времени спустя мы услышали наверху какую-то возню, и по широким листьям внизу забарабанил целый каскад всякого мусора — точь-в-точь дождь по оцинкованной крыше. Проследив, откуда доносится шум, мы определили, что он идет из кроны высокой пальмы; крона, как я убедился лично, прочесывая ее самым тщательным образом в течение целого часа, напоминала целый ботанический сад в уменьшенном масштабе. Она была увешана невообразимым количеством разных паразитических растений — лиан, лишайников и мхов, среди них были и самые обычные растения, которым полагалось расти на земле. Мы ползали по сучьям, вглядываясь в буйную поросль со всех сторон, но возня не прекращалась, и на нас непрерывно сыпался дождь не поддающегося описанию древесного мусора.
Ночная охота в лесу с фонарем — один из самых добычливых способов сбора как самих животных, так и сведений об их образе жизни. Но порой, несмотря на все преимущества, ночная охота превращается в изнурительный и неблагодарный труд. Гигантские лиственные леса Африки ночью, освещенные изнутри лучом сильного фонаря, в этом смысле удобны, потому что вверху свет достигает нижних слоев кроны гигантов, а внизу свободно проникает в заросли молодых деревьев и подроста. Ночные вылазки в заливаемых приливом лесах Малайи[1] тоже трудностей не представляют — одиночные деревья там растут каждое на своем участке. Зато на Тринидаде порой приходишь в отчаяние. Днем, несмотря на густоту и обилие листвы, небо все же проглядывает сквозь кроны, ночью же лес кажется сплошной непроницаемой массой и почти полностью закрывает небо даже при яркой луне. Может быть, меня подводит воображение, но я почему-то убежден, что животные в западном полушарии норовят забиться в самую гущу листвы, а те ночные существа, с которыми я сталкивался в Африке, да и в других местах, всегда сами вылезают на особенно голые и открытые ветки.
Нечто, засевшее на нашей пальме, действительно ухитрилось запрятаться так, что дальше некуда. Я начинал выходить из себя, подстегиваемый укусами крупных муравьев (еще одно прискорбное обстоятельство, неизбежное при ночных вылазках), которыми была усыпана вся окружающая растительность. Каприате не изменял его обычный энтузиазм, так что мне пришлось собрать все свои силы ради интересов науки, «престижа белого человека», таинственного мусорного дождя и прочего, чтобы не сдаваться. Но все эти благородные побуждения испарились, когда, преодолев особенно колючую живую изгородь, я увидел цветок бализё и из его ярко-красного, напоминающего формой соусник, венчика на меня уставились два черных глаза. Я уставился на них сам, и они постепенно и опасливо скрылись в глубине чашечки, то и дело украдкой поглядывая через край. Глазки были небольшие, выпуклые до шарообразности и принадлежали сплющенной мордочке бледно-желтого цвета, выражавшей, несмотря на малый размер, достоинство, если не величие.
Я крайне осторожно подвинулся поближе и заглянул внутрь цветка. Как обычно, его бокаловидная чашечка была до краев наполнена водой. Там притаилась крохотная лягушка, которая изо всех сил дышала и глазела, — мне всегда кажется, что эти хрупкие существа тратят на пыхтенье и глазенье последние силы. Мне сразу бросилось в глаза загадочное явление — спинка у лягушки, похоже, лопнула, и из нее вылезали малоприятные на вид внутренности. Это было не очень эстетичное зрелище: что бы там ни лезло наружу, оно просвечивало и отливало тошнотворной синевой, как клубок тонких кишок, распираемых газами.
Единственный способ ловить лягушку (если под рукой нет нашей патентованной ловушки из тонких проволочных рамок, обтянутых черной сеткой, которую захлопываешь, как гигантские ножницы, — но тогда мы ее еще не изобрели) — хватать ее и все, что попадется вместе с ней, в горсть без промедления и не колеблясь. Так я и сделал, но слишком переусердствовал: вода из чашечки цветка брызнула во все стороны, окатив и мою голую шею. Это меня несколько отвлекло, а когда я разжал ладонь, лягушки там не оказалось. Трудно передать, какая досада и горечь накатывают на человека в таких случаях: кругом бездонная ночная тьма, а тут крохотные лягушечки прыгают бог знает куда. Я механически по привычке стал осматривать все вокруг, но фонарь, пострадавший от брызг, был при последнем издыхании.
Мне показалось, что я вижу ускользнувшую добычу на большом листе, но стоило пошевельнуться, как она пропала. При малейшем моем движении что-то опять принималось прыгать туда-сюда. Эта пантомима длилась несколько минут, причем я вращался, как пляшущий дервиш, снятый «рапидом»[2], а муравьи грызли меня как хотели. Фонарь светил так слабо, что я решил наконец его протереть. Взглянув на стекло, я увидел прилипшую к нему лягушку с раскинутыми лапками; она все так же усердно дышала и пялила глазки, но при этом стала совершенно прозрачной, как на рентгеновском экране. То, что сидело на листе или металось в разные стороны у меня перед глазами, и вправду было лягушкой, сидевшей на фонаре, а я сам вызывал эти загадочные перемещения. Когда лягушка (самочка, как выяснилось позднее) оказалась у меня в руках, я во все горло стал звать Альму, начисто позабыв про зверька в кроне, охота на которого требовала полной тишины, о чем мне и напомнил Каприата. К моему стыду, Альма была у меня под боком; она протянула мне пробирку — как раз такую, какая была нужна, и, естественно, спросила, зачем я так ору.
В это время Каприата пришел в неописуемое волнение:
— Глядите, глядите! Я его вижу! Ружье давайте! Скорей!
Мы оба осторожно приблизились и направили лучи двух фонарей туда, куда он показывал. С пальмового листа свешивался тонкий хвостик; его обладатель был невидим. Пока мы смотрели, высунулся другой хвост и раздался громкий визг. Вниз посыпалась масса всякой трухи, лист пальмы раскачивался как пьяный, хвосты то свешивались, то убирались в листву; наконец я выпалил наугад. Новая лавина мусора сорвалась вниз, пальмовый лист, перебитый почти пополам, переломился и упал наружу, на зеленую массу растений. Мы ждали, прислушиваясь, когда шорох мусора затих. Ничего — полнейшая тишина. Визг снова послышался — только с другой стороны. Мы обогнули ствол, и все почти в точности повторилось. Затем снова воцарилось молчание, после чего опять посыпался мусор.
Я был уверен, что дробь задела зверьков. Мы все считали, что один из них свалился внутрь кроны дерева, а второй, видимо, ранен. После обсуждения всевозможных вариантов я полез на дерево с фонарем в зубах, пользуясь на своем извилистом пути попадавшимися под руку лианами. Ни за что не поверю, что кто-нибудь, кроме жителей Океании, может взбираться по прямым стволам пальмы, как обезьяна.
Добравшись до нужного места, я столкнулся с несколькими препятствиями, по преимуществу утыканными острыми шипами. От соседнего дерева к пальме тянулся громадный сук, скрывавшийся в ее кроне. Я спустился с него как можно осторожнее и принялся обшаривать широкие листья бромелиевых. Вся эта конструкция напоминала висячие сады и была гораздо гуще любой живой изгороди.
Как только я касался очередного листа, с него резво сыпалась и разбегалась, прячась в соседних листьях, Целая армия мокриц. Я вспомнил, что недавно кто-то набрал с бромелиевых на Тринидаде мокриц, которые оказались видом, неизвестным науке, поэтому вырвал Целиком несколько растений и, окликнув своих помощников, чтобы побереглись, швырнул пучки вниз, приказав хорошенько обыскать их и собрать мокриц.
Я отвлекся от поисков еще раз, увидев два птичьих гнезда, висевших почти бок о бок, в которых сидели робкие маленькие обитатели, глядя на меня кроткими глазами, — они не улетели, несмотря на обстрел прямой наводкой и на поднятый нами переполох. Ночами, роясь в листве, я не раз находил птичек, так же отважно охранявших свои гнездышки: нет страха, который заставил бы родителей покинуть свой выводок, и я всегда стараюсь обойти их сторонкой, чтобы не пугать птиц еще больше; и без того их прекрасные глаза были полны ужаса. А в довершение всего рядом с гнездышками в трещине на жилке листа засел отвратительный паучище — еще один повод, чтобы убраться подальше.
Потом я отыскал первый, сбитый выстрелом лист пальмы, и тут начался затяжной спор с теми, кто остался внизу, — где я стоял, когда стрелял? Это было немаловажно, потому что помогало определить направление, в котором могли скрыться животные. Сверху все выглядело совершенно иначе, и я сориентировался не сразу. Но тут по чистой случайности я наткнулся на тельце одного зверька, застрявшее между двух лиан. Зверек оказался светло-рыжевато-оранжевой крысой с белым брюшком. Она была убита наповал. Дотянуться до нее было не так-то просто, и мне пришлось выполоть густую зелень, сорвать кучу лиан и паразитических растений, а когда я добрался до последних и уже готовился отбросить их в сторону, то заметил, что из кучи высовывается нечто посолиднее корешка. При свете фонаря я разглядел очень интересную змейку — с крохотной круглой головкой, громаднейшими глазами и разрисованным элегантными кольцами туловищем.
У меня хватило времени рассмотреть все подробности, потому что не сразу удается сообразить, что делать со змеей, когда торчишь на верхушке пальмы. Змейка была мне очень нужна, но я никогда не осмелюсь утверждать — и не поверю, если кто-нибудь мне это скажет, — что у любого из нас хватит зоологической эрудиции, чтобы определить с ходу, на глазок, к какому виду относится змея и ядовита она или нет. В природе такое множество безобидных существ, копирующих форму тела и отметины, характерные для опасных видов, что самый опытный зоолог вполне может ошибиться и принять неизвестное смертельно опасное существо за хорошо известного его подражателя. Как бы то ни было, при обращении с любой змеей необходима осторожность, потому что самая безобидная с виду змейка может вас цапнуть не хуже любого зверя. На земле змею легко изловить с помощью палки — не раздвоенной, как обычно думают, потому что в девяти случаях из десяти рогулька мешает как следует прижать змею и ей удается вывернуться, — а самым простым приемом: надо одним концом палки прижать шею змеи, под прямым углом, а на другой конец поставить ногу. Для мелких змей годятся очень длинные пинцеты, для остальных — обычные сачки. Конечно, есть такие змеи, которых уложить можно только гранатой. Но до них дело пока не дошло; передо мной была тоненькая змейка (Himantodes cenchoa) длиной всего тридцать один дюйм.
Ни пинцета, ни сачка у меня при себе не было, и положить палку поперек шеи змеи, которая болтается в воздухе, тоже невозможно. Но времени на раздумья не было, змея выползала, как скорый поезд из туннеля, и я не знал, много ли там ее осталось — хвост был скрыт кустом бромелии. Надо было действовать не мешкая.
Оставалось одно — применить методы, обычно зарезервированные для лягушек. У меня был носовой платок; я быстро накинул его на голову змеи, и вовремя — змея тут же обвилась вокруг моей кисти: в корнях оставалось не больше двух дюймов ее хвоста. Затем платок был плотно затянут вокруг ее шеи, и я сбросил добычу вниз, к ногам Каприаты, а уж он знал, что с ней делать.
В этом непривычном, неустойчиво подвешенном мирке тропического леса было полно разнообразных живых обитателей, совершенно не похожих на тех, что попадались на земле. После недолгих поисков я нашел множество исключительно красивых улиток с конусовидными острыми раковинами, прозрачными и белоснежными, украшенными лимонного цвета оторочкой. Улитки другого вида, с более массивными и тяжелыми раковинами той же формы, были расписаны зигзагообразными узорами пурпурных и коричневых тонов. Наконец я заметил далеко внизу просвечивающий через массу опавшей листвы и корней яркий огонек. Я покопался там несколько минут, стараясь отогнать образ змеи или громадного паука, преследовавший мое воображение, и добрался до источника света. Он, конечно, тут же погас, но немного погодя загорелся снова, чуть глубже и дальше. Я снова занялся раскопками. Свет погас и вновь зажегся, но на этот раз он был другого цвета и в паре с еще одним огоньком. Даже без фонаря я увидел, что свет испускают тонкие длинные жуки — они светились достаточно ярко, освещая большой участок вокруг. Изловив их, я довольно долго копался, но все же обнаружил и вторую крысу, тоже мертвую, на самом краю пальмового листа. Я стряхнул ее вниз и сам слез с пальмы не без труда и мучений.
Мы понесли добычу в лагерь; Каприата еще прихватил большую охапку бромелиевых, чтобы осмотреть на досуге. Разумеется, нам пришлось распаковывать все нужное для обработки сборов снаряжение и инструменты. Пробирки, спирт и формалин были нужны для мокриц, мелких лягушек и множества всякой мелочи, которую мы позже выловили из бромелий; предстояло сколотить клетку для муравьедов; нужен был журнал (каталог) и записная книжка, большая банка для змеи, этикетки, тушь и разные инструменты, линейки, микрометры, весы. Короче, понадобилось почти все наше имущество. Ведь животных нельзя просто поймать и «сунуть в спирт», как бы убедительно это ни звучало. Экземпляр без соответствующих данных, без этикетки, серии измерений и, самое главное, помещенный в неподходящее консервирующее вещество или в консервант, не проникающий глубоко в ткани тела, не стоит и хранить.
После обеда оказалось, что делать нам нечего. Мы вышли прогуляться и понежиться в лунном свете, преисполненные сентиментального восхищения гармонией жизни. И вот теперь, в полночь, нам предстояло еще заняться шестеркой более крупных и несметным количеством мелких экземпляров, представляющих большой интерес и, может быть, ценность для науки.
Только теперь мы получили возможность подробнее разглядеть нашу добычу. Оживший гриб, который я упрятал в свой первый чистый носовой платок, оказался «червем», в самом общем смысле слова. Это был так называемый плоский червь, из той группы, к которой относится и знакомая по счастливым школьным годам Planaria agilis — планария, та, которую мы с таким удовольствием кромсали на кусочки любой формы, какую нам подсказывало живое детское воображение, и из каждого кусочка которой вырастала целая новенькая планария. Большинство плоских червей обитает в воде, но в тропиках некоторые из них неторопливо и важно ползают в наиболее сырых местах. На этот раз мне попалась самая крупная из всех, какие я видел, хотя точный размер было крайне трудно определить, настолько изменчива была форма ее тела: только что она была длиной десять дюймов и вытянута в струнку — и вот уже превратилась в лепешку два на два дюйма. Кожа у этих страшноватых существ настолько тонкая, что сохранять их чрезвычайно трудно, слишком крепкий спирт их просто сжигает, а в слабом они могут раствориться. Эти ужасные хищники пожирают дождевых червей, личинок, насекомых и даже улиток, которых они вытягивают из раковин, обволакивая вывернутой наружу глоткой.
Лягушка (Gastrotheca fitzgeraldi), как оказалось, вовсе и не собиралась лопаться. Она была в полном здравии. Торчащая у нее на спине масса оказалась кладкой икры, помещенной в длинную и широкую сумку, открывавшуюся продольной трещиной на спине. Амфибии (класс, к которому относятся и лягушки) были переходной стадией эволюции наземных животных, или ступенью перехода животных от обитания в воде к обитанию на суше — как вам больше понравится. Рыбы без проблем размножаются в воде, откладывая икру там, где им удобно: икринке не грозит высыхание до того, как вылупится малек. Пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие — потомки амфибий — выработали способы, охраняющие потомство на ранних стадиях развития. Рептилии и птицы помещают его в непроницаемую скорлупу, млекопитающие вынашивают внутри своего тела, пока оно не готово появиться на свет. У амфибий в этом отношении нет единообразия. Большинство саламандр, тритонов, лягушек и других представителей этого класса возвращаются для размножения в воду; но для некоторых видов это порой столь затруднительно, что они изобретают самые невероятные способы пестовать свои икринки. Одни лягушки слепляют вместе листки и устраивают искусственный бассейн; другие для той же цели строят пирамидки из выделенной пены; а третьи, как наша лягушечка, засовывают икру в сумки и как можно чаще купают ее, как в ванне, в чашечках бализё. Эти мелкие — всего двадцать три миллиметра в длину — лягушечки отлично приспособились к жизни в листве трав и кустарников.
Быть может, самое интересное добавление к нашему скромному улову мы извлекли из бромелий. Мы поместили их на белую простыню и отрывали листок за листком, чтобы удобнее было ловить мокриц, снующих на длинных ножках с неслыханной для этих существ скоростью. Каждое растение таило в себе маленький зверинец, поражающий своим разнообразием. Кроме мокриц мы набрали множество мелких, толстых угольно-черных скорпионов, несколько мелких планарий, темно-коричневых, с парой ярко-золотых полосок вдоль спинки, розовую пиявку, четыре вида мелких улиток, с десяток разных видов пауков, из которых ни один нам ранее не попадался, хотя мы заглядывали во все щели в течение трех недель, и кучу насекомых, которых мы могли бы наловить, но по разным причинам не наловили. И наконец, там оказались три формы червей: одни — чисто-белые, другие — ярко-розовые, третьи — оранжевые, все — из группы олигохет, или дождевых червей. Как они забрались туда, наверх? Даже если они — специализированные формы, обитающие на бромелиевых, то как они ухитряются заселять новые растения в сорока футах от земли и в тридцати, если не больше, от ближайшего дерева? Эта маленькая компания сотрапезников ставит множество вопросов и проблем, интереснейших экологических загадок, для решения которых могут понадобиться долгие месяцы, но наградой будут, не сомневаюсь, ценнейшие открытия — ведь в маленьких, похожих на кочаны капусты бромелиевых сосуществуют такие разные создания.
И наконец, говоря о жуках-светляках (Pyrophorus), хотелось бы сообщить вам, что у них сзади на брюшке есть красные огоньки; боюсь, однако, что придется вас разочаровать. На самом деле на грудке у них зеленые огни, которые могут тускнеть или вовсе угасать, а также светить в полную силу; единственный светящийся орган на нижней стороне тела — густого золотисто-янтарного цвета, не может светить вполсилы, загорается только перед взлетом и во время приземления и лишь изредка — в полете.
Я всегда утверждал и буду утверждать, что мы не способны изобрести нечто не известное природе, и до конца своих дней буду лелеять надежду, что найду жука с красными стоп-сигналами, которые действуют точно так же, как у наших автомобилей!
Паучьи родичи
Кусачие скорпионы и многоножки
Бромелиевые представляют собой на редкость компактный объект для исследования. Когда наткнешься на такую удачу, загораешься неудержимой страстью — только бы ничто не помешало с головой нырнуть в этот крохотный мирок, — и ужасно досадно, когда недостаток времени или иные мирские заботы ставят тебе препоны. Хотя мы собирались уезжать в тот самый день, мы все же решили еще поискать бромелий, и, как только позавтракали, именно с этой целью я оказался высоко в кроне дерева.
Ничто не напоминало таинственный и опасный мир прошлой ночи с ордами муравьев, сотнями колючек и пауками в засаде — золотое утро занималось под нежным пастельно-блеклым небом. Лес был пронизан тем прохладным, освежающим сиянием, какое льется с неба сразу после восхода, колибри сновали повсюду, трепеща крылышками. Одна парочка была так увлечена своими играми, что пролетела между мной и Альмой, когда мы стояли на полянке, и одна из птиц даже задела крылом мою щеку — очень больно, как крохотным хлыстом. Даже когда колибри никуда не спешит, она летит, словно пуля; когда же они вьются в брачном танце, парой, опасность увеличивается не вдвое, а куда больше: обе птички взволнованы и носятся сломя голову. Поневоле вздрогнешь, представив себе, что одна из них врежется в тебя в таком экстазе: клювики у них острые, как копья.
Интересно было бы измерить скорость их полета. Я не представляю себе, как это сделать, — хотя кто-то, кажется, ухитрился измерить скорость полета некоей мухи в горах Мексики и сообщил, что она достигает 800 миль в час (почти 1500 км/час)! По сравнению с мухами наши авиаторы и металлурги кажутся довольно отсталыми — они признаются, что не сумеют построить аппарат, который достиг бы такой скорости полета — разве что в стратосфере.
Может быть, мексиканское насекомое и не носится со скоростью восьмисот миль в час, но некоторые другие мухи (Chrysops, например) передвигаются с пугающей скоростью. Удивительную эффективность их движения нельзя объяснить ни малыми размерами, ни уменьшением сопротивления воздуха. Тут многое зависит от материала, из которого они созданы. Живые существа не делаются из металла — материала с ограниченными возможностями. Если сравнить металлы с органическими веществами, из которых состоят ткани животных, с точки зрения преобладающих свойств, как положительных, так и отрицательных: ломкости, способности держать форму или эластичности и т. д. и т. п., то последние безоговорочно выигрывают. Вспомнив, сколько экспериментов было посвящено изучению свойств металлов и сколько они породили новых «пород» с совершенно непредвиденными свойствами, не стоит ли задуматься, как бы создать новые материалы из синтетических веществ животного мира? Попробуйте представить себе подъемную силу самолета с крыльями из хитина — того материала, из которого состоят крылья и «панцири» жуков; к тому же он сможет противостоять любой вибрации. Вспомните, что жук может врезаться в каменную стену на скорости шестьдесят миль в час, и ему хоть бы что, а ведь его хитиновый панцирь толщиной всего сотые доли дюйма. Не исключено, что хитиновый самолет сможет летать со скоростью мухи, даже не дожидаясь, пока двигатели внутреннего сгорания заменят чем-нибудь полегче. Шутки ради прибавлю, что осветительные и нагревательные приборы на этих фантастических летательных аппаратах можно было бы скопировать с «приборов» жуков, которых мы нашли на вершине пальмы, а кусочек красного стекла исправит маленький недосмотр Природы!
Эти мысли посетили меня в то прекрасное утро, когда я находился в кроне пальмы на горе Арипо. Сверху в лесу можно увидеть много такого, чего с земли не заметишь. Когда глядишь на растения сверху, видишь их цветы в особом ракурсе. Вы можете увидеть нечто подобное, не забираясь в тропики, — большинство этих цветов, выполненных из меди, хромированной стали и стекла, красуются в кафе, барах и ресторанах современного Парижа в виде абажуров и светильников.
Найдя несколько бромелий, я сбросил их вниз и залюбовался цветами. Я стоял на большом суку и держался правой рукой за сук поменьше, который тянулся параллельно ему примерно на уровне моего лица. Потом сделал шаг вперед и одновременно переместил руку. Мой мизинец попал в аккуратную круглую дырочку, и в ту же секунду меня обожгла острая боль, словно в палец вонзился раскаленный скальпель; боль пронизала всю руку, плечо и правую сторону шеи и отдалась в голове, как будто меня лягнула лошадь. У меня сразу все поплыло перед глазами — может быть, от неожиданности, и я оперся на сук, за который держался. На нем я разглядел дыру, в которой вовсе не притаился, а стоял во весь рост черный скорпион, похожий на тех, которых мы вытряхнули из бромелий, только покрупнее. Я поспешно спустился на землю и побежал в лагерь.
Надо сказать, что о скорпионьих укусах ходит множество слухов. Во всех странах, где они водятся, они снискали самую дурную славу, и местные жители уверяют приезжих, что укус скорпиона смертелен. Почти во всех книгах по естественной истории или в более специальных зоологических трудах, которым можно полностью доверять, вы прочтете, что «ужаление болезненно, но редко приводит к серьезным осложнениям». Разумеется, это совершенно правильное утверждение; однако скорпионы бывают самых разных размеров, и боль соответственно тоже бывает разная. В наше время собрано достаточно свидетельств о последствиях укуса гремучей змеи и почти все знают, чего ждать в подобных случаях. Интересно было бы, мне кажется, как можно точнее описать те ощущения, которые испытывает человек, укушенный скорпионом определенного вида, и последствия такого укуса; хотя, конечно, к другим видам или к любому из них это уже не относится.
Несколько лет назад я своими глазами видел, как умер малаец, которого, по достоверному свидетельству всех при сем присутствовавших, укусил скорпион. Я пришел на место события спустя три часа — к тому времени бедняга был в два раза толще любого малайца, какого я видел, и весь сплошь темно-синего Цвета, за исключением пальцев на руках и ног ниже колен, которые сохранили обычный изжелта-медный оттенок. В Малайе, видите ли, водится скорпион цвета нефтяной капли на асфальте и такой громадный, что смахивает скорее на рака, чем на скорпиона. Должно быть, запас яда у него приличный, и малаец, наступивший на него, получил полную порцию — ядовитый «зуб» отломился и застрял у него в ноге. Тем не менее это вовсе не значит, что укус такого скорпиона смертелен для всех, — может быть, тот несчастный был сердечником или закоренелым наркоманом.
На севере Нигерии обитают претендующие на святость довольно неряшливые типы, которые всегда таскают в складках своих одеяний несколько крупных скорпионов. Они играют со скорпионами, чтобы привлечь внимание и доказать свою святость, что необходимо им как реклама их бизнеса — оказания помощи при родах. Эти люди дают ужалить себя и чужим, не «ручным», скорпионам, не испытывая при этом ни малейших неудобств. Возможно, существует иммунитет к укусам скорпионов; с другой стороны, могут наблюдаться и иные последствия, как бывает при ужалении некоторыми видами ос: в подобных случаях два укуса, разделенных промежутком времени, могут оказаться гораздо опаснее первого укуса или нескольких укусов подряд.
Этим можно объяснить исключительные случаи, когда укус скорпиона приводит к «серьезным осложнениям». В случае со мной скорпион был не так уж велик, до него меня никто не жалил, и сердце у меня было в полном порядке. При этом неприятные последствия оказались сильно облегченными, если не совершенно сглаженными, по совсем иной причине, как увидите.
Когда я добрался до лагеря, мой палец и вся наружная сторона руки абсолютно онемели, мышцы стали твердыми, непослушными и кожа побелела; руку до локтя я почти не чувствовал, будто отлежал ее во сне и по ней вот-вот побегут колючие «мурашки». Общее онемение, однако, не распространилось на место укуса — кончик моего мизинца оказался сверхчувствительным, когда я надрезал его тонким скальпелем, чтобы выдавить яд, согласно инструкции. Было довольно неприятно, когда из ранки не удалось выцедить ни капли крови, как я ни старался, — только по краям разреза россыпью выступили мельчайшие бусинки черной, свернувшейся крови. Тем временем онемевшая часть руки начала «отходить», ее кололо, как иголками, — не помогло и то, что я сунул палец в очень горячую воду, чтобы «оттянуть» кровь в укушенное место, где она свернулась, конечно, от яда. После горячей ванны на границе мертвенно-белой онемевшей части руки появилась алая лента и вся рука страшно заныла, будто ее измолотили. Ровно через полчаса после укуса железы под мышками сделались крайне чувствительными и болезненными, а рот непрерывно наполнялся слюной.
Тут как раз и вернулся Каприата, который стирал свою одежду внизу, у ручья. Увидев меня, он тут же сказал: «Вас кто-то ужалил», хотя Альма уверяла, что у меня вполне нормальный вид. Потом Каприата сказал, что у меня очень сильно расширились зрачки — сам я это подтвердить не могу, хотя все, что говорит Каприата, обычно оказывается правдой. Он немедленно взял дело в свои руки, и его лечение, я уверен, оказалось действенным, иначе дальнейшие события могли бы развиваться совсем иначе. Конечно, результат был бы примерно тем же, но мне пришлось бы терпеть более продолжительную боль, а может быть, и новые виды боли.
Как многие жители тропиков, Каприата считал себя неуязвимым для укусов ядовитых змей, насекомых и прочих существ. Однако у него все же хватало честности, чтобы не утверждать, как остальные, что при виде его все эти животные подползают к его ногам и отдают богу душу. Он был разумным человеком, а я полностью доверяю методам лечения местной медицины и готов испытать на себе даже подлинное «джу-джу», если под рукой ничего другого нет, но при условии, чтобы лечение было не слишком грязным и утомительным. Меня как-то раз вылечили от легкой, но все же неприятной формы дизентерии при помощи чая из цветков хлопчатника, собранных утром; а следующий приступ мне снять не удалось, потому что хотя цветки и были собраны с того же куста, но уже после полудня. На юге Соединенных Штатов Америки многие, видимо, могут это подтвердить. А «лечение» Каприаты было еще более примитивно.
Он тут же велел убрать горячую воду, вытянул мою руку и начал чрезвычайно умело массировать ее по направлению к телу, а мне дал пожевать два кусочка тонкой лианы размером полтора дюйма каждый. Вкус у них был ни на что не похожий и вызывал дикую оскомину. Однако боль как рукой сняло. Через час я о ней и не помнил. Слюнотечение прекратилось, как только я начал жевать стебельки, но онемение сохранялось несколько часов и проходило очень медленно, особенно после прекращения массажа. Разрез, который Каприата еще расширил, зажил, как нам показалось, удивительно быстро. На Тринидаде существует множество разнообразных методов лечения скорпионьих укусов. Людей, поддерживающих огонь на сахарных фабриках, постоянно жалят скорпионы, которые очень любят жить в тепле, укрывшись в дровах, приготовленных для растопки. Я сам разговаривал с человеком, которого скорпионы кусали четыре раза за последние три месяца. Он советовал выпить как можно больше сиропа из сахарного тростника и как можно дольше работать у огня. Терапевтическое значение этого практичного способа очевидно.
Знакомые, рассматривая наши коллекции, часто спрашивают, относятся ли скорпионы к насекомым — мол, они знают сами, что скорпионы — не насекомые, но хотелось бы знать, кто же они? С той же трудностью мы сталкиваемся, когда приходится объяснять будущим энтузиастам-коллекционерам, каких созданий мы так прилежно собираем. Например, есть такие Amblypygi — их всегда можно найти в пещерах и под поваленными деревьями; клещи разных видов, которых нам необходимо обирать с животных, на которых они живут, а также опилиониды, которых в Англии называют «сенокосцами», а в Америке «долгоножками», что вносит путаницу в наши объяснения. Все эти существа, а также пауки, королевские крабы, обитающие в море, и некоторые наиболее незаметные создания, похожие на червя и ведущие паразитический образ жизни в теле позвоночных (Pentastomidae) или вообще ни на что не похожие, объединяются в многочисленный класс, называемый Arachnida (арахниды, или паукообразные, от греческого arakhne, что значит «паук»). На древе жизни, в систематике, этот класс находится на своем месте — между насекомыми и ракообразными (крабами, лангустами, креветками и т. д.).
Коллекционирование насекомых — занятие, которое известно человечеству с давних времен и порой приносит немалые прибыли. Ракообразных собирали еще до появления первых шотландских кожаных лодок: ведь даже малые народы знали, что они годятся в пищу. Арахниды же не пользовались всеобщим вниманием, и поэтому о них знают гораздо меньше, хотя их поведение необыкновенно интересно. Когда-нибудь некоторые арахниды приобретут важное экономическое значение, но не сами по себе, а как метод борьбы с насекомыми-вредителями.
Почти все арахниды в той или иной степени ядовиты. Некоторые из них — скорпионы, гигантские волосатые пауки и, очевидно, часть сенокосцев — весьма ядовиты. В этом отношении с паукообразными соперничает еще одна группа представителей обширного типа Arthropoda (членистоногих), в который они входят вместе с насекомыми и ракообразными. Эту группу (надкласс) определить легче — к ней относятся разные многоножки и сороконожки; в науке она известна под названием Myriapoda, то есть «многоножки». Малоизученность паукообразных многоножек — арахнид и мириапод — объясняется не только тем, что все они несъедобны, но и еще кое-какими причинами, которые вы узнаете из рассказа о нашей деятельности после того, как мы расстались с прекрасным лагерем на горе Арипо.
Если на Тринидаде вы сумели пережить те ужасы, которыми вас пугают коренные обитатели острова, то есть кровососущих вампиров, то у местных жителей есть про запас еще один зоологический объект, который нагонит панику. Я имею в виду «остров сороконожек». От надежных и ненадежных людей и вообще со всех сторон мы слышали о лежащем близ северо-западного побережья Тринидада небольшом островке, который не только необитаем — к нему и подступиться нельзя из-за гигантских многоножек и чудовищных волосатых пауков, заполонивших его целиком. Мы даже встречали людей, которые видели «сороконожек» своими глазами и уверяли, что они «во-от такие», сопровождая свои слова классическим жестом рыболовов. Само собой, нас это очень заинтересовало, мы втайне от всех договорились о «транспорте» и тщательно выбрали свой «персонал» — речь идет о шофере такси, который прославился и получил прозвище Пятница, так как снимался в фильме про Робинзона Крузо на острове Тобаго. Своими планами мы поделились с немногими избранными, и все они, возводя глаза к небу, восклицали: «О! Будьте очень, очень осторожны!»
Мы отправились как бы в самое обычное туристское путешествие, стараясь выдать мешок для коллекционирования за припасы для пикника. Пятница ни о чем не догадывался, несмотря на то, что дело было в субботу — единственный день недели, когда он находился в полном сознании. Путем осторожных расспросов мы выведали, что «остров сороконожек» расположен как раз напротив известного пляжа. Туда мы и направились, держа на виду купальники. К наше великой радости, на берегу оказалось множество лодок, которые дают напрокат. Выскочив из машин мы сразу бросились отыскивать самого «просоленного морского волка», что оказалось не так-то просто: все владельцы лодок — дочерна загорелые молодцы в ослепительно белых брюках прямо-таки оксфордского покроя и пестрых модных рубашках.
Когда мы выразили желание нанять лодку часа на два, нами даже заинтересовались, несмотря на явно дикарский английский акцент! За довольно скромную сумму мы получили суденышко небесно-голубого цвета с желтыми веслами и уже выходил навстречу волнам, когда владелец решительно и громогласно потребовал сообщить, куда мы направляемся. Я был не прочь и соврать, но островок-то был весь на виду, а кроме того, от этого явно могла пострадать честь родной Англии. Поэтому я постарался как можно более небрежно сообщить: «Вон на тот островок!»
Действие моих слов было подобно разорвавшейся бомбе. Хозяин пришел в ужас; все остальные владельцы лодок сбежались к нему на помощь. Нам вослед понеслись грозные вопли, но, к счастью, я плохо владею тринидадским жаргоном, зато гребля — единственный вид спорта, которым я занимался всерьез, так что, пока хозяин решал, что дороже — лодка или белые штаны, мы были уже вне досягаемости, хотя они даже побежали к другой лодке, грозя пуститься в погоню. Однако карибская лень и неповоротливость дали им время сообразить, что от англичанина ничего другого ждать не приходится. Немного полюбовавшись их жестикуляцией, мы направили суденышко в лазурные морские волны.
В полумиле от берега, в центре прелестного залива, возвышался «страшный остров», его источенные морем скалистые берега отвесно обрывались в море, и все там было мертво, мрачно, пустынно и жутко. Когда мы подходили к острову, на берегу залива стояла небольшая группа людей в костюмах веселой расцветки — среди них был и наш Пятница, — судя по всему, они молча молились о нашем спасении.
На единственном пологом участке берега нас ожидала первая загадка. Это была чистенькая доска, на которой в недвусмысленных выражениях было объявлено, что берег является собственностью некоего лодочного клуба и нарушители будут преследоваться по закону. Потом выяснилось, хотя нам было искренне жаль того человека, который водрузил столь бесстрашную заявку на собственность, что вступать во владение островками, разбросанными вокруг Тринидада, небезопасно. Мы слышали, как несколько лет назад, после землетрясения, жители одного из побережий, проснувшись поутру, увидели среди ленивых тропических волн длинный невысокий островок, протянувшийся перпендикулярно берегу. Вести об этом достигли, как и следовало ожидать, ушей губернатора, который тут же снарядил экспедицию с проводниками, запасами сэндвичей для ленча и при участии представителей муниципалитета и менее заметных членов «правительства»; не забыл он и флаг Великобритании — «Юнион Джек». В новых владениях Великобритании была проведена чрезвычайно торжественная церемония, в результате которой империя увеличилась на целых двенадцать миль покрытого водорослями морского дна, едва приподнятого над водой. Со всей торжественностью был водружен «Юнион Джек». Территория Британской империи получила прибавление. Но уже неделю спустя, опять под таинственным покровом ночи, новые владения безмолвно скрылись в волнах и с тех пор более не являлись человеческому взору.
Рассмотрев объявление и рассудив, что нам придется иметь дело только с законом, мы решили рискнуть и, соблюдая осторожность, высадиться на остров. Причалили лодку, уткнув ее носом в коралловые утесы, и довольно долго собирались с духом, созерцая сквозь прозрачную как хрусталь воду множество пестрых рыбок и прочих морских обитателей, прежде чем высадиться на берег.
В длину остров оказался ярдов двести, не больше; это был фактически самый южный участок суши в этой части света. Бескрайние тропические леса Амазонии простираются на все Гвианы и переходят на Тринидад, большую часть которого они покрывают как влажное зеленое одеяло. Только на самой дальней, северо-западной оконечности острова сохраняется кусочек сухой пустынной тропической зоны, распространенной в Карибском регионе, и в особенности на северном побережье Венесуэлы. «Остров сороконожек» — ее самый южный аванпост, крохотный, как булавочная головка, клочок земли, покрытый иссохшими зарослями кустов, кактусами и ксерофитными колючками что составляет разительный контраст с берегами залива, где царит тропическая пышность. Сам островок похож на громадный кусок пемзы, источенный, как сито, с множеством трещин, пещер и извилистых нор, которых здесь даже больше, чем на горе Арипо.
Чуть правее места нашей высадки виднелась пещера, и, когда мы в нее вошли, нас встретило чудесное зрелище. Пола здесь не было — дно внизу уходило прямо в море. К тому же вода была так прозрачна, что солнечные лучи высвечивали всю пещеру, до малейшего уголка, а дно было устлано чистейшим серебристым песком. В этом волшебном бассейне плавали несметные стаи рыб, расцвеченных всеми цветами радуги. Стены были украшены ярко-алыми и зелеными водорослями, а посредине у самого дна притаилась небольшая акула. На потолке гроздьями висели летучие мыши, Hoctilio leporinus, с заячьей губой, в рацион которых входит и рыба — они ловят ее, летая над водой и пикируя, как чайки.
Тут мы распаковали свой коллекторский мешок, где были сачки, бутылки, громадные деревянные пинцеты, а также, на всякий случай, йод, бинты и скальпель. Обсудив шепотом план действий, мы принялись с превеликой осторожностью переворачивать камни и обломки деревьев, ворошить листья и делать прикопки.
Должен сказать, что я собирал животных в сорока пяти странах, — надо признаться, не везде с одинаковым рвением, и я не видел ни одного места, где не обнаружились бы пауки и многоножки. Похоже, что они — истые анахореты среди животных, которые обитают в безжизненных пустынях, выше линии снегов в высоких горах, на необитаемых соленых отмелях и на самом дне лишенных воздуха пещер. Но отныне следует занести в анналы сведения о том, что эти две группы все же обитают не повсеместно: по крайней мере мы открыли одно место, где не нашлось ни единого экземпляра из этих групп. Островок был крохотный, мы трудились целый день, пробираясь в пещеры, спускаясь в недра земли, взбираясь на деревья, вскрывая кактусы, даже заглядывая внутрь цветов — не говоря уже о привычных обиталищах многоножек и пауков, которых здесь тоже хватало. Может быть, эти существа появляются только в определенный сезон, а может, те орды, которыми, судя по слухам, кишел остров, просто слопали друг друга, как политические соперники в некоторых странах. Во всяком случае мы были горько разочарованы: ни одного завалящего паучка, ни одной самой ничтожной многоножки! Мы сообщили о своем открытии Пятнице, но его реакция на наш рассказ была столь странной, что мы сочли за благо держать язык за зубами и как можно быстрее покинуть страну. Вот что удивительно: о нашей вылазке нас не расспрашивал ни один из знакомых. А тут еще почта внезапно обнаружила громадный мешок с письмами, которые забили весь отдел «до востребования»; то, что мы до сих пор не возвращаемся домой, вызвало тревогу, и в письмах требовали нашего немедленного возвращения. По множеству причин мы поняли, что уезжать необходимо без промедления. Сели на корабль, отправляющийся на Гаити, и сразу же свалились на свои койки с приступом жестокой лихорадки.
[1] Имеется в виду полуостров Малакка. (Примеч. ред.)
[2] Съемку «рапидом» порой неправильно называют «замедленной съемкой». Эффект замедления достигается, наоборот, ускоренной съемкой. (Примеч. пер.)
Часть 2. По Гаити
Карибский сосновый лес
Перипатус, а также дикие свиньи, собаки и лошади
Свежий морской воздух и таблетки атебрина с добавлением нескольких стаканов отменного легкого голландского пива постепенно справились с лихорадкой. Первой решилась выйти наверх Альма — она проголодалась и знала, что доктор отдыхает. Голландские пароходы заслуживают только похвал: еда всегда доступна, и никто вас зря не беспокоит. Поэтому я был несколько удивлен, когда вылощенный молодой стюард, которому очень пошли бы деревянные сабо, передал мне, что пора начинать укладываться, и поскорей. Я выглянул в иллюминатор: судя по всему, мы находились посреди океана.
— А зачем мне укладываться? — спросил я.
— Есть, сэр! — вежливо ответил он и удалился. Корни германских языков похожи, но не настолько, насколько хотелось бы.
Тут появилась взволнованная Альма — оказывается, уже подходим к Гаити!
Мы выгрузились в некотором беспорядке и попытались оправдать пугающие размеры нашего багажа. Гаитянские служащие очаровали нас своей благородной любезностью; Альма была в восторге оттого, что может наконец болтать по-французски и размахивать руками, сколько душе угодно; все это, вместе взятое, и вдобавок отношение ко всем англичанам, как к безобидным идиотам, облегчило нам все формальности, и мы двинулись дальше, чтобы устроиться поосновательней в этой прекрасной и многообещающей стране. Мы радовались, думая, что хорошо замели следы, и предвкушали период спокойной подготовки к работе.
Этот процесс подготовки был связан с необходимостью участвовать в светской жизни цивилизованного общества, а именно посещать отели, клубы и поддерживать прочие социальные контакты. Упоминаю об этом только ради того, чтобы рассказ о наших запутанных маршрутах сохранил хоть какую-то связность, однако возвращение к цивилизации принесло нам два ценных приобретения.
Первое: мы приобрели автомобиль, скорее из чувства патриотизма, чем по необходимости. Это был вместительный «Роллс-ройс» выпуска 1923 года. Единственный экземпляр на Гаити — собственно говоря, первый и последний, — он стоял заброшенный во дворе. Достоинство «Роллса» англичанину так же дорого, как чувство собственного достоинства, — всего за пятьдесят долларов мы получили драгоценнейшее средство передвижения и одновременно поддержали честь Империи. Но купить «Роллс» — это еще не значит заставить его двигаться. Может быть, «Роллсу» показалась подозрительной моя несколько латинская, не английская физиономия. Во всяком случае, только после того как мы встретили соотечественника, знавшего психологию машин, мы смогли на нем ездить.
Фред Олсоп — наше второе приобретение — был уроженцем Лондона и жил на Гаити. Мы почувствовали, что стоим лицом к лицу с Империей, с «Роллсом» и с самим смыслом жизни. Мы с любовью говорили о Лондоне, и Фред решил провести свой отпуск с нами в экспедиции. Были составлены соответствующие планы, закуплено и упаковано снаряжение. И вот, почему-то неожиданно, настал день отъезда. Собственно, было уже десять часов, а мы собирались выехать в шесть. В самый последний момент было решено взять с собой и автомобиль Фреда — «фордик» неизвестного года выпуска и начисто лишенный величия, зато безукоризненный на ходу. Мы нагрузили на него избыток снаряжения и отправились в путь ровно в час тридцать.
Мы узнали, что по гребню самого высокого на острове горного хребта между двумя высочайшими пиками проложена дорога. Говорили, что там наверху растет сосновый лес, но мы, конечно, не верили этому, зная, что в представлении местных жителей лес — это нечто вроде пыльной степи, заросшей невысоким хилым подростом, а так называемые сосны мы уже видели в другом месте, где ими ужасно гордились. Кстати, здесь, может быть, интересно коснуться еще одного вопроса, хотя без какой бы то ни было надежды на результат.
Почти во всех газетных статьях или очерках, в журналах, будь то репортаж или роман, да и в каждой книге, которую я читал, неизменно и авторитетно говорилось о «джунглях» Вест-Индии, в частности о «курящихся паром джунглях Гаити». Это представление бытует как среди тех, кто никогда не бывал на Гаити, так и среди тех, кто там бывал, особенно среди невежд и горе-ученых, и даже среди тех, кто специально приехал изучать остров.
На самом деле никаких джунглей на Гаити нет, за исключением орошаемого водопадом кусочка на самом краю Центрального плато; во всей Вест-Индии вы не найдете джунглей, если не считать таковыми довольно густую поросль, покрывающую холмы Мартиники и других Наветренных островов, — а ботаники с этим ни за что не согласятся. На Тринидаде есть в некотором смысле настоящие джунгли, но ведь Тринидад не относится к Вест-Индии; он представляет собой часть континента Южной Америки. Правильнее всего было бы назвать Гаити, даже в середине сезона дождей, пустыней, а не страной джунглей. Я понимаю, что мой голос — глас вопиющего в пустыне, в пустыне, поросшей кактусами и зарослями сухих колючек, и что мы еще много раз увидим в кино дышащие испарениями, кишащие мартышками вест-индские «джунгли» и будем читать рассказы о герое, «выбравшемся из непроходимой чащи гаитянских джунглей». Что ж, может быть, это и к лучшему — пусть широкая публика запомнит яркие картины заморских стран, они интереснее точного описания; было бы неловко воображать себе воинов морской пехоты развалившимися среди папоротников и лакомящимися дикой клубникой в тени соснового лесочка, вместо того чтобы из последних сил брести по малярийным болотам в погоне за коварными голыми аборигенами.
Первая часть нашего путешествия любого излечила бы от предвзятого представления о гаитянской флоре. Дорога пролегает по южному краю долины миль двенадцать шириной, которая отделяет северную часть острова от южного горного хребта с его узкой каймой прибрежных равнин. Раскаленная поверхность дороги представляла собой голую, неровную скалу, которая иногда сменялась длинными участками каменной россыпи. Растительность состояла из сухих, как сено, невиданных размеров кактусов, похожих на щетину кустарников и редких деревьев с почти безлистными ветками.
К счастью, ряд телефонных столбов помогал различать, в каком направлении шла дорога. Так мы ехали два часа, пока «форд» вдруг не подскочил на двенадцатифутовом ухабе, с его багажника катапультировался пятидесятигаллонный контейнер, а на Альму невесть откуда посыпалась живая домашняя птица. Тут мы решили остановиться и перекусить. Вы, конечно, понимаете, что в тропиках расписание трапез не соблюдается; наступление темноты — всего лишь незначительное неудобство, на которое обратили бы внимание только те, кто привык переодеваться к обеду. Естественно, мы углубились в колючий кустарник, так как вокруг нигде не было другой тени.
Я принялся переворачивать упавшие стволы — все подряд по укоренившейся привычке — и поразился тому, сколько всякой мелкой живности ухитряется выжить в раскаленной пустыне. Громадные волосатые пауки попадались на каждом шагу, а более мелкие выглядывали из круглых норок среди голых участков песка настолько раскаленного, что нечего было и думать печь в нем яйца — они сгорели бы. Я углядел под небольшим камнем маленького сероватого скорпиона, который тут же резво бросился наутек. Этот вид был мне незнаком, и я помчался в погоню с пинцетом в руке, но скорпион быстро юркнул под сухую корягу.
Я попытался было ее перевернуть, но она оказалась слишком тяжелой, и я уже приготовился звать на помощь Фреда, когда моя добыча внезапно выскочила обратно. Поведение было совершенно неподобающее для скорпиона, существа скрытного и любящего темноту, которое обычно из укрытия ничем не выкуришь. Но мой скорпион не стал задерживаться снаружи и, описав полукруг, снова нырнул в укрытие, так что я не успел схватить его пинцетом. Это повторялось несколько раз, но наконец, я все-таки зацепил его за хвост и сунул в пробирку.
Я решил выяснить, что помешало скорпиону намертво затаиться: было заметно, что он каждый раз выскакивает из укрытия с большой поспешностью: Я встал на колени и неосторожно заглянул под корягу, да еще ткнул туда несколько раз пинцетом. Затем произошло нечто, с чем мне еще не приходилось встречаться.
Натуралист всю свою жизнь постоянно откуда-то падает, страдает от укусов самых разных существ, теряет дорогу домой, голодает, ходит весь в царапинах и синяках. Нам это дорого обходится, и мы потом только делаем вид, что все пустяки, профессиональный риск и прочее; но я категорический противник применения ядовитых газов! Я содрогаюсь при мысли, что меня могут подвергнуть этому открыто, более того, при исполнении служебных обязанностей.
Поначалу я ничего не увидел и не почувствовал. Только понял, что не могу вздохнуть, болит грудь, и что я ужасно люблю жизнь, даже несмотря на письма из дому и на климат Британских островов. Через две-три секунды я понял, что смерть мне не грозит, а еще через несколько минут сообразил, что происходит на самом деле. Я судорожно хватал ртом воздух, кашлял, давился, задыхался и обливался потом, все у меня болело, и я ничего не видел толком; лицо и руки щипало и жгло как огнем. Какая-то жидкость концентрировалась и стекала со стекол моих очков, которые, к счастью, были у меня на носу. Кругом резко запахло уксусом. Спотыкаясь, я дотащился до коряги; дыхание стало восстанавливаться, но дышать было больно — губы и горло казались ободранными. Понадобилось еще несколько минут, чтобы я пришел в себя; и тут я заметил, что руки у меня испещрены мелкими ярко-розовыми пятнышками, а когда я осторожно поднес пальцы к лицу, то нащупал на нем несколько неправильных, похожих на волдыри, вздутий. Казалось, мир сошел с ума — я никак не мог понять, что же стряслось. (Нечто похожее произошло со мной единственный раз на Тринидаде, когда я по ошибке перерубил ствол тании.) Еще немного времени спустя я достаточно опомнился, чтобы заняться расследованием.
Воспользовавшись в качестве рычага большой веткой, я выкатил корягу из углубления, но поначалу ничего не заметил. Под ней были несколько кусков коры и пресловутые камни, покрывающие весь остров Гаити. Немного помедлив в нерешительности, я начал с превеликой осторожностью убирать эти камни, и тут на свет вылезло существо, которое я мечтал найти все долгие годы терпеливого переворачивания коряг. Это был еще один представитель арахнид, из группы, называемой Uropygi.
По цвету и поведению эти существа напоминают скорпионов, но клешни у них устроены иначе, они более приспособлены к «объятиям», чем к хватанию. На месте тонкого хвоста, заканчивающегося раздутым сегментом с загнутым «когтем», который и представляет собой «жало» скорпиона, тело уропиг несет на конце длинный, многочленистый хлыст, похожий на «усик» маленькой креветки. Собственно, этих уропиг на Гаити зовут ecrebiche-bois, то есть нечто вроде «лесных рачков», по-французски. На самом конце тела у этих существ расположены парные железы, выделяющие едкую кислоту. Тогда я еще не знал, что жидкость может выбрасываться в виде струйки пара, и до сих пор не понимаю, каким образом она направляется вперед, будто выбрызгивается из головы, а не с другого конца. Мы собрали еще четыре этих скрытных существа и решили, что пора ехать дальше.
Неожиданно нам пришлось довольно надолго задержаться в небольшом местечке Фонз-Паризьен, приютившемся между подножием горного хребта и берегом живописного озера Азуй, которое отгораживает конец долины от равнины Кюль-де-Зак, образуя естественную границу между Гаити и Санто-Доминго[1]. Дорога, ведущая из Фонз-Паризьена в Фонз-Верретт, расположенная на двести футов выше, допускала только одностороннее движение, и по ней спускался грузовик.
Кстати, Эспаньола — родина двух чрезвычайно интересных и ценных мелких млекопитающих, носящих очаровательные имена — Solenodon paradoxus и Plagiodonta. И ни одно из них я не смогу перевести на понятный язык: они относятся только к строению зубов, а обычного названия у этих зверюшек нет. На Гаити соленодона зовут «загути», а это не что иное, как неправильное произношение «агути» — название совершенно другого животного, некогда завезенного на острова Вест-Индии испанцами и предназначавшегося в пищу рабам, теперь же чрезвычайно редкого. Тем же названием — «загути» — наградили и индийскую мангусту, которую завезли сюда для борьбы с полчищами крыс на плантациях сахарного тростника. Зверек отлично справляется со своей задачей, однако уничтожает заодно и большую часть местных млекопитающих и рептилий. Я не верю, что гаитянцы — за исключением нескольких интеллигентных священников, немногих ученых и крестьян в некоторых забытых богом районах — действительно знают соленодона, хотя все они, как один, уверяют, что знают загути. Нам приносили массу этих загути, по большей части мангустов, но двое жителей принесли домашних кроликов, а один предприимчивый джентльмен явился с цесаркой в руках!
Но никто никогда не уверял, что знает плагиодонтию, и все поголовно обвиняли меня во лжи, когда я ее описывал. Это мелкий грызун, о котором ученые давно знали по находкам ископаемых зубов в пещерах. Один предприимчивый американский ученый несколько лет назад нашел живого зверька на побережье Санто-Доминго, после чего тот снова канул в небытие и ученые по-прежнему довольствуются его ископаемыми зубками.
У соленодона есть родственные виды, обитающие в горах Баяма на восточной оконечности Кубы. Эти два вида соленодона образуют уникальное маленькое семейство, совершенно изолированное от ближайших родственников — Potamogale (потамогале) в Западной Африке и Geogale (геогале) на Мадагаскаре — как с географической, так и с анатомической точки зрения. По систематике они относятся к насекомоядным (Insectivora) — зверькам вроде ежа, землеройки, крота, — к отряду, который, как винегрет, состоит из всех примитивных типов животных, уцелевших от древних эпох истории Земли. Именно по этой причине соленодонов всегда считали чрезвычайно ценными и интересными для науки зверьками. В последнее время их популярность невероятно возросла, и они даже были вовлечены в сферу международных отношений.
Они обитают также на соседней территории Санто-Доминго, где недавно были пойманы и преподнесены предприимчивому президенту Гаити, сеньору Трухильо, несколько штук, а он отправил их в дар мэру Нью-Йорка. Затем зверьки были переданы на хранение в зоопарк, где широкая публика могла познакомиться с этими интереснейшими обитателями Антилл. Представители прессы почуяли сенсацию и сделали ее достоянием публики.
Конечно, к таким вещам в Штатах все привыкли: вечно появляются люди с детенышами панды, поддельными драконами и прочими несусветными химерами, которых они ухитрились довезти до дому живыми. Однако вы, возможно, не представляете себе истинных масштабов сенсаций, порождаемых прессой, а также других сногсшибательных эффектов, на которые способны не слишком щепетильные журналисты, когда они пишут о далеких уголках планеты. Одна глубоко мною уважаемая газета как-то напечатала, что пара соленодонов стоит десять тысяч долларов, — не сомневаюсь, что-то заело в линотипе, так как цифра пришлась на конец строки, — красная цена этим зверькам десять долларов за пару. Результат был чудовищный — ведь в Вест-Индии повсюду просматривают американские газеты; не пишут ли что-нибудь о нас? Поэтому гаитянин, который сам и не подумает затруднить себя поисками соленодона, в то же время решительно воспротивится и откажет в содействии любому чужаку, который пожелает изловить зверька: в конце концов, может, зверюшка и вправду стоит бешеных денег — а бедных гаитян уже не раз облапошивали алчные иностранцы. Оказавшись на Гаити в самый разгар этих странных распрей, мы сумели посетить все места, где соленодон никогда не встречается, и только по чистейшей случайности наткнулись на его след, да и то довольно обескураживающий. Мы снова перекусили в Фонз-Паризьен и, дожидаясь, пока спустится встречный грузовик, пошли прогуляться вверх по маленькому ущелью в предгорье. Оно уже скрывалось в вечерней тени, заросли свежих зеленых колючих кустарников тянулись довольно высоко, неся прохладу бесконечной россыпи белой гальки, усыпавшей землю. Вот там, среди колючих кактусов, мы и нашли полуистлевшие останки единственного соленодона, которого нам удалось увидеть на Гаити. Он погиб довольно давно, и моего ученого энтузиазма едва хватило на то, чтобы извлечь из общей массы несколько зубов и когтей — мощных, как у крота, и способных вгрызаться даже в гаитянскую почву. Тут мы услышали рев мотора спустившегося грузовика, помчались к своим машинам и начали подъем в гору в вечерней прохладе.
Описывать дорогу бесполезно — все равно каждый из нас уверен, что именно ему пришлось поездить по самым жутким дорогам на свете. Ясно одно — хорошей эту дорогу никак не назовешь, вдобавок она была на целый фут уже, чем «ролле», и поднималась на восемь тысяч футов на расстоянии двадцати пяти миль (если считать по прямой). Надо отдать должное гаитянским инженерам, построившим ее, — они знали свое дело. К большому сожалению, у них просто не хватило денег, чтобы оборудовать свою отличную дорогу хотя бы примитивным покрытием. Во всяком случае, еще не совсем стемнело, когда мы въехали на задний двор ничего не подозревавшего крестьянина, усадьба которого, как оказалось, находилась очень далеко от каких бы то ни было дорог. Когда мы вернулись назад по своему следу, то и дело ухая вниз с громадных каменных глыб, обнаружилось, что наша дорога ушла круто влево и заросла высокой, по пояс, травой, в то время как избранный нами путь был относительно хорошо протоптан — по нему обычно гоняли ослов.
Пока мы объяснялись с крестьянином, извиняясь за вторжение, — объяснялся, собственно, Фред, бегло говоривший по-креольски, — Альма обратила внимание на то, что вдоль всей тропы тянется поток машинного масла. Она показала его мне, и мы превесело смеялись и шутили: «видно, местный пекарь развозит хлеб в грузовичке» и наперебой старались придумать еще что-нибудь поглупее. Фред, которому пришлось долго и нудно объясняться с местным землевладельцем, поинтересовался, что это нас так развеселило. Мы показали ему масло и увидели, как он свирепо нахмурился. Нам впервые пришлось вызвать его неудовольствие и увидеть, как он хмурится. Мы содрогнулись.
Оказалось, что в контейнере, который находится под брюхом «Роллса», пробита аккуратная круглая дырка. Боюсь, что мы с Альмой отнеслись к этому довольно легкомысленно — ведь мы ничего не смыслим в машинах; но, когда совсем стемнело, прошло три часа, а Фред все еще возился с кусочками жести от керосиновых бачков, с мылом и напильниками, мы начали понимать, в какую переделку угодили, и наше уважение к новому другу укрепилось и с тех пор неуклонно возрастало.
Наконец в десять часов мы расстались с задним двором крестьянина и к полуночи оказались на голой площади, окруженной накрепко запертыми домами. Посредине этой площади возвышался указатель с тремя досками. С одной стороны на каждой из них было написано: «Порт-о-Пренс», а с другой — «Фонз-Верретт». Стрелки показывали куда попало — в трех разных направлениях в сторону гор. Мы, судя по всему, находились в Фонз-Верретт. Умение читать указатели дорог требует длительной тренировки.
В Кенте, в Англии, есть один такой указатель, со стрелками, указывающими «Хэм» и «Сэндвич»; я полагаю, что иностранец вряд ли сообразит, в чем тут соль[2].
Дома стояли попарно, разделенные промежутками, и мы более или менее наугад въехали в один из таких промежутков. Он не вел на задний, принадлежащий кому-то двор, а переходил в дорогу на горном откосе. С одной стороны стояла отвесная стена, с другой — такая же стена обрывалась в пропасть. Высота стены наверху и глубина пропасти внизу были скрыты ночной тьмой. Ровный карниз дороги порос зеленой травкой.
Примерно через час, непрерывно взбираясь вверх, мы обогнули уступ и нам в лицо подул ветерок, который мне никогда не забыть. Мы остановились и вышли из машин. Нет, век чудес еще не совсем миновал. Нас окружала абсолютная тишина: ни щебета птиц, ни стрекота сверчка — мы слышали только тихое, как вздохи, дуновение. Воздух был густо напоен ароматами и полон прохладной свежести, как с ледника. Мы стояли на упругом ковре сосновой хвои, благоговейно созерцая колоссальные стволы, окружавшие нас. Простояв несколько минут с раскрытыми ртами и глазами, мы полезли опять в машины и снова двинулись в гору.
Мы разбили лагерь в небольшой долине на холмистом плато в восьми тысячах футов над уровнем моря, которое густо поросло великолепным сосновым лесом. В Швейцарии, Канаде или Шотландии под кружевной сенью сосновой хвои можно было бы увидеть куманику, папоротник, лесную землянику; в тропической Вест-Индии этого ожидать не приходится. Воздух был редкостный — даже шампанское такого отменного качества не часто встретишь. Он был чистый, холодный и абсолютно прозрачный. Днем ветер тихо дышал в вершинах сосен и пушистые облака пробегали как тени по солнцу, потерявшему способность опалять; ночами ветер все так же тихо вздыхал в кронах, а громадная никелированная луна скользила в величавом одиночестве среди бескрайней бездны.
Мы услышали птичку, которую так и не увидели: она без конца повторяла четыре ноты из чрезвычайно изысканной музыкальной пьесы Гершвина. А когда мы кончили окапывать палатки канавками на случай дождя, который нам вовсе не грозил, и заговорили о том, водятся ли на такой высоте хоть какие-нибудь животные, из чащи сосен к нам вышел Джеко, сложив руки, как для молитвы.
Джеко был чудесный маленький человечек. У него было две жены, прекрасно осведомленные друг о друге, прелестная маленькая лошадка (которая оказалась на самом деле мулом) и крохотный садик; притом он кое-как говорил по-английски, был бесконечно честен и добр и практически ни на что не пригоден. Он так до конца и не понял, чем мы занимаемся. Как-то я спросил его, для чего, по мнению местных деревенских жителей, мы собираем животных.
— Для продажи, — ответил он.
— То есть как? Что ты хочешь сказать, Джеко?
— Чтобы кушать, — последовал неожиданный ответ.
— А ты сам-то как считаешь? — спросил я.
— M'pas connais — ответил он. Этим «не знаю» и завершается большинство диалогов на Гаити.
И вот теперь, к нашему удивлению, он вышел из лесу, ухмыляясь во весь рот и неся в ладонях горсть земли. Когда нам наконец удалось уговорить его расстаться с добычей, оттуда выползло примитивное создание, которое любой мог бы спутать с гусеницей, если бы не учил на первом курсе биологию. Это было существо бесконечно драгоценное — перипатус. Думаю, название по вполне понятным причинам ничего не говорит неспециалисту.
Перипатус — своего рода недостающее звено между червями и многоножками. Его можно считать потомком некоего типа животного, появившегося в результате эволюции морских червеобразных, — таких и сейчас находят в песке на морском берегу, и они служат отличной наживкой, — которое покинуло море и стало жить на суше. Освоение суши морскими животными происходило в весьма отдаленном геологическом прошлом, когда не отложились еще первые слои ископаемых пород с останками животных. Подобная миграция характерна для всех животных и растений; в самых древних отложениях встречается ископаемое растеньице ритина (Rhytina) — не более чем водоросль, приспособившаяся к жизни на земле. Некоторые рыбообразные существа отважились выбраться на сушу в более позднее время и стали земноводными, амфибиями, — я уже говорил о том, с какими сложностями у них связана откладка икры. Среди этих первопроходцев были и некие перипатусообразные, которые, обладая влажной мягкой кожей, рискнули жить в воздушной среде; постепенно они оделись в жесткий панцирь, сохраняющий влагу внутри, и стали похожи на сороконожку.
Замечательно, что существа этого типа сумели оставить потомков, чей род сохранился до наших дней; этим, должно быть, и объясняется то, что они крайне редки и встречаются в отдаленных друг от друга регионах планеты. Перипатусы обитают в более теплых районах Америки, притом, как ни странно, в горах и на высоких нагорьях, где очень сыро и достаточно прохладно. Встречаются они и в Южной Африке, и в Индии, и в Австралии, и в Новой Зеландии.
Они довольно мягкие — как гусеницы. Тот перипатус, которого принес Джеко, был одет словно в бархат густого винного цвета, все его тело покрывали мельчайшие бугорки, из которых торчали волоски. От гусеницы его отличало несметное количество коротеньких, мягких, похожих на пеньки ножек, вооруженных каждая парой коготков — их ряд тянулся от головы до самого кончика «хвоста». Когда мы передавали его из рук в руки, диковинное допотопное создание выпустило какое-то белое липкое вещество, вроде необработанного каучука. Это не только средство защиты, но и способ ловли насекомых и прочих мелких тварей, которыми перипатус питается.
Мы так и не поняли, как Джеко умудрился набрести на это существо и целехоньким принести его нам. Снова и снова он появлялся с гусеницами и многоножками, и каждый раз я ему говорил, что они нам не нужны; кроме того, мы ни разу и не пытались объяснять ему, что такое перипатус — вы догадываетесь, почему? Само собой, мы спросили, где он нашел его, и Джеко привел нас к трухлявому стволу пальмы, основательно подрытому со всех сторон — свидетельство энергичной деятельности, беспрецедентной для столь ленивого и сонного субъекта, как Джеко. Позабыв обо всем на свете, мы бросились разыскивать гнилые стволы и пни и провели почти целый день, вкапываясь в землю, как кроты. Охота принесла нам еще довольно много перипатусов, обитавших, как мы установили, только в трухлявой древесине определенного качества.
Упавшее дерево бывает или твердым, или мягким. Со временем оно в любом случае становится мягким, и это происходит не всегда одинаково. Оно может стать сухим и рассыпчатым — в таких случаях в нем обитают только скорпионы или древоточцы. Но оно может стать мягким и влажным. Влажность тоже бывает разных типов. Первый из них — пропитанная водой слегка вязкая масса, из которой можно выжать воду — в ней обычно совсем нет живности; затем — влажное дерево, которое вернее всего назвать «гнилым», и, наконец, влажная, похожая на перегной труха. В ней-то и обитает самое большое количество животных, если только ее не оккупировали муравьи или термиты: тогда никого больше и искать не стоит, разве что вам посчастливится извлечь одну из тех загадочных ящериц или змей, которые предпочитают жить в дурной компании. Перипатуса можно найти только в гнилой древесине третьего типа, но далеко не во всякой, а лишь в очень объемистых массах тончайшей древесной трухи ярко-красного цвета, фактически мало чем отличающейся от «земли». Я впоследствии встречался с подобной закономерностью; перипатус держится обычно в красноватой глинообразной массе, где бы она ни скопилась — под сгнившим стволом или под корнями пальм или папоротников.
Но в этот день наша коллекция обогатилась не только перипатусами. Мы поймали мелких листовых лягушек двух видов, принадлежащих к роду Eleutherodactylus. Одна была красновато-коричневая, а другая — необыкновенно красивого розовато-серого цвета, в черных пятнышках и пестринках, оживленных ярко-оранжевыми мазками. Поначалу их расцветка нас порядком озадачила, пока мы не разложили весь наш большой улов в один ряд по размеру, и оказалось, что у молодых особей оранжевый цвет полностью занимает бока и задние ноги, а с возрастом постепенно отступает и у самых крупных лягушек исчезает вообще или сохраняется в виде нескольких пятнышек в низу брюшка.
Фред объявил во всеуслышание, что собирается полеживать на солнышке и отдыхать, как положено в отпуске, но его обуял такой неудержимый зоологический энтузиазм, что он копал куда глубже и усерднее, чем все мы, и в награду докопался до множества очаровательных ящериц (Wetmorena haetiana): у них были крохотные лапки, а сами они были будто отлиты из красной меди. Они с неимоверной быстротой закапывались в мягкий перегной и отбрасывали хвостики при легчайшем прикосновении к ним.
Через несколько дней я нашел под высохшей корой высокого пня еще одно странное создание. Я уже упоминал опилионид, принадлежащих к паукообразным (арахнидам). У большинства из них шарообразное тельце, похожее на горошину, подвешенную в середине пучка изогнутых, длинных и тонких, как волоски, лапок; эти странные и смехотворные существа прекрасно изображены Уолтом Диснеем. Теперь мне посчастливилось принести домой нескольких форменных гигантов, коричневых с ярко-желтыми полосками и пятнами, покрытых излишними на первый взгляд шипами и колючками. Тело достигало величины последнего сустава среднего пальца у меня на руке, а впереди торчала пара «рук», заканчивавшихся булавообразными сегментами, которые суживались в загнутые крючки-жала, значительно острее иголок. Известно, что крупные опилиониды могут довольно болезненно кусаться, места укусов распухают и становятся багровыми, а сам укушенный истекает пенистой слюной. Я до сих пор не мог убедиться в истинности этого утверждения, ведь я, разумеется, не использовал «счастливую» возможность проверить его на собственном опыте! Это достойно сожаления, конечно, но отнюдь не результат оплошности.
Если даже мелкая живность, обитающая в недоступном и первозданном сосновом бору, была так интересна, то что же говорить о более крупной добыче: признаюсь, я не уверен, найдутся ли в мире места, которые можно было бы сравнить с этим райским уголком.
Мы быстро расставили линию ловушек вверх по склону долины и у опушки довольно большого участка «горного леса». Здешний «лес» — замечательные заросли, состоящие из высоких кустарников, по большей части с очень мелкой листвой и тоненькими сучками и ветками, отягощенных мелкими ползучими растениями и густо увешанных мхами и лишайниками. «Лес» внедрялся длинными языками в сосновый бор. Но на лесных островках не росло ни одной сосны, зато и ни один представитель «лесной» растительности не проникал во владения соснового леса. Росла такая поросль только на западных склонах холмов, а на северных, восточных и южных склонах ее не было и в помине. По своему характеру она была совершенно идентична «туманному», или «моховому», лесу, покрывающему самые высокие горы в экваториальном поясе в Африке, на Борнео[3], в Южной Америке и других областях. Он так напоминает горные леса Западной Африки, что кажется, будто из чащи вот-вот выйдет горилла.
В первое же утро, осматривая ловушки, мы нашли семь красивых, безукоризненно чистеньких иссиня-черных крыс. Мы поразились, определив уже в лагере, что это самые обычные черные крысы, но особой разновидности, которую мы нигде на Гаити не встречали, хотя переловили уйму крыс. Эти экземпляры, пойманные на высоте восьми тысяч футов над уровнем моря в необитаемых горах, были самыми совершенными в мире представителями вида Rattus rattus rattus, каких мне только приходилось встречать.
Это было первое удивительное событие. Второе произошло следующей ночью. Несколько ниже по долине, где мы поселились, обнаружили целый лабиринт глубоких, как траншеи, — до двух футов глубиной — борозд. Мы было подумали, что это дело человеческих рук, но тогда оставалось только предполагать, что здесь кто-то искал трюфели или какие-то другие подземные деликатесы. Однако когда земляные работы достигли невероятного размаха и всего за одну ночь подкопы были подведены почти под самый наш лагерь, мы решили разведать, в чем дело. Этой ночью мы выступили в поход с ружьями и фонарями, хотя фонари нам так и не понадобились — луна светила вовсю.
Проблуждав около часа среди соснового подроста и осторожно выглядывая по временам в долину, мы наконец были вознаграждены: перед нами возникли штук пятьдесят длинноногих, рыжеватых, стройных, как гоночные лодки, диких свиней, которые в полном безмолвии двигались вверх по долине. Они немного постояли, сгрудившись, потом рассыпались по долине и принялись усердно копать, по-прежнему в полном молчании. Мне вряд ли случалось видеть более занимательное зрелище.
Надо сказать, что в наши дни те свиньи, которых мы видим на гаитянских рынках и фермах, не считая ввозимых пород, — стройные, покрытые черной щетиной животные. На них нет ни пятнышка рыжего или бурого цвета, и они гораздо мельче тех, которых мы увидели в сосновом лесу. Мы сидели и наблюдали за ними, когда на нас обрушилось еще одно потрясение. В тени окружающих сосен, как нам казалось, иногда мелькали расплывчатые силуэты маленьких поросят, и мы никак не могли понять, почему они не спускаются вниз, к стаду, где было бы безопаснее. Потом на дальнем склоне долины мы заметили еще четыре темных силуэта: развернувшись цепью, они подкрадывались к стаду, скрываясь в зарослях папоротника; применяя перебежки на открытых местах, они во всех отношениях напоминали войсковую разведку. Это было странное и жуткое зрелище — множество диких свиней, молчаливо роющих землю под соснами при ослепительной луне, и коварные тени, окружающие их, как стая шакалов.
Кстати, такое сравнение оказалось ближе к истине, чем мы ожидали. Я резко обернулся и оказался лицом к лицу — точнее, с настороженной мордой — очень гладкой остроухой собаки. После многочасовых бдений и наблюдений мы убедились, что здесь водятся целые стаи одичавших собак. Они выходят на охоту только ночью, а днем отсыпаются в логовах среди горного леса. Собаки бывают самых разнообразных размеров и окраса, но все без исключения — гладкошерстные, со стоячими ушами и очень длинными лапами.
Спустя еще две ночи мы опять бродили вокруг лагеря в надежде увидать свиней, когда на нас снизошло окончательное озарение. Мы находились высоко на склоне небольшой долины, дно которой хорошо просматривалось. Луна выглядывала временами сквозь пелену пушистых облаков, освещая на несколько секунд долину, затем ее снова поглощала тень. Мне показалось, что по дну долины что-то движется, и я обратил на это внимание Фреда. Мы присели на корточки и стали глядеть вниз между стволов сосен. Фред указал мне на несколько странных бледных силуэтов, их можно было принять за крупные обломки камней, и мы некоторое время ломали голову, стараясь угадать, что это такое, а потом решили, что Фред обойдет их стороной и поднимется вверх по долине, а я немного подожду наверху, а затем спущусь ему навстречу. Сказано — сделано.
После ухода Фреда ничего особенного не происходило, только три собаки, словно эльфы, откуда ни возьмись, возникли прямо передо мной и вновь исчезли. Я терпеливо ждал, напрягая зрение, но ничего не видел. Затем среди сосен справа от меня появился Фред, и без всякой прелюдии внизу раздался стук и грохот — все похожие на камни существа внизу ожили и понеслись, сопровождаемые словно игрушечным театральным громом. Они промчались вниз по долине, мелькая среди сосновых стволов, описали широкий круг и поскакали вверх по склону прямо на меня.
Я совершенно не мог себе представить, что это за звери — меня уверяли, что крупных животных на Антильских островах нет. Я струсил и одним прыжком взлетел на самый высокий карниз. И вполне своевременно. Я оказался в относительной безопасности, так как животные не догадывались о моем присутствии. Они летели вверх по склону со страшной скоростью, с храпом и фырканьем, обрушивая целую лавину камней. И тут мне сказочно повезло: когда они неслись мимо меня, луна вышла из-за облаков. Я окаменел с раскрытым ртом, увидев, что это — лошади!
Конечно, я англичанин, и, может быть, у меня на лице заметно традиционное глуповато-самодовольное выражение, но я далеко отстал от традиций и в лошадях разбираюсь слабее, чем положено истому англичанину. Это, конечно, серьезное и непростительное упущение с моей стороны, и я каюсь, что для меня всякие там щетки, холки и прочие термины, милые «лошаднику» и непонятные зоологу, — чистая китайская грамота. Я надеюсь, что знатоки извинят мое более чем очевидное невежество. Эти животные заслуживают подробного описания, но я уж буду придерживаться того словарного запаса, которым владею.
Все они были абсолютно одинаковые — розовато-палевые с серебристым блеском (кажется, эта масть называется буланой?), с темно-шоколадными ушами, гривами, хвостами и ногами до колен. Очень коренастые и гораздо крупнее тех лошадок, которых встречаешь по всему Гаити, они гордо несли точеные головки на круто согнутых шеях, как лошади, изображенные на древней греческой керамике. Они были до боли прекрасны и, бесспорно, неукротимы.
Судя по всему, они обогнули холм, все прибавляя скорость, и, в конце концов, проскакали прямо через наш лагерь, между кухней и палатками, забросали все вокруг комьями земли, напугали до полусмерти Альму, а Джеко, который спал, завернувшись в одеяло, у кухонного очага, с неимоверной скоростью ринулся в чащу леса. В дальнейшем мы выяснили, что в сосновых лесах водится много табунов этих животных, похожих друг на друга как две капли воды, и что стоит им увидеть домашних лошадей, как они бросаются на них с такой неистовой злобой, в какую трудно поверить, пока не увидишь все собственными глазами. Последнее мы узнали «из первых рук» — от американца, который знает о лошадях не меньше любого англичанина всех времен.
Поначалу я присоединился к общепринятому мнению, что эти лошади, как свиньи, собаки и крысы, просто одичавшие домашние животные, которые разбрелись с ферм первопоселенцев. Однако это мнение было затем поколеблено некоторыми моими соображениями. Во-первых, ни один самый заядлый и признанный «лошадник» не может, насколько я понимаю, назвать хоть одну чистую породу лошадей сплошь буланой масти и подкрепить это доказательствами. Во-вторых, как объяснить, что среди наскальных рисунков пещеры на окраине Центрального плоскогорья Гаити, которые приписываются американским индейцам и существовали задолго до Колумба, красуется голова настоящей лошади, хотя многие считают, что лошадей в обеих Америках раньше не было? В-третьих, эти дикие существа удивительно похожи на диких лошадей Центральной Азии — киангов[4]. Я должен подчеркнуть, что все эти соображения не более чем чистейшая догадка, основанная на неисследованных особенностях, и я ее высказываю только для того, чтобы кто-нибудь занялся изучением вопроса. Но все же, разве невозможно, чтобы это оказались настоящие дикие лошади, относящиеся к неизвестному во всем мире виду, а может быть, даже к роду тех лошадей, которые века назад населяли Великие американские равнины, о чем мы знаем по множеству ископаемых останков? Разве не могло случиться, что животные перешли сюда с материка вместе с плагиодонтами (Plagiodontia), когда остров Эспаньола через Кубу был соединен сухопутным «мостом» с материком, и что они отступили в горы с их прохладными ветрами и богатыми травами, где жили, позабытые людьми и никому не нужные, потому что в эти места люди почти не заходят? Нужно, чтобы кто-то, захватив ружье посерьезнее охотничьего дробовика с дробью шестой номер, отправился туда и выяснил, что же представляют собой дикие лошади Гаити. Может статься, что его ждут удивительные и важные открытия.
Обычно после диких животных заниматься домашними как-то скучновато. В сосновом лесу на Гаити я впервые в жизни почувствовал к ним неподдельный интерес. У меня в мозгу зароились мысли — быть может, мы видим своими глазами прообраз грядущей истории человечества на нашей Земле? Представьте себе на минуту, что все человечество исчезло с лица Земли, как это случалось с множеством видов животных: что тогда будет? Города, поместья и фермы постепенно зарастут диким лесом. Вырубленные под корень леса снова возродятся к жизни, кусты и травы пойдут на приступ, сражаясь за место под солнцем, а домашние животные получат свободу. Лошади разбредутся по равнинам, свиньи будут копаться в корнях лесных деревьев, собаки — стаями охотиться днем или ночью (в зависимости от породы), кошки переселятся на деревья, крысы вернутся в заросли и выздоровеют от всех своих ужасающих болячек, язв и лишаев. Целый мир несчастных паразитирующих выродков, которых мы собрали вокруг себя, в своем удушливом царстве, превратится в свободных, сторожких, истинно диких зверей. Именно это я и увидел в те дни на вершинах гаитянских нагорий.
Дрожа от ночного холода в палатке, мы до бесконечности обсуждали всякие теории. Загадки природы и те горизонты, которые они открывают человеческому воображению, поистине бесконечны и увлекательны. С неодолимой силой они влекут к новым и новым исследованиям. Фред заразился этой болезнью в самой тяжелой форме и, мудро решив, что раз уж «коготок увяз — всей птичке пропасть», всецело предался нашим общим занятиям. Фред немногословен, на глупые вопросы, какие мы частенько задаем, даже не отвечает, но все сказанное запоминает с пугающей точностью. Когда по дороге вниз, в машине, я, походя, заметил, что, по-моему, ему лучше всего присоединиться к нашей экспедиции, он не проронил ни слова.
Но вскоре, когда мы покидали Гаити со всеми нашими многочисленными пожитками и «Роллсом», с нами был вышеупомянутый неразговорчивый джентльмен, и настроение у него было такое общительное, какого никто и никогда от него не ожидал.
[1] Ныне Республика Гаити и Доминиканская Республика
[2] Хэм и Сэндвич — муниципальные округа графства Кент в Великобритании. Хэм (англ.) — «окорок». Сэндвич — кусок мяса или сыра между двумя кусками хлеба (по имени четвертого графа округа Сэндвич, который его и изобрел)
[3] Ныне остров Калимантан
[4] Кианги — лошади Пржевальского. (Примеч. пер.)
Часть 3. В Суринам
Частный зоопарк
Гигантский муравьед, оцелот, тамарины и паразиты
Небольшой пароходик пробирался по сверкающим волнам к темно-зеленой полоске на горизонте, одновременно подходя боком к загадочной полосе грязной пены, которая пересекала море прямо по курсу. И когда острый нос корабля врезался в эту полосу, мы увидели первое южноамериканское чудо. Меня словно током пронзило с головы до пят, даже дух перехватило.
Все больше и больше накатывало чувство радости от сознания, что я наконец здесь. Скоро я снова погружусь в сияющий, щебечущий, жужжащий, буйный мир бьющей через край жизни — жизни джунглей.
Посмотрев вниз через борт судна, мы увидели нечто загадочное. По одну сторону вода была чистая, синяя, с переливчатым блеском, так что мы даже разглядели нескольких мелких акул, курсирующих на границе пенной полосы, и ярко-голубых рыбок, вьющихся вокруг парочками в любовном танце. По другую сторону, за полосой пены, простиралось темно-бурое пятно густой, как смола, жидкости, которая словно медленно кипела, вздымаясь из глубин. На ней болтались какие-то несусветные предметы: большие орехи и мелкие куски дерева, кучки сухих листьев и бесконечное множество совсем неопределимых вещей, черных и тяжелых с виду. Даже удирая в испуге из-под носа нашего суденышка, ни акулы, ни ярко-голубые рыбки не смели нырнуть в этот мрачный мир. Они метались перед носом и, в конце концов, ускользали в море, подальше от пены.
Зеленая полоска земли все еще была далеко на горизонте, но, как только пароход пересек пенную полосу, мы оказались уже в Южной Америке, в реке Суринам, несущей в море отбросы и мусор из джунглей.
Прежде чем мы успели рассмотреть рельеф на зеленом горизонте, наш пароход внезапно почти остановился, и вперед пошла высокая мутная волна от вертящихся вхолостую винтов. Мы сели на мель. По палубе пробегал кто-то, кому полагалось знать, что положено делать в таких случаях. На наш вопрос нам ответили, что эта волынка может затянуться часа на четыре. Так оно и вышло.
Тем временем мы сидели и созерцали превращение полоски на горизонте в сплошную массу серебристой, голубовато-зеленой растительности, которая, насколько хватал глаз, простиралась на восток и на запад. Собственно говоря, мы рассматривали побережье, с которым через несколько недель сведем короткое знакомство, хотя, — быть может, на свое счастье — тогда мы еще не представляли себе, при каких обстоятельствах будем наблюдать эти суровые бастионы, которые неуклонно приближались, становясь все более отчетливыми.
По прошествии означенных четырех часов мы все еще ползли вперед с черепашьей скоростью в сопровождении той же неестественно желтой и мутной волны, но стены зелени сомкнулись вокруг нас, наглухо закрыв бескрайний океанский горизонт. Мы сидели на палубе, глядя, как попугаи шустро перелетают с одного дерева на другое, и молчали. Каждый смотрел на сплошную стену зелени, в душе поражаясь ее яркости и мощи, и я не мог не наслаждаться ощущением чуда, которое испытываю каждый раз, когда поднимаюсь вверх по течению могучей тропической реки. Перед нами был не лес, и не буйные непроходимые заросли, не было и вездесущих рисовых полей — была лишь ровная поросль, кое-где с купами более высоких деревьев. Мало-помалу наш океанский увалень, пыхтя, обогнул излучину, и мы увидели под ослепительным солнцем поднимающиеся к небу высокие шпили, крытые черепицей крыши и веселые беленые домики уменьшенной копии голландского городка: это была Парамарибо, столица Нидерландской Гвианы, или Суринама, пояса живой зелени толщиной сто футов и площадью 61 тысяча квадратных миль.
Процесс проникновения в новую страну, особенно если она расположена в тропиках и тем более если при вас груда багажа, словно специально созданная, чтобы оскорбить до глубины души любого таможенного чиновника, связан с перипетиями, которые интересны только для участников, да и то после благополучного завершения. Мы научились подходить к этому делу с безграничным терпением, имея на лице интернациональную улыбку, а в карманах — горсти разменной монеты, и с философской покорностью судьбе, зная, что несколько дней нам не придется ни есть, ни пить, ни спать спокойно. Только эти предосторожности и сохраняли нам рассудок.
На этот раз нас ждало приятное разочарование. Я давно не бывал в голландских колониях по своим злодейским зоологическим делам и совершенно забыл, что местные люди — едва ли не единственное исключение среди бестолковой сумятицы невежественных и недоверчивых жителей земного шара: они постигают всю важность зоологии и могут понять тех, кто готов на самые невероятные подвиги ради любви к этой науке. В подтверждение скажу: ровно через три дня, с того момента, как мы увидели шпили и белые домики, — ни часом позже! — мы уже были счастливыми обладателями собственного дома, наши книги стояли на полках, наш автомобиль — у дверей, а на столе нас ждал обед, сервированный на «изысканном» голландском фарфоре. Нам случалось промаяться по прибытии в страну не меньше двух месяцев, пока удавалось добиться подобного комфорта. На этот раз мы всецело были обязаны своим приятным разочарованием любезности и деловой компетентности голландских властей и самих суринамцев.
Парамарибо должен посрамить и заставить устыдиться весь остальной тропический пояс западного полушария. Его каналы, чистенькие, узкие, обсаженные пальмами улочки, где попадаются старинные кирпичные дома, газоны в городском парке, глинистый берег реки, поражающий полным отсутствием бутылок и консервных банок, — все это вызывает одинаковое уважение и к голландцам, и к местному населению.
Какой там народ! Мы боролись с сильнейшим искушением — забросить зоологию и всерьез заняться антропологией, ведь во всем мире нет другого такого места, где для этой науки словно самой природой были бы созданы лабораторные условия. В то утро, пока мы сидели за работой у окошек нашего приветливого домика, перед нами прошли представители почти всех рас, подрас и национальностей земного шара. Безукоризненно одетые розовые мужчины на велосипедах, похожие на чисто вымытых младенцев, — голландцы; элегантные еврейские семейства, которые, казалось, прибыли на собственной машине прямо из пригорода какой-то северной столицы; сирийские джентльмены, осанистые и необъятные; китайцы, очень деловые — в соломенных шляпах и не очень деловые — в черных штанах, похожих на унылые гибриды шорт и брюк. Там были сухощавые, бронзовые от загара, морщинистые буры — мелкие фермеры, продающие в городе свои продукты, а среди европейцев встречалось множество брюнетов — они могли оказаться и голландцами, и французами или уроженцами любой из стран Южной Европы или Латинской Америки. Казалось, здесь представлены все страны — мы видели и даму из Исландии, и джентльмена из Новой Зеландии.
Всех этих людей можно встретить в любом космополитическом городе. Но были и такие, при виде которых дух захватывало от восторга. Во-первых, так называемые британские негры, которых привезли в Суринам еще в прошлом веке из Британской Вест-Индии. Мужчин мы так и не видели, но женщины сразу бросаются в глаза: они носят живописный костюм — широченный кринолин из яркого набивного ситца, под который спереди и сзади подложены необычайные подушечки в форме почки, набитые ватой или травой, а поверху идут бесконечно длинные и пышные оборки. Кроме того, в Парамарибо обитали и другие горожане без особых примет — в большинстве негры и метисы, отличающиеся лишь безукоризненно элегантными городскими костюмами. И наконец, там встречались негры совсем особого типа.
Небольшого роста темно-коричневый человечек, плотного, но изящного сложения, в ярко-полосатой или броско-клетчатой хламиде, заколотой на одном плече, и с посохом в руке проходил мимо нашего домика, глазея на все, что попадалось ему на глаза, как это свойственно туристам. Он шествовал в одиночестве или в сопровождении нескольких уменьшенных копий самого себя в еще более кричащих накидках, нескольких полных женщин с бусами на ногах и еще стаек очаровательных черных бесенят с нитками бус вокруг животиков. Это был выход семейства юков. Юки — чисто негритянский народ. Они обитают в джунглях, где занимают полосу, начинающуюся примерно в пятидесяти милях от берега и кончающуюся в глубине леса на сто двадцать миль дальше. Это потомки негров, привезенных в страну на закате работорговли: непривычные к рабству на родине, они отказались быть рабами и на чужбине. Только ступив на берег, они попросту скрылись в лесу и там организовали свой клан, живущий по заветам африканских племен, до тонкостей копируя жизнь африканских земледельцев. Они до сих пор безраздельно владеют своей территорией. Это гордые и необыкновенно привлекательные люди.
Все вышеперечисленные участники торжественного шествия могли встретиться и в любом африканском городе. Но ни в одном из африканских городов вы не встретите остальных представителей этой пестрой компании. В Парамарибо множество индийцев — представителей нескольких народов, обитающих на индийском субконтиненте. В большинстве это тамилы. Часто встречаются почтенные мусульмане, явно из северных районов Индии, которые проходят, увенчанные кивающим огромным тюрбаном. Индийцы приехали сюда в основном по контракту, но теперь они больше не едут, и их заменили малайцы.
В Южной Америке как-то странно видеть, выглядывая из окна дома, проплывающий мимо завязанный особым узлом батиковый тюрбан или слышать чисто гэльское по звучанию щебетание стайки миниатюрных яванских красавиц в ярких саронгах и коротких блестящих кофточках. Здесь и яванцы, и другие представители бог знает каких малайских народов трезвонят на улицах в свои маленькие колокольчики, покрикивая «boea-boea», или выкрикивают «pigge pasar ichan», если вы им не понравились.
Но и это еще не все. Как-то меня отвлекло от невеселых мыслей и расчетов зычное кряканье на улице. Я поднял глаза и увидел вереницу низкорослых людей, одетых в потрепанные, словно вывалянные в грязи штаны и рубашки. Я было принял их за малайцев, но заметил у некоторых орлиный профиль и прямые черные волосы, ниспадавшие из-под видавших виды шляп. Кроме того, они несли в корзинах на спине громадные грузы. Тут они снова крякнули в унисон, и в моей памяти всплыли далекие годы и забытая богом небольшая железнодорожная станция в Санта-Фе. Я узнал американских индейцев, представителей древнейшего населения страны.
Прибавьте к этой толпе вездесущих португальцев и тех благородных суринамцев из почтенных семейств, на чьих лицах запечатлены достоинства почти всех остальных народов, и вы получите некоторое представление о Парамарибо. Эта человеческая Галактика, в которой, кажется, не хватает только австралийских аборигенов, с необыкновенной яркостью подчеркивает одно: любые различия рас и племен как бы сливаются воедино, поражая вас неожиданно наглядным подтверждением единства всего человечества.
Эти многообразные представители человечества прошли со временем через наш дом. Общее у них было только одно: все они приносили животных на продажу.
Мы давно поняли, что по приезде в новую страну для сбора коллекции животных, чтобы сберечь уйму времени, сил, средств и избежать множества забот, не надо бросаться сразу же в путь, куда глаза глядят. Мы убедились на горьком опыте, что гораздо разумнее окопаться где-нибудь в самой гуще местной жизни и неторопливо, спокойно знакомиться с народом, разбирать свои пожитки, учиться, по мере сил, местному языку (и в первую очередь узнать все народные названия местных животных), ознакомиться с ценностью денег в этой стране и с ценами на животных в особенности и наконец покончить со всеми необходимыми формальностями. Если положите на это два месяца, впоследствии вы избавитесь от целого года мытарств и неприятностей; кроме того, эта тактика принесет вам много больше редких и ценных животных. Сейчас объясню, каким образом.
Во всех тропических странах местные жители — отличные натуралисты. Они знают местную фауну и постоянно вылавливают отдельных животных как бы походя — при расчистке участков или обработке земли на фермах. Съедобных животных они приносят в город на продажу, но стоит им узнать, что приехал человек, который покупает зверюшек не пропитания ради, а ради них самих, как они несут к нему все без исключения, что только им попадется под руку. Поэтому у нас оказывался широкий выбор из множества животных и мы могли выбирать и покупать самых интересных. Таким образом мы без всякого труда — не считая необходимых и скучных дел, то есть препарирования, консервирования, внесения в каталог и фотографирования, — за два месяца собрали довольно полную коллекцию типичных представителей местной фауны, особенно тех видов, которые нужны были в значительном количестве для изучения сезонных вариаций и тому подобного. При этом получаешь прекрасную возможность фотографировать, рисовать и изучать животных в комфортабельных условиях. Мы начинаем коллекционирование млекопитающих с того, что добываем семь особей каждого вида: трех самцов, трех самок и одного детеныша; одну взрослую особь каждого пола превращаем в «тушку», то есть снимаем и набиваем шкурку, по одной заспиртовываем целиком, а еще из одной извлекаем полный скелет — получить такой скелет от того зверька, из которого мы сделали тушку, нельзя — кости лапок оставляются в тушке. Раздобыть нужные семь экземпляров не так-то просто — иногда на это уходит уйма времени. Если вы сломя голову бросаетесь прямо с корабля вглубь страны, вам придется отнять жизнь у десятков несчастных обычных зверьков, пока вы не наберете заветную семерку. А поселившись в любом городке, вы можете спокойно осматривать живых зверьков, которых вам приносят, и брать только нужных.
Более того, когда, наконец, вы отправляетесь в «заросли», то можете не обращать внимания на обычные виды, уже собранные вами в городе, — достаточно изловить животное и убедиться, что оно точно такое же, какое уже есть у вас в коллекции. Это избавляет от траты времени и патронов, а также от множества разочарований. Остается больше времени для поисков более редких животных, которых местные жители или не замечают, или не встречают у себя на фермах. В лесу на вас всегда наваливается целая лавина дел, и каждый новый экземпляр животного требует внимания и времени для обработки, так что лишней минутки не остается. Наконец, еще одно преимущество двухмесячной остановки вблизи столицы: купленных животных можно держать в своем собственном зоопарке и изучать на досуге.
Так мы и поступили, высадившись в Парамарибо. Первые две недели мы лихорадочно готовили клетки из ящиков, упаковочных планок, проволочной сетки и столбиков — из любого подручного материала. Своей примитивной столярной работой мы занимались ночами, до самого утра, и, к чести наших соседей, надо сказать, что эти славные люди ни разу на нас не пожаловались. Не успевали мы сколотить из большого, багажного ящика шесть аккуратных клеток с дверцами, и кормушками, как их тут же заполнял поток непрерывно прибывающих животных, а мы вновь пускались на поиски очередного ящика. Поначалу достаточно просторных клеток у нас не было и приходилось строить загоны; потом стало не хватать маленьких, и мы изобрели что-то вроде витрин; но животные все прибывали. Одно время мы держали на заднем дворе живых зверюшки. Счет за их пропитание намного превышал наш собственный.
После уединенного существования на Тринидаде и случайных вылазок на солнечном Гаити мы попали в бурный поток настоящей длительной экспедиции. Мы едва успевали поворачиваться в лихорадочной спешке, потому что фауна Суринама, пожалуй, самая разнообразная и богатая в мире. «Ролле» безостановочно сновал туда-сюда, перевозя диковинных и диких зверей, фотоаппараты щелкали, звонок заливался, и в доме всегда толклись десятки людей, торгующихся на десятках языков и диалектов. Мы сами не замечали, насколько наша работа трудна и утомительна — ведь каждый день приносил нам новое открытие, нового неизвестного зверька или какое-нибудь бесценное, счастливое событие. Мы никогда не знали, что готовит нам грядущий день, час или даже минута.
В один прекрасный день в дверях нашей лаборатории возник человек. Он крепко держался за один конец туго натянутой веревки, в то время как другой ее конец оставался снаружи, на улице. Стоило человеку дернуть за веревку, как оттуда доносилось громкое, раскатистое «фонк». После недолгих переговоров на двух языках, не имеющих между собой ничего общего, мы убедили человека, что веревку нужно втянуть в дом. Наконец животное, привязанное на другом ее конце, с самым независимым видом вошло в дом, не переставая громко «фонкать».
Оно было высотой три фута в холке, черного с белым окраса, и на первый взгляд нам показалось, что оно пятится задом. Потом мы разобрались — тонкое, черное, заостренное на конце образование оказалось его головой, а необъятное, свисающее вниз и покрытое Длинной, пышной шерстью — роскошным хвостом. Ноги могли одинаково двигаться в любую сторону — они были толстые, пушистые, совершенно прямые и как бы лишенные суставов. Перед нами был гигантский муравьед (Myrmecophaga jubata), которого можно увидеть в большинстве зоопарков, но, когда такой зверь появляется на поводке незадолго до ленча и прямо с черного хода, всех берет оторопь.
Эта зверюга привязалась к нам с первого взгляда — хоть я не могу сказать, были ли это кровожадное пристрастие, рабская преданность или платоническая любовь. В лаборатории имелось несколько больших окон и всего одна дверь, и, когда муравьед проник в нее через дверь, мы, не мешкая, покинули ее через окна. Он двинулся в обход лаборатории, ощупывая все закоулки помещения двухфутовым липким розовым языком, похожим на червя-великана, пока не наткнулся на тюк пакли, которая служила для набивки тушек мелких зверьков. Он отвесил тюку несколько затрещин, потом вспорол его одним ударом своих громадных загнутых когтей. Мы прервали начавшуюся торговлю и приказали человеку убрать своего питомца.
Оказалось, что это не так-то просто — стоило ослабить веревку, как муравьед бросался воевать с тюком; пришлось нам смириться и возобновить переговоры о цене. В нашу пользу было одно обстоятельство: если мы не согласимся на его цену, продавцу придется забирать отсюда свою зверюгу. Сделать это в одиночку он явно не мог; мы же имели полное право объявить запрет посторонним лицам вторгаться в наши владения, а самим со всем персоналом безотлагательно изыскать другую работу. Поэтому продавец поневоле согласился на предложенную нами цену — к слову сказать, вполне приемлемую.
Когда он ушел, Андре, наш препаратор, тактично напомнил, что перед нами по-прежнему стояла задача — вывести животное из лаборатории и поместить в клетку. Попытки спугнуть или соблазнить зверя кусками муравьиного гнезда действия не возымели; пришлось нам снова взяться за веревку. Надо отметить, что вся наша прислуга состояла из женщин, и, хотя сил у них хватало, они были далеки от того, чтобы понимать братьев наших меньших. Они даже ухватились за кончик веревки и потянули изо всех сил, но, как только муравьед оказался на виду, женщины струсили, обратились в бегство и попрятались в доме. Мы с Фредом и Андре оказались по колено в огородной зелени, лицом к лицу с муравьедом.
Те, кто видел этих больших, неуклюжих и холеных зверей в зоопарках, где они печально поглядывают на мир маленькими, круглыми карими глазками, даже вообразить себе не могут, какая сила таится в похожих на обрубки лапах, какие коварные замыслы возникают в похожей на сосульку головке! Никто и не подозревает о жутких свойствах нелепо загнутых передних когтей, способных, как кинжалы, вспороть любую ткань, или о той непредсказуемой скорости, с которой зверь делает пируэты, мчится сквозь густую траву или, поднявшись на дыбы, разит передними лапами. Со всем этим мы познакомились на практике, когда выпустили из рук веревку и попытались изловить муравьеда. Нам еще повезло — мы обошлись без распоротых рук или ног. Когда веревка запуталась вокруг нескольких банановых деревьев, мы решили, что зверь в какой-то степени привязан, и подошли слишком близко. Он рванулся, банановое дерево просто-напросто выскочило из земли вместе с дурацким круглым корнем, и Андре при этом оказался в пределах досягаемости. К счастью, Андре не растерялся, а наш огород был обнесен надежным забором из гофрированного железа.
Однако человек — существо бесконечно изобретательное, и нам, в конце концов, удалось перехитрить первобытное создание. Мы заманили и загнали зверя, куда было нужно, а потом соорудили вокруг него большой вольер из проволочной сетки на столбах. За считанные дни наш счет за молоко так подскочил, что мне было передано предупреждение комиссариата, запрещающее получать с кухни какие бы то ни было продукты не для нашего личного употребления.
Много хлопот доставил нам и красавец оцелот (Leopardus pardalis), которого принесли в совершенно неподходящем ящике, предназначенном для перевозки абажуров, судя по трафаретным набивкам на таре. Это был кот в полном расцвете сил, покрытый черными пятнами и крапом по оливково-охряному фону, поменьше леопарда, но все же в несколько раз крупнее домашней кошки — достаточно, чтобы заслуживать серьезного отношения.
Нужно было переселить зверя в более прочную клетку, кроме того, хотелось его сфотографировать. Для этого потребовалось бы несколько раз пересаживать животное из клетки в клетку, если бы женщина снова не подсказала нам, что можно временно поселить его в специальной клетке для фотографирования, а тем временем соорудить и постоянную клетку. Мы незамедлительно приступили к делу, хотя нам не мешало бы задуматься над тем, почему люди, продавшие зверя, исчезли до того, как мы попытались открыть ящик для абажуров. Чертов ящик рассыпался в ту минуту, когда голова оцелота оказалась в фотоклетке. Ящик разом сложился, как карточный домик. Оцелот продолжал двигаться в прежнем направлении и вошел в клетку, после чего мы поспешно заперли ее дверцу.
Сначала кот сидел тихо, но постепенно стук молотков и скрежет пил стали действовать ему на нервы, и он зарычал; тогда мы вынесли клетку в сад, покрыли куском мешковины, а сами продолжали строить оцелоту постоянное жилье.
Справившись с этим делом, мы поставили две клетки вплотную, собираясь еще раз перегнать зверя. Тут я вспомнил, что мы позабыли его сфотографировать. С похвальной кротостью я уговорил Альму сбегать за камерой и исполнить свой долг, то есть проделать все таинственные и сложные операции, которыми забавляются люди с фотоаппаратами. Это была уступка с ее стороны, потому что она инстинктивно опасалась зверей кошачьей породы, и по этой причине фотоклетка была снабжена специальной подъемной дверцей, через которую можно было просунуть фотокамеру. Когда все было готово, я сдернул мешковину.
Не берусь описывать свои чувства в тот момент. Пол клетки находился на уровне моего пояса, а все, стенки должны были быть забраны сеткой. Теперь; я глядел в упор в слегка удивленные, хотя довольно спокойные, глаза оцелота. А вот сетки между нами и в помине не было.
Зверь как-то ухитрился содрать сетку, которую мы весьма старательно приколотили, и втащить ее в клетку. Покончив с этим, он, судя по всему, спокойно уселся, выжидая, пока не стемнеет и солнце не перестанет резать глаза — тогда можно будет выйти без помех. Конечно, мы перетрусили от неожиданности, и как всегда, под рукой не нашлось ничего подходящего — чем можно было бы заткнуть дыру, поэтому у зверя оказалось предостаточно времени, чтобы он мог не торопясь выйти и даже выпрыгнуть. Вместо этого оцелот сидел, моргая и тихонько мурлыкая, пока мы, к всеобщему облегчению, не вставили в стенку толстую доску. Довершать фотографические работы пришлось мужской части нашей компании.
Этот эпизод создал несколько напряженную обстановку в нашем коллективе, а события следующего утра разрядки не принесли. Мы сидели за завтраком в просторной, залитой солнцем комнате на первом этаже. В доме непрерывно толклись разные люди — бесконечная вереница посетителей с кучей живности в разнообразной таре и обычные гости — почтальоны, мастера по ремонту газа, электричества и радио, торговцы хлебом и контролеры непостижимых законов паркования и освещения. В то утро, как мне показалось, народу и суеты было больше, чем обычно. Однако я все же предпочел не вникать ни во что до завтрака. За завтраком Альма, как всегда, села на свое место во главе стола. Спустя некоторое время она заговорила со мной довольно сердито и почему-то шепотом.
— Что ты сказала, дорогая? — небрежно переспросил я.
— Я сказала, что сейчас мимо окна проскочила обезьяна, очень похожая на Джейкоба.
— Да тут их полным-полно, — пробормотал я, готовясь отправить в рот очередной кусок яичницы.
— Хорошо, дорогой мой, — услышал я в ответ, — обезьянка, может, и не наша, а вот воротничковый пекари, который забрался в гостиную, — тот самый, которого ты купил на прошлой неделе.
Да, в гостиной оказался наш воротничковый пекари и пара древесных дикобразов с детенышем енота в придачу. Обезьянка, конечно, оказалась нашим Джейкобом, и, когда я выскочил в сад, он уже проникал в третий от нас дом к западу, а наши владения напоминали Ноев ковчег. Справа от меня ленивец держал путь к курятнику; прямо передо мной тройка капуцинов деловито прихорашивалась, сидя на баках с водой, а соседи надрывались от крика, умоляя нас поскорее прийти и спасти их от второго ленивца.
Как оказалось, кормить животных поручили новенькому, неопытному служителю, и он изобрел совершенно оригинальный метод кормления: для начала отпер все клетки, а потом отправился за едой. Вернулся он как раз вовремя, чтобы окончательно распугать всех выбравшихся из клеток зверей.
В таких испытаниях род человеческий показывает себя в самом выгодном свете. Равнодушие как рукой снимает. Религиозные и профессиональные различия, классовые противоречия — все бывает забыто, даже ненасытное чудовище — корысть — отброшено прочь, и все, как один, ревностно помогают вам по мере сил. На этот раз человечество себя не посрамило: нам на помощь бросились важные персоны, полисмены, индийцы, шествовавшие на базар с рисом, шоферы-малайцы, даже славные темнокожие старые дамы необъятных размеров и, конечно, юное поколение в полном составе.
Сначала мы переловили и сунули в клетки самых неповоротливых зверей, вроде ленивцев; затем загнали в угол животных, которые могли бегать, но только по горизонтали — свиней, оленей и прочих; наконец, и существа, представлявшие собой некоторую опасность, как, например, дикобразы, были накрыты мешковиной и водворены на прежние места. Только после этого мы смогли заняться обезьянами.
Обезьян у нас было несколько видов. Во-первых, грустный маленький Джейкоб, черная паукообразная обезьянка — очень добрый и ласковый зверек; капуцины — они непрерывно чесались и жались друг к другу, притом не выносили табачного дыма; были у нас еще мармозетки, которые, к счастью, не успели выбраться из клетки, и, наконец, тамарины.
Джейкоб, собственно говоря, просто решил навестить соседей, и ничего не стоило уговорить его вернуться. Он вышел из третьего от нас дома, взял Анд за руку и пошел с ним домой. С капуцинами тоже было хлопот: мы манили их к себе бананами, а с тылу подкуривали особенно зловонной сигарой; они сами вошли в клетку.
Но тамарины! Эти странные лемуроподобные зданьица явно недолюбливают род человеческий. Они очень ловкие и хитрые, но до изобретательности настоящих обезьян им далеко. У нас были представители одного вида (Mystax midas), более крупные и черные как смоль, с оранжевыми перчатками на задних и передних руках. На их низколобых мордочках застыло; подозрительное выражение, как у деревенской старухи, а все пальцы вооружены острыми, изогнутыми когтями. Передвигаются они с одинаковой ловкостью и по земле, и по ветвям деревьев.
Когда-то люди рассказывали о «медвежьих парках»; посмотрели бы они на наш сад, кишащий тамаринами и суринамцами, играющими в догонялки. Одну обезьянку мы загнали в книжный шкаф в доме; вторая свалилась в колодец, но отделалась легким испугом; нескольких других изловили на открытом месте, набрасываясь всем скопом; но одна зверюшка потешалась над нами битых два часа — под конец она забралась на верхушку высокого дерева и оттуда перелетела в крону королевской пальмы с совершенно гладким, как и положено, стволом. Андре стал медленно взбираться на пальму, прибивая один за другим деревянные бруски, и прибил их пятьдесят восемь штук, пока добрался до зверька; но тот внезапно метнулся в пустоту и полетел на землю с высоты в пятьдесят футов.
Все застыли в молчании, став свидетелями самого трагического происшествия — непреднамеренного самоубийства. Когда тельце ударилось о землю, мы услышали леденящий душу глухой стук. Все бросились туда, но черный зверек уже мчался по траве, обогнул баки с водой, перескочил загон для свиней и влетел прямо в свою клетку. Там он уселся, дрожа и отдуваясь. Нет, хватит с него свободы!
Содержать зоопарк, пусть самый маленький, совсем нелегко. Даже у себя на родине животные очень капризны. Если бы мы до сих пор держали наш частный маленький зоопарк, не пополняя его постоянно новыми приобретениями, у нас осталось бы не больше десятка прежних питомцев. Во-первых, некоторые виды вообще не выносят жизни в неволе; к ним относятся прежде всего мелкие летучие мыши. Как-то мальчишка принес нам сотню мелких плодоядных летучих мышей — Hemiderma brevicauda. Мы поместили их в просторную затемненную клетку, подвесив на веревочках к потолку массу бананов и прочих фруктов. Мыши с жадностью набросились на лакомство, что не помешало им погибать — примерно по три в час.
Даже виды, легко привыкающие к неволе, нельзя считать надежными. Невесть отчего, без всяких видимых причин, животное просто умирает в расцвете сил, Даже не теряя аппетита. Это случается обычно к вечеру, поэтому препарировать их приходится до поздней ночи. Но звериные горести и напасти подчас оборачиваются для нас выгодой — ведь их болезни, особенно связанные с паразитами, дают самый интересный материал для нашей работы.
О паразитических червях обычно или вовсе не говорят, или упоминают с дрожью отвращения.
Разумеется, вообразить внутри себя копошащуюся массу живых червей — я нарочно подхожу к этому вопросу именно с точки зрения человека — тошнотворно. Если же, однако, посмотреть на дело с другой стороны, оно предстает в ином свете. Сам по себе червь нисколько не отвратительнее любого из нас; это живое существо, живущее нормальной жизнью и вполне эффективным способом добывающее пищу. Более того, жизнь внутренних паразитов — глистов — потрясающе интересна.
Обрабатывая любое добытое животное, мы прежде всего тщательно ищем его паразитов. Очень часто находим множество наружных паразитов: это клещи, вши, гроздья присосавшихся возле ушей или губ ярко-красных клещиков — все они обычны для тропиков. Кроме того, у многих животных имеются специализированные паразиты, которые живут только в шерсти данного вида. В Суринаме среди шерстного покрова трехпалого ленивца (Bradypus tridactylus) почти всегда во множестве гнездятся подвижные, похожие на тараканов насекомые (Bradyprodicola hahneli) длиной примерно полдюйма. Их никогда не встретишь ни на двупалом ленивце (Choloepus didactylus), ни на каком-нибудь другом животном. На летучих мышах живут мухи-стреблиды, у некоторых из них крылья сложены на спинке, другие — бескрылые. В одном доме мы выловили около сотни летучих мышей трех видов, которые, сбившись в кучу, сидели, то и дело переползая друг через друга. На одном виде стреблид не было вообще, на двух других были, но на каждом — свой вид. Ни разу мы не нашли муху одного вида на «чужой», неподходящей летучей мыши, хотя их были тысячи и тысячи. У пойманного нами оленя на спине сидели клещи одного вида, а на белом брюхе — совсем; другие. И нам не удалось перегнать ни тех, ни других в «чужие владения», как мы ни изощрялись.
После того как все живое собрано с поверхности тела животного, мы исследуем его внутренности. Начинаем со вскрытия кишечника, и тут нас часто ожидают сюрпризы. В толстых кишках и слепой кишке, находящихся ниже тонкого кишечника, может существовать один вид глистов — чаще всего нематоды, или круглые черви; в нижней части тонкого кишечник могут обитать несколько толстых, больших, голубовато-серых червей, способных стягиваться в продольном направлении, как оборка на резинке. Эти существа называются акантоцефалидами, и я не несу никакой ответственности за то, что обременяю вас этим названием — другого нет. Выше, в тонком кишечнике, располагаются ленточные черви, или цестоды, и мне случилось видеть енота и ревуна, кишки которых были так туго нашпигованы этими паразитами, что сквозь них вода не проходила даже под давлением из шприца. Интересно, как через них проходит еда? В желудке случается найти совершенно новых глистов: или длинных, тонких, нитеобразных, ярко-красного цвета, или круглых, как пуговицы (трематоды), которые умеют растягиваться; обнаружить их можно только путем промывки извлеченной из желудка массы.
Но это еще не все. У того же зверька в печени могут быть цисты глистов, нитевидные глисты в легких, глисты другого вида, комьями скопившиеся в околосердечной сумке, филярии — в крови или в лимфатических протоках, еще один вид трематод — в ноздрях и пентастомиды — в мочевом пузыре. Последние, собственно говоря, не черви, хотя напоминают их, а сильно деградировавшие арахниды — паукообразные, о которых я говорил несколько выше. Таким образом, одно животное может содержать в себе целый зверинец. Производя вскрытия в погоне за бесценной добычей, я не раз задавался вопросом: как сами животные ухитряются чем-то питаться при такой куче нахлебников и как они себя при этом чувствуют?
У некоторых нематод (круглых червей) есть забавный обычай жить порознь с собственной парой. Самцы выглядят совершенно иначе и живут в других органах, а то и вовсе в других хозяевах. Разыскивать их очень занятно, тем более что никогда не знаешь, то ли ты нашел, что искал. Самое интересное у всех паразитов — это их жизненный цикл. Многие имеют чрезвычайно сложный и запутанный цикл развития, иногда переходя четыре раза от хозяина к хозяину, так что одна особь, прежде чем станет взрослой, успеет пожить в стебле травы, в улитке, в водах пруда и в кролике, которого еще должна съесть собака, чтобы бедный маленький паразит почувствовал себя хоть под конец в тихой пристани. Поверьте мне, не надо паразитов презирать или брезговать ими. Эти существа подарили науке множество открытий, а Суринам — самая «червивая» страна, в какой мне приходилось когда-либо бывать.
Хотя наши погибшие животные оказывались почти все достаточно богаты глистами, это очень редко служило причиной их безвременной кончины. Иногда нам приносили животных, до того израненных, что их необходимо было как можно скорее избавить от мучений. Самый удивительный случай произошел у нас с двупалым ленивцем, который казался совершенно здоровым и подвижным и обладал отменным аппетитом. Как-то Фред осматривал клетки и заметил, что наш ленивец царапает свое брюхо громадными изогнутыми когтями. Приглядевшись получше, Фред с удивлением обнаружил в брюшной полости ленивца проникающее ранение — дырку величиной с пенни. Под длинной шерстью она была совсем незаметна. Мы поспешно прикончили страдальца и сделали вскрытие, которое показало, что рана практически зажила, но в ее задней стенке, полностью окруженная капсулой из здоровой ткани, сидела картечина размером с сустав большого пальца. Никакого воспаления вокруг не было. Животное прожило у нас три недели. Хотел бы я видеть человека, который преспокойно жил бы с этакой дырой в животе и не умер бы от перитонита!
Однажды двое охотников пришли к нам с фантастическим предложением. Короче говоря, они предложили нам пятидесятифутового кита — при условии, что мы сами его заберем. Это положило начало новым событиям.
Все из-за дохлого кита!
Песчаные мухи, красный ибис и рыба-четырехглазка
С правого борта у нас было две четко разделенных стихии. Наверху — бездонное, пронзительно синее небо; внизу — мутно-бурая жидкость, именуемая здесь морем. С левого борта плескалась та же рыже-бурая вода, но выше стояла стена ярко-желтого света, и разделяла их тонкая полоска темной зелени. Было шесть часов вечера, и мы находились в море у северного побережья Южной Америки.
Мотор пыхтел в своем тесном отсеке, как усердный трудяга, и наша утлая лодчонка без палубы начала плясать на волнах с той живостью, какую придает только открытое море. Я сидел, глядя в лицо продубленного ветром ньюфаундлендца, который держал руль в своих надежных руках. Мы улыбнулись друг другу, и крепкая лоцманская лодка задрала нос, преодолевая атлантическую волну. Мое сердце просто лопалось от восторга — что еще нужно шотландцу с западного побережья, как не бурное море и маленькая лодка!
Компания у нас была странная, а флот — диковинный. В лодке лоцмана кроме нас троих сидел Андре, светло-коричневый, поджарый, и жевал резинку. На носу, устремив мягкие карие глаза на зеленый берег, восседал охотник Мартинеус, воплощение черной расы, одетый в шорты и странную мешковатую робу. Ослепительно красный платок был повязан вокруг лба и завязан под подбородком, поверх него красовался потрепанный и засаленный колпак. Дело в том, что он недавно перенес операцию в области нижней челюсти и считал, что закалка закалкой, а береженого бог бережет. Помощник лоцмана стоял на носу в форменной синей тужурке и остроконечном колпаке. Его можно было бы принять за рыбака из Плимута, если бы не цвет кожи. Вот и вся компания, которая была на лоцманской моторке; однако на буксире за нами прыгала по волнам крохотная индейская лодчонка, а в ней, с веслом в руке вместо руля, восседал Уолтер, загорелый и тощий голландец-бур — охотник и плотник. Компания была пестрая, и собрались мы все вместе из-за двух вещей: из-за моря и дохлого кита.
Мы вышли из Парамарибо в четыре часа; в пять обогнули излучину у Нового Амстердама, а теперь, в шесть, уже настолько далеко отошли от устья реки Суринам, насколько позволял наш каботажный маленький флот покинуть владения великой тропической реки. Реки, эти колоссальные водяные змеи, к устью разливаются в такую ширь, что невозможно сказать, находишься ты еще в реке или уже в океане, или и там и там. Мы, судя по всему, шли в открытую Атлантику, но по сути дела пересекали необозримый залив. Слабое дыхание мощных юго-восточных пассатов еще овевало наши щеки справа; нестерпимый желтый блеск неба на западе угасал, сменяясь густым оранжевым, а за ним бронзовым и алым, как голубиная кровь, — спускалась бархатная ночная тьма.
Наш моторчик все еще пыхтел, и за кормой вспыхивали оранжевые фосфоресцирующие искры. Мы поужинали на ходу, медленно приближаясь к полоске на горизонте, которая стала черной, как тушь.
Вскоре ее уже нельзя было назвать полоской, и при свете фонаря с пятью батарейками мы наконец рассмотрели в первый раз, какая растительность обрамляет эти мутные волны. Мы единодушно решили, что в жизни не видели более сомкнутой, холодной, бесчувственной и бесполой массы зелени. Стена состояла из деревьев — мангровых, как вы, наверно, догадались, высотой не более тридцати футов, одинаковых, с мелкой голубовато-зеленой листвой, тонкими, торчащими как попало ветками и хилыми стволами, которые, не успев собрать к себе все ветки, снова разбегались рыхлой путаницей кореньев, похожей на плетеные корзинки для омаров. Эти бесстрастные растения-уроды теснились бесконечными рядами, то вылезая на трехфутовый глинистый откос, то окуная свои холодные пальцы в тихо колыхавшуюся коричневую воду. Кроны отклонялись от нас, словно шарахаясь от напора пассатов; между стволами гнездилась стоячая, сырая и черная тьма, и ни звука, ни шороха не доносилось из чащи — ни одно ночное насекомое не шевельнулось, не застрекотало — это был беззвучный, мертвый мир.
Мартинеус прилежно мерил глубину шестом и выкрикивал цифры на голландском — странном и незнакомом нам — языке. Он занялся этим делом, как только стемнело, — тогда мы были за много миль от берега, но у здешних побережий сплошные отмели. То и дело нам приходилось лавировать туда-сюда, чтобы миновать илистую или песчаную отмель, где воды было по щиколотку. Мы подобрались уже вплотную к мангровым корням, а воды едва хватало, чтобы держаться на плаву.
В порыве энтузиазма Уолтер и Мартинеус накануне заявили нам, что до кита можно добраться от Парамарибо за четыре часа. Прошло целых шесть часов, а мы все еще ползли на моторке вдоль стены мангровых, высматривая вышеупомянутого кита. Несколько раз они поднимали крик, уверяя, что видят его, но каждый раз это оказывалась топкая илистая отмель, и мы тащились дальше. Наконец мы вошли в залив, который оказался достаточно большим, чтобы его можно было разглядеть в кромешной тьме, и разгорелся великий спор на местном диалекте, который называется «таки-таки» и всегда звучит, как перебранка. Выяснилось, что все хорошо знают этот залив и что кит лежит на том его берегу, который мы уже миновали. Поэтому лодку повернули и пошли обратным курсом.
Однако прямо посередине залива мы встали, как на приколе, и, глянув за борт, увидели потрясающее зрелище. Прямо у нас на глазах бурые волны превращались в мелкую зыбь и просто-напросто исчезали. Через две минуты мы сидели в полном безмолвии, только издалека доносился плеск — накатывающие с океана волны боролись со встречным потоком. Отлив — это по сути дела отступление воды вспять. Мы стали свидетелями самого эффектного отлива, какой нам только приходилось видеть.
Не стоило и пытаться выгрузить наше снаряжение на берег — мы застряли в море жидкой грязи, притом посередине залива. Ночь была ясная, ветерок улегся, но, так как стояла середина дождливого сезона, я предложил на всякий случай соорудить какой-нибудь навес, выпить чаю на ночь и укладываться спать. Предложение было принято единогласно, и Уолтер с Мартинеусом отправились на берег вырубать шесты, причем способ их передвижения оказался весьма оригинальным. В грязи плавать нельзя, но и ходить по липкой жиже тоже невозможно. Если в воде можно плыть или идти ко дну, то по этой жидкости удается разве что скользить, поэтому ялик был превращен в подобие саней или лыж, и наши друзья, держась за борта руками, толкали его вперед и как бы шагали по грязи, погружаясь в нее выше колен. Они ушли в темноту, и только прыгающий огонек фонаря мелькал среди деревьев. Внезапно раздался громкий крик.
— Мы нашли рыбу-кит! — возвестили они.
Вскоре они вернулись и рассказали, что, оказывается, громадный кит продрейфовал вдоль берега и его прибило к нему как раз напротив того места, где мы застряли. Они принесли несколько длинных шестов, воткнули их в грязь вокруг лодки и натянули навес. Наконец все улеглись спать.
Сон, даже на банке шириной в фут, сладок для утомленного путника, а мы вдобавок дышали славным морским воздухом; но в некий неведомый час среди ночи — примерно за двадцать пять сигарет до рассвета — наша грязевая стоянка превратилась в адский кошмар. Нам случалось сдирать с себя клещей, облеплявших все тело — по одному на квадратный дюйм; от укусов песчаных блох мы оказывались как бы в пижамных штанах в красный горошек; пиявки превращали наши брюки в пропитанные кровью тряпки; москиты налетали на нас тучами, которые мы принимали за туман при свете луны. Но даже клещи, от которых мы чесались, как бешеные, и, как губки, истекали желтой сукровицей, не шли ни в какое сравнение с той проклятой, сводящей с ума, невыносимой и ужасной пыткой, которая постигла нас в то утро.
Когда пассат улегся, воздух застыл в неподвижности, но ночью земля остывает быстрее воды, и с воды поднимается столб нагретого воздуха. В результате воздух, стоящий над землей, тихо устремляется к морю, и возникает легчайший бриз — ветерок, дующий от земли в сторону моря. Этот легкий сквознячок принес с собой неисчислимые рои песчаных мух, которых здесь называют «монпиерра». Разглядеть крохотных насекомых в темноте невозможно, но укус их жжет, как огонь. Они облепляли все открытые места и забивались под одежду, вызывая страшный жгучий зуд; от песчаных мух единственное спасение — костер и одно лишь лекарство — терпение.
Монпиерры свалились на нас как снег на голову, и через несколько минут мы все курили как проклятые, сидя кто где, хлопая себя ладонями и ругаясь напропалую. Пытка продолжалась до рассвета и после восхода солнца, без пощады и облегчения, а когда начался прилив, наши мучения еще усилились.
Оказавшись наконец на плаву, мы устремились к берегу, собрали все сухие сучья и плавник и развели грандиозный костер, в удушливом дыму и пламени которого и коптились до восьми часов, пока не подул благословенный пассат, сметая бесов-мучителей обратно в гнилые болота. Наши пожитки мы выгрузили на берег, после чего бравый помощник лоцмана опрокинул «отвальную рюмку виски» и отправился домой. Мы остались среди колыхавшихся мангровых зарослей и плеска мутных волн, набегающих на берег.
Заточив свои ножи и мачете, мы направились к киту, пока еще в заливе была вода и наш ялик мог двигаться. Мы налегли на весла, вдыхая свежесть пассата. Пухлые белые облака висели на синем небе, нелепые мангровые заросли раскачивались и что-то шептали, а наше крохотное суденышко с плеском рассекало мутную воду. Но, как Альма лаконично заметила, чего-то не хватало, и мы вскоре сообразили, чего именно здесь не хватает. Такому пейзажу непременно сопутствуют несмолкаемые пронзительные крики чаек, а здесь не слышно было ни звука и не видно никаких признаков жизни, кроме треугольного плавника океанской разбойницы, который вспарывал воду то с одной, что с другой стороны от ялика.
Некоторые акулы отваживаются заплывать на отмели, но гораздо опаснее их — рыба-пила. Мы слыхали о человеке, который в полнейшем неведении брел по одной из таких отмелей и внезапно обнаружил, что ему придется остаток жизни провести на коленях — рыба-пила отхватила ему обе ноги. Зная это, мы сидели как статуи, потому что в индейской лодчонке среди волн лучше не вертеться и не глазеть по сторонам, — как бы чего не вышло.
Когда мы обогнули дальний мыс, страшное зловоние мгновенно все вышибло у нас из головы. Оно лишило бы нас способности соображать даже в минуту смертельной опасности. Если вам случалось хоть раз почуять запах дохлого кита, дело сделано — вы запомните неистребимый аромат на всю оставшуюся жизнь. Это не просто запах падали или гниющей рыбы — нет, это нечто ни с чем не сравнимое. Попросту говоря, это — запах дохлого кита.
Давным-давно я провел неделю на базе, где обрабатывали китов, на Шетландских островах, и получил там боевое крещение. С тех пор я делаю стойку в лабиринтах трущоб, возле складов, корабельных трюмов и во всевозможных неподобающих местах, почуяв запахи, каким-то непостижимым образом связанные с этим мощным и своеобразным духом. Когда я в таких случаях начинал дотошно докапываться до источника, мне всегда попадался китовый жир, мука для удобрения из китовых костей или еще что-нибудь связанное с китами, хотя иногда это была лишь сложная комбинация совсем других запахов, отдаленно напоминавших то самое грандиозное зловоние.
Как ни странно, эта вонь не так невыносима, как теплый, душный дух капустного поля после дождя. Китовый запах — живой и мощный, хотя прилипчивый и въедливый, так что постепенно даже начинаешь воспринимать его как друга — хотя он и забирается в самые отдаленные уголки твоих легких, застревая там на многие дни, к нему начинаешь привыкать и при каждой новой встрече испытываешь вместо тошноты почти родственное чувство. Я был бы рад в будущем иногда почуять запах дохлого кита — он принесет с собой видение берегов Суринама, а это — самое бесценное сокровище, какое можно добыть из недр моей памяти.
За мысом дул свежий ветер, и нам пришлось приналечь на весла, причем с каждой минутой зловоние крепчало, пока мы не увидели самого кита. Прибитое к корням мангров, тихо колеблемое зыбью, на воде болталось нечто бледно-желтое, похожее на перевернутую лодку. На этой неустойчивой и даже на вид мягкой массе уселись рядком отвратительные тощие черные стервятники, которые расхаживали, как куры, и отрыгивали пищу при малейшем беспокойстве. При нашем приближении грязные падальщики лениво взлетали — для начала они разбегались и подпрыгивали, а уж потом, хлопая крыльями, направлялись к раскачивающимся над головой ветвям мангров. Мы причалили с наветренной стороны горы мертвой плоти и высадились прямо из лодки на небольшую глинистую отмель, которая заменяла берег.
Сразу определить, к какому виду относится дохлый кит, довольно мудрено. Только облазив всю тушу и определив ее строение, мы утвердились в догадках, что это кашалот. Тогда же мы поняли, в каком положении он лежит и какие части этой истекающей жиром груды мяса соответствуют отдельным органам животного. Оказалось, что кит лежит на правом боку, спиной к берегу и к мангровым зарослям, брюхом к открытому морю и головой к востоку. То, что такое колоссальное существо было занесено волнами далеко вглубь мелкой дельты, объясняется, должно быть, тем, что вначале туша была раздута возникшими при гниении газами и обладала большой плавучестью, почти не погружаясь в воду. Недавно туша лопнула вдоль границы ребер и позвоночника на правой стороне спины. В результате вся масса осела, внутренности вывалились на отмель под брюхом, а воздух и вода получили доступ в полость тела. Тяжеленная голова и массивная передняя треть тела, состоящая из костей, мышц и сухожилий, словно якорь, удерживали тушу в глинистом дне, в то время как средняя часть покачивалась на волнах. Тем не менее по плавающей туше можно было ходить, не дожидаясь, пока вода спадет и она целиком ляжет на отмель.
При жизни этот левиафан был покрыт лоснящейся серой кожей. Теперь же его туша была желтого цвета, словно изрыта оспинами, а по консистенции представляла собой нечто среднее между резиной и взбитым сухим английским омлетом. Из нее непрерывно сочился прозрачный янтарный жир, скапливаясь в ямках и впадинах лужицами глубиной в несколько дюймов. По мере того как вода отступала с отливом, из нее показывался сначала громадный лопатообразный плавник, затем небольшая дырочка (мы знали, что это ушное отверстие) и, наконец, глаз, прищуренный с несколько неуместным выражением веселого лукавства. Море быстро отхлынуло, и мы получили возможность обойти вокруг и хорошенько рассмотреть животное. Мы измерили его — он оказался в длину от носа до хвоста пятьдесят футов, однако пропорции кашалота (Physeter macrocephalus) — самое поразительное явление в животном мире. К примеру, глаз от уголка до уголка был всего десять дюймов длиной, передний плавник — всего четыре фута, а хвостовой плавник, единственный «двигатель» этой живой подводной лодки, был не больше семи футов в поперечнике. Самое замечательное у этого животного — голова. В ней было семнадцать футов от точки над глазом до дыхала, как ни странно сильно смещенного влево от середины морды. Таким образом, целая треть длины животного и по сути дела почти треть его массы приходились на голову — она по форме близка к цилиндру, спереди как бы обрублена и больше пяти футов высотой. В голове у кашалота находится резервуар, наполненный пропитанной жиром тканью.
Наш кашалот погиб не меньше чем месяц назад, а может, и того раньше — при таком изобилии жира и в соленой морской воде разложение идет очень медленно. Даже для самой природы освободить прибрежную отмель от огромной груды плотного, крепкого мяса — непростое дело. Насколько же китовое мясо неподатливо, нам предстояло испытать в ближайшее время. Мы приехали на этот раз только для того, чтобы определить объем предстоящих работ, сделать измерения и фотографии, проверить состояние туши, наметить, на какой стадии отлива удобнее всего сделать главные разрезы и расчленить тушу.
У нас в наличии имелось полдюжины мачете для резки сахарного тростника, привязанных к длинным шестам, два больших ножа для свежевания крупной дичи, крепкая пила-ножовка и точильный камень. Альма, невзирая на мои возражения, решила помогать нам.
К тому времени, как мы завершили предварительный осмотр, море отступило к самому горизонту. Перед нами расстилалось поле бурой грязи шириной в две мили, перепаханное бороздами и гребнями — работа пахаря-великана. Полуденное солнце палило нас сверху, а кит издавал самое тошнотворное зловоние — когда ты голоден и хочешь пить, это всепроникающее густое зловоние кажется до крайности отвратительным.
Чтобы вернуться в наш лагерь, надо было пересечь полосу ила шириной в три четверти мили — в залив впадали две «речки», а идти в обход берегом, как вы увидите из дальнейшего, было невозможно.
Мы погрузили в ялик инструменты, посадили Альму и резво заскользили по жидкой грязи. У берега это не представляло особого труда — борозды были неглубокие, — но по мере продвижения вглубь залива борозды становились все глубже, гребни — круче, а ил — все жиже, так что мы — четверо живых двигателей — с каждым шагом увязали глубже, пока не стало казаться, что у нас вовсе нет ног. Глинистая жижа была до отчаяния вязкой: стоило остановиться, как вас тут же начинало засасывать глубже и глубже; передвигать ноги, как при ходьбе, было почти невозможно. Если бы мы не держались за лодку, я уверен, мы все увязли бы по шею в грязи не в силах двинуть ни рукой, ни ногой. Грязь была даже не бурая: поверху растекалась тонкая пленка буровато-зеленого ила, состоящего, очевидно, из диатомовых водорослей и других мельчайших организмов. Под илистой пленкой грязь имела чистый графитно-голубой цвет, а высыхая, становилась бледной, белесовато-серой.
С неимоверными усилиями, оступаясь и барахтаясь в грязи, мы наконец добрались до отмели, где все наши пожитки были свалены как попало, когда их сгрузили с моторки. Мы отмылись и отчистились, по мере возможности, живописно задрапировались в купальные полотенца и пестрые пареос и, подкрепившись тем, что удалось достать из ящиков, приступили к сооружению жилья на новом месте.
Поскольку окружающая местность, как и все побережье, на котором мы находились, была необычна, я решил для наглядности прибегнуть к карте — правда, это ничем не лучше, чем нудные исторические даты. Мы строили свой дом на так называемой песчаной косе, хотя ни единой песчинки в ней нет — сплошь ракушки и их обломки. Несмотря на то что на это побережье лишь изредка налетают штормы, я бы не посоветовал выбирать его для отдыха — берег нигде не превышает четырех футов над уровнем самого высокого прилива. Других недостатков у ракушечного пляжа нет, если не считать песчаных мух и полного отсутствия пресной воды. Это по-своему чудесный маленький мирок.
У нас при себе было всего два куска брезента и две клеенки — а надо было соорудить два домика. Один кусок брезента мы отдали Андре и двум «охотникам», и они устроили себе тесную, непроницаемую для воздуха коробку, где и ночевали втроем, закутавшись с головой в одеяла, как три мумии, — для защиты от монпиерр. Мы свой дом соорудили на раздвоенных деревцах, с центральной балкой — в истинно англосаксонском, гигиеничном, но крайне непрактичном стиле. Пассат продувал его насквозь, дождь заливал, накапливаясь внутри, а монпиерры вообще не вылетали наружу. Нам еще повезло: дождь за все время шел лишь два раза, пассат был ласковым, как альпийский ветерок, и только с часу ночи до четырех утра нам приходилось вылезать на берег и дымить сигаретами в тщетной надежде отогнать монпиерр. Наш кухонный очаг был защищен от произвола стихии тремя мешками и грудой ящиков.
Живя в Парамарибо, мы были так поглощены заботами о своем зоопарке, что не успели обдумать столь всеобъемлющую и важную тему, как «снаряжение». Признаться, мы самым непозволительным образом пренебрегли канонами и почти религиозными догматами экспедиционной жизни, отчего и пострадали прямо пропорционально своей небрежности. Честно говоря, мы не испытывали недостатку в самом насущном, но отсутствие некоторых очень нужных мелочей обнаружили только в день отплытия. Например, мы с прискорбием узнали, что пять жалких кур, дрожащих на открытой отмели или квохчущих загробными голосами в свисте пассата, питались нашим рисом, ввиду отсутствия корма, предназначенного для домашней птицы. Крайне неудобно было и то, что орудия для разделки кита нам пришлось упаковать вместе с нашими пижамами: они не умещались ни в один ящик, а влезли только в наш чемодан. Смазочное масло для точильного камня куда-то таинственно исчезло и было обнаружено исключительно благодаря странному привкусу сосисок.
Мы с Фредом старались покончить с делами к чаю — это было для нас обоих самое торжественное время дня (прежде всего подайте нам кипяточку, а уж тогда мы способны работать, как черти) — и были чересчур заняты, чтобы созерцать окружающее. Построив свой дом, в то время как Андре с охотниками строили свой в полумиле от нас, на отмели, мы наконец почувствовали себя на свободе и уселись на кучки раковин, прихлебывая животворящий напиток. И тут мы вдруг осознали, что нас занесло в совершенно иной мир, который мы поначалу не разглядели; он решительно не похож ни на что когда-либо виденное нами.
В глубине грандиозных пещер Тринидада, среди стонущих сосен Гаити и вот теперь здесь, между холодными мангровыми зарослями и морем грязи, мы переносились в нереальный, нездешний, особенный мир — словно оказывались на чужой планете. Такие «неземные» ландшафты далеко не всегда суровы и наводят жуть; это могут быть пейзажи, полные совершенной, чистой и нежной прелести. И наша ракушечная коса у моря была одним из таких уголков.
Мы лежали в лучах вечернего солнца, обдуваемые ласковым ветерком, и нам не верилось, что где-то в мире есть люди кроме нас, а всего в семидесяти милях находится городок, пусть даже такой небольшой, как Парамарибо. Вместо угрюмого, безжизненного, заполоненного мангровой чащей грязного берега, обрамляющего столь неприглядное пространство залива, перед нами был далекий от мира рай. Как я могу называть раем место, целиком покрытое илом, грязью и мангровыми зарослями? Сейчас объясню, но сначала позвольте спросить вас: знаете ли вы птицу, которую называют алый ибис (Plegadis rubra)?
Постарайтесь представить себе это чудесное создание, а уж тогда я попытаюсь описать вам картину, увиденную в тот вечер на берегу Суринама: глинистые отмели, насколько хватал глаз, покрывали бесчисленные стаи алых ибисов. Это длинноногие болотные птицы с характерным для ибисов загнутым вниз клювом. Слово «алый» лишь приблизительно применимо по отношению к тому ослепительному, роскошному оперению, в которое они облачены. Общий цвет действительно красный, то есть не зеленый, не синий, не желтый, но в нем переливаются все оттенки нежно-розового, розовато-алого и ярко-пламенного цвета, какие только может вообразить художник.
В теплом вечернем освещении птицы, как живые драгоценности, плыли по густо-синему небу несметными стаями, опускаясь на илистый берег среди своих собратьев. Вместе с ними прилетели громадные стаи белоснежных малых цапель, прилежно махающих крыльями, с тонкими черными лапками, вытянутыми назад. Временами из устьев двух речушек стремительно, как туча стрел, вылетали бурые выпи или ярко-голубые цапли. Весь птичий народ толпился на отмелях, копаясь длинными тонкими клювами в грязи в поисках пищи. Вдобавок вокруг них непрерывно сновали, негромко и жалобно покрикивая, бесчисленные мелкие болотные кулички.
Когда солнце опустилось еще ниже, послышались скрипучие вопли, нахальные крики, перебранка, свист, мяуканье и прочий несусветный шум, который могут учинить только попугаи. Они летели вдоль берега десятками, сотнями, застилая небо, наполняя воздух диким ором, вытесняя стервятников и орлов-рыболовов в высоту вечернего неба. Почему попугаев считают такими славными, дружелюбными созданиями? Мне кажется, по двум причинам: во-первых, они никогда не стесняются заявлять о себе во всеуслышание, а во-вторых, всегда летают парами: муженек и женушка, так и летят, крыло к крылу.
После чая мы пошли прогуляться вдоль речушки, которая текла с другой стороны нашего ракушечного полуострова. Здесь закат превратил тихую воду в огненное зеркало, дробящееся осколками между ярко-зелеными купами мангровых крон. А над головой непрерывно пролетали сверкающие алые ибисы, белоснежные малые и голубые большие цапли.
Однако, несмотря на развернувшуюся перед нами изумительную красоту, которой можно любоваться без конца, мы все же обратили внимание на зрелище совсем другого рода. В воде речушки, поднимаясь со стороны моря, показалась армада крохотных подводных лодок. Рассекая поверхность воды, на самом острие треугольных маленьких бурунов к нам шустро скользили миниатюрные сдвоенные «перископы». Стоило пошевелиться, как весь флот поворачивал и обращался в бегство, затем снова начал торжественно приближаться. Когда он подплыл к нам почти вплотную, мы постарались хорошенько напугать незваных гостей. Все они в мгновение ока повернули и пустились наутек с такой скоростью, что не только «перископы», но и сами рыбки высунулись из воды, и вся стая понеслась, скользя по волнам, как доски для серфинга.
Эти удивительные существа — рыбы, обычные для тех мест; называются они Anableps tetrophthalmus, но более известны под названием четырехглазки. Они кишмя кишат на илистых отмелях после отлива, поднимаются вверх по рекам почти до границ приливной волны и совершенно уникальны среди животных, так как глаза у них разделены по горизонтали на две половины. Как вы знаете, для того чтобы ясно видеть в воде и в воздухе, нужны разные по строению зрительные аппараты и различная фокусировка. Это живое существо решило проблему потрясающим и невообразимым способом. Скользя у самой поверхности воды, рыбка высовывает наружу верхнюю половину глаз, следя за опасностью или добычей в воздухе, в то время как нижняя половина глаз выполняет ту же функцию в водной среде. Сами глаза выглядят очень забавно, потому что приходится заглядывать сверху на верхнюю половину, а снизу — на нижнюю, пока удается рассмотреть строение зрачков. Две половины глаза так необычно соединяются друг с другом, что ваши собственные глаза выходят из фокуса.
Четырехглазки появляются с приливом и возвращаются в море вместе с ним. По мере того как вода заливает борозды на илистом дне, маленькие владельцы двойных «перископов» стайками заполняют их, огибая гребни правильным строем, а потом плавают в луже, поджидая, пока вода перельется через гребень и наполнит следующую борозду. Если пробуешь их поймать, они удирают, скользя по поверхности воды, иногда с перепугу преодолевая таким же образом и широкие илистые отмели. Нам удавалось добыть их только одним способом: стреляя из воздушного ружья. Такой метод требует громадного терпения, да и без купания тут не обойтись; Альма и Фред занимались этой своеобразной охотой с удовольствием и приобрели большую сноровку.
Мир илистых отмелей на глазах преобразился: то был уже не мертвый ландшафт, а площадка для игр, где собралась компания самых диковинных живых существ. По ракушечным берегам сновали громадные черные уховертки, крупные черные с золотом осы-шершни, пауки ярко-красного цвета и великанские мокрицы, развивавшие неимоверные скорости. В воздухе было полно сверкающих металлически-зеленых стрекоз и мух точно такого же цвета. В укрытии мангровых дежурили у входа в свои илистые туннели ярко-красные крабы, уставясь на нас глазами-перископами на стебельках. В грязи сновали туда-сюда мелкие черные крабы, а по более сухим, ракушечным берегам ковыляли крабы другого вида, выставив вперед одну из толстых белых клешней. Наверху, в ветвях деревьев, гроздьями копошились тощие серые крабы с ярко-красными лапками и клешнями.
Прилив подступал все ближе и достиг высшей точки как раз к наступлению сумерек. Мы все с увлечением гонялись за тоненькой змейкой, вынырнувшей из речки прямо у нас под носом, когда вдруг нас приковал к месту громкий пронзительный свист.
— Что это? — спросила Альма. Мы с Фредом молча переглянулись.
— Не знаю. — Едва я успел ответить, как свист повторился.
— Может, Уолтер нас зовет? — неуверенно предположил Фред.
— Похоже на человеческий свист, но идет-то он вон с той стороны, — сказал я, показывая на залив у нас за спиной.
— А что, если кто-то прячется на болоте? — спросила Альма.
Но это было абсолютно невозможно — на многие мили вглубь побережья в илистой жиже, прорезанной сетью бесчисленных ручейков, тянулись только мангровые заросли, кишащие несметными ордами комаров. Свист был громкий и отчетливый, и все же мне показалось, что никто из нас как-то не поверил своим ушам.
— Сбегай узнай, звали нас или нет, — попросил я Фреда. — Да захвати на обратном пути ружье.
Мы сели и стали ждать. Почти все птичьи стаи уже протянули мимо, и только несколько запоздавших малых цапель, хлопая крыльями, пролетали вверх по ручью. Тьма сгустилась, стала таинственной и недоброй. Мы с Альмой невольно вздрогнули, услышав тот же призывный свист в третий раз. Теперь это, бесспорно, был свист человека, и раздавался он на самом конце нашей ракушечной отмели. Нам стало не по себе. Когда Фред вернулся с ружьем, мы приняли решение идти на разведку, не зная заранее, что нас ожидает, но от всей души надеясь, что это какой-нибудь рыбак в челноке, которому понадобилась вода или курево.
Уже почти совсем стемнело, но вода в заливе стояла высоко и отражала свет закатного неба. Отмель была маленькая, и, пройдя несколько шагов, мы присели на корточки. Заглянув под деревья, на фоне светлой воды мы смогли увидеть силуэт того, кто там находился. Когда мы наклонились, прямо с узкого конца отмели кто-то спрыгнул. Раздался громкий всплеск. Я выкрикнул какую-то дурацкую фразу, как меня потом уверяли: «Хотите выпить?» Услышав такое, любой рыбак откликнулся бы тотчас же. Но ответ был самый неожиданный.
Из-за песчаного склона выглянула небольшая головка. Я было принял ее за собачью, что подтверждало бы присутствие поблизости охотников; но затем случилось вот что: головка разразилась свистом, а Фред спустил курок. Он клянется, что выстрелил с перепугу, но меня до сих пор пробирает дрожь, когда я думаю, что это могла быть любимая собачка охотника, за которой шел следом ее хозяин. Оказалось, что этот действительно напоминающий собаку чрезвычайно странный зверек — енот-крабоед (Euprocyon cancrivorus).
Впоследствии у нас в «зоопарке» появилось несколько таких зверьков. Они во всем похожи на собак, их часто и держат в доме как любимых собачек. У них есть одна диковинная привычка — присев на задние лапки, похлопывать или «прибивать» землю передними лапками, как будто выравнивая и выглаживая какую-то мягкую поверхность. Это удивительно аккуратное и легкое похлопывание всех нас озадачивало, пока мы не пустили в клетку к зверькам живых крабов. Еноты и не подумали на них бросаться, а просто неотступно преследовали их, нежно похлопывая вышеописанным образом, пока крабы не обалдели до полной беспомощности; тогда еноты мгновенно с ними разделались, не опасаясь острых клешней.
На следующее утро, дождавшись прилива, мы отправились в ялике к киту, прихватив свои примитивные разделочные орудия. Туша еще лежала на сухом месте, и у нас оставался час, чтобы закончить очень важную работу до того, как накатит полный прилив.
Через образовавшуюся трещину разложение проникло глубоко в среднюю часть спины и захватило всю тушу в области кишечника. Собственно, оно зашло так далеко, что некоторые ребра и позвонки отделились от гниющего мяса, выпали наружу и погрузились в ил. Поскольку мы хотели получить полный скелет, нам необходимо было как можно скорее разыскать эти кости. Тем более что между позвонками находится по паре костяных дисков не толще тарелки, а диаметром около фута. Они очень легки, и их вот-вот могло смыть волнами. Поискав и порывшись в иле, мы нашли все позвонки и межпозвоночные диски, в чем и убедились, подсчитав количество полостей, оставшихся в спине кита, там, откуда они выпали.
Затем принялись за плавник. Тоже важная анатомическая часть животного, и, вычленяя его, мы впервые по-настоящему поняли, что нас ожидает. Это гигантское весло соединяется суставом с нижним выростом лопаточной кости. Сустав состоит из головки и впадины, и вокруг не так уж много мышц, однако прилив успел достигнуть высшей точки и наполовину отступить, пока мы отделили плавник и выволокли его на глинистый берег.
К тому времени оказалось возможным выбраться на обсохшую отмель и заняться самым главным делом — хотя более безнадежного предприятия я в жизни еще не затевал. Чтобы проколоть жировой слой, приходилось действовать мачете, как копьем. А чтобы сделать надрез, надо было неустанно колоть и рубить. Углубившись под кожу, мы обнаружили, что разрыхленная разложением поверхность туши — чистый камуфляж. Под кожей оказалась тугая, прочная, как подошва, ткань. В некоторых местах масса мышц, переплетенных крепкими, как ремни, сухожилиями, достигала трех футов в толщину. Чтобы добраться до макушки кашалота, нам пришлось проложить в этой массе траншею длиной футов в двенадцать и глубиной местами до двух футов.
У нас с собой не было никакого пособия по анатомии китов, только общее описание скелета млекопитающих. И эта, и еще одна книга столь же общего характера в равной мере выводили нас из терпения, даже приводили в отчаяние. Справочники вообще с легкостью расправляются с целыми залежами знаний при помощи короткой небрежной фразы. В одной из наших книг сообщалось, что «скелет Cetacea (то есть китообразных) обнаруживает много примитивных черт строения». Большое подспорье, что и говорить, особенно когда тебе позарез нужно знать, сколько именно ребер или фаланг пальцев должно быть у кашалота! Все эти дни, сражаясь с неподатливой горой плоти, я про себя благодарил одного своего профессора, который когда-то заставил нас заучить строение скелета и прочую анатомию кролика. Он говорил, что строение скелета и внутреннее строение млекопитающих, подобно французским неправильным глаголам, может иметь различные корни, но никогда не меняет окончаний; в обоих случаях отдельные части могут выпадать, но общий план остается неизменным.
Нам оставалось уповать только на добрый совет, и мы рассекали тушу согласно этому плану. В соответствии с ним мы вычленили обе ветви нижней челюсти, а затем все остальные кости скелета. Эта теория ни разу нас не подвела, даже когда мы искали две косточки, оставшиеся от нижних конечностей, непохожие друг на друга и вдобавок упрятанные где-то в тканях брюха. Теория так прекрасно подтверждалась на практике и Уолтер с Мартинеусом были так поражены безошибочностью наших находок, что, мне кажется, они по моему приказу безропотно вскрыли бы любое место на туше кита, скажи я им, что там находится фарфоровый чайник в цветочках.
Дело оказалось захватывающим и увлекательным. Вынув все кости из середины туловища (то есть ребра и позвонки), мы расчленили тушу на три части. В средней части костей уже не осталось — все они громоздились, как частокол, на берегу. Хвост, представлявший собой плотную массу крепких, как сталь, мышц и сухожилий, сохранил и некоторое количество позвонков вместе с межпозвоночными дисками и маленькими, в форме буквы Y, остистыми отростками, примыкающими к ним снизу. Мы подсчитали, сколько их там должно быть. Третья часть — голова — включала только череп, два сросшихся с ним позвонка и кости языка. Прервав работу, мы уселись отдыхать в ожидании прилива.
Как мы и запланировали, нам все время везло! Прилив, который для нас играл роль отсутствующей лебедки, аккуратно разделил три части туши и унес ненужную середину в открытое море, на прокорм стервятникам. Хвост мы обвязали веревкой, втянули как можно дальше в самый максимум прилива и привязали к шесту. Голова же прочно застряла в глине.
Это потребовало двух дней работы, и все время я, как слабосильный, занимался тем, что вырезал из плавника разные косточки и окружающие хрящи, зарисовывал их расположение, заворачивая затем каждый «пальчик» в марлю. Прочность подобного плавника тот, кто не резал его собственными руками, не может даже вообразить. На следующий день мы вырезали громадный резервуар с жиром из черепа и очистили его от других тканей. Покончив с этим, мы, в ожидании прилива, атаковали хвост. Прилив и на этот раз послужил нам верой и правдой — смыл с черепа все клочки мяса и унес их вдаль. Череп, увязший в иле остался чистенький как стеклышко. С хвостом мы провозились два полных дня, потому что он был плотнее всех других частей и его почти не коснулось разложение. Наконец мы извлекли из него все кости. Последний позвонок оказался крохотной шаровидной косточкой с небольшой орешек.
Через пять дней наш труд был завершен. Все кости, в том числе десятифутовые челюсти, лопатки величиной с карточный стол и длинный ряд позвонков, напоминающих пеньки от солидных деревьев, были выложены на глинистом берегу под сенью мангровых, и оставалось только вытащить на берег череп. Но тут мы оказались бессильны.
Череп взрослого кашалота — не игрушка. Это предмет самой странной формы, похожий на громадную ванну, у которой не хватает трех стенок. Спереди он суживается в узкий отросток; сзади — над небольшой мозговой полостью — переходит в полукруглый вогнутый гребень. На эту конструкцию опирается расположенный во лбу и носу животного резервуар жира, и в его пролет мы могли залезть вчетвером и работать, не мешая друг другу. Вес черепа, заполненного водой и жиром, был, вероятно, побольше тонны, поэтому он и засел так глубоко в вязком дне. Как назло, он выбрал для себя единственную на всем побережье глубокую яму! На этот раз не помог даже прилив — наша верная «лебедка». Мы вырубили великанские шесты — деревья, которые и нести-то могли только вчетвером. Попытались сделать из них рычаги, перекопав тонны глины и построив опоры из бревен. Но все наши усилия, были тщетны. Не могут четверо людей, даже с помощью рычагов, поднять на четыре или пять футов тонну сплошной кости. Мы с горечью отступили.
Когда моторка лоцмана в конце недели пришла за нами, мы были погружены в бездну отчаяния и разочарования, но взяли с собой все кости, которые могли захватить, не считая разделочных «орудий», потом еще раз приехали туда на лодке грузоподъемностью десять тонн и с еще тремя рабочими. Ничего у нас не вышло. Блоки лопались, канаты рвались, а мачта нашего судна переломилась, как спичка. Мы еще раз вернулись на китовую отмель уже на настоящем, большом пароходе, с двухтонной лебедкой и дюжиной рабочих, но, увы, в наши планы вмешалось нечто властное и неожиданное, о чем вы вскоре узнаете, — и прекрасный череп остался в своей илистой могиле памятником наших бесплодных усилий.
Это разочарование омрачило для нас последние часы, проведенные на ракушечной отмели. Последняя ночь запомнилась как сплошная пытка — наше и без того унылое настроение стократно усилил бриз, который принес с суши во время обеда не только привычных мучителей — монпиерр, но и легионы изголодавшихся комаров. Самые неприятные события прошлого обычно легко забываются, и я должен признаться, что воспоминания о монпиеррах, комарах и протухших в последние два дня остатках питьевой воды сильно потускнели, но я долго не мог найти себе места, до глубины души уязвленный тем, что живу в стране, где рядом со мной уже много месяцев пропадает недосягаемый китовый череп.
По великим рекам
Лодка, пака и рев обезьян-ревунов
После истории с китом мы переквалифицировались в плотников ради собственного комфорта и профессионального долга, но сначала мы целых три дня сидели и обдумывали планы. Результаты были занесены в список, включающий в себя до мелочей все, что только могло понадобиться в экспедиции для специализированной работы и наших житейских удобств. В перечень были включены самые различные предметы, которые могли пригодиться в трудную минуту, — на основании нашего прошлого опыта. Затем список был разделен на шесть основных групп, и каждому из нас было поручено по две таких группы.
Тщательно все продумав, мы разбили каждую из групп на два раздела и соответственно на десять подгрупп, от первой (включая пункты 1а и 1б) до девятой, от десятой до девятнадцатой, от двадцатой до двадцать девятой и так далее, причем предметы были рассортированы в строгой зависимости от их назначения. Таким образом, у нас в руках оказался полный, чисто теоретический, список снаряжения, которое мы должны взять с собой, с классификацией по назначению, так что все номера от первого до девятого относились к приспособлениям для отлова животных, с десятого по девятнадцатый — для сохранения коллекций и т. д.
Затем мы предприняли инвентаризацию уже имеющихся у нас вещей. К тому времени у нас скопился самый невероятный набор пожитков. Сами подумайте — мы жили в местах, чрезвычайно непохожих друг на друга, собирали зоопарк, разделывали китовую тушу, ремонтировали машину и занимались вообще немыслимыми и странными делами. Наш первый список был исключительно теоретическим. Второй — инвентаризационный — должен был быть сугубо практическим. На деле он оказался крайне непрактичным.
Тогда мы соединили оба списка в один при помощи простого приема: избавляясь от имущества, не оказавшегося в теоретическом списке, и приобретая или конструируя то, чего нам недоставало. Я промаялся несколько дней, не решаясь приступить к этому подвигу, но тут на помощь пришла Альма — она просто заказала в местных магазинах по списку вещи, которые можно было купить готовыми. Через три дня мы загромоздили весь первый этаж, и обедать пришлось наверху. Гора вещей сыпалась на нас как из рога изобилия, грозя окончательно завалить и вытеснить из дома.
Целыми днями мы препирались из-за мелочей, а потом вооружились рулеткой и весами. Пять сотен поименованных в списке предметов (фактически каждый из них надо многократно умножить; учтите, что под пунктом «ловушки» значилось сто штук таковых) были взвешены и измерены. Имея перед глазами эти данные, мы наконец смогли прикинуть, как уместить все снаряжение в ящики, числом около шестидесяти, каждый из которых должен был весить после упаковки не более пятидесяти фунтов — это тот вес, который согласится нести почти любой носильщик в любой стране. Попробуйте представить себя на нашем месте — в списке было все, от вечерних туалетов до кнопок и мебели, — и вы поймете, какая морока на нас свалилась.
Легко понять, почему, завершив свой список, мы сделались плотниками. И в самом деле, правду говорят: если хочешь, чтобы дело было сделано на совесть, берись за него сам. Однако мы довольно быстро на собственном опыте и на собственной шкуре убедились, что многого делать не умеем, но на ошибках учатся, и человек может справиться с любым делом, если запасется хорошими инструментами, добротным материалом, терпением и стремлением к идеалу. В инструментах и материалах недостатка в Суринаме не было, а идеальный план у нас уже был, оставалось только набраться терпения. Судя по всему, и в этом мы преуспели: на задворках дома медленно, но неуклонно росла гора ящиков, сделанных в нашей мастерской, несмотря на то что изучение и содержание четырехсот с лишним животных и куча других дел шли своим чередом. Фред оказался мастером на все руки, а местное кедровое дерево было просто божьим даром.
Я сам в это время обдумывал другую задачу. Мне не давал покоя известный вам китовый череп. Я непрерывно искал способ что-то предпринять и наконец сделался владельцем яхты. За это я получил суровый нагоняй.
— Вот как! Мало тебе «Роллс-ройса» и городского дома! Тебе еще и яхта понадобилась! — говорили мне. И прочее в том же духе. Мне пришлось туго, пока я не показал им яхту. Тут они вдруг странно притихли.
Судно имело двадцать три фута в длину, шесть с половиной футов в ширину, было крыто цинковой крышей (протекающей), двигатель его состоял из одного жалкого и отлынивающего от работы цилиндра, и оно имело осадку в три с половиной фута. Дно было обшито медью, и взяли за судно 250 долларов. Я обожаю всякие лодки, и это суденышко пленило меня, как только я вступил на борт. Одинокий цилиндр меня не испугал — в моторах я ничего не смыслю; зато совершенно очаровал корпус, прочно построенный и прекрасных очертаний. На реке Суринам волны небольшие, но яхта так прекрасно с ними справлялась, несмотря на перегрузку цинком и всяким хламом, что я был побежден в первую же минуту.
Я собирался отправиться на своей яхте в море, ведя на буксире громоздкую «боато», на которой думал поместить лебедку с блоками и талями. «Боато» — нечто вроде ладьи, заостренной как с носа, так и с кормы; их строят из досок, нашитых на несметное множество U-образных поперечин, притом в четырех вариантах: водоизмещением полтонны, одну, пять и десять. Я взял однотонную лодку размерами двадцать семь на четыре фута: стоила она пятьдесят фунтов и так протекала, что забирать ее пришлось во время отлива. Мы намучились, пока перегоняли ее на веслах по реке Суринам против довольно сильного течения и упорного ветра, но прошли пять миль за три часа и пришвартовали посудину к борту моей яхты в маленькой протоке возле нашего дома. Затем я занялся поисками лебедки, но тут вмешались те самые неожиданные события, о которых я упоминал выше.
Как известно, во всех тропических странах сезоны дождей чередуются с сухими сезонами. Предполагается, что в дождливые — дожди идут, а в сухие — нет. Это глубокое заблуждение: различие весьма условное; кроме того, в иные годы сезоны меняются местами. Более того, стоит нам прибыть в страну, как нас встречает именно такой исключительный случай. Пока мы жили на Гаити, там ожидался один дождливый сезон и два сухих; на самом же деле дождь шел то и дело, в любое время суток, а уж в сухие сезоны лил как из ведра. То же загадочное явление мы отметили и в Индии, и в Африке; Суринам только подтвердил эту закономерность.
Когда мы высаживались в Суринаме, шел дождь. Так ему и полагалось по сезону, но он не прекращался и весь следующий, короткий сухой сезон. Официальные лица, занимающиеся вопросом погоды и имеющие солидный опыт, предуведомили нас, что в наступающем дождливом сезоне дождя скорее всего не будет: вообще-то здесь два дождливых периода в году. Нам сказали, что все прошлые годы после дождя, выпавшего в сухой сезон, дождливый сезон оказывался сухим, а значит, нам надо было поторапливаться, иначе река может так обмелеть, что вверх по ней не пройдешь — когда нет дождя, реки превращаются в мелкие ручейки, извивающиеся среди обширных отмелей из песка или гальки. А так как дорог в этой стране нет совсем, нет даже тех узких лесных тропинок, какие, например, в Африке обычно соединяют деревни, единственным путем вглубь страны служат реки, и нам следовало выходить без промедления.
К счастью, кучи ящиков оказалось достаточно, чтобы вместить практически все необходимое для «жизни в лесу», хотя это понятие в здешних местах часто означало просто отдых в комфортабельном правительственном доме неподалеку от города; мы-то действительно должны были строить свое жилье в лесу, где никакого дома не было. И так, в течение трех дней мы закрыли свой зоопарк, сложили на хранение имущество, не уложенное в ящики, расстались с домом и переселились на яхту и неразлучную с ней «боато».
Отплытие было назначено на шесть утра. В шесть часов вечера мы устало помахали с борта немногим терпеливым друзьям. Как всегда, мотор сломался при попытке отвалить от берега, к тому же кто-то из провожавших несколько огорошил нас своими словами. В глубокой тишине, наступившей после короткого рявканья мотора, он заявил, что совсем не так представлял себе начало «экспедиции». Мне как-то не приходило раньше в голову, что наше предприятие заслуживает такого названия.
«Экспедиция», которая началась таким образом, оказалась похожей скорее на старую кинокомедию, чем на серьезное научное путешествие. Отчасти по моей вине, потому что я впервые в жизни стал капитаном флотилии. Нам нужно было пройти миль 150, топлива было запасено на 300, еды — на месяц, команда состояла из нас троих, Андре и некоего Ричи Гонсалеса, славного семнадцатилетнего паренька-португальца, у которого было всего четыре дня для того, чтобы показать, какой из него выйдет кок. Оба наших судна были пришвартованы буквально борт о борт и загружены так, что опустились намного ниже отсутствовавшей ватерлинии, так что у яхты борт по носу выступал над водой на три дюйма, а у ладьи — на шесть. Мы, естественно, распределили обязанности: Фред стал мотористом и рулевым, Альма — стюардом, Ричи — корабельным коком, Андре — боцманом и машинистом, а я представлял собой «старика-морехода» и должен был, как положено, всем распоряжаться. Невзирая на невзгоды, каждый из нас неукоснительно соблюдал взятые на себя обязанности.
«Обратившись к карте», как говорится в путеводителях, вы увидите, что для достижения отдаленной цели, помеченной как «Дом-3», я старался обойти, если это удастся, «Лагерь-1», а для этого надо было обойти кита северо-западным морским каналом или же пройти через «польдеру» и вниз по реке Сарамака. Мы выбрали польдеру, то есть канал, и здесь нас подстерегали первые злоключения.
Река Суринам очень подвержена приливно-отливным течениям в том месте, где канал от нее отходит, но при подходе канала к реке Сарамака, то есть на другом его конце, дела обстоят иначе. Более того, мы подошли к каналу в самый отлив, а тут как раз (по совершенно необъяснимой причине) обслуживающие канал деятели открыли ворота шлюзов сразу на обоих его концах. Вследствие этого нам навстречу из двенадцатифутового устья шлюза устремился поток со скоростью пять узлов (измерено точно). При этом мы убедились, что наша моторка больше четырех узлов делать не может.
За те полчаса, что пыхтели вверх по реке Суринам до устья канала, мы с Фредом многое узнали о нашем судне. До тех пор нам не приходилось самостоятельно с ним управляться, мы даже мотора не заводили, а я вообще несколько лет не видел никаких лодок, кроме гребных, тем не менее мы быстро обучались делу. Для начала Фред сделал открытие: оказывается, наш мотор ненадежен; затем я обнаружил, что руль нельзя бросать ни на минуту. Судя по всему, это две самые важные системы на любой моторной яхте.
Итак, мы вошли в шлюз. Шум нас оглушил. Вода ревела и пенилась, мотор пыхтел и стучал, все мы орали друг на друга, а на воротах шлюза пятеро чернокожих молодцов орали на нас. Мы вошли примерно на три фута в устье канала, после чего застряли, и, как ни старались отпихнуться от кирпичных стен в облаках удушливого голубого дыма, источаемого мотором, это не помогало. Мы не двигались ни вперед, ни назад.
Где-то в недрах одного из наших ящиков было уложено шестьсот футов манильского каната — для того, чтобы можно было поднимать человека в крону высоких деревьев на примитивном сиденье. Я справился в списке, и, к моему восторгу, наша система себя оправдала. Канат оказался в том ящике, где ему и полагалось быть, даже в том самом отделении! Мы с громкими восторженными воплями выскочили на берег, закрепили канат за подходящее дерево и мало-помалу вытащили наш флот из бурного Мальстрема. Поднатужившись, мы освободили яхту, и она весело запыхтела вверх по каналу.
Только тут мы заметили, что наш главный стюард остался на борту яхты в полном одиночестве, а я с ужасом вспомнил, как Альма заявила во всеуслышание, что управлять лодкой никогда не умела. Мы видели — каюта была ярко освещена, — что она уцепилась за руль, как утопающий за соломинку. Затем тропа для буксирования отошла от берега канала, и мы потеряли Альму из виду.
Примерно через полмили тропа опять подходила к берегу — в том месте был мост, и мы помчались со всей возможной скоростью, чтобы оказаться там раньше яхты. Мы успели заблаговременно. Красный и зеленый бортовые огни, хотя и приближались очень быстро, были еще далеко, а мы не сообразили, что делать. Как попасть на лодку? Прыгать с моста, как мы поняли, нереально. Мы надрывались, крича Альме, чтобы она дернула за веревочку, которая болтается сбоку у мотора, и тогда эта тварь остановится — в любое другое время она бы прекрасно остановилась и сама. Но Альма ничего не слышала из-за грохота, и моторка все шла вперед.
Справа от моста был небольшой причал-слип, и на нем, наполовину вытянутые из воды, стояли солидные боатос, груженные мешками с рисом. Вообразите себе наш ужас, когда, неистово подавая знаки Альме, в сумерках, мешавших нам разглядеть друг друга, мы увидели, как наша моторка вдруг резко вильнула влево и устремилась к слипу. Мы перестали дышать, а я зажмурился.
Раздался треск, затем жуткий глухой удар и душераздирающий хруст ломающихся досок; потом я открыл глаза и несколько раз моргнул. Каким-то чудом боатос расступились перед носом яхты, и она, растолкав их, спокойно всползла вверх по слипу вместе с яликом, привязанным сзади. Мы сломя голову бросились бежать с моста к причалу.
Чужая собственность не пострадала, наша моторка была целехонька, а Альма, прыгая и хлопая в ладоши, громко радовалась:
— Вот видишь, я умею править лодкой! Я сама ее причалила!
Но я получил урок: капитан должен покидать терпящее бедствие судно последним.
После этого мы мирно продвигались по каналу целых три часа — мотор деловито постукивал, позабыв про свои капризы. Мы разлеглись на цинковой крыше и поужинали при ярком свете луны. Мир вдруг показался нам невыразимо прекрасным — уж очень надоели досадные мелочи городского быта, когда к нам то и дело совались с проверкой газа, электричества, вечно придирались на стоянке машин. И вот мы скользим среди колышущихся перистых пальм, залитых платиновым сиянием тропической луны, лягушки и сверчки наперебой разливают трели, над темными вырезными силуэтами берегов танцуют громадные золотые светляки, и ничто на белом свете нас не заботит. Как ласкова, как чудесна бывает порою жизнь!
В полночь мы вышли из канала и пришвартовались к берегу реки Сарамака возле мощных зарослей странных, сладко пахнущих водяных растений — это был гигантский арум (Montrichardia arborescens), похожий на пучок ревеня и качающийся от ветра на верхушке бамбука. Мы развесили на моторке противомоскитные сетки, а под ними соорудили настоящие постели из надувных матрасов, с простынями и одеялами, как в цивилизованном мире. Ялик мы пустили вниз по течению, потравив канат, и там Андре и Ричи улеглись на ящиках. Мы подремонтировали лодку и устроили на ней навес, крытый брезентом. Все устроились с настоящим комфортом и после пережитых мучений облегченно вздохнули, укладываясь на мягких подушках.
Но вот не прошло и пяти минут, как мы все, как один, сидим торчком в своих постелях, словно поднятые по тревоге. Представьте себе, что вы устроили ночлег где-нибудь в африканской саванне и вдруг услышали рев львов. Если вам не приходилось слышать львов, ревущих на весь вельд, воображение подскажет вам совсем не тот звук: ничего львиного в нем не будет, потому что он точь-в-точь похож на рев обезьян-ревунов. Ничего другого не скажешь про этот рокочущий, реверберирующий, усиленный собственным эхом рык. Это голос неимоверной мощи и своеобразия, и у меня он всегда вызывает благоговение, смешанное с ностальгией, острую тоску по миру, каким он был сотни лет назад, когда на Земле царила только Природа и голосу ее вольных детей смиренно внимали все животные, большие и малые. Слыша этот рев, я мечтаю провести всю оставшуюся жизнь в тех местах, где хотя бы раз, днем или ночью, я обязательно услышу в торжественной тишине крик обезьян-ревунов: ведь это один из самых великолепных, незабываемых голосов в природе.
К восьми часам утра мы подошли к местечку под названием Кронинген (правильно произнести его могут только сами голландцы). Это был последний оплот цивилизованного мира. Оттуда идет дорога в Парамарибо, а дальше по берегу реки разбросаны фермы индийских или малайских поселенцев, куда добраться можно только на лодке. Мы купили про запас еды и топлива и двинулись дальше. В полдень единственный цилиндр нашего мотора приказал долго жить, и мы оказались в лодке, которая дрейфовала и кружила посередине реки, как игрушка приливных течений, достигающих этих мест. Пересказывать наши мытарства было бы скучно — у всех у нас и дома предостаточно подобных историй; скажу только, что в половине четвертого мы снова завели мотор и прошли приличный отрезок пути вниз по реке.
Сейчас мне хочется на минуту вернуться к прошедшим трем месяцам. Во время подготовки экспедиции в Парамарибо мы потратили кучу времени на изучение карт и на беседы с немногими людьми, которые знали те места, — насколько это в принципе возможно, а как выяснилось, весьма приблизительно. Это были люди, связанные с наукой или интересующиеся ею. Те, кому приходится заниматься научной организацией какого-нибудь дела — топографией, сельским хозяйством и даже медициной — дадут вам гораздо более надежную и точную информацию о малодоступных уголках всех великих стран, поросших бескрайними джунглями, чем правительственные чиновники или местные представители торговли. Конечно, еще лучше посоветоваться с библиотекарями научных обществ, которые вообще не бывала дальше своей Европы или Северной Америки, но их к сожалению, не всегда можно найти.
В Парамарибо все наши советчики единодушно утверждали, что от поймы, то есть расширения реки Сарамаки, к устью Коппецме можно пройти, только дождавшись четырех часов утра, когда утихает пассат. Это мнение твердо вбили нам в головы.
Однако в семь тридцать вечера, когда наш коварный цилиндр работал как ни в чем не бывало, небо было безоблачное, а ветер улегся, впереди уже был виден открытый океан. Мы немного усовершенствовали рулевое управление, и все были очень довольны собой. Пообедали, потом исправился по карте, увидел, что между устьями обеих рек лежит только небольшой мыс, и решил, что нам никто не мешает продолжать путь при ярчайшей луне, как мы и шли, пока предательский цилиндр не начал фокусничать. Собственно, я принял решение лично, не посоветовавшись ни с Альмой, ни с Фредом, но они молчали, и я принял молчание за знак согласия.
Дальний берег реки отступал, и морская гладь расстилалась перед нами все шире. Я дал команду скатать брезент на лодке и закрепить скатку на гребне каркаса для уменьшения парусности на случай, если поднимется ветер. Мы убрали лишние вещи и, пристально глядя вперед, чувствовали себя юрскими волками. Довольно долго мы шли без всяких приключений примерно в ста футах от левого берта, который быстро превращался в прибрежную приливно-отливную полосу. Потом я заметил прямо по носу отсвечивающую в лунном сиянии илистую отметь и круто взял влево, чтобы ее обойти, но отмель никак не кончалась. Она становилась все шире, и мангровые заросли, на берегу отступали от нас все дальше. Немного погодя мы едва не сели на мель; пришлось снова сильно забрать вправо. Это повторялось несколько раз кряду, пока мы не оказались далеко в море, а мангры — далеко на горизонте.
Спустя еще полчаса мы заметили, что даже при самом ярком воображении не можем считать, что все еще находимся в реке Сарамака. Правый берег ушел в сторону и остался далеко за кормой, но по левому борту еще тянулась вдалеке линия мангровых зарослей. Кое-какие морские термины рассчитаны на то, что вы поверите в нашу морскую сноровку, для чего вам понадобится вся доверчивость, на какую вы способны. В девять часов, после тщетных и многократных попыток идти левым галсом или хоть чуточку свернуть влево, мы кончили тем, что врезались в илистую отмель, и тут же наш цилиндр опять начал барахлить. Я приказал Андре взять шест и промерить глубину под килем.
Но это не помогло — нас оттесняло все больше вправо, то и дело приходилось круто уходить от мели, и немного спустя мы шли уже прямо в открытый Атлантический океан. Мы знали, что скоро начнется прилив, и чувствовали себя в относительной безопасности, пока море было буквально по колено. Еще полчаса мы шли вперед, промеряя глубину и пыхтя мотором, и тут мне в лицо повеял легкий ветерок с моря. Я с опаской взглянул на наш перегруженный ковчег, а через несколько секунд Андре объявил, что дна нет.
Мы круто повернули влево. Но дно окончательно ушло вниз, а прямо по носу оказалась непонятная, неспокойная, грязно-белая полоса пены. Я решил, что это граница илистой отмели, и пошел прямо на нее.
Как только мы ее пересекли, послышался новый звук — нервный, слегка угрожающий плеск волн, бьющих в дно лодки. Я все еще держал влево, ожидая выкрика Андре, когда он нащупает отмель, но тут луна зашла за тучу, а так как туча была большая, кругом воцарилась непроницаемая тьма, и я потерял всякое представление о курсе, которым мы идем. Пена исчезла, нос лодки стал все глубже зарываться в воду, образуя носовой бурун.
Я лихорадочно искал выхода и, заглянув в списки, нашел компас в описи двадцать первого ящика.
— Ящик двадцать один, отделение четвертое! — проревел я. — Малый компас, быстро!
В моей памяти смутно задержалось представление, что мореходу необходимо иметь две вещи — карту и компас. Я углубился в работу, но от карты пришлось сразу отказаться — чтобы ею пользоваться, надо хотя бы знать, где находишься. Я знал наверняка только одно — если идти все время на юг, мы наткнемся на Южную Америку, так как находимся у ее северного побережья. Мы пошли на юг с приличной скоростью, судя по тому, что волны начали захлестывать нашу лодку и показались даже у носа яхты. Я улучил момент и поглядел за борт. Несущаяся навстречу вода была густо-черного цвета.
Примерно в это время главный стюард вернулся на крышу. Это был единственный раз, когда Альма позволила себе передохнуть. Вскоре она сообщила, что поднялся довольно сильный попутный ветер. Я был слишком занят и ничего не заметил, а Фред, наш специалист по ветрам и течениям, торчал вниз головой в машинном отделении. Тогда меня ничто не волновало, кроме ненадежности коварного цилиндра.
Кажется, мы пробыли во тьме около получаса. Потом луна выплыла из-за туч, и мы могли бы увидеть, куда идем. Мы оглядели весь горизонт.
— Господи, а где же земля? — спросил Фред.
— Вон там, если верить компасу, — ответил я с ненатуральной уверенностью. И мы стали вглядываться вдаль.
Одно было совершенно очевидно: земли не было ни «там», ни вообще где бы то ни было на горизонте. Тут мы услышали сверху неуверенный голосок:
— Айвен, — жалобно сказала Альма, — по-моему, нас сносит назад!
— Не болтай глупостей, — отрезал я.
С рекордной скоростью промочив горло, я снова взглянул за борт. Около нас как раз оказался обломок дерева, пляшущий на довольно сильной волне. Мы обгоняли его, но с такой черепашьей скоростью, что я на несколько минут лишился дара речи. Мы с Фредом уставились друг на друга.
Потом, если мне не изменяет память, я сказал:
— Господи боже! А ведь она права. Что это такое?
— Течение, — просто ответил Фред. И мы смотрели друг на друга, начиная понимать, что с нами творится.
Вспоминаю, что меня несколько приободрило сознание, что топлива у нас на триста миль, а еды — на целый месяц, но, когда я взглянул на перегруженную лодку и вспомнил, каков ее вес, меня снова захлестнуло отчаяние. В эту минуту нешуточная волна перемахнула через борт, выступавший всего на три дюйма над водой. Теперь настала очередь Фреда промочить горло.
Небо быстро очищалось, начали проглядывать звезды, и я, выбрав две из них, находившиеся, согласно показаниям компаса, на юге, направил яхту примерно на них. Нас бросало на волнах довольно неприятным образом, пришвартованная к нам лодка скрипела и билась о борт, а между бортами двух судов то и дело вздымались фонтаны воды. Зрелище было удручающее, и я уже начал прикидывать, долго ли нам осталось до кораблекрушения.
Это продолжалось три часа, но через два часа после начала бедствия мы уже не волновались — к тому времени один из многочисленных миражей совершенно точно превратился в тонкую черную линию — мангровые заросли показались на горизонте прямо по курсу. Мы неустанно вычерпывали воду и молили бога, чтобы не отказал наш коварный цилиндр, а ветер все крепчал и крепчал.
В час десять при сильном ветре мы достигли подветренной стороны небольшого острого мыса, от которого в море тянулась широкая полоса изжелта-белой пены. За ней стояла бледная, мутная от ила вода, а на нашей стороне вода была черная, блестящая. Далеко по правому борту на самом горизонте виднелась еще одна тоненькая полоска суши. Мы достигли мыса и были уже в реке Коппенаме, хотя здесь она была еще шириной миль десять. Потеряв голову от радости и слишком рано успокоившись, мы врезались прямо в отмель с подветренной стороны мыса и застряли. Пришлось бросить якорь и зачалить канат за берег — течение по-прежнему неслось, как фаворит на скачках.
За благодарственной трапезой мы разбирались во всем происшедшем. Коппенаме — гигантская река, хотя на картах Южной Америки вы ее отыщете с трудом. Год выпал дождливый, и все реки вздулись от избытка воды. Между устьями Коппенаме и Сарамака находится не только мыс, но и громадная илистая отмель, простирающаяся примерно на десять миль в открытое море. Во время отлива там так мелко, что даже небольшое суденышко, вроде нашего, должно было уйти далеко в море, чтобы обогнуть отмель. Что мы и проделали непосредственно перед самой нижней точкой отлива, а до мыса добрались накануне прилива.
Надо вам сказать, что правая и левая стороны отмели не похожи друг на друга: восточные, или правые, стороны русла и у Коппенаме, и у Сарамака гораздо глубже, чем западные, или левые. Сама отмель относится к руслу Сарамака; отмель в устье Коппенаме тянется вдоль берега дальше, к западу. Поэтому, выйдя к острию мыса, мы попали к обрыву, где не нашли дна. За этим обрывом мощное течение Коппенаме, усиленное отливом, неудержимо стремилось к морю. Мы попали в это течение, когда пересекли полосу пены, и, пытаясь идти к югу, а не слегка к юго-востоку, как было нужно, чтобы держаться линии берега, оказались постепенно на самом бурном месте; наш мотор не вытягивал против течения, и оно поволокло нас обратно в море кормой вперед.
Потом, очевидно, начался прилив, течение повернуло вспять и, постепенно набирая силу, помогло нам войти в устье реки. Мы содрогнулись, представив себе, что было бы, если бы все было наоборот: не стоило и притворяться, что мы с тем же легким сердцем весело поплыли бы в открытое море.
Стоянка наша была ненадежна — мы все еще практически находились в море, а ветер по-прежнему набирал силу. Утолив голод, мы вынесли официальную благодарность нашему цилиндру и поспешно завели мотор, пока он не опомнился от наших комплиментов. Все улеглись спать, а я с удовольствием снова встал к штурвалу и тихо повел судно вдоль левого берега; через несколько часов широкое устье сузилось до размеров нормальной реки, и море наконец скрылось за поворотом. Тогда я бессердечно разбудил команду, мы вошли в небольшую бухточку и встали на якорь. Через десять минут все уже спали.
Но и на этот раз сон был недолог. Проснувшись, мы обнаружили, что из нас образовалась «куча мала», а когда выкопали Альму, оказавшуюся в самом низу, то страшно развеселились — вид у нее был препотешный. Она была с ног до головы измазана черной соляркой.
Моторка накренилась под углом в сорок пять градусов. Трюмная вода, теплая и маслянистая, незаметно залила и нас, и добрую половину наших пожитков, а мы даже не почувствовали. Выглянув за борт, мы не увидели реки. Ее не было — видна была лишь сплошная илистая мель: мы позабыли, что уровень реки зависит от приливно-отливных течений. Кроме того, по закону подлости мы причалили и бросили якорь как раз над громадным стволом топляка, поэтому зацепились за него килем и почти перевернулись. После этого мы спали спокойным сном на крыше каюты, попахивая, как нефтеочистительный завод.
На высоком берегу над бухтой мы обнаружили заброшенную обветшалую хижину, которую тесно обступили заросли бамбука и высоких трав. Туда мы перенесли наше подмокшее имущество, развели большой костер и по мере возможности подсушили над мим свои вещички, развесив их на шестах, а потом устроили сытный горячий обед и решили денек отдохнуть. Выпив множество чашек горячего дымящегося кофе, выкурив несколько благодатных сигарет, переодевшись в сухое, мы два часа просидели, любуясь красными попугаями ара, пролетающими над рекой, и игрой солнечных лучей на водяной ряби, но вдруг соскучились и принялись гоняться за ящерицами, переворачивать коряги и рыться в древесной трухе, разыскивая всякую мелкую живность.
Около полудня, продолжая вышеописанную деятельность в тенистой роще высоких бамбуков, я услышал легкие, осторожные шажки по другую сторону гребня. Они приближались с чрезвычайной осторожностью, внезапно прерываясь; в эти паузы я старался задержать дыхание и замереть. Неведомое существо подходило все ближе и ближе, но вдруг побежало направо. Краешком глаза я видел, как шевелятся молодые ростки бамбука. Я повернул голову очень медленно, но ничего не увидел, хотя слышал движение в нескольких ярдах от себя. Потом легкий бриз тронул бамбук, солнечные зайчики, густо усеявшие лесную подстилку из опавшей листвы, тронулись с мест и тихонько закружились — и я понял, что смотрю в упор на незнакомое животное, которое отвернулось от меня, как пугливая лошадка. Оно стояло на открытом месте, но стало видимым только тогда, когда солнечные зайчики закачались и поплыли, потому что все его тело было покрыто такими же солнечными пятнышками по темно-бурому фону. Животное совершенно сливалось с окружающей растительностью, становилось невидимкой.
Робкое создание решило наконец, что я то ли мертвый, то ли неодушевленный, но во всяком случае безобидный предмет, и потихоньку стало подходить поближе, однако ни разу не взглянув мне прямо в глаза. Я быстро понял, почему оно рискнуло приблизиться ко мне. Животное шло по еле заметной узенькой тропинке, на которой я залег, и подошло так близко, что я мог дотронуться до него рукой. Остановившись, оно не трогалось с места добрых три минуты, глядя на меня с очень озадаченным и встревоженным видом. Так мы и созерцали друг друга.
Это была пака (Coelogenys раса). Пака — грызун, нечто вроде улучшенного варианта простой крысы, хотя она более близка к морским свинкам, чем к нашим серым крысам, — ростом она примерно фут, длиной — фута два. Пака напоминает какую-то мелкую антилопу, точнее, оленька, особенно по окрасу. Ее образ жизни и поведение тоже напоминают скорее копытных, чем грызунов, — она пасется и ведет бродячий образ жизни под пологом леса. В Южной Америке, где нет ни антилоп, ни оленьков, ни разных козьих пород, которые занимают соответствующие ниши в экосистемах Азии и Африки, их место в природе заняли грызуны. В здешних лесах из копытных обитают только тапиры, олени и пекари, и остается достаточно места для других растительноядных быстро бегающих животных. Их место и занимают несколько видов грызунов. Среди них наша знакомая, пятнистая пака, затем агути (Dasyprocta), которая встретится нам дальше от берега, и, наконец, самый диковинный из всех грызунов — капибара (Hydrochoerus capivara), которая крупнее среднего кабана, хотя на самом деле она просто морская свинка-переросток и пасется на роскошных травах в поймах рек как невиданная порода свиней.
Все три вида крайне пугливы, и агути часто погибают из-за панического страха, как это случилось дважды у нас на глазах: один раз в клетке, когда животное сломало шею, пытаясь выскочить в закрытую дверь, а другой раз — на свободе, когда агути опрометью бросилась в сухое русло реки и разбилась об острые камни. Пака приходит в ярость, если ее трогают, а ее передние зубы — четыре стальных стамески шириной в четверть дюйма — могут нанести ужасные раны. Приручается она крайне редко. А вот капибара совершенно другая — это самое благовоспитанное, ласковое и обаятельное из всех живых существ. Мы держали одну капибару дома, и такого милого, славного животного я никогда не встречал.
Это замечательное создание жило без привязи у нас в саду, где обычно лежало под кустиками в позе льва, сохраняя на своей мордочке, напоминающей лошадиную, выражение исключительного величия и невозмутимого достоинства. Увидев нас, зверек только поворачивал голову, но стоило его позвать, как он чрезвычайно церемонно поднимался и шествовал к нам размеренным торжественным шагом. Альма была фавориткой ее высочества капибары ввиду того, что приносила поджаренный арахис; капибара высокомерно его принимала, нежно и аккуратно беря с ладони по две штуки за раз мягкими губами, точь-в-точь как лошадь. Без малейшей суеты и спешки это величественное существо приближалось во время обеда к нашему столу и мирно стояло поодаль, время от времени издавая еле слышные жалобные звуки, похожие на свист или писк. Очевидно, так она выражала легкое недовольство — во всяком случае, пока ей не предлагали еду, она упорно отказывалась уходить.
Как-то раз она решила покинуть наши владения. В этом действии не было ничего напоминающего побег: неторопливо прогулявшись по главным улицам Парамарибо, она нанесла визит солдатам в воинских бараках и, как видно, решила, что трава там получше, да и воинская дисциплина ей импонировала. На следующий день она явилась к нам с веревкой на шее, в сопровождении капрала в полной форме. Животное было полно такого достоинства, что посрамило бы всех наших четвероногих любимцев. Я иногда представляю себе, как она невозмутимо шествует солнечным весенним утром по Гайд-парку в суконной синей попонке или украшает своим присутствием утренний променад в Булонском лесу. Ее внешность поразила бы публику, но она не вызвала бы ни малейшего недовольства, потому что ее рыжая шкурка всегда была безукоризненно чистой.
У паки нет и следа благовоспитанности капибары. На самом деле это очень уродливое животное, в чем я и убедился еще раз в тот день. Ее мордочка гротескно раздута с боков; когда препарируешь череп, видно, что это две большие полости в костях, покрытые снаружи морщинами и ямками, а изнутри гладкие.
Наглядевшись друг на друга досыта, мы расстались: пака с превеликой осмотрительностью и деликатностью прошла по опавшей листве, описав около меня полукруг, и возвратилась на свою тропку не больше чем в футе от моих ног. Она спокойно пошла дальше и бросилась бежать только после того, как я резко обернулся, чтобы взглянуть на нее еще раз, на прощание.
Лагерь на Коппенаме
Беличьи обезьянки, опоссумы, гризон и ягуар
Почти все считают, что тропические леса — самое гиблое, жуткое место. Те, кому не посчастливилось видеть их своими глазами, по описаниям думают, что они пропитаны сыростью, зловещим и враждебным духом и по каким-то мистическим законам безжалостны и жестоки. Даже люди, хорошо знакомые с тропическими лесами, не могут расстаться с этим представлением. Они идут в леса как на войну — в обмотках, пробковых шлемах и рубашках цвета хаки, а женщины в этих походах одеваются еще более странно — непременно в бриджи для верховой езды и высокие сапоги. Все это не более чем ритуальные одежды, отражающие мировоззрение, превратившееся в своего рода религию — религию экспедиций. Не вините киношников за то, что они всех своих исследователей обряжают в такой наряд, — они только принимают всеобщую веру, точно так же, как пастор, надевающий «белый ошейник»— атрибут своей профессии.
Могу вам рекомендовать вполне удобную одежду, как для мужчин, так и для женщин; судите сами, насколько она пригодна. Женщина может носить носки-гольфы и теннисные тапочки на резиновой подошве, тонкие, легкие и свободные хлопчатобумажные брюки, спортивную кофточку или просто верхушку от купального костюма и широкополую мягкую фетровую шляпу, которой можно обмахиваться, как веером. Косметику можно сунуть в карман мужу — и пудра, и помада понадобятся вам на открытых местах, где палит солнце. Мужчина может носить такую же обувь, пару «раттинг-пантз» (по-английски буквально «штаны для ловли крыс») — любой англичанин поймет, что речь идет о грязных фланелевых или бумажных штанах, легкую рубашку, серую или цвета хаки (только на охоте), а шляпа сгодится все та же.
Теперь скажу о джунглях. Лихорадки и некоторые неведомые в умеренных широтах болезни действительно часто встречаются в лесном тропическом поясе, и, когда на закате вас треплет лихорадка, окружающий мир кажется крайне мрачным. Но джунгли сами по себе, может быть, самое здоровое место в мире, если только вы ушли вглубь, подальше от человеческих поселений и дорог, и не прихватили с собой какую-нибудь болезнь. Болезни распространяются насекомыми или таятся в виде микробов в воде, пище или воздухе, а в джунглях чистая вода, чистейший воздух и нет никаких болезней, кроме эндемических заболеваний животных, а все они, за малым исключением, человеку не передаются. Дурную славу джунглям создали именно болезни, но там есть нечто гораздо более опасное, о чем все забывают.
Даже самый опытный местный охотник — не говоря уж о нашем герое-первопроходце — может безнадежно заплутаться в лесу всего в полумиле от лагеря и будет блуждать, пока не помрет, если судьба не смилостивится или если его крики не услышат в лагере. Я сейчас сижу и пишу, а передо мной простерлась заросшая лесом долина. Дальше она горбится холмом, а за ним волнами вздымаются бесчисленные гребни, одетые зеленой чащей, — и так на две тысячи миль. Стоит пойти вон туда, левее, — и можно пройти все две тысячи миль, не встретив ни одного известного миру человеческого поселения и даже ни единого неизвестного и не нанесенного на карту поселка американских индейцев.
Если вы затерялись в зеленом покрове, то дело принимает серьезный оборот, уверяю вас: я сам плутал в лесах несколько раз, последний раз всего три дня назад. В настоящих джунглях совершенно нечего есть — ни листка, ни плода, и я хотел бы посмотреть на того, кто поймает достаточно живности, чтобы поддержать силы. Частенько там и воды не найдешь. Я знаю одного местного жителя, который заблудился всего в трех сотнях ярдов от лагеря, мало того, потерял голову от страха и пошел не туда. Он проблуждал четверо суток, пока, по счастливой случайности, не набрел на тропу, которая и вывела его к дому. За все время он съел один пальмовый орех и напился всего три раза. Джунгли отнюдь не изобилуют «индейскими поселками» и вовсе не изрезаны «охотничьими тропами».
Стоит вам захватить в лес побольше припасов, выбрать для жилья место возле хорошей питьевой воды, подальше от своих соплеменников — и можете ничего не бояться. Вы будете жить в полном мире и здравии. Крупные кошки и змеи — самые респектабельные и достойные уважения соседи, и, если вам не вздумается заигрывать с крокодилом или играть в футбол осиным гнездом, никто не причинит вам ни малейшего вреда.
И наконец, джунгли могут быть просто красочным фоном. Можно ли надеяться, что я рассеял все ваши ложные представления? Если описывать джунгли как кулисы и задник в театре, то лучше всего для этого подходят верховья Коппенаме, где декорации разворачивались перед нами нескончаемой чередой, пока мы медленно, пыхтя мотором, шли к югу вверх по течению.
Представьте себе широкое пространство блестящей, прозрачной темно-коричневой воды четверть мили шириной и мили две длиной. Оно кажется озером, но если вы пойдете назад или вперед, то увидите, что строй деревьев на одном берегу выдвигается из-за другого берега, как будто открывается коробок спичек. Это не озеро, а всего-навсего один из поворотов великой реки, скрытый от соседнего изгиба противоположной излучиной берега. По одну сторону «озера» могут расти на высоком берегу обильные травы, из которых тут и там выглядывают небольшие красные обрывы, увенчанные громадными зелеными лилиями или ажурными бамбуками, кивающими над стремниной. А на другой стороне — сплошной бастион из блестящей зеленой листвы, высотой сотню футов, кое-где прорванный прорехами — черными и зияющими, словно жерла пещер. Внизу у каждой такой прорехи, похожей на разверстый зев, вы увидите ослепительно белый скелет дерева, жалобно тянущий иссохшие «пальцы» вверх из темной, как коньяк, воды.
Затем откроется залив, заросший пальмами, которые стоят на сплошном ковре из невысоких ярко-зеленых растений, похожих на капусту, — когда волна от лодки прокатывается под ними, они колышутся, вздымаясь и опадая. Дальше протянулись лентой тонкие, белоствольные деревья, склонившиеся над водой от тяжести громадных волосатых листьев кроны, усеянной дурацкими желтенькими цветочками, около которых, гудя, увиваются полчища пчел.
Подчас зеленая стена довольно далеко отступает от берега, оставляя место для громадного древесного мамонта, высоко вознесшего свою крону. Его гладкий ствол на сотню футов лишен ветвей, и там, наверху, во все стороны торчат похожие на трубы теплоцентрали громадные сучья, увешанные массой серебристых, развевающихся на ветру лишайников длиной по двадцать футов. Над водой проносятся зимородки величиной с ворону, а на кустах восседают, уставившись на вас, громадные черные птицы со змееобразными шеями. Солнечный свет щедро заливает сверху этот бесконечный карнавал неповторимого и не повторяющегося зеленого великолепия.
Мы построили свой новый дом на высоком берегу, с которого открывался точь-в-точь такой вид. Берег сплошь зарос стофутовыми деревьями, и нам пришлось свалить трех гигантов, чтобы прорубить «окно» к реке. Мы прожили пять недель в этом мире, отрезанные от всего человечества с его заботами. Днем мимо нас среди тихо дышащих на солнце зеленых обрывистых берегов струилась коричневая вода; ночью над деревьями всходила, словно хромированная, луна, бросая на воды ярко-золотое отражение. День сменял ночь, а вода все струилась — вот так, должно быть, она текла бесконечные века, задолго до нашей цивилизации. Мы жили той жизнью, для которой человек поистине предназначен, — жизнью человекообразных обезьян.
Мы познали вкус лесной жизни в первое же утро, когда были заготовлены молодые деревца для постройки домиков.
Меня разбудили яростные вопли Ричи. До меня донеслось:
— Бр-р-р-р! Придушу! — Дальше следовали куда менее пригодные для печати словесные залпы.
— Что случилось, Рик? — окликнул я его из-под противомоскитной сетки.
— Они хлеб воруй, сэр, — возопил он.
— Кто? — простонала Альма, которая в полусне поняла, что дело касается ее личной епархии.
— Обезьянки-янки, очень ужасно много, сэр!
— Обезьянки-янки? — Мы не поверили своим ушам и выскочили из постелей.
Рассветный туман окутывал лагерь, скрывая из виду реку, и висел в прорубленном среди деревьев окне, как белый занавес; на его фоне кружили и сновали тысячи стрекоз. Сквозь дымку был виден Ричи, который метался, размахивая небольшой сковородкой. Вокруг рубинового сияния кухонного очага плясало, щебеча, множество крохотных существ — ни дать ни взять эльфы. Кругом царил полный бедлам. Деревья вокруг дергались и тряслись, как марионетки, которых дергает за ниточки великан-кукольник; что-то носилось по лагерю, срывая крышу из пальмовых листьев с домика Фреда; воздух звенел от щебета и обезьяньей болтовни.
— Эй, Рик, тащи хлеб, быстро! — заорал я.
Фред вынырнул из своего дома, и мы схватили сачки. Никогда я не видел такого дурацкого и смехотворного зрелища, как это: три одетых в пижамы идиота тыкались туда-сюда в тумане, пытаясь ловить неимоверно подвижных обезьянок сачками для ловли бабочек! Ситуация была нелепейшая, и все же нам удалось изловить парочку — они забились под кровать Фреда, прижавшись друг к другу, еще одну обезьянку — в ящике на кухне, где она облизывала сыр, и еще пару — в нашем доме: одна из них зарылась в постель, вереща от ужаса, а вторая пыталась прорваться сквозь стену из пальмовых листьев. Но что бы мы ни делали, отпугнуть стаю было невозможно. Зверьки по-прежнему норовили сцапать наш хлеб, выпекавшийся на раскаленном докрасна листе железа над кухонным костром. Воришки обжигали пальцы и визжали от боли, но отступать не собирались.
Я ни разу не видел, чтобы дикие животные так себя вели, и ни за что не поверил бы своим глазам, если бы четверо свидетелей не убедили меня в том, что я не спал. Эти «обезьянки-янки», как их зовут в Суринаме, — пугливые, робкие маленькие беличьи обезьянки саймири (Saimiri sciurea). Углубляясь в леса Суринама, вы почти всегда встретите громадные стаи этих зверьков, резвящихся на деревьях, весело щебечущих, но только в том лагере на реке Коппенаме я встретил таких бесстрашных и дружелюбных зверьков. В наши владения вторглась стая голов в сто, несмотря на дымящий костер, на присутствие Андре и Ричи и на жуткий шум и грохот, который мы подняли в этом укромном местечке три дня назад.
Для начала наши вновь обретенные любимцы отчаянно нас искусали, но, когда мы угостили их столь вожделенным хлебом с некрепким чаем, они начисто позабыли о своих бедствиях и разрешили трогать себя — конечно, с осторожностью. Беличьи обезьянки питаются орехами и насекомыми, и мы стали их лучшими друзьями, потому что ловили и преподносили им тараканов и жуков. Они с жадностью поедали и освежеванные тушки летучих мышей — остатки с препараторского стола — довольно неожиданное для обезьян пристрастие.
Самое приметное в экстерьере беличьих обезьянок — голова, длинная, узкая и выступающая сзади далеко за линию шеи, что прямо связано с преимущественным развитием определенных долей мозга. Этот вид не является редкостным, но мы все равно были готовы до бесконечности сидеть и наблюдать, как они трудятся или играют, — это неисчерпаемый источник сведений о поведении животных. Обезьянки — зеленой масти, у них золотистые хвостики с черным кончиком и мордочки, которые лучше всего назвать «смышлеными». Окрас обеспечивает им идеальный камуфляж среди толстых лиан, где они проводят почти все время.
Беличьи обезьянки любят проводить время на берегах рек, где ветви деревьев, оплетенные массой лиан, зеленым каскадом ниспадают вниз, к кустарникам. Там саймири целыми днями кормятся и резвятся на солнышке, возвращаясь ночевать в лес только за два часа до заката. Заметив вас, они спускаются на нижние сучья, теснятся там, переговариваясь, и глядят на незнакомцев, склонив головки набок. Самые любопытные, конечно, малыши — матерям буквально приходится тащить их силой, когда стая отправляется восвояси. На древесных кронах у них проложены самые настоящие дороги, устланные таким толстым слоем сломанных веток и сухой листвы, что там можно спокойно устраиваться спать, как в гамаке.
Нас навещали не только игрунки. Спустя несколько дней я поспешно завтракал, в надежде выскользнуть из лагеря под прикрытием утреннего тумана, не разбудив Фреда и Альму, — я заключил с ними пари, что поймаю определенное количество животных в заданное время. Если бы не пари, я нипочем не встал бы в такую рань. Как вдруг деревья у меня за спиной словно расступились, поднялся громкий треск, вниз посыпался дождь листьев; потом снова настала полнейшая тишина. Я замер, прислушиваясь. С высоты, из тумана, донесся одинокий обезьяний голосок — неописуемая смесь щебета, мурлыканья и нежного, очень жалобного хныканья.
Я пошел на звук и несколько раз обошел лагерь, пока туман не рассеялся; тогда я увидел маленькое животное, снующее среди ветвей. Зверек трижды обошел лагерь, а потом, как видно заметив меня, издал еще один жалобный вопль, и над моей головой откуда ни возьмись появилось не меньше полусотни его сородичей. Они впали в форменную истерику, какую умеют устраивать только обезьяны, — как бешеные носились по сучьям, вопили и стряхивали тучи листьев. Я сразу узнал капуцинов — и не только по их манере держать хвосты дугой вниз, но и по тому, как они ухитрялись чесаться между прыжками. По части чесания капуцины свободно могут выиграть чемпионат мира; они чешутся без перерыва. Мне кажется, это их природная слабость или ужимка, а не скучная житейская необходимость, как у других животных.
Пока я наблюдал за обезьянками, появился Фред. Должен сказать, что мы оба терпеть не можем убивать обезьян, особенно капуцинов, но у нас не хватало только одного самца, и пришлось заставить себя, скрепя сердце, пойти на то, что нам самим казалось почти человекоубийством. Мы разделились, обошли с двух сторон стаю, которая все еще медлила, и принялись высматривать самое крупное животное, надеясь, что это окажется престарелый самец. Недолго думая, Фред спугнул их, и вся толпа двинулась в путь прямо над моей головой. Я был поражен до глубины души: вместе с капуцинами, похожими на кошек, сквозь кроны спасалось бегством еще множество более мелких зверюшек, которые даже не старались взбираться на сучья и прыгать оттуда, а мчались галопом до самых тонких веточек, откуда бросались прямо в пространство, приземляясь на другие ветки, как лыжники с трамплина, и продолжали скачку, словно по дорожке ипподрома. Я выстрелил в них, и двое упали вниз, остальных и след простыл.
Отыскав добычу, я с удивлением узнал черных тамаринов в оранжевых перчатках и сапожках (Mystax midas) — таких же, как в нашем зоопарке в Парамарибо. С того дня я ни разу не встретил по отдельности стаю тамаринов или стаю капуцинов; обязательно в стае были и те и другие. Судя по всему, они закадычные друзья, хотя я не припомню, чтобы кто-нибудь отмечал этот факт в литературе. Почему эти два вида, у которых нет ничего общего ни в поведении, ни в привычках, ни в рационе и вообще ни в чем, любят совершать совместные прогулки?
Когда я подошел к Фреду, он баюкал прокушенный до крови палец и заодно насмерть перепуганную обезьянку. Умостившись у него на руках и вцепившись в рубашку, сидел совершенно очаровательный маленький капуцин с расширенными от ужаса карими глазами. Когда я подошел, он взглянул на меня, закричал и снова укусил Фреда. Мне пришлось взять его на руки, и Фред, периодически высасывая кровь из пальца, рассказал, что он выстрелил в обезьянку, но она была так далеко, что попросту увернулась от дроби, пригнувшись к ветке. Однако бедняжка так перетрусила, что с первого шага свалилась с ветки, попыталась уцепиться за другую и ударилась о третью, сделав сальто в воздухе. Потом свалилась в кучку мягких лиан, откуда Фред и извлек ее в полной целости и сохранности. Эта обезьянка слегка отличалась от других капуцинов, добытых нами в тех местах. На голове у нее две белых полосы, а шапочка бледно-кремовая. Два дня и две ночи обезьянка рвалась на свободу, потом успокоилась и сделалась совершенно ручной, но вскоре погибла, подавившись колпачком с бутылки, когда в лагере никого не было.
Не прошло и нескольких дней, как я снова вышел в предрассветной дымке — в той экспедиции я проявлял удивительную бодрость; проблуждав с полчаса по лесу, выслеживая крупных крыс, возвращавшихся в свои норы после ночных набегов, я вышел к глубокой долинке, по дну которой тек небольшой ручей. Разбросав кучу сухих пальмовых листьев, покрытых длинными черными шипами, на манер тринидадской кокорите, я присел выкурить трубку в мире и спокойствии, а заодно поглядеть на все, что попадется на глаза.
Едва я успел хорошенько раскурить трубку в предвкушении покоя, как послышался громкий свист, и, прежде чем я успел отскочить, рядом со мной на землю с пренеприятным стуком грохнулся порядочный обломок сухой ветки. Я инстинктивно взглянул вверх — как раз вовремя: прямо мне в лицо посыпались более мелкие куски дерева. К счастью, они были трухлявые, мягкие, но я несколько минут провозился, стараясь при помощи носового платка вынуть сор из глаз. Когда я снова поглядел вверх, то ничего не увидел и стал качаться из стороны в сторону, стараясь заглянуть в просветы между сучьями гигантского дерева.
Передо мной мелькнуло на редкость несимпатичное, заросшее бородой черное лицо, склонившееся с верхнего сука. Оно рявкнуло на меня и тут же скрылось. Я протер глаза, соображая: то ли я встретил представителя неизвестной расы древесных карликов, то ли оказался первым, кто воочию увидел настоящего лешего. Когда на меня снова рявкнули с другой стороны дерева, я решил, что занимаю очень невыгодную позицию. Поэтому быстро обошел дерево, но ни рявканья, ни новых косматых личностей больше не видел.
К тому времени первые желтые лучи солнца тронули лес и залили верхушки высоких деревьев резким, слепящим светом; но там все было тихо. Прождав довольно долго, я решил, что джентльмены там, наверху, ждут от меня сигнала, чтобы явиться на сцену, и, выбрав кусок дерева поувесистее, отложил ружье и принялся наотмашь бить по громадному, плоскому и тонкому контрфорсу дерева. Таинственный, гулкий звук природного барабана разнесся в тихом утреннем воздухе, заставив его дрожать, и тысячи птиц отозвались криком. После третьего удара наверху разразился несусветный бедлам.
С полдюжины рявкающих «хористов» вступили разом, их рявканье слилось в неслыханный по силе рев, переросший в оглушительное крещендо, до которого далеко целому львятнику в час кормежки. Высоко надо мной громадные сучья тряслись и ходили ходуном; лианы, свисавшие вдоль ствола, мотались, как пьяные, и казалось, что все деревья внезапно ожили. Я отбросил кусок дерева и схватился за ружье.
То, что я увидел у себя над головой, мне кажется, мало кому доводилось видеть — мне сказочно повезло.
Там на гигантском суку восседала личность, облаченная в меховую мантию такой белизны, какую встретишь разве что на чистейшем снежном плато под альпийским горным солнцем, но еще вдвое ослепительней — она еще и переливалась, блистая, как драгоценный атлас. Вокруг этой царственной особы увивалось дюжины две крупных обезьян, чернолицых, с длинными бородами, одетых в такие же блестящие, только рыжие, как идеально отполированная медь, одежды цвета старого вина. Животные находились выше слоя тумана, в ослепительном свете утреннего солнца. Примерно половина из них, присев на сучьях и набирая полной грудью воздух, ревела, выставив вперед бородатые подбородки. Это были рыжие ревуны (Alouatta macconnelli), которые выражали ревом общее негодование в связи с моим вторжением. Несколько минут они ревели хором, потом величавый белоснежный патриарх поднялся на четвереньки и громко произнес два раза: «Ух!», в ответ вся капелла разразилась одобрительным ревом, как толпа на митинге; затем вождь еще раз изрек: «Ух!», и наступила мертвая тишина. Вся честная компания, облегчив душу, посмотрела на меня сверху вниз, с выражением — могу поклясться! — крайнего и единодушного презрения. Потом все тронулись в путь, фыркая и крякая, словно переговариваясь.
Они пошли вверх по склону, в ту сторону, откуда я пришел; громадный альбинос — а их вождь-гигант был альбиносом — возглавлял шествие, следом за ним двигалась толпа стройных, безбородых юнцов и группа взрослых буйных обезьян. Я побежал вверх по склону, натыкаясь на колючки на пальмах и не решаясь отвести глаз от вождя, — боюсь, что я без малейших угрызений совести старался сделать все возможное, чтобы добыть это великолепное животное, сверкавшее на солнце над пологом тумана. Гигантский самец-ревун, да еще и альбинос, составит гордость любого музея, в этом я не сомневался. Кроме того, эти звери каким-то образом вселяли уверенность, что прекрасно смогут за себя постоять, невзирая на всякие подлые человеческие штучки вроде ружья. Но обезьяны, двинувшись в путь, развили сногсшибательную резвость, и, принимая во внимание пальмовые шипы, крутизну склона и возможность видеть лишь урывками дорогу на вершинах, по которой они двигались, вы поймете, почему, когда я выбрался наверх, надо мной проходили уже последние обезьяны стаи.
Я выпалил в последнего крупного самца, который попался мне на глаза, — в ответ разразился вой и треск, похожий на грохот мощного прибоя. Очевидно, стая в конце концов поняла, что я не просто какое-то животное, а представитель другого мира. Они в панике бросились бежать кто куда, смешав ряды. Вождь мелькнул передо мной на открытом дереве, и я собрался было его преследовать, но злобное рявканье заставило меня остановиться и взглянуть вверх: самец, которого я подстрелил, с трудом карабкался по лиане. Вид раненого зверя переворачивал сердце, особенно потому, что на лице у него сохранилось царское высокомерие и настроен он был воинственно. Я сразу же прекратил преследование стаи и занялся делом, которое не терпело отлагательств. Четыре часа кряду я карабкался по деревьям, стучал по сучьям, зажигал дымокуры и орал до хрипоты и боли в легких, но бедняга-подранок как сквозь землю провалился.
На мои крики прибежал Андре, мы отметили все деревья вокруг места, где я бросил ружье, и предприняли систематический поиск. Долгое время спустя мы увидели, как колышутся ветки на вершине колоссального дерева, и Андре, забравшись на соседнее дерево, доложил, что видит животное: оно медленно спускается по дальней стороне. Мы еще долго просидели в ожидании, пока бедняга переползал на акацию с прозрачной кроной в последней душераздирающей попытке идти следом за своими давно сбежавшими сородичами. Он был в пределах выстрела, и мне удалось выстрелить из обоих стволов — но он, к моему ужасу, только застонал и потащился дальше! Я посмотрел на оставшиеся патроны — они были заряжены самой мелкой дробью, на случай, если мне попадутся летучие мыши. Конец этой истории вспоминать не хочется, но прошло всего несколько секунд, и громадный зверь как подкошенный свалился с ветки и повис на хвосте; когда Андре поспешно взобрался и отцепил его, он был уже мертв.
Это величественное животное было длиной чуть больше четырех футов, считая и хвост, по длине несколько превосходивший туловище вместе с головой, и весило восемнадцать фунтов. Можно понять, почему в Суринаме этих зверей зовут павианами — по размерам, длине шерсти и свирепому выражению морды они — достойные собратья африканских павианов. Шкура у зверя была роскошная — каждый ее волосок блестел, как металлический, и по ней пробегали искры золотого, оранжевого, медного и бронзового блеска. Все цвета сливались в странный сплав винно-красного и медно-бурого оттенков. Лицо, руки, стопы и обнаженные места — ладонь, пальцы, пятно под хвостом — были черного цвета.
Мы наконец получили возможность, о которой мечтали: собственноручно отпрепарировать гортань и горло обезьяны-ревуна. Убрав кожу, поросшую густой бородой, мы открыли замечательную по строению нижнюю челюсть с гротескно увеличенными ветвями — кстати, у нас они находятся впереди ушей. После окончательного удаления кожи непредубежденный зритель, глядя на горло обезьяны, решил бы, что она страдала зобом в острой форме — зоб был невиданных размеров. Дальнейшие разрезы освободили гиоидную, или подъязычную, кость, представлявшую у этого животного полый шарообразный орган, побольше яйца, состоящий из плотной, но просвечивающей кости и выстланный поразительно тонкой, бледно-розовой и влажной слизистой оболочкой. Это устройство, по объему превышающее мозг, расположено между ветвями нижней челюсти и сзади имеет отверстие, выходящее в гортань. Сама гортань позади него тоже сильно расширена, и ее хрящи образуют вторую сферу, также выстланную тонкой слизистой оболочкой. Перерезав трахею ниже этого образования и сильно подув в нее, мы услышали мощный, хотя и ослабленный, звук, напоминающий рев обезьяны. Он создает как бы фон рева у живых ревунов, который вы четко различаете на слух. А клокочущий звук «рр-р-гр-рр» они издают при помощи маленькой пластинки из той же розовой мембраны, натянутой между двумя полыми сферами, которые действуют как усилители.
Этот странный способ издавать звуки привел нас к несколько сентиментальной и, пожалуй, не совсем научной дискуссии на тему о запланированных импровизациях матери-природы, продлившейся до четверти восьмого вечера, пока мы с Альмой, Ричи и Фредом снова пробирались среди путаницы свалившихся деревьев, колючих пальм и мелкого подроста в каких-нибудь ста ярдах позади нашей маленькой группы лесных хижин. У каждого из нас был с собой какой-нибудь источник света, и мы дружно искали труп подстреленной мною крупной и нахальной птицы, которая своим жутким ором начисто испортила нам предзакатный час. Ричи уверял, что она очень вкусная и что это «токи-токи», то есть индейка. Нелегко отыскать в темном лесу даже крупную птицу; эту разбойницу мы искали полчаса, если не больше — перекликались друг с другом, рубили кустарник своими мачете и ругались на чем свет стоит. Короче, мы устроили дикий шум.
Точно в семь пятнадцать Андре крикнул:
— Сэр, гляньте-ка: длинное черное зверюшко!
Мы все «глянули», но никто ничего не увидел.
— Какое такое зверюшко? — спросил я, выпутываясь из кустарника. — Куда оно побежало?
Андре показалось, что оно юркнуло под пенек, и все мы принялись за раскопки, но в норе под корнями ничего не обнаружилось, и мы было подумали, что Андре просто страдает избыточным энтузиазмом. Я стоял на дне небольшой долинки. Оно было совершенно свободно от растительности, а изогнутые, как арки, листья пальм, обступивших меня, смыкались над головой со всех сторон. Это было необычное место — нечто вроде природной часовни, и я включил фонарь, осматриваясь. К моему удивлению, из-за небольшого кустика папоротника на меня холодно глядел блестящий глаз; я решил, что это наша пропавшая птица, и стал потихоньку подкрадываться. Заглянув за кустик, я удивился еще больше: там стояло небольшое животное с крупом ярко-оранжевого цвета, глаза у него были выпучены от ужаса, и оно тряслось всем телом, как будто в нем работал мотор. Оно ничего не делало, только стояло, дрожало и пучило глаза, так что были видны полоски белков. Я крикнул Фреду, чтобы он принес ружье, а зверек от моего крика подскочил и отбил по земле звучную барабанную дробь задними ножками, после чего опять застыл, весь дрожа. Такого поразительного поведения мне еще не доводилось встречать даже среди животных, хотя они всегда ведут себя самым непредсказуемым образом.
Заслышав приближающиеся шаги Фреда, животное вздрогнуло и прыгнуло вперед, как нервная скаковая лошадь на старте, замерло, рванулось с места, как ракета, и понеслось летучим галопом — я не успел глазом моргнуть, а его уже и след простыл. Тут подоспел Фред.
— Что это там? — шепотом спросил он.
— Агути… была, — довольно растерянно ответил я.
— Тогда это что? — взволнованно прошептал он, целясь в другое место.
— Что — «что»? — переспросил я, глядя в том направлении.
— Змея, Айвен!
— Какая еще змея! Она же не на земле.
— Куда она подевалась?
— Берегись! Вон она! Стреляй, стреляй же!
— В какую половину? Перед кустиком или которая сзади?
— Да стреляй ты! Все равно, в какую!
Фред решил выстрелить в левую половину, и что-то выскочило из-за куста, прыгая и извиваясь, как гигантский черный червяк. Препирательства заняли всего несколько секунд, а фонарик светил тускло, и мы, не имея представления, что это за тварь, очень осторожно стали подходить к кустику папоротника. Она перестала извиваться и высунула голову. Голова была точь-в-точь как у змеи; клянусь, в ту минуту я бы прозакладывал последнее пенни за то, чтобы это была змея; к тому же оно еще открыло рот и издало громкое змеиное шипение. Потом свалилось замертво, а мы подбежали и наклонились над телом.
Нелепо настаивать на том, что кто-то может спутать млекопитающее со змеей. Зоологам вполне простительно недоверие к моим словам, если им не приходилось видеть гризона (Grison vittata) живьем, в природной обстановке, когда он скрадывает добычу. Животное это похоже на ласку, только гораздо крупнее, они дальние родственники. Гризон смахивает на ожившую, необычайно подвижную, черную с белым, сосиску, и передвигается он почти как змея, быстро перебирая четырьмя резвыми короткими ножками и припав к земле брюхом, которое не достает до земли сантиметр, не больше. Обходя препятствие, зверек обтекает его, как поезд на повороте. При своей длине он может повернуть вдоль собственного туловища, так что на какое-то мгновение передний и задний концы двигаются в противоположных направлениях. Любая такса была бы посрамлена, вздумай она тягаться с гризоном.
Уже одно то, что это полупресмыкающееся существо дерзнуло охотиться на агути прямо у нас под ногами, не обращая внимания на фонари и крики, говорило о том, что животные в этих местах еще не знакомы с опасными привычками человека.
Осмотрев гризона при нормальном свете, в хижине, я простил себе, что принял его за змею. Головка у него плоская, маленькая, низколобая, глаза крохотные, а белая с черным расцветка специально рассчитана на то, чтобы даже агути приняла его за змею. Может быть, это проясняет случившееся. Змеи совершенно завораживают даже резвых животных, хотя в наше время этому не принято верить. Жертва гризона, насколько я видел, была вне себя от ужаса.
Во всей этой истории мне интереснее всего было наблюдать великолепное безразличие, которое это крайне робкое существо проявило к нашему присутствию. Напомню вам, что мы производили дикий шум с самого нашего прибытия — рубили, тесали бревна, разводили костры, валили деревья, наводняли округу небывалыми запахами, — а жизнь в джунглях текла мирно вокруг нас и даже среди нас, как нам еще предстояло убедиться.
Как-то ночью мы легли и лежали в темноте примерно с полчаса. Мне совсем не хотелось спать, и я слушал, как летучие мыши-десмодусы порхают за противомоскитной сеткой, норовя закусить на дармовщинку. Лесная хижина едва вмещала двуспальную кровать — я упирался головой прямо в стенку, состоявшую из одного слоя пальмовых листьев. Поэтому я слегка вздрогнул, услышав, как кто-то грызет кость за тонкой стеной, не больше чем в двух футах от моего лица.
Я осторожно разбудил Альму, и мы тихонько выбрались из постели. У меня всегда было наготове ружье — на случай если какое-нибудь ценное животное навестит нас без приглашения. Я схватил ружье, Альма — фонарь. Мы вылезли наружу и при лунном свете, разделившись, стали обходить хижину с двух сторон. Я выбрал более короткий путь, но там пришлось протискиваться между нашим домом и жильем Фреда. Конечно, это сопровождалось громким шорохом пальмовых листьев, из которых были сделаны стены; естественно, зайдя в тыл хижины, я там ничего не увидел. Я подождал, пока Альма подойдет с другой стороны, и мы стали искать на земле остатки кости, которую грыз наш неведомый гость. Там ничего не оказалось. Тогда мы стали осматривать близлежащие кусты. Вдруг Альма заметила пару сверкающих, золотисто-красноватых глаз на небольшом деревце, нависшем над хижиной Фреда. Я выстрелил не мешкая, но, как видно, промазал. Мы стояли, очень озадаченные, как вдруг что-то с гулким стуком свалилось на землю с дерева, и мы кинулись на добычу, как тигры, боясь ее упустить. Зверек был мертв.
Я откладывал рассказ об обыкновенном опоссуме (Didelphis marsupialis azarae — да поможет мне бог!) до тех пор, пока мы не добыли этот экземпляр — хотя в нашем зоопарке жили несколько животных, — потому, что мы впервые встретили опоссума в природной, естественной для него обстановке. Эти животные наводняют и фермы, и города. Один весьма уважаемый наш сосед в Парамарибо жаловался общему знакомому, что «чертовы звери от Сандерсона», или что-то в этом роде, заткнули у него дренажный сток. Джентльмен недавно поселился в стране и дома сам видел, как из трубы извлекли дидельфуса, что, разумеется, обошлось ему в копеечку, а потому решил, что во всем виноват наш зоопарк. Оказалось, его повар, увидев, что «авари», как зовут здесь зверька, юркнул в трубу, с завидной находчивостью, заслуживающей лучшего применения, вылил туда ведро кипятка. Несчастный зверек, как и следовало ожидать, сварился и поневоле заткнул трубу.
Здесь перед нами был дидельфус, ведущий свой естественный образ жизни, если не считать того, что он грыз косточку, которую стянул из нашего котла. Оказалось, что у зверька в просторной сумке полно мелких, как горошек, розовых детенышей. Они рождаются на такой ранней стадии развития, что их даже животными не назовешь. Мать подкладывает каждого к соску, и тот крепко-накрепко присасывается, потягивая молоко и превращаясь в крохотное мохнатое млекопитающее вполне нормального вида. Обыкновенные опоссумы покрыты густым волнистым подшерстком цвета сливок. Поверх подшерстка лежит кроющий волос, длинный и блестящий, обычно черный, но иногда и белый, как голова почтенного старца. Лапки черные, а хвост голый, чешуйчатый, наполовину белый, наполовину черный и поразительно цепкий. Голову животного описать мудрено, так сильно она отличается от головы американского опоссума. Она заостренная, с широким, похожим на пасть змеи ртом, вооруженным массой острых зубов, а у старых самцов есть еще две пары острых, как кинжалы, клыков. Зверек очень кровожадный и — что несвойственно диким животным — нечистоплотный и вонючий. И все же это очень красивый зверь, ведь и злобные, коварные существа бывают по-своему красивы.
После интерлюдии мы улеглись в постель, снова слушая шорох порхающих десмодусов. Альма сразу уснула, а мне надоело лежать без сна, и я встал выкурить сигарету. Снаружи все было залито таким ярким лунным светом, что я вынес ружье и с удовольствием разбирал и чистил его с полчаса, не нуждаясь в дополнительном освещении.
Мое занятие, однако, было прервано: я услышал, как кто-то решительным шагом топает к нашему лагерю. Я сидел, прислушиваясь, а шаги уверенно приближались. Когда они послышались позади нашей хижины, я пошел на разведку, но, пока я путался в кустах, бранился, осыпая проклятиями лианы, пришелец продолжал топать как ни в чем не бывало. Я перебежал на другую сторону нашей площадки и затаился.
Пришелец прошел в нескольких футах от меня, и, как я ни изворачивался, заглядывая под кусты, раздвигая подрост, бросаясь на живот и шаря вокруг, я так и не увидел, кто это нахально топает. Он прошел мимо и затопал дальше, а я до сих пор не могу преодолеть разочарования — ведь я так и не понял, что это был за зверь. В тот момент, однако, все вылетело у меня из головы, и вот по какой причине.
По другую сторону нашей хижины — мхупы — росло два громадных дерева. Одно было прямое, покрытое блестящей светлой корой. Второе, узловатое, слегка наклонилось в одну сторону. У корня они соединялись. Оба ствола были гладкие, сучья начинались на большой высоте. Вернувшись к столу, где лежало мое ружье, я случайно взглянул вверх и увидел, что на наклонном дереве за мое недолгое отсутствие появился какой-то нарост, вроде большого муравейника, — можете представить себе, как я удивился. Я сказал «муравейник», потому что они здесь очень часто лепятся на стволах деревьев, и я засомневался — может, он там был всегда, а я его просто не замечал. Я решил проверить и подошел поближе, потому что на эту часть ствола как раз падала такая густая тень, какую отбрасывает только яркая луна.
Я сильно вздрогнул от неожиданности, когда нарост вдруг изменил очертания и стал медленно взбираться по стволу. Я должен обратить ваше внимание на необъяснимый и очень интересный факт: хотя животное, которое я безошибочно узнал по силуэту, было хищником, я не почувствовал ничего похожего на то необычайное ощущение безотчетного ужаса, которое возникает при виде леопарда в Западной Африке, пронизывая вас с головы до пят. Передо мной на дереве в каких-нибудь двенадцати футах припал к стволу ягуар (Panthera onca): в лунном сиянии зверь казался громадным, как настоящий выбеленный луной динозавр, но того одуряющего, тошнотворного ужаса он у меня не вызывал.
Гостя, по-видимому, привлекли те же самые уверенные шаги, которые слышал я. Должно быть, ягуар минут двадцать смотрел, как я чищу ружье, пристроившись на дереве у меня над головой, а когда я ушел, решил, что путь свободен, и стал осторожно спускаться. Вернувшись, я потревожил его, и он неторопливо полез вверх по стволу, то и дело оборачиваясь, — ну и глупая кошка! — чтобы взглянуть на меня, а я стоял, будто прирос к месту.
Первым моим побуждением было удрать, вторым — выстрелить, но, к счастью, я переборол и то и другое, потому что в любом случае меня бы постигла жестокая кара: в первом — от Альмы, которая просто убила бы меня, узнав, что я оставил ее на милость громадной дикой кошки, а во втором — от незваного гостя, потому что дробь шестого номера показалась бы ягуару явным вызовом. Мне оставалось только стоять и смотреть на изумительного зверя, медленно восходящего по стволу. Когда он добрался до первого толстого сука и решительно направился в свои лесные владения, я набрался храбрости и сказал «У-у-у!» — довольно громко и с некоторой дерзостью. Сук качнулся — и зверь исчез.
Я записал это происшествие с известным удовольствием, потому что до полусмерти был напуган россказнями о ягуарах, и счастлив, что могу оправдать свою уверенность в благородстве крупных кошек, а я очень горжусь этим убеждением. Кроме того, это единственная и лучшая «история про тигров», какую я могу предложить вашему вниманию.
Гвианские саванны
Степная собака, колючие крысы, древесные жабы и саки
Через три дня после возвращения с реки Коппенаме мы, запасшись провизией, снова прошли каналом. На этот раз свернули в реку Суринам, повернули вправо и пошли вверх по широкой реке к устью реки Пара. Я так наелся за вторым завтраком, что задремал.
Когда я проснулся и осмотрелся, ожидая, что мне предложат выпить чайку, оказалось, что яхта все еще пыхтит вверх по могучей реке. Посмотрев на карту, мы решили, что устье Пары должно быть недалеко от Парамарибо; мы уже отошли от города довольно далеко. Подошли поближе к берегу и, заметив двоих чернокожих, которые сидели на берегу, крикнули:
— В какой стороне река Пара?! Оба мигом вскочили и заорали:
— Там!
При этом один показывал правой рукой вверх по течению, второй — левой вниз по течению. Затем они свирепо уставились друг на друга, а спустя минуту заспорили, как две сороки. Мы оставили их и пошли дальше.
В следующей паре, которая нам попалась, очевидно, оба были глухи как пробки, но, сообразив, что нам от них что-то нужно, они позвали удивительно приятного чернокожего молодца, который согласился за бесплатный проезд и бутылку пива показать нам дорогу. Нам пришлось повернуть обратно — джентльмен-левша оказался прав, и мы поплыли обратно к Парамарибо, в итоге к четырем часам оказавшись в двух милях выше канала; день выдался на редкость неудачный.
Удовольствие, которое получаешь при ловле животных, наполовину состоит в том, что можно отправиться, куда глаза глядят и привыкаешь пускаться в путь, не ведая пункта назначения и не зная, как туда добраться. Достойно удивления, как легко находишь дорогу в любой точке подлунного мира, если только там нет дорожных указателей и безмозглых идиотов, которые сбивают вас с пути. Возьмите булавку и воткните наугад в карту Африки, Азии или Южной Америки, и, я уверяю вас, вы без особых трудностей доберетесь до этого места, при условии, что ни у кого не станете спрашивать дорогу и что у вас есть время. Когда вы решаетесь довериться звездам, водопадам и рекам, у вас гораздо меньше шансов заблудиться, чем при пользовании картами.
Тем не менее наш новый друг помог нам отыскать устье реки Пара, и я должен сказать, что мы не виноваты, проворонив его: оно всего раза в два шире нашей лодки и подходит к реке Суринам под острым углом — ни дать ни взять, еще один заливчик в мангровых зарослях. Стоит войти в устье, как причудливая река значительно расширяется. Мы высадили нашего лоцмана у моста в полумиле вверх по течению. При этом врезались в причал и сломали пополам единственный якорь, но наш лоцман выкарабкался благополучно на безопасное место, сжимая в кулаке нашу «благодарность» с бутылкой пива в придачу, и приветливо помахал нам на прощание.
Следующие три дня мы провели, путешествуя по местности, которая соответствует моему представлению о рае больше, чем любое другое место на земле. Коппенаме была, бесспорно, прекрасна, но для описания Пары просто нет слов. И вся эта красота менялась, не успевая наскучить, не реже, чем за полдня пути. Низовья довольно густо заселены мелкими местными фермерами, но, как только минуешь земледельческий район, тяготеющий к Парамарибо, начинается нетронутая первозданная страна, мелкие фермы исчезают, и только изредка попадаются деревушки местных жителей, которые живут на реке и ничем не связаны с внешним миром на суше. Они не искажают красоту природы; скорее они ее подчеркивают, возле них всегда есть крохотные заливчики, сплошь покрытые ковром розовых, желтых и белых водяных лилий, по берегам которых в живописном беспорядке разбросаны маленькие лодки-долбленки.
Река в самых широких местах не превышала ширины нашего «флота» более чем в три раза; частенько она сужалась настолько, что мы едва протискивались вперед. Вода здесь была такая, какую в Гвиане обычно называют «речная вода». Нам никто не верит, когда мы говорим, что эта вода в речушках цвета темного ореха, как шерри, а местами даже густого цвета красного вина. И все же это так: вода крепко настояна на соках растений. Поэтому в таких реках можно видеть отражения, каких вы никогда не увидите в других водах. Взгляните в черное зеркало — если таковое найдете! — и вам станет понятно, что я хочу сказать.
Мы поднимались вверх по природному каналу, обрамленному зарослями арумов, о которых я уже упоминал, чьи прямые, как у гигантских злаков, стебли кончались пучком громадных сердцевидных, похожих на ревень листьев. Позади поднималась чаща самых разнообразных деревьев. Тут было множество акаций, у одних листья напоминали изумрудные страусовые перья, у других — желтые веера; были пальмы всех форм и очертаний; были деревья и с мелкими, круглыми, блестящими листочками, и с длинными тонкими листьями яблочно-зеленого цвета, и с серебристо-голубыми, покрытыми пушком. Все это было переплетено гирляндами висячих растений с естественными корзинами, с которых свешивались орхидеи. И повсюду на нашем пути гнездились бесчисленные полчища птиц. На стеблях тростника балансировали нелепые бурые выпи, нависающие над водой сухие сучья облюбовали сверкающие бирюзовые зимородки, которые встречали нас хохотом, а между лианами пробирались птицы густо пурпурного цвета, раскрывая веером широкие хвосты.
Из реки Пара мы повернули в небольшой приток, называемый Коропайнкрик. Здесь природа буквально ошеломила нас красотой. Все мы, даже прозаически настроенный Андре и простодушный, улыбчивый Ричи, стояли, раскрыв рты: перед нами было потрясающее зрелище. Русло оказалось лишь немногим шире нашей спаренной «флотилии», и на берегах не было видно ни одного поселка. Берега словно сомкнулись над нами, ветви деревьев переплетались у нас над головой, и солнце пронизывало зеленые своды узкими стрелами лучей. «Черные» воды были так спокойны и недвижимы, что, глядя вперед, на яркую мозаику из света и тени, невозможно было различить, где кончается реальный мир и начинается отражение. Мы сделали несколько фотографий и до сих пор сами не можем разобрать, где верх, а где низ — настолько совершенно отражение. Мы плыли по сути дела через лес, и блестяще-черная, как тушь, вода пробиралась дальше, разливаясь между стволами деревьев, видных сквозь прибрежный тростник.
По туннелю, крытому арочным сводом резной филигранной зелени, порхали бабочки невиданной величины, их переливающиеся крылья вспыхивали, как фейерверки; по воде плыли клумбы желтых кувшинок; голубые и кроваво-алые орхидеи пышными каскадами спускались к воде; бледно-зеленые листья, раскрытые, как ладони, каждым «пальчиком» впивали прохладную свежесть, восходящую от зеркальной глади вод. Стаями проносились зеленые попугаи с огненными грудками и желтыми спинками, а пунцовые стрекозы, мерцая зелеными крыльями, плясали в солнечных лучах на фоне ровного, как бархат, изумрудного мха, который широкими покрывалами драпировал темные стволы деревьев. И все это буйство красок, безумие немыслимых форм и прихоти играющего света — все сливалось в единой поразительной гармонии и совершенстве, какие может создать лишь тропическая природа.
К месту, называемому Републик, мы прибыли, изнемогая от созерцания потрясающей красоты; иначе наши чувства не выразишь. Речушка так сузилась, что пришлось перегружаться в лодку и челноки. Мы разгрузили моторку, задраили люки и поставили ее на прикол. Следующие пять миль прошли на «человеческом» двигателе, то есть на веслах. От речки, можно сказать, практически ничего уже не осталось — мы плыли по затопленному лесу. Красота была кругом по-прежнему неописуемая, но уже другого рода. Здесь повеяло сумрачной таинственностью, в воде стояли колючие пальмы, между ними плыли покрытые листьями ползучие растения. И вот с двух сторон стали видны заросшие густой зеленью берега, которые сходились все ближе, пока наконец мы не вошли в маленькую речушку. Лодка оказалась слишком длинной для маневров в узких бесконечных поворотах и излучинах: мы перебрались в челноки и поплыли дальше к цели — месту примерно в миле от болота, где брала свое начало речушка. Тут мы проталкивались вперед, хватаясь руками за растения на обоих берегах.
Наша цель — наш будущий дом — располагалась на границе саванны. Боюсь, что этот термин может ввести вас в заблуждение: в большинстве тропических стран «саванны», если так называть и определенный тип ландшафта, растительности, и определенную природную зону, граничат с лесами или джунглями, опоясывая их, как песчаный пляж коралловые острова. Но в этой стране саванны, с ботанической точки зрения образцово-типичные, отличаются одной особенностью: они формируют как бы цепь оазисов самой причудливой формы, поросших травой с редко разбросанными деревьями; цепь эта тянется по карте от восточного побережья в глубь страны, на запад. Саванны здесь, конечно, не настоящие — слишком мало дождей и растительность нетипичная, выросшая на участках бесплодной песчаной почвы. Песок чаще всего чисто-белый, хотя попадается и кирпично-красный, и даже черный. Растительность то и дело меняется — от некоего подобия неухоженного газона с короткой травой, покрывающего обширные пространства, до извилистых узких полос, где в неразберихе теснят друг друга одинокие пальмы, высокая жесткая трава, кустарники с грубой листвой и хилые узловатые деревца с редкими листиками. В таких саваннах обитают последние потомки коренных жителей страны — американских индейцев.
Мы прибыли сюда с особой целью, даже миссией, и остается только удивляться, как собирателю животных порой везет в весьма странных, добровольно взятых на себя предприятиях.
У нас вошло в обычай после прибытия на новое место посвящать несколько дней далеким разведочным маршрутам, вылазкам и прогулкам. В таких подсобных экспедициях мы отмечаем ориентиры на местности, разбираемся в путанице водных потоков и, самое главное, изучаем типы растительности, которые обусловливают и распределение фауны. В небольших исследованиях карты нам не приносят ни малейшей пользы — ни на одной из них, кроме военных топографических крупномасштабных карт, нужных подробностей не найдешь, а военных карт у нас, конечно, не было. Поэтому мы сами набрасывали кроки и систематически планировали маршруты прогулок с расчетом, чтобы каждый из нас исследовал участок, граничивший с участком соседа; таким образом получался более или менее точный план местности. На своих самодельных картах мы отмечали наиболее вероятные местообитания крыс, влажные места и те участки, где замечали особенное изобилие насекомых, улиток и прочей мелочи.
Во всем мире действует одна закономерность: животные обнаруживаются как бы отдельными скоплениями, или гнездами. Проходишь громадные пространства, совершенно лишенные живности, и вдруг выходишь на узенькую полоску земли, где жизнь бьет ключом. А так как большинство животных связаны пищевыми цепями с другими животными, служащими им добычей, то достаточно найти местечко, где много питательной мелочи, как вы обязательно найдете там же средних и крупных животных. Однако есть места, которые в силу своих природных особенностей могут прокормить лишь очень скудное население. Эти места труднее обнаружить, зато там вас часто ждет редкостная добыча.
Занявшись составлением карты и порасспросив местных индейцев, мы выяснили, что весь лес к югу, западу, северу и северо-востоку истреблен страшным пожаром четырнадцать лет назад. Вся местность поросла небольшими деревцами, под которыми разросся частый кустарник, покрытый густой зеленой листвой. Это было не совсем удобное местообитание для обычной фауны тропических лесов, которая приспособлена к существованию в колоссальных сводах из громадных сучьев, среди прямых, как колонны, стволов, и в зарослях мелкого подроста, стоящего на относительно свободном от травы слое лесной подстилки. На востоке, однако, сохранился как бы оазис саванны, огибавшей пожарище с южной стороны, а за ней стояли уже настоящие джунгли, с гигантскими деревьями на корнях-контрфорсах, высокими пальмами, всегда сумеречным полусветом. С этой стороны мы и стали работать.
Мы расставили там ловушки, которые в первую же ночь принесли очень ценный улов. Может быть, вы помните, что в громадной пещере на Тринидаде мы поймали мелкого опоссума — тогда я упомянул о том, что и в Южной Америке живет множество мелких видов. Этот драгоценный экземпляр, мышевидный опоссум (Marmosa cinerea), был не крупнее большой землеройки и сильно на нее походил зеленоватой спинкой и шафраново-желтым брюшком, небольшими ушками и заостренной мордочкой. Андре выложил добычу прямо на обеденный стол во время завтрака, шестым чувством постигнув (как это свойственно только неграм при отсутствии конкретных сведений или необходимых знаний), что это ценная добыча. Торопливо глотая завтрак, я едва не довел всех остальных до белого каления, без умолку разглагольствуя об этом зверьке и его родословном древе. Быстро покончив с завтраком, мы сфотографировали, измерили, взвесили, зарисовали зверька и наконец передали его Андре, наказав ему снять шкурку с уважением, которого заслуживала бы бутылка редкого марочного портвейна. Работа текла своим чередом до полудня, когда Андре принес наконец результат своих трудов. Тушка была набита идеально, и я не жалел похвал, но тут до нас со стороны кухни донесся поток недвусмысленной брани, из соображений приличия на чистом португальском языке. Мы замолчали, надеясь обогатить свои прискорбно скудные познания в португальском, но ничего не успели понять: между нами со скоростью, близкой к скорости света, мелькнула какая-то собака. За ней несся Ричи, завывая на всю округу, как патрульная полицейская машина. Его мы задержали, а собака тем временем скрылась за недалеким горизонтом.
— Что там стряслось, Ричи?! — крикнул я погромче, потому что он пыхтел, как паровоз.
— Пёса, сэр, — выдохнул он. — Она воровал кости.
— Псы всегда таскают кости, Ричи, — благодушно начал я, но внезапно меня охватил ужас. — Какие кости?
— Кости Андре, — был ответ, от которого я онемел.
При всей наивности Ричи слова эти привели меня в полное недоумение, но Андре вмешался в разговор лично.
— Sang joe takie? — спросил он; это значило: «Что ты сказал?»
— Metie bonjoe (кости зверька) — отвечал Ричи.
— Soortoe wan (какого)?
— Pieken wan (маленького) — сказал Ричи.
Тут Андре выругался по-голландски, я — по-английски, а Фред — на каком-то немыслимом американском сленге, которому научился на Гаити, но собаки и след простыл, а вместе с ней исчез и череп нашего драгоценного опоссума.
Поэтому я, как только освободился, пошел осматривать ловушки, проверяя, сделано ли все возможное, чтобы сородичи этого опоссума соблазнились приманкой. День, однако, уже клонился к вечеру, когда я вошел под своды высокого леса, словно в сумрачный, тихий собор. Я углубился в лес с чувством несказанного облегчения — дело в том, что я не выношу открытых мест и обожаю ощущение замкнутости в джунглях — должно быть, оттого, что у себя на родине привык жить в окружении бесконечных кирпичных и бетонных стен, под низким потолком пасмурного неба. Я нес свое неразлучное ружье скорее ради того, чтобы правая рука была при деле, тем более что без него я чувствую себя раздетым.
Ловушки были в отменном порядке. Некоторые, правда, стояли в неудачных местах, а на нескольких приманка была примята пальцами. Исправив этот недосмотр, я разделся, нырнул в манящую, рыжую, как коньяк, воду ручейка, потом уложил брюки в рюкзак, а из рубашки сделал довольно примитивную и неудобную набедренную повязку, спустив и вывернув ее наизнанку. Это мой обычный прием в тех случаях, когда очень жарко, а встреч с людьми не предвидится. Так я отправился в саванну, напоминая, без сомнения, отощавшего древнеассирийского раба, из тех, которых волокут впереди царей с роскошными бородами, как это изображено на самых мрачных стелах.
Пытаясь сделать обход слева, я просчитался, миновал верхний угол участка саванны и продолжал плутать в лесу параллельно нужному направлению. Золотой отсвет на кронах деревьев сообщил мне о близости заката. Я присел, чтобы обдумать свое положение, и в конце концов решил, что надо круто свернуть вправо и идти по прямой. По глупому недосмотру я не захватил компаса. Но все же после короткой схватки с мелкими ползучими лианами я выбрался на опушку леса. Здесь стеной стояли высокие травяные заросли, спутанные и крайне зловредные. Трава, поддерживаемая невысоким кустарником, вымахала на десять футов в высоту, и стоило до нее дотронуться, как она впивалась в кожу, нанося длинные, аккуратные порезы — тоньше и глубже, чем любой бритвой.
Пробиться через дьявольскую поросль было невозможно: я лег на землю и, видя сквозь стебли открытую саванну, стал пробираться ползком через более или менее безобидные корни кустов и трав.
Когда я был в самой середине пути, слева от меня, совсем рядом, кто-то жалобно простонал и дважды чихнул изо всех сил, да так потешно, что на меня напал неудержимый смех и я не мог двигаться дальше. Почему-то такой идиотский припадок смеха легче всего лишает сил человека, когда он лежит; этот смех — чисто физического свойства, и объяснить его мудрено.
Когда я наконец совладал с собой и двинулся дальше, мой мучитель, как назло, снова чихнул и стал что-то ворчливо и жалобно бормотать себе под нос. Сами понимаете, к чему это привело.
Когда я выбрался из травяных зарослей, над саванной уже сгущались короткие сумерки, и я поспешно вскочил на ноги. Но тут же свалился как подкошенный и замер: шагах в десяти от меня была поставлена самая прелестная и недолговечная из «живых картин» природы — на короткой траве стояла красавица лань с крохотным, в четверть нормальной величины, усыпанным яркими пятнышками олененком, который жался к ее ногам. Оба были перепуганы. Нежные мордочки повернуты прямо ко мне, большие, раструбами, уши нервно насторожены, а задние ноги чуть согнуты, готовые к прыжку. Передо мной была самка с детенышем — так называемый «олень Прасара» (Mazama rufa), грациозное создание с высоким крупом, длинной шеей, большими ушами, обычно красновато-бурого окраса. У самцов небольшие ветвистые рожки, а оленята расцвечены по темному красновато-коричневому фону россыпью ярких белых пятен.
Я не собирался убивать чудесных животных, даже если бы дробь в патронах для этого подходила. Убийство детеныша было бы преступлением, а убийство матери — преступлением еще более тяжким. И все же мне очень хотелось полюбоваться на них подольше: узнать хоть какую-нибудь мелочь об их привычках, что не так уж трудно, если убедить животных, что за ними никто не следит. Одет я был для такого случая неподходяще, и пришлось тихонько отползать обратно, чтобы они меня не заметили. Однако чуткие уши оленихи уловили какое-то резкое движение. Она прыгнула вверх и, повернувшись, с минуту смотрела прямо на меня, потом снова взвилась в воздух и вместе с малышом, копировавшим ее движения, унеслась вправо. Два длинных, заячьих прыжка — и они с треском скрылись в лесу. Глубоко разочарованный, я натянул на себя одежду и снова принялся выбираться ползком из зарослей, но тут уж мне не пришлось высовываться — прямо передо мной, за несколькими кустиками короткой травы, кто-то опять как чихнет!
На этот раз я был осторожен вдвойне. Я распластался на животе и заглянул за кустик травы. Стало быстро темнеть, солнце уже закатилось, и все было озарено тем неярким красноватым отсветом, который делает краски сочными, а тени сгущает, отчего пейзаж выступает с небывалой, почти неестественной четкостью. Мой взгляд упал прямо на чудовищно уродливое, напоминающее таксу, создание, особенно поразившее меня контрастом с окружающей прекрасной природой.
Диковинная зверюшка терла нос толстой передней лапкой и ворчала. Я нисколько не удивился: ведь это и был зверь, за которым мы отправились в саванну, — кустарниковая собака (Speothus venaticus), самая странная из всех собак, а может быть, и одно из самых необыкновенных животных в мире. Я был в восторге.
Взяв ружье на прицел, я стал осторожно подкрадываться, но у маленького увальня, как видно, разыгрался сенной насморк, и он снова чихнул, а на меня, естественно, опять напал смех, и, пока я с ним боролся, зверек подскочил самым уморительным образом и побежал прочь трусцой, уткнувшись носом в землю, как и полагается всякой порядочной собаке. Решив, что он уходит, я поднял ружье, но он вдруг остановился, лихорадочно обнюхал что-то вокруг себя, взвизгнул и высоко подпрыгнул. Зверь напал на след оленей, и это его поразило и взволновало. Он стоял, внюхиваясь в следы и то и дело неожиданно и потешно подпрыгивая. Мордочка у него была злобная и неприятная, но я почему-то испытывал невольную симпатию к этому дурацкому, похожему на сосиску, существу, которое вытворяло такие забавные фокусы.
Подкравшись поближе, я совсем было приготовился стрелять, и «лесная пёса» трусцой двинулась влево, но тут ей до зарезу понадобилось почесаться, и она, резко остановившись, плюхнулась на землю и пустила в ход заднюю лапу — ни дать ни взять — фокстерьер. К сожалению, эта остановка случилась прямо передо мной, и зверь не только почуял мой запах, принесенный ветром, но и увидел меня как на ладони. Он перестал чесаться, принюхался и стал оглядываться — я понял, что вот-вот он бросится бежать, и спустил курок.
В лагере этот вечер превратился в праздник. Каждый норовил потрогать и поближе рассмотреть кустарниковую собаку, и надо сказать, что она того стоила. Голова и плечи ее были покрыты рыжевато-бурой шкурой, как у собаки, брюхо и лапы черные, но кожа на всем теле была такого же неприятного розово-белого цвета, как и у меня. Особенно это было заметно на боках, бедрах и крупе, где шерсти почти не было. Это вовсе не патологическое облысение, а нормальная для данного вида шкура. На горле рос пучок бледно-розовой шерсти; хвост был короткий, черный, почти пушистый; радужная оболочка глаз была темного сиеново-коричневого цвета. Спеотус и вправду собака, но уникальная. Она встречается в Бразилии, Гвиане и прочих областях Южной Америки, где ведет бродячий образ жизни в самых сухих саваннах, ночуя в широких и неглубоких норах, которые роет сама или занимает после броненосцев. Характер у зверя ужасно свирепый. Так как животное довольно редкое, мы решили добыть еще несколько экземпляров и заспиртовать — для последующего изучения. На этот раз мы просто поставили охрану около metie bonjoe, и больше их никто не воровал.
Саванна вскоре оказалась скопищем загадок. Поблизости от нашего жилья находилось большое мелкое болото, поросшее травой и множеством мелких кустиков. Туда мы и отправились в первой половине ночи поискать с фонарями лягушек. Мы поразились, увидев, что большие, типично травяные лягушки с похожим на пулю телом (Leptodactylus typhonias), которые обычно прыгают по траве, здесь сидят на верхушках невысоких кустов. Как они ухитрялись там удерживаться, было непонятно — ни присосок, ни специальных приспособлений для лазанья у них на лапках нет. Еще более непонятным оказалось другое подобное открытие, сделанное через несколько дней после того, как я добыл кустарниковую собаку.
Как правило, между закатом и обедом у нас была уйма дел, но в домашней работе как раз наступал перерыв. Ричи всегда пользовался этой возможностью и исчезал «в буш» — он был самым страстным коллекционером из всех нас. В этой стране обитает крупная жаба (Bufo paracnemis) с чудесными глазами в золотых пятнышках и гладкой сухой кожей, красиво украшенной пятнами черного и разных оттенков коричневого цветов. Порою эти существа достигают колоссальных размеров, а восемь дюймов в длину для них вовсе не рекорд. Так вот, Ричи угораздило притащить одну из них, с тускло-оливковой кожей, покрытой крупными бородавками, каждая из которых была увенчана порослью мельчайших, твердых бурых шипов. Но как будто этого мало — он еще заявил, что поймал жабу примерно на двадцатифутовой высоте, на дереве с совершенно гладким стволом. Мы никак не могли ему поверить, а потребовали, чтобы он показал нам дерево.
Ричи без споров согласился, и, пока мы осматривали дерево, с соседнего послышался взрыв громкого клокочущего кваканья.
— Слушайте, — самодовольно сказал Ричи, — еще жабо орал.
Чтобы подтвердить свою правоту, он подошел к дереву и стал на него взбираться. Более того, он без всякого труда изловил вторую такую же сухую жабу, отдыхавшую на развилке в сорока футах над землей. После обеда мы с Фредом лично убедились в реальности этого парадокса, собственноручно поймав несколько особей.
Как эти жабы без всяких приспособлений ухитряются влезать на высокие деревья и почему только самцы — это и есть особи с сухой кожей — туда лезут, а самки — нет? Мы поймали множество самок, и все они были на земле.
В высокоствольных лесах часто можно услышать раскатистый, похожий на трель барабана, звук. Иногда он как бы растягивается, так что отдельные удары хорошо различимы, а подчас состоит только из громкого, звучного двойного аккорда. Первый звук производит дятел, крупный, с серым туловищем и красной шапочкой, добывающий насекомых на вершинах сухих деревьев. Второй издает колоссальная жаба (Bufo guttatus), которая обитает в толстых, дуплистых, но живых деревьях. Жабы этого вида тоже не отличаются по строению от других жаб, только они бледно-кремовые сверху и рубиново-красные со стороны брюшка. Я отдал бы все, что угодно, только бы посмотреть, как эти жабы карабкаются на высокие деревья — не представляю себе, как им это удается.
Жабы не единственные животные в саванне, которые ведут себя необычно. Там полным-полно летучих мышей. Во-первых, там водятся те два вида, которых я уже упоминал, когда рассказывал, что на каждом существует свой вид паразитов, — стреблид. Во-вторых, многочисленные представители рода молоссус — складчатогубы. Это доверчивые, любопытные маленькие создания с карикатурно скомканными ушными раковинами, черными бусинками глаз и длинными крысиными хвостиками. Тело у них увесистое, плотненькое, а крылья небольшие, очень узкие и заостренные. Обычно это робкие создания, как все летучие мыши, но здесь они вели себя в высшей степени странно. Они прилетали и усаживались на обеденный стол, на наши стулья, даже на нас самих. Казалось, они начисто лишены страха: трогай их, сколько хочешь, хоть в руки бери; они только огрызались, как собаки, и с мышиной ловкостью сновали вокруг, пользуясь согнутыми крыльями, как ногами. Десмодус не единственная летучая мышь, которая умеет ходить на четвереньках. Молоссусы бегают по полу и взлетают с любой ровной поверхности, как птицы, — честно говоря, мне кажется, что им на земле куда удобнее, чем в воздухе.
Первые две недели после нашего приезда они продолжали вести себя таким необычным образом, потом перестали. Но позднее, когда мы с Альмой поехали в другое место, чтобы убедиться, стоит ли там заниматься коллекционированием, тамошние складчатогубы просто обезумели от любви к нам. Они тучами летали по дому во время обеда, расползались по столу, висели на спинке Альминого стула и сновали по полу, не обращая внимания на трех домашних кошек. Такое обожание поразило всех, и местные жители уверяли, что никогда ничего подобного не видели. Через три недели на меня вдруг снизошло озарение:
— Альма, ты какими духами душилась, когда мы сюда приехали?
— Боюсь, что не припомню, — ответила она, помолчав.
— Хорошо — это те же самые, какие у тебя были с собой в джунглях, куда мы ездили на несколько дней?
— Да, наверное, те же.
— Послушай, припомни, ради всего святого, что это за духи, — сказал я умоляюще.
— Мне кажется, «Амбрэ д'Орсэ».
— У тебя осталось немного?
— Здесь — нет. Зачем тебе? Они тебе нравятся?
— Неважно, — закажи поскорее еще, — скомандовал я и добавил: — Закажи как можно больше.
По прошествии некоторого времени духи нам прислали, и Альма с явным удовольствием хорошенько надушилась. В тот вечер складчатогубы тучей роились вокруг нее. Так самое доступное вещество послужило и интересам науки, и множеству подобных интересов; доступность его, однако, я имел возможность оценить, когда получил счет на сумму, которой хватило бы на пол-литра любых других духов.
У складчатогубов под подбородком находится большая железа, из которой можно выжать прозрачную, желтоватую, маслянистую жидкость. Она обладает сильным мускусным ароматом, который, возможно, помогает мышам находить друг друга, так как они держатся стаями. Мне кажется, что сверхчувствительное обоняние зверьков улавливает в тонком аромате «Амбрэ д'Орсэ» какую-то составляющую, подобную по запаху или составу их звериным «духам».
Во время этой экспедиции в саванну один день особенно сильно врезался нам в память. Все началось за завтраком, который подавал Ричи, чем-то сильно взволнованный. Я тем временем пытался полностью сосредоточить свои чувства и внимание на тушке еще одного опоссума, который попался в ловушку. Этот вид (Monodelphis brevicaudata) был окрашен в великолепные насыщенные тона красновато-черного и рыжего цветов, а также в тот странный темно-зеленый цвет с желтыми и красными пятнышками, который встречается у некоторых животных вроде белок и древесных землероек. Этот зверек был не крупнее того, желтовато-зеленого, но хвостик у него был очень короткий, почти до половины покрытый густой шерстью. Однако от Ричи не так легко было отвязаться.
Для начала он голыми руками изловил еще один вид опоссума — очень часто встречающийся вид, называемый Metachirus opossum, несомненно, одно из самых юрких существ, обитающих в здешних лесах. Зверек длинноногий, с яркими белыми пятнышками над глазами и с большим ртом. Он пожирает все, что попадается, и живет в основном на земле, хотя умеет ловко лазать по деревьям. Но Ричи волновал вовсе не опоссум. Он без умолку твердил:
— Я слышал зверька на маленьком дереве. Я гляжу, я гляжу, и тут он как скакакнет очень далеко! У него вид такой, как у крысы, которая была в колодце три недели.
Что бы мы ни говорили, нам не удавалось заставить его отказаться ни от выражения «скакакнет», ни от точной оценки срока, который крыса должна была проплавать в колодце, чтобы стать похожей на это загадочное существо. Ричи клянчил у нас ружье и короткий отпуск, чтобы разыскать эту свою крысу-утопленницу, и мне ради собственного спокойствия пришлось согласиться.
Не успели мы кончить завтрак, как прибыл третий вид опоссума — он был привязан к концу длинной палки, которую несли два голых маленьких индейца. Звери всегда прибывают скопом. Этот опоссум (Philander philander) был гладкого рыжевато-коричневого цвета со спинки и ярко-оранжевый снизу, с маленькими мускулистыми ручками и задними лапками, как у лемура, и одет в густой, как руно, мех. Хвост у него неимоверно длинный, с пятнами и крапом серого и розового цветов. Глаза — сверкающие, золотисто-карие и очень большие, а зрачки сужены в еле видную точку. Мы купили зверька и посадили в клетку. Потом занялись обычной дневной работой.
Как всегда, мы измеряли, взвешивали, препарировали улов, принесенный ловушками; он целиком, за исключением карликового опоссума, состоял из щетинистых крыс. Это плотные крысы с длинными задними ногами и длинными, плоскими колючими, хотя и эластичными, иглами, разбросанными среди шерсти у них на шкурке. Шиповатые крысы встречаются в здешних лесах чаще, чем обычные роды, с мягкой шерсткой.
Нам попались пять разных родов крыс, но самыми интересными среди них оказались два вида: большая ярко-рыжая и темно-серая, маленькая. И у тех и у других были длиннющие задние ноги и громадные овальные уши. У нас было три экземпляра совершенно бесхвостых крыс первого вида — трудно представить себе что-нибудь нелепее. Однако в тот незабвенный день на столе лежали три обыкновенные коричневатые лесные крысы (Proechimys warreni) и четыре серые (Echimys armatus), причем последние, все как одна, — без хвоста. Позднее мы расспросили местных жителей и выяснили, что этот вид крыс никогда не бывает с хвостом, и действительно, среди выловленных нами особей не было ни одной хвостатой.
Примерно к тому времени, когда тушка последней из крыс была распялена на сушильной доске, примчался Ричи, ружье, к общему ужасу, он держал на изготовку, направляя на каждого из нас по очереди. При этом со страшной скоростью что-то говорил и улыбался во весь рот. В поднятой руке он держал ту самую «крысу, которая утопла в колодце три недели назад», — во всяком случае, такой у нее был вид.
При более внимательном рассмотрении это оказались жалкие останки крайне истощенной белочки, шкурка которой была пропитана водой до отказа. Ричи не просто застрелил бедняжку, он разнес ее на куски.
Позднее мы выловили еще несколько таких белок — судя по всему, Sciurus aestuans. У них есть одна удивительная особенность, или способность, если можно так сказать. То ли благодаря неизвестному способу регулировать температуру тела, то ли просто из-за структуры шерсти — хотя я не знаю, какое отношение структура шерстного покрова может иметь к этому явлению, — эти белки оказываются покрытыми крупными каплями росы даже в такие ночи, когда ни на растениях, ни на шерсти других животных росы нет. Это происходит даже в закрытой клетке — но не в теплой комнате, — и животные каждое утро оказываются мокрыми и потрепанными, словно и вправду три недели пролежали в колодце, — чтобы высохнуть, нужно время. Для чего служит подобное приспособление, я себе не представляю. Этот вид отличается от других громадными глазами и очень красивой, коричневой с золотом, окраской.
Вечером того плодотворного дня мы все вышли погулять, считая, что полностью выполнили нормативы одного дня по добыче животных. Мы с Альмой пошли в одну сторону, Фред — в другую, и, так как события развернулись в обоих «сафари» (заметьте, именно здесь дурацкий термин употреблен в нужном смысле) одновременно, мне трудновато описать их по порядку.
Мы все пошли в высокий лес позади саванны, но мне хотелось показать Альме то место, где я видел оленей и кустарниковую собаку. Фред пошел налево, к северу, а мы — в южную сторону, пересекая угол дуги, образованный саванной.
Мы вступили в лес немного дальше того места, где я в тот раз вышел и где не было высокой режущей травы. В лесу мы двигались совершенно свободно среди невысокого, редкого подроста и были вынуждены обходить только укрепленные контрфорсами стволы громадных деревьев. У основания многих стволов были зияющие дупла, откуда сыпались кучи мелкой трухи, накапливаясь в углах между корнями-контрфорсами. Мы совали головы в дупла и колотили по стволам или по самим контрфорсам, когда не было риска, что их звук примут за бой деревянных барабанов. Мы не собирались сеять в округе панику, просто нам очень хотелось узнать, не спит ли там, наверху, какое-нибудь ночное животное. В нашей компании никто не верил, когда я уверял, что в один прекрасный день мы найдем в дуплистом дереве не одну ночную обезьянку-дурукули; естественно, я пользовался малейшей возможностью доказать свою правоту.
Альма мастерски ловит лягушек. Ее природная подвижность и многолетняя тренировка, которую она приобрела, прихлопывая ничего не подозревающих мух — у нее привычка делать это молниеносно, внезапно и с непримиримой жестокостью, — не оставляют никакой надежды на спасение даже длинноногим резвым лягушкам-рапидам.
Пока я раскуривал трубку, Альма ловила как раз такую лягушку. Следить за ней было очень интересно. Лягушка может преодолеть прыжком около пяти футов, Альма — не меньше, но лягушка прыгала настильно, оказываясь близко к terra firme[1], а Альме надо было еще успеть приземлиться после прыжка. Кроме того, лягушка прыгала куда попало, а не в каком-то избранном направлении.
Я следил, как они скачут среди деревьев, лягушки скоро не стало видно, и прыжки Альмы стали казаться дикой пантомимой. Я подхватил наши ружья и пошел следом, не навязывая, однако, свою помощь. Как вдруг мы вышли к небольшой изолированной полянке — кусочку саванны, покрытой перемежающимися участками короткой и высокой травы, — а по ней там и сям были разбросаны на влажной почве довольно высокие кусты с крупными листьями. Это природное местообитание длинноногих лягушек, куда наша лягушка и скакала со всей доступной ей скоростью. Попав в свою стихию, она, не останавливаясь, помчалась вперед громадными прыжками, но Альма от нее не отставала. Обе скрылись в куртине высокой травы.
Я немного отстал и оказался левее, потому что шел по прямой.
Когда лягушка, а следом за ней и Альма нырнули в кусты, с другого конца мелькнуло что-то довольно крупное, желтое и скрылось в соседней куртинке. Высокая трава мешала видеть, и я уловил только быстрое движение. Положив на землю ружье Альмы, я как можно тише стал подкрадываться ко второй куртине, ничего не говоря, чтобы не спугнуть второе животное. Когда я подошел ко второй куртине, Альма (очевидно, вместе с лягушкой, которую я не видел) выскочила из первой и нырнула во вторую у меня под носом, прежде чем я успел остановить ее жестом. Затем все повторилось. Что-то мелькнуло как молния и перебежало из второй куртины в третью, более обширную.
Я быстро и молча двинулся к новому убежищу, но в это время Альма внезапно перестала сокрушать кусты. В наступившей тишине мне было слышно почти одинаковое пыхтение из второй и из третьей куртин. На этот раз я решил опередить события и обошел большую куртину. Там я затаился за кустиком, выжидая, что будет делать Альма.
Следующий ее ход, к моему прискорбию, оказался неожиданным. Она громко и пронзительно закричала, и тот, другой пыхтелка мгновенно вырвался из-под укрытия и бросился прямо ко мне. Я изготовился, зверь выскочил из высокой травы, я выстрелил, как только заметил, что там что-то движется, и, разумеется, промазал. На открытое место выскочила желтая, пятнистая кошка. Она встала как вкопанная боком ко мне, и у меня хватило времени для того, чтобы восхититься ее грациозным силуэтом, но не для того, чтобы прицелиться. Поразительно, как медлишь стрелять, когда еще не принял решение, но на этот раз мне повезло: если бы я выстрелил второй раз, я мог бы безвременно овдоветь.
Длинноногая кошка, называемая Leopardus weidii, считается родственницей оцелота. С чисто научной точки зрения родство несомненно, но оцелот — гибкое, лазающее по сучьям древесное животное, а его родственница больше всего напоминает африканского сервала. Она стоит на прямых, стройных, длинных ногах. Уши насторожены, хвост опущен вниз дугой, как у гепарда. Шкура желтая, не очень блестящая, с довольно правильно расположенными черными пятнами.
Кошка застыла всего на мгновение, потом бросилась вправо и скрылась в высокой траве; я послал ей вслед бесполезный выстрел — наугад, по шевелящейся траве.
В ответ на мой выстрел разразилась форменная канонада в гулкой глубине леса, дальше к северу. Как Фред успевал так молниеносно перезаряжать, сказать не могу — я там не был, но выстрел следовал за выстрелом. Тут подоспела и Альма, желавшая знать, что произошло; хотя рассказываю я долго, все это заняло несколько секунд, не больше. Я вкратце сообщил ей обо всем, пока бежал назад за ее ружьем, и мы снова вошли в лес по другую сторону поляны, где скрылась убегавшая кошка, в напрасной надежде ее нагнать.
Битых полчаса мы шарили вокруг, но поиски были тщетны, и мы уже собирались их прекратить, когда увидели красного, как рак, потного дымящегося Фреда, который пробивался сквозь первозданный лес с неподражаемым упорством, свойственным англичанам.
— Эй, ты куда это идешь? — спросили мы его.
Бедняга чуть не свалился в обморок. Он подпрыгнул вертикально вверх и приземлился, держа ружье в первой позиции для штыкового боя. Он-то нас не заметил и, насколько я понимаю, сам не очень точно знал, где находится.
— Ох! Привет! — сказал он с идиотским видом, который напускает на себя человек, которого застали врасплох.
— Привет, старина! Как дела?! — в шутку крикнул кто-то из нас.
В ответ над головой нашего друга разразился дикий концерт и целая банда животных, ломая сучья, с адским шумом бросилась бежать по деревьям.
— Хэй, вон они! — заорал Фред. Это было ясно и без того.
Мы бросились следом за ними, но не догнали. Но когда подошли к Фреду, он показал мне добычу такую редкостную, что я задрожал от восторга.
Мы передавали ее из рук в руки, поворачивая, любуясь. И пришли к выводу, что это обезьяна, хотя с тем же успехом это могло быть и любое другое животное. Прекрасное существо, размером примерно с кошку, было одето в длинный, блестящий, густой и черный, как вороново крыло, мех. Хвост у него был более пушистый, чем у лисицы, ручки и ножки — обезьяньи, а шея и плечи скрывались под широкой черной накидкой. Но лицо! Здесь у меня не хватает слов, и я ограничусь сравнениями.
Контраст между желтовато-оранжевым пятнистым мехом на лице, похожим на короткий густой ворс простенького шерстяного ковра, и длинным антрацитово-черным мехом на туловище казался невероятным. Само животное было загадкой, к которой можно привыкнуть не сразу. Я до сих пор не до конца освоился с его диковинным видом.
Мы присели перекурить, и Фред рассказал, что мой первый выстрел спугнул стаю таких обезьян. Они сидели в засаде на дереве у него над головой. Потом отошли недалеко и снова затаились, и Фред не ожидал, что последует второй выстрел, который их опять спугнет. Увидев, что это необыкновенные звери, он палил вовсю. Наконец одного убил, подобрал и бросился преследовать стаю.
Животное оказалось обезьянкой-саки, принадлежавшей к виду Pithecia pithecia (обыкновенные чертовы обезьянки), но я раньше был знаком с ними только по музейным чучелам, и пришлось менять мнение об их наружности. Обыкновенная чертова обезьянка была меньше похожа на обыкновенную обезьянку, чем любая мармозетка, в том числе и львиная игрунка.
За несколько недель мы купили у местных охотников еще несколько чертовых обезьянок, в том числе и самочек, у которых шерсть зеленовато-серая с проседью, а личики черные, обрамленные редкими, тускло-желтыми бакенбардами. Эти обезьянки обоего пола на жаргоне местных жителей Суринама называются «таки-таки», «бела-лисы уанаку» и «черна-лисы уанаку», что соответственно можно перевести примерно как «белолицые уанаку» и «чернолицые уанаку».
Наше пребывание в саванне подходило к концу, но тут вмешалась сама судьба. Самые крупные тушки животных подвергаются в дождливую погоду большой опасности. В отсутствие жаркого солнца кисти передних и стопы задних лапок не успевают высохнуть, и личинки мух принимаются за свое дело. Мы познали это на горьком опыте, поэтому в ненастную погоду вводили в конечности тушек формалин при помощи громадного шприца. Одного из наших драгоценных саки мы ненароком пропустили, и когда я как-то утром пощупал его лапки, они оказались пугающе мягкими. Я сказал об этом Фреду, и он начал обычный утренний ритуал с инъекции этому экземпляру, который необходимо было сохранить. Игла застряла в кости, и Фред, изо всех сил стараясь ее вытащить, одновременно дернул шприц и случайно нажал на поршень — рука соскользнула, игла осталась в кости, соскочив с насадки шприца, а сильная струя страшно едкой, жгучей жидкости, ударив в канюлю иглы, брызнула обратно, прямо ему в глаза.
Можно себе представить, какая это была дикая боль — веки у него покрылись большими пузырями, глазные яблоки были обожжены, тонкая слизистая оболочка внутри, под ресницами, была съедена начисто — до кровоточащих алых полосок. В таких случаях даже горячее сочувствие бессильно, и мы, облегчив по мере сил его страдания при помощи подручных средств и лекарств, поспешили доставить его в Парамарибо. А там я — надо же случиться такой глупости! — подхватил инфлюэнцу, свалился в постель и на некоторое время выбыл из строя.
Среди тростников
Странная рыба, гигантская выдра и плоские жабы
Свой следующий временный дом мы построили, как нам показалось, на заросшем тростником берегу реки. Речушка, по которой мы поднимались вверх с натужным пыхтением, многие мили текла среди высокого леса, и вдруг мы вышли из зеленого коридора в пойму, где река вилась среди безлесных берегов. Вместо деревьев здесь росли гигантские тростники и травы, и, хотя безлесные участки тянулись всего ярдов на сто вдоль реки, вглубь леса они простирались больше чем на милю. Это был неожиданный, странный уголок, где потоки солнечного света, стрекотание миллионов насекомых и густой аромат прибрежных растений смешивались в почти осязаемый воздушный настой, действовавший одновременно на все органы чувств. За то время, что мы там пробыли, ветерок ни разу не тронул листву деревьев. Мне частенько казалось, что зелень вокруг растет буквально на глазах, со скоростью, грозящей в будущем задушить нас и стереть с лица земли наш след. Тростники и трава вымахали на наших глазах почти на целый фут!
Собственно говоря, мы попали сюда проездом, намереваясь работать гораздо дальше, а в этом местечке собирались только переночевать. Кроме того, проклятый цилиндр, единственная наша тягловая сила, подгадал как раз к тому моменту, когда мы вышли из леса, и со зловещим шипением и скрежетом отказался работать. Когда замерли лязганье и стук единственного поршня, а труба испустила последний гулкий вздох, кругом воцарилась полнейшая тишина. По открытой травянистой долине раскатистое эхо разносилось и вправо, и влево. Радостное стрекотание насекомых поднялось со всех сторон в предзакатном сиянии, но оно скорее усиливало, чем нарушало, тишину затерянного мирка. Когда мотор заглох (а это у него вошло в привычку), никто из нас долго не находил слов. Всех, особенно Фреда, удручала реальная перспектива провести долгие нудные часы за копанием в грязных, истекающих маслом внутренностях мотора. Мы начали было привыкать к безмолвию, когда Фред внезапно громко чертыхнулся, и тут даже Андре едва не потерял равновесия — таким громом прокатилось по обоим берегам, бесконечно повторяясь, слово «черт». Представьте, что вы от всей души выпалили это слово и услышали, как его со всех сторон повторяют с той же интонацией окружающие вас величавые деревья-великаны.
Наш маленький караван лениво плыл по инерции и наконец тихо приткнулся к небольшой илистой отмели. Громадные сердцевидные листья фантастического гигантского арума двинулись нам навстречу, пробираясь между нами, будто хотели ощупать наши лица. Золотой свет вечернего солнца создал такое мистически-прекрасное освещение, что мы сидели молча, созерцая закат. В цивилизованном мире непременно надо действовать, особенно в такие минуты, когда у вас произошла поломка в машине и это грозит перевернуть все ваши тщательно продуманные планы. Вся прелесть тропиков в том, что наслаждение красотой там неизмеримо важнее всех дел, а так как у нас было полно еды, воды и времени, то нам просто не пришло в голову, что можно или нужно что-нибудь предпринять.
Стая синих с красным ара, громко крича, пролетела над вершинами деревьев и опустилась на почти лишенные листьев ветви акации прямо у нас над головой. По свойственной им привычке они расселись парочками и принялись лущить длинные зеленые стручки, которые природа словно нарочно развесила гирляндами для их пропитания. Они болтали и перекликались крякающими голосами — ни дать ни взять, конкурс чревовещателей. Болтовня оказалась прилипчивой — Андре и Ричи бойко вступили в общий хор, и волшебное очарование рассеялось.
Со вздохом Фред открыл кожух мотора и заглянул в его дымное чрево. В эту минуту я глубоко ему сочувствовал, сознавая свою никчемность, так как помочь был не в силах. Я ничего не понимаю в машинах; научиться тоже не сумел, хотя, бог свидетель, старался как мог. Поэтому Фреду предстояло в одиночестве воскрешать наш сдохший цилиндр. А если ему это чудо не удастся, нам придется пройти на веслах до Парамарибо удручающе многозначное число миль. Бедняга Фред! Я преклоняюсь перед истинно британским упорством, с которым он снова и снова чинил треклятый цилиндр. Но на этот раз сочувствие меня одолело.
— Брось эту чертову штуку, — сказал я самым командирским голосом, какой смог из себя выжать.
Фред продолжал мрачно глядеть в недра мотора. Он редко отвечает, особенно когда сердит — а на этот раз он был сердит не на шутку.
— Право, не стоит, — уговаривал я. — Эта жестянка не заведется раньше чем через два часа. Посмотри, какая красота кругом. Заночуем здесь, и все. Брось, отвлекись.
— Ума не приложу, что еще там стряслось, — угрюмо пробормотал Фред. — Хоть бы кто мне сказал, что ему от меня нужно.
— Хррр-грак, хрр-грак, — послышалось в ответ из ближайшей заросли тростника.
Ответ подоспел настолько вовремя, что все мы покатились со смеху. Это подбодрило невидимого запевалу и компанию его приятелей. Зычные «хрр-грак» послышались со всех сторон, разносимые эхом по травянистой пойме.
— Новый вид лягушки, — заметила Альма. В тропических странах очень быстро начинаешь различать голоса самых разнообразных лягушачьих видов. Это вовсе не трудно. Одни лягушки дают двойной свисток, другие тикают, а некоторые такают; остальные издают звуки, которые на бумаге просто не изобразить.
— Ну вот, это решает дело, — сказал я. — Ричи, разводи огонь, пора перекусить.
Несколько минут спустя все были заняты, и про цилиндр благополучно забыли. На нашей маленькой флотилии жизнь текла очень приятно и вовсе не беспорядочно. Скатав занавеску с одной стороны яхты и завернув брезент на примыкающей к ней стороне лодки, мы объединяли свое жилое помещение впереди мотора с буфетной — пространством, занятым ящиками с пищевыми припасами, водой и сигаретами. Опустив занавес, мы получали закрытое помещение на корме яхты для мытья и переодевания; а на корме лодки прибили лист гофрированного железа. На нем можно было разводить костер и готовить пищу. Поближе к корме лодки располагались ящики с посудой и едой. Для дождливой погоды мы приспособили рабочий стол размерами почти в пять на два с половиной фута, который вдвигался в пазы и перекрывал почти все наше жилое помещение. Это создавало поразительно комфортабельную обстановку. В свободное от работы время мы главным образом удили — ловили пири на загнутые булавки, привязанные к бечевке на конце удилищ из пальмовых стеблей. Улов был скудный, зато удовольствия — бездна.
В этих местах водится разнообразнейшая и интереснейшая рыба. Эти самые пири (Serrasalmo piraya), в других странах Южной Америки известные под названием пирана, пиранья, пирайя и так далее, иногда ведут себя как кровожадные чудовища. Мальки треугольной формы и довольно мирного характера стайками мелькают среди тростников. Подрастая, они становятся все больше похожи на обычных рыб, но челюсти у них вырастают устрашающие. Обе — и верхняя, и нижняя — усажены рядами острых как бритва треугольных зубов. Когда челюсти смыкаются, зубы одной челюсти входят в промежутки между зубами другой челюсти, так что голова рыбы кончается сплошным полукруглым рядом тесно сомкнутых, как две пилы, клыков цвета слоновой кости. Пираньи — плотоядные в самом прямом смысле слова.
Как утверждают, можно спокойно плавать среди стаи этих зубастых чудищ, пока у вас кожа в целости, но, если на ней есть хоть одна царапина, пири немедленно нападают. Судя по тому, что мы видели собственными глазами возле места, называемого Републик, на реке Коропайн, результаты могут быть ужасные. Местные жители убили козу и по каким-то причинам выбросили одну ее ногу; мы проходили в лодке мимо и не могли разузнать причины такой явной расточительности. Человек, разделывавший тушу, швырнул этот кусок мяса в реку. Не успел он коснуться воды, как под ним началось что-то вроде извержения подводного вулкана и на месте, где никаких признаков присутствия рыб не было, замелькало множество серебристых тел, вырывавшихся из глубин темно-рыжих вод. Кость с мясом даже не успела погрузиться в воду. Она плясала на поверхности, порой выскакивая вверх, и в считанные минуты мясо просто растаяло у нас на глазах, только обглоданная окровавленная кость подпрыгивала в оранжевой пене.
Андре и Ричи дважды в день купались в любых реках и речушках, по которым мы проходили, хотя повсюду было полно пири. Это я знаю твердо, потому что, хотя рыболовы мы никудышные, в течение года мы выловили массу пири всех размеров. Но перед самым концом путешествия мы все пережили шоковое состояние. Нам повстречалась женщина, которую только что укусила пири; она стирала в реке белье, и громадная рыбина выскочила из воды и отгрызла кусок мяса, словно вырезав полусферу бритвой.
Но в этой стране водится рыба и пострашнее, по-латыни она называется Vandellia cirrhosa и обычно обитает в жабрах сомиков. Она крохотная, нитеобразная и по необъяснимой причине питает пристрастие к мочевой кислоте в любом виде. Когда животные или люди купаются или просто стоят в воде, это жуткое создание внедряется в мочевой канал и пробирается в мочевой пузырь. Случается, злодейка застревает в мочевом канале, а иногда погибает уже в мочевом пузыре своей жертвы, вызывая раздражение и воспаления, что сопровождается ужасной болью, а подчас приводит и к смерти.
Самая крупная из пресноводных рыб — арапаима (Arapaima gigas) — живет в реках Гвианы. Она вырастает до пятнадцати футов в длину, но ведет ленивый, придонный образ жизни. Еще там водится логолого. В одних районах так называют электрического угря, а в других — другую рыбу, менее интересную.
У электрического угря громадный запас электричества в природных батареях. Он может при их помощи давать исключительно сильные разряды, и такой удар, как уверял при нас доктора один фермер-бур, уложил на месте одну из его лошадей. Фермер рассказал, что лошадь, которую загнали в воду на мелком месте, чтобы напоить, выскочила, подогнув ноги, как пальцы в кулак, и свалилась, дрожа крупной дрожью. Не прошло и минуты, как она была мертва. Правда ли это, сказать не могу, но рассказ подтверждается другими свидетелями, видевшими действие ударов этого угря.
Во время упомянутой задержки в путешествии мы стали интересоваться рыбами. Между бортом яхты и илистой отмелью вода была достаточно мелкая и поэтому прозрачная, несмотря на темно-рыжий цвет. В первый же вечер, пока мы дожидались обеда, Альма заметила, что между корнями тростников расхаживают какие-то мелкие темные существа, напоминающие миниатюрных королевских крабов. Мы подумали, что это какие-то ракообразные — их мы собираем очень старательно, — и попробовали одного поймать. Но они разом исчезли и вернулись нескоро. Мы стали осторожнее и вытащили небольшие сачки. С помощью сачков и бесконечного терпения мы наконец оттеснили одно из существ на удобное место и поймали его.
Мы вытащили сачок с чувством глубокого удовлетворения, а я торжествовал, полагая, что изловил новый тип ракообразных. Как часто тешишь себя мечтами, что нашел недостающее звено, которое вымерло двенадцать геологических периодов назад! Я почти убедил себя, что у нас в сетке — первый живой трилобит; тщеславная глупость такого предположения понятна любому зоологу. Поэтому поведение нашей добычи меня несколько раздосадовало. Когда мы втащили на борт мокрую сеть, раздался громкий щелчок и весь муслин собрался в тугой комок. Мы стали дергать и расправлять ткань, соблюдая осторожность, чтобы драгоценная добыча не отбросила ножку или усик, как часто делают ракообразные. Но стоило нам освободить одну складочку, как раздавался щелчок и комок закручивался еще туже. Наконец у меня лопнуло терпение, и, применив силу, я резко развернул муслин. Щелчок — что-то выстрелилось из сачка и прыгнуло прямо на Альму. Альма пронзительно завизжала. Тогда нечто черненькое сигануло обратно на малую палубу, ловко юркнуло в щель между досками палубы и карбюратором мотора и скрылось в воде на дне трюма.
Тут начался чистый цирк: нам хотелось вернуть свою законную добычу, кроме того, у нас уже был печальный опыт, когда что-то живое утопало в этой воде и начинало разлагаться. Чтобы добраться до беглеца, пришлось перетаскать целую гору груза на лодку и снять весь палубный настил. Стемнело, обед был испорчен, и Ричи отказался нам помогать. И вот при свете керосиновых ламп, качающихся в темноте, мы бродим среди невидимых досок, скользких от машинного масла, в черной маслянистой воде примерно в фут глубиной и гоняем от кормы к носу и обратно нечто неизвестное и способное на любые сюрпризы. Переборки на яхте были из металла, с круглыми дырками дюйма два в диаметре, через которые трюмная вода свободно проникала в центральный отсек, где работала помпа. Таинственное существо проскальзывало в эти дырки с неимоверной легкостью.
Мы выкачали воду помпой, насколько смогли, но внизу осталась цепочка лужиц черного масла. В наилучших традициях создателей Британской империи мы уговорили простодушного туземца обследовать все лужицы по очереди голыми руками: деяние довольно постыдное, но все же увенчавшееся успехом — в конце концов мы вытащили чужими руками из грязи комок, который судорожно дышал. Когда мы его тщательно отмыли, это оказалось вовсе не ракообразное, а диковинная рыба.
Эта диковинка — сом-броняк (Doras cataphractus) — покрыта отчасти панцирем из чешуи, как крохотный осетр. Грудные плавники, изогнутые, как ятаганы, сделаны словно из крепкого, негнущегося, сплошного металла. Рыба может резко прижимать их к телу, а так как внутренние ребра снабжены рядом похожих на зубы шипов, то плавники могут не только удерживать, но и врезаться в самые крепкие предметы. При этом странная тварь еще выпускает из железы у основания плавников какую-то белую вязкую жидкость в большом изобилии. Да, мне редко приходилось видеть в природе такую совершенную приспособленность к среде обитания.
Наконец мы все-таки пообедали на крыше, и, признаюсь откровенно, я воспользовался первой возможностью и самым неуклюжим предлогом — кажется, сбором хвороста, что прекрасно мог взять на себя Андре, — чтобы удрать в челноке, который был привязан сзади для мелких вылазок. Во время обеда нам не мешали ни комары, ни песчаные мухи, а лягушки продолжали «хрр-гракать» оглушительным хором. Я весь был охвачен зоологическим любопытством, что весьма удачно сочеталось со столь же ярко выраженным отвращением к возне с досками палубного настила, перегрузке пожитков обратно на яхту и устройству ночлега. Поэтому я и спасся бегством на челноке, прихватив сильный фонарь, несколько длинных и тонких бутылок с навинчивающимися колпачками, сачок и запасное весло.
Рискуя выслушать упрек в том, что даю волю своему воображению, я все же хочу попытаться передать хоть отчасти то впечатление, которое производила на меня мистическая прелесть той ночи, как и многих других тропических ночей. Тихо опуская весло в черную, как тушь, воду, я гнал легкий челнок среди гибких, статных водяных растений, молчаливо стоящих в теплой тьме, и вдруг начисто отрешился от безнадежно запутанного клубка мирских забот, от политических интриг и коварных лодочных моторов и вступил в волшебную страну, полную мира и безмятежного спокойствия. Яркая золотая луна взошла над травами и озарила лощину, обводя мокрые ребра листьев ярким сиянием, как будто они светились собственным светом. Тени стали непроглядно черными, незнакомые птицы покрикивали в кронах деревьев, среди тростников мелькали светящиеся жуки, и кое-где узорные листья слегка качались, когда ленивое течение ласково трогало стебель, уходящий глубоко в воду. Безмолвие и покой обняли меня, и я плыл по течению в полной гармонии с миром, позабыв о реальности.
На этот раз моя отрешенность от бренного существования швырнула меня головой вперед в кучу листьев, кишевшую громадными муравьями, укус которых жег не хуже осиного жала. Я оскорбил прекрасную ночь самыми непозволительными выражениями, быстро отогнал челнок от берега, сбросил одежду и стал смахивать мучителей, опрокидывая бутылки, а в довершение всего встал коленом на весло и сломал его пополам. Когда мучения кончились и преследователей поглотила тьма, я прочно застрял в тростниках. И тут почти у самого моего уха раздалось зычное «хрр-грак!».
Я включил фонарь и долго шарил лучом вокруг, но не увидел ничего, кроме сплошной стены тростника. Попытался заглянуть дальше, но ведь челнок может превратиться в орудие пытки — как раз когда тебе нужно заглянуть в определенное место, он плывет самостоятельно в противоположную сторону. Я проталкивал челнок дальше, а лягушка осыпала меня издевательскими «хрр-граками». Вблизи этот звук обладал потрясающей мощью. В моем воображении стала формироваться колоссальная раздутая жаба (как вы уже поняли, бесценный и никем не описанный новый вид), сидящая на удобном большом листе, откуда ее можно смахнуть одним движением сачка. Но природа не так проста. Крики не умолкали, а я продолжал поиски, и, хотя мои барабанные перепонки едва не лопались, найти существо, издававшее звук, я не мог.
В таких переделках доходишь до грани безумия. Вот крик раздается прямо у тебя под носом, но стоит приблизиться, как он умолкает и его подхватывают два или три хориста в разных местах, только значительно дальше. В отчаянии бросаешь ближнего и гонишься за остальными — только для того, чтобы пережить все сначала.
Вдруг я буквально увидел звук! На некоторых тростниках были колосья с желтыми зернами, и одно такое зерно неожиданно раздулось, опало и снова стало раздуваться толчками, одновременно издавая тот самый звук. Кажется, я сошел с ума — или в мире есть орущие растения! Мне сделалось сильно не по себе, но я решил подождать и присмотреться. Зерно снова раздулось, как домик в диснеевском фильме, когда внутри идет потасовка, да как гракнет! Я схватил в горсть весь колос и сорвал его. Потом зажал фонарь в зубах и стал осторожно разжимать горсть и всматриваться в содержимое.
Среди зерен сидела крохотная лягушечка бледного кремово-желтого цвета, с громадными черными глазищами. Я поместил ее в одну из длинных бутылок и застыл в трансе. Через тридцать секунд из бутылки донесся приглушенный «хрр-грак», я зажег фонарь и увидел, что моя прелестная маленькая лягушка сидит вверх брюхом на скользком стекле и старательно покрикивает, раздувая горлышко в идеальный, размером с горошину шар, как две капли воды похожий на зерна в колосьях. И этот оглушительный шум устраивало такое крохотное создание! Неудивительно, что я так долго ее не замечал, — уверен, что не раз смотрел прямо на этих лягушек, но так и не видел, что у меня под носом, — ведь я искал нечто раз в сто побольше.
В поисках лягушек я выбрался на берег возле дальней окраины леса. Здесь травы почти не было — одни тростники. Берег высотой около четырех футов, земляной, крепкий. Я всю ночь вспоминал это место, пленившее мое воображение. Наутро Фред ни свет, ни заря начал чинить мотор. А я снова отправился к тому берегу, который показался мне еще более приятным, чем вчера ночью. С час я раздумывал, а потом поплыл обратно к яхте посоветоваться с Альмой. Она меня поддержала, и я дал приказ подтащить яхту вверх по течению, разгрузить и построить постоянный лагерь на том месте. Фред с глубочайшим вздохом облегчения побросал инструменты в ящик и решительно закрыл кожух мотора. Через два часа мы расчистили от тростника порядочное пространство и возвели из молодых деревьев каркас уютной мхупы. К вечеру мы, в общем, устроились.
Некоторое время жизнь текла мирно и спокойно. Расставили линии ловушек, собрали с тростников множество мелких лягушек, заинтересовались водяными улитками, выкапывали из нор в ближнем лесу броненосцев и загорали на солнышке. Но в один прекрасный день, когда Ричи и Андре ушли якобы ловить летучих мышей, а скорее всего устроили себе послеполуденную сиесту, Альма спала, покачиваясь в гамаке, а я сидел, размышляя о вечности, произошло сразу два события.
Во-первых, Фред решил снова заняться цилиндром, а во-вторых, из воды высунулась голова и рявкнула на меня. По сути дела эти два события никак не были связаны между собой, но цепи причин и следствий порой странно переплетаются.
Когда мои метафизические размышления нарушило явление головы, я никак не ожидал, что она рявкнет прямо мне в лицо. Это оскорбление застало меня врасплох и вызвало молниеносную реакцию, которая в свою очередь застала врасплох Фреда. Я схватил ружье и прыгнул на плоский нос яхты, чтобы следующим прыжком перепрыгнуть в челнок. Когда я обрушился на палубу, яхта качнулась и сильно накренилась. Что-то скатилось с крыши и, подняв фонтан брызг, скрылось в янтарной глубине. Не придав этому значения, я прыгнул на крышу. Тут я мельком увидел лицо Фреда, высунувшееся из-под крыши, и застыл как вкопанный. Лицо Фреда исказилось таким жутким отчаянием, какого я еще не видел. Он горестно возопил:
— Айвен! Это же арматура!
Я был ошеломлен и онемел от собственного невежества — это слово для меня ничего не значило, и я решил, что мой почтенный сотрудник слегка спятил. Должно быть, я стоял, вылупив глаза и идиотски ухмыляясь, чем вызвал новый приступ горя.
— Пропало, все пропало! — причитал Фред, в отчаянии глядя в воду. Затем он совершил поразительный трюк. Без видимого усилия, не двинув ни одним мускулом, он вылетел из трюма яхты, описал в воздухе крутую параболу и нырнул вниз головой в воду. Нырнул и надолго исчез. Я всерьез начал подозревать, что стал свидетелем самоубийства на почве временного помешательства.
Наконец он вынырнул, и даже льющаяся с волос вода не могла скрыть страдание, написанное у него на лице. Только теперь, держась за борт лодки и по шею погрузившись в тихую воду, он объяснил мне, торчащему на крыше под солнцем, что самая важная часть магнето, которое в свою очередь является самой важной частью нашего мотора, представляет собой механизм, называемый «арматура» — то самое, что скатилось и кануло в воду. Далее мне было с некоторой горячностью разъяснено, что драгоценная деталь была помещена на крыше, как в самом безопасном месте, просушиться на солнышке. Собственно, как я понял, это была единственная часть мотора, которая должна была оставаться сухой.
Убедившись, что я проникся важностью постигшей нас катастрофы, Фред снова скрылся в глубине. Я ждал в горестном молчании.
Внезапно справа от меня вынырнула голова, и я, уверенный, что это Фред, повернулся в ту сторону, сделав пируэт. Но голова, свирепо рявкнув, ушла под воду. В тот же миг вынырнул Фред. Он подплыл к яхте и уцепился за борт. И разгорелась перепалка. С чего это я прыгнул на лодку? А потому, что из реки высунулась голова и рявкнула мне в лицо! Чепуха собачья, услышал я в ответ. Но я не сдавался — да, высунулась и рявкнула и вот только что опять это повторила. Я получил в ответ яростный взгляд и прямое утверждение, что я лгу. Я указал на то место. Фред поплыл вокруг лодки, чтобы убедиться собственными глазами.
Стоило ему отвернуться, как таинственная голова высунулась в том месте, где он только что был, но не рявкала, а просто смотрела на меня.
— Фред, скорей! — заорал я. — Вот она!
Фред повернулся, поднимая брызги, но, конечно, голова уже скрылась под водой. Заклеймив меня презрительным взглядом, Фред забрался в лодку. Он не произнес ни слова, но я чувствовал, что он всерьез усомнился в моей порядочности.
Должен честно признаться, что до меня тогда еще не дошла вся серьезность случившегося — я весь был поглощен тайной рявкающей головы. Я смутно понимал, что за арматурой, какова бы она ни была, придется нырять. Но Фред был преисполнен мрачной решимости. Он пошел в лес и поднял крик, вызывая Ричи и Андре, а я все стоял, ожидая, что голова снова вынырнет из воды. Когда помощники подоспели, Фред велел отвести лодку с этого места и вырубить шесты подлиннее. Я наконец заинтересовался делом и предложил свою помощь, которая была принята без энтузиазма.
Ныряли все по очереди, но речушка оказалась очень глубокой — добрых тридцать футов, и глубже всего именно там, где утопла чертова арматура. Мало того, Андре доложил, что все дно утыкано корягами и громадными стволами, между ними неровные ямы, а дно — сплошной жидкий ил. Фред еще больше насупился, а я наконец понял, в какую переделку мы угодили. В моем воображении выстраивалась бесконечная череда дней, когда нам придется, изнемогая, спускать перегруженные лодки на сотни миль вниз по реке, а потом возвращаться против течения, запасшись новой арматурой, или как там ее называют. Я готов был на все, только бы избежать этого.
Единственное, что нам оставалось, — нырять на дно. Надо же было появиться Альме, отдохнувшей и чистенькой после сиесты и купания, когда мы все одновременно плескались в воде, — а прошло уже больше часа.
— Хэлло! Купаетесь? — жизнерадостно окликнула нас она.
— Нет, в карты играем: разве не видно? — огрызнулся кто-то.
— Глупая шутка. Что это вы делаете с шестами в воде?
— Понимаешь, самая нужная деталь мотора свалилась в реку.
— А почему вы за ней не нырнете?
Слова застряли у нас в горле, и мы все разом нырнули. До вечера мы тщетно ныряли, а выныривая, тщетно пытались объяснить Альме, почему мы этим занимаемся, пока кто-то не проронил слово «чай», после чего все, как по сигналу, наперегонки бросились в лагерь. Во время торжественной чайной церемонии Фред хранил гробовое молчание, я без конца извинялся, валя все со своей головы на выныривающую откуда ни возьмись и рявкающую, а Альма превесело болтала. У Фреда наконец лопнуло терпение, он встал и ушел.
Спустя некоторое время он громко кликнул Андре, и вскоре из-за тростников донесся гулкий стук чего-то железного. Я пошел посмотреть и увидел, что они тащат волоком помятую четырехгаллонную канистру из-под керосина.
— Что здесь имеет место быть? — вопросил я, заметив, что Фред явно приободрился.
— Это, ваше сиятельство, — ответил он, указывая на жестянку, — имеет быть водолазный колокол.
Я сбегал за Альмой, и мы благоговейно следили, как странное приспособление напяливали на голову Андре. Над плечами были вырезаны полукруглые выемки, плотно прилегавшие к телу, а с обеих сторон пониже подмышек в жести просверлили дырочки, через которые пропустили носовые платки — туго затянутые, они прочно закрепили устройство на голове. Потом в дно реки на том месте, где утонула арматура, воткнули два шеста, и Андре стал потихоньку спускаться в положении стоя, перебирая руками по шестам.
Несколько раз он опускался на пять минут и после четвертого погружения вылетел с громким воплем в туче брызг и пузырей. Из-под канистры он кричал нам, что нашел ее, и тянул вверх руку с драгоценной находкой.
Андре осыпали поздравлениями, и всеобщее ликование испортил только я, не к месту помянув рявкающую голову. Фред буквально испепелил меня взглядом и вернулся к мотору. Я огорчился и пошел с Андре осматривать ловушки.
Когда мы вернулись, в лагере не было ни души. Таинственное исчезновение! Потом Андре заметил, что челнока нет на месте. Приближались сумерки. Я побрел к берегу, и, как только вышел к реке, что-то громогласно рявкнуло справа от меня, и в ту же минуту у меня за спиной в опасной близости прогремел выстрел. Я подпрыгнул и обернулся назад — вся наша компания сгрудилась в челноке, прямо у меня под ногами.
— Эй, что тут происходит? — спросил я.
— Тс-с-с! — зашипели все разом.
Я молча забрался в челнок и взял у Ричи весло. Фред шепотом извинился и указал куда-то вперед. Мы оттолкнулись от берега и тихо поплыли вверх по реке.
Добравшись до места, где выныривала голова, мы стали осматриваться. Через несколько минут у нас за кормой раздалось рявканье, и тут, оглянувшись, мы успели увидеть голову, которая, поднимая волну, плыла по воде гораздо ниже нашего лагеря. Мы поспешно развернулись и погнали челнок назад. Это повторялось раз пять или шесть — голова то высовывалась в самых неожиданных и удаленных друг от друга местах, то исчезала. Мы решили устроить загон, шлепая веслами по воде.
Отчасти мы добились желаемого эффекта. Голова высовывалась из воды впереди нас, и мы ее догоняли. Наконец, уже не прячась под воду, она поплыла впереди и свернула в небольшой ручеек. Мы с бешеной скоростью заработали веслами.
Русло ручейка было заполнено растущими в воде деревьями, подростом и лианами. Русло ветвилось и извивалось, пробираясь то среди высоких берегов, то среди широких затопленных пойм, сквозь тесный строй колючих пальм. Временами мы видели голову, а иногда до нас доносилось из-за деревьев только рявканье. Наконец мы вышли к очень мелкому месту, где обладатель головы наконец-то вылез из воды и зашлепал дальше вброд. Мы увидели его только мельком, но успели заметить длинное туловище на коротких лапах. Мы погнали челнок и скорее ввинтились, чем въехали, в заросли на небольшом склоне, где воды уже не было. Вытянув челнок на берег, мы высадились. Фред, у которого было ружье, нырнул в заросли. А я, разувшись в челноке, чтобы удобнее было упираться в скользкое дно при гребле, теперь отстал — земля в лесу была густо усеяна шипами и колючками. Фред исчез из виду.
Вдруг разразилась настоящая канонада, а за ней послышались призывы о помощи. Когда мы подбежали, Фред стоял по пояс в заводи, а у ее дальнего берега что-то металось и ревело — иначе я не могу это описать. Мы рассыпались цепью и вооружились палками, но не успели подойти к зверю, как он сделал гигантский прыжок и затих, плавая у самой поверхности воды. Мы вцепились в него и вытянули на берег.
Зверь оказался выдрой невиданных размеров — больше шести футов от кончика носа до кончика хвоста. Это был первый из добытых нами экземпляров гигантской выдры (Pteroneura braziliensis). Мы тут же уселись и принялись ее рассматривать.
Выдры все в основном похожи друг на друга — у них гладкий густой мех, мощные хвосты и плоские головы. Эту выдру отличали типичные признаки, доведенные до крайности. Голова у нее была очень широкая и плоская, с мордой, как у акулы. Глазки крохотные, ноги настолько короткие, что вряд ли подходили для чего-нибудь на суше, играя в воде роль плавников. Между всеми пальцами до самых когтей натянута перепонка, на хвосте с боков были негнущиеся ребра, позволявшие рулить с помощью хвоста, перемещаясь вверх и вниз в водной стихии. Зверь весил пятьдесят фунтов, и желудок у него был битком набит рыбой, главным образом пири, к тому же он, судя по всему, закусил еще кладкой крупных — крокодильих или птичьих — яиц.
Я уже говорил, что животные в природе встречаются скоплениями, или сообществами. На этот раз случайная остановка привела нас в одно из таких чудесных мест. Тростники, прилегающий к ним лес, вода и воздух были полны живых существ. Мы частенько наведывались на болота, примыкавшие к ручейку, куда мы загнали выдру. Мы с Альмой однажды вечером сидели, поджидая птиц, которые каждый вечер в сумерках слетались на ночлег к воде, в надежде подстрелить какую-нибудь из них на ужин. Но птицы так и не прилетели, и мы засиделись, беседуя о том о сем, до глубокой темноты. В лесных болотах вечно что-то шуршит, хлюпает или внезапно чавкает грязью, поэтому мы не обращали внимания на окружающее.
Потом мы замолчали, Альма предложила пойти и разведать, что это там чавкает. Мы подползли к самому краю воды и залегли в засаде. Когда послышался очередной чавкающий звук, мы включили фонарь. Через несколько минут мы заметили какие-то небольшие треугольные заостренные предметы, тихонько поднимающиеся над водой и снова ныряющие со смачным чавканьем. Мы перешли на дерево, нависающее над водой, и затаились там. И точно, эти штучки снова стали выглядывать из воды прямо под нами. Мы дружно попытались схватить их, и оба остались с пустыми руками. В этом месте чавканье прекратилось.
Мы обошли загадочное место кругом и устроили новую засаду. Немного времени спустя высунулся один-единственный треугольник, и мы разом протянули туда руки, почему-то впопыхах нахватали мертвых сучьев и запутались в них. У меня в руке оказалось нечто живое, оно изо всех сил рванулось и вырвалось бы на свободу, если бы не ловкость Альмы, выработанная при охоте на мух. Ее рука взметнулась как молния и схватила добычу. В ту же минуту я уронил фонарь в воду. Альма закричала и сунула добычу мне. Я хорошенько в нее вцепился и не выпускал.
Мы завернули трофей в носовой платок и выудили фонарь, продолжавший светить в мелкой воде. Нам попалось животное, которое мы искали чуть ли не всю жизнь! Это была пипа (Pipa Americana), одна из примитивнейших по положению в систематике лягушек. Этот потрепанный блин, обернутый в обвисшую кожу, — точь-в-точь обыкновенная жаба, которую сплющило тяжелым грузовиком. Кожа слегка бородавчатая, зернистая. Голова треугольная и совершенно плоская, как картонка спичек, глаз почти не видно. На подбородке и в углах рта ветвятся нитевидные выросты вроде водорослей, похожие на маскировку, скорее это дополнительные жабры. «Ручки» маленькие, но толстые, пальцы все длинные и тонкие, словно без костей, и кончаются мягкими на ощупь звездочками. Они действуют как щупальца. Задние ноги очень длинные, а ступни громадные, с пальцами, соединенными перепонкой, как крылья летучей мыши. Часто пипы прикидываются мертвыми — их можно вынимать из воды, тыкать пальцем, тянуть за лапки — они абсолютно расслаблены и инертны. Вдруг мощные задние лапы оживают, и стоит им найти опору, как они катапультируют животное на много ярдов.
В период размножения кожа на спине самки набухает и икринки располагаются на ней в отдельных карманчиках. В этих карманчиках икринки развиваются, и крохотные мелкие лягушата еще некоторое время спасаются там от опасности, прежде чем покинуть родительскую спину.
В этой поразительной стране, кажется, все группы животных представлены самыми замечательными видами. Лягушки не уступают рыбам или млекопитающим. Кроме пипы водится довольно невзрачная мелкая водяная лягушка с заостренным рыльцем и туловищем, как у пипы; у нее благозвучное имя — Pseudis paradoxa. Головастики этого вида вырастают до шести дюймов и гораздо толще взрослой лягушки.
Как-то к вечеру в наш лагерь явились гости. Мы отдыхали после обеда, и кухонный очаг погас. Перед самым закатом ветер донес какой-то шорох с другого берега, поросшего травой. Мы видели, как колышутся тростники, и слышали непрерывное хрустенье. Вечер был душный; вдалеке погромыхивал гром. Мы пошли навстречу непрерывно приближавшимся звукам и наткнулись на большое стадо диковинных животных — это были капибары. Мы тихо сели на опушке леса, откуда была видна вся травянистая долинка, и стали наблюдать.
Капибары лениво паслись или лежали в траве, как стадо послушных свиней. Вдруг из лесу справа от нас донесся шум — как будто танк ломился через заросли. Что-то трещало, хлюпало, ломались сухие сучья, рушились стволы. Капибары отступили к реке, а мы встали, чтобы было лучше видно. Шум приближался, перерастая в рев; внезапно с берега низвергся водопад, несущий мусор, обломки сучьев и мелких стволов. Поток разлился по ровной пойме и, змеясь, побежал к реке. Новая река вырвалась из леса, пробивая и расчищая себе путь.
Тут мы заметили второй поток на том берегу, позади нашего лагеря, за ним — третий, а там и четвертый. Они наступали на нас со всех сторон, перекрывая путь отступления к лагерю. У нас часа четыре не было дождя, но теперь мы поняли, почему трава так густо росла в этом прелестном каньоне среди деревьев. Да это просто-напросто два русла притоков нашей речушки! Потоп настигал нас, и, когда мы добежали до постелей, вода уже подступила почти к самым матрасам.
Было далеко за полночь, когда мы кончили спасать свои пожитки и сами устроились в своем ковчеге. Утром, на заре, мы ушли оттуда вместе с последними водами схлынувшего потопа.
Затопленный лес
В кекропии с ленивцами. Поиски летучих мышей
Произошел уникальный случай: мы заглушили протестующий мотор по собственной воле и оказались на закате под необъятным сводом зелени, примерно в двух милях южнее слияния Вайумбо и Коппенаме. Речка Вайумбо похожа на шараду: начала у нее нет, зато есть два конца, и течет она в двух разных направлениях. Она соединяется с реками Никери и Коппенаме, извергая в обе стороны массы воды с плавающим лесным мусором. Все побережье Суринама обрамлено обширной ровной поймой, всего на несколько футов возвышающейся над уровнем моря, но большей частью лежащей ниже уровня крупных рек, пересекающих ее. Реки текут среди берегов, приподнятых над равниной благодаря постоянным наводнениям и отложенным этими потопами наносам из ила и разного рода плавника.
Выходя на берег, я уронил ценные часы, и они канули в ил, потом, затачивая мачете, порезал руку и, наконец, присматривая за огнем, обжег колено, так что, когда полил дождь, я окончательно вышел из себя. Брезент протекал, и обед был испорчен. Топливо для костра все вышло еще до наступления темноты, а наши коллекторские банки и склянки были забиты «уловом», требующим безотлагательной обработки. Было ясно, что под проливным дождем нам не удастся ни построить мхупа, ни вообще заночевать на берегу, и яхта, вполне комфортабельная в обычное время, внезапно оказалась набита битком.
Нам понадобилась сулема, чтобы законсервировать паразитических червей, найденных у добытой обезьяны, и пришлось перебросить половину груза на лодке, пока мы не нашли ящик с баллонами под номером 11В. Я поручил это дело Ричи, который явно бездельничал. Он снова все перебросал, а глисты все ждали, пока наконец Ричи с кряхтеньем и стонами не раскопал ящик 2В. Этот славный парень вечно путал римские цифры с арабскими и наоборот, при этом одинаково легко! Но стоило Ричи просунуть голову к нам в яхту, как Альма накинулась на него, спрашивая, почему не вымыта посуда. Ричи благородно свалил на меня всю вину, сказав, что я заставил его заниматься глупостями, и это отнюдь не разрядило обстановку. Когда наконец мы отыскали ящик ИВ, то обнаружили, что по моей непростительной халатности едкая сулема оказалась в баллоне с цинковой крышкой, которую, конечно, разъела. В довершение всего баллон был обжигающе горячий — в результате реакции с цинком. Да, это была ужасная ночь! Как только наши трофеи были рассортированы и Фред начал их обрабатывать, я схватил ружье и спасся бегством.
Лес местами стоял среди неглубоких разливов, с деревьев капало после проливного дождя. Меня встретили тучи комаров и бесконечные заросли пальм с чудовищно длинными, тонкими черными шипами, которые не только покрывали стволы, но и полосками и пучками прятались под черенками листьев. В этом затопленном лесу деревья были невысоки, и над ними вставала ярчайшая, ослепительная луна, освободившаяся из плена штормовых туч.
Я шарил вокруг с большой осторожностью, обнаружив, что почти в каждой пальме затаился громадный угольно-черный паук с оранжевыми кончиками лапок. Эти чудища сидели вниз головой на высоте около восьми футов как раз в том месте, откуда веером расходились громадные листья. Когда я направлял на паука луч фонаря, он приподнимал переднюю пару ног и вертел ими, как балерина, которая, лежа на спине, делает упражнение «велосипед». Потом снова хлынул дождь, и тут я понял, что потерял всякое понятие о направлении.
Я уже собрался испустить пронзительный вибрирующий крик, каким мы перекликаемся в лесу, — только такой вопль в силах преодолеть глушащий все, как перина, эффект густых зарослей, но вдруг недалеко впереди меня что-то зашевелилось в необычно густом подросте.
Есть нечто невероятно интригующее в первом неожиданном звуке хрустнувшего сучка в ночном лесу. Кто там? Это может быть и простой краб, и необычайно ценное мелкое животное; а может быть, что-то сместилось под ногой проходящего древесного обитателя — подчас громадные стволы теряют равновесие от прыжка лягушки; это мог быть и небольшой зверек, убегающий от вас, или более крупный зверь, подкрадывающийся к вам. Когда вы охотитесь, то прибегаете к наступательной тактике. Но если вы, наоборот, заняты сборами, благоразумнее окопаться, выключить фонарь и затаиться, прислушиваясь, принюхиваясь и при этом стараясь не сопеть. То, что зрение у меня прескверное — один глаз наполовину слепой, привело, должно быть, к обострению слуха и обоняния. Я люблю слушать и чуять, что творится вокруг, особенно в зарослях.
На этот раз лес так сильно пропах дождевой влагой, что мне оставалось полагаться только на слух, однако перестук дождевых капель в пальмовых листьях мешал что-либо расслышать. Немного подождав, я решился снова включить фонарь и, не заметив никаких дурных последствий, стал при его свете осторожно пробираться дальше. Пришлось обходить вокруг зловредной пальмы, окруженной кучей утыканных шипами опавших листьев. Обогнув ее, я очутился в природной траншее, свободной от растительности. Пошел вдоль нее и, заметив крупные следы, наклонился, чтобы их рассмотреть. Когда я разглядывал следы, впереди послышался увесистый шлепок: «памм!» Подняв голову и фонарь, я увидел, что всю канаву закупорил зад колоссальных размеров.
Мне редко приходилось видеть что-нибудь настолько потешное, разве что заднюю половину гиппопотама, торчащую из сплошной стены озаренного луной тумана, что и пришло мне тут же на память. Стрелять в необъятные окорока из охотничьего ружья, заряженного мелкой дробью, — бессмысленно, глупо и жестоко; надо признаться, что я был озадачен и не знал, что делать. Пока я в нерешительности топтался на месте, зад закачался, подался вперед и опустился обратно с тем же глухим звуком, затем отскочил влево и его владелец с громким треском ударился в бегство сквозь заросли. Я успел увидеть его мельком; это был единственный живой тапир (Tapirus americanus), которого я видел за целый год нашего пребывания в Суринаме, хотя в этой стране они вовсе не редкость.
Было около девяти вечера — время, когда в лесу начинается ночная жизнь. Перед самым закатом и сразу после него животные во множестве меняются местами: сумеречные животные уступают место отдыха летучим мышам. После этого оживления наступает затишье (во всех джунглях, где я бывал) до девяти часов, когда из укрытий выходят настоящие ночные бродяги. Они очень активны почти до полуночи, когда большинство насекомоядных летучих мышей отправляются на ночевку — первая кормежка у них закончена. В их активности наступает заметный спад, и я думаю, что большая часть ночных животных отдыхает поблизости от мест кормежки, не возвращаясь в дневные логова. После полуночи охотиться, как правило, не имеет смысла. Часа за два до рассвета поднимается великий переполох. Ночные охотники напоследок еще закусывают и пьют воду, прежде чем разлететься по домам, насекомоядные летучие мыши вылетают всем скопом, новые ночные звери покидают укрытия впервые за ночь, а первые сумеречные и дневные животные начинают просыпаться. Суета достигает своего апофеоза к рассвету, когда все ночные животные скрываются в свои убежища, а дневные приступают к делу.
Ритм джунглей отличается большим постоянством, но иногда его изменяет определенная погода. У нас нет собственных прямых данных о том, как упомянутые выше периоды меняются, растягиваются или сокращаются в зависимости от погоды; скорее разные типы погоды просто равномерно замедляют общую активность животных. Прежде всего дождливые периоды, особенно затяжные, сильно подавляют активность млекопитающих, в первую очередь ночных. У нас есть доказательства, что некоторые животные впадают во время дождей в спячку, подобную зимней. С другой стороны, неожиданные дожди в сухой сезон приводят все живое в величайшее возбуждение, и обезьяны часто не спят ночи напролет. При нормальных условиях в любой сезон самое большое влияние на животных, судя по всему, оказывает лунный свет, а не фазы луны как таковые. Мы неделями жили на участках леса, где, казалось, нет ничего живого, даже линии ловушек оставались целыми сутками нетронутыми ночь за ночью. А когда наставала лунная ночь, нам до утра не давали спать докучливые визитеры, качающиеся деревья и хруст поедаемых плодов. Прохладный ветер или ветер в лесу, мокром от дождя, заметно подавляет всякую активность; но стоит подуть жаркому ветру, как в ловушках оказывается богатая добыча. Возможно, древесные животные тоже оживляются, но их труднее заметить среди шумящей на ветру листвы и осыпающегося лесного мусора.
Ночь, о которой я говорю, была не вполне обычная: очень теплая и тихая, хотя недавно прошел дождь. Луна стояла высоко. Когда вдали затих треск, производимый тапиром, стали слышны другие животные, чьи движения выдавала громкая дробь дождевых капель, которые сыпались каскадом с потревоженных ветвей и барабанили по тугой поверхности изогнутых пальмовых листьев у самой земли. Шорохи и перебежки я ощущал на каждом шагу: не успеешь сосредоточиться на одном звуке, как появляется новый. Наконец, достаточно побродив по лесу и едва не свернув себе шею — на ходу приходилось все время глядеть вверх, на кроны, — я наконец выбрал большую группу не слишком высоких, удивительно голых деревьев, окруженных густым подростом.
Это были крупные старые лесные паупау (Cecropia), или кекропии. Большие веерообразные листья, похожие на растопыренные ладони с множеством пальцев, у них растут на своеобразных «бутонах» — кончиках гладких серебристых ветвей, торчащих во все стороны. Из этой рощицы доносился звук как бы от падения нескончаемых дождевых капель. Не включая фонарь, я бесшумно подкрался и встал прямо на это место. Тогда я понял, что падают не капли, а кусочки цветов кекропии. Порою в джунглях падающие несколько дней кряду лепестки цветов укрывают, точно снегом, целые акры земли, но даже при лунном свете я видел, что цветки еще не скоро отцветут; кроме того, огрызки лепестков падали не равномерно, а какими-то порциями. Видно, кто-то кормился там, наверху.
Я долго присматривался, но ничего не мог заметить, хотя видел, как целые ветви иногда мягко клонились книзу. Судя по размерам ветвей, там были не очень мелкие звери, но разглядеть их даже в сравнительно редкой кроне мне не удавалось. Включил было фонарь, но толку мало, между тем лепестки сыпались по-прежнему. Оставалось одно: забраться самому наверх и осмотреть ветви.
Поначалу мне было нелегко взбираться по гладкому, лишенному листьев стволу, но в конце концов я, залитый дождевой водой и ледяным потом, взобрался на высоту тридцати футов над землей. До кроны было уже недалеко, а надежной опоры для рук и ног я найти не мог и, не задерживаясь, полез дальше. Первое удобное место оказалось среди веток, покрытых листвой.
Все листья были развернуты в горизонтальной плоскости, одной стороной к небу, другой — к земле. Теперь я смотрел на мир под другим углом: вдоль листьев, с ребра. Сунув ружье за пояс, я начал осматривать ветку за веткой, освещая их фонарем. Некоторые листья все еще были обращены ко мне плоской стороной — верхняя сторона была темно-зеленая, а нижняя покрыта серебристым пушком. Пока я глядел на такой лист, он медленно повернулся, но не стал узким, как при виде с ребра, а остался таким же широким. Медленно-медленно повертевшись некоторое время, он, вместо того чтобы повернуться верхней плоскостью и стать темно-зеленым, повернулся какой-то новой, пестрой стороной. И хотя он находился на расстоянии всего тридцати футов и почти на уровне моего лица, я несколько минут наблюдал, как он меняет форму, расположение и цвет, но никак не мог взять в толк, что это такое.
Только постепенно я начал соображать, что смотрю в упор на животное, забравшееся в пучок листьев кекропии. Его серебристая спинка была неотличима от серебристого испода листьев. Под лучом фонаря на фоне ночного неба и лист, и спина выступали ярким пятном, будто светились. Стоило мне разглядеть одно животное, как я заметил еще несколько таких же. Это были трехпалые ленивцы (Bradypus tridactylus), довольно безобидные животные, с которыми я был хорошо знаком — мы держали несколько штук в нашем зоопарке, в Парамарибо. Их фантастический вид трудно описать словами, а лица у них совсем человеческие.
Устроившись поудобнее и закурив сигарету, я провел два часа — может быть, самых интересных в моей жизни, — наблюдая за этими животными. Нам больше не нужны были экземпляры для коллекции, чему я был несказанно рад: заставить себя совершить убийство я бы, наверное, не смог. Трехпалые ленивцы — удивительно тихие, мирные и умилительные животные, их движения точны и преисполнены той уверенности, какую можно приобрести за долгие века жизни на Земле. При своей довольно примитивной организации эти низшие млекопитающие отлично выдержали борьбу за существование, выработав приспособления, почти гротескно изменившие форму их тела. Конечности, длинные и мускулистые, кончаются сближенными, как зубья гребенки, уплощенными с боков когтями. Пальцев не видно — вся ладонь и стопа вместе с пальцами превратились в опору для когтей, похожих на крючья. Небольшая головка поворачивается настолько свободно, что зверек может глядеть прямо на вас, повернув голову вниз подбородком, как положено, только сам в это время висит вверх брюхом.
Поначалу, пока я лазил по веткам и светил фонарем, животные слегка забеспокоились, но, когда я выключил фонарь и несколько минут просидел совсем тихо, они снова принялись кормиться. Одного я обнаружил на своем собственном дереве, футов на пятнадцать выше. Зверек притворялся дохлым дольше других, но, решив, что все в порядке, развил бурную деятельность. Очевидно, он намеревался — я говорю «он», хотя различить пол ленивца совершенно невозможно, даже когда держишь его в руках, — перебраться с нашего дерева на соседнее. Медленно, осторожно он пробрался на самый конец ветки, нависавшей над непреодолимой пропастью. Я видел его ясно — он висел на конце круто согнутой ветви, держась обеими задними лапами и одной передней; свободной «рукой» он размахивал в воздухе, надеясь нащупать какую-нибудь опору и явно не видя, что там пустота. Меня поразило, что животные в темноте совсем не пользуются зрением, почти полностью полагаясь на осязание. Убедившись, что дороги нет, он дал задний ход и двинулся в путь по другой ветке.
На полдороге по новой ветке он опять стал размахивать рукой в пустоте, как вдруг наткнулся на молодой лист кекропии. Бережно ощупав, зверек стал подтягивать его к себе, одновременно вытягивая навстречу длинную шею, и, повертев головкой, аккуратно надкусил лист с ребра. Минут десять он с удовольствием жевал, время от времени подтягивая лист поближе и при этом вися почти под прямым углом к ветке, за которую уцепился. Когда от листа остался только грубый черешок, он выпустил его из свободной руки, минуты две непрерывно жевал, потом проглотил остатки и принялся вылизывать всю руку, в которой держал лист. Покончив с этим, он двинулся дальше. После очередной неудачной попытки перелезть на намеченное дерево зверек стал двигаться обратно к стволу. Думаю, на этот раз он меня заметил — фонарь я держал так, чтобы не мешали листья, но часть моего плеча и лицо были освещены. Зверек довольно резко остановился и испустил тихий, жалостный, просто душераздирающий писк; мне доводилось слышать такой жалобный звук только от самки той же породы, когда у нее на несколько минут отняли новорожденного детеныша. Потом зверек ретировался на самый верх кроны, и я его больше не видел.
Я не забывал в то же время поглядывать и на остальных — мой ближайший сосед перебирался с места на место так долго, что не было необходимости следить за ним неотрывно. Больше всего меня заинтересовали два молодых зверька, вполовину меньше остальных ростом. Они держались все время рядышком, и, как мне показалось, именно они питались цветками. Сколько они съели, сказать не могу — слишком много лепестков осыпалось вниз. Парочка была неразлучна — иногда они даже переползали друг через друга, до смешного лениво, но никогда не ссорились. Когда взрослый зверек подобрался к ним слишком близко, они с большой резвостью удрали на кончик ветки.
Особенно интересно было то, что у одного из юнцов была типичная отметина на спине — «солнышко» между лопаток, а у другого никакой отметины не было. У этих животных исключительно грубая, длинная и густая шерсть; в ней полно мелких вмятин, и в этих ямках живут мельчайшие зеленые водоросли, от которых зверек подчас приобретает хорошо заметный зеленый оттенок. На теле ленивца единственным местом, не покрытым грубой шерстью, кроме лица, поросшего короткой жесткой, как ворс ковра, щетинкой, бывает «солнышко» на спине, если оно вообще есть. Оно состоит из шелковистых, блестящих прилегающих черных волосков, окружающих пару ярко-желтых пятен в форме почки. Эта отметина у разных зверей сильно варьирует: у некоторых «солнышко» очень крупное, с примесью оранжевого или даже оранжевое с примесью желтого; у других совсем невзрачное, маленькое, почти целиком заросшее черными волосками. Отсутствие или наличие этой отметины пока не удалось объяснить. На этот раз меня поразило открытие, что шубка, отмеченная «солнышком», куда более пригодна для целей камуфляжа. Такая отметина, если глядеть снизу, среди серебристых листьев кекропии в точности похожа на желтоватый центр листьев, куда сходятся все жилки. Отметина разбивает и общие очертания уплощенной сердцевидной спинки животного.
Малыш, который родился у нас в зоопарке, был точной копией взрослого ленивца, только он весь, со сложенными лапками, свободно умещался на ладони. Детеныш бродил по всему телу своей колоссальной по сравнению с ним матери, но больше всего любил устраиваться у нее под мышками — когда она была в «перевернутом состоянии», там образовывались уютные гнездышки.
Другой вид ленивца (двупалый — Choloepus didactylus) совсем не похож на своего родича. Морда у него неприятная, рот полон желтых зубов, а глаза злобные, красновато-оранжевые. Шерсть длинная, и шкура напоминает шкуру бурого медведя. В неволе он гораздо активнее, а на свободе я его никогда не видел. Двупалые ленивцы легко и часто переплывают широкие реки.
Той ночью мне пришлось очень долго плутать, выбираясь к лодке, я потерял направление и, несмотря на то что на мои крики откликались, снова и снова сбивался с пути — выходил к мелким речушкам, которые, точно помню, ни разу не переходил, а теперь они мешали мне пройти к лагерю. Джунгли держат рекорд в этом отношении — даже с компасом в руках здесь можно заплутаться на пятачке, буквально «в трех соснах». Полузатопленный лес особенно коварен — приходится то и дело обходить мелкие озерца и бесконечные купы пальм. Фред наутро ушел прогуляться перед завтраком — этакий осел! — и вернулся только в полчетвертого, а тем временем потерялся посланный на поиски Андре. В результате строительство нашего дома сильно затянулось.
Мы до сих пор не решили точно, что легче: отыскать ровную площадку, расчистить ее, поставить палатку, окопать ее канавками для стока дождевой воды, как мы делали на Тринидаде и Гаити, или, отказавшись от палаток, построить из молодых деревьев каркас мхупы, покрыть его брезентом, а стены сделать из пальмовых листьев. Если в брезенте не слишком много дыр — а отсутствие дыр на брезенте допустимо лишь теоретически, — то я склоняюсь к мнению, что второй вариант более удобный и легкий. Громадное полотнище брезента в свернутом виде занимает места меньше, чем средняя палатка, и его можно хорошенько, без морщин, натянуть. Стены же подвести прямо под его края. В Суринаме мы вовсе не пользовались палатками, хотя часто лило как из ведра — а жили мы в полном комфорте. Только несколько раз приходилось поспешно сдирать со стола клеенку и, завернувшись в купальную простыню, вылезать под проливной дождь, чтобы залатать прохудившийся брезент.
Строительство хижины требует далеких походов в лес за подходящими для сооружения стен пальмовыми листьями. Поблизости в изобилии росли колючие, как кокорите, пальмы; приходилось срезать ряд шипов на тыльной стороне листа, прежде чем плести стену. Это было по силам только знатоку, который легко срубал шипы специально отточенным мачете. Другая пальма, без шипов, встречалась гораздо реже. Нам приходилось искать ее повсюду, обшаривая дальние леса.
Возвращаясь из такого похода с большой связкой пальмовых листьев, связанных носовым платком, я вышел к небольшому ручейку. Вдоль него, как по линейке, выстроился ряд громадных деревьев с толстыми круглыми стволами, без обычных контрфорсов. Я стал осматривать их, надеясь найти дуплистое дерево. Когда подошел поближе, что-то пискнуло прямо у меня над головой; я взглянул вверх, но ничего не увидел. На каждое мое движение кто-то отзывался пронзительным коротким писком, но, кто это, видно не было. Я подумал, что в деревьях есть дырки, там и засели пищащие невидимки.
Довольно долго и бесплодно я разыскивал их, но тут ко мне присоединился Фред, тоже тащивший связку пальмовых листьев. Я сообщил ему про писк. У Фреда отличное зрение, и он почти сразу заметил несколько мелких наростов высоко на гладкой коре деревьев. Все они помещались на северо-восточной стороне деревьев, повернутой в сторону темного леса, а не к ручейку или большой реке.
— По-моему, это летучие мыши, — сказал Фред.
— Верю на слово, — сказал я. Мне ничего другого и не оставалось — я не видел даже наростов, на которые он показывал.
Мы устроили военный совет: если это летучие мыши, они нам нужны до зарезу, но мы не могли придумать, как добыть их с такой высоты, не повредив. Фред горячо поддерживал теорию, что в летучих мышей можно стрелять из воздушного ружья! У нас были два таких ружья — для охоты на ящериц. Поэтому он сбегал к лодкам за одним из ружей, пока я стоял, сторожа невидимые мне выросты. Вернувшись, он долго выцеливал что-то воображаемое наверху и наконец выстрелил. После небольшой паузы летучая мышь свалилась почти к моим ногам. С каждым выстрелом вниз падали новые зверьки. Фред был феноменальным стрелком. Он никогда не мазал, и летучие мыши сыпались на нас дождем.
Собрав их и разглядев, я определил, что это представители рода Saccopteryx (саккоптерикс). Это одна из немногих разновидностей летучих мышей, которую можно различить с первого взгляда — по диковинным сумочкам, или мешочкам, открывающимся вперед, на передней кромке перепонки крыльев, у основания предплечья. У этого вида мешочек изнутри чисто-белого цвета, изборожденный складками и ребрышками, как устья некоторых морских раковин. Вся перепонка крыльев была угольно-черная, а туловище покрыто шелковистым темно-шоколадным мехом с двумя ярко-белыми полосками, идущими от щек по спинке до крупа. С этого улова началась совершенно немыслимая цепь совпадений. В тот же день Ричи нашел в лесу свалившееся дуплистое дерево. Он заметил, что там летают летучие мыши, и с достойным похвал энтузиазмом, не обращая внимания на множество скорпионов и прочей ползучей мерзости, обожающей такие места, стал ловить их сачком, загородив более узкий выход из дупла распяленной на палках рубашкой. Он поймал всего четырех летучих мышей: серую с маленькими ушками, другую, такую же маленькую, но с громадными ушами и светло-палевого окраса, и еще двух, которые явно относились к уже упомянутому роду саккоптерикс. У этих были более мелкие, отороченные черным сумочки и не такие яркие полосы на спинках. Примерно в то же время я забрался выше по реке и нашел на берегу дерево, которое навсегда останется у меня в памяти. Мало сказать, что это был настоящий колосс — он рос на небольшом крутом обрывчике, и, для того чтобы выдержать громадный вес густой раскидистой кроны, ему пришлось вырастить контрфорсы такой ширины и высоты, каких я нигде еще не видел. Один из них, направленный ко дну долинки, оказался размером — от угла, где он примыкал к стволу, до места, где верхнее ребро косо уходило в землю, — в семь раз больше моего роста, что означает примерно сорок два фута! Громадные лопасти поднимались высоко вверх по стволу. Древесный великан при этом еще угрожающе клонился над водой и весь был усеян мелкими дуплами. Они не соединялись с центральным сквозным дуплом, зато в них скопились озерца воды, кишевшей бледно-желтыми крабами с красными лапками, которых мы больше нигде не встречали. На стволе приютилось и несколько пальм приличных размеров, пустивших корни в этих наполненных водой дуплах.
Высоко среди контрфорсов на ярко освещенной стороне, обращенной к реке, висело, распустив крылья, множество летучих мышей — как всегда, вниз головой. Судя по всему, они спали. Чтобы добыть нескольких из них, я отошел подальше и выстрелил из правого ствола, где был патрон с самой мелкой дробью: дробь рассыпалась веером и сбила несколько штук; собрав добычу с лиственной подстилки у основания ствола, я обнаружил, что это еще один, третий вид саккоптерикса, он был раза в два больше остальных, а полосы у него на спинке были кремовые.
Мы нашли представителей трех видов одного рода летучих мышей, обитающих на небольшой территории, причем одни спали днем в темном дупле, другие — на затененной стороне открытого ствола, а третьи — на ярко освещенной стороне дерева. Более того, последующие находки подтвердили, что каждый вид строго придерживается своих традиционных дневок.
На реке Коппенаме водился другой вид этих зверьков (Rhynchiscus naso), который нарушал все законы и обычаи летучих мышей. Дальше в глубь суши вдоль реки росли невысокие деревья кекропии. Они теснились на самом краю, у воды, часто вступая и в воду; стволы у них были мертвенно-белого цвета и лишены побегов. Продвигаясь вверх по реке на своей пыхтящей норовистой яхте, мы часто видели стайки, как нам казалось, ласточек, которые кружили над водой, влетая и вылетая из стволов кекропии. Только после того, как мы встали лагерем и стали тихонько подкрадываться под прикрытием берега на челноке, мы увидели, что это вообще не птицы, а дневные летучие мыши — это они гроздьями висели на коре кекропии и в ослепительном свете солнца гонялись за мелкими мошками.
Стволы отдельных деревьев от самой воды до высоты десяти футов были покрыты ровными рядами отдыхающих зверьков, расположившихся на равных расстояниях один над другим.
Все джунгли кажутся одинаковыми, но я не верю, что есть такой участок «однообразных» джунглей, где нельзя найти какой-нибудь новый вид животного или подсмотреть что-то новое в их поведении. Эти бесконечные новинки и диковинки, пожалуй, не так уж заманчивы для тех, кто не видел их собственными глазами, но их пристальное изучение бесконечно увлекательно и приносит несравненную радость. В этом затопляемом лесу все животные ведут странный образ жизни — здесь невозможна нормальная жизнь на земле, она почти везде ушла на два фута под воду. Все лягушки, ящерицы, улитки, насекомые и прочая мелочь переселились на деревья. Повсюду в кронах разбросаны громадные муравейники, гнезда термитов и ос. Крысы и ящерицы обжили дыры высоко наверху, а жабы поселились на широких сучьях. Единственными оставшимися на земле животными, кроме тапиров и оленей, были гигантские муравьеды, шлепавшие по воде, несмотря на свой истинно сухопутный облик.
В то утро, когда нам предстояло покинуть наш приятный, хотя и несколько сыроватый, дом, Альма наблюдала, как проходит мимо большая стая черных паукообразных обезьян (Ateles paniscus). Как назло, все мы оказались в это время выше по течению реки, где подкуривали дуплистое дерево, и пропустили это чудесное зрелище. Альма рассказала, что услышала издалека завывания и уханье обезьян задолго до того, как стая показалась у лагеря, и что деревья, по которым они неслись, качались и тряслись, будто их трепал ураган. «Куатта», как их называют в Суринаме, обитают по всей стране, но большие стаи приходится видеть редко, разве что к концу дождливого сезона. Обычно они держатся в самой чаще леса. А выше, в затянутых туманами горах в глубине материка, их такое множество и стаи их так многочисленны, что они почти всегда попадаются на глаза.
Однако охотники уверяют, что только в заливных лесах видели этих чисто древесных обезьян на земле, куда они спускаются за упавшими пальмовыми орехами. Ничего не скажешь — привычки животных воистину непредсказуемы.
Лес предгорий
Тайры, коати, ягуаронди, тамандуа и ценодус
Наше последнее пристанище в Суринаме было самым цивилизованным из всех, не считая дома в Парамарибо. По этой причине туда еженедельно доставлялась почта, что добавляло к прелестям цивилизации и все ее недостатки. Английская компания по добыче золота любезно предоставила нам комфортабельное жилье — больницу и дом доктора на заброшенной лесной вырубке. Чтобы добраться до этого места из Парамарибо, можно было ехать по железной дороге до остановки на девяносто первом с половиной километре, а оттуда идти пешком еще шесть миль к востоку через лес, по тропе рядом с миниатюрной рельсовой дорогой, в то время как багаж грузили на вагонетки и толкали вручную. Заброшенная вырубка, где тогда обитал единственный наш соотечественник и добрый друг с полудюжиной местных рабочих, находилась в центре громадного участка нетронутых джунглей, который переходил в несчитанные и нехоженые мили леса, простиравшегося сплошным массивом до самой Амазонки. Таким образом, эти места, невзирая на излишние связи с городской цивилизацией, были очень привлекательны для нашей работы, особенно на той стадии, которой она к тому времени достигла.
На заре научных исследований было принято собирать зоологические коллекции вместе с прочими сведениями, путешествуя по стране. Большую часть коллекций собирали первопроходцы-исследователи, и в сознании публики путешествия прочно связались со сбором коллекций. По этой причине любая выезжающая в поле экспедиция обязательно именуется научно-исследовательской, а ее руководителя щедрая пресса награждает высокопарным титулом исследователя. В строгом смысле слова это даже верно — любой человек, предпринимающий научное исследование, заслуживает звания исследователя. К превеликому сожалению, в читательском сознании это слово непременно вызывает образ бронзового от загара и полуживого от голода героя, пробивающегося через девственный лес под прикрытием пробкового шлема и обязательно одетого в бриджи и сапоги для верховой езды.
Должен сказать, что, слишком занятые прямой зоологической работой — времени у нас всегда в обрез, — мы никогда не помышляли отправляться путешествовать в неисследованные страны только ради того, чтобы их «исследовать» или тем более нанести на карту. В этом нет ни малейшей необходимости при сборе зоологических коллекций, и даже редкие виды животных можно прекрасно ловить без «исследований». Половина нашей работы состоит как раз в оценке воздействия на диких животных разрушения их естественных местообитаний человеком, и поэтому волей-неволей большую часть времени мы проводим на расчистках, сделанных людьми, или неподалеку от них. Остальная часть работы с наибольшим успехом проводится в нетронутых, необитаемых местах, которые я люблю и где я всегда счастлив немного пожить; но ведь в тропических странах такие места обычно не так уж далеко от какого-либо местного центра. Часто встречаются уголки, вроде этой золотоискательской вырубки, добраться до которых проще простого, и все же там вступаешь в тесный контакт с нетронутой жизнью дикой природы, которая почти не изменится, если вы заберетесь еще на несколько сот миль в глубь страны. В наших путешествиях есть два основных ограничивающих фактора: время и деньги. Если мы будем расхаживать с места на место, играя в исследователей, это обернется пустой тратой времени и денег, а наши драгоценные коллекции и прочие пожитки мы рискуем растерять по дороге, да и вообще сохранить их в походных условиях куда труднее.
Последняя стоянка, «девяносто первый с половиной», как мы ее назвали, была расположена на поросших густым лесом холмах предгорий; она принесла больше пользы для нашей работы, да и нам самим была интереснее, чем все наши путешествия по стране. Там я не только написал большую часть этой книги и зарисовал с натуры многих животных, но и вплотную занялся нашими научными открытиями. Это было вдвойне важно, потому что я мог просто сбегать в ближний лес и сорвать любой листок, который хотел зарисовать, а то и повторить те исследования или изыскания, которые требовали дополнительных разъяснений. Это сберегло многие недели, которые понадобились бы на ту же работу дома, и застраховало нас от ужасного привычного упрека: «почему вы не наловили побольше этих животных, их же там полно?»
Мы прибыли на «девяносто первый с половиной» с горой имущества и несколькими живыми животными, которых мы отловили и собирались получше изучить. Все окрестные жители, узнав, где мы обосновались, стали приносить нам и других животных. Кроме того, прекрасная, нетронутая природа в окружающих лесах дала нам возможность самим собрать богатую коллекцию, даже с избытком.
В этом месте ландшафт был несколько иной, чем там, где мы побывали раньше. Наши прежние стоянки всегда располагались на широких прибрежных равнинах, если не считать лагерь в верховьях реки Коппенаме, примыкавший к ее материковому берегу. «Девяносто первый с половиной» располагалась в глубине предгорий, и над ней возвышался восьмисотфутовый пик. Фауна здесь была во многих отношениях иная. И с особенностями распределения животных мы тоже не были знакомы в подробностях, потому что разница между сухим и дождливым сезонами здесь была выражена более резко — сразу же после ливня все ручьи и речушки полностью пересыхали. Кроме того, слой воздуха высотой примерно пять футов над равнинами обычно бывает прохладнее более высоких слоев, а здесь он как бы накрывал землю под пологом леса теплой периной. Это оказывает большое и заметное влияние на типы мелкой фауны, позволяя здесь жить нескольким видам крупных наземных животных, которым мешал бы слой холодного воздуха над землей.
Но все же, как и повсюду, самые интересные животные водятся на деревьях, хотя встречаются и любопытные наземные животные, но гораздо реже. В один из первых дней после приезда мы брели по высохшему руслу милях в трех от вырубки, разыскивая пестрых ящерок, живущих среди корней больших деревьев, как вдруг перед нами открылось прелюбопытное зрелище.
В ярком солнечном свете, на полянке выше по руслу, резвилось с полдюжины зверьков, напоминающих мангуст. Зверьки были длинноногие и показались нам немного отощавшими, хвосты у них были длинные и довольно пушистые, а движения — стремительные, даже суетливые. Двое затеяли шуточную драку на полянке, сплелись, как звенья цепи, и то и дело перекатывались клубком. Другие бегали вокруг трусцой, как собачки, а одна развалилась на солнышке. К счастью, они нас не заметили, и хотя мы оказались на виду, но, присев, имели возможность без помех наблюдать за зверьками.
Эти зверьки (Тауга barbara) известны нам под названием тайры, но местные жители произносят, теряя согласный, только «аира», а это уже можно спутать с названием другого местного животного, «эйра», или ягуаронди. Зверьки были черные, если не считать большого желтого ромба на горле и серебристой проседи на голове и загривке. У нас в Парамарибо жили другие представители этого вида, но они были черные как смоль, с маленьким бледно-кремовым пятнышком на горле. Позднее один абориген принес нам из более отдаленных мест еще одну тайру, у которой была почти седая голова и желтый полукруглый ошейник с белым пятном в центре. Вернувшись домой, я увидел в Лондонском зоопарке экземпляр, у которого желтое полукольцо сомкнулось на затылке и даже частично захватило плечи. Зверек был пойман в нагорьях Колумбии. Очевидно, тайры, как и многие млекопитающие, очень сильно варьируют в зависимости от высоты или влажности местообитания, а может быть, и от обоих факторов вместе, и обитатели влажных прибрежных областей чернее других, а у обитателей нагорий больше светлых отметин.
Эти зверьки удивительно напоминают мангуст и занимают их нишу в фауне Южной Америки. Они отчасти плотоядны, но обожают мед. Мой друг как-то видел, как восемь тайр разоряли два пчелиных гнезда на высоком сухом дереве, работая по очереди. Над ними вилась туча пчел, но зверьки, судя по всему, не замечали их укусов. Когда их спугнули, они соскользнули по стволу вниз головой, широко расставив лапки. Тайра — родственница ласок, горностаев и куниц, более близко, чем они, стоящая к гризону и, следовательно, относящаяся к хищным млекопитающим — Carnivora. Южная Америка — рай для хищников, и в Суринаме живут представители множества самых разных семейств хищных. Кроме настоящих кошек — ягуара, пумы, оцелота, тигровой кошки и кошки Вейде — там встречаются и более удивительные животные. Среди них лесная собака, гризон, енот-крабоед и гигантская выдра, которых я уже описал выше. Вдобавок там водится более мелкая и обычная выдра (Lutra enudris) — несколько особей этого вида мы добыли в речках возле Парамарибо — и маленькая лиса, известная как собака-крабоед (Canis cancrivorus), она очень часто встречается на открытых местах, примыкающих с суши к мангровым зарослям. Но этот список далеко не полон. Мы поймали еще трех хищников в один день, пока были на «девяносто первом с половиной».
По дороге туда мы сделали остановку — навестили наших друзей — американских индейцев, живущих в саванне. Они оказались отличными охотниками и коллекционерами, и мы окончательно сдружились, выпив с ними неописуемого, жуткого вермута — здесь это самый популярный напиток. Я все еще упрямо верил в то, что маленькие ночные обезьянки, дурукули (Aotus), должны водиться где-то в лесных массивах, окружающих саванны. Я предполагал, что они спят в дуплах, и после длинных и долгих разговоров, подкрепленных очень хорошими фотографиями зверьков, мне удалось склонить на свою сторону маленького вождя с умными глазами. Он изложил мое предложение мужчинам своего поселка, которые нарушили обычную сдержанность американских индейцев, выразительно ворча и крякая. Затем я назначил очень высокую награду за первую пойманную обезьянку, на том дело и кончилось.
Здесь я беру на себя смелость закрыть вопрос о дурукули, упомяну только, что в этих местах эту обезьянку хорошо знают под названием «найт-ап», что может означать «ночная обезьянка» (аре), или мартышка. Мне сообщали, что зверек маленький, пушистый и хорошенький, но поднимает несусветную возню по ночам. Меня также уверили, что я очень скоро получу несколько зверьков. Тем временем мы побывали в разных уголках страны и оказались на стоянке «девяносто первый с половиной». И вот наконец настал день, когда после долгой работы в доме и поблизости нас потянуло пройтись по лесу.
Мы с Альмой решили прогуляться в места, расположенные за горой Дондерберг (восьмисотфутовым холмом, стоящим возле вырубки), по тропе местных старателей-одиночек. Тропа пересекала южный отрог холма и несколько миль вела сначала вверх, а затем вниз, в долинку, где и кончалась у ям, небольших туннелей и карьеров — следов хищнической добычи золота. Дальше вверх по склону тянулся девственный лес, и мы пошли по компасу на северо-восток. Когда мы оставили позади старательскую тропу, утренний туман только начинал расходиться.
Под деревьями на чистой от подроста земле сновали бесчисленные стайки похожих на куропаток маленьких бурых птиц, которые, вороша толстые слои сухих листьев, поднимали громкий шорох, так что мы все время были настороже — нам казалось, будто это ходит какое-то крупное животное. Не успели мы привыкнуть к обманчивому шороху, как мимо промчалось животное, которое я давно мечтал добыть. Это был очень мелкий олень, не выше двух футов ростом, ровного светло-серого окраса, с маленькими, тонкими и прямыми рожками. Ножки его казались очень толстыми и мохнатыми, и я мог бы принять его за разновидность пуду, животного, до сих пор для этих мест неизвестного. Оно проскочило совсем близко, но выстрелить я не успел. Затем мы увидели очень мелкую агути, почти черного цвета, которая остановилась посреди естественной полянки и в упор смотрела на нас.
Ее я уложил на месте вопреки своему обычаю. Эта неожиданная меткость меня только разволновала, зато жена была очень довольна и горда — она одна на всем свете не считает меня безнадежным мазилой. Нам не хотелось целый день таскать за собой добычу, и мы вернулись к большой скалистой расщелине, которую потом сможем легко отыскать (эту часть леса мы знали неплохо), увязали тушу в мешок и подвесили повыше между двумя деревьями. Больше мы свою добычу не видели, как вы, должно быть, сами догадались.
Добравшись до вершины второго холма, мы присели покурить. Точнее, я присел на толстое упавшее дерево, а Альма слонялась взад-вперед, как маятник.
— Ты не устала, дорогая? — спросил я.
— Нет, не… — Пауза. — Да, да, конечно, — отвечала она, и я почувствовал, что в ее душе идет какая-то внутренняя борьба.
— Так в чем же дело? Может, ты хочешь домой?
— Нет! Но… я не хочу садиться на это дерево, — сказала она, упрямо сунув палец в рот.
— Почему?
— В нем, наверно, полно скорпионов.
— Что за бред! — воскликнул я с истинно мужской категоричностью, которая так раздражает наших жен. — Разве ты забыла, что мы собираем скорпионов? А этого достаточно, чтобы здесь их и не было.
— Прошу тебя, не заставляй меня садиться!
— Дурочка, да здесь ни одного нет! Смотри! — вскочил и рассек кору дерева своим мачете.
Отвалился целый пласт коры, и Альма громко завизжала — из-под коры выпали два самых громадных, толстенных скорпиона, каких я только видел в Новом Свете. Вся коряга была ими прямо-таки нашпигована. Сам я сидел прямо на мамаше с многочисленным потомством. В результате оба мы пришли и восторг, хотя по разным причинам, и бутылочки начали наполняться добычей.
Мы продолжали крушить дерево, пока не добрались до места, где оно было достаточно разрушено и его можно было растащить на куски, открыв центральное сквозное дупло. Оно было выстлано мелкой, как пыль, трухой от сгнившей древесины, а на ней лежал, как нам показалось, ярко-зеленый листок. Я уже перебрал в уме немало вариантов объяснения, как туда попал свежий зеленый лист, когда осознал, что смотрю па одну из самых замечательных лягушек на свете. Она была длинненькая, тонкотелая, с очень длинными стройными лапками, и вся ярко-зеленого, как свежий лист, цвета; от носа через каждый глаз и по бокам шли две переливающиеся ярким золотом полоски, сходившиеся к задним ногам. Альма бросилась на нее быстрее, чем на живой алмаз самой чистой воды, схватила И перевернула на ладони. Брюшко у лягушки было блестящее, черное, с пятнышками яркого небесно-голубого цвета.
Затем мы спустились по дальнему склону холма и повстречали большую стаю обезьян-ревунов. Мы неожиданно вышли на них, точнее, оказались под ними, и крупный самец, забравшись на верхушку дерева, несколько минут ревел, собирая стаю. Это нас заинтересовало, мы сели понаблюдать и проверить, правда ли, что обычно ревет только один самец. Он распевал за целую стаю, издавая самые разнообразные звуки, но никто его не поддерживал. Можно было поверить, что непрерывный рев в течение дня и ночи — дело одного «певца»; однако я сам видел, как на реке Коппенаме целая стая ревела хором — значит, все-таки время от времени они подражают толпе фанатиков на митинге.
Спустившись к подножию холма, мы тут же стали снова взбираться по склону. Мы уже примирились с долгим подъемом, но неожиданно земля стала ровной, а деревья — более низкими: мы шли через редкую поросль, словно через сад, озаренный солнцем. Совершенно неожиданно вышли к широкой полосе открытой саванны. Среди нее точками виднелись многочисленные стервятники, и она была вдоль и поперек исчерчена игрушечными звериными тропками. Тропки, не больше четырех дюймов в ширину, без единой травинки и безжизненно-белые, были протоптаны в белом, сплошь покрывавшем землю песке. Должно быть, эту сетку тропинок создали постоянно пробегавшие здесь пака, агути и олени.
Становилось ужасно жарко; роясь под трухлявыми стволами в поисках мелких существ и наблюдая за разными животными, мы сильно задержались в лесу. Поэтому пришлось спешить; мы обошли саванну с северо-восточной стороны и оказались возле прелестного озерца с кристально прозрачной янтарной водой и ослепительно чистым, усыпанным белым песком дном. Озерцо осеняли высокие пальмы. Оно питалось проточной водой маленького ручейка, бегущего к далекой реке Суринам, и оказалось глубиной всего пять футов, что вполне устраивало Альму. Понятно, что весь остаток дня мы купались в этом природном бассейне.
Я никогда в жизни не видел такого идиллического местечка. Прохладная зеленоватая тень от нависших арками перистых пальмовых листьев, ровная, как газон, травка на берегу бассейна и пышные купы водяных растений с душистыми оранжевыми и белыми цветами, похожими на орхидеи. Кроме нас в долинке обитала большая стая невероятно пестрых попугаев, которые, непрерывно болтая, перепархивали с дерева на дерево. Ни малейшего ветерка, и тысячи сверкающих золотых бабочек тучами поднимаются и опускаются к мелкой воде у берегов. Доре изобразил рай так же точно, как и ад. Эта декорация была приготовлена самой природой для Адама и Евы; даже яблоки тут имелись, но Альма нарушила традицию. Она так и не рискнула их попробовать, хотя они были приятного розового цвета и росли на дереве, похожем на дикую яблоню. Память об этом дне мы сохраним до конца жизни.
Разумеется, мы пробыли там слишком долго — и до сих пор делаем вид, что только из-за очередных часов, которые я посеял в цветнике возле бассейна, — нам пришлось угадывать время по солнцу. А солнце возле экватора несется, как скаковая лошадь, и время по нему вычислить трудно. Место, где мы раньше вышли из леса, мы отметили зарубкой на коре и, когда подошли к нему, поняли, что вот-вот начнет темнеть. Но тогда мы были так счастливы и умиротворены полным слиянием с природой, что не придали этому значения.
Возвращаясь через рощицу, похожую на сад, мы, должно быть, сбились с направления и вышли на небольшую полянку, на которой стояли три высоких, отчасти уже сухих дерева. На их вершинах еще горело золото заката, а мы уже стояли в густой тени. Когда мы подошли поближе, с верхушки самого большого и самого гнилого дерева раздалось ворчание и фырканье, которые все нарастали. Поднявшись до небольшого крещендо, шум, постепенно затихая, превратился в тоненькое хныканье. Мы застыли на месте и некоторое время глядели вверх, стараясь разглядеть дупло, если оно там было. Дерево было начисто лишено листвы, но ни животного, ни отверстия дупла мы не видели. Затем шум послышался снова.
На этот раз что-то довольно крупное на минуту показалось на конце сухого сука и снова спряталось. Так как оно явно выглядывало из дупла, мы отбежали подальше к лесу, откуда можно было увидеть отверстие. Но его заслонили густые заросли, и мне пришлось влезать на дерево. Добравшись почти до самой верхушки, я разглядел над моей головой большое дупло в громадном мертвом дереве. Там я увидел что-то очень подвижное и крикнул вниз, Альме, чтобы она принесла ружье. Когда она уже почти добралась до меня с ружьем, из дупла вылезло, пятясь, крупное, похожее на кошку животное и, припав к суку, зарычало на кого-то оставшегося в дупле. Я ждал, что оно в любой момент нырнет обратно, но оно не трогалось, пока я не взял в руки ружье. Ох и долго же я загонял на место патроны, но наконец и с этим было покончено. Я медленно поднял ружье, сохраняя равновесие по мере сил, — животное находилось гораздо выше — и выстрелил.
После выстрела произошло сразу несколько событий. Из-за отдачи я потерял равновесие, выпалил в белый свет из второго ствола, схватился за сук, который не выдержал моего веса, и едва не свалился с дерева.
Весь этот переполох так напугал Альму, что она стала падать вниз, задевая по дороге ветку за веткой; тут уж я пришел в ужас и поэтому не заметил, что произошло со зверем. Когда я наконец взглянул вверх, он лежал в дупле, высунув голову, видимо убитый наповал. Я быстро спустился на землю. Альма, вся исцарапанная, жаловалась на боль в правой ноге. Я испугался, не сломана ли нога, но, так как ступать на нее было не очень больно, на душе у меня стало легче. Альма проковыляла к подножию большого дерева и прилегла отдохнуть.
Предстояло решить несколько задач. Сумерки сгущались, вряд ли Альма сможет далеко пройти с больной ногой, и, наконец, в дупле лежало убитое животное. Мы посоветовались и решили, что до нашей вырубки все равно так далеко, что можно задержаться на несколько минут или даже часов — это ничего не изменит, потому что большую часть пути придется пройти в темноте, спеши не спеши. Мы подумали, что лучше всего снять добычу, пока светло, а Альма тем временем немного придет в себя и проверит, как ее слушается ушибленная нога.
Влезть на лишенное сучьев, абсолютно гладкое дерево было невозможно, хотя оно и клонилось под острым углом. Оно прогнило насквозь и внутри было полое, а у корней зияла дыра. Перебрав несколько вариантов, мы пришли к выводу, что быстрее всего просто срубить дерево. У нас было два хорошо отточенных мачете, да и рубить предстояло не так уж долго — вес ствола и сучьев поможет свалить прогнившее дерево. Я энергично взялся за дело. Но рубить дерево, даже вконец прогнившее, при помощи мачете — дело непростое, а древесина оказалась на удивление твердой. Сколько времени прошло после наступления темноты и как долго я трудился, я не заметил, но в конце концов дерево зловеще затрещало и свалилось, круша сучья.
Ночь была безлунная, и мы развели громадный костер из сухих сучьев. Сцена, думаю, фантастическая. Как только колоссальный скелет дерева рухнул, ломая подрост, я бросился бегом вдоль ствола искать дупло, но найти на упавшем дереве дупло, которое видел только наверху, оказалось очень трудно. Все мешало ориентироваться, и, пока я определил, где дупло, прошло несколько минут. У меня упало сердце — дупло оказалось глубоким и пустым. Что бы там ни сидело, оно наверняка провалилось вглубь, когда дерево падало. Вдруг там что-то шевельнулось; кто-то выглянул из дупла и был таков. Я крикнул Альме, чтобы принесла фонарь — к счастью, в рюкзаке для сборов был и фонарь. Ушибленная нога отошла, Альма двигалась с прежней легкостью; она вскочила, подбежала и подала мне фонарь. Я сунул фонарь в дупло и следом просунул голову.
Я смотрел в длиннющую трубу, заполненную коричневой трухой. У отверстия толпились отвратительные крупные амблипиги, хлыстоногие скорпионы, но далеко в глубине кто-то царапался и рычал. Альма вернулась к комлю дерева и подтвердила, что там кто-то есть.
Оставалось только одно. Мы загородили верхнее отверстие обломками сучьев, а потом развели огонь у комля и стали загонять дым в трубу при помощи моей рубашки. Когда огонь разгорелся, я побежал к верхнему отверстию, убрал несколько сучьев и стал ждать. Целую вечность внутри ничто не шевелилось, а потом из дупла на моем конце с превеликой осторожностью высунулась престранная личность. Глядя сверху вниз, я никак не мог сообразить, кто бы это был. Поначалу физиономия спряталась, потом, кашлянув совсем по-человечески, снова высунулась. Мордочка была длинная и острая. Я резко ударил рукояткой мачете прямо между ушей, потом повернул мачете, пригвоздил животное к месту и во весь голос позвал Альму. Она подбежала, взяла у меня фонарь, и я смог вытащить зверя наружу.
Это была носуха, или коати (Nasua vittata), хотя довольно необычная, мы таких еще не видели. Этих животных — нечто вроде енотов с кольчато-окрашенными хвостами и длинными мордочками — можно увидеть в любом зоопарке. Образ жизни зверя мне незнаком — я впервые столкнулся с ним в природной среде. Известно, что они живут на деревьях, плотоядны; есть сведения, что они питаются в основном птичьими яйцами.
Мы были в таком восторге от успеха, что совсем позабыли о своих трудностях, уселись на ствол и стали рассматривать добычу — это всегда увлекательно. Нужно хорошенько разобраться во всем до мелочей — наружные паразиты, железы, особенности окраса и так далее — все представляет большой интерес. Мы были поглощены осмотром несколько минут, потом вытащили сигареты.
Альма поднесла мне зажженную спичку, но не успел я прикурить, как она ахнула и отшатнулась. Я подскочил, решив, что из-под ствола выползает змея, но Альма не сводила глаз с кучи, сбитой падением листвы у меня под ногами.
— Айвен, смотри, там какой-то зверь! — сказала она, показывая туда пальцем.
Я ничего особенного не замечал.
— Да вон же, вон там! — сказала Альма, вспрыгивая на поверженное дерево. — Давай сюда мачете!
Потом она наклонилась и ткнула мачете во что-то, на что я смотрел в упор, но не видел. Оно было темное и высовывалось из-под дерева. Я наклонился, пощупал — мягкое, пушистое. И вправду, зверь!
Зверь был крепко зажат между сломанным кустарником и нижней частью ствола и, судя по всему, уже не дышал. Вырубив множество сучьев, мы наконец высвободили и вытащили тушу. Зверь был крупный, темно-бурый, весь покрыт равномерными серыми пятнышками — хищник из рода кошек, ягуаронди (Herpailurus jaguarondi). Один бок у него был весь в крови, я стер ее пучком листьев и увидел, что она сочится из многочисленных мелких ранок. Рассмотрев их, мы убедились, что это дырки от охотничьей картечи, и все стало ясно.
Это было то самое животное, в которое я стрелял и которое там же, наверху, погибло. Коати все время сидела в дупле, и мы слышали, когда подошли, шум сражения за дупло или за жизнь коати. Так мы разом добыли два ценнейших экземпляра. Особенно мы радовались второму — это одна из самых интересных небольших кошек, сильно варьирующая по размерам и окрасу, а экземпляров из Суринама в коллекциях было очень мало, если только они вообще есть.
Наконец-то мы с легким сердцем обратились к нашим личным проблемам. Ну и что же, что мы застряли в лесу на всю ночь, ведь добыча с лихвой вознаграждала нас. Подкрепившись шоколадом и увязав зверей тонкими лианами, так что их можно было тащить на плечах, мы пошли на юго-запад, зная, что рано или поздно выйдем на тропу золотоискателей, или на рельсы для вагонеток, проложенные к лагерю от станции железной дороги, или на саму железную дорогу. Два часа мы шли и карабкались по склонам без лишних разговоров, только разок остановились перекурить.
Должно быть, тут-то мы и заблудились. Направление мы выбрали правильное, но, неприметно забирая все больше к востоку, насколько можно было понять, прошли мимо старательской тропы — там, где она уже кончилась. Как бы то ни было, мы ее пропустили и брели дальше, изнемогая от усталости и жажды, еще несколько часов. За эти часы мы сильно пали духом, и я стал уже прикидывать, сколько времени понадобится, чтобы в темноте пройти расстояние, которое мы прошли утром при свете солнца. Подсчеты не сходились, да и пользы от них все равно никакой не было. Мы забрели в кошмарную местность с отвесными скалами и глубокими расщелинами, о существовании которой просто не подозревали.
Если три часа у нас ушло на добычу коати и ягуаронди, то проплутали мы, продираясь сквозь заросли, не меньше шести часов. Признаюсь, мы уже приняли решение устроиться на ночевку в лесу, как вдруг я заметил раскачивающийся между деревьями фонарь. Я схватил Альму за руку, и мы радостно ждали, когда он приблизится. Когда огонь стал ближе, я крикнул. Ответа не было, но огонек, все еще далекий, приближался.
Озадаченные, мы ждали, как вдруг, откуда ни возьмись, появился второй фонарик. Оба приближались очень быстро, хотя все еще, казалось, светили издалека. Внезапно они налетели прямо на нас и промчались мимо. Это были крохотные яркие огоньки, фонарики жуков-светляков. В их поразительном сходстве с далеким светом фонаря было что-то жуткое. Разочарованные, мы потащились дальше.
Вдруг мы вступили в долину фей и увидели незабываемое зрелище. И раньше фонарики плясали повсюду вокруг нас, но тут, в волшебной долине, их были мириады. На одном дереве они висели гирляндами, как лампочки на елке. Когда мы потрясли ветку, фонарики загорелись ярким зеленым светом, а потом жуки взлетели в воздух, при этом у них на концах брюшка вспыхнули янтарные огни. Это были те же самые жуки, которых мы собирали на Тринидаде.
В эту минуту я внезапно услышал очень заинтересовавший меня звук. Я поворачивался в разные стороны, приложив руки к ушам — да, точно, это жабы квакают хором где-то далеко справа. А мы, надо сказать, знали точно, что жабы, которые так квакают (Bufo paracnemis), в Суринаме никогда не живут в чаще леса. Они держатся на полянах, чаще всего на вырубках. Мы поспешили в ту сторону, где раздавалось кваканье. Оно слышалось все ближе и ближе, и мы с трудом пробивались через все более густые заросли кустарников, как вдруг совершенно неожиданно вышли на вырубку и увидели наш лагерь. В три часа ночи мы наконец попали домой — от бесконечных, изнурительных скитаний нас спасли экологические исследования местных лягушечьих популяций! Усталые и замученные, мы еле взобрались по крутому склону.
А теперь снова настала очередь истории с дурукули. Когда мы подошли к кухне, все еще ярко освещенной, встречать нас выбежал не один Ричи: целая толпа невысоких человечков выскочила нам навстречу, размахивая ружьями. Сначала мы перепугались, а потом узнали некоторых из наших индейских приятелей. Они вернулись в кухню вместе с нами и развязали мешок.
— Мы жди с найт-ап, — сказали они и показали зверька.
Мы были измучены до крайности, но не смогли удержаться от смеха: это была вовсе не дурукули, вообще не обезьяна и не мартышка, а кинкажу (Potos flavus). Индейцы стояли на своем, мы тоже не сдавались. Для них это была найт-ап, обезьянка, а для нас — кинкажу, родич енота, и все тут. Мы купили зверька и пообедали — скорее поужинали. День завершился.
Еще два зверя попали к нам на стоянке «девяносто один с половиной». Первый прибыл в небольшом ящичке с соблазнительной надписью: «Виски «Белая лошадь»». Содержимое, в соответствии с надписью, оказалось сногсшибательным. Когда мы приподняли крышку, оттуда выглянула длинная мордочка, пара торчащих ушей и самые мутно-слезливые глазки, какие мне только доводилось видеть. Собственно, мордочки не было, было длиннющее рыльце. Зверек громко засопел и спрятался. Это самое большее, что можно ждать от этого зверька и ему подобных. Малый муравьед (Tamandua tetradactyla) — животное, у которого, несомненно, должны быть очень интересные привычки, если бы удалось наблюдать его в природных условиях.
До сих пор мне не везло, и мы видели только одного зверька из окна поезда по дороге в Парамарибо. Он оживленно копался в листве на конце толстой лианы, высунувшейся из зарослей.
Другой зверь пожаловал к нам сам, по доброй воле, хотя и был одним из самых робких созданий в Суринаме. Незадолго до отъезда из «девяносто первого с половиной» я встал пораньше и вышел в лес, окутанный утренней дымкой. С холма, на котором стоял наш дом, открывался чудесный вид. Луна еще не закатилась, а солнце не встало, но их слитного света было достаточно, чтобы высветить всю утопающую в зелени долину подо мной. В низинах лежали широкие заводи текучего, пушистого белого тумана. Мир безмолвствовал; даже насекомых словно поглотило всеобщее забытье. Листва все еще казалась резной черной плоской филигранью, а небо уже светилось светло-пурпурным и розовым сиянием.
На задах нашего дома послышались какие-то скребущие звуки. Я прислушался и подумал: «Кто это там возится?» Для мелких летучих мышей, обитающих на чердаке, звуки были слишком громкие, настойчивые. Я зашел за дом, чтобы выяснить, кто там скребется.
На коньке крытой дранкой крыши, вырисовываясь на фоне чистого утреннего неба, стоял на задних лапах зверь с мордой, похожей на клоунскую маску, и наносил в пустоту удары сжатыми кулачками — вылитый боксер, отрабатывающий удар, — при этом он громко сопел. Еще недостаточно рассвело, и я не понял, что это за зверь, но кое-какие догадки у меня были. Я сбегал за самодельной лестницей и влез на крышу. Догадки оправдались — это был цепкохвостый дикобраз (Coendon prehensilis). Однако как же он забрался на крышу, когда рядом с домом не было ни одного дерева? С какой стати это нелюдимое животное при ярком свете оказалось на крыше дома, где жил зоолог, было вообще недоступно моему пониманию.
Если получше разглядеть этого зверька, то можно убедиться, что у природы есть чувство юмора, похожее на наше с вами. Из всех потешных рожиц, смахивающих на мордочку крысы или какого-то другого грызуна, эта самая потешная. Достаточно было бы громадного розового носа и выпученных черных глазок, но ведь зверек еще и выкидывает разные фокусы, точь-в-точь как маленький человечек. Я так его и зову — Лесной Клоун. Он то встает на задние лапки и боксирует, как заправский боксер; то бродит, качаясь, как пьяница; то чихает, потом сердито бормочет что-то себе под нос или вдруг тащит сам себя за хвост, стоя на нем, и, конечно, валится навзничь. Все свои трюки, однако, он демонстрирует с глубочайшей серьезностью, и непременно в заключение по его и без того всегда озадаченной физиономии разливается выражение оскорбленного удивления. Но, несмотря на смехотворную наружность и шутовство, это животное очень хорошо приспособлено к своей стихии, хотя в неволе, как мы заметили, у него не хватает ума, чтобы вытащить собственные иглы из своих «ладошек», — он дожидается, пока они, вызвав болезненные гноящиеся язвы, не вывалятся сами собой.
Я вызвал «всех наверх», и мы изловили гостя. Он был помещен в прочную клетку, два дня бегал по ней трусцой, поглощая неимоверное количество орехов и фруктов, а потом всего за два часа прогрыз дыру почти в целый фут диаметром и вернулся в родные джунгли — возможно, чтобы сообщить своим собратьям, какие все-таки недотепы эти люди.
Ящики для снаряжения были сколочены. Мы упаковали все свои пожитки, а то, что не было нужно для работы в лесу, было отправлено на склад в Парамарибо. Закончены зарисовки, приведены в порядок записи, последних пойманных лягушек мы выпустили на волю. Я сидел и глядел на великие зеленые джунгли: молчаливые, притихшие под знойными лучами солнца, они уходили к горизонту зелеными волнами, громоздились валами буйной зелени. В мечтах я унесся далеко за горизонт, в бесконечность зеленых волн, в бескрайнее зеленое море — на сотни и сотни миль. Я был счастлив. Передо мной простиралось нечто осязаемое, реальное, живое, неподвластное человеку, быть может, до скончания веков неприступное для человеческой цивилизации. Какая-то странная птица монотонно кричала в лесу — какой знакомый голос! Он звенел, навсегда связанный с памятью о днях, проведенных у великих рек и малых речушек, о высоких сводах лесных соборов, о душистых купах водяных цветов. Он нес в себе что-то близкое к истинному покою.
Был полдень, и лес купался в ослепительных лучах солнца. Мухи сновали в неподвижном воздухе, какое-то варево кипело, булькая, на кухне — в маленькой, крытой пальмовыми листьями хижине, притулившейся на краю вырубки. В такие часы в тропическом лесу на высоту фута четыре над землей расстилается тишина. Поэтому мы все разом встрепенулись, услышав вдалеке скрип и дребезжание, возвещавшие о прибытии вагонетки с нашей еженедельной почтой. Мы ждали, прислушиваясь; стук колес приближался. С глубокой печалью мы встали из-за стола и пошли встречать почту.
Как мы и опасались, пришло письмо — ненавистная рука цивилизации дотянулась сюда, в чистую прелесть дикой природы. Это был безапелляционный вызов; обернутый в жалкий клочок бумаги, он пересекал нашу истинную жизнь, как перекресток — дорогу, внезапно отзывая нас обратно, в тот организованный сумасшедший дом, в котором, не сомневаюсь, нам суждено жить — ведь мы сами его устроили.
[1] Terra firme (лат.) — «твердая земля». (Примеч. пер.)




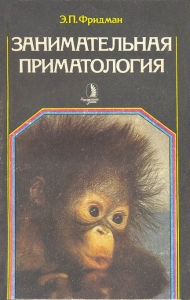
Комментарии к книге «Карибские сокровища», Айвен Сандерсон
Всего 0 комментариев