Вячеслав Иванович Пальман Песни чёрного дрозда
Глава первая ЗОВ ОХОТНИЧЬЕГО РОГА
1
Он сидел на удобной ветке самого высокого явора, над кудрявым, светло-зелёным лесом, и самозабвенно, как это бывает только в начале лета, пел свою бесконечную, красивую песню.
Ниже, на том же дереве, в прочной развилке чернело хорошо замаскированное гнездо, крепко свитое из тонких побегов берёзы, которые он три недели назад отрывал сильным клювом, приносил сюда и старательно заплетал на развилке. Когда гнездо получилось, он вместе со своей молчаливой подругой смазал жирной глиной вчерне готовое гнездо, загладил круглую, удобную чашечку и, прежде чем оно подсохло, устелил внутри сперва сухим мхом, а потом пёрышками и пухом со своей собственной груди.
Скоро в гнезде появилось шесть голубых яичек с крупными тёмными пятнами на тупом конце. Подруга разложила их звёздочкой, острыми концами к середине, как ей удобно, и села сверху, разлохматив мягкое оперение. У чёрного дрозда наступила пора счастливого покоя. Он заполнил дни ожидания долгой и звучной песней, в которую вложил всю радость жизни и счастья быть семьянином. Дрозд пел для своей подруги, она слушала его голос и ощущала приятную близость своего верного пернатого красавца. Покой наполнял её маленькую головку, не обременённую чрезмерными заботами. Лишь изредка она приподнималась и осторожно перекатывала тонкими ногами тёплые яички, меняя их местами, да ещё в полдень слетала ненадолго с гнёзда, чтобы подкрепиться личинками и червями на сырой земле около своего явора. Пролетая мимо хозяина, она отрывисто произносила: «Черр-кэ-черрк»! — и пикировала вниз. И если дрозд не сразу понимал, что от него требуется, и с подчёркнутой элегантностью опускался рядом с ней на землю, то дроздиха ещё раз произносила «тр-ра-ра-черрк», но уже резче, в приказном тоне; дрозд вертел головой, вслушиваясь, и, разобрав, что к чему, послушно взмывал на явор. Минуту-другую он топтался на ветках у самого гнёзда и не без тяжкого вздоха, неловко, по-мужски, садился на тёплые яички. Что поделаешь!..
Сидел, закрыв глаза, словно стеснялся.
Насытившись, прилетала дроздиха, ревниво оглядывала притихшего на гнезде друга и, найдя, что все в порядке, садилась рядом с гнездом, начинала неторопливо перебирать пёрышки, всячески охорашиваться. А он изнывал от непривычного занятия, поглядывал на неё острым, круглым глазом, но без разрешения не подымался, потому что был все-таки чутким супругом.
Отдохнув и закончив туалет, дроздиха снова говорила своё короткое «чер-рр-к», теперь уже спокойно, даже с оттенком некоторой благодарности, и тогда послушный дрозд неловко вылезал из насиженного гнёзда. Сделав над притихшей супругой круг почёта, он с лёгким сердцем опять взносился на самую вершину явора. Через минуту оттуда на весь лес, на всю вселенную раздавалась его звучная песня.
Он был счастлив, этот чёрный дрозд, и он пел о своём маленьком, но, право же, самом настоящем счастье. Все вокруг было так хорошо, так просто и понятно, что иногда ему хотелось взлететь высоко-высоко, к снежным вершинам и петь оттуда, с этой высоты…
Зорким глазом дрозд и во время пения видел все, что делается среди густейшей зелени леса, под высокими деревьями, в кустах, обильно смоченных росой, на влажной земле, и в любую минуту мог лететь навстречу опасности, если она угрожала гнезду.
В тот день ещё с утра он приметил бурую тушу крупного оленя, дремавшего неподалёку от явора под густым боярышником. Низко опустив рогастую голову, одинокий олень спал, поджав под себя ноги, но уши его все время насторожённо торчали и автоматически поворачивались в разные стороны, прослушивая воздух. Олень и во сне был начеку.
Весь день чёрный дрозд видел хлопотливых зябликов, стрелой проносившихся от гнёзда на поляну перед оленем и обратно. Их озабоченный вид и эта непрестанная работёнка означали только одно: у зябликов вылупились птенцы. Над гнездом их на старой рябине молчаливо и выразительно краснели широко раскрытые просящие рты, поднятые к небу. Сверху кучка птенцов в гнезде напоминала букет шевелящейся дикой гвоздики. Птенцы без конца просили есть.
И вдруг он замолчал, оборвав свою звучную песню на полуфразе. И сразу что-то изменилось в лесу. Дроздиха вытянула шею через край гнёзда и стала всматриваться в затихающий к вечеру лес. Олень быстро поднял голову, уши его окаменели, блестящие глаза раскрылись, высматривая опасность. Раз смолкла песня, значит, дрозд увидел непривычное, странное. Зяблики, печально чирикнув, спрятались у самого гнёзда. Их птенцы сжались в гнезде, и красная гвоздика исчезла.
Дрозд перепорхнул пониже. Его тревожное «кррэ-рэ-рэ», «кррэ-рэ-трр-рэ» барабанной дробью пронеслось в тихом лесу. Он разглядел внизу ласку, опасного врага. Змеиное тело её почти бесшумно и гибко обегало камни, стволы, тонкая подвижная мордочка умно и быстро осматривала каждую травинку на пути. Жестокие глаза маленькой хищницы уже приметили под явором обильные пятна белого помёта. Она заволновалась, вздёрнулась вверх, стараясь рассмотреть гнездо сквозь густую листву, и живо обежала дерево, выискивая путь наверх.
Олень немного успокоился, когда услышал шуршащее движение ласки. Но уже не дремал, а тоже наблюдал за быстрым зверьком, отлично разбираясь в тихих звуках и в сгущающейся темноте.
Теперь тревожное «кр-рр-тк», «кр-рр-тк» раздавалось совсем рядом, над землёй. Ласка вспрыгнула на мёртвый сучок явора и потянулась выше. Она наверняка знала, что тут гнездо. Дроздиха втянула шею и затаилась. Что будет?..
Чёрное тело дрозда наискосок прорезало листву и, чуть не коснувшись тёплым крылом зубастого рта хищницы, бессильно упало в траву. Коварная мордочка ласки тотчас склонилась вниз. Под ней билась и трепыхалась птица. Ласка расчётливо прыгнула на глупого дрозда. Он, кажется, чудом избежал её зубов, отскочил, волоча крыло. Ласка подпрыгнула и развёрнутой пружиной скользнула вслед за ним. Полуживой дрозд ещё раз издал предсмертный крик и снова ускользнул. Уже в азарте, распалённая ласка скакала за ним, не помня себя. Погоня двигалась прямо к оленю. Он все ещё лежал, высоко подняв чуткую морду. Влажный нос его двигался. Дрозд оказался рядом, ловко перепорхнул через оленя, через куст боярышника за оленем и с победным «черр-ка, черр-ка-черрк» стремительно полетел куда-то в глубь тёмного леса. А олень вдруг вскочил, рассерженно фукнул. Ласка шарахнулась в сторону, тяжёлые копыта чуть не вмяли её в землю. Забыв о хитром дрозде, о яворе с гнездом, она скользнула меж камней, и шелест травы тотчас затих в вечернем лесу.
Олень потоптался на месте, вздохнул и стал делать разминку: выгнул спину, потянул назад одну заднюю ногу, другую, ещё сделал два-три упражнения, после чего спокойно пошёл вверх по склону, ощущая потребность в траве и соли.
Чёрный дрозд благодарно пролетел над ним, потом над своим гнездом и в последний раз пропел короткую мелодию — песню победы.
За Кавказскими горами тихо угасала вечерняя заря. Красное на западе потускнело, полоска света сделалась сперва тяжело-малиновой, потом алой, а все высокое, просторное небо над хребтом, над лесными увалами, дальше которых лежала такая же просторная, как небо, кубанская степь, — все бесконечное небо за каких-нибудь полчаса сделалось из голубого зелёным, иссиня-тёмным, и на этом тёмном, словно на негативе, чётко и строго проявились белые вершины Главного хребта. Настала ночь.
И все вдруг увиделось по-иному: загадочно и мертво. От одного взгляда на белые вершины, позади которых опустилось чёрное небо, делалось холодно и жутковато.
Чёрный дрозд сидел у гнёзда, привычно поджав ножки и касаясь мягким брюшком тёплой ветки явора. Он тоже спал.
Возле сохранённого родного гнёзда.
2
Раньше всех утром проснулись зяблики.
Они взлетели выше леса и, убедившись, что заря занялась всерьёз и розовеющее небо уже не потухнет, без всякой подготовки принялись деятельно сновать туда-сюда в ещё сумрачном лесу и кормить своих ненасытных птенцов, проголодавшихся за короткую ночь. Букет красных гвоздичек снова шевелился и жил над гнездом. За дело, родители! Быстрей, быстрей…
Умытый росой, занавешенный туманом, горный лес просыпался под птичий пересвист и разноголосое шуршание обсыхающей листвы.
Ночная прохлада помаленьку скатывалась вместе с туманами и сыростью в глубокие ущелья. Сверху и одновременно из долин подступало тепло.
Колокольчики раскрывались прямо на глазах. Отяжелевшие от росы ветки жасмина стряхивали воду, выпрямлялись, их белые, стеариново-чистые цветы запахли так сильно, что на время перебили все остальные запахи. Даже серые гранитные камни, подсыхая, издавали рассеянный запах сожжённого кремня. Лес нагревался, все живое в нем потягивалось от сна и старательно ловило солнце.
Чёрный дрозд звонко, почти непрестанно пел на своём высоченном яворе. Обычно застенчивый, умеющий прятаться, он сидел так, чтобы видели все. Он увлечённо щёлкал, старательно выводил флейтовые, очень ясные звуки, а порой принимался пересмешничать, довольно похоже изображая шипение злой ласки, мяуканье рыси, карканье ворона и весёлый перебор чижиной песни. Он, как всегда, был весел, остроумен и начисто вычеркнул из памяти вчерашний поединок с лаской. Умолкая, дрозд прислушивался к звукам леса и терпеливо ожидал, когда его супруге потребуется смена.
Но сегодня она что-то не торопилась, упорно сидела в гнезде, почти упрятав в шейное оперение свою темноклювую головку. Она казалась очень занятой и сосредоточенной. Что-то не то…
Дрозд с громким криком вспорхнул и, уступая щекочущему желанию поразмять косточки, а возможно, и с целью привлечь внимание дроздихи, полетел вдоль склона горы, быстро вымахав на самую границу цветущих лугов. Потоки тёплого воздуха качали его на невидимых волнах, сносили вниз над ущельями, бросали из стороны в сторону, и дрозд, наверное, испытывал огромное удовлетворение, всецело отдавшись захватывающей воздушной акробатике.
Облетев свою гору, дрозд плавно скользнул в долину и, все так же купаясь в потоке воздуха, обследовал её до старой лесовозной дороги. Только тут он позволил себе присесть на светло-зелёный бук. Тотчас раздалась его музыкальная трель. Исполнив её, он подскочил и нырнул вниз, где увидел, наконец, вчерашнего оленя, свидетеля схватки с коварной лаской.
Олень сперва услышал, а потом и заметил птицу, уши его дрогнули. Он стоял между двух горбатых скал, упрятав коричневое тело под густым кустом ольхи, выросшей у болотца. Олень, видно, собирался лечь, когда дрозд поприветствовал его как старого знакомого, и теперь ждал, не придумает ли ещё что-нибудь эта весёлая, забавная птица, его добрый друг и верный страж спокойствия.
Дрозд слетел пониже, закачался на тонюсенькой ветке почти над самой оленьей спиной, изобразив в звуках несомненное удовольствие от встречи. И тут же, желая повеселить животное, замяукал по-рысиному, а потом свистнул, как озорной мальчишка, и смело перескочил на спину оленя. Тот передёрнул кожей, повернул уши назад, а дрозд уже деловито переступал по спине и шарил клювом в густой оленьей шерсти. Рогач замер от наслаждения, уши его вяло свалились. Все спокойно, все хорошо, можно и постоять, пусть он там пощекочет в своё и в его удовольствие…
Идиллия кончилась внезапно. Дрозд подскочил, пересел на ветку и издал предупреждающее «че-еррк-фьють». Олень насторожился и подобрался, готовый умчаться. Но умная птица не повторила звука тревоги, а молча снялась и полетела вниз по долине, туда, где была дорога.
Каким-то очень изощрённым слухом или чутьём дрозд прежде оленя уловил странные и очень слабые звуки на этой дороге. Звуки в общем-то не привычные для леса, хотя и не страшные. Кажется, он их слышал уже не однажды. И теперь хотел проверить, так ли это.
В километре от оленя на дороге, полуприкрытой дубами, стоял человек с собакой. В руках его поблёскивал отполированный, чуть согнутый рог с красивым серебряным окладом и цепочкой, которая соединяла рог с ремённым поясом человека поверх старого брезентового плаща.
Поперёк груди у лесного путника висело ружьё. Рядом, касаясь левой ноги, стояла огромная черно-белая собака с короткими ушами на широкой, лобастой морде.
Грозный вид человека с ружьём и собакой почему-то не испугал дрозда. Он бесстрашно уселся в тридцати метрах от них и, явно адресуясь к собаке, громко, даже вызывающе, протрещал своё длинное «черр-ка-черр-к», а потом ещё и присвистнул.
Человек быстро глянул в его сторону и усмехнулся. Затем поднял рог к губам, и томительно-длинный звук, чем-то напоминающий призывный крик рогача в осенние месяцы, опять пролетел над долиной.
Ничего нового или неожиданного: этого человека с собакой, этот странный для тихого леса звук чёрный дрозд знал и слышал; словом, они были знакомы.
Сделав круг над оленем, который все ещё стоял и напряжённо вслушивался в едва долетавший звук рога, дрозд уселся на ветку, произнёс длинную щёлкающую фразу без всякого намёка на тревогу и тут же вспорхнул, помчавшись теперь уже напрямую, к своим родным местам, к своему лохматому явору. Может быть, он там нужен?
Дроздиха встретила его укоризненным молчанием. Он по вертелся рядом, посвистел вполголоса, но она и не подумала слетать с гнёзда. Похоже, она и не заметила своего дружка, потому что все время была занята непонятным, несколько странным делом: приподнималась над гнездом, поворачивалась или, наклонив головку, заглядывала себе под брюшко и нет-нет да и вытаскивала клювом разорванные скорлупки, брезгливо сбрасывая их за борт гнёзда.
Когда она поднялась и села на край гнёзда, дрозд увидел в чашечке из пуха не шесть привычных, пятнисто-голубых яичек, а пять птенцов с широко раскрытыми розовыми ртами. Беззвучный вопль рвался из этих жадных, самозабвенно отверстых ртов.
Он подпрыгнул и полетел искать личинки.
Дроздиха ещё немного посидела на краю гнёзда, отдохнула, потом долго ворочала клювом и ножками потускневшее яйцо-болтун, наконец выкатила его из гнёзда и не без усилий сбросила вниз.
С этого дня на протяжении многих недель никто не слышал на склоне горы, где стоит большой явор, весёлой песни чёрного дрозда.
Ему было некогда. Не до песен. Более серьёзные дела.
3
Олень постоял ещё немного, потоптался и лёг, поджав под себя сильные ноги.
В это утро у него нашлась отличная лёжка: с обеих сторон скалы, над ним нависла раскидистая ольха, а сзади стояла густейшая поросль шиповника в цвету. Лишь впереди открывался довольно широкий обзор через негустой лес, который подымался постепенно мельчавшим березняком к опушке. А там начинался альпийский луг. Здесь олень проведёт день, а на вечерней заре опять подымется к лугам, где прекрасная, сладкая трава и недалеко солонец.
Он опустил голову с потяжелевшими молодыми рогами, ещё покрытыми тёмной бархатной кожурой, и закрыл глаза.
Так прошёл час или два. Лес нашёптывал ему свои непонятные ласковые сказки, прохладная земля щекотно холодила брюхо и ноги, между скал потягивало тёплым ветром, и мошка не мешала оленю дремать.
В приятном полусне до ушей оленя наконец снова донеслись звуки, которые заставили его насторожиться. Он встал, вышел из укрытия и долго стоял, словно каменное изваяние, вслушиваясь и осматривая вокруг себя буковый лес.
Вот ещё печальное и мягкое «бээ-уэ-бээ-аа…» донеслось снизу. Олень переступил с ноги на ногу и, вытянув шею, осторожно пошёл на этот звук. Влажный нос его все время двигался, чутко улавливал все запахи леса. Уши стояли торчком. Выбравшись из чащобы, олень ускорил шаг, а потом нетерпеливо побежал, грациозно выбрасывая ноги и привычно откинув голову с толстыми молодыми рогами. Глаза его любопытно и жарко блестели.
Звук рога раздался совсем близко. Теперь прослушивалась даже хрипотца, когда человек недостаточно сильно дул в свой инструмент. Олень умерил шаг и тихо пошёл обочь заросшей дороги, скрытый кустами лещины. Он уже видел человека и собаку рядом с ним. Крупная, тупоносая морда собаки, заинтересованно повёрнутая к кустам, говорила о том, что и олень открыт. Их взгляды встретились на мгновение, хвост собаки заходил из стороны в сторону, но она не бросилась к оленю, а выразительно подняла морду.
— Увидел? — спросил человек свою собаку и, заранее улыбаясь, тоже стал осматривать кусты слева. Певучий рог он отбросил за спину. Звякнула цепочка. Наконец и он заметил, как дёрнулись листья на вершине одного нечаянно затронутого орешника.
— Хобик, я тебя вижу, — как-то очень спокойно, по-свойски произнёс он, не повышая голоса, и тут же сел на валежину, далеко отставив ружьё, чтобы не смущала железка осторожного дикаря.
Архыз тоже сел и радостно, нетерпеливо зевнул.
Однако Хобик вышел не сразу. Он ещё постоял за кустами, потом высунул только голову с рогами и переступил с места на место Александр Егорович Молчанов не глядел на гостя; наклонившись, он неспешно развязывал рюкзак. Запах печёного хлеба достиг оленьих ноздрей. Хобик высунулся весь, сделал несколько шагов вперёд. Архыз лёг, положив морду на вытянутые лапы.
Молчанов достал коробку с солью и, густо посыпав ломоть хлеба, положил его на валежину в одном метре от себя. Сказал тихонько:
— Все-таки дикарь ты, Хобик. Сколько мы с тобой не виделись? Три недели, да? И уже начинаешь отвыкать. А ты поправился за это время, вон какой гладкий сделался! Хорошо живёшь? А почему все один? Или уже не один, нашёл себе приятелей? Вот и приводи их сюда.
Он говорил, а между тем уже вынул фотоаппарат, прицелился в глазок видоискателя и, пока олень осторожно, кося выразительные глаза на человека и собаку, подходил к валежине, чтобы взять хлеб, несколько раз успел щёлкнуть аппаратом. И всякий раз какая-то судорога мгновенно встряхивала нервную морду оленя, а уши его сами прижимались к голове, потому что этот металлический звук страшил его.
Хобик вытянул губы лопаточкой и осторожно взял хлеб. Саша не потянулся к оленю, даже не пошевелился, только смотрел и улыбался. И олень осмелел. Стоял и смачно ел солёный хлеб. Вкусно!
Молчанов разглядывал своего питомца и вспоминал былое.
…Как же он вырос, как изменился за семь лет, прошедшие со дня их первой встречи на воле!
Тогда это был подросток на высоченных, жилистых ногах со вздутиями у колен, смешной, неуклюжий и беспомощный. Один год, проведённый вслед за этим с оленухой, усыновившей Хобика, уже изменил его внешность и повадки. В тот не очень счастливый для Саши Молчанова сезон, когда ловили в заповеднике опасного браконьера Козинского и когда Саша нежданно-негаданно потерял своего милого друга детства Таню Никитину, уехавшую в Ленинград вместе с женихом, а потом и мужем Виталием Капустиным, — в тот год Хобик очень удачно избег смерти, быстро возмужал и к зиме выглядел уже почти взрослым.
На какое-то время Саша Молчанов потерял тогда Хобика из виду, как, впрочем, и медвежонка Лобика, потерял не потому, что забыл, а посреди других потрясений, забот и поездок, связанных с Таней, затем с поступлением в Ростовский университет, с выездом на первые, очень обязательные сессии, он просто не находил времени для походов в глубинку заповедника, где жили звери, в том числе его олень и медведь. Позже, утвердившись в роли студента-заочника биофака, Молчанов, уже младший научный сотрудник заповедника, вновь стал искать своих давних питомцев, чтобы не терять столь дорогой ему дружбы, а заодно и продолжить разработку темы, подсказанной в своё время зоологом Котенко. Но установить близкую связь с одичавшими зверями после почти годичной разлуки оказалось очень сложным делом.
Вероятно, так бы и затерялся в заповеднике среди тысяч оленей этот вилорогий подросток с треугольным вырезом на левом ушке, если бы не Котенко, тогда же подавший Молчанову дельную мысль.
— Знаешь что… Сделай себе садок у солонца в долине Речного Креста, — сказал он после некоторого раздумья. — Сиди в потайке пять — семь суток, высматривай своего питомца. Рано или поздно он туда заявится. В этой благословенной долине бывает чуть ли не все наше семитысячное оленье стадо. Когда узнаешь Хобика, подбрось ему привычную с детства подкормку, ну, скажем, хлеб с солью. А сам не показывайся сразу, не спугивай. И потом вот ещё что… приучи-ка оленя связывать лакомство с каким-нибудь сигналом. По Павлову в общем, условный рефлекс, понимаешь?
— Свистеть, что ли? Или звонить? — спросил Саша, ещё не очень уверенный в удаче эксперимента.
— А что, это мысль! У меня где-то должен быть охотничий рог, нашли ребята в лесу, — похоже, ещё со времён великокняжеской охоты лежал под камнями. Вот на звук этого рога и попробуй. Благородный звук, напоминает брачный рёв рогача, только веселей.
Уже через день Саша сидел в засаде. Потом снова и снова. Так почти полмесяца, успел истомиться, разувериться. Но однажды узнал Хобика среди молодых красавцев-рогачей, узнал, конечно, по вырезу на левом ухе, не удержался от искушения, закричал: «Хобик, Хобик!» Дикарь тут же исчез со всем стадом, видимо, забыл прошлое и доброе, что было связано с этим словом. И слишком привык подчиняться стадному восприятию. Вновь Саша искал его на оленьих тропах и опять нашёл в лесу за Сергеевым гаем. И вот тогда-то удалось наконец положить на тропе кусок хлеба с солью. Все олени обошли приманку, как обходят мину, капкан, вообще опасное место, а Хобик остановился и взял. И когда взял, Саша затрубил в свой охотничий рог.
Этот звук совсем не испугал молодого оленя. Он спокойно съел находку и догнал стадо. Мало ли какие звуки в лесу!..
Потом операция «Охотничий рог» повторялась ещё четыре или пять раз. Так олень привыкал связывать два явления — лакомство, смутно напоминающее ему детство, и звук рота. Вскоре Саша протрубил в лесу, не положив хлеба. Хобик пришёл на знакомый сигнал, Саша при нем бросил хлеб. Дикарь, прежде чем взять лакомство на виду у человека, долго стоял в нерешительности, как бы задумавшись, вглядываясь в полузабытый образ, чутьём ощущая что-то доброе, близкое. Взял хлеб, съел и медленно ушёл.
Ещё через неделю, следуя по тропе Хобика, Саша показался ему вместе с Архызом. Олень насторожился, отступил, даже угрожающе потряс тяжёлыми рогами. Но умная собака не проявила ни малейшей враждебности.
В тот последний раз олень не ушёл от человека с собакой. Он уже тянулся к ним, но не дался, оставаясь одновременно и близко и далеко, приглядываясь вновь и вновь. Зато он ушёл из своего стада. Сверстники Хобика, а тем более взрослые рогачи не хотели и не могли понять, как можно стоять в сорока метрах от своих заклятых врагов — от собаки, от человека с ружьём! Они умчались. А Хобик остался.
Все последующие годы, как только наступал сезон тепла, Саша не упускал случая вызвать Хобика звуком охотничьего рога и встретиться с ним. Олень прибегал, если находился где-нибудь поблизости и слышал знакомый вызов. Это случалось пять — десять раз за лето. Лишь зимой их знакомство надолго обрывалось, потому что в холодное время года Молчанова постоянно удерживала в городе и в своём посёлке то камеральная работа, то студенческие хлопоты.
Встречаясь вновь весной или летом, Саша всякий раз удивлялся новому виду своего питомца.
Хобик представлял собой великолепный экземпляр кавказского благородного оленя. С каждым годом он становился красивей, величавее. Теперь он находился в расцвете мужественной красоты. Порода ли была тому причиной, или безбедное детство под надзором матери Молчанова, Елены Кузьминичны, а затем и под присмотром старой ланки, отдавшей, кстати сказать, свою жизнь за приёмыша, — утверждать трудно. Он, несомненно, выделялся среди других оленей прежде всего ростом и статью. Какая-то подчёркнуто горделивая поступь, а может быть, и всегдашняя приподнятость чувств делали его царственным, величественным. Светло-бежевая, гладкая и чистая шерсть плотно облегала развитую мускулатуру. Все в нем говорило о силе, готовности к действиям, умные глаза блестели неистраченной волей к жизни, чуткий нос подрагивал, тонкую голову с широким лбом он носил особенно гордо и независимо. Чудо-олень!
У Хобика к июлю вырастали великолепные рога. Год назад Молчанов ухитрился измерить их. Между дальними отростками, по шести на каждом роге, было чуть более ста десяти сантиметров. Ни единого изъяна в толщине, шоколадно-кофейной окраске их! Абсолютная симметрия обеих сторон.
Таким он безбоязненно и просто стоял сейчас рядом с Молчановым.
— Какой же ты красавец, Хобик! — вслух произнёс Саша, рассматривая оленя, который съел хлеб и ожидал нового куска. — Мне уже неловко как-то называть тебя этим уменьшительным именем: Хобик. Право, неловко. А что, если мы станем звать тебя… ну, скажем, Хоба. Звучит для тебя по-старому, не правда ли? А произносится хорошо, звонко.
Он протянул руку. Олень позволил этой руке, пахнущей хлебом и детством, погладить себя. Не переставая гладить шею оленя, Молчанов медленно поднялся, другой рукой протянул хлеб и, осмелев, хотел рулеткой обмерить туловище. Хоба блеснул глазом и отступил. Саша сделал шаг за ним.
Архыз сидел в двух метрах и, поворачивая морду вправо, влево, рассматривал друга детства с не меньшим любопытством, чем его хозяин.
Минута доверчивого молчания. И вдруг Хоба в порыве благодарных чувств потянулся и доверчиво положил свою венценосную голову на плечо Саши. Положил и протяжно, глубоко вздохнул, словно поделился какой-то тайной печалью.
— Друг ты мой, — сдавленно сказал Саша, и слезы выступили у него на глазах. — Друг ты мой, — повторил он, почему-то вспомнив сразу все, что было связано с этим оленем отца, Таню, Самура…
Хоба осторожно приподнял свою голову Саша близко увидел его блестящие, выразительные глаза, и ему показалось, что в них тоже слезы. Кто знает, какие драмы и душевные переживания случаются у диких животных?
Глава вторая И ГОРЬКО И РАДОСТНО
1
Вернувшись из лесу, Молчанов отправился в город, к своему другу и наставнику.
— Ну как? — спросил Котенко, едва только Александр переступил порог его кабинета.
— Порядок, — научный сотрудник безмятежно улыбался.
— Встретил обоих?
— Только одного Хоба.
— Почему Хоба, а не Хобика?
— Вырос он из своей старой клички, Ростислав Андреевич. Какой же Хобик, если ростом метр семьдесят в холке, а размах рогов метр десять. Не идёт к нему детское имя. Взрослый олень.
— Что ты говоришь?! — удивился Котенко. — Измерил или прикинул на глазок?
— Дался измерить. Завтра покажу вам новые фотографии.
— А ты займись этим сегодня, пока лаборатория свободна. К вечеру и посмотрим. Интересно очень.
— Можно и сегодня. — Молчанов разделся, снял сумку, осмотрелся. Спросил: — Как тут у вас, спокойно? Новостей нет?
Ростислав Андреевич досадливо отмахнулся:
— Какое там спокойно! Ты только послушай, о чем разговоры…
Объяснять он ничего не стал, но Молчанов вскоре заметил, что в главной конторе заповедника царило нервное возбуждение. Научные сотрудники ходили с замкнутыми лицами, в разговоре их то и дело прорывались нотки раздражения и какого-то угрюмого юмора. Это было тем более удивительно, что вообще-то здесь, сколько помнит Молчанов, всегда ощущалась атмосфера товарищества, доброй шутки и очень хорошей рабочей приподнятости, характерной для людей, искренне увлечённых своей работой. Сходившись вместе после длительных походов по глухим горным тропам и лесным урочищам, зоологи, охотоведы и ботаники с удовольствием делились впечатлениями, горячо рассказывали об удивительных встречах, подтрунивали друг над другом, тут же строили гипотезы, пытались спорить, обобщать — словом, выговаривались за все дни и недели, проведённые в молчаливом одиночестве с глазу на глаз с природой, и это вполне понятное настроение было столько же приятно, сколько и полезно для всех. Если возникал спор, то каждый отстаивал свою точку зрения, с жаром защищая её. И это тоже шло на пользу общему делу.
Что же произошло за две недели, пока он ходил по горам, отыскивая своего великолепного оленя?
В одном из центральных учреждений, которому подчинялся заповедник, недавно состоялось внеочередное совещание. Директор заповедника присутствовал на нем и по приезде домой с недоумением и досадой рассказал, о чем шла речь на этом совещании и какие решения там приняли. Чуть позже в контору заповедника почтой прибыл подробный доклад руководителя охотничьих хозяйств и заповедников Пахтана, и вот этот доклад вместе с информацией директора не только поразил, но и возмутил научных сотрудников.
— Знаешь, такого ещё не случалось, — с жаром сказал Александру Молчанову старейший работник заповедника Селянин. — Ты только подумай, что намечают сделать с разрешения нашего начальника: открыть заповедник для широчайшего туризма, не более и не менее. Это значит, рассечь заповедник дорогами, построить на этих дорогах кемпинги и автостоянки — словом, превратить охраняемые, не тронутые человеком территории в некое увеселительное место, в парки для приятного времяпрепровождения и отдыха. Это, понимаешь ли, сразу перечеркнёт то главное, чем русские заповедники отличаются, ну, скажем, от американских, от голландских: всю научную деятельность, работу по изучению биоценоза, и, конечно, после этого ни о каком сохранении нетронутых человеком естественных резерватов не может быть и речи.
Селянин размахивал руками, то и дело вытирал платком лицо, шею. Он действительно выглядел ошеломлённым, выбитым из равновесия.
Старого учёного нетрудно было понять.
Перемены на Земле начались давно.
«Людям, которые в Месопотамии, Греции, Малой Азии и в других местах выкорчёвывали леса, чтобы таким образом добыть пахотную землю, и не снилось, что они этим положили начало нынешнему запустению этих стран, лишив их вместе с лесами центров скопления и сохранения влаги».
Так писал Фридрих Энгельс в своей бессмертной «Диалектике природы».
Мы помним по романам Фенимора Купера о миллионных стадах бизонов, бродивших в прериях дикого Запада Америки. Сейчас нет прерий, есть пашни и глубочайшие каньоны. И только в зоопарках США можно ещё увидеть одиночных бизонов, чудом сохранившихся от истребления. Учёные знают, что за ушедшую тысячу лет на Земле полностью уничтожено более ста видов и подвидов крупных млекопитающих, в том числе около сорока только за последние пятьдесят лет.
Всего десять тысяч лет тому назад лесов на Земле было в три раза больше, чем сейчас. Пятьсот миллионов гектаров, ранее покрытых лесами, сегодня превратились в бесплодные пустыни прежде всего по берегам Средиземного моря, в местах древних цивилизаций, где скопилось тогда множество людей, создавших противоборствующие государства.
Уже трудно себе представить, как выглядела Европа, скажем, в тысячном году и какими были южнорусские степи всего двести лет назад, когда началось их превращение в пашни.
А ведь учёным, работающим в области долговременных прогнозов быстротекущей жизни, очень трудно делать какие-либо выводы, если они не знают, что было до нашего времени и какая природа окружала человека в недалёком прошлом. И учёным, которые, несомненно, будут двигать науку после нас, тоже необходимо для пользы дела знать, какая природа, какие ландшафты сопутствовали поколениям людей в двадцатом, двадцать первом и последующих веках.
Для этого и созданы заповедники, которые у нас в стране занимают в разных природных зонах всего-навсего одну десятую процента территории страны. Заповедниками надо дорожить хотя бы потому, что их так мало. И потому, что они важны для нации. Ничего не должно меняться на заповедной, охраняемой земле. Ничего! Пусть здесь стоят, как и прежде, древние могучие леса, шелестит степной ковыль, текут чистейшие ручьи и реки, размножаются в природных условиях дикие звери, птицы и рыбы. Нетронутые участки природы с устойчивыми законами развития помогут будущим поколениям не по книгам, гербариям и чучелам, а воочию увидеть то, что было до них сто, пятьсот, тысячу лет назад, — увидеть и сравнить с тем, что есть.
Директор заповедника и его заместитель по науке сидели, запершись, в кабинете и почти непрерывно звонили Пахтану. На вопросы им отвечали очень невразумительно, в лучшем случае, успокаивали, повторяя, что проблема ещё не решена окончательно. Самого Пахтана нигде не находили. Потом директор разговаривал с известнейшим учёным, который очень хорошо знал Кавказ, работал здесь когда-то много лет.
— Открыть резерват для посещения? Вы меня удивляете, — сказал он директору.
— Да, для туристов, для автотуристов, — повторил директор. — Я сам слышал эту фразу на совещании.
— Кстати, у вас и сейчас есть туристские маршруты по заповеднику?
— Они проходят самым краем заповедника, у западных его границ.
— Разве их недостаточно для знакомства с Кавказом?
— На совещании высказана мысль, что нельзя утаивать от путешественников естественную красоту в глубоких резерватах.
— Вы шутить изволите! — рассердился учёный.
Спустя несколько дней была получена телеграмма, извещающая коллектив заповедника, что к ним на днях выезжает старший специалист для разрешения всех недоуменных вопросов.
Похоже, что все уладится. И от этой доброй мысли постепенно спало нервное напряжение.
Однако в разрешение конфликта верили далеко не все. Зоолог Котенко хмуро щурился, слушая успокоительные разговоры.
— Я все же хотел бы знать, — сказал он резко, — зачем нам, к примеру, охотничий домик в заповеднике? Кем это разрешено, где управленцы взяли деньги для строительства?
Рубленый, снаружи серый и неказистый, охотничий дом внутри был отделан в очень современном стиле дорогими материалами и с большой тщательностью. Светлые комнаты с дубовыми панелями. Камин не без претензий на старину. Люстры. Хорошая кухня. Словом, приют для самых требовательных гостей.
Охотничий домик стоял в долине горной реки, на возвышенной второй террасе, в самом конце дороги, по которой ещё могла проходить машина с двумя ведущими осями. Дальше, в глубь заповедника, от этого места шли тропы — и по самой долине и сразу на подъем, к высокогорным лугам южного склона. Зона, где категорически запрещается стрельба, рыбная ловля, прогулки без особой на то надобности.
Вечером, уже на квартире Котенко, Александр Молчанов настойчиво спрашивал своего друга и руководителя:
— А что, если в самом деле разрешат туристам проходить через глубокий резерват? Или будет устроена охота в заповеднике? Что станет с нашими зверями?
— Я в подобную возможность не верю, Саша, — твёрдо отвечал Котенко. — Мы имеем дело с глубоким заблуждением у людей, которые твёрдо ещё не знают, зачем нужны заповедники. Красивых мест на просторах России, слава богу, не мало и без заповедников. Хотя бы у нас на Кавказе, западнее Кушта. Отличнейшие ландшафты. Приходи, любуйся! Если удастся создать вблизи наших границ посещаемые национальные парки, заповедник от этого крупно выиграет. Пока что в пограничных с нами лесах идёт заготовка древесины. Будут парки — рубку запретят. С юга и севера нас сжимают угодья разных ведомств. Их тоже не станет, если будет парк. И браконьерство поуменьшится, ведь в парках такого рода существует полный запрет на стрельбу.
— А дом в южном отделе? — не унимался Молчанов.
— Не знаю, не знаю… — Котенко, видимо, не хотел делиться своими домыслами на этот счёт. — Вот скоро приедет товарищ из отдела, и все выяснится. Подождём, подумаем.
— Неужели и вправду кто-то собирается охотиться в черте заповедника? — Молчанов не мог этому верить и не хотел.
Он отказывался понимать охотников вообще. Зачем бить птицу и зверя? Какой это спорт, какой это «активный отдых», если он связан с кровью, со смертью? Ладно бы выходили на охоту с копьём, луком и стрелами. Идут-то с дальнобойным оружием, с капроновыми силками и сетями, с капканами, словом, охотники берут дичь не ловкостью, не атлетизмом и силой мускулов, а коварством, хитростью, обманом. И это считается отдыхом, спортом? Стрелять можно научиться в тире, по мишеням, по летающим тарелкам. Но стрелять по живому… и ещё испытывать при этом удовольствие?
Ему всегда казалось, что простая истина — запретить людям стрелять птицу и четвероногих «братьев своих» — вот-вот должна восторжествовать. Он с радостью встречал сообщения о запрете на охоту в том или ином районе, на ту или иную дичь и хмурился, когда этот запрет опять отменяли.
Ещё в школе умные учителя, особенно Борис Васильевич, привили ему нежную, непреходящую любовь к природе, ко всему живому.
Потом, когда после гибели отца Саша стал лесником и узнал, почему и как надо охранять богатства леса от преступников, всю свою энергию он отдал этому благородному делу, ничего не боялся и компромиссов не признавал. Встреча с такими негодяями, как Циба, Матушенко, Козинский, укрепили веру его в правое дело. Именно тогда началась его многолетняя работа по наблюдению за двумя зверями — за медведем и оленем, воспитанными с детства человеком, сохранившими память о человеческом участии до сих пор, хотя давно стали вольными и дикими.
Научный сотрудник заповедника Александр Молчанов был твёрдо убеждён, что среди его коллег и сослуживцев нет людей, думающих не так, как думает он. У кого из них подымется рука, чтобы нанести вред природе?
Как же совместить все это с деятельностью некоторых сотрудников в отделе, откуда руководят заповедниками? Ведь там тоже работают зоологи, охотоведы и ботаники?..
Ответа на этот вопрос Молчанов не находил.
…Весь вечер они молчали. Котенко писал кому-то письмо, кажется, опять по поводу устройства национального парка у границ заповедника. Саша делал заметки о фенологических датах и развитии животных в «Летописи природы», переписывал свой порядком потолстевший дневник.
Уже после десяти Котенко вдруг спросил:
— Ты сделал фотографии, какие обещал?
Саша кивнул.
— Где они? Дай-ка глянуть.
— Перед вами, на столе, — сказал Саша.
— А, вот что значит этот безалаберный день!
Он взял фотографии, и выражение его мужественного лица стало меняться. Сбежала тень нервной озабоченности, у глаз собрались добрые морщины, а губы раздвинулись. Любовно и радостно рассматривал он статного Хоба, хорошо снятого с близкого расстояния и ещё ближе, совсем рядом, где крупно вышла его венценосная голова. На этой, второй фотографии олень бесстрашно глядел большими влажно блестевшими глазами прямо в объектив.
— Хорош рогач, а? Можно сказать, выставочный экземпляр. Пожалуй, лучший олень на Кавказе. Согласен? Впрочем, ещё бы не был согласен! Твой воспитанник, если не сказать большего. Надо с ним почаще встречаться, Саша, пусть он снова и хорошенько подружится с Архызом. А ещё лучше — с Лобиком. Интересно, узнают ли друг друга медведь и олень, когда встречаются? И встречаются ли они, как ты думаешь?
— Не знаю. Боюсь, что нет. Вот с Архызом я их непременно подружу. И запросто. Они и сейчас не дичатся друг друга, хотя и не подходят близко. Позитивный нейтралитет.
— А если Хоба на глазах Архыза попадёт в беду? Как думаешь, овчар выручит его?
— Без сомнения.
Котенко замолчал и задумался над фотографиями. Спустя некоторое время сказал:
— Да, Лобик… Он очень нужен для полноты опыта. Придётся тебе отыскать это недостающее звено. А фотографии хорошие. Очень хорошие. Убери. Пригодятся для работы над будущей диссертацией. Как ты её назовёшь? «Человек и зверь»? Звучит? Ладно. Теперь давай, Саша, ужинать.
Утром в конторе они узнали, что сотрудник из отдела сегодня вылетел к ним.
2
Молчанов подходил к зданию конторы, когда из ворот выкатилась директорская машина и посигналила ему.
— Садись, Александр Егорович, — приказал директор. — Поедем в аэропорт, встретим высокого гостя.
— Может, без меня? — Молчанов как раз хотел продолжить разбор своих многочисленных записей.
— Давай, давай, едем!
В здании нового аэровокзала было прохладней, чем на улице. Ждали недолго. Голубой «АН-24» свалился с неба, пробежал немного по траве и, взревев моторами от избытка мощности, затих перед бетонной дорожкой.
— Как мы его узнаем среди сорока пассажиров? — сам себя спросил директор. — Фамилия мне ничего не говорит. Капустин какой-то. Незнаком.
До сознания Александра эти слова пробились не сразу. Капустин? Капустин… Вдруг он почувствовал, что ему стало жарко. Неужели тот самый Виталий Капустин? Нет, не может быть. Тот в Ленинграде, а этот из Москвы. Он снисходительно улыбнулся своему внезапному испугу. Мало ли Капустиных на белом свете!
Но когда в проёме самолёта он увидел молодого человека, который, выходя, зацепился шляпой за металлический верх и с виноватой улыбкой успел подхватить её, когда рассыпались его светлые волосы, а глаза на располневшем, но очень похожем на то, прежнее, лицо инструктора по туризму воззрились с каким-то испуганным изумлением на него, Молчанова, Саша сразу понял, что ошибки нет. Да, тот самый. Тихо сказал директору:
— Вот этот, со шляпой в руках, и есть Капустин.
— Ты его знаешь?
— Старое знакомство. Он когда-то работал на турбазе в Жёлтой Поляне, а я там в школе учился…
Капустин уже улыбался и шёл к ним с плащом в одной руке, с ёмким жёлтым портфелем в другой. Он был обрадован и, кажется, польщён, что его встречают у самолёта. И что среди встречающих оказался Молчанов, хотя у этого Молчанова были веские основания не очень радоваться встрече с прошлым. Впрочем, может, это и не так. Шесть лет прошло, все быльём поросло.
Эти мысли только промелькнули в голове Виталия Андреевича Капустина и тотчас оказались потесненными другими, уже чисто служебными мыслями. Он подчёркнуто-вежливо и с достоинством пожал руку старшим — директору и его заместителю — и только тогда повернулся к Молчанову.
— Рад видеть тебя, старик, — совсем уж радостно и по-свойски сказал Капустин, считая, что старое их знакомство и новое его положение разрешают фамильярность и обращение на «ты».
— Здравствуй, — немного холоднее, чем надо бы, ответил Молчанов и пожал протянутую руку, довольно полную и мягкую руку, которая этой мягкостью, безволием и домашним теплом уже свидетельствовала, что туризмом, спортом, физической работой молодой человек давно не занимается. — Не ожидал видеть тебя в такой высокой должности и с такой миссией.
— "Все течёт, все меняется", — сказал один древний. Я рад видеть тебя здесь… — Капустин и в самом деле даже порозовел от удовольствия. Обращаясь уже ко всем, он продолжал: — Вы тут, друзья мои, кажется, немного понервничали по поводу и без оного. Пахтан перед отъездом говорил мне, что в заповеднике оппозиция и все такое прочее. Постараемся найти общий язык. Вот и Молчанов нам поможет, по старой дружбе, верно, Александр?
Лицо Капустина светилось добрыми желаниями. Как все просто и хорошо!
Саша неопределённо улыбнулся, спросил:
— Значит, ты с полномочиями?
— Разумеется. Одно дело — бумаги, приказы, другое дело — слово, живое общение.
— На том совещании, где говорили о туризме в заповеднике, тоже было слово живое, — сказал директор.
— Не надо все это воспринимать буквально, — слегка нахмурился Капустин. — Отсюда и нервозность…
В машине Капустин сидел рядом с шофёром и, полуобернувшись, тоном лёгким, шутливым рассказывал:
— Наделали вы переполоху, коллеги. У нас в отделе вся работа стала. Бесконечные звонки, запросы с мест, даже оттуда, — он выразительно поднял палец выше головы. — Мы в аппарате с ног сбились, доказывая ошибочность суждений на периферии. Все это далеко не так, как было кое-кем воспринято. Туристские организации на том совещании всего-навсего высказали своё пожелание, чтобы открыть заповедник, а наш шеф не сразу понял последствия этого шага. Туристов можно понять — ведь нынче огромная тяга к путешествиям, во все уголки нашей страны хочется заглянуть… Мне рассказывали, что на телевидении «Клуб кинопутешествий» по массовости зрителей занимает первое место! И это кинопутешествия! А что же делается на живой природе? Миллионы идут в поход. Вот так и возник вопрос о заповедниках…
— А вы почему же не дали отпора, не разъяснили своему шефу? Специалисты называется! — укоризненно сказал из угла директор.
— Ну, что вы говорите! Надо знать, как все это происходило… Так вот, если и будут затронуты интересы заповедников, так это коснётся лишь наиболее крупных, таких, как Северо-Уральский, Камчатский, где водные магистрали и дороги.
— Кавказ тоже с реками и старыми дорогами, — сказал Молчанов. — И тоже не из маленьких. Как-нибудь четверть миллиона гектаров.
— Ты мне можешь не говорить, старик, я отлично знаю Кавказ. И сразу же могу твёрдо заверить вас, что ни одного нового маршрута мы здесь не проложим. Вот так. Это твёрдо!
Трое на заднем сиденье переглянулись и облегчённо вздохнули.
Примерно в том же духе Капустин изложил точку зрения своего шефа и на совещании специалистов заповедника, которое состоялось сразу же. И здесь его слова внесли успокоение. Все поняли, что ошибку удалось предотвратить, если Пахтан и имел какие-то намерения посягнуть на права заповедника, то теперь, под давлением общественности, он отступил.
Все шло хорошо, пока Котенко не спросил:
— Зачем вам охотничий дом на южном кордоне заповедника? Кто будет наезжать туда, если туристов не пустят в запретную зону?
Или сам вопрос оказался трудным для старшего специалиста, или наступившее вдруг насторожённое молчание в директорском кабинете так повлияло на Капустина, но только он в одну минуту как-то весь обмяк и потерял уверенность. Глаза забегали, щеки на располневшем лице обвисли, и весь облик его явил вдруг такую растерянность, что Молчанову в первое мгновение даже стало жалко своего знакомого. Капустин стал путано объяснять:
— Ну, прежде всего, я не знаю, откуда появилось это название — охотничий дом? — вяло и нерешительно сказал он. — Кто придумал? Просто дом… Ведь вы сами жаловались, что мало жилья, негде остановиться научным работникам, когда они в лесу.
Котенко жёстко засмеялся:
— Интересно, кто же будет жить в этом доме, если он стоит в глубинке, в лесу? И построен на манер охотничьего, и отделан так, что… Не то вы говорите…
Капустин собрался с силами:
— Подождите, подождите… Тут надо знать общую ситуацию… Дело, если угодно, вот в чем… Жить в доме будут, конечно, наездом. К вам нередко заглядывают гости из разных университетов, наш брат, научники. Им где-то тоже надо остановиться. Бывает, что у лесников неудобно — гости, случается, уже в возрасте, им требуются условия, понимаете? У нас есть сведения, что приедут зарубежные знатоки природы. Вот для того мы и решили… Зла этот дом никому не принесёт, уж будьте уверены. А вот «крёстные отцы», нарекшие дом охотничьим, — это уже зло, я бы сказал, крайнее проявление недоброжелательности.
Ему не ответили. Не очень убедительное, но все же объяснение.
Капустин почувствовал общее настроение и добавил уже веселей:
— В ближайшее время на юг прибудет сам Аркадий Алексеевич Пахтан. Надеюсь, он встретится с руководством вашего заповедника, и вы от него ещё раз услышите примерно то же самое.
— А эти… гости когда приедут? — спросил директор.
— Как будто скоро. — Капустин потёр пальцами лоб, вспоминая. — Приедут, это я могу точно сказать. Но не волнуйтесь, встречать и устраивать их здесь я буду сам. Мне поручено, и тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Ещё есть вопросы, товарищи? По работе, проблемам…
Совещание закончилось уже вечером.
— Ты проводишь меня? — Капустин взял Молчанова под руку, но тут же отпустил, чтобы попрощаться со всеми другими.
Вскоре они вместе вышли на тёмную улицу.
— Вот такие дела, Александр… как тебя по батюшке? Егорович? Отлично. Но я по старой памяти, если позволишь…
— Много воды утекло со старой-то, — хмуро сказал Молчанов.
— О да! События, перемены… Такова жизнь. Ты доволен своей работой здесь? Не тянет на сторону?
— Нет. Мне лес и работа по душе. Уже восьмой год… И до того — тоже в лесу. А ты? Как вообще получилось?
— Ты насчёт должности в нашей организации? — Он как-то нехорошо засмеялся. — Фортуна! Как говорится, просто повезло. Все в жизни, Александр Егорович, от нас самих зависит. Как себя поведёшь, с кем поведёшься и все такое.
Он вдруг замолчал и сделался серьёзным, только едва уловимая улыбка блуждала на губах, словно знал Капустин что-то такое очень важное, что скрыто от всех других людей и потому возвышает его над этими другими.
Во время совещания и теперь, когда они шли в гостиницу, Молчанова не оставляла мысль о странной, почти фантастической перемене в характере и поступках этого человека, когда-то отнявшего у него любимую девушку. Ладно, все, что случилось с Таней, зависело прежде всего от самой Тани. Будем считать, что это произошло очень давно и не случайно. Теперь забыто, хотя и… Но вот он опять перед ним, тот Капустин, которого Таня полюбила. Что у нынешнего Капустина общего с тем, прошлым Капустиным — молодым, смелым, решительным? За что, собственно, Таня поставила его выше Молчанова? Совсем другой человек шёл рядом с Сашей. Бегающие глаза, постоянная готовность соглашаться с чужим мнением, умение ловчить, какой-то мгновенно вспыхивающий испуг на лице, готовый сразу же смениться выражением наглости, и само лицо — белое, слегка припухшее, на тяжёлой шее, словно ему не двадцать шесть, а под сорок, — все было в нем непонятно, все отталкивало, вызывало не чувство симпатии или товарищества, а глухое раздражение. Может быть, из-за прошлого?! Все может быть.
Молчанов уже ругал себя, зачем согласился пойти с Капустиным.
— Ты давно в Москве? — спросил Александр, когда они подходили к гостинице.
— А что? — В глазах Капустина мелькнул и исчез тот самый скорый испуг. — Да вот в июле будет три года.
— Значит, сразу после университета?
Капустин удовлетворённо засмеялся.
— Я же сказал тебе: фортуна. Мне просто повезло. Сперва устроился в лабораторию охраны природы, там как раз командовал знакомый профессор, мы с ним вместе когда-то на Каму-реку ездили. — Он назвал фамилию известного биолога. — Ну, а от него, когда уже на ноги встал и старик начал задумываться, в какой бы заповедник меня сплавить, я успел перебраться к Пахтану.
— Должность устраивает тебя?
— Определённо! Цель у меня ясная — защититься, скорее стать кандидатом наук. Думаю, и твоя цель такая же. Мы все, молодые, стремимся… Верно? Ну, а условия для этого у нас просто идеальные. Прежде всего, горы материалов, отчёты из всех заповедников. Только успевай читать, обобщать. Кстати, и сильные мира сего находятся рядом. Я имею в виду тех, кто потом шары бросает, понял? У тебя диссертация двигается!
— Пока нет.
— Что так? Семья, дети?
— Времени мало. Да и опыт невелик. Вот поработаю ещё года три, разве тогда…
Виталий снова коротко хмыкнул.
— Время бегит, — явно кого-то передразнивая, сказал он, — а песнев нет. У тебя хоть есть на примете какой-нибудь толковый руководитель? Я имею в виду профессора, доктора наук?
Молчанов покачал головой.
— Напрасно. Хочешь, устрою знакомство? Тут как раз должен приехать один очень влиятельный.
— Спасибо. Обойдусь без этого… — Молчанов покрутил перед лицом растопыренными пальцами.
Капустин покачал головой.
— Отличное у тебя качество, Александр, — прекраснодушие. Но, поверь, не всегда оно жить помогает. Напротив.
Они остановились у гостиницы. Молчанов глянул на часы.
— Пора.
— Ну, это совсем… извини меня! — сказал Капустин. — Пошли, посидим, поужинаем. Все-таки я ваш гость.
Он взял Александра под руку.
Уже за столиком Капустин начал вспоминать, кто и о чем говорил на совещании, а Молчанов сидел, подперев ладонью подбородок, и думал только о том, почему Виталий ни словом не обмолвится о своей семье, о Тане, почему ведёт себя так, словно нет у него жены. Вообще неясно, где она? Неужели осталась в Ленинграде, тогда как муж в Москве? В этом умолчании было что-то лживое, нехорошее, Капустин не мог не догадываться, как это важно для Молчанова.
А Виталий тем временем стал жаловаться, как трудно устроиться в столице, говорил о квартире, которая ему «плешь проела», о том, что иной раз приходится даже в мелочах идти на сделку со своей совестью, потом совсем запутался в словах, махнул рукой, выпил ещё и ещё и заметно охмелел.
— Слушай, старик, — вдруг доверительно сказал он и положил ладонь на молчановское плечо. — Ты должен мне помочь.
— Ты завтра уезжаешь? Билет купить? Это здесь просто.
— Погоди, погоди… Я не в Москву еду, у меня и тут дела ещё есть. Понимаешь, мне придётся встречать своё начальство, а потом ещё некоторых… очень нужных людей. Так вот, хочу, чтобы ты понял: от того, как мы их встретим, зависит и наше будущее.
— Твоё?..
— И твоё, если хочешь. Это такие люди… В общем, ты с ними рано или поздно должен встретиться, и от того, как мы…
Капустин подвинулся ближе, хотел обнять. Молчанов осторожно встал.
— Зови официантку. Тебе спать надо, а мне пора. И учти — я очень занят, мне в лес топать. Это ты уж сам давай, для того ведь и приехал.
— Ладно, сейчас идём, — сказал Капустин и, словно не было никаких слов о помощи, серьёзно добавил: — Надеюсь, я свою миссию выполнил, успокоил умы?
— Похоже, что так, — ответил Молчанов и простился.
На квартиру к Котенко он шёл смятенный и расстроенный. Все, связанное с Капустиным, казалось ему противным и каким-то чужим. Чего только не наслушался! А главного так и не узнал. Просидеть весь вечер и ничего не услышать о Тане!.. Если честно, так он и пошёл за Капустиным только ради этого. И вот…
— Ну что наш старший специалист? — спросил Котенко, едва только Саша переступил порог. — Гневается? Досадует? Или доволен результатами?
— Ему наши заботы до ручки, Ростислав Андреевич, — скучным, усталым голосом ответил Молчанов. — Ничегошеньки его не интересует. Заповедник, проблемы — это так. Зарплата чтобы. Только собственная персона. Он служит. И этим все сказано.
— Должен тебя поправить: исправно служит.
Котенко подождал, не скажет ли Саша ещё что, и, не дождавшись, вздохнул.
Значит, о Тане разговора у них не было. Или был, но такой, что лучше не вспоминать.
В эту ночь Молчанов спал совсем мало. Тихо лежал, широко открытыми глазами смотрел в потолок, а видел звёздное небо над туристским приютом, где в последний раз встречался с Таней, слушал стук своего сердца, её тихий голос звучал откуда-то очень издалека, и страшная тоска, небывалая тоска давила ему грудь, и трудно было дышать, а из глаз к вискам скатывалось мокрое и щипало. Мучительное прошлое всецело завладело им в эту долгую тягостную ночь.
Утром директор сказал, что гость из отдела взял у него машину и отправился в районы, прилегающие к северным границам заповедника.
Капустин отсутствовал три дня. Потом шофёр приехал один и рассказал, что его пассажир побывал в двух охотничьих хозяйствах рядом с заповедником, встречался с разными, ему не известными людьми, затем ездил в Жёлтую Поляну, но не к своим родственникам по жене — Никитиным, а прямо на южный кордон, где придирчиво осмотрел охотничий домик и, никому не объяснив цели своей поездки, из Адлера вылетел в Москву.
Директор заповедника облегчённо вздохнул.
Шло лето, время серьёзных опытов и наблюдений. Все торопились в горы, к своим делянкам, растениям, зверям.
Александр Молчанов отправился в Камышки, чтобы оттуда пойти в район междуречья, где находились основные стада заповедных животных.
3
Каким путём Елена Кузьминична прослышала о приезде Капустина в заповедник, ведомо лишь ей одной.
Сильно постаревшая, совсем седая, маленькая, согнувшаяся, она встретила сына, как всегда, сдержанно, но беспокойство в глазах её не ускользнуло от Саши. Когда она накрывала на стол, руки её дрожали. Елена Кузьминична все посматривала на мрачное, замкнутое лицо сына, все ждала, не скажет ли он что о Капустине, а главное — о Тане.
Не могла она забыть Таню, потому что до нынешнего дня эта девушка незримо и тихо вела за собой её сына, определяла его путь, его поступки и мысли.
С того уже давнего дня, когда Таня приехала к Елене Кузьминичне со своим женихом и когда, плача и страдая, призналась, что любит Капустина, что сама не знает, как ей поступить и что теперь будет с Сашей, Елена Кузьминична никогда не переставала думать о её судьбе, и жалела, и оправдывала её, сердцем женщины зная, что любовь не спрашивает, не признает никакой логики, часто идёт против всяких разумных доводов. Елена Кузьминична видела горе сына, разделяла это горе, готова была взять всю тяжесть переживаний на себя, но даже самой любящей матери не дано сделать этого. Саша сильно изменился за те, теперь уже далёкие несколько дней, а потом в течение всех прошедших годов словно бы ушёл в себя, старался, чтобы не оставалось у него ни одной свободной минуты для размышлений и воспоминаний, которые мучили его одинаково сильно и тогда и теперь. Он очень хотел забыть Таню, и в какой-то мере ему, наверное, удалось это, но память о ней не исчезла совсем, она только спряталась где-то глубоко-глубоко…
Таня не писала им. Она даже домой, в Жёлтую Поляну, писала очень редко, и из этих редких писем уже через людей Елена Кузьминична знала, что Таня успешно закончила университет, работает в ботаническом саду и что у неё мальчик, Саша… Скупо, мало, но и этого было достаточно для новых размышлений и бесконечных вздохов.
И вот теперь здесь, на Кавказе, вдруг появился Танин муж, Капустин. Неужели Сашу не интересует, как у них, что с Таней?
— Ты здорова, ма? — обеспокоенно спросил вдруг Саша, по-своему истолковав её напряжённое лицо, дрожащие руки.
— Что мне сделается, сынок! — сказала она грустно. — Когда у тебя все хорошо, и мне хорошо. Ты вот что-то хмуришься, а не скажешь. Неприятности какие или вести скверные?
— У меня все нормально. Завтра опять иду с Архызом в горы.
Она вздохнула и, помедлив немного, спросила:
— А этого, из Москвы который, уже проводили?
Он кивнул и опустил глаза. Тогда Елена Кузьминична решилась сказать:
— Я иной раз все думаю да гадаю, как-то нашей Тане живётся теперь?
— Я не знаю. Ничего не знаю.
— И он не сказал?
— Не сказал.
— Не нравится мне все это. Наверное, плохо ей.
Он не ответил. Отодвинул стул и вышел. А матери стало ещё горше: растравила старую рану.
В доме Молчановых надолго установилась тишина.
Саша ходил по двору, колол дрова, потом отвязал Архыза и ушёл с ним на речку. Вернувшись, стал собираться, почистил карабин, подогнал ремни, поточил отцовский косырь.
В час радиосвязи он нехотя включил рацию, поднял трубку и вдруг весь как-то сжался. Незнакомый, изменённый помехами голос настойчиво, раз за разом вызывал все лесничества и потом медленно, чтобы было понятно, выговаривал только две фразы, смысл которых заставил Сашу прикусить губу, чтобы сдержать волнение. Он услышал: «Сегодня в Жёлтой Поляне умер старейший лесник заповедника Василий Павлович Никитин. Делегация на похороны вылетает сегодня в пятнадцать часов…» И снова: «Слушайте все…»
— Что там такое, сынок? — Елена Кузьминична уже стояла рядом и засматривала в лицо склонившегося Саши. Она не могла разобрать радиослов.
— Умер Танин отец…
— Василий Павлович? — Она мелко и часто начала креститься. — Господи боже, вот и он…
И заплакала.
С мокрым от слез лицом она взяла Сашин рюкзак, вычистила его, что-то положила, привычно нашла другие вещи сына. Сквозь слезы сказала:
— Ты костюм наденешь или комбинезон?
Она не спрашивала — поедет ли он. Это подразумевалось само собой. И тут же у неё появилась и уже не исчезала больше новая мысль: Таня приедет на похороны, они встретятся. Первый раз за шесть лет. Только бы хорошо встретились!
Засуетилась, забегала, скорей, скорей!
И Саша, наверное, подумал о Тане, и ему стало стыдно перед собой, что думает о ней больше, чем о её теперь уже покойном отце. Он хмурился, вздыхал, старался припомнить Василия Павловича, его сосредоточенное, болезненно-серое лицо, и как они ставили у ворот новый столб, и о чем говорили, но эти воспоминания тотчас сменялись другими: вот перед окном стоит Таня, она громко смеётся и хорошо знакомым жестом отводит со лба прядку светлых волос… Какая она теперь? И сына её он представлял в воображении, и ему очень хотелось, чтобы сын был похожим на Таню, только на Таню.
— Успеть бы вам, — сказала мать.
— Наверное, полетим через Краснодар, — озабоченно ответил Саша. — Оттуда до Адлера тридцать пять минут лету. Если, конечно, погода позволит.
Через несколько минут с рюкзаком и карабином за плечами Саша уже ехал попутной машиной в город. Архыз смотрел ему вслед жалобными глазами и нервно зевал. Не взял…
В конторе толкались лесники с ближних и дальних кордонов, тут были и научные работники и служащие. Многие с карабинами, одетые чисто и строго. Разговор только и шёл о Никитине. Всем он был близок, как-никак, а почти тридцать лет проработал в заповеднике. В радиорубке шёл непрерывный диалог, вызывали экспедицию геологов, находящуюся в сотне километров восточнее. Наконец Котенко вышел от радиста и обрадовал:
— Дают вертолёт! Улетим напрямую за два рейса.
— А погода над перевалом?
— Есть погода.
Подошла грузовая машина, все быстро уселись, поехали на аэродром. Старенький, снегом и дождями исхлёстанный вертолёт прилетел менее чем через час. Котенко скомандовал, кому лететь первым рейсом. Саша оказался в этой группе.
Мягко сели на площадку за посёлком. Молча отошли от машины, и она тотчас же с рёвом улетела. Минуту стояли, провожая вертолёт глазами, а потом вскинули винтовки за плечи, не сговариваясь, построились по двое и пошли к тому дому.
Как тяжело все это! Здесь уже собрались люди, стояли, ходили по двору и вокруг дома, разговор вели тихий, посматривали на открытые двери и окна. Всюду виднелись заплаканные лица женщин. Лесники стали во дворе кучей, как по команде, закурили. Потом побросали сигареты, составили винтовки шалашиком и по одному пошли в дом, где пахло вянущими цветами, а зеркало было занавешено чёрным. Саша все видел плохо, глаза у него были полны слез. Кто-то взял его за руку выше локтя и повёл за собой.
— Борис Васильевич! — обрадованно прошептал он.
Учитель географии кивнул, стекла его очков строго поблёскивали, седая голова была почему-то взлохмачена.
— Вот что, Саша, тебе задание, — сказал он твёрдо. — Видишь машину? Надо ехать в Адлер и встретить Татьяну с сыном. Я поручаю это тебе, как другу дома. Садись и давай побыстрее… Она прилетает в тринадцать десять, рейс триста сорок пять из Ленинграда. Час десять минут тебе на дорогу. И будь умником… Давай. Карабин и вещи я возьму к себе.
Саша ничего не мог сказать или возразить, он все исполнял машинально. Борис Васильевич сам закрыл за ним дверцу «Москвича», усталый шофёр только поглядел на него.
Лишь в дороге Молчанов опомнился. Щеки у него загорелись. Как вести себя? О чем говорить? Как, наконец, смотреть на неё?.. И почему он? Разве ему мало тоски? Но все это были вопросы без ответа.
Успеть бы, пока не приземлился самолёт.
В людном аэропорту побледневший от волнений Саша прошёл через гулкий зал, смешался с разноликой толпой пассажиров и встречающих. Объявили посадку триста сорок пятого. Почему-то ему, некурящему, вдруг очень захотелось курить.
Подъехали вагончики с пассажирами. Мальчуган лет четырех весело выскочил первым и, приоткрыв рот, с любопытством огляделся. Сын Тани… Саша не мог не узнать его. Он шагнул к мальчику и взял его за руку. Тот доверчиво и совсем не робко глядел на него снизу вверх и вдруг спросил:
— Мама, а это кто?
— Это Саша, твой друг…
Только тут он увидел Таню. Рядом с собой.
Он не успел рассмотреть её. Вот глаза увидел, как-то сразу увлажнившиеся, милые Танины глаза, когда она, всхлипнув, неожиданно уткнулась ему лицом в грудь, положила руки на плечи и заплакала, никого не стесняясь и ничего не видя. Вокруг шумела курортная толпа, шли, толкались, оглядывались на них. Маленький Саша недоумевал, он крепко, испуганно ухватился обеими руками за юбку матери, а она плакала навзрыд, и в этих слезах её была не только горечь утраты доброго отца, но и ещё что-то не менее тяжёлое. Словно исповедь после долгого и трудного пути к желанной цели.
Саша неловко обнял её, гладил руки, плечи и тоже, кажется, плакал, с силой стискивая зубы, чтобы удержать слезы.
— Ну будет, будет, Таня, — говорил он и опять гладил, а она только теснее обнимала его, и лишь когда начал хныкать сын, Таня очнулась и, вздыхая, успокаиваясь, стала успокаивать сына.
У машины она сказала:
— Ты подожди нас, Саша, мы скоро.
Мальчуган строго посмотрел на мать и нравоучительно сказал:
— Это я Шаша, а это дядя.
— И ты Саша, и дядя тоже Саша. Понял, мой дорогой? — Таня впервые улыбнулась. А маленький Саша улыбнулся лукаво и недоверчиво: эти взрослые такие путаники…
В машине Таня выглядела строже, её лицо подёрнулось горечью. Они молча сидели сзади, касаясь друг друга плечами. Маленький Саша после небольшого спора с матерью отвоевал себе переднее кресло. Вернулась неловкость. Молчали или перебрасывались редкими, ничего не значащими фразами. Саша застенчиво разглядывал Татьяну.
Она показалась ему худенькой, несчастной и как будто подросшей. Может быть, потому, что на ней была строгая белая блузка и юбочка ниже колен, современная чёрная юбочка с широким поясом, а лицо ещё не высохло от слез. Что-то новое и чужое было в этом лице. Строгость, что ли, или уже выверенная привычка к протесту, готовность к спору, решительной самозащите? Но когда она бессознательным жестом отвела тыльной стороной ладони волосы со лба — не испорченные краской, все те же золотистые волосы девичьей поры, — он улыбнулся, и она тихонько улыбнулась ему в ответ.
— Сильно я изменилась?
— Да, конечно.
— И ты тоже.
— Старый стал?
— Нет. Мужественный.
— Платон ставит мужество на последнее место в ряду других добродетелей…
Она как будто не слышала.
— Ты цельный человек, Саша, — сказала потом убеждённо. — Уверенный в себе. Хорошо это. Нужно.
В словах этих он уловил укор тому, другому. Не цельному. Что ж, в оценке своего мужа она права, Саша ведь тоже узнал Виталия с другой, так сказать, стороны.
Он осторожно спросил:
— Муж приедет?
— Нет. Он в Москве.
— Ты сообщила ему?
— Да. Но он часто в командировках.
— Он был здесь. Позавчера. К твоим, насколько я знаю, не заходил. Иначе бы остался, ведь отец был уже очень плох.
Таня отвернулась. Глаза её быстро наполнились слезами.
Маленький Саша тараторил вовсю. Шофёр едва успевал отвечать на его вопросы. От восторга Саша подпрыгивал на сиденье. Новый мир открывался перед ним, чудный мир! Он видел коз и козлят на пастбище, живых лошадей прямо около самой дороги, видел лес вокруг, страшной высоты горы, дышал тёплым, ароматным воздухом, совсем не похожим на ленинградский, и ничего не знал, куда едет и зачем едет. Своего кавказского дедушку он видел только на фотографии.
Они ненадолго остановились у домика дорожного мастера, шофёры всегда останавливали здесь машины перед въездом в ущелье. Таня с сыном и Саша вошли в лес, остановились, прислушались к тишине в этот предвечерний час. Она уже забыла, как неправдоподобно тихо в теплом, засыпающем кавказском лесу. Задумчиво сказала:
— Тут всегда, сколько я помню, пели дрозды. Почему они не поют сейчас?
— Они очень заняты, — сказал Саша. — Они кормят своих птенцов. Они опять будут петь.
— А-а! Лес просто оживает, когда они поют. Правда?
Какой-то скрытый смысл вложила она в эту спокойную фразу. Саша не очень понял. Но ему стало и радостно и тревожно.
4
Вот и все.
Отплакали родные. Двадцать винтовок поднялись над могилой егеря Никитина, и тройной недружный залп прокатился по лесам, окружающим Жёлтую Поляну. Маленький Саша на руках обессилевшей матери смотрел вокруг глазами, полными изумления и горького недетского любопытства. Почему все плачут? Почему цветы? Зачем стреляют? И где дедушка?
Молчанов все время держался рядом с Таней, Борисом Васильевичем и Котенкой. Когда отстреляли, он закинул карабин за плечо и взял Сашу-маленького на руки. Мальчик доверчиво сидел у него и все тянулся к ружью.
Шли с кладбища также вместе. Потом учитель и Таня отстали, Борис Васильевич взял её под руку и что-то долго говорил, а она шла понурив голову, слушала, то и дело утирая глаза.
До того как уехать, лесники потратили день, чтобы сделать оградку у могилы. Сделали. А разохотившись, перебрали весь забор у дома Никитиных, напилили кучу дров, поправили крыльцо, крышу, словом, все, что не успел хозяин. И только тогда разошлись.
Молчанов и Котенко ночевали у Бориса Васильевича. Чуть не до трех часов, почти до рассвета, лежали и разговаривали.
В этом ночном разговоре учитель очень резко оценил устройство дома на территории заповедника, назвав действия работников заповедного отдела «возрождением великокняжеской охоты». Домик находился всего в пятнадцати километрах от Жёлтой Поляны. Как не знать, что там делается?!
Едва сомкнув глаза, Саша проснулся.
По-летнему чистая заря занималась над снежным Псеашхо, из окна комнаты хребет был виден весь, розово-белый от солнца, ещё не поднявшегося из земных глубин.
Борис Васильевич и Котенко сидели на кроватях и лениво курили.
— Что, Александр, не выспался? — спросил учитель.
— Все в порядке, — сказал Саша.
— Ты куда собираешься нынче?
— Через перевал и на зубровое урочище.
— Срочные дела?
— Все то же, Борис Васильевич. Поиск оптимального варианта — копытные и кормовая база. У Ростислава Андреевича есть мнение, что больше двадцати тысяч оленей, серн и косуль заповеднику прокормить трудно. Проблема перегруженных пастбищ. Надо ещё не раз проверить истинное положение, чтобы потом сделать безошибочный вывод. Это сложная работа, мы её ведём совместно с ботаниками. Петухов ждёт меня в урочище.
Они неторопливо и основательно позавтракали, и, когда солнце брызнуло в долину, где посёлок, учёные были уже на ногах и готовы в путь. Котенко решил идти восточнее, у него были свои планы.
Саша все ещё медлил, осматривался, вздыхал.
— Да, конечно, тебе нельзя уходить не простившись, — сказал Борис Васильевич. — Пойдём. Вам надо поговорить. Не последняя встреча и не последнее расставание. Не хочу, чтобы мои ученики забывали друг друга, что бы ни случалось с ними в жизни.
Таня сидела на скамеечке под окнами своего дома. Её бледное и печальное лицо оживилось, когда она увидела, кто идёт.
— Я уже думала, ты уехал, Саша. И так стало одиноко, так горько…
— Маленький Саша спит? — спросил учитель.
— Как бы не так! Вон, во дворе. Уже дом строит для собаки.
— У вас же здесь нет собаки?
— Для ленинградской Леди. Она все ещё со мной. Сашенькин друг, защитник и забава.
— Ну вот что. Ты проводи Александра, он сейчас уходит в горы, а я побуду с маленьким. Мама спит?
— Она больная. Я под утро дала ей ноксирон, уснула.
— Идите спокойно. Я тоже не прочь поиграть в домики и в песочек. Давно не играл.
Он пожал руку Молчанову и одобрительно похлопал его по спине. Расставаясь, Саша в последний раз поглядел на своего учителя. Как он постарел! Белая голова, узкое, осунувшееся лицо, худые, по-стариковски сутулые плечи. Лишь глаза живые и добрые, все те же всевидящие глаза, которые никогда и никому не лгали.
— Дай мне ружьё, что ли, — сказала Таня. — Ты вон как нагружен, а я иду с пустыми руками.
— Привычное дело. Когда нет рюкзака за плечами, я чувствую себя очень неловко, — признался Саша.
Кажется, он подтрунивал над собой.
— Ты доволен своим делом? — Она чуть опередила его, обернулась, чтобы видеть выражение его глаз. Он тоже смотрел ей в лицо, видел каждую морщинку на чистых, ненакрашенных губах.
— Другого ничего не хочу, — просто ответил он, и широкое лицо его стало задумчивым. — А ты?
— Ах, Саша, наверное, я очень глупая… Я все чего-то искала на стороне и вдалеке, словно рядом со мной не та жизнь, менее значительная, что ли. А пожила, все-все переоценила. Сегодня вышла из дому до восхода, посмотрела, как солнце вырывает из темноты лес и травяные поляны, как голубеет небо, как роса вспыхивает на траве, и даже заплакала от счастья. Коровы в стадо пошли, сонные, задумчивые, а мне вдруг так захотелось сесть с подойником, услышать запах парного молока, звон струи о ведро. Я ведь умею доить, ещё девчонкой… Словом, другими глазами посмотрела вокруг и открыла для себя простую жизнь, мне страстно захотелось такого же простого дела и такой же жизни, а тут ещё мама теперь одна…
Она дотронулась пальцами до висков, сжала голову.
Дальше шли молча. Дорога убегала в лес, но это была ещё автомобильная дорога. Сделалось влажно и прохладно. Таня зябко повела плечами.
— Ты когда едешь к себе? — спросил Саша очень тихо, пожалуй, даже тревожно.
— К себе?! Ах да! Побуду с мамой дня три и уж тогда…
Тане хотелось, чтобы он расспросил её о жизни, о самом главном, потому что рассказывать о себе без такого вопроса — это слишком походило на жалобу, а жаловаться она не хотела. Но Саша оставался сдержанным, он не спрашивал об этом главном. Может быть, ему совсем не интересно?..
Вот эта мысль поразила и испугала её. Если у Тани и была надежда, то она связывалась только с ним, Александром Молчановым. Но перед ним она бесконечно виновата. И вот теперь, на первом и, может быть, последнем свидании, ей надо знать…
Тихий каштановый лес окружал их. Солнце уже не пробивалось сквозь крону из широких листьев, птицы не пели. Посёлок остался внизу, дорога сузилась. Саша остановился.
— Ты помнишь… — начал он.
— Я все, все помню, — горячо и быстро прошептала она. — Простишь ли ты меня, Саша?
И заплакала.
— Я люблю тебя, Таня, — тихо и ласково сказал он. Лицо его дрогнуло. — Я очень люблю тебя!
Он вдруг повернулся и широко зашагал в гору. Неужели это все?..
Таня стояла на дороге лишь несколько секунд. Она опомнилась, бросилась за ним, схватила за плечи, повернула к себе.
— Зачем ты уходишь?
— У тебя семья. Я не хочу…
— У меня нет семьи, — просто и тихо сказала она. — У меня нет мужа! У меня есть только сын и есть мама. Ещё ты…
Испугавшись своего признания, она закрыла лицо руками и заплакала навзрыд, как там, в аэропорту, только теперь не люди окружали их, а торжественно-молчаливые деревья и тишина.
— Ты вернёшься, Саша? — спросила она, всхлипывая.
— Да, да!
Она внезапно и коротко поцеловала его, только чуть прикоснулась к губам, и побежала вниз.
— На-пи-ши! — хрипло крикнул он.
Таня полуобернулась, подняла руку.
Тропа забирала все вправо и вправо. Она ещё раз подняла руку, деревья закрыли её.
И горе и радость. Все сразу.
Молчанов шёл на перевал. Но скоро он почувствовал, как трудно, физически тяжело ему идти, остановился, снял рюкзак, карабин, сел около тропы, затем лёг и долго, наверное целый час, лежал на спине и смотрел сквозь зеленые вырезы листьев на голубое небо, по которому плыли полнотелые, важные кучевые облака.
В глубине притихшего леса неожиданно раздалась чистая и сочная гамма звуков. Потом короткая пауза, двойной мальчишеский посвист и снова яркая трель. Дрозд. Запел чёрный дрозд.
Саша поднялся и прислушался. Дрозд надолго умолк. Неужели все? И тут он вспомнил, что чёрные дрозды на южном склоне гор гнездуются почти на месяц раньше, чем на северных склонах. Значит, у них уже вылетели птенцы, оперились. Теперь отец и мать станут учить молодых искусству пения. Может быть, он слышал как раз самый первый урок. К счастью.
Уже завечерело, когда Александр вышел на луга и взял правее, где, по его расчётам, мог отыскаться ботаник Петухов, ещё с весны заложивший опыт недалеко от солонца, известного всем оленьим стадам. Здесь учёный каждую неделю подсчитывал целые и состриженные оленями травы, определял рост травы.
Молчанов поднялся на скалистую высоту, окружённую кустами отцветающего рододендрона. Оглядев сверху луга, он улыбнулся: на делянках Петухова, обозначенных сухим стволом, паслось десятка три серн и косуль. Значит, ботаник удалился, чтобы не мешать. В бинокль, приблизивший опушку леса, Александр нашёл своего коллегу: он сидел на корявом дереве, удобно устроившись между веток, и тоже разглядывал в бинокль стадо копытных.
Хозяин опытного поля должен знать, кто и как посещает его делянки.
Через полчаса они уже вместе лежали у костра. На огне варилась каша, разговор шёл о проблеме, ради которой учёные забрались в этот безлюдный, строго охраняемый резерват.
Над горами повисла прохладная, росистая ночь.
Глава третья ВСЕ О ЛОБИКЕ, ОДНОУХОМ МЕДВЕДЕ
1
Матёрый медведь охотился за оленем четвёртый день.
С упорством, достойным лучшего применения, он спустился за ним с альпики, где отбившийся от стада рогач думал отлежаться, пока повреждённая задняя нога не заживёт. Олень резво бежал и на трех ногах, только изредка опираясь на больную. И всякий раз от резкой боли закидывал рогастую голову назад и на минуту останавливался. Через час хода он отрывался от преследователя достаточно далеко и ложился в тени ольховника где-нибудь у ручья, но медведь настигал его, и олень снова мчался, путая следы, то вниз, в густые леса, то вдоль склона, где осыпь могла замаскировать его след. Это была борьба за жизнь.
Медведь сильно оголодал, его уже не устраивали прошлогодние горькие орешки и личинки древесных жуков. Бока у него запали, шерсть взъерошилась, жёлтые глаза все время слезились. Плохая жизнь в июне!
Что олень обессилен, болен, а значит, доступен, медведь узнал, едва напал на его следы, а потом и один раз увидел — хромого, с кровоподтёками на серых боках, с одним и то переломанным рогом.
Оленю очень не повезло. Пять дней назад, перебираясь через невысокий, но крутой перевальчик, он ступил на непрочную плиту камня, она предательски скользнула вниз и сорвалась вместе с животным. Оленя закружило в потоке острых камней, он несколько раз перевернулся через голову, сломал ещё непрочные рога и сильно повредил ногу. Все тело у него покрылось ссадинами и ушибами. Едва поднявшись, он заковылял к ручью, нашёл бочажину и опустился по шею в холодную воду, пока не унялась дрожь — предвестница болезни.
Если бы оленю удалось спокойно полежать во мшистой западне среди скал хотя бы одни сутки! Но, видно, судьба решила иначе. Медведь почуял больного. Запах крови расходился остро и далеко. Пришлось через силу бежать и бежать, а сил у него оставалось очень мало. У оленя уже высох нос, глубоко и часто дышали бока. Когда он останавливался, то ощущал, как резко дрожат ослабевшие, побитые ноги.
На четвёртый день преследователь едва не сцапал свою жертву, когда, поднявшись на каменную высоту, вдруг увидел оленя прямо под собой в каких-нибудь восьми — десяти метрах. Можно было броситься сверху, рысь так бы и сделала, но медведь поостерёгся. Если олень переступит с ноги на ногу или успеет отскочить, то прыжок с высоты грозит медведю серьёзными неприятностями. Пока преследователь осторожно спускался и обходил скалу, олень успел убежать.
Нарастало раздражение. Усталость, голод вывели из себя хищника. Он вдруг рявкнул и сломя голову бросился по следу. Но и олень ещё не сдался, он тоже прибавил скорость и исчез в мелком березняке, где пересекались несколько тропинок с отчётливым запахом недавно прошедшего стада.
Медведь покружился среди этих троп и с досады навалился на трухлявую колоду ясеня, разметав её в щепки. Там нашлось кое-что из поживы, считая и толстого ужа. Медведь увлёкся сбором личинок и, немного утолив голод, одновременно вернул себе расчётливость поиска и хитрость следопыта.
Вскоре он опять нашёл следы своего оленя и пошёл по этим следам, возбуждая себя предвкушением пира.
Многодневный марафон заканчивался. Олень шёл пошатываясь. Ослаб и медведь. Ставкой в этом беге была жизнь.
Рогач вошёл в густейший пихтовый лес и, чтобы не удаляться от границы лугов, где трава и солонцы, прокрался вдоль склона, запутывая ход и стараясь подольше оставаться на хорошо набитых оленьих и кабаньих тропах. Вскоре он, помимо своего желания, оказался в предательски запутанном месте, где всюду натыкался на обломки скал. Переплетения бурелома, лиан и колючего кизила представляли собой ловушку, из которой очень трудно выбраться. Ноги оленя скользили по мокрым камням и стеблям рододы, иглы царапали шкуру. Он шёл уже автоматически, наполовину потеряв слух и обоняние.
Потом остановился и, дрожа всем телом, повернулся к преследователю, который был недалеко.
Но и медведь уже не бежал, а тащился.
Солнце клонилось к закату, в лесу от деревьев и скал легли косые длинные тени, стало прохладнее.
Мягко треснули ветки под тяжёлой лапой медведя. Сзади оленя метра на четыре подымалась длинная скала, несколько маленьких сосен торчало на ней. Прямо над ним свисали толстые бронзово-чёрные ветки старой сосны. За кустами, в двадцати шагах, дышал медведь. Он догадался, что олень в ловушке, и теперь высматривал, откуда взять его наверняка.
В это мгновение что-то прошуршало в сосновых ветках. Рыжее тело длинно улеглось почти над самым оленем, круглые безжалостные глаза блеснули. Старая рысь высунула из веток плоскую голову, изготовилась. Ужас сковал оленя. Большие глаза его, подёрнутые страхом смерти, хмельно озирались. Каким-то сверхусилием сдвинувшись с места, он избежал когтей рыси, упавшей рядом в густой куст барбариса. Зло и встревоженно рявкнул медведь. Олень собрал последние силы, ноги его спружинили и распрямились. Громадным прыжком он взлетел на уступ камня перед собой, рысь бросилась за ним, но он успел оттолкнуться от этого камня и перескочил на высокую скалу. На какое-то мгновение олень остановился, освещённый низким солнцем, похожий на чёрное изваяние на ярчайшем фоне неба, увидел у самых своих ног мрачную, бездонную пропасть, наполненную сизым вечерним туманом, и, гордо закинув израненную голову, рухнул туда, в стометровую пустоту.
Гордая смерть…
Два хищника остались друг против друга.
Добыча ушла. Глаза рыси горели ненавистью. Медведь вдруг почувствовал в себе силу и прежнюю мощь. Он не видел больше оленя, зато он видел яростную рысь, виновницу его неудачной охоты. Жажда мщения охватила его. Он ринулся на рысь и раздавил бы её, но, взвившись над местом схватки, она по-кошачьи упала сверху на медведя, и два десятка кинжальных когтей её вонзились в податливую шкуру противника.
Медведь взвыл от боли и ненависти. Стряхнув врага, он с размаху ударил рысь по спине.
Мяуканье, визг и рык раздавались в притихшем лесу. Сбившись в клубок, звери катались между скал. Кровь обрызгала редкие пучки вейника и щучки. Тяжёлый и сильный медведь прижал наконец рысь к камням и бешено рвал её стальное тело. Она истекала кровью. Весь израненный, медведь хрипел, но не слез с хищницы, пока судорога не потрясла её тело.
Все утихло в лесу. Зашло солнце. Быстро темнело.
Медведь лежал на животе и зализывал раны. Одно ухо у него было оторвано, он хрипло дышал и раскачивал головой, сбрасывая с шерсти капли крови. Иногда он вставал и с глухим рычанием обходил, обнюхивал неподвижное тело противника.
Всю ночь он не уходил с поля боя. Дремал, просыпался в жару и лапой ощупывал холодную рысь.
Под утро больной зверь шатающейся походкой обошёл скалы, почуял слабый запах оленя и кое-как забрался на верх скалы. Свесив одноухую голову, долго изучал пропасть, ещё наполненную ночной темнотой.
Оленя он нашёл только к полудню. Его привёл сюда запах шакалов, сбежавшихся к месту происшествия. Они мгновенно исчезли. По-хозяйски обнюхав тушу, медведь лёг и, предвкушая сытую жизнь на много дней, долго дремал перед тем, как вознаградить себя за тяжкие дни охоты.
Около убитой рыси, затоптанное в глину, осталось его левое ухо, разорванное в клочья.
Левое ухо со старой меткой: треугольный вырез, который был сделан много лет назад.
2
Лобик, воспитанный людьми и привыкший к людям, позже немало пострадал от этого воспитания и привычек.
Если бы Александр Молчанов располагал свободным временем, он, несомненно, уделил бы одинокому медведю не один час и день, и тем самым гораздо легче нашёл бы путь для сближения с постепенно дичавшим Лобиком. Но частые поездки в университет, работа над лекциями и книгами, многочисленные служебные обязанности в заповеднике не давали ему разыскать Лобика на огромной территории лесных гор, тем более что взрослевший медведь, не в пример оленю, то и дело уходил с обжитого им места в новые, часто пересекал границу заповедника, чтобы спуститься поближе к селениям, где, на худой конец, можно было разжиться в огородах то сладкой кукурузой, то картофелем или забежавшим в лес поросёнком. Его тянуло к людям, ведь он боялся их меньше, чем другие медведи.
Опыт обкрадывания человека, приобретённый ещё во времена браконьера Козинского, иной раз выручал Лобика в голодные дни весны и лета, он не брезговал этим способом пропитания и однажды, вспомнив прошлое, запросто явился в столовую лесорубов чуть-чуть не к самому обеду. Кухарка с удивительным для её полноты проворством залезла на осину; никого больше здесь не было, и Лобик по-хозяйски распорядился добром: сунув нос в кастрюлю с борщом, он обжёгся, осерчал и, разумеется, перевернул посуду, а заодно и картошку на противне, быстро съел нарезанный хлеб, повалил стол с мисками и убежал, оставив лесорубов без дневного рациона. За ним гнались, даже стреляли. Когда же вскоре обнаружил недалеко от лесосеки тушку обжаренного гуся в соседстве со свежесложенными ветками, то эта странная доброта человеческая насторожила его. К гусю он и близко не подошёл. Но запах жареного не позволил ему и уйти. Лобик стал швырять в приманку камни, ветки и швырял до тех пор, пока наконец не услышал страшный щёлк стальных челюстей капкана и не догадался, что теперь он может полакомиться гусем.
Потом, желая отомстить обезвреженному капкану, он вытащил его вместе с цепью и брёвнам, зачаленным за цепь, долго волочил за собой, пока не оказался на скалистом берегу реки и не без удовольствия спровадил дьявольское ухищрение охотников в воду.
Такую шутку с капканами, нацеленными на него доброхотными звероловами, для которых законы не писаны, Лобик проделал за эти годы множество раз и настолько мастерски, что приводил в изумление самых опытных охотников.
И все равно его тянуло к людям. Не только из корысти, но из любопытства тоже.
Он часами мог лежать где-нибудь за огородами лесного посёлка и глядеть из-под куста можжевельника на женщин, идущих доить коров, на детей, играющих во дворе, слушал голоса, смех, ощущал запах хлеба, вареного мяса, и эти картины, звуки, запахи вызывали в его потускневшей памяти отрывочные воспоминания из детства. Эти воспоминания размягчали его, он безмятежно засыпал, а проснувшись, чувствовал только голод, подымался и уже думал лишь о том, как добыть пищу. Мог забраться в огород и поломать кукурузу; мог вытащить из сарая поросёнка или выпить молоко из корытца, приготовленное не для него.
К третьему году жизни Лобик стал выглядеть более чем внушительно. Поднявшись на задние лапы, он передними царапал кору на высоте ста восьмидесяти сантиметров. Шерсть его сделалась тёмной. В этом цвете он был страшней. Каждую весну шерсть отрастала густая, длинная, в своей шубе Лобик не боялся ни снега, ни мороза. А в жару с удовольствием залезал в холодную воду горных озёр и долго плескался, по женски подпрыгивая и окунаясь. Плечи его раздались, он чуть-чуть косолапил, и когда шёл, то сильно вихлял задом. Широколобая чёрная голова с маленькими заросшими ушами и длинным носом прочно сидела на мохнатой мощной шее, а жёлтые глаза с карими зрачками порой смотрели так умно, что, казалось, медведь вот-вот заговорит. Красавец весом центнера на три с половиной.
Любопытству Лобика не было предела. Все интересовало его и часто без особой нужды. Вдруг захочется сорвать с клёна омелу — кучу веток паразита, похожую на вороньё гнездо. Залезет, ломает ветки на дереве, срывает зеленую омелу, бросает вниз, а спустившись, разрывает до последней веточки.
Или заберётся на скалистый пик и непременно съедет вниз по крутому снежнику. А то возьмётся гоняться на мелководье за форелью.
Форель молниеносна, прытка. Лобик только увидит её в воде, бросится лапами вперёд, а она уже в десяти метрах от него. Со смешной осторожностью поднимает он из воды лапы, надеясь, что рыба под ними, и, осерчав, разбрасывает голыши на дне прозрачной реки, выкидывает из речки большие камни, словно они виноваты в его неудаче.
Теперь этот вегетарианец ест все, что попадётся. Он уже знает вкус мяса, а запах крови приводит его в неистовство. Попадались ему на зубы косули, олени, барсуки. Шакалов он ненавидел и мог убить просто так. Ловил тетёрок, разорял их гнёзда, любил выслеживать рои диких пчёл и далеко не диких, если лесные пасеки небрежно охранялись.
Запах ружья он чувствовал далеко и тогда делался дьявольски осторожным.
Для этого у Лобика были основания.
За три года до описываемых событий кривые дороги увели любознательного Лобика довольно далеко за пределы заповедника, и он оказался как раз на тропе, по которой с высокогорных пастбищ спускались потучневшие за лето стада бычков, телок и овец. Медведь не мог упустить столь желанную поживу и сделал в этом месте длительную остановку.
Облюбовав густой кустарник в скальном районе, он сел в засаду, и первая же овца, чуть отбившаяся в сторону, оказалась его добычей. Потом ещё баран, за ним глупый бычок, снова баран. Промысел продолжался несколько дней, не остался незамеченным, опасное место пастухи засекли — поставили доску со словами: «Осторожно, медведь!» И гуртовщики, прочитав предупреждение, палили из ружей в воздух.
Прошли в степь стада, горные пастбища опустели Лобик поскитался в этих краях, ничего не нашёл и спустился к посёлку лесорубов. Здесь тоже было своё стадо, и он, выследив двух овец, убил их. В посёлке живо догадались, что появился опасный сосед, и вскоре Лобик увидел в лесу приманки с капканами. Тут он оказался на высоте. Сноровисто обезоруживал стальные машинки, а приманку съедал.
Но один охотник все-таки перехитрил зверя. В районе капканов он устроил засидку на дереве так, чтобы капкан с приманкой оказался в прицеле ружья, и Лобик попался.
Две пули с верхних веток бука впились в его могучее тело. Он взревел, нерасчётливо встал на дыбы, но тут же исчез в кустах. Он ушёл от преследователя, обагряя траву и листья своей кровью. Ох, как больно, как нехорошо сделалось ему! Счастье, что обе пули повредили только мускулы, не задев важных органов. Лобик нашёл в себе силу забраться глубоко в дикий район и, запутав охотников, занялся лечением.
Три недели медведь болел, отлёживался в разных местах, подымался только для того, чтобы собрать желудей или напиться воды. Трудные недели запомнились ему навсегда, как запомнился и запах человека, перехитрившего его, и запах ружья, поразившего его. Время показало, что память на опасность у этого зверя была превосходной.
До холодов он поправился, окреп, осенний лес предоставил ему много самой разнообразной пищи. Лобик пошёл отыскивать себе берлогу.
Его старая, очень просторная и сухая берлога оказалась недалеко, он быстро разыскал её, а когда сунулся в дыру, услышал предупреждающий рёв. Глухое ворчание показалось ему знакомым. Лобик скорее удивился, чем осерчал, в бой по непонятной причине не полез, а отошёл и улёгся так, чтобы можно было видеть вход в берлогу.
Оттуда вылезла медведица с двумя подросшими медвежатами. Стоило Лобику увидеть и почувствовать их запах, как бесследно растаяло последнее желание наказать незваных гостей. Троица вытянула носы в его сторону, медведица что-то сказала детям, и они, недовольно оглядывась, вернулись к берлоге, а сама она зашагала к Лобику, и вид у неё был скорее воинственный, чем любезный, даже, пожалуй, угрожающий. Лобик вскочил, повертелся на месте и, хотя выглядел чуть не вдвое больше противника, вдруг повернулся и, воровато оглядываясь, пошёл прочь.
Трусливое отступление перед менее сильным зверем объяснялось очень просто: то была его прошлогодняя подруга с его же детьми. И если она заняла берлогу Лобика, то взяла этим шагом лишь небольшой процент с отцовских долгов, накопившихся за полтора года: она сама родила и воспитала медвежат, сама защищала их и учила, тогда как легкомысленный папаша не сделал ничего, чтобы помочь оставленной семье. И теперь медведица, похоже, очень желала дать трёпку увёртливому отцу.
Лобик прытко бежал, оглядываясь, и жёлтые глаза его виновато моргали. Он не понимал, вероятно, что в этой истории вёл себя не хуже и не лучше всех других. Доказано, что медведи не слишком примерные семьянины, они считают, что дело воспитания медвежат целиком лежит на родительнице, а если и участвуют в этом сложном процессе, то с гораздо большим желанием на должности нянек-пестунов у детей совсем чужой медведки. Вероятно, тогда ответственности меньше…
Дня три он ходко обследовал глубокую долину, забитую глухим лесом. На переломе склона, среди плитняка из глинистого сланца, разлопушилась густейшая заросль падуба и боярышника. Здесь Лобик обнаружил неглубокую нишу и начал выковыривать плитку за плиткой. Так ему удалось углубить впадину метра на три, сделать поворот и устроить подобие пещеры. У входа возникла горка, хорошо маскирующая чёрный зев берлоги. Он остался доволен. Натаскал немного сухой листвы, травы, двигая её перед собой лапами и мордой, и улёгся, сонно помаргивая уставшими веками. Вздохнул раз-другой и задремал.
Из дремотного состояния его вывел какой-то шум снаружи. Лобик с трудом открыл глаза и выполз.
Что творилось на белом свете!
Яростный ветер прижал тёмные облака к самому лесу, разбойничий свист и вой наполнили узкую долину. В лесу скрипело, охало, последняя сухая листва с шумом кружилась в воздухе, где-то грохотали, срываясь, камни, с треском ломался сухостой. И в довершение ко всему, из тёмных туч полил дождь пополам со снегом.
Лобик посидел, посмотрел на безобразную зимнюю непогоду и, вздохнув, начал осторожно отступать в глубь своей пещеры.
3
Весну он почуял не носом, не ушами, а всем телом.
Вероятно, когда запас жира, накопленный в медвежьем теле, подходит к концу, в коре мозга возникает какое-то беспокойство. Тут уж не до сна.
Лобик завозился. Сначала ещё смутно, а потом вполне реально он ощутил неудобство во всем теле, холодную сырость, проникшую сквозь грязную, свалявшуюся за зиму шерсть.
Он заметил, что в берлоге отовсюду капает и эти капли неприятно холодят кожу. В полутьме разглядел ледяные натёки на потолке и на полу. Мокрый камень издавал раздражающий могильный запах. И вообще в этом каменном склепе ему сделалось очень неуютно:
Лобик выполз к свету, но за горой камня, ещё припорошенного снегом, ничего не увидел. Он лежал у входа и щурился, оберегая глаза от яркого света, отражённого снегом, да вздыхал. Лапы покалывало, словно он перележал их. Сильно болели старые пулевые раны, ещё сильнее болел отяжелевший живот.
Медведь преодолел наконец оцепенение, встал на лапы и высунул нос за кучу камня.
Ну и погодка!
Солнце не выглядывало из-за облаков, туман скрывал даже близкие пихты, а воздух казался тяжёлым и мокрым. Лобик попытался было уйти назад, но, вспомнив, что в берлоге грустно, нехотя перебрался через камни и побрёл вдоль склона без цели и планов, куда глаза глядят.
В нем по нужде проснулся вегетарианец.
Увидев молодые липы, потянулся, сорвал голые, прошлогодние веточки и брезгливо пожевал их, качая головой. Горькая слюна наполнила рот, но Лобик все-таки проглотил это первое после зимнего поста блюдо. Нашёл ягоды калины, сухие и перемороженные, — поел этих ягод. Напал на чернику, сморщенную и жалкую, взялся собирать чернику. На шиповнике он, можно сказать, разговелся, ободрав множество кустов. Желудок у него заурчал, живот заболел ещё сильнее и вроде бы опустился вниз. Он даже приподнялся, удивлённо посмотрел на мешающий живот и потрогал его лапами, дивясь туго натянутой коже и непроходящей боли.
Снег лежал не всюду, и это открытие обрадовало Лобика. Попадались и выгревы, а на них короткая и сильная зелень, которую Лобик разрывал и поедал прямо с корневищами, слегка отряхивая их от липкой глины.
Дня два он бродил с нарастающим ощущением тяжести, вялости и слабости. Иной раз ложился, рычал от боли, но продолжал заталкивать в желудок все, что хотя бы мало-мальски можно было назвать пищей.
Как-то под вечер он понял, что сейчас умрёт. Закружился на месте, заревел уныло и жалко, упал, снова поднялся, и тут вдруг страшная боль пронзила его, и кишечник стал освобождаться. Лобик не стоял, а бегал по кругу, хотя в глазах у него плясали разноцветные круги.
Через двадцать минут он почувствовал великое облегчение и впервые лёг на холодную мокрую землю в блаженном состоянии радостного освобождения от странной болезни. Все кончилось. Он здоров. Теперь подальше от этого опозоренного места — и да здравствует жизнь, весна, здоровье!
Энергии прибавилось. Когда на горы упала позднемартовская ночь с ядрёным морозцем и синими тенями в долинах, Лобик никак не мог уснуть и все прислушивался к звонкому воздуху, который успел очиститься от тумана.
Вдалеке ударило глухо и сильно. Лобик поднял нос кверху и долго вынюхивал воздух, словно этот далёкий гром мог предвещать ему что-нибудь особенное.
Едва дождавшись утра, медведь пошёл в сторону ночного грома.
У подножия хребта он наткнулся на свежее месиво из грязноватого снега, перекорёженных стволов, расщеплённых веток и каменного боя. Над лавиной до самой вершины хребта хорошо просматривалась чёрная, гладко соструганная широкая полоса.
Медведь обошёл вокруг мёртвой насыпи, затем забрался на спрессованную гору снега и тщательно обнюхал каждый метр. В одном месте нос наткнулся на что-то, стоящее внимания Лобик зарылся в снег, принялся выворачивать и отбрасывать камни, куски дерева, ледышки. Рыл и фыркал, как собака, учуявшая под землёй мышь.
Достать погибшего тура — вероятного виновника лавины — ему стоило больших трудов. Лобик перепахал и раскидал тонны снега с каменной начинкой, пока не коснулся рубчатого рога, загнутого колесом.
Не вытаскивая добычу из ямы, медведь впервые в этом году поел очень основательно и тут же, в раскопе, уснул, чрезмерно отяжелев от пищи. А проснувшись, снова принялся за еду, заслоняя останки тура от наглых вороньих нападок всем своим грузным телом.
Когда он шумно перевалился через край снежной ямы и встал во весь рост на снеговом завале, до слуха его донёсся слабый металлический звук, словно ружейный затвор лязгнул. Чуждый звук. Ухо его прижалось, шерсть на загривке встала дыбом. Сейчас обожжёт, загорится в боку, прогрохочет — и все… Он ещё не видел никого, но ощущение близкой опасности заставило его на одно мгновение окаменеть.
Минута, другая…
Снова щёлкнуло, он вгляделся в камни и заметил там шевеление и блеск стекла. Нос не помогал ему, ветер относил запахи в сторону, хотя до опасного места было не больше семидесяти метров.
Ничто так не волнует и не страшит, как неизвестное. Бежать? Или смело идти на бой? Лобик топтался, фукал, загривок его угрожающе шевелился. Бежать быстро после такого сытного обеда он не мог. Наверное, по этой же причине не находил он в себе всегдашней боевитости.
Пока зверь переступал с ноги на ногу, из-за камня высунулась волчья морда, правда, странная волчья морда, бело-чёрная и незлобная. Раздался тихий, приглушённый визг, вслед за которым два поблёскивающих «глаза» высунулись рядом с волком и минуту-другую разглядывали его.
— Нет, не он, — тихо произнесли за камнями. — Ты ошибся, Архыз.
В бинокле во весь окуляр на Александра Молчанова глядела одноухая, желтоглазая перепачканная морда, ничем не напоминающая Лобика.
А овчар все ещё повизгивал, переступал с ноги на ногу, пристально смотрел на медведя. Архыз лучше хозяина знал, кто перед ним.
Молчанов подумал и спустил своего полуволка. Будь что будет!
Едва Архыз выпрыгнул из-за камня, как Лобик пружинисто бросился наутёк. Откуда и прыть появилась! Он-то знал, как это начинается. Сейчас собака закружит его, остановит, будет кидаться справа, слева — и тогда заговорит ружьё. Было, было. Известно. Поэтому, уже не оглядываясь, во всю силу мчался он прочь от опасного места. На крутом спуске перевернулся через голову, ухнул от неожиданности и только тогда остановился, когда скрылись из глаз опасные камни, за которыми сидел человек.
Овчар громадными прыжками догонял Лобика, вот он уже рядом, но поведение его странное. Он не вцепился в волосатые лапы медведя, а перегнал его и сделал возле ошеломлённого, остановившегося зверя большой круг, все время миролюбиво подпрыгивая и виляя хвостом. И не лаял, а только скалился. Пушистый хвост Архыза завивался вверх. Ну, приятель — да и только!
Лобик потянул воздух. Наконец-то запах собаки хлестнул его по носу. И что-то далёкое и доброе всколыхнулось в голове зверя. Этот запах совсем не прибавил ему ярости. Не настроил на схватку. Напротив, принёс медведю успокоение, какую-то душевную улыбку, что ли. Лобик, до сих пор стоявший на задних лапах в готовности номер один, опустился на передние, шерсть у него улеглась, и он с пристальным вниманием начал следить за проделками Архыза, который не приближался, а прыгал вдалеке, то взвиваясь, то прилегая на передние лапы. Игра — не более. Медведь смотрел, но, на всякий случай, изучал воздух, прилетавший издалека, — не идёт ли следом за ними человек с ружьём. Белый склон горы оставался пустым. Молчанов находился в километре отсюда и не спускал с них глаз, вооружённых биноклем. Неужели он ошибся и не признал в одноухом своего Лобика?
Все так же выказывая дружелюбие, Архыз лёг, бесстрашно покатался через спину, задирая лапы, но Лобик стоял как истукан и только смотрел и смотрел. Через годы до него смутно доносились воспоминания детства, но так слабо, так робко, что не смогли одолеть всех более свежих и памятных опасностей от встреч с собаками и с людьми. Да, что-то доброе и приятное было. Но гораздо ясней и отчётливей вспоминались схватки, боль от горячего свинца, тот ненавистный запах махорки, который навсегда запомнился медведю, когда две пули вонзились в него. И это более реальное, ещё не забытое, наверное, никогда не забудется и задавит окончательно грустно-приятные воспоминания далёкого прошлого…
Лобик заворчал и сделал несколько шагов к Архызу. Собака отскочила. Но Лобик совсем не желал боя и потому не погнался за Архызом. Его мысль неожиданно вернулась к оставленному мясу. Что-то там делается без него? Медведь забеспокоился, а когда Архыз, явно недовольный сдержанностью приятеля, побежал прочь, не выказал никакого желания следовать той же дорогой. Напротив, тихонько поплёлся за ветром, чтобы проследить по запаху, куда исчезнут странные создания, от вида которых ему делается как-то не по себе.
Молчанов встретил Архыза немым вопросом. Но что могла сказать или объяснить собака? Овчар лёг, несколько раз вздохнул и затих.
— Ну что, убедился? — спросил Александр. — Ты и так и этак, а он хоть бы ухом повёл. Нет, не Лобик. Ошибка.
Он поднялся, чтобы продолжать свой путь. И Архыз поднялся. Шёл и все время потихоньку оглядывался и очень хотел ещё раз увидеть Лобика, поиграть с ним. Но медведь исчез.
Александр и сам не был уверен, что прав и что собака не права. Он тоже оглядывался, смотрел на Архыза, задумывался. И тут ему пришла в голову одна мысль.
— Постой-ка, — сказал он Архызу и сбросил рюкзак.
Порылся в нем, достал горсть конфет в бумажках с жёлтой коровой на коричневом фоне, отыскал в сотне шагов к югу голую каменную возвышенность, забрался на неё и выложил конфеты. А затем быстро удалился.
Остановились они метрах в семистах от камней с приманкой. Молчанов лёг и взялся за бинокль. Лёг и Архыз.
Лобик пришёл к голым камням меньше чем через час. Он не мог не прийти: выслеживая человека и собаку, которые вели себя совсем не так, как другие люди и другие собаки, он двинулся за ними.
Возле каменной возвышенности Лобик остановился в полной растерянности. Пряный запах конфет словно сдёрнул с его памяти пелену густых наслоений. Друг детства Архыз точно и выпукло обрисовался в его сознании. И человек, впервые протянувший ему когда-то бумажные пакетики с таким вот удивительно приятным запахом, тоже вспомнился. И тонконогий олень немедленно выплыл из небытия, и чьи-то добрые старческие руки, наливающие молоко в корытце… Все вспомнилось. Он готов был бежать за ними куда угодно, чтобы только увидеть их, побыть рядом, утолить сосущую жажду общения, которая, видимо, присуща не только одиноким людям.
Но прежде, конечно, конфеты. Их надо съесть.
Безбоязненно, совсем не так, как подходил он к любой другой приманке, Лобик приблизился к горстке конфет и шустро похватал их.
Молчанов опустил бинокль.
— Ты прав, Архыз, — задумчиво сказал он. — Это все-таки наш Лобик. Никакой другой медведь не осмелится так спокойно и просто взять приманку. В его памяти живёт прошлое. Кто бы мог подумать! Одноухий верзила — и тот Лобик… Именно Одноухий, так мы его и будем отныне звать. Подождём его здесь, вдруг захочет подойти…
Но Лобик не захотел. Есть дело посерьёзнее, поважней. Он потоптался на голой вершине, определил, куда ушёл человек с собакой, и вдруг помчался к подножию горы, где лавина. Ведь мясо-то без присмотра! И эта сиюминутная, вполне реальная забота о пище вытеснила в его голове всякие другие заботы, воспоминания и эмоции, все-таки свойственные диким животным.
Произошла эта встреча задолго до событий, с которых началась третья часть нашего повествования.
После этого Александр Молчанов разработал подробный план дальнейших встреч с Одноухим-Лобиком, получил одобрение со стороны Котенко, но тут началось лето, свалились более срочные дела, и выполнение плана передвинулось, лето пролетело, наступила зима, медведи попрятались по берлогам, а весной опять недосуг, и вот наконец очередная встреча с красавцем Хобой, встреча, снова напомнившая Молчанову былое, где, как известно, немалая роль принадлежала и Лобику-Одноухому.
Но об этом немного позже.
Глава четвёртая РАЗГОВОР С ЧЕЛОВЕКОМ И МЕДВЕДЕМ
1
Александр Молчанов спустился с гор лишь на исходе второй недели.
Дома он хотел было прежде всего рассказать матери о похоронах Никитина, но Елена Кузьминична остановила его.
— Все знаю, сынок, — сказала она. — За две-то недели уже не один человек рассказывал, да и письмо от вдовы я получила. Привет тебе прислала, благодарность, думала, ты уже давно дома, а ты вон сколько дней пропадал.
Елена Кузьминична выглядела на этот раз как-то очень молодо, приподнято. Даже горбиться перестала. На чистом лице её все время порхала слабая, мимолётная улыбка. Правда, она старалась не показывать глубоко упрятанную радостную надежду, для чего хмурила брови и закрывала улыбающийся рот ладонью. Ходила по дому споро, шустро, работа у неё, что называется, кипела в руках, и даже привычное «цып-цып-цып!», с которым выходила на крылечко кормить цыплят, звучало, как мажорная, молодая песня. Для этого у неё была причина. Веская причина! Саша тихонько радовался: значит, здорова, чувствует себя хорошо.
И в самом деле, излюбленная её тема в разговоре — о болезнях и лечении этих болезней — как-то сама собой исчезла. Елена Кузьминична больше рассказывала о соседях, о свадьбах в Камышках, даже помянула о новостях, услышанных по радио, — и все с кровной заинтересованностью, словно жизнь в эти дни приобрела для неё новый смысл.
— Ну и что тебе пишут из Жёлтой Поляны? — вроде бы между делом спросил Саша.
— Всё пишут. Лесников благодарят за память и за подмогу в хозяйстве Ирины Владимировны. Тебя вспоминают. О маленьком Саше рассказывают разные разности. Все интересно.
— Разве Таня ещё не уехала?
— Почему не уехала? Вскорости, как ты ушёл в горы, так и она уехала. Работа у неё, нельзя надолго оставлять работу. А Сашеньку у бабы оставила, куда ей с маленьким одной-то в том далёком городе!
В каждом слове матери для Александра был намёк, недомолвка, открытие неизвестного.
— Как одной?
— А так и одной. С мужем-то они не живут.
— Знаю, что не живут. Таня говорила. Но у маленького в Ленинграде есть дед, бабка…
— Она от них ещё в прошлом году ушла. Если мужа нет, то и мужнина родня не родня, всем такое известно, сынок.
Ещё одна новость! Почему же Таня не сказала ему, когда они прощались? Но он вспомнил, как они прощались на тропе. Не могла она сказать всего, не хотела жаловаться. И никому, наверное, не сказала бы, кроме своей матери. А вообще это отлично, что Саша-маленький живёт в Жёлтой Поляне.
Александр улыбнулся, вспомнив круглое, розовое лицо мальчугана, очень похожее на Танино лицо.
— Ну как ты нашёл маленького Сашу? Понравился тебе? — Елена Кузьминична с интересом разглядывала сына.
— Он на Таню очень похож, — сказал Александр и покраснел.
— И к тебе на руки пошёл?
— Ещё как! Ружьё ему понравилось. Мужчина…
Елена Кузьминична призадумалась, спрятала улыбку. Сказала со вздохом, словно бы испрашивая разрешения:
— Ирина-то Владимировна приглашает меня погостить. Грустно ей без Василия Павловича. Вот думаю, к сороковому-то дню на поминки съездить мне, что ли?
— Смотри, как здоровье позволит. Ты ведь поездом, а это далеко.
— Да уж какая даль! При теперешних-то поездах…
Она ждала, не будет ли сын отговаривать. Но он промолчал, сидел задумавшись. И думал прежде всего о своём маленьком тёзке, о Саше. Кстати, почему Таня назвала его этим именем? Неужели и тогда она помнила о нем, друге юношеских лет? И ещё он размышлял, удастся ли ему побывать в скором времени на той стороне Кавказа. Ждать сорокового дня он не намерен.
— Поезжай, конечно, — сказал он матери. — Тут особых забот у нас нету, кур-уток соседям поручи. И побудь у Никитиных, отдохни.
— А ты надолго ли останешься дома?
— Мне опять в горы.
Весь день Саша вспоминал слова матери. Если Таня оставила сына у своих, значит, и сама собирается ещё раз приехать. Как же иначе? Но когда?
Все эти мысли были радостными, вселяющими смутные надежды. И хотя Саша не признавался себе в этом, приподнято-праздничное настроение появилось и у него, словно от матери перенял.
В доме Молчановых стало светлей. Как перед праздником.
Письмо от Бориса Васильевича из Желтополянской школы пришло вечером того же дня.
Писал он — скупо и озабоченно, — что хотел бы снова видеть Сашу в самые ближайшие дни, потому что ему не нравится, как ведёт себя лесничий Южного отдела и некоторые лесники на кордоне, где стоит новенький охотничий дом.
«Они задумали что-то нехорошее, и подбил их на это наш знакомый В.Капустин. Мне думается, Саша, — писал он, — что присутствие в наших местах летом хотя бы одного научного работника из заповедника способно сдержать эти нездоровые явления, которые, разумеется, проще предупредить, чем лечить потом мерами крутыми с помощью партийной и советской администрации. Словом, загляни к нам, если можешь, или попроси Ростислава Андреевича».
Очевидно, тревога обоснована. Они уже говорили о незаконной охоте, которая, судя по слухам, была однажды организована на дальнем кордоне Южного отдела. Неужели теперь повторение недопустимого?
Ещё им не хватало браконьеров в своих собственных рядах!
На другой день Саша поехал в город. Квартира Котенки была пустой. Уехал. И неизвестно, когда вернётся.
Тогда Молчанов пошёл в контору заповедника.
Здесь тоже пустовали кабинеты, молчали телефоны. Гипсовый олень в палисаднике одиноко сиял под солнцем. Двор залит светом, там ни одной машины.
Полевой сезон. Все в горах.
Директор заповедника отсутствовал, на его столе скопилась большая пачка писем и телеграмм. Заместитель по науке, только что спустившийся с высот Бомбака, наскоро просматривал почту.
— Ты надолго? — спросил он Молчанова.
— До вечера. Хотел увидеть Ростислава Андреевича, но безуспешно.
— Что теперь?
— Большой маршрут по своей теме. Дня три буду идти Передовым хребтом, потом подымусь к перевалу и на юго-восток. Возможно, спущусь к Жёлтой Поляне.
Заместитель директора вытащил из вороха писем один конверт, задумчиво осмотрел его.
— Значит, ты пройдёшь недалеко от Шезмая?
— Да, чуть выше.
— Тогда вот что. Возьми это письмо и постарайся проверить, что за человек там рвётся к нам в лесники. И почему именно его настойчиво рекомендует, нет, предлагает взять в штат наш знакомый Капустин? Мне не нравится эта «просьба» начальства, за ней что-то кроется. Постарайся выяснить и напиши из Шезмая сюда. Какой-то товарищ А.В.Бережной. Не знаешь, случаем?
— Откуда мне…
— Ну тогда познакомься, расспроси. И почему в лесники Южного отдела? Двух других Капустин распорядился принять прямо в Поляне. Это третья его кандидатура. Очень странно. Словно у нас нет руководителя и своего отдела кадров.
Вот тогда Молчанов дал заместителю директора прочесть письмо учителя Бориса Васильевича. Биолог удивлённо поднял брови.
— Видимо, у Капустина существует свой план действий, о котором мы ничего не знаем. Но поскольку это происходит на территории нашего заповедника и касается нашей деятельности, мы попробуем вмешаться. После работы на Передовом хребте спустись в Жёлтую Поляну, познакомься с обстановкой.
И когда закончился этот разговор, и после, когда Саша уже вышагивал по лесной дороге, он не переставал думать о странной роли Виталия Капустина, о его поведении, о его просьбе о помощи — тогда, в ресторане.
Что-то нехорошее в словах и повадках бывшего инструктора по туризму он почувствовал сразу же. Поведение нечестное. Скрытность никогда не нужна в делах чистых, человеческих. Скрытность — тень плохого, которое потому и надо скрывать, что оно плохое.
Стоял тихий, тёплый день. С гор в долину сваливался свежий ветерок, редкие облака грудились возле вершин, в лесу переговаривались чижи, зяблики, стучал дятел. Давно не хоженная тропа виляла вдоль склона и постепенно спускалась вниз. Впереди все более внушительно вырастал отрог Скалистого хребта, утыканный поверху низкими, корявыми соснами. За хребтом расположился посёлок, куда шёл Молчанов.
Тропа вывела его на узкоколейную железную дорогу. Она убегала к каменной стене хребта и пропадала там за негустым лесом.
Ещё один километр, второй — и Молчанов оказался перед щелью, самой природой прорубленной через узкий и высокий хребет.
2
Со школьной скамьи мы знаем о знаменитом Дарьяльском ущелье на Центральном Кавказе.
Воспетый великим поэтом, грозный Терек прорывается здесь через каменную преграду хребтов, почти полностью лишённых растительности. Близ Терека — только камень и вода, грозные стихии, вечно воюющие друг с другом.
Дарьяльское ущелье подавляет величием, мрачными красками, низко нависшим небом, грохотом воды, скрежетом и буйством обвалов. Человек кажется здесь самому себе маленьким, ничтожным и затерявшимся.
Выбравшись из тесно сдвинутых каменных щёк Дарьяла, трудно не вздохнуть облегчённо, словно после опасности, оставшейся позади. Мрачная, жестокая стихия, присущая, вероятно, древнейшим земным эрам, — вот что такое Дарьял.
Гуамское ущелье, прорубленное в Скалистом хребте на Западном Кавказе, является двойником Дарьяльского, его младшим братом.
Это ущелье не так известно, как ущелье Терека. Оно менее строго и громадно, а его общий вид, неповторимость рисунка, обилие красок и шумов в общем-то более мажорны, хотя и тут есть над чем задуматься и есть чего испугаться.
Первое, что пришло на ум Молчанову, шагающему по карнизу у самой стены ущелья, где лежали рельсы узкоколейки, — это загадка образования самого ущелья. Похоже, что поднялся когда-то над горами великан и ударом своего великанского меча разрубил хребет надвое. Не с одного удара, а с четырех или пяти, потому что Гуамская щель не прямая, а извилистая, хотя и тянется всего на три с небольшим километра.
Но какой же силы эти удары!
Отвесные стены из черно-жёлтого и коричневого камня падают вниз на полтораста — двести метров до карниза с дорогой. Сбоку дороги, поросшее кустами ольхи, берёзы, калины, тянется ложе реки, которая несётся со скоростью более шестидесяти километров в час. Вода в этом потоке не голубая, не зелёная, а белая, её сперва заперли во все сужающемся ущелье, а потом свили в тысячи жгутов, и эти жгуты захватили в себя пенный воздух и побелели от бешеной скачки с порога на порог. Курджипс грохочет так, что если по дороге рядом с ним движется состав, гружённый лесом, то его совсем не слышно, словно идёт он по воздуху, а не по рельсам. Рёв и грохот воды сотрясает стены, которые местами сходятся до пятидесяти метров. Глядеть из ущелья в небо все равно что со дна глубочайшего колодца.
Каменные стены сочатся водой, сверху падают — тоже бесшумно — нитевидные водопады, тугой сквозняк рассеивает повсюду миллионы водяных брызг. Холодно. Но каждый уступ на стене, самая незначительная осыпь — все завоёвано растениями и покрыто ими.
Больше всего в ущелье самшита. Древнейшие реликтовые создания с почти чёрным, мелким и жёстким листом, густыми пятнами, словно разросшиеся мхи, сидят на отвесных стенах, зацепившись за едва приметные трещины. Выше их, там, куда достаёт полуденное солнце, прицепились невзрачные сосны. Цветут, отставая от календаря на добрый месяц, жёлтая азалия и розоватый кизил. Их резная листва драпирует, занавешивает голые стены, а над самым урезом мрачной щели, в непостижимой высоте, стоят, наклонившись, грабы и дубы, уже привыкшие к зияющему провалу у своих корней.
Молчанов остановился, надел телогрейку: сырой холод пробирал до костей даже в этот тёплый, летний день. Согревшись, он спустился с дороги на узкую отмель у самой реки и увидел на стене ровно очерченную водой линию коричневатого цвета. Так река обозначила свой уровень после дождей и ливней — на три метра выше обычного.
Он стоял и смотрел на кипящую воду у своих ног. Какая рыба выдержит гонку возмущённого потока? Даже отчаянная форель вряд ли сумеет одолеть без потерь этот непрерывный трехкилометровый водопад…
Он снова выбрался на дорогу и, поёживаясь, пошёл дальше.
Постепенно стены делались ниже, ущелье расходилось в ширину. Ещё несколько минут хода, и Молчанов оказался в широкой замкнутой долине по другую сторону высокого хребта.
Перед ним раскинулся посёлок с кривыми улочками, тихими дымками, гомоном ребятишек.
Молчанов снял телогрейку, огляделся. Хребет с этой стороны плавно подымался, как кабанья спина, и зарос щетиной мелкого леса. В самой середине его чернела рваная рана ущелья, через которое он только что прошёл. Диво!
Отыскав поселковый Совет, он оставил там карабин и рюкзак, поговорил о том о сём с председателем, а потом спросил:
— Есть у вас Бережной А.В. Как мне разыскать его?
Председатель засмеялся:
— Ищи ветра в поле. Самый непоседливый мужичок. Если в посёлке отыщется, считайте — повезло. Вечно в разгоне, всегда у него какие-то дела. Живёт он… — Председатель склонился к открытому окошку. — Во-он видите цинковую крышу? Это его дом.
— Работает где-нибудь?
— Сколько помню — нигде. Правда, иной год уходил с пастухами. Зимой возле туристов-лыжников на базе отирается. Случайные, в общем, заработки. Говорит, скоро пенсию получит. Какая ему пенсия будет, сказать не могу. А вы, случаем, не вербовать его приехали?
— Только познакомиться хочу. Вербуют его другие, — туманно ответил Молчанов и пошёл искать этого Бережного.
Фланелевая куртка и тяжёлые ботинки делали Молчанова похожим на туриста, который собрался подняться до лыжной базы на горе. Он и решил представиться туристом, если дело дойдёт до знакомства.
Дома Бережного не оказалось. Замок.
Александр пошёл наугад по улице, пустынной в этот предвечерний час. Похоже, здесь живёт не очень много народу. И все, конечно, работают. Никто ему не встретился. Огорчённый неудачей, он свернул к реке. Пробрался через негустые лозняки и тут на берегу увидел мужчину, который сидел разувшись, с засученными портами и сосредоточенно плевал в воду.
На вид ему можно было дать чуть более пятидесяти. Всерьёз облысевший череп поблёскивал, а волосы, которые не усидели на самой голове, без особых потерь перебрались на лицо и образовали довольно густую бородку, тщательно причёсанную и подрезанную квадратиком, не без претензий на моду. Цветом она была пепельная, с проседью, как и пышные усы, теряющиеся концами в бороде. Заметное лицо, ничего не скажешь. Не забудется.
Саша поздоровался и сел. Бородач равнодушно кивнул, даже не посмотрев в лицо.
Помолчали.
— Турист? — спросил вдруг борода.
Саша тоже кивнул.
— Куда нацелился?
— Туда. — Молчанов ткнул пальцем в гору, очень зеленую и кудрявую, с пятнами снега на вершине.
— Да-а, место отличное, — сказал борода. — Всех к себе тянет. Люди, значит, так и прут косяками. В бытность мою парнем какая там пихта стояла! Закачаешься! А сегодня один сорняк ольховый на поляне растёт. Все подчистую срубили. Я тоже рубил, грешник.
— И зверь ходил? — спросил Саша.
— Зверь! Кишмя кишел. Без ружья чтобы войти — ни боже мой! Не кабан, так ведьмедь на дуб загонит.
Он так и сказал: «ведьмедь».
— А нынче?
— Что нынче? Если мясца хошь, в заповедник надо шагать. А там, мил мой, статья. Стража кругом так и шныряет.
— Медведя можно и не в заповеднике, — намекнул Саша.
— Не мне говорить об этом. Я тех ведьмедей… — Он через зубы далеко и ловко сплюнул, ничуточки не испачкав усов и бороды. Оценив деликатное молчание туриста, добавил: — Тута, в посёлке, моё прозвище знаешь какое? «Сто тринадцать ведьмедей», вот какое! А это что означает? Вот то-то и оно.
— Это вы столько убили? — удивился Саша.
— Было, сынок, было. Зарубки на винтаре делал. Потом посчитал, сам не поверил. Ведь я сызмальства в лесу и завсегда с винтарем. Ещё когда заповедник только учредили, гулял по тропкам. Его, заповедник то есть, учредили, понимаешь ли, сперва только на бумаге, границы карандашиком обвели, а так ничего не менялось. Стражи не было.
— Без лицензии стреляли?
«Сто тринадцать медведей» засмеялся, почесал лысину, на которую уселся было комар.
— Да кто там этими лицензиями занимался! Их уже потом для строгости и порядка сочинили. Ну, скажу тебе, я трудно отвыкал от охоты, ох трудно! Шалил и потом, когда лицензии… А вот уж после войны попался раза два, самогоном едва откупился, и пришлось завязать, не ходил в одиночку. Тогда пристал к таким людям, что не боялись. С ними шастал вроде законного егеря при высоких охотниках. Приедут из города, стрелить ведьмедя им очень желательно, а одним в горы боязно. И ко мне, значит, идут. Давай, дядя Алёха, пойдём, загонишь на нас ведьмедя — ставим бутылку ну и рублей там несколько. С такими-то отчего не пойти, иду, загоняю, они — пах-пах! — и мимо, опять же я выручаю своим винтарем. Так и бивал. Слух обо мне далеко прошёл. За дядей Алёхой и со Ставрополя присылали, из самого Ростова тоже. Без меня такие не ходили в лес. А я что? Я иду, тропы знаю, веду их, значит, на примеченное: вон он, ведьмедь, бейте, а сам его же на мушке держу. Им приятно, значит, когда безопасность рядом, и мне тоже перепадает.
— Вон вы какой знаменитый, — сказал Молчанов.
— Ну уж и знаменитый… — «Сто тринадцать медведей» впервые открыто глянул на собеседника, остался доволен, спросил: — А вы это… не насчёт того, чтобы пальнуть?
— Не увлекаюсь. Да и лицензии нет.
— А то можно и сходить. Я тут знаю одного шатуна, он у нас овец задрал в позапрошлом годе. Стрелил я по ём дважды, да маху дал, видать, рука дрожать зачала от неврозу. Такой шатун преогромный, у кого хошь рука-то задрожит.
Молчанов сказал:
— Сейчас, наверное, мало таких приезжих, чтоб вашей помощью пользовались. Строго и для них стало. Или нет?
— Поменьшило, правда твоя, сынок. Вот уж который год сижу без работы. Было раза два, призывали меня с собой, ходил, ну и то потом, толковали, будто моим охотничкам дали прикурить за незаконку.
— Значит, у вас сто тринадцать. Черту подвести придётся?
— Да-к ведь как оно сказать… А може, и ещё добавлю. Было б здоровье, глядишь — и подъедут какие важные. А им без дяди Алёхи никак нельзя. Призовут.
«Сто тринадцать медведей» достал кисет, протянул Молчанову. Он отказался. Тогда дядя Алёха закурил сам. Дым крепчайшей махорки заставил Александра отвернуться и закашлять.
— Ну и махра! — сказал он.
— Сам готовлю, томлю, понимаешь, в погребе. Не токмо ты вот закашлялся, эту махру даже ведьмеди как огня боятся. От этого моего творения ведьмеди за семь вёрст убегают.
Он опять засмеялся и так, посмеиваясь, встал, почесал лысину и, не попрощавшись, зашагал в посёлок. Молчанов остался на берегу.
Из-за кустов лозняка увидел: «Сто тринадцать медведей» остановился у крыльца дома, крытого блестящим цинком, и долго возился с замком, пока открыл.
Последние сомнения отпали: это и есть тот самый А.В.Бережной, который прислал заявление в заповедник с резолюцией Капустина, рекомендующей дядю Алёху в лесники на Южный кордон.
Рано утром Александр Молчанов опустил письмо в заповедник и ушёл из Шезмая наверх.
3
Обследуя места выпасов, Александр все чаще убеждался, что стада диких оленей, туров и серн не выстригают и половины излюбленной ими травы — вейника, овсяницы и мятлика. Лесные поляны, полные высокорослого, сочного мятлика, даже после того как по ним пройдёт стадо зубров, вскоре вновь образуют слитный, густой луг. Отрастание прекрасное. Природа Кавказа, щедро одарённая теплом и солнцем, может, вероятно, прокормить вдвое-втрое большее число диких травоядных животных, чем их имеется нынче.
Другое дело зимой. Только туры не покидают излюбленных скал субнивального пояса, где даже во вьюжные зимы ухитряются отыскивать на выдувах под снегом старую траву и безбедно жить на этом «сухом» пайке. Все остальные — олени, косули, зубры — уходят вниз, в густые леса, где и зимуют, откапывая из-под снега прошлогоднюю траву на полянах, питаясь веточками ольхи, клёна, кустарников или корой лиственных деревьев, ухитряясь обгладывать и обдирать её многометровыми лентами до первых веток.
Зимой пищи не хватает. Снежной зимой животные голодают, а временами и гибнут от истощения.
Человек не в состоянии всерьёз помочь многотысячному поголовью. Разве в отдельных местах, куда можно подвести сено или заготовленные летом зеленые «веники».
Но человек может и должен указать оленям и зубрам путь к новым, малоиспользованным пастбищам, приучать зверей хотя бы в снежные зимы уходить через перевалы на южные склоны гор, ближе к морю, где снега в нижнем поясе не бывает вовсе или он держится там очень недолго.
Молчанов уже пробовал как-то осенью перегнать два-три маленьких стада ланок и рогачей через перевал. С большим трудом ему вместе с лесниками удалось добиться своего. Однако инстинкт родных мест заставлял оленей вернуться. И лишь год тому назад впервые остались на зиму в верховьях реки Сочинки три десятка оленей: их задержал снегопад.
Как они живут в новых условиях? Как освоились среди колхидских джунглей и на высокотравной субальпике? Вообще где они?
Это он должен узнать во время нынешней рекогносцировки.
Одно ясно Александру: рано отстреливать оленей и туров, рано охотникам радоваться обильной добыче.
Занятый этими мыслями, Молчанов незаметно поднялся сквозь затихший под вечер лес к границе лугов и пошёл вдоль берёзовой опушки.
Осматривая высокогорье в бинокль, Александр далеко впереди заметил одинокого медведя и, вспомнив Одноухого, которого не встречал вот уже второй сезон, стал осторожно сближаться со зверем.
Ему удалось подкрасться метров на двести. Снова глянув в бинокль, он удивлённо и счастливо хмыкнул: перед ним был как раз Одноухий.
Подумав, Молчанов достал из кармана конфеты, которые теперь носил всегда, положил их около куста цветущего рододендрона, а сам замаскировался в пятидесяти метрах, у второго куста.
Одноухий поднялся на луга несколько дней назад, когда зацвёл рододендрон.
Большие, бледно-розовые, почти белые цветы этого реликтового растения пахнут пряно и медово. Как изящные изделия из стеарина, они венчают густолистные стелющиеся кусты и видны на этом темно-зеленом фоне далеко и рельефно. Цветы красивые, нежные, так и кажется, что они светятся изнутри. Сладкий нектар наполняет цветочную сердцевину с толстым и липким пестиком посредине. Ни один уважающий себя шатун не пропустит время сбора сладости на альпийских лугах.
Одноухий неспешно и терпеливо обходил кусты.
Вскоре он добрался до куста, где лежали конфеты.
Едва Одноухий почуял их сладкий запах, как беспокойно завертелся, даже встал на задние лапы, чтобы дальше видеть.
В сознании зверя привлекательный запах конфет уже связывался с образом человека и странно-знакомой собаки.
Зверь оставил цветы и занялся конфетами. Запах следов человека снова взволновал его. Быстро покончив с подброшенным лакомством, Одноухий уткнул нос в землю и пошёл по следу человека. Ветер шёл от медведя, и он не чуял близкого Молчанова, который лежал за кустом, прикрыв телом ружьё.
Когда их разделяло всего метров пятнадцать, Александр, не подымаясь, размахнулся и, как бросают гранату, кинул в медведя ещё горсть конфет. Одноухий от неожиданности присел на задние лапы, потом отпрянул и шумно засопел. Молчанов не мог видеть его изумлённые и боязливые глаза, потому что лежал ничком, не шелохнувшись. Он нисколько не боялся своего Лобика. Медведь отыскал в траве и эти конфеты, съел их и теперь, уже догадываясь, что соседний куст таит в себе неизвестность, начал обходить его, чтобы оказаться под ветром. Тогда Александр повернулся. Одноухий, испуганно хукнув, отскочил и навострил ухо. Человек приподнялся.
— Лобик, мой хороший Лобик, — тихо сказал он, и взгляд его встретился с насторожённым взглядом жёлтых глаз медведя.
Шерсть на медвежьей холке дрожала. Страх боролся с любопытством и все же одолел: Одноухий стал пятиться, отходить. Молчанов бросил ему одну-единственную конфету. Медведь остановился и, лапой нашарив её под собой, отправил в рот, не спуская между тем глаз с человека. Освоившись, Молчанов сел поудобнее.
— Дружище мой Лобик, — сказал он, — ты не видел меня много лет, ты забыл своё детство, забыл Архыза и Хобика, которые тоже стали большими и самостоятельными. Вспомни, Лобик, как вы играли втроём, как больно ты царапал меня, вспомни твою встречу с Архызом за рекой. Нет, ты все забыл, Лобик, а мы тебя помним…
Странно было видеть сидящего за кустом человека в серой войлочной шляпе и медведя в пятнадцати метрах от него. Голос человека творил с его нервами, с его памятью нечто странное, ровная человеческая речь снимала налёт давности. Медведь стоял и все меньше и меньше боялся. Напротив, хотелось подойти ближе, чтобы рука человека, как в давнее время, потянулась к нему и пощекотала густую шерсть за ухом. В то же время осторожность удерживала зверя на месте, и стоило Молчанову чуть более резко повернуться, шерсть на холке подымалась.
— Люди снова сделали тебя дикарём, — продолжал человек не для того, чтобы медведь понял смысл сказанного, а чтобы приучить зверя к звуку своего голоса, к интонациям ласки и дружбы в нем. — Ты стал бояться людей, они нападали на тебя, причиняли боль, и ты начал защищаться, может быть, даже нападать. Ты узнал, что такое ружьё, теперь запах его ужасен для тебя. Я сделаю так, чтобы этот запах не коснулся твоего носа, Лобик. Ты слышишь, Лобик, это твоё старое имя…
Медведь стоял каменным истуканом. Музыка спокойной речи убаюкивала его.
У Молчанова затекли ноги, он устал сидеть в одном положении, лоб его покрылся испариной. И тогда он тихонько, не переставая говорить, сумел ослабить верёвку рюкзака и вынул из него хлеб.
— Возьми, Лобик! — Кусок хлеба полетел к медведю.
Тот вытянул шею и сделал три шага вперёд, к новому лакомству. Нашёл — и наконец-то лёг на живот, доверчиво лёг, так, что трава почти скрыла его, и стал чавкать, жевать, и в глазах зверя уже не осталось ничего дикого, только умильное довольство пищей и спокойное дружелюбие.
Первый шаг сделан…
Молчанов поднялся, но тогда и Одноухий вскочил, отпрыгнул, в глазах его сверкнул испуг, но он все-таки не убежал и терпеливо стоял, пока Александр менял на фотоаппарате выдержку и, не поднося визира к лицу, щёлкнул затвором.
Этот металлический звук спугнул медведя. Он побежал боком-боком, не спуская с человека глаз, и через минуту скрылся за кустами.
— Фу! — Александр вытер потный лоб, ухватился за негнущуюся спину. — Вот чего стоит урок приручения.
В бинокль он принялся рассматривать луговые холмы, каждый куст, но Лобика и след простыл. Ладно. Для первого раза довольна и того, что было.
Несколько изменив свой маршрут, Александр направился по медвежьему следу, все ещё заметному в высокой, примятой траве. Конечно, Одноухий не выпустит его из поля зрения, он и сейчас уже следит откуда-нибудь. Для пользы дела не мешало бы пробыть вблизи медведя хоть одни сутки, приучить его к запаху костра, заставить поверить, что ничего страшного для зверя нет ни в запахе человека, ни в его поступках. Вот только ружьё… Но и без него нельзя.
Он прошёл длинным пологим склоном, немного спустился в березняк и, выбрав поляну, где стояли пять кленов, выросших от одного комля, своим косырем срезал куртину травы и, набросав на землю мелкого сушняка для костра, пошёл было за дровами, но вернулся, взял карабин и повесил ружьё как можно выше на ветку. Вот так. Чтобы не смущать Одноухого.
Вечерняя заря окрасила небо над горами в спокойный размыто-розоватый цвет. Все предвещало тихую холодную ночь под ясным небом, обильную росу и доброе утро.
Отгородившись пологом со стороны открытых лугов, Молчанов зажёг костёр, нарезал тем же косырем пышных веток и положил на мягкую их кучу свой потёртый спальный мешок.
Запах жирной каши распространялся от костра. Александр с улыбкой подумал, что этот манящий запах непременно достигнет ноздрей Одноухого и не сможет оставить его равнодушным.
Так оно и было. Одноухий давно наблюдал за каждым шагом, каждым движением человека.
Врождённое любопытство, особый интерес к человеку, которого он не помнил, но почему-то и не боялся, — вот какое чувство испытывал Лобик. Это его ощущение можно назвать если не дружелюбием, то желанием близости. Оно не позволяло ему уйти, как того требовала безопасность. Ещё днём Лобик временами сближался с идущим Молчановым метров на сто, но как только слышал ненавистный запах ружья, так отбегал.
Когда загорелся костёр, запах ружья пропал, зато повеяло вкусным. Лобик стал подкрадываться ближе. Ни одна веточка не хрустнула под его мягкой, облегающей лапой, ни один лист не шелохнулся над ним. Одноухий имел многолетний опыт выслеживания, начиная с удачного изъятия рюкзака у браконьера и кончая капканами, которые ставили на него и для него. Но сейчас он не собирался воровать, тянулся на запах вкусного, к человеку у огня, который так ласково говорил с ним и вызвал то самое доброе ощущение — чувство, почти не свойственное диким зверям и особенно медведям, которое люди назвали не очень удачным словом «привязанность», от корня «вязать», совсем уж не подходящего к сути этого слова.
Одноухий вскоре уже лежал в полусотне метров от Молчанова, смотрел из-под куста на костёр, и глаза его горели отражённым светом, как глаза кошки.
Стоило Александру сесть чуть подальше от огня, как он тотчас заметил эти два светящихся глаза.
Ухмыляясь, он принялся за ужин, поел, а половину котелка, обычно оставляемую на утро, выложил на широкий круглый лист мать-мачехи, дал остыть и с этим добром на руках пошёл навстречу светящимся глазам. Они мгновенно исчезли.
— Лобик, я тебя видел, — негромко сказал Александр и положил кашу. — Можешь не показываться, но съешь, пожалуйста. И — спокойной ночи.
Он вернулся к костру, забрался в спальный мешок и, не заботясь больше об огне и собственной безопасности, скоро уснул. Лишь рюкзак подвинул себе под голову. Мало ли что может учудить мохнатый воспитанник.
Разбудили его птицы. Саша потянулся и открыл глаза.
Щебетали синицы. Непритязательный зяблик выпиливал в стороне две свои музыкальные строфы. Стучал по сухому стволу, как дробь выбивал, многоцветный красавец-дятел.
Молчанов умылся росой. Поводил ладонями по траве, отжал пальцы, а потом набрал в пригоршню холодной росы вместе с цветочной пыльцой, лепестками и плеснул себе на лицо пахучую мокрядь.
Вспомнив о медведе, пошёл к знакомому кусту, обивая впереди себя росу палкой. Каши, конечно, не было. Даже лист, на котором она лежала, и тот съеден. Возле — сухое, чуть тёплое лежбище. Значит, только что покинул это место, где лежал всю ночь.
— Спасибо, Лобик! — крикнул он близким кустам. — Ты караулил меня, Одноухий, спасибо тебе! И не уходи, пожалуйста, далеко.
Тишина. Но рядом в этой тишине есть, конечно, одно насторожённое ухо…
Он присмотрелся, увидел след в траве. Дорожка тянулась в березняк. Значит, там.
— Сейчас будем завтракать, Лобик, — сказал Молчанов и вернулся, чтобы наладить костёр.
Поставить шалашик из сухих веток, распалить бересту — дело минутное. Повесив котелок, Александр поднял глаза к небу и, ошеломлённый, застыл.
Ещё ни разу не видел он такого восхода в ясное июньское утро на открытой горной высоте.
Солнце лишь собиралось выкатиться, а розовые снежники уже играли бриллиантовым разноцветьем, и над изломанным горизонтом бушевал феерический каскад света — от чисто-белого в глубине до ярко-красного в небе. Это был бурлящий родник света, который с невероятной активностью выворачивал из глубин все более яркие, все более ослепительные кванты.
Могуче и как-то сразу в самом центре светового гейзера выкатился огромный шар солнца. Все ослепительно засверкало на земле: роса, камни, листва. Небо успокоилось, поголубело… Земля залилась светом. Начался день.
Александр перевёл взгляд на костёр. Измученно-красный свет костра едва проглядывал в сиянии дня, и Саша улыбнулся ему, сморщенному кусочку солнца, затерявшемуся в траве. Твоё время — ночь, костёр…
Он поел, оставил у костра кусок хлеба с маслом, затоптал угли. Втиснувшись в лямки рюкзака, повесил карабин через грудь и пошёл лугами на юго-восток, в сторону Жёлтой Поляны.
Через несколько минут, воровато оглядываясь, Одноухий вышел из лесу, осмотрелся и обнюхал воздух. После этого уже смело подошёл к кострищу. Как должное, съел хлеб с маслом, облизнулся и, низко опустив чёрную морду, пошёл по следу за Александром Молчановым.
4
Путь научного сотрудника проходил по границе леса и высокогорного луга, как раз в зоне кормовых угодий оленьих стад, и он подумывал о том, что если встретит Хобу, то это будет не меньшим счастьем, чем «разговор» с Одноухим.
Найти оленя проще, чем медведя, потому что Хоба уже не впервые встречался с ним и охотно шёл на зов охотничьего рога, который всегда висел у Молчанова на поясе.
Молчанов отцепил олений рог, поднёс к губам. Тягучий, утробный звук печально и призывно пролетел над лугами, забежал в ущелья, оттолкнулся от каменных стен и, дробясь, множась, медленно затухая, заставил сотни животных насторожиться в своих потайках. Звук природный, естественный, но звучит явно не вовремя. До осени ещё далеко.
Александр подождал немного и пошёл дальше.
Трудно надеяться, что Хоба прибежит сразу, как сказочный конёк-горбунок.
Вскоре Молчанову пришлось перейти через большую щебенистую осыпь, лишённую какой-либо растительности. Протрубив в третий раз, он укрылся в кустах жимолости и стал ждать. Человек и медведь в эти минуты как бы поменялись ролями: Одноухий не мог миновать голой осыпи, а Молчанов укрылся в кустах. Прошёл час или чуть больше, и терпение Александра вознаградилось: Лобик вышел на осыпь и осторожно, словно по минированному полю, поминутно останавливаясь, обнюхивая воздух, двинулся вперёд. Последние триста метров до заросшего участка Одноухий пробежал с предельной скоростью и надёжно укрылся в кустах.
Это походило на игру в прятки.
Улыбаясь, Молчанов пошёл дальше. Больше ему не удалось увидеть своего медведя.
На другой день у научного сотрудника произошла долгая остановка на подступах к перевалу возле глубокого ущелья, доверху наполненного лесом. Здесь Молчанов провёл обследование последних перед нивальным поясом пастбищ. Потом он повернул почти назад, на север, и до самого вечера обходил горную систему Цхоава, где этим летом собралось особенно плотное стадо оленей, которые все же не сумели выстричь прекрасные выпасы по крутым бокам горы. Несколько раз Александр и здесь трубил, призывал своего Хоба, но ему не повезло. Великолепного рогача в этом районе не оказалось.
А Одноухий то исчезал на какое-то время, то вновь давал о себе знать, подбираясь по ночам к одинокому костру и поедая небольшие Сашины подачки. Кажется, зверю нравился такой способ передвижения — следом за ведущим, к которому он все больше привыкал.
На десятый, что ли, день Молчанов сделал привал у светлого озера, голубой бисеринкой лежавшего в конце ледникового цирка, сползающего со скалистой вершины. Берега озера, уставленные невысокой берёзой, кажется, посещались и турами и сернами.
Александр ещё не успел развести костёр, только снял рюкзак, карабин и присел было на камень близ озера, как тут же вскочил. Удивлённые глаза его уставились на внезапное видение.
Почти посредине цветочного ковра стоял крупный благородный олень и внимательно смотрел на него.
По гордой осанке, огромным рогам, по величине и светло-коричневой шерсти он узнал своего Хоба. Другого такого оленя в заповеднике не было.
Олень сам нашёл Молчанова и теперь стоял и смотрел на него, желая убедиться, что это не ошибка.
— Хоба, — сказал Молчанов и протянул руки. — Наконец-то ты пришёл!
Олень переступал с ноги на ногу. Гордо оглядел окрестности и, умиротворённый, нагнул голову. «Да, я пришёл».
Глава пятая ДРУЗЬЯ ДЕТСТВА
1
В гнезде шла непрерывная возня.
Пять заметно подросших птенцов уже не умещались в аккуратной чашечке, склеенной из веток и глины, они все время старались усесться поудобнее. Но для этого приходилось распихивать братьев и сестёр, которые тоже стремились обеспечить для себя удобное местечко и, естественно, сопротивлялись всякому воздействию со стороны.
Птенцы выпячивались из гнёзда, как дрожжевое тесто из хлебной дёжки. Уже не только головы, состоящие из преогромного клюва с жёлтой окоемкой, но и шеи, и верхняя часть более или менее оперившегося тела высовывалась из гнёзда. Когда родители прилетали с червяком в клюве, красные треугольники разинутых ртов вытягивались так далеко за пределы гнёзда, что гнездо как бы враз распускалось, как распускается утром цветочный бутон.
Дроздам уже не нужно было садиться на край гнёзда. Издали, с веток, опускали они добычу в жадные ротики, ухитряясь при этом соблюдать строжайшую очерёдность, чтобы не обидеть кого-нибудь из своей великолепной пятёрки.
Птенцы обрели голос. Поверх невзрачного пуха они обросли пёрышками и с каждым днём становились все симпатичнее, все приятнее даже для глаза чужого наблюдателя. Что же касается родителей, тем более дроздихи, то птенцы были для них самыми расчудесными, самыми прекрасными созданиями природы уже с первого дня их появления на свет белый. Материнское ощущение одинаково у всех животных и всех птиц. И оно почти совпадает с истиной.
Встречая родителей, птенцы пищали тоненько и разноголосо, с каждым разом все требовательнее. Но только при старших. Едва взрослые исчезали, в гнезде все умолкало, рты закрывались, и борьба за жизненное пространство происходила дальше уже в полнейшей тишине.
Однажды, когда птенцы пыжились в тесном своём домике изо всех сил, произошло то самое, что должно было произойти рано или поздно: один из птенцов, вытесненный братьями, оказался на краю гнёзда и едва удержался, чтобы не свалиться вниз.
Птенец уселся поудобнее и даже позволил себе, из озорства, что ли, пустить белую струйку на спины своих несносных братьев, которым эта последняя мера явно не понравилась; притихшие было после того, как почувствовали относительную свободу в облегчённом гнезде, они снова завозились, но сидевшему вне гнёзда эта их деятельность уже ничуточки не досаждала.
Прилетели родители. Все птенцы, как по команде, разинули рты, но смельчак занимал теперь очень выгодную позицию — выше всех и впереди всех, и, естественно, перехватил самый жирный кус. Так сказать, компенсация за беззаконное выселение.
Дрозды заволновались, в течение трех или пяти минут на яворе только и слышалось их громкое и рассерженное «крэк-че-че-крэк», кажется, изо всех сил родители пытались втолковать смельчаку неуместность его инициативы, правила поведения, заодно укоряли и остальных. Но верхний желторотик смотрел на них телячьими глазами и глупо зажмуривался в самые патетические минуты нравоучения.
Дрозд в приказном тоне сказал: «Крр-ррек!» — и улетел, а дроздиха осталась караулить глупенького сына. Она села так, чтобы оттереть его от опасного края и, в случае надобности, поддержать, не позволить свалиться вниз.
Такая надобность, к счастью, не возникла, дрозденок весьма решительно, но аккуратно опробовал силу своих ножек и способность сохранять равновесие при помощи коротеньких, смешных крылышек, летательные перья на которых едва проклюнулись. Он даже прошёлся туда-сюда по толстой ветке.
Спал маленький неслух на ветке. С одной стороны недреманно сидела дроздиха-мать, касаясь тёплым боком птенца, с другой — дрозд-отец, обиженно отвернувшись, чтобы хоть этим дать понять малышу, как скверно, когда он не слушается и поступает по-своему.
Через день второй птенец последовал примеру первого. Новизна в наш век так заразительна, так приглядна для молодёжи! Птенец дал себя вытолкнуть из гнёзда и с победным видом опрокинулся на край, чуть было не загудев между веток вниз. Мать раскричалась, заохала, живо повернула его, и птенец, не успев напугаться, удачно сел, схватившись цепкими пальцами за ветку. Он восторженно осматривался. Когда его взгляд упал на гнездо, где продолжали воевать только трое, он притворно зевнул во весь рот. Ему стало жалко этих недорослей.
Вот такое хлопотное время наступило для родителей. И есть давай, и карауль озорников. Нагрузка даже для двух взрослых преогромная. В общем, не запоёшь. Не то настроение. Деловая суета не располагала к песнопениям.
Через неделю вся пятёрка покинула гнездо и переселилась на ветки дерева. Самым слабым оказался тот, который всех пересидел в гнезде и всех выселил. Он пострадал потому, что теперь открытые рты встречали дроздов за десять — двадцать сантиметров от гнёзда и серединному лентяю корм не всегда доставался. Наверное, по этой причине он и не усидел в одиночестве, а правдами и неправдами выбрался к братьям и тут же, потянувшись изо всех сил к очередной поноске, перевернулся через голову и полетел вниз. Дроздиха камнем бросилась за ним, подставила спину и, в общем, спустила его на землю, испуганного, но без особых потерь и ушибов.
Ночь она провела внизу с неудачником. Утром учила, как подняться, но он не смог. Более того, решил, надеясь не на крылья, а на ноги, отправиться в самодеятельный рейс по земле, но этим только ускорил свою гибель. Дроздихе не удалось обмануть и увести за собой дикого кота, и этот хищник перечеркнул едва начавшуюся жизнь.
Потеря забылась в повседневных хлопотах, ведь в любой многодетной семье, не в пример аккуратистам, у которых один ребёнок, такая потеря не означает полной пустоты, и вскоре дрозды уже вшестером путешествовали по обширной кроне явора, перелетали с ветки на ветку, хотя оперившиеся птенцы все ещё жадно разевали рты с жёлтой окоемкой, продолжая оставаться на полном иждивении родителей.
В один прекрасный июльский вечер дрозд, крепко поговорив с подругой и, кажется, не получив её согласия, все же рискнул спуститься на землю, приказав птенцам следовать за собой.
Им дважды об этом напоминать не пришлось. Кто кувырком, кто с ветки на ветку, как мальчишки за отцом на рыбалку, они посигали, к ужасу матери, вниз, на землю. Дрозд строго и решительно стал учить их отыскивать под листьями червяков, личинки, муравьиные яйца и срывать спелую чернику. Семья расхаживала неподалёку от своего родного дома и в полном молчании осваивала процесс, составляющий для них половину смысла жизни.
На другой день птенцы не стали дожидаться особого приглашения. Лишь только обсохла роса, они с громким, радостным воплем сами посыпались с явора, планируя на своих ещё не крепких крыльях. Без руководства со стороны старших, скорее в азарте соревнования, они деловито рассыпались по тенистой поляне, что-то клевали, иногда выражая свою радость короткими «крэ-эч!» и, в общем, доказали, что готовы снять с родительских плеч тяжёлое иго снабжения. Только дроздиха по доброте сердечной все ещё продолжала играть свою роль: отыскав жирного червя, она подскакивала над ним, привлекая внимание, и двое-трое птенцов наперегонки кидались ей в ноги. Совсем как у наседки с цыплятами. Дрозд останавливался, и взгляд его круглых, выразительных глаз наливался укоризной. Склонив чёрную головку набок, он словно выговаривал: «Ну, что балуешь детей?» Она делала вид, что замечание не по адресу, и тогда дрозд с сердцем выкрикивал своё гневное: «Кра-кра-крэч!» — и для убедительности тоже подпрыгивал. Увы, на него не обращали внимания.
На утренней заре, когда вся семья сидела рядком возле опустевшего неряшливого гнёзда, куда уже нападали веточки и листья, дрозд поднял головку и впервые после долгого перерыва вдруг просвистел длинно, по-скворчиному. Это так удивило детей и мать, что все они — птенцы с нескрываемым восторгом, дроздиха с нескрываемой иронией — повернулись к нему. «Ну, завёл свою шарманку!» — могла бы сказать дроздиха. Но отец семейства знал, что делает. Не хлебом единым жива певчая птица. Он снова, теперь смелей и ярче, засвистал и выдал короткое коленце таких чистых, глубоко музыкальных звуков, что птенцы повытягивали в удивлении шеи. И лес притих, здесь уже отвыкли от этой чудной песни. И щеглы внизу, у ручья, умолкли. А дрозд, исполнив соло, нахохлился, он сидел и не спускал строгих глаз с птенцов, как учитель в классе, ожидая смелого, кто сам вызовется идти к доске.
Тут вся четвёрка разноголосо, некрасиво заорала. Дроздиха даже отвернулась. «Уши мои не слышали бы», — говорила её поза. Но разве их теперь удержишь?
Дрозд выждал паузу и уже самозабвенно, не как учитель, а как мастер, выдал всю гамму флейтовых звуков, чистейших, словно горный ручей, сильных, как радость, и весёлых, как сама утренняя свежесть. Он пел и уже не слышал разноголосого, порой смешного и несовершенного хора рядом с собой, пел от всего сердца, наполняя лес музыкой, способной приподнять и обрадовать все живое.
Закончив песню, дрозд взъерошился и посмотрел на подругу, словно спросил: «Ну, как находишь, старая?»
Она приподняла крылышки, будто плечами пожала. И это означало, что «ничего особенного». Тотчас вспорхнув, чтобы заставить семейку заняться наконец хлебом насущным, она забылась и уже на лету сама просвистела так складно и звонко, что клюв у неё даже немного покраснел от удовольствия. Обычное женское тщеславие.
Дрозд повернул головкой туда-сюда: «А ничего выдаёт!» И полетел следом за подругой.
2
С этого дня в лесу опять стало значительно веселей.
Великолепный олень, одиноко скитавшийся среди угрюмо-холодных скал и тёмных лесов, набрёл как-то на буковую поляну, полную красок и света. Постояв немного в тени под разлапистым буком, он шумно вздохнул и вышел на свет, лениво склонив голову с тяжёлыми рогами. Нехотя пощипал сладкой травы, сонно огляделся и, кажется, хотел уже лечь, но внимание его привлекла весёлая стайка дроздов, с шумом усевшаяся на ветках бука почти над самым оленем. Птицы отрывисто щёлкали, похоже, они о чем-то договаривались друг с другом. Потом враз, словно по команде, спикировали на землю рядом с оленем. Трава их поглотила. Чёрные дрозды покопались несколько минут в зарослях репейника, перепорхнули в тень деревьев и усиленно завозились у старой колоды, полной личинок древесного точильщика.
Олень все ещё наблюдал за ними. Он стоял смирно, свесив уши, и, кажется, тихо завидовал этой дружной, говорливой семейке. Что перед ним была семья — олень не сомневался. Изредка дроздиха, по старой памяти, подскакивала к одному или к другому из своих подросших птенцов ростом более её, те по привычке широко раскрывали рты, и она сноровисто засовывала им особо вкусную личинку. Как маленькому.
Олень все ещё стоял недвижно, полузакрыв свои большие, выразительные глаза. Слушал ли он? Или просто дремал стоя? А может быть, сладко мечтал под эту звучную и светлую, как летний полдень, песню.
Ему почему-то вспомнился тёплый бок оленухи, возле которого особенно крепко спалось худенькому бродяжке-оленёнку. И запах её, и шершавый добрый язык, которым оленуха приглаживала шёрстку над зудящей раной, оставленной когтями дикого кота. Вспомнились руки человека с запахом хлеба и слова человека, мягкие, спокойно сказанные слова, интонация которых свидетельствовала о доброте и дружбе. Все это были приятные, светлые воспоминания, вдруг навеянные весёлой и ладной песенкой старого приятеля — чёрного дрозда.
Потом олень вспомнил свой прошлогодний гарем.
Тогда у него было четыре оленухи, две со своими вилорогими оленятами, очень пугливыми и робкими. Когда Хоба приближался к ним, оленята убегали и все время, пока он ходил с оленухами, делали возле стада большие круги, время от времени высовывая из кустов орешника свои испуганные мордочки. Их мамы перехватывали этот испуганный взгляд, но не покидали венценосного красавца Хоба, только фукали и трясли безрогими головками.
Другие две ланки, стройные молодые красавицы с влажными манящими глазами, держались скромно в стороне от Хобы, но всякий раз, когда он особенно нежничал с детными ланками, тревожно косили глаза, срывались с места, быстро подбегали и, чуть скользнув гладким, светло-коричневым боком по боку оленя, снова отбегали и опять делали вид, что они вовсе не заинтересованы, что им вообще все равно, как и с кем будет проводить время этот огромный и надменный кавалер. И если он не изменял своей привязанности, ланки, будто сговорившись, исчезали из поля зрения Хоба. Видимо, они удирали далеко. Хоба переставал чувствовать их запах, приходил в волнение, нервно обегал ближние кусты, гневно мотал головой с тяжёлыми рогами и тихо, утробно ревел. В этом трубном гласе ощущались нотки ревности, угроза и одновременно мольба о любви. Он просил ланок вернуться и обещал им внимание, даже покорность их ветреному кокетству. И до тех пор, пока он не замечал их вновь, все волновался, стоял как вкопанный, прислушиваясь, а если на глаза ему в эти минуты опять попадались тонкошеие вилорогие оленята, то недвусмысленно сердился: наклонял корону к земле, отшвыривал копытами землю и тяжело шёл на них, угрожая расправой. Оленят, конечно, словно ветром сдувало.
Но тогда начинали беспокоиться их мамы. Тихо мыкая, развесив уши, с видом кающихся грешниц, явно бичуя себя за легкомыслие, оленухи кидались за подростками и скрывались в кустах. Все! Кончено! Мы с вами, милые дети!
Хоба оставался в одиночестве.
Некоторое время он стоял с очень растерянным видом, соображая, что к чему, потом начинал проявлять признаки все нарастающего гнева. Ревя во весь голос, кидался на кусты, цеплял рогами землю и бросал её назад. Спина у него темнела от пыли и грязи, на рогах повисали пучки травы, а глаза делались красными и сумасшедшими. Ненормальный какой-то.
Вдруг из тёмного леса выскакивали молодые ланки. Как ни в чем не бывало они делали возле своего повелителя круг, грациозно, изящно, будто на смотре красавиц, выбрасывали тонкие ножки, кокетливо задирали худенькие шеи, а глаза их загорались радостью и надеждой. Рогач сразу успокаивался, бока его дышали ровней и тише, он начинал пританцовывать на месте, а потом, забывая и положение и возраст, включался в игривый бег и тоже ощущал приливную волну бодрости, счастья и надежды.
А вскоре возвращались ревнивые оленухи. Они как-то очень незаметно оттесняли на второй план неопытную молодёжь, игры возобновлялись теперь уже с ними. Опять из кустов печально высовывались испуганные мордочки, опять взбудораженные ланки начинали своё кокетливое «либо мы, либо они», а не получив достаточного внимания, скрывались от повелителя. Он начинал нервничать, и все повторялось. Круг за кругом. День за днём.
Хлопотливое дело — руководить гаремом! Даже в течение только двух осенних месяцев в году и то очень-очень беспокойно!
И все-таки в минуту разнеженности, когда чёрный дрозд восторженно пел о счастье жизни и любви, Хоба вспоминал именно это беспокойное время.
Не упуская всего гарема с глаз, Хоба выказывал особенное благоволение к высокой и стройной ланке с маленькой изящной головкой и чёрным, очень подвижным носом. Цветом шерсти она отличалась от других: у неё была тёмная спинка и светло-рыжие бока. Ланка не просто ходила, а как-то красиво, по-особенному вышагивала. В повороте её головы, в пугливом приседании, в грациозном беге, даже в том, как она, словно извиняясь за странную позу, пригибала голову вниз и в сторону, чтобы почесать задним копытцем у себя за ухом, — в каждом её движении Хоба видел негу, танец и красоту. Она была чуть выше других ланок в его гареме и немного тоньше их, хотя худенькой её назвать было невозможно. Просто тонкая кость.
Хоба отбил её у старого, крайне раздражительного рогача.
Он не знал, что эта его подруга родилась и провела детские годы на южной стороне заповедника и, наверное, навсегда бы осталась там, потому что дикие звери вообще крайне редко и неохотно перебираются через перевалы. Но её, попросту говоря, выгнали оттуда. Упорные браконьеры убили её мать и долго шли за ней с собаками. Выскочив из колхидских лесов, молодая ланка догадалась, что на открытых лугах собаки её непременно возьмут, и бросилась в спасительные скалы выше лугов. Убегая от погони, она поднялась на турьи убежища и, сама того не ведая, очутилась уже на северной стороне гор. Голод заставил её спуститься со скалистых вершин на луга, и вот тогда-то на пастбище её нашёл рогач, уже успевший сколотить свой осенний гарем.
Все это случилось около года назад. Была осень. В разных урочищах заповедника ревели рогатые бойцы, призывая оленух и соперников. Хоба, тогда ещё одинокий и неустроившийся, услышал басовитый военный клич старого рогача, нашёл его и мужественно сразился. Пока они сшибались, стараясь достать острыми надглазными рогами бока соперника, и время от времени грохались, утомлённые, на колени, ланка тихо стояла под кустом орешника, спокойно щипала поблизости траву, делая вид, что ей нет никакого дела до драчунов, но все же не уходила далеко, чтобы победителю не пришлось её долго отыскивать. И остальные три оленухи держались поблизости.
Старый рогач уступил. Он просто не выдержал бесчисленных раундов, под конец стал валиться с ног, на его тёмные от пота и крови бока жалко было смотреть, дышал он загнанно, не сжимая отяжелевшего рта, а Хоба, распалённый, сильный олень с более длинными, чем у соперника, надглазьями, продолжал нападать и уже не один раз взрезал противнику шкуру. Издав протяжный вопль, прощаясь со своими оленухами, старый рогач, шатаясь, бросился в кусты, а Хоба остался на поле боя. Гордо подняв голову, он хоть и задыхался от усталости, но стоял так до тех пор, пока четыре оленухи — две с оленятами и две молодые, в том числе и стройная южанка, — не подошли к нему и не обнюхали, выразив тем самым покорность и признательность за победу. Свою любовь они отдавали сильнейшему. И в этом была мудрость природы, которая стремится всегда и всюду к совершенству всего живого на земле.
Так Хоба, сильнейший олень, стал повелителем маленького стада и провёл с ним почти три месяца.
Шли дни. Золотая осень сменилась ветреным предвестником зимы, звери стали покидать пожелтевшие горные пастбища. Семья Хобы отдалилась, оленухи все меньше и меньше обращали на него внимание.
Вскоре он совсем потерял оленух из виду.
Вот тогда-то Хоба и повстречался с Человеком-другом и Собакой-другом. Их встречи продолжались, как мы знаем, и в новом году. Появилась уже выверенная необходимость в этих встречах. Хобу тянуло на след Человека. Олень радовался встрече, как радовался, увидев своего оленя, и Александр Молчанов.
Сейчас, разнеженный теплом, покоем и светло-прозрачной песней дрозда, Хоба смутно, без последовательности, какой-то особенной памятью сердца перебирал все хорошее, что случалось с ним в жизни. Он стоял, смежив глаза, опустив голову, и редко, но глубоко вздыхал.
Солнце покатилось к закату. Над лесом струилось влажное тепло. Очень сильно пахло азалией. Голубое небо бесконечным спокойным шатром висело над горами. Лето. Славное лето!
Олень медленно, ещё не выбрав себе дороги, пошёл по буковому лесу в сторону перевала. Приближалось время вечерней пастьбы. Хотелось сладкого сочного пырея и солёной воды.
В сумерках Хоба встретил небольшое стадо рогачей, лениво бредущих без тропы и цели в том же направлении. Он постоял, пропуская их и принюхиваясь. Знакомое стадо. В нем находились трое из тех, с кем он сражался прошлой осенью. Хоба некоторое время даже ходил с ними, было это ещё ранней весной. Рогачи молчаливо признали тогда в нем вожака, хотя и пугались некоторых его странностей. Ну разве это не отклонение от нормы, когда огромный олень подходит к человеческой тропе и не перепрыгивает её со страхом и отвращением, а останавливается, исследует, даже идёт по ней, словно ничуточки не боится страшного запаха и опасностей, связанных с этим запахом. Или вдруг услышит далёкий лай собаки и не побежит прочь, а остановится, навострит уши и долго стоит так, не обращая внимания на перепуганных, убегающих рогачей. Вот эти причуды и воздвигали между вожаком и остальными оленями-рогачами невидимый барьер. Именно поэтому великолепный Хоба с некоторых пор предпочитал жить в одиночку, иметь возможность хоть и редко, но встречаться с Человеком, которого любил.
Он сам искал Молчанова.
Но видел его реже, чем хотелось.
3
Стадо рогачей прошло мимо. Хоба тронулся было за ним, но на выходе из березняка подался в сторону, чтобы не пастись вместе и не нарушать уже сложившихся отношений. Ему и одному хорошо.
Хрустя сочной травой, Хоба продвигался выше, удаляясь от опушки с таким расчётом, чтобы, насытившись, оказаться поблизости от известного ему солонца, куда лесники заповедника постоянно подбрасывали пять-шесть грудок прозрачной каменной соли.
Звёздная ночь уже стояла над горами, было тихо, безветренно и прохладно, даль затянуло чёрным покрывалом, в густо-синем небе проглядывали только близкие снежные вершины. Где-то сердито, болезненно прокричал горный канюк, у которого явно не удалась охота. Хоба все более лениво стриг траву, в то же время вслушиваясь в тишину. Чуткий нос его засвидетельствовал, что стадо рогачей все ещё пасётся левее, что выше по склону пробежали туры, лёгкий шорох камней выдал их, что с дерева на дерево перепрыгнул дикий кот, который, несомненно, видел оленя в темноте. Но куда ему до оленя, слишком опасен, велик… Хоба тоже не боялся мелкого пакостника, хотя с детства носил на спине отметины его когтей и навсегда запомнил эту опасность.
Ноздри оленя затрепетали: воздух принёс новый запах. Хоба перестал жевать, поднял голову и застыл. Этот запах не оставил его равнодушным.
Забыв о солонце, Хоба тронулся на запах, осторожно переставляя ноги. Теперь путь его сделался целенаправленным. Он перепрыгнул болотце, спустился во впадину между холмов и вскоре остановился на тропе, полузаросшей вейником и лопухами.
Сомнения исчезли: на тропе остался чёткий запах Человека, которого он искал. Днём здесь прошёл Молчанов.
Хоба пошёл быстрей, но не по самой тропе, а рядом с ней.
Только под утро он почувствовал усталость, свернул в сторону и уж хотел было лечь под кустами кизила, когда новый запах, на этот раз очень опасный, достиг его носа: запах медведя, идущего по лесу в том же направлении.
Хоба не знал, как поступить. Экое неприятное совпадение! Он нашёл медвежьи следы, исследовал их, но ничем не выразил своего отвращения и ужаса. Что-то и в этих следах и в этом запахе было знакомое, очень далёкое, очень любопытное. Немного успокоившись, Хоба вернулся на место ночлега и продремал почти до утренней зари.
Отряхнувшись от росы, ещё в темноте, он поднялся и пошёл дальше, на ходу срезая ровными зубами хрусткую траву. Шёл он по ломаной линии, зигзагами, то по тропе Молчанова, то по следам медведя, стараясь не потерять из виду ни тех, ни других.
Вот и кострище, и совсем уж отчётливый запах друга — Человека. И к сожалению, очень сильный запах медведя, который топтался у покинутого костра, что-то ел, потом расшвырял обгоревшие деревяшки.
Но почему молчит труба?
В конце дня, выходя из-за поворота у круглого холма, Хоба резко остановился, окаменел на секунду, а потом, сделав гигантский прыжок в сторону, исчез среди густого березняка. Сердце его заколотилось: прямо перед ним возле старого пня возился огромный бурый медведь. Увидел он оленя или нет?
Не в силах устоять перед любопытством и в случае надобности надеясь на свои резвые ноги, Хоба сделал круг и высунулся из березняка уже с подветренной стороны. Медведя у пня не оказалось. Это опасно. Хоба пробежал по редкому лесу километра два, вернулся к холму с другой стороны и притаился сбоку каменного останца.
Медведь, конечно, заметил оленя. Но и у него рогач вызвал далеко не охотничий интерес.
Лобику вообще не очень часто удавалась охота на оленей. Не по силам. Разве что какой-нибудь неполноценный. Но олени-красавцы всегда вызывали в нем чисто спортивный интерес. К этому примешивалась что-то из давнего прошлого. Во всяком случае, он никогда не проходил мимо стада или одиночки, чтобы не затронуть их, не погонять. Ну и в этот раз тоже.
Такое выслеживание привело к неожиданному результату: звери оказались в сотне-другой метров друг от друга, разделённые лугом. Оба едва высовывали нос из листвы. Оба увидели друг друга, но ничем не выдали себя. Молча, внимательно, ужасно долго гипнотизировали один другого и не знали, что делать дальше.
На ветке ольхи перед Лобиком моталось удлинённое грушевидное гнездо, слепленное из серого, довольно хрупкого материала. Предмет мешал медведю смотреть, он необдуманно захотел отодвинуть его, но не рассчитал движения своей лапы и сорвал гнездо.
Боже мой, что там поднялось!
Сперва загудело. Лобик осторожно отодвинулся, поняв всю опасность от такого обращения с осиным гнездом. Из поверженного мешочка выскочило десятка три длинных, полосатых, как тигры, разъярённых фурий. И не успел Лобик опомниться, как ему в нос, в губы, в уши, у глаз вонзился десяток жал, похожих на хорошо раскалённые в огне иголки. Все завертелось перед затуманенным взором медведя. Он рявкнул, не помня себя вывалился из кустов на луг, обхватил морду лапами и, не переставая реветь, покатился по траве.
Прыжок оленя, едва ли не поверх трехметровых берёз, вынес его на поляну, и через несколько секунд Хоба уже стоял в полукилометре от медвежьей засады, с удивлением наблюдая из безопасного далека, как ревёт и катается этот бурый чудак. Хоба никогда не видел такой картины. Кажется, у медведя беда.
Остерегаясь подобных непонятных зрелищ, Хоба решил убраться подобру-поздорову. Большими скачками, весело и резво пролетел он в виду медведя, который все ещё без передыху тёр себе морду и хрипло ревел, и удалился на юго-восток, так и не поняв, что такое случилось с косматым, которого ему очень хотелось задеть, подразнить.
К вечеру олень вышел в окрестности одинокого озера.
Он ещё не увидел Молчанова, но почувствовал, что Человек-друг рядом. Хоба обошёл вокруг небольшого берёзового леска и прилёг на его опушке.
Хоба отдохнул, поднялся, далеко отставил передние ноги, выгнул спину, буквально положив на неё рога, и, сделав таким образом лишь одно гимнастическое упражнение, вышел на луг, чтобы наконец представиться.
Здесь Молчанов и увидел оленя.
— Ты здесь, мой друг, — просто и радостно сказал он. — Иди, не бойся, я один, и ружьё моё лежит на земле. Иди ближе, Большерогий, я так хотел тебя видеть все эти дни!
Хоба сделал ещё несколько шагов. Он смотрел на Человека во все глаза. Ждал доказательства дружбы. Слова — это слова, не более.
— Возьми. — Александр протянул горбушку хлеба с солью и тихонько пошёл навстречу.
Лишь тогда олень приблизился вплотную и мягкими губами сбросил с руки чудесно пахучий хлеб. Уже не боясь, он нагнулся, откусил и стал жевать, пуская нетерпеливую слюну. Александр дотронулся до шеи оленя, погладил, ощупал рога и улыбнулся.
— Ну ты прямо следопыт! Сам нашёл. И медведя не побоялся. Ты знаешь, что за мной идёт Лобик? Тот самый, твой приятель. Где он сейчас? Надеюсь, не очень далеко. Ты отдохни, Хоба, а я займусь костром, ладно?
Александр ещё издали увидел сухую берёзу, вынул из ножен косырь и направился к дереву. Хоба — огромный, рогастый, — аппетитно облизываясь, пошёл за ним. И пока Молчанов рубил, пока разделывал берёзу на поленья, стоял в трех шагах от него и с интересом наблюдал.
— Вот как это делается, понял? — Александр связал ремнём груду поленьев, вскинул за спину. — Пошли на берег, там веселей.
И снова Хоба безбоязненно и дружелюбно шёл за ним, с тем же интересом наблюдал, как от маленькой спички занялась берёзовая кора, и долго стоял, опустив голову, не в силах отвести от огня зачарованного взгляда. В больших глазах его плясал красноватый отблеск.
Молчанов сходил за водой, повесил котелок с крупой, вбил колышки для полога, принёс берёзовых веток на подстилку и все время разговаривал с оленем так, будто это человек, попутчик, который попал в горы впервые и которому все-все надо объяснять и показывать.
Хоба слушал, водил ушами, но никак не мог оторвать взгляда от огня. Пытаясь его отвлечь, Александр подходил к нему, гладил спину, трепал холку, ещё и ещё с удовольствием ощупывал развесистые белесые рога с полированными концами, а олень только редко и сильно вздыхал.
Молчанову казалось, что олень все понимал. Когда на него подул ветер и понесло дым, отошёл, занял более удобное место. Когда Молчанов ел, он шагнул ближе, принюхался и потянулся к хлебу. И когда Человек стал укладываться спать, тоже потоптался и лёг совсем было близко, в пяти шагах, но стоило Молчанову подтянуть к себе из-под рюкзака ружьё, как бесшумно встал и с обиженным выражением отошёл подальше.
Иногда костёр вспыхивал, и тогда Молчанов видел на краю отодвинутой тьмы крупное тело оленя, его поблёскивающие глаза.
Все-таки боялся. Мало ли что…
Под утро стало холодней. Обильная роса едва не превратилась в иней. Молчанов поёживался в спальном мешке, изо рта у него шёл пар. Сквозь сон он услышал глухой топот, открыл глаза. Тусклый рассвет едва брезжил на краю неба. Над озерком стоял ватной густоты туман. Хоба резво пробежал мимо, остановился, тряхнул рогами. Снова пробежал, теперь чуть ли не в трех метрах, сердито фукнул и остановился, тревожно вглядываясь в разжижённую тьму. Похоже, предупреждал об опасности.
Александр сел и сонно спросил:
— Чего разбегался? Кто там?
Хоба только и ждал этого голоса. Ещё раз фыркнув, он выставил уши в ту сторону, откуда они пришли, повернулся и, последний раз промчавшись резвой рысью, пропал среди берёзок.
Молчанов зевнул, потянулся.
— Ясно, — сказал он самому себе. — Лобик изволил явиться. Явление второе. Несовместимость.
Он опять лёг, затянув «молнию» на мешке чуть ли не до самого подбородка.
Костёр прогорел, белый пушистый пепел лежал нестойкой кучкой на месте жарких угольков. Редко-редко на озере всплёскивала форель. Тишина. Ещё час самого сладкого сна.
4
Над озером все ещё стоял плотный белый туман. Такие же туманные бугры незыблемо лежали в низинах, застряв среди берёз и кустарника.
Молчанов открыл глаза, прислушался. Небо над ним побелело. Ожидался светлый солнечный день. Очень хорошо.
Какой-то неясный, но постоянный шум доносился с озера. Будто крупная рыба ненасытно плескалась там. В тумане ничего нельзя разобрать. Снова и снова раздался плеск. Может быть, в озере купались ранние любители водных процедур — горные «моржи», которых привлекла ледяная вода. Но откуда им взяться здесь?
Поёживаясь, Александр встал, обулся, взял было карабин, но тут же положил его под спальный мешок и пошёл берегом озера знакомиться с нарушителем спокойствия.
В воде, по другую сторону круглого озерка, среди белесого тумана прорезались смутные очертания бурого медведя. Ну так и есть! Явился приятель. И прямо — за купанье.
Лобик зашёл в озеро до плеч и теперь самозабвенно окунал распухшую морду в холодную воду. Это единственное, что он мог сделать для скорейшего избавления от боли. Он ничего не видел и знать ничего не хотел, жгучая боль притупила все другие чувства. Сегодня ночью, уже автоматически двигаясь по следам Молчанова, он дошёл до этого озерца и с ходу залез в него, чтобы немного приглушить затянувшиеся страдания.
Поначалу его движения удивили Александра. Так медведи не купаются. Стоя на задних лапах, Лобик наклонял морду, с размаху ударял носом по воде и быстро откидывался назад. Вероятно, ему было легче. Холодный компресс действовал утешающе, в глухом медвежьем фырканье слышались нотки удовлетворения.
Похоже, что конца-края не будет этому размеренному гимнастическому упражнению. Молчанов все ещё не догадывался о причине столь усердных поклонов медведя. Усевшись на берегу, всего в десятке метров от Лобика, он терпеливо ждал конца водной процедуры.
Как поведёт себя медведь, увидев близко за спиной человека?..
Вероятно, Лобик все-таки продрог или жгучая боль поуменьшилась, во всяком случае, он стал реже кивать головой и плескаться. Теперь он осмысленнее смотрел на окружающий мир. Наконец он обернулся и… застыл перед Молчановым.
Поди разберись, что за фигура сидит на берегу, уперев локти в колени, а подбородок в ладони?
Прошла минута молчания и взаимного рассматривания. Распухший нос медведя плохо ловил запахи. Наконец он догадался, что перед ним тот самый Человек, по чьему следу он шёл и кто кормил его у каждого ночлега. Эта добрая весть не сняла насторожённости. Он все ещё стоял по плечи в воде и боялся шелохнуться. Бежать? Но пока разгребёшь воду… Нападать? Но для этого надо подойти ближе…
— Ты что задумался, Лобик? — тихо спросил Молчанов, но не сдвинулся, не переменил позы. — Ты не узнаешь меня, старина?
Голос добрый, весёлый, он немного успокоил зверя. Напряжение спало. Лобик тихонько двинулся водой, но не к человеку, а в сторону, в сторону. Когда сделалось мелко, он ловко выпрыгнул на берег, сделал перебежку чуть дальше и остановился. Человек не бежал за ним, не угрожал, только глаз с медведя не спускал. Лобик по-собачьи отряхнулся, привстал, опять опустился. Разволновался и о боли в носу забыл. Тут к его ногам упала очень знакомая конфета. Он дёрнулся было прочь, взмах руки испугал его, но желание взять лакомство пересилило. Лобик осторожно обнюхал конфету и съел вместе с бумагой. Теперь можно убегать, но он стоял. Почему, собственно, убегать? У человека не было ружья, ружьём здесь и не пахло. Он стоял и ждал, а Молчанов что-то говорил все тем же тихим, ровным голосом, и этот голос достаточно смирял дикость, успокаивал. Лобик сделал даже несколько коротких шагов к Молчанову, но когда тот поднялся, быстренько дал задний ход.
— Эх ты, трусишка! — сказал человек и, не оглядываясь, пошёл, огибая озеро, к кострищу.
Лобик потоптался на месте и тоже поплёлся за ним. Казалось, человек совсем перестал интересоваться медведем: присел у серого пятна золы, чиркнул спичкой, зажёг бересту, стукнул котелком, от которого попахивало очень знакомой кашей. Медведь стоял метрах в двадцати. Ружьё лежало под спальным мешком, и он не чуял его. Уходить не хотелось. Лобик уже попривык к обществу человека, который вызывал у него все большее доверие. Медведь лёг на брюхо и стал тереть лапой нос и глаза: их снова жгло, хотя и не так сильно.
— Пчелы тебя отделали? — спросил Молчанов, заметив наконец сильно припухший нос.
Костёр горел, запахло кашей, и Лобику вовсе расхотелось покидать это место. Он уже не боялся человека. Напротив, незаметно, тихонечко, не подымаясь с живота, он подползал ближе и ближе, а Молчанов между тем уже возился с фотоаппаратом, потом лёг на живот головой к медведю, начал опять что-то такое говорить и целиться объективом. Когда нажал на затвор, то притворно кашлянул, металлический звук несколько стёрся и не очень напугал зверя. Кадр получился: ведь между ними не было и десяти метров. Снова полетела конфета, раздался притворно-долгий кашель, и снова кадр удался.
Пока Александр помешивал в котелке кашу и сидел спиной к Лобику, тот подтянулся ещё ближе. Глаза их встретились, человек засмеялся, а медведь смешно заморгал припухшими веками. Теперь они сидели, в сущности, рядом. Александр рассказывал байку о детстве медведя, тот слушал, а в животе у него урчало, потому что запах из котелка все время напоминал ему о еде. Ужасно хотелось есть!
— Сейчас, сейчас, — сказал Молчанов, заметив, что Лобик не сводит жёлтых глаз с котелка. — Вот твоя доля, смотри, я выкладываю на камень. Не торопись, дай остыть, сейчас я поворочаю, видишь, пар идёт, горячо.
Лобик едва владел собой, он подползал ближе, загипнотизированный запахом гречки с мясом. Ещё бы, он не ел уже больше суток из-за этих проклятых ос! Каша на камне ещё не остыла, он поначалу хватанул всей пастью, обжёгся и замотал головой, Молчанов засмеялся:
— Предупреждал тебя, не торопись!..
Где там! За три минуты он покончил с кашей. Что она для такой туши! Теперь медведь, облизываясь, уже маслеными глазами стал смотреть на человека, который не спеша ел свою долю. Тоже искушение. Разве можно оставаться равнодушным, когда на тебя смотрят такими глазами!
— Бери. — Александр зачерпнул ложкой и положил грудку возле своих ног.
Лобик подполз и съел. Ещё одну ложку. Рука человека потянулась и легла зверю на голову. Лобик взъерошился, но не отпрянул. Ничего страшного. Ведь когда-то все это было…
— Кто же тебе отхватил ухо? — спросил Молчанов, перебирая в пальцах зажившие рваные края. — С кем ты сражался, Лобик? Не иначе как с рысью. И шрамы на плече. Эх ты, лесной воин! Не давай себя в обиду. Ты такой большой, сильный…
А тому было приятно ощущать на своей шее тёплую руку и вдыхать запах человека, который ещё недавно казался ему нестерпимым. Несомненно, память сыграла в этом случае решающую роль. Настоящий дикий медведь не мог бы за такой короткий срок поддаться влиянию человека. Эта рука, голос, пища напомнили Лобику давнее-давнее…
— Вот мы и снова подружились, — сказал Александр и поднялся. Лобик тоже встал, на всякий случай отошёл, но не уходил. — Все, завтрак кончился. Если я тебя один раз досыта накормлю, то сам помру с голода, понял? До Поляны мне двое суток хода, в рюкзаке пустовато. Так что обходись подножным кормом, Лобик. Или ты пойдёшь со мной? Я не возражаю, но вот олень… Ты спугнул его, вероятно, не узнал, ведь он наш общий друг. Мне не хочется терять Хобу, он очень и очень нужен. Как бы вас подружить?
Похоже, что Молчанов совсем забыл о ружьё. Собираясь, он поднял спальный мешок, и тогда запах ужаса, огня и боли хлестнул медведя, как бичом. Прижав коротенький хвост, боязливо оглядываясь, он рысцой затрусил прочь и не остановился, пока не упрятался за дальние кусты рододендрона.
— Ну вот… — обескураженно сказал Молчанов. — Вот тебе и дружба!
Глава шестая ЗАСТАВЛЮ ПОНЯТЬ…
1
Олень и медведь провожали Молчанова чуть не до первых построек на окраине Жёлтой Поляны.
Временами кто-нибудь из них приближался к человеку, шёл по той же тропе сзади или сбоку, а Хоба несколько раз даже позволил Молчанову дотронуться до себя, но при условии, что второй зверь, в это время находился на почтительном расстоянии. Стоило Лобику подобраться поближе, как олень немедленно удирал, словно сам медвежий дух исключал возможность сближения. И в то же время ни тот, ни другой не уходили от Молчанова, он притягивал обоих, уже сделавшись центром сближения абсолютно несовместимых особей.
Ещё на одной остановке, на последнем привале в зоне понтийских лесов южного склона, где продвижение ограничивалось густыми зарослями, а сам лес, перепутанный лианами, как бы заставлял три живых существа приблизиться друг к другу, Молчанов сделал попытку подружить старых друзей. Как раз олень улёгся почти рядом с Человеком, разомлел от его ласкового поглаживания и доброго голоса, а Лобик бродил где-то недалеко. Вот он выбрался из чащи. Александр попридержал Хобу, хотел заговорить его. Куда там! Медведь только нос высунул из-за куста, а олень уже стоял на ногах, и мускулы его подрагивали от напряжения. Ещё несколько секунд — и Хоба исчез за зеленой стеной буков.
— Что мне с вами делать? — Молчанов только руками развёл.
Одноухий смело приблизился, поклянчил конфет, которых уже не было, полежал немного, задумчиво уставившись на огонь, а потом вздохнул и тоже ушёл прочь, немного разочарованный. Голод не тётка. Можно бы, конечно, и ещё полежать у огня, но желудок настойчиво просил пищи.
Лишь когда тропа влилась в дорогу со следами автомобильных шин, Лобик начал беспокоиться, отставать и вскоре исчез, не рискуя идти далее за хорошим человеком в опасную зону, где можно встретить других — разных людей, известных Одноухому по жгучим пулям, капканам и жёстким голосам. Вскоре пропал и Хоба.
Ладно, пусть идут своей тропой. И без того Александр Молчанов имел все основания быть довольным последним своим рейдом через перевал.
Встреча с медведем, след которого давно потерялся, — сама по себе редкостная удача. А столь лёгкое приручение совсем уже приятная неожиданность. Поначалу он и не рассчитывал на такие результаты. Напрашивался вывод: даже сделавшись взрослым, медведь не забывает воспитания среди людей и привязанность свою проносит в памяти через годы.
Конечно, Молчанову помогла случайность — эти самые осы, но и без того Одноухий выказывал желание познакомиться с человеком, не очень дичился, дал себя приручить, хотя от его детства в молчановском дворе и до нынешней встречи пробежало много лет и за это время случилось немало опасных встреч с охотниками, собаками, капканами и просто дурными людьми.
Память дикого зверя цепко и долго хранит семена доброго — вот главный вывод, который сделал для себя Александр Молчанов.
Проще с оленем. Ведь они встречались почти каждый год, по нескольку раз в году, и эти встречи определённо укрепляли старую дружбу. К тому же Хоба по резвости ног и осторожности далеко не чета медведю и, конечно, не так уж часто попадался на глаза скверным людям, а потому меньше знал их коварство, их зло, меньше напуган, и если остерегается человека, то лишь по врождённому чувству, накопленному за множество поколений. Потому Хоба и вёл себя добрей, приветливей, потому и проявлял не просто дружбу, а привязанность, даже ласковость. Молчанов мог гордиться своим оленем, мог теперь твёрдо заявить, что мосты между дикими копытными и человеком, разрушенные тысячелетия назад, при желании восстановить можно довольно скоро и прочно, исправив тем самым одну из серьёзных ошибок человечества, отделившего себя от остального мира животных.
Приятный вывод.
Покойный Егор Иванович Молчанов только мечтал о такой возможности, когда говорил своему сыну Саше о бесконечно злом избиении животных со стороны многих и многих людей, которые воздвигли невидимую, но прочную стену между цивилизованным обществом и миром диких животных. И вот — первая попытка в заповеднике, теперь уже можно сказать, удачная попытка. Её продолжение внесёт что-то новое в науку, такие опыты непременно должны множиться, их надо провести и в других заповедниках.
Молчанов вспомнил опыт биолога Кнорре с лосями в Камском заповеднике на Северном Урале. Всего за одно-два поколения учёному удалось приручить этих больших добрых животных, и они, при свободном содержании, стали делать много полезных работ: возили в упряжке грузы по непроходимой тайге, таскали на себе вьюки, лосихи даже молоко давали, очень жирное и вкусное молоко. А ведь лосей только в нашей стране насчитывается сейчас около семисот тысяч. Какое подспорье северному и лесному жителю, какие это помощники, не нуждающиеся ни зимой, ни летом в сене, овсе, вообще в подкормке!
Он вспомнил о приручённых песцах, соболях. О дельфинах, которым уже теперь прочат серьёзную роль в рыболовном деле, в спасении людей на морях и океанах. Общение с понятливыми животными само по себе полезно, красиво, оно придаёт миру благородство и взаимную симпатию, качества, очень нужные новому строю новых людей, идущих на смену жестокому, ничего не щадящему предпринимательству.
И даже частную проблему их заповедника, о которой не забывал Молчанов, кажется, можно решить с помощью более или менее приручённых оленей. Хоба — один из немногих путешественников на далёкие расстояния. Ведь он только что перешёл вместе с ним через перевал с севера на юг. Теперь он знает эту дорогу. Вероятно, скоро вернётся назад, ему здесь непривычно, кроме того, наступает время осенних свадеб, время любви и битвы за ланок, а на южных склонах оленей пока что мало. Если его олень хотя бы ещё дважды пройдёт через перевал, то он сможет к зиме перевести за собой своих ланок на эту сторону. За ним пойдут другие, и, таким образом, проблема размещения стада в голодные снежные зимы на Кавказе может быть решена хотя бы частично.
Александр устал, его одежда покрылась грязью, ботинки разорвались, сбились. На заросшем лице обозначились светлые усы и бородка. Все-таки путешествовал более двух недель. Он улыбнулся, представив себе, как встретит его Борис Васильевич, очень пристрастный ко всему, что касается внешности человека. Может быть, лучше остановиться в лесничестве? Но, вспомнив о письме учителя, решил идти прямо к нему.
Усталое, озабоченное лицо Молчанова прояснилось, едва он вспомнил, кто ещё живёт сейчас в Жёлтой Поляне. Маленький Саша, его тёзка, сын Тани… Он увидит его завтра. Непременно! Вот только смоет с себя грязь, соскоблит щетину на лице, приведёт в порядок одежду. А то ведь испугается лесовика.
Александр прибавил шагу.
Вот и дорожка, где они стояли с Таней, где он сказал ей… Отсюда она вернулась, а он пошёл наверх с чувством страшной усталости, какой давно не знавал. Неужели за все это время Таня не написала ему хотя бы коротенького письма? Что она делает сейчас в Ленинграде, как живёт? Ведь скучает о сыне, хотя бы только о сыне. А раз так, должна писать своей матери, должна приехать. При-е-хать! — это самое-самое главное. Приехать! Пусть только на один месяц, даже на одну неделю. Вдруг такое чудо: завтра прилетает. И он, Саша-большой, вместе с Сашей-маленьким едут в Адлер встречать её, как в тот раз. Нет, по-другому. Тогда над ними висело огромное горе, оно придавило все остальное. Прошло время, горе поутихло, и все должно быть светлей, лучше.
Молчанов шёл по мокрой дороге и не замечал, что небо потемнело, день сделался пасмурным, хоть и было очень тепло, даже жарко. И уже давно накрапывало, лениво, но настойчиво, в лесу усиливался слитный, убаюкивающий шум. Это стучали о листья миллионы дождевых капель и с тихим шорохом стекали на мягкую лесную подстилку.
Внизу лежал посёлок, знакомый до последней тропинки у берега торопливой Мзымты. Сердце билось сильно, нервно, но не оттого, что устал и за плечами ноша.
Несколько сотен метров по улице, минуя турбазу, мостик, ещё немного на подъем, здесь, за поворотом, широкооконная школа, и вот он, знакомый дом Бориса Васильевича, и сам учитель в лёгкой домашней рубашке стоит на крыльце и улыбается, поблёскивая глазами за чистыми стёклами очков:
— Наконец-то, Саша!.. Я тебя очень жду.
— Торопился как мог.
И Саша пожал руку учителю.
2
Утром Молчанов поднялся рано.
— Не спится? — спросил Борис Васильевич.
— Привычка, — сказал Молчанов, но сам подумал, что не только привычка.
И все-таки он заставил себя тщательно побриться, погладил сорочку, которую вчера постирал, мало-мальски зачинил тяжёлые туристские ботинки, не выдержавшие длительного похода через горы.
Вчера, когда он пришёл, Борис Васильевич не слишком подробно рассказывал о Никитиных. Так, только к слову. Но совсем не потому, что не знал, как они живут. Знал он много, пожалуй, все знал, даже о событиях предвидимого будущего, однако посвящать в эти размышления Молчанова считал пока излишним. Бывает, что элемент неожиданности очень украшает жизнь.
Учитель на правах хозяина немного затянул процедуру завтрака. В этой неторопливости гость почувствовал умысел и нашёл ему оправдание. Ну конечно, какой резон бежать чем свет в дом, малыш наверняка спит, а потом будет долго одеваться, завтракать, привыкать к новому дню.
— Ты куда прежде всего направишься? — спросил Борис Васильевич, когда стаканы с чаем были отодвинуты, посуда собрана и вымыта мужчинами с подчёркнутой тщательностью.
— К Никитиным. Визит вежливости… — Александр вложил в эти слова ровно столько тёплой иронии, чтобы не выдать своего нарастающего волнения.
— Правильно, Ирина Владимировна всякий раз, когда мы встречаемся, спрашивает, как ты, где сейчас и все такое разное. Ну и внук её…
— Что внук?
— Представь себе, тоже спрашивает: «Где Шаша?» Вот так. Запомнил тебя. Гостинцы для него есть? Маленький человек очень любит все сладкое и яркое.
Молчанов развёл руками:
— Были конфеты «Коровка», специально купил перед походом. Скормил Одноухому. Все до единой.
— Вот видишь… Впрочем, дело это поправимое.
Учитель географии порылся в буфете, отыскал кулёчек, от которого хорошо пахло ванилью.
— Заменитель твоим «Коровкам». Держи. Это батончики. Малыш любит, уже проверено. Ну, давай топай. И привет хозяйке. Я попозже загляну к ним.
— Моя мама хотела приехать сюда. В гости.
— Вот как! — Борис Васильевич вдруг засмеялся, и в его смехе послышалось что-то скрытно-озорное.
После вчерашнего дождичка и ненастья остался только рваный туман над рекой, мокрые деревья и чёрный, ещё не просохший асфальт. Небо поголубело, солнце грело в меру, иногда пряталось за кучные высокие облака, степенно плывущие с юга. Посёлок, склоны гор и лес вокруг посёлка — нередко прямо за огородами — все звенело птичьими голосами. Сбоку улицы, идущей вниз к реке, пролегал глубокий овраг, доверху забитый зелёными ольхами и орешником. Грабы подымались снизу, а где-то под ними, скрытый от глаз, гремел ручей. Из глубины оврага неслась весёлая песня дрозда. Александр даже остановился. До чего светлая, счастливая музыка! И как хорошо звучит она в этот ранний час народившегося голубого дня.
Поворот. Ещё немного вниз, к самой реке. Вот и узкая улочка, обсаженная каштанами. А вот и знакомый дом.
В груди у него опять словно какой-то крючочек соскочил, и замерло сердце, потому что Александр увидел вдруг почти неправдоподобную картину. Он даже зажмурился, потом быстро открыл глаза. Нет, не сон, вполне реальное зрелище…
Напротив дома Никитиных он увидел своего Архыза. Да, своего овчара. На Архызе верхом восседал Саша-маленький и быстро-быстро колотил босыми ножками по лохматым бокам собаки, вцепившись устойчивости ради обеими руками в густую шерсть на загривке. Архыз, казалось, был доволен и своей странной ролью, и ловким всадником на спине.
Но тут он увидел хозяина.
Уши его прижались, тупоносая морда как-то подалась вперёд. Он не бросился сломя голову, не скинул отчаянного седока. Он очень осторожно повалился на бок, а когда Саша, пыхтя и упрекая свою лошадку, отпустил его и стал подыматься, Архыз в два прыжка очутился возле Молчанова и уткнулся носом в его ноги. Радость встречи, ощущение вины, надежда на прощение — все было в этом жесте.
— Как ты сюда попал, мой славный овчар?
А сам уже смотрел не на собаку, а на Сашу-маленького, смотрел и улыбался во весь рот, потому что нельзя было не улыбнуться, когда перед тобой стоит вот такой плотный светловолосый малыш и задумчиво чешет оголившийся живот.
Он был босиком, в трусиках с помочами и в полосатой безрукавке, которая вылезла из трусов. Он стал ещё более толстощёким, загар не прилипал к белому его личику, удивлённому, смешливому, но ещё насторожённому, потому что не узнал, кто перед ним.
Осторожность все же пересилила неясные воспоминания, он бросился в калитку, там во дворе сидела баба Ира со своей сверстницей-гостьей, ухватил её и потащил к калитке, указывая вытянутой рукой туда, где что-то такое…
— Иду, иду, пожалуйста, не тащи, — говорила Ирина Владимировна, уверенная, что у внука конфликт с собакой. А за ней уже шла заинтересованная Елена Кузьминична и тоже улыбалась.
Александр стоял за калиткой, рука его лежала на голове Архыза.
— Саша! Милый ты мой! — Никитина поцеловала его, а он только шире открыл глаза и уставился на свою мать. Ещё новость!
— И ты здесь? — спросил он для верности, хотя такой вопрос мог вызвать только улыбку.
— Я, сынок, я. И Архыза, как видишь, взяла. Не удержалась, пожалела. Как можно оставлять его одного в такое время!
Женщины уже тащили гостя в дом, а Саша-маленький, вцепившись опять в Архызову шерсть, не спускал с Саши-большого любопытных глаз. Он требовал подтверждения.
— Узнаешь? — спросила бабушка. — Это кто?
— Шаша, — сказал внук и расплылся. — А где твоё ружжо?
— Ах, ружьё? Будет и ружьё. — Александр поцеловал женщин, поднял Сашу-маленького и тоже поцеловал.
Хозяйка и гостья глянули друг на друга и вдруг заплакали.
— Как жизнь? — спросил Александр своего тёзку, делая вид, что не заметил женских слез. — Ты потяжелел, Саша. Кормят тебя здорово, а? Или от солнца кавказского?.. Возьми-ка вот. Это тебе.
Саша-маленький сполз с его рук, чтобы вплотную заняться кульком. Когда взрослые входили в дом, он уже жевал батончик. И Архыз тоже жевал, потому что не мог отказаться от любезно развёрнутой конфеты. Плата за труд в роли верховой лошади.
— Ты ведь хотела позже… — сказал Александр матери, не упрекая её, а все ещё удивляясь тому, что она уже здесь. Завидная торопливость.
— Письмо меня смутило, Саша! Как ты ушёл, тут вскорости и получила я письмо. Думала, гадала, где тебя отыскать, вспомнила, что ты хотел в Поляну заглянуть, ну и сама решила поскорей. Вот видишь, угадала встретить.
— Какое письмо?
— Обратного адреса там нету, но думаю — от Тани.
Щеки его загорелись. Он так ждал этого письма!
И пока Елена Кузьминична рылась в своей сумочке, пока искала очки, Александр стоял перед ней, в нетерпении переступая с ноги на ногу, не зная, что делать со своими руками, а со щёк его никак не сходил жаркий румянец.
— Вот оно, вот, слава богу, не помяла… — Она передала сыну конверт с красными шашечками по обводу и облегчённо вздохнула. — Ты уж не ругай меня, Саша, за Архыза, ему так хотелось со двора, так скучал он по тебе! Могла бы, конечно, соседям отдать, они бы ухаживали, но как посмотрела в его глаза, как увидела тоску безысходную, не решилась оставить. А уж Сашенька обрадовался собаке! Прямо с ходу подскочил к Архызу, и, представь, они сразу подружились.
Она говорила, говорила, а Ирина Владимировна уже хлопотала с закуской, звенела на кухне посудой. Архыз появился в открытой двери, лёг там и не сводил глаз с Молчанова, а Саша-маленький, оставив кулёк с конфетами, то сидел возле шерстистого бока овчара, уговаривал его встать и пробежаться ещё раз, то теребил за уши и бегал вокруг, но ни голос матери, ни шум маленького Саши, ни другое движение вокруг — ничто не доходило до сознания Александра, сидевшего с письмом у окна.
Таня писала:
«…Что-то случилось со мной, милый Саша, в тот день, когда мы прощались, и ты сказал такие слова, такие… Я вдруг с удивлением и радостью ощутила теплоту собственного сердца, все во мне как бы оттаяло, и снова я почувствовала себя молодой, полной сил, устремлений, в ожидании и надежде на славное и милое, как в добрые дни нашей молодости, нашей дружбы. До чего хорошо жить!.. Ты только не подумай, Саша, что я способна шарахаться из одной стороны в другую. Нет и нет, тысячу раз нет! Просто я до этой встречи долго пребывала в каком-то замороженном состоянии и уже подумывала, что вся жизнь впереди будет у меня серенькой, тусклой и уж никакого просвета, никаких надежд. И вот ты, твои слова, которые до сих пор звучат в ушах…»
И ещё в письме было много милой девичьей скороговорки о себе, о мелочах жизни, о работе. Оказывается, Таня ушла от Капустиных вскоре после рождения малыша, долго жила у своей сотрудницы, потом получила комнату в большой квартире, а теперь всерьёз подумывает покинуть город и уехать к осиротевшей маме.
«Должно быть, мы скоро увидимся, Саша. Нам есть о чем поговорить, есть что сказать друг другу. Я с нетерпением жду этого дня».
Так заканчивала она своё письмо. Надеждой на встречу. Надеждой на счастье.
Александр прочитал его, невидящими глазами уставился в окно и добрые четверть часа сидел не шевелясь, отрешившись от всего мира. Обе женщины тихонько вышли из комнаты. Со двора доносилась быстрая, нескладная речь Саши-маленького, где-то гудел самолёт, тикали часы, а он сидел, думал, и тихая радость наполняла его, а улыбка не сходила с лица.
Медленно, торжественно пробили часы за его спиной. Он удивлённо вскинул брови. Что-то много раз они били, очень много. Ого, уже двенадцать! Как быстро, прямо-таки молниеносно пролетели утренние часы! И вдруг он закричал — нетерпеливо, по-мальчишески:
— Ирина Владимировна! Ма! Покормите меня! Я очень хочу есть, время обеда, а вы убежали куда-то!
Он вышел на крыльцо, сияя улыбкой, такой радостью, которую ни скрыть, ни затаить нельзя, и снова попросил есть, словно теперь почувствовал полную раскованность в молодом, сильном теле, сто раз уставшем за многодневный переход и нервное ожидание вот этого главного, что оказалось в Танином письме.
Архыз уже мчался к нему из дальнего угла сада. А за ним, спотыкаясь и не поспевая на своих коротеньких ножках, бежал растрёпанный, покрасневший от игр Саша-маленький и после каждого падения хватался за трусики, готовые свалиться и погубить его мужской авторитет на глазах гостей и бабушки.
Обедали оживлённо, весело, с разговорами. Женщины переглядывались и многозначительно улыбались. Все к лучшему.
Саша-маленький забрался к Молчанову на колени. Сбоку, касаясь босой ноги малыша, пристроился Архыз, он щурился от трудно подавляемого желания получить вкусный кусочек, от запаха пищи, от радости близкого общения с хозяином и терпеливо сносил заигрывания мальчугана.
Тёплый ветер забегал в открытые окна. Он приносил запахи близкого моря и свежей зелени. На дворе колготились куры, где-то призывно блеял козлёнок, зовущий свою маму. Мирная сельская жизнь.
Стукнула калитка.
— Никак, Борис Васильевич, — сказала хозяйка и пошла навстречу.
И все встали из-за стола, пошли встречать. Потом усадили гостя за стол, он ел, поблёскивая очками, и добродушно, по-стариковски смотрел на Александра и на Сашу-маленького, удобно сидящего на его коленях.
— Смотрите-ка, он сегодня ест как настоящий мужчина, — заметил учитель, кивая Саше-маленькому.
После обеда Молчанов вышел проводить Бориса Васильевича.
— Теперь я понял, почему вы утром засмеялись, — сказал он. — Вы знали, что мама и Архыз здесь. Решили сделать сюрприз, да?
— Я и ещё кое-что знаю, Саша, — загадочно ответил Борис Васильевич. — Сказать тебе сейчас или повременить?
— Ну зачем же? Конечно, скажите!
— Наверное, придётся сказать. Если Таня уже не сделала этого прежде меня.
Молчанов остановился:
— Не томите…
— Ну так вот. В своё время мы обговорили с ней одно небольшое предприятие. Потом я получил от Татьяны согласие и даже заявление. Этот документ мы недавно обсудили на совете учителей, наше решение утверждено в районо. Теперь я могу сказать тебе, что в новом учебном году в нашей школе преподавать биологию будет знакомая тебе Татьяна Васильевна…
— Как мне благодарить вас! — тихо и растроганно сказал он.
3
Они остановились на мостике. Здесь дорога расходилась. Вправо, за мостом, густо зеленела усадьба Южного отдела заповедника — небольшой лесок с высоченными чёрными пихтами и двухэтажный дом на краю этого рукотворного лесопарка.
— Тебе туда, Саша, — сказал учитель. — Будь внимателен. Слушай, вникай. За последнее время я не узнаю некоторых сотрудников, так они изменились. Взгляды лесников на свои права и обязанности стали несколько иными и, мне кажется, далёкими от идеалов охраны и заповедования. Эти лесники больше походят на егерей охотничьего ведомства. Приглядись.
Саша прошёл по аллеям парка, вошёл в дом.
Большая комната со столом посредине была пуста, но папиросный дым в воздухе, окурки на полу говорили о том, что здесь совсем недавно толклись или сидели люди. Из коридорчика, откуда была дверь во вторую комнату и радиорубку, доносились голоса, трое или четверо спорили там довольно азартно.
— Никогда ты его не возьмёшь в заросли, — услышал Молчанов. — Он тебя непременно обманет, нюх вострый больно — как почует, так и заляжет, ты мимо пройдёшь, чуть сапогом не зацепишь, а не подымется, себя не выкажет, это уж точно! Знаю по себе евонную причуду.
— Ну, какой шатун, а то сразу дёру даст и по самой густой заросли на выстрел не подпустит ни за что. Было у меня: вижу как-то, малинник колышется, самого не примечаю, а кусты ходуном ходят. Я и вдарил чуть ниже, наугад. Он как заорёт, как подымется выше малинника, зубы оскалил, глаз вострый…
— Добил? — спросил первый.
— Нет, паря, запужался. Кто его знает, похоже, пуля только задела, а раненый он для жизни больно опасный, затаится и с тебя же кожу сдерёт. Не пошёл я, пождал малость, не выдаст ли себя, ну, не дождался и ушёл ни с чем. Зря патрон истратил.
— Тоже не дело, — веско сказал третий, и голос этот показался Александру очень знакомым. — Раз ты стрелил, не бросай ведьмедя, непременно отыщи по крови, по следу, чего же мясо губить зазря, шакалам оставлять? Я вот что скажу вам, хлопцы. Ведьмедь свой характер точно имеет, и прежде чем стрелить, надо малость про тот характер узнать. Иной, значит, трус, с тем хлопот никаких. Иной умом почти как людской, хитрый до неимоверности, а тебе надобно его перехитрить, потому можно и без головы остаться. В прошлом, что ли, годе было у меня, чуть жизни не лишился, когда выслеживал одного большака…
Молчанов распахнул приоткрытую дверь. Три головы повернулись к нему, две пары глаз посмотрели с явным любопытством, а тот, бородатый, как был с открытым ртом, так и застыл. Суеверное, испуганное удивление сковало его. В руке меж пальцев дяди Алёхи сиротливо дымила самокрутка с крепчайшей махоркой, уже знакомой Александру по встрече в Шезмае.
— Привет, мужики, — сказал Молчанов, ногой подвинул к себе стул и сел. — У вас что, семинар? Опытом делимся?
Наверное, он не сумел скрыть своего раздражения, голос выдал его, и лесники не решили, как себя держать и что отвечать. Они не знали Молчанова, все трое были новенькими.
— Да вот, ждём лесничего, байки рассказываем, — сказал наконец самый находчивый.
— А чего вам лесничий?
— А ведь мы с тобой знакомцы, турист… — Дядя Алёха обрёл все же дар речи и даже позволил себе улыбнуться в подстриженную бородку. — Это ведь ты сидел со мной на речке, на Курджипсе, а? Ты, ты, память у меня дай бог… Здорово, значит. Какими судьбами в эти края?
— Здорово, Бережной. Не ошибся. Видать, и ты сюда на работу прибыл? — Молчанов не ответил, какими судьбами сам он здесь. Возмущение охватило его. Значит, все же оформили этого бородача, раз он заявился на Южный кордон, значит, вопреки протесту, лесником сделали. Кто же оформил? Уж, конечно, не директор заповедника.
Дядя Алёха, видать, смекнул, что не туристские тропы привели в заповедник этого молодого человека. Совсем другим, смиренным голоском он сказал:
— По воле начальства, уважаемый товарищ. Теперь я, значит, тоже лесником. При деле, стало быть, нахожусь. А вы, если не секрет?
И впился зоркими глазками в лицо Молчанова.
Опять Александр не ответил, сказал совсем о другом:
— Впервые слышу, чтобы лесная стража заповедника вела разговор об охоте на медведей. Это что же, новые ваши обязанности — делиться опытом, как бить медведей? Впрочем, у дяди Алёхи в этом деле практика огромная, может поделиться. Как-никак сто тринадцать медведей.
Бережной огладил бородку, дотронулся до усов. Пожалуй, он не знал, как дальше себя вести. Черт его знает, кто это такой, вдруг заповедное начальство? Вздохнул, с недоумением посмотрел на тлеющую самокрутку в руке и расчётливо сказал:
— Окромя всего прочего, прихвастнул я в тот день, мил человек. Давно завязано, и без приказа на то — ни-ни… Дисциплина!
— А с приказом?
— Ну если так… Им видней. Дядя Алёха могёт и вспомнить старое, рука, конешно, не дрогнет.
Вошёл новый человек, в кителе и фуражке лесничего.
— Молчанов? — Он протянул руку. — Будем знакомы. Коротыч Иван Лаврентьевич, лесничий. Недавно сменил Таркова. Мне говорили, что вы должны прибыть в наш отдел. Как на перевалах?
Александр знал, что Тарков вскоре должен идти на пенсию, но с Коротычем ещё не встречался.
Они ушли в кабинет лесничего, оставив Бережного и двух других лесников размышлять и строить всяческие догадки.
— Не нравятся мне эти новички, — без всякой дипломатии сказал Молчанов лесничему. — Сидят, охотничьи байки рассказывают, хвастаются, как зверя били. Почему вы приняли Бережного? Это же старый браконьер, его и близко к заповеднику подпускать нельзя!
— Приказали — и принял. — Взгляд Коротыча внезапно похолодел. — Если у вас там, в конторе, какие-то нелады с высшим начальством, то моё дело проще: подчиняться распоряжениям вышестоящего. Я тоже, знаете ли, не хочу неприятностей. Велено зачислить Бережного — зачисляю, тем более, что штат у меня далеко не полный. Прикажут разогнать — разгоню.
Было что-то в этом человеке жёсткое, прямолинейное, чувствовалось, что привык к простому повиновению. Несомненно, Коротыч любил точные приказы и не скрывал этого. Может быть, потому не получился у Молчанова разговор по душам с новым лесничим. Слишком неродственные души.
Коротыч деликатно спросил:
— Чем займётесь у нас? Какая помощь требуется?
— Проверю дневники у лесников, похожу по кабаньим тропам. Ваших лесников попрошу помочь мне пересчитать рогачей на осеннем гоне. У нас есть давнее желание показать северному стаду дорогу на южные склоны. Отдушина на случай долгой бескормицы. Вот этим и займусь.
— Жить где будете? У нас в отделе?
— Слишком далеко от леса. Лучше на кордоне Ауры. Оттуда ближе ходить на пастбища.
Коротыч заколебался. Именно там находился охотничий дом. Но отказать научному сотруднику он не решился, хотя Капустин и сказал ему, что «посторонние на Ауре сейчас нежелательны». Молчанов все-таки не посторонний, а сотрудник научного отдела. От него нельзя скрыть.
— Ладно, можно и на кордоне, — без особого энтузиазма согласился он. — У лесника Семёнова, например.
Дом лесника Семёнова стоял всего в километре от охотничьего дома.
Молчанов усмехнулся, и Коротыч заметил это.
— Высоких гостей ждём, — пояснил он с каким-то вызовом, словно хотел, чтобы у научного сотрудника не оставалось никаких сомнений относительно охотничьего дома.
— Потому и Бережного приняли? Обслуживать гостей?
Лесничий нахмурился. Чётко сказал:
— Приказали — принял. Возможно, и потому. Капустину видней. Гости, как мне объяснили, это учёные из разных ведомств. Им нужны опытные проводники.
Коротыч подождал, не спросит ли Молчанов ещё чего. Был он немного старше Александра, подтянутый, строгий, словно раз и навсегда застёгнутый на все пуговицы. Улыбка не озаряла его сухое, длинноносое лицо с упрямым тонкогубым ртом. Не повезло заповеднику. Только сейчас Александр понял особую тревогу Бориса Васильевича. Коротыч любил службу, но, кажется, не очень любил природу. В этом была его беда. И беда заповедника.
Молчанов уходил из отдела подавленный. Действительно, здесь неладно.
На выходе из парка сидел Бережной и курил. Он явно ожидал своего шезмайского собеседника.
Когда Александр поравнялся с ним, дядя Алёха бросил под сапог недокуренную самокрутку и молча пристроился сбоку.
— Что скажете, Бережной? — сухо спросил Молчанов.
— Дак вот, Александр Егорыч, опростоволосился я, значит, когда принял вас за туриста. А вы вон какой турист! Я и плёл вам как туристу, на воображение бил. Слова-то мои теперь супротив меня и обернулись.
— Не прибедняйтесь. Сто тринадцать — это не байка.
— Впрямь, не байка. Но то ж когда было!
Молчанов нахмурился.
— Вынужден вас предупредить, Бережной. Если что-нибудь подобное случится сейчас, будете очень строго наказаны. Вы лесник. Ваша задача — охранять животных. Упаси бог, если вы…
Бережной прижал руки к груди.
— Слово старого человека, Александр Егорыч! Я ить и вашего папашу знавал. На что был грозен, а с ним у нас никогда плохого не случалось. Дядя Алёха — аккуратист. Нельзя так нельзя. Понимаем.
Он шёл с Молчановым ещё несколько минут, но беседа не клеилась, научный работник хмурился, и Бережной, вздохнув, стал отставать. Чего же упрашивать!
А Молчанов шёл к учителю и все время думал: зачем Капустин так настойчиво уцепился именно за старого браконьера? Выходит, ему нужны только такие люди. Теперь понятно, зачем нужны. Но как поведёт себя лесничий Коротыч, если охотничий домик заполнится приезжими людьми, которые могут рассматривать заповедник как свою вотчину, как место для лёгкой, необременительной охоты под видом научного изучения фауны Кавказа?!
Вот положение! Борьба со своими. Этого ещё не было.
— Что твой поход, Саша, как приняли? — таким вопросом встретил хмурого гостя Борис Васильевич.
— Ваши опасения обоснованны, — просто ответил он. — Атмосфера у них самая что ни на есть низменная. Плохая атмосфера. Что угодно-с…
— Как поступишь?
— Останусь здесь. Заставлю понять…
— А если они будут поступать по-своему?
— Тогда — война.
Борис Васильевич промолчал, только седую голову наклонил.
Согласился.
Глава седьмая ЗДЕСЬ БЫВАЕТ ОПАСНО
1
Первые два дня жизни на новом месте олень Хоба ощущал необъяснимое волнение. Вдруг срывался с места и мчался по лесу, обегая одну поляну за другой. Или, замерев под густым, тенистым дубом, стоял словно изваяние и десять и двадцать минут, вслушиваясь в смутный шум леса, который чем-то отличался от шумов лесного края на той стороне гор. Даже ночью, выбрав для лёжки укромное место, он не мог задремать, потому что чужие, непонятные звуки чёрного леса то и дело пугали его.
Вдруг заплачут шакалы, сразу много шакалов со всех сторон, и такой подымут адский шум, вой, плач, что спокойным не останешься, хотя Хоба прекрасно знал этих мелких пакостников, совершенно не опасных для него, соберись они хоть в сотенную стаю. Замолчат, разбегутся шакалы, тогда неожиданно прилетит ветер, остро и влажно пахнущий морем. Морского запаха Хоба ещё не знал и потому боялся. Довольно часто видел он в чёрной, очень чёрной ночи светящиеся зеленоватым блеском глаза диких котов, тоже не страшных для него хищников. Но соседство с недреманными хищными глазами никак не способствовало покою, и он вставал, чтобы уйти от колдовских глаз подальше.
Этот южный лес первое время казался ему очень недобрым лесом.
Повсюду, как паутина, с деревьев свисал зелёный лишайник, мешающий видеть далеко и зорко. Его можно было есть, этот вкусный лишайник, но поначалу Хоба с большой опаской жевал его, словно ожидал какого-нибудь подвоха. И потом колючки. Ох уж эти колючки! Лианы встречались и на родных северных склонах, но не очень часто, кроме того, в северном лесу они выглядели недоростками по сравнению с местными, колхидскими. Тут, в руку толщиной, они цепко оплетали высоченные клёны снизу доверху так, что трудно было понять, клён это стоит или сама лиана. Джунгли в зеленой путанице становились непролазными, чудовищно густыми, многоэтажными, и в каждом этаже со своим оттенком зелени, со своими цветами, птицами, животными. Хоба иной раз бродил с целым венком ужасно цепких стеблей на рогах, он нервно мотал головой и снимал с себя лесные вериги только на полянах, где можно было прочесать рога в густом шиповнике или кизиле. Все, все непривычно.
Долины рек в причерноморских лесах узкие, похожие на корыто, а склоны по обе стороны крутые, если бежать, то не вот-то разовьёшь скорость, и потому каждая такая долина, вдобавок ещё заваленная понизу огромными камнями, представлялась ловушкой, из которой трудно выбраться. Здесь тоже густота непроходимая, колючая, часто с чёрным, железной крепости самшитом, через который и вовсе нет хода.
Но зато еды здесь было вволю. Хорошей, вкусной еды. Трава на полянах скрывала оленя почти целиком. Всюду нежный лишайник и листочки ломоноса. Сочные веточки с приятным вкусом изысканного блюда. Ягоды любого качества, всех расцветок и размеров. И даже грибы — огромные опёнки, яркие мухоморы в самых тёмных местах, сочные маслята и хрусткие, толстоногие боровики. Не надо выхаживать многие версты, здесь сыт на каждом пятачке. Щедрость природы просто сказочная. Влажно, тепло, тихо.
Оставив на дороге Александра Молчанова, Хоба весь первый день бродил в окрестностях посёлка. Откуда-то снизу слышались голоса, лай собак, шум машин, даже музыка, он ждал, не нанесёт ли ветер знакомый запах, не вернётся ли Человек, но разных запахов было много, а желаемого все не было.
И тогда Хоба, все больше беспокоясь, двинулся в обратный путь, туда, где в прогалины леса врывался серебряный блеск ледников Псеашхо. Ближе к альпийским лугам. На свои пастбища.
По мере подъёма лес редел, сперва пошёл весёлый бук, потом чёрный пихтарник. Приятно похолодало. И запахи сделались другими, знакомыми. Душные колхидские джунгли остались внизу. Вскоре начались крутосклонные луга в берёзовых опушках. Совсем родные луга.
Да какие луга!
Не успел он насладиться сладкой и сочной травой, как невдалеке увидел мелькнувшие между берёз чьи-то высокие рога. Хоба раздул ноздри и, высоко подняв голову, пошёл на сближение. Он столкнулся с рыжеватым, толстым и флегматичным рогачом чуть ли не нос к носу. Оба замерли, изучая друг друга. Оба фыркнули, а в следующий момент с подчёркнутым спокойствием склонились к траве и стали рвать её, тем самым показывая своё миролюбие. Даже тени враждебности не было в их поведении. Встретились — и хорошо. Будь здоров, живи, как тебе хочется.
Так они паслись, следуя друг за другом, а вскоре Хоба заметил неподалёку ещё трех рогачей и трех подростков, удивлённо пяливших глаза на огромного незнакомца. Всю утреннюю зорю маленькое стадо паслось вместе с ним, а когда Хоба решил, что пора на отдых и пошёл березняком на продуваемый холм, где чернели низкие кусты рододендрона, стадо тоже потянулось за ним, бессловесно признав Хоба за своего главного. Неожиданное положение.
Однако он не мог не понять, что в стаде ему спокойней и как-то веселей. Ум хорошо, а пять лучше. Все отдыхали, и все были настороже. Когда в километре от них слишком уж подозрительно закачались ветки буковой поросли, Хоба поднялся, и все поднялись, чтобы следовать за ним в более удалённое от коварной рыси место. И когда солнце уходило за отроги далёких хребтов, все стадо так же единодушно последовало за вожаком к солонцам, а потом поднялось ещё выше, на вечернюю кормёжку.
Лишь через трое суток, встретившись с маленьким стадом ланок, Хоба недвусмысленно дал понять своим новым друзьям, что желает остаться с этими ланками и покорнейше просит рогачей удалиться. При этом он пробежался туда-сюда на виду у сверстников и помахал своей огромной короной вверх и вниз, что означало уже не только просьбу, но и приказ. Рогачи удалились без обиды и горечи. Время осенних битв ещё не подошло, ярость не созрела.
Ланки не слишком обрадовались, они были заняты своими оленятами, и Хоба остался как бы незамеченным. Он расхаживал неподалёку, отдыхал в сторонке, но из виду своё новое стадо не упускал. А если какой-нибудь малыш приближался очень близко, чтобы выяснить, не хочет ли этот рогатый дядечка поиграть с ним, Хоба просто отворачивался, и морда его выражала усталое равнодушие, даже некоторое презрение.
Равнодушие к ланкам и оленятам на поверку оказалось деланным, искусственным.
К ночи, насытившись и обмакнув носы в минерализованный ручеёк, ланки побрели было вниз, где стояли пышнокронные буки, но вдруг все разом повернулись и тревожно помчались вверх по склону, то и дело оглядываясь на оленят, которые прытко бежали у самых ног своих мамок. Хоба до этого как-то очень лениво плёлся за стадом, но когда возникла тревога, он пропустил мимо себя бегущих ланок и словно врос в землю. Мускулы его напряглись, ноздри широко раскрылись, а в глазах вспыхнул яростный огонь битвы.
Из леса, распластавшись длинным телом, вынесся один, потом второй волк. Они едва виднелись в высокой траве, но цель хищников была ясна: мчались за стадом. И вот тогда Хоба доказал, на что способен вожак.
Высокими прыжками он за одну минуту настиг ближнего волка и, резко подпрыгнув, сбычил рога. Как ни собран волк, распалённый погоней, он все-таки не успел вовремя повернуться к оленю клыкастой пастью, он просто не ожидал нападения и в следующую секунду, отброшенный ударом рогов, оказался в воздухе и покатился по скользкой траве. Хоба бросился за ним, тяжёлые копыта готовы были растоптать ошеломлённого и раненого хищника, но второй волк, матёрый самец, уже мчался на оленя, и Хоба, теперь сам защищаясь, встретил его грозно склонёнными рогами. Волк не достал в прыжке до шеи оленя, не увернулся, послышался удар о мягкое, и боевой надглазный рог пропорол отчаянному хищнику бок. Кровь брызнула на траву, раненый волк покатился через голову. Хоба бросился за ним, но серое тело проворно скользнуло под куст боярышника, мелькнуло в березняке раз, второй и исчезло.
В темноте, слегка успокоившись, он побежал по следам своего стада. Испуганные ланки нашлись не сразу. Они успели пересечь глубокий распадок и забрались в скальный район, где теперь стояли, нервно прислушиваясь к звукам и шорохам ночи. Появление вожака успокоило их. Запахи сказали оленю, что все стадо в сборе. Он потоптался на месте, обошёл вокруг лагеря и, убедившись, что больше ничего не грозит стаду, улёгся метрах в двадцати от ланок на траву, уже сверкавшую жемчужной росой.
Тихо. Хоба задремал. Невдалеке то ли спросонья, то ли жалуясь на холодную и голодную ночь, тоскливо и резко закричала сова-неясыть. Её долгое «а-а-эй, э-э-эй», словно крик человека о помощи, заставил рогача насторожиться. Он открыл глаза, минуту-другую вслушивался, редко и глубоко вздыхал и опять уснул. Спал он почти до самой зари, затем лениво поднялся. Расставил ноги, прогнул спину, судорожно зевнул и пошёл наверх, сбивая высокими ногами обильную, щекочущую росу, которая замочила его тёплый живот и бока.
Час кормёжки прошёл спокойно. Олени все более лениво стригли сладкую траву, все более привередливо выискивали самые нежные листочки пырея и тимофеевки, все чаще отдыхали, задумчиво оглядывая пространство. Сыты. И значит, пора на покой.
Хоба пошёл к солонцу. Стадо энергично топало за ним. Иметь такого защитника и вожака очень приятно. На перепаде довольно крутого склона перед оленятами заблестело болотце. Из расщелины в каменной стене сочилась вода. Она окрасила камни в темно-бурый цвет. Железистая вода, сказали бы люди. Хоба вошёл в болотце, замутил копытами воду и с удовольствием стал цедить её через зубы. Ланки расположились по всему берегу болотца и тоже пили солоноватую воду. Оленята баловались, били копытами по луже, вздрагивали от холодных брызг.
Отяжелев, стадо покинуло источник, сбилось в кучу, оленухи понежничали с ланчуками, облизали их мордочки, нежную и без того чистую шёрстку. Ждали, куда поведёт вожак. Он не торопился, стоял по колена в воде и не без интереса рассматривал в осветлённом озерце своё изображение на фоне голубого неба с редкими кучевыми облаками. В воде довольно ясно рисовалась его голова с блестящими тёмными глазами и огромные рога с белыми, будто только этим утром отточенными концами. Вода лежала недвижно, в зеркале её ещё отражалась крутая каменная стена за болотцем и небольшой куст берёзки на самом верху. Неожиданно и безмолвно рядом с зелёным кустом там вдруг возникла крупная медвежья голова. Свесившись, зверь с понятным интересом смотрел вниз, на оленье стадо, и, кроме любопытства, в жёлтых глазах медведя уже загорался охотничий азарт. Вот так встреча!..
Меланхолическое настроение, владевшее вожаком, исчезло не сразу. Заметив отражение медвежьей головы в воде, Хоба несколько секунд наблюдал за ним совершенно спокойно, потому что это была всего-навсего картинка, а не реальный облик, который должен непременно обладать ещё запахом и звуком движения. Олень очнулся, когда его стадо буквально пырснуло от солонца и в паническом ужасе помчалось вниз, подальше от опасного соседства. Лишь тогда он догадался поднять голову.
Взгляды их встретились.
Медведь удивился, когда рогач внизу, не проявив особого страха, просто вышел из болотца, ещё раз посмотрел на одноухую бурую морду и шагом, представьте, шагом пошёл по лугу прочь от солонца, лишь изредка останавливаясь, чтобы посмотреть, где медведь и что он намерен делать.
Собственно, не только старое, к чему-то обязывающее знакомство побудило рогача проявить такое незаурядное бесстрашие. Он не боялся медведя и по другой причине: крутая высокая стена не позволит Одноухому быстро сократить расстояние, как бы он ни старался. Спрыгнуть побоится. А чтобы сблизиться, медведь должен сделать немалый крюк. За это время олень пять раз успеет скрыться в густом кустарнике.
И тем не менее Хоба благоразумно не пошёл за своим стадом, не стоит водить за собой хищника к ланкам. Хоть и знакомый, но мало ли что… Лучше податься в сторону, пока не отстанет.
Весь этот день Хоба странствовал, а не отдыхал. В сотне шагов от себя он ощущал присутствие медведя, не убегал, но и не давал ему приблизиться. Так они и бродили на границе леса и луга как привязанные, пока кривые пути-дороги не завели оленя в ловушку.
Ну кто мог предвидеть, что в этом узеньком каменном коридоре из сланцевых скал пурпурная кавказская гадюка, редкостная ядовитая змея, устроит свой дом, который сама же бдительно охраняет!
Хоба почти наступил на неё, и когда из густой и жёсткой травы-щучки поднялась плоская голова, он не без содрогания отпрянул назад. Пурпурное тело очень крупной рассерженной змеи поднялось на добрый метр от земли. Рядом с этой гадюкой заскользили ещё две или три. Они шипели, и звук из раскрытых пастей с быстро двигающимся язычком отражался от скал и усиливался, наводя на оленя смертный ужас. Никогда ещё Хоба так близко не видел этих холодных тварей. Он боялся их. Круглые глаза змей гипнотизировали. Хоба медленно отступил, пятясь задом, в то же время оценивая возможность скачка вперёд или даже на стену. Увы, ноги его дрожали, красные ленты гадюк, извиваясь, наползали на него. Куда бежать и как бежать?..
Сзади осязаемо накатывался запах медведя. Одноухий шёл следом по каменному коридору. Ловушка готова захлопнуться.
Лобик ещё издали почувствовал неладное. Почти в ту же минуту он увидел перед собой какое-то съёжившееся, словно укороченное тело оленя. Хоба пятился, приближаясь.
Гадюка выпрямилась, на хвосте поднялась над землёй и красной молнией бросилась на оленя, целясь ему в голову. Прыжок отбросил Хобу к стене, он ударился боком, почувствовал, как скользнула по ноге ниже колена холодная змеиная кожа, и от этого жуткого прикосновения взвился метра на два вверх. Едва коснувшись копытами камня, он увидел перед собой вторую гадюку. Последовал новый прыжок уже вперёд, и Хоба, избежав ядовитых зубов, миновал опасное место, но не рассчитал своего отчаянного прыжка и всей грудью налетел на высокий каменный останец. Удар был так силён, что его перевернуло, и Хоба очутился на подогнутых, враз ослабевших ногах головой назад. Он понял, что беспомощен и если змеи сейчас нападут на него, то ему несдобровать.
Тем временем в каких-нибудь семи метрах от оленя шло второе действие этой неожиданной и нелепой драмы. Хоба увидел все, что произошло дальше, очень реально, до мельчайших подробностей.
Пурпурная гадюка, промахнувшись и потому ещё более рассвирепев, оказалась прямо перед медвежьей мордой. Лобик мгновенно сориентировался. Он раскрыл пасть, приподнялся, и не успела змея свернуться в боевое кольцо, как медведь передними лапами уже придавил её. Отворачивая уязвимую морду, он подставлял ей под укусы густошёрстную грудь. Змея зарывалась в неё, яд стекал по шерсти, а лапы медведя тем временем давили толстое, мускулистое тело все ближе и ближе к голове. Хрустнули под когтями позвонки, и гадюка сразу обвисла. Лобик, не отпуская её, изготовился: две другие змеи наползали с явным намерением продолжить бой.
Он успел повернуться к ним боком. Красные стрелы вонзились в шерсть, страшная жидкость опять окропила бок, а Лобик всем телом, лапами артистически ловко прокатился по гадюкам, смял, прижал их к камням и вдруг, озверев, рванул пастью один раз и другой. Живые куски были отброшены, они извивались на камнях, а медведь стоял над ними и расчётливо бил лапой.
Взгляд его обратился наконец к оленю. Хоба все ещё лежал и с ужасом смотрел перед собой. Он был беспомощен, он не мог встать. И тогда медведь, вместо того чтобы подойти к нему, тоже лёг на месте боя и как-то очень смирно положил голову на вытянутые лапы, словно дожидаясь, когда олень найдёт в себе силы и встанет.
Между ними было шесть или семь метров пространства. Камни с редкими кустами щучки. И путь лишь в две стороны — по коридору вперёд и назад.
Так прошло десять, пятнадцать минут. Звери смотрели друг на друга, и взгляды их оставались задумчивыми, далёкими от какой-либо враждебности. Может быть, они унеслись в прошлое, откуда шла их близость?..
Безмолвный разговор дикарей, когда-то питавшихся у одного молчановского корытца, наконец нарушился. Лобик бросил взгляд на остатки только что поверженных змей, потянулся, подцепил съёжившийся тускнеющий кусок, обнюхал и лениво стал есть. А чего пропадать добру?
Хоба поджал задние ноги и встал, но пошатнулся. Грудь ныла, похоже, он очень крепко ушиб её.
Олень пошёл, слегка покачиваясь, Лобик лежал и смотрел ему вслед.
На выходе из каменного коридора Хоба остановился, повернул морду назад и тоже в последний раз посмотрел на бурого зверя, который спас ему жизнь.
Звери разошлись.
2
Удар о камень вызвал не просто болезненное ощущение, а тяжёлую болезнь. У оленя высох нос, движения его стали вялыми, исчез аппетит.
Хоба подолгу лежал где-нибудь под укрытием густосплетенных кустарников. Преодолевая боль, он лениво стриг траву и с великим трудом ходил на солонцы. Ему было очень плохо. Но его не тянуло к утерянному стаду, потому что он ещё не успел привыкнуть к нему и не считал его окончательно своим.
К концу того насыщенного событиями дня, когда случилась встреча с Одноухим, а потом и с пурпурными гадюками, Хоба вышел на узкую длинную луговину, светлой зеленью обозначившую самый верх крутого склона. Ниже луга и южнее его густо чернели леса. Обрывистыми ущельями и увалами они падали вниз, уходили куда-то далеко-далеко, в синюю дымку, и терялись в таинственной пустоте, где лежало бесконечное море. Что такое море, олень не знал, но он чувствовал глубокую даль и особенный воздух оттуда. Он стоял в тени низкорослого клёна и, полуприкрыв глаза, рассматривал величественную панораму гор, уступами спускающихся в неизвестность.
Именно оттуда, из густого чернолесья внизу, до слуха его и дошёл в это мгновение знакомый звук трубы.
Хоба подтянулся, воспрянул духом. Туда!..
В следующую минуту он уже пробирался сквозь захламлённый пихтарник навстречу слабому зову Человека.
Ночь захватила его в пути, он ещё некоторое время шёл, натыкаясь в темноте на трухлявые колоды, камни, путаясь в колючих лианах, которых на спуске становилось все больше и больше. Он пробирался сквозь помехи, скользил, падал на колени, царапал себе бока. Но вот что достойно замечания: в трудном движении как-то постепенно забылась боль, угнетённое состояние истаяло, может быть, потому, что все мысли его теперь устремились к преодолению препятствий, и Хоба не заглядывал больше внутрь себя, не думал о болезни, что само по себе есть уже врачевание, исцеление действием, занятостью.
Наконец он остановился, прислушался, расслабил мускулы. И только тогда почувствовал страшную усталость. Забившись под густой орешник, Хоба уснул. Ни далёкий плач шакалов, ни фырканье кота, ни шорох деятельных ночных созданий — полчков, ни страшный по внезапности пролёт летучей мыши не вывели его из дремотного состояния. Он спал, и сон после физического напряжения тоже лечил его.
На заре, когда весь лес опять вымок так, что водой сочилась каждая ветка и листик, Хоба встал, ловко, несколькими движениями кожи стряхнул с шерсти обильную воду и почувствовал голод, прежде всего голод, который нужно утолить, чтобы вернуть себе силы.
В мрачном, промокшем лесу не было никакой травы, мокрая земля вся была устлана прелым листом и хвоей. Хрусткие дудки зонтичных, огромные хвощи, серебристые плауны вызывали у оленя только отвращение. Они приторно пахли болотом, нечистоплотностью. Но с веток грабов и особенно с мелколистных стволов самшита, густо усеявшего бока крутостенного ущелья, обильно свисали серо-зеленые плети лишайника. Вот это очень неплохая еда.
Хоба прошёлся вдоль самшитового подлеска, обрывая гирлянды лишайника. Туман упал сверху, и в чёрном, мокром лесу сделалось ещё глуше. Словно в подводном царстве. Призрачные завесы окутывали лес, звуки слышались глухо, от чёрной земли исходили острые запахи, и за пять метров все скрывалось в серо-зеленом тумане, как в воде.
Утолив голод, Хоба заторопился. Не довольно ли топтаться в мокрой и чёрной глухомани, где запросто можно потерять ориентировку и оказаться в какой-нибудь западне рядом с голодной рысью. Каким-то шестым ощущением, свойственным, наверное, только дикарям, Хоба нашёл верный путь и, чутко вслушиваясь в молчание мокрого леса, опять пошёл, но уже краем горы, а не ущельем, в сторону вчерашнего зова.
Немного позже солнцу удалось все-таки одолеть туманную хмару. Воздух очистился, путь просматривался лучше и дальше. На дороге возникла буковая роща, весёлая, светлая и редкая, похожая на парк. Потом начался каштанник. Где-то внизу, откуда доносился гул реки, послышался задорный свист дрозда, разноголосое чириканье мелких пичужек.
Приблизившись к густой заросли рододы, плотно укрывшей весь нижний склон горы на спуске в речную долину, рогач сперва замедлил шаг, а потом и вовсе остановился, даже попятился в тень сломанного грозою дуба. Что-то ему не понравилось в насторожившейся черноте кустарников. Он не видел никого, нос его пока не чуял опасность, но появилось такое ощущение, словно за ним пристально наблюдают из тьмы, густо скопившейся под скалами, оплетёнными рододой.
Тихо отступая, серой тенью крался олень по лесу, обходя место, которое показалось ему опасным. Он вздрогнул, когда из долины под горой, теперь совсем близко и ясно, снова раздался печально-зовущий звук охотничьего рога. Наконец-то!.. И почти одновременно поток влажного воздуха, насыщенного испарениями джунглей, принёс ему новый запах, знакомый запах.
Олень остановился, как-то очень игриво выгнул шею, выставил вперёд рога, и эта дерзко-смешная поза тотчас вызвала к жизни новую картину, вместе с которой в безмолвный лес ворвалась радость.
Из-под кустов рододы вылез смущённый черно-белый волк.
Архыз…
Ещё ранним утром он убежал от хозяина, устроившегося ночевать на террасе реки, куда не так густо доносился грохот воды, и почёл своим долгом предпринять самостоятельный поиск оленя, которого долго и настойчиво звал к себе Молчанов. Архыз обежал все ближние склоны, исследовал не одну звериную тропу, спускающуюся с гор к воде, рискнул подняться в пихтовые леса и уже совсем потерял было надежду отыскать след знакомого оленя, когда наконец по особому крику сойки, предупреждающему крику, понял, что кто-то спускается поперёк крутосклона и этот кто-то не постоянный здесь жилец, а пришелец, за которым бдительная сойка не могла не присмотреть, как дворник присматривает за новым человеком, вошедшим в его жилищное ведомство.
Архыз сделал охотничий полукруг и наткнулся на запах. Шёл Хоба, в этом овчар ни капельки не сомневался.
Спрятавшись, он выждал, пока рогастый приятель не появился в поле зрения и потом уже сидел под рододой, желая, видимо, попугать или, может быть, хотел пропустить мимо и идти следом, но олень оказался более чутким и своим манёвром расстроил игру.
Дальше произошло все точно так, как случалось уже много раз.
Архыз пружинисто обежал своего друга, заключил его в круг и, раскрыв пасть, начал делать вид, что нападает и сейчас вот съест. Олень принял игру, ловко поворачивался, и с какой бы стороны ни оказался прыткий овчар, перед ним непременно возникали грозно приспущенные рога. Так поиграв, они успокоились, овчар полежал немного, Хоба прошёлся невдалеке, оборвал в двух-трех местах веточки ольхи, а тем временем Архыз встал и деловито побежал краем рододы вниз, Хоба пошёл за ним. Где овчар, там и Человек.
Долина горной реки встретила собаку и оленя не только шумом падающей, грохочущей, играющей воды, но и приятной картиной. Здесь все было другим, чем в лесных урочищах на спуске с перевалов — веселей, чище, светлей и даже звучней. Иной, более тёплый мир.
Деревья в долине стояли редко, и потому кроны их разрастались округло и пышно. Не чёрные пихты, не железные самшиты, а светло-зелёный орешник заполнял пространство между деревьями. Яркие поляны в цветах и зеленой траве кое-где украшали берег реки. Много диких груш и яблонь манили ещё не созревшими плодами, а черешни — так те стояли просто чёрные от мелких, уже спелых ягод. И всюду пели чижи, зяблики, славки, пеночки, синицы, лазоревки, крапивницы. Редко, звучно и как-то царственно щёлкали дрозды. Словом, радостный лес, полный жизни и весёлых красок.
Отличное место для дружеских встреч.
Солнце надёжно прорвалось сквозь облака, высветило поляны с диким клевером и все многоэтажное строение из зелени, воздвигнутое природой. Дерзкие лучи пробрались до самой земли, а ударившись о воду, родили такой каскад голубизны и многоцветных радуг, что смотреть больно — весело и больно, потому что все эти радуги над маленькими водопадами и порогами из чистейшей воды переливались красками и только-только не пели.
Весёлый, резвый Архыз опередил оленя, выскочил на пригорок, где синий дым выдавал присутствие человека, и, обежав костёр и хозяина у костра, снова исчез в лесу.
— Ну, кажется, нашёл, — вслух сказал Александр. Он тут же отставил кружку с чаем, поднялся, накинул на плечи куртку и пошёл через орешник за овчаром. Но, подумав, вернулся, достал из рюкзака хлеб и соль, посолил краюху и только тогда зашагал навстречу оленю, которого очень хотел видеть.
Хоба стоял за стволом толстой груши и ждал.
— Сюда, Хоба, ко мне, — приговаривал Молчанов, остановившись в десятке метров от оленя. В протянутой руке у него лежал хлеб. Аромат желанного лакомства щекотал ноздри рогача. Разве выдержишь такое искушение?
Через две минуты Человек и олень стояли уже рядом. Хоба смачно жевал, пуская слюну, а Молчанов гладил его шею, рога, осторожно ощупывал припухлость на груди, скрытую мохнатой шерстью, и что-то весело говорил. Звук его голоса успокаивал, убаюкивал оленя. Вот теперь он не ощущал себя одиноким! И не тоску, не грусть выражали сейчас его удивительные, блестящие глаза, а полное удовлетворение, покой и тихую детскую радость, какая бывает у мыслящих существ в ту пору, когда все вокруг хорошо, чисто и спокойно.
— Идём к моему очагу, Хоба, потолкуем про жизнь…
Молчанов погладил ещё раз тёплую морду оленя и пошёл вперёд.
Хоба двинулся следом, опустив рогастую голову.
Архыз скакал, разумеется, впереди и только часто и преданно оглядывался. Все никак не мог поверить, что они вместе.
Ну что бы хозяин делал без него?
Ведь он нашёл-то! Он!
3
В то утро, когда Молчанов познакомился с новыми лесниками Южного отдела и с их начальником Коротычем, он весь остаток дня просидел у Бориса Васильевича.
Тема для разговора была.
С самого первого года, когда организовали заповедник, на его кордонах и в научном отделе главной конторы установилась атмосфера нетерпимости к людям, которые входят в границы охраняемой территории, чтобы поохотиться, срубить дерево или скосить траву. Главная цель у всех работников заповедника формулировалась предельно ясно: после долгих лет несомненной враждебности человека к любому дикому зверю установить на огромном пространстве заповедного Кавказа полный мир, начать эру дружеского, братского отношения к животным. А для этого прежде всего не нарушать сложившихся условностей в природе, предоставить ей развиваться естественным путём, а когда нужно, то помогать животным, попавшим в беду.
В последние годы, покончив с браконьерством, зоологи и лесники заповедника добились своего: тишины в резервате. Это ведь первое условие для нормальной жизни диких зверей, для сближения их с человеком. Опыт приручения отдельных дикарей, начатый ещё Егором Ивановичем Молчановым, теперь продолжал Александр Молчанов. Этот опыт являлся частью главной задачи.
И вот — странная деятельность Капустина, постройка охотничьего дома, наконец, лесники, появившиеся в Южном отделе помимо желания руководителей заповедника. Здесь вдруг возникла какая-то очень деловая, суетливая обстановка, и что она сулила заповеднику, сказать было трудно. А в общем, мир и покой уже нарушены.
— Теперь, — говорил учитель географии Борис Васильевич своему гостю, — когда ты, Саша, сам увидел тревожные симптомы, я хочу высказать своё мнение о мотивах деятельности Капустина. Тут, понимаешь ли… В общем, я убеждён, что мысль построить в черте заповедника гостиницу для приезжих — я нарочно не называю этот дом охотничьим домом, потому что ещё не имею должных фактов, — такая мысль идёт от желания того же Капустина, а может быть, и некоторых других работников угодить каким-то очень нужным для них людям.
— Торговать заповедником? — нетерпеливо спросил Молчанов.
— Не исключено!
Александр задумался. Его открытое всем чувствам лицо помрачнело. Ситуация складывалась необычная. Это не та смертельно-опасная, но открытая до обнажённости борьба, которую когда-то вёл его отец с браконьерами, жадными до наживы. И куда сложнее, чем долгое и опасное сражение с Козинским, которое Молчанов все же выиграл. Как многообразна каста людей, воспитанных в духе полного небрежения к природе! Для них все живое на земле — в лесах, реках, степях — лишь средство потребления. Животные в глазах такого рода потребителей не делятся на травоядных и хищников, все многообразие фауны — от зубров до зайца — они объединяют одним словом — мясо. И многосложный лес — дубы, пихты, буки, грабы, клёны, тополя, ясени, берёзы, сосны, осины, ели — они для удобства называют мёртвым словом «древесина», а луговые и степные травы таким же мёртвым словом — «сено». Они не отличают дрозда от скворца, рябчика от перепела, черёмуху от жасмина, а пролетевшего чирка провожают тоскующим взглядом лишь потому, что он в небе, а не на обеденном столе. Когда их пытаются усовестить и заводят речь об оскудении природы, они неопределённо улыбаются и произносят фразу из мещанского обихода: «На наш век хватит». Что «ихним» веком жизнь не ограничится, а будет продолжаться бесконечно долго, и что в этой жизни непременно останутся жить их дети, внуки и правнуки, — это как-то выскальзывает из сознания.
Но одно дело — рассуждать об отношении людей к природе вообще, другое дело — видеть перед собой определённое лицо. Вот Виталий Капустин. За время пребывания на туристских тропах Кавказа разве не полюбил он природную красу? Можно было думать, что любовь эта — на всю жизнь. Потому и пошёл в университет, проявил способности. Все это жизнь, правда. И тут же кривые капустинские ходы, наём подозрительных людей, охотничий дом, нарушение законов охраны. Словом, разрушительная деятельность. Как это совместить, связать в одно целое? И как заставить самого себя думать, что нет у тебя ничего личного к Виталию Капустину, что неприязнь к нему только из-за разного подхода к делу, а нисколько не из-за Тани…
— Что задумался? — Борис Васильевич смотрел на него всепонимающими глазами. Саша не ответил, только вздохнул, а учитель сказал: — Вариант действительно неожиданный. Один из твоих руководителей в роли твоего противника. Нонсенс. Не очень-то просто поставить его на место, операцию он продумал, механизм запустил. Правда, пока ещё не было стрельбы, не пали звери. Предупредить всегда лучше, чем иметь дело с нарушением норм закона и морали. Ты согласен с таким утверждением?
— Я думаю, как мне поступить… Знаете, недавно Капустин просил у меня помощи. Что ж, помогу. И делу, и лично ему. Не позволю скатиться до преступления. Решено!
— Ты не один, Саша.
— Вы?..
— И мои товарищи из района. Они уже знают. Это отзывчивые люди, они помогут тебе в этом.
Молчанов улыбнулся. У Бориса Васильевича всегда много товарищей. Его бывших учеников можно встретить в городе-курорте, в райкоме, в прокуратуре.
Лишь в конце дня Александр зашёл к Никитиным.
Саша-маленький ещё не спал, возился на полу, где устало и разнеженно валялся сытый Архыз.
— Их теперь водой не разольёшь, — сказала Ирина Владимировна, с улыбкой поглядывая на мальчугана и собаку. — У нас ночуешь, Саша?
— Я на заре в лес ухожу, — сказал он.
— А ружжо возьмёшь? — тотчас спросил Саша-маленький.
Молчанов кивнул. Как же в лесу без ружья?
— И Архыза?
— И его тоже. А потом мы вернёмся. И ты опять будешь играть с ним.
Кажется, такой вариант устраивал мальчугана. Во всяком случае, он не протестовал.
Елена Кузьминична заговорила о том, что ей пора возвращаться домой, но хозяйка не хотела об этом и слушать. Тихонько от Саши она шепнула:
— Вот когда приедет Таня… Как же можно не увидеть её?
Между собой старые женщины уже обо всем договорились.
Разве они не достаточно хорошо знали мысли и чувства Саши Молчанова?
Ранним утром, едва начало светать, Александр ушёл, захватив и Архыза.
Он хотел проверить, здесь ли Хоба или уже отправился назад через перевал, а заодно посмотреть южное стадо оленей, много ли молодняка на пастбищах, и пройти по тропкам здешних лесников, чтобы сравнить потом положение на этих тропках с записями в их дневниках.
На подходе к перевалу, в самом верхнем течении реки, ровно через двадцать пять часов после выхода, Архыз привёл к хозяину общего их друга Хобу.
4
А где Одноухий?..
Мы оставили его в узком каменном коридоре после расправы с пурпурными гадюками, коварно напавшими на оленя.
Это сражение заняло всего несколько минут времени, но оказалось интересным не само по себе, а своими последствиями. Именно в эти напряжённые минуты произошло давно ожидаемое сближение старых друзей — оленя и медведя. Все дикое, насторожённое и подозрительное, что разделяло их и вынуждало Хобу сторониться Одноухого, после встречи в каменном коридоре поуменьшилось настолько, что если бы медведь тогда же последовал за оленем, тот позволил бы бурому хищнику идти рядом с собой, не убежал бы, а может быть, и остался с ним. Конечно, детская дружба, когда они сердечно и весело жили на молчановском дворе, вернуться уж не могла, но взаимное доверие меж ними, несомненно, окрепло. Хоба ушёл, оставив медведя рядом с разорванными змеями, их пути-дороги разошлись, пространство снова разъединило зверей, но в памяти оленя и медведя укрепилось что-то очень важное для взаимных отношений в будущем.
Между тем Одноухий имел все основания быть довольным и битвой с гадюками, и своим не совсем обычным обедом. Покончив с едой, он лениво поплёлся сперва по следу оленя, а потом захотел пить. Спустился к реке и так увлёкся спелой черешней, которая попалась ему на тропе, что не заметил, когда наступил вечер. Сытый, довольный, он залёг на ночь, не отходя от дерева, где осталось ещё много сладкой ягоды.
Ночь эта получилась для него крайне беспокойной.
Медведь просто забыл, что находится не в своих владениях, что здесь, как и на северных склонах гор, пастбища и угодья давно распределены, узаконены среди множества хозяев, которые гневаются, если к ним приходят незваные гости. Если же гости проявляют ещё и упрямство или оспаривают законность владений, тогда возникают конфликты.
Окрестности реки, вся неширокая долина, где произрастало множество плодовых деревьев, где на болотистых полянках росли превосходные репешки, называемые «кабаньей радостью», — вся эта дремучая, горами загороженная глухомань вот уже три года подряд являлась родовой вотчиной огромного, необычайно вспыльчивого кабана с голым пожелтевшим пятном на правом боку. Когда-то этот драчун и задира встретил на тропе у старого аула двух студентов-биологов, проходивших практику в заповеднике. Естественно, чужие существа не понравились хозяину долины, он загнал их на тоненькую осину и, не успокоившись на полупобеде, стал раздирать своими клыками ствол, чтобы повергнуть дерево и окончательно свести счёты со странными пришельцами. Студенты почувствовали, чем это пахнет, — они не имели с собой оружия, кроме ракетницы, которую могли использовать, если заблудятся. И тогда, спасая свои жизни, один из них выстрелил в кабана ракетой. Зелёный брызжущий огонь чуть не свёл драчуна с ума, в глазах его засверкали молнии, бок обожгло, и он без памяти удрал.
С той поры кабан и носил на боку жёлтое пятно ожога. Местный лесник, знаток животных, в своих донесениях не зовёт его иначе, как кабан «С приветом», за вздорный характер и нелогичные поступки.
Встреча с горячей ракетой постепенно забылась, но характер у секача с возрастом не стал лучше, за это время он сумел подчинить себе полдюжины кабанов помоложе и целое стадо свинок с поросятами. Теперь он, как восточный владыка, монархически правил подданными, охранял владения, не жалея ни себя, ни, тем более, своих соплеменников.
И тут вдруг медведь. Чужой медведь.
Разве можно согласиться с посягательством на свои владения?
Одноухий сладко потягивался под черешней среди наломанных им веток с ягодами и меньше всего думал об опасности, когда его тонкий нюх почувствовал острый запах свинарника. Кабанье стадо в полном молчании спускалось к реке через каштанник. Лобик был сыт, благодушен, он не хотел войны и втайне надеялся, что стадо минует его. Медведь есть медведь. Но Лобик не знал драчуна «С приветом», его дружины. И вот, пока он раздумывал да прикидывал, секач уже выдрался из леса и на мгновение замер в двадцати шагах от Лобика. В густой тьме слышалось тяжёлое сопение, блестели глазки и чавкали по мягкой земле нетерпеливые копытца. Стадо сгрудилось.
Если бы Одноухий видел своего противника днём!
Изощрённая природа, создавая кабанов-секачей, кажется, немного перемудрила. Она прежде всего изваяла длинноносую морду с жёлтыми трехвершковыми клыками по сторонам жадного рта. Клыки, естественно, не умещались во рту и выступали наружу. Жёсткая щетина топорщилась на очень большой голове с маленькими ушами и ещё более маленькими, глубокими глазками. На грудь и передние ноги приходилось не менее двух третей всех мускулов, костей и щетины, и лишь остаток пошёл на поджарый живот, тонкие задние ножки и крысиный хвостик. Получилось нечто асимметричное — головастик с четырьмя ногами, торпеда, нацеленная вперёд. Когда такой секач шёл через болото, его передняя несоразмерно тяжёлая часть постоянно тонула, и он носом рыл тину и грязь, в то время как лёгкий зад взбрыкивал на поверхности. Под толстым черепом у кабана кое что соображал злой, маленький, агрессивный мозг тем злее, чем меньше в желудке пищи.
Вот такой красавчик стоял перед Одноухим, сопел и наливался злостью, а по обе стороны от него вытянули носы клыкастые вассалы, готовые по первому знаку своего грозного монарха броситься на противника.
Их воинственность Лобик не увидел, а почувствовал. Семеро на одного. И в темноте. Не лучше ли, так сказать, заранее ретироваться? Хотя медведь не был трусом и знал свою силу, трезвый расчёт подсказал Одноухому, что на этот раз момент наступает горячий, будет сеча, и ему достанется, даже если он и одолеет.
Не дожидаясь, пока «С приветом» даст сигнал к атаке, медведь поднялся на дыбы, огромный, тяжёлый, и, увидев, что противник не дрогнул, в два прыжка очутился на нижней ветке черешни, оставив неприятеля, как говорится, с носом.
Визг и вопли огласили ночную долину. Секачи, достигнув дерева, бесновались буквально в двух метрах под медведем, удобно устроившимся на толстой развилке. От несчастного ствола полетели щепки. Хрюканье, визг, крики боли при столкновении, царапанье, сопенье наполнили долину. Все стадо, голов до сорока с молодняком, столпилось под черешней. Свинки только мешали бойцам, те ещё более свирепели и поддавали клыками своих, а осторожный Лобик грозно ворчал над головами одураченных кабанов и скалил хищную пасть, показывая, чем он вооружён. Словом, подливал масла в огонь.
Он догадывался, что кабанам не под силу свалить это толстое дерево, сколько бы они ни рвали ствол. Знал наверняка, что они не достанут его, потому что природа очень предусмотрительно не дала им способности лазать по деревьям. Словом, он находился в безопасности, как в крепости, осаждённой войском. Другое дело — как долго может продлиться осада. Это уже зависело от упрямства кабанов. А упрямства им не занимать.
Прошло порядочное время, но секачи не унимались, и пыл их не остывал. Сам «С приветом» не один раз вставал на задние ноги и перебирал передними копытами по стволу черешни. Тогда его злые глазки сверкали очень близко от медведя, и Одноухий грозно ляскал зубами, сердясь уже не на шутку. Достать бы. Остальные секачи возбуждённо бегали вокруг дерева, время от времени царапали ствол, бросались на свинок, если они нечаянно приближались, и вымещали зло на них. Тут же чавкали, рыли землю, отыскивали среди веток ягоды, потому что война войной, а кормиться надо.
Стало светать. «С приветом» и не думал уводить стадо. Лобик сидел молча, только нос у него двигался, улавливая свежие запахи. Когда он изменял положение тела, секачи настораживались, словно ждали — вот сорвётся.
Он облазил все нижние ветки, подыскивая более удобные для отсидки, но, по совести говоря, везде тут было неудобно. Уже болели лапы и ныли застывшие мускулы, ведь они привыкли к движению. Вскоре почувствовался голод.
Лобик стал обрывать ягоды. Подтягивал ветки, но они ломались, ягоды сыпались вниз, там сразу же начиналась свара, визг, медведь не столько питался сам, как кормил неприятеля. Но что поделаешь, неизбежные потери… Впрочем, одной черешней все равно сыт не будешь. Одноухий все более злился, потихоньку ворчал, забираясь все выше по мере того, как обирал ягоды вокруг себя.
Его положение час от часу становилось все более незавидным, если не сказать отчаянным. Уже за полдень — и все то же. Боль в лапах и во всем теле от неудобства усиливалась.
Попробовал было спуститься. Осторожно держась за одну ветку, он прошёл по другой подальше от ствола. Ветка клонилась под тяжестью тела все ближе к земле. Лобик глянул вниз. Вот они! Семёрка секачей тесным кругом стояла точно под ним и глаз не спускала.
И вот тогда случилось нечто такое… Нельзя утверждать, что Лобик созорничал, скорее, сделал это по необходимости, не учитывая, как отреагируют неприятели. Словом, вниз полилось, и тёплое, пахнущее медведем, обрызгало все кабанье войско. Ответом был такой взрыв ярости, что медведь благоразумно отвалился ближе к стволу. А кабаны бились внизу друг с другом, падали, визжали, хрипели, и уже не на медведя было повёрнуто их вполне законное негодование, а друг на друга: их спины, щетина, уши — все ужасно пахло медведем…
«С приветом» кое-как навёл порядок в своём воинстве, но долго ещё и он сам и другие секачи катались по взрытой земле, очищая с себя скверну.
Не жди пощады, медведь!..
Лобик сидел теперь тихо и затравленно. Шли часы. Вот попал!
Уйдут они к вечеру или не уйдут?
Одноухий чувствовал, что до вечера ему не усидеть. Значит, будет битва, которой медведь так не хотел.
Он решил прыгнуть прямо в кучу сгрудившихся секачей. Лобик осторожно прошёл по толстой ветке, зорко глянул вниз и только тогда заметил какое-то беспокойство среди секачей. Удержавшись от прыжка, Лобик втянул воздух. Да, сюда идут. Запах собаки. И того самого оленя. И Человека, которого он сопровождал. Ну, кабаны…
Секачи нервничали. Их длинноносые морды все, как одна, вытянулись в ту сторону, откуда накатывался запах. Свинки с поросятами враз исчезли.
Одноухий из-за густой листвы не видел края поляны. Поэтому не понял, почему вдруг «С приветом» кинулся поначалу вперёд, а затем взрыл передними копытами податливую землю, развернулся и с нутряным хрипом в горле, явно устрашась новой опасности, бросился в противоположную сторону, увлекая за собой оробевших секачей.
Осада кончилась неожиданно. Медведь мог спуститься.
Но он не торопился.
Он не видел ещё Архыза, хотя по запаху знал, что тот здесь. Архыз действительно стоял на краю поляны и с любопытством оглядывал черешню, где что-то копошилось и ворчало. Вряд ли овчар своим появлением устрашил кабанов, тем более такого героя, как «С приветом». Но из леса все более явственно стал доноситься запах Человека и ружья, это и послужило причиной их бегства. Тот же запах, все-таки устрашающий запах, обеспокоил и Лобика. Он поднялся выше и, крепко уцепившись за ветки, стал ждать.
Авось пронесёт.
Но Архыз уже вертелся под черешней и недоуменно заглядывал наверх.
Чего, приятель, не спускаешься? Друзья пришли.
Несколько часов назад, повозившись со своим оленем, Молчанов решил пройти лесниковой тропой через увал от верховьев одной реки к другой. Шли трое — Архыз впереди, Хоба замыкал шествие и никак не хотел отставать.
Едва перевалили увал, как Архыз стал проявлять нетерпение, и Александру раза три пришлось в приказном порядке возвращать овчара, так и рвавшегося вперёд. Дело в том, что он уже напал на след кабанов, недавно прошедших здесь. На спуске к реке овчар все же вырвался из-под опеки хозяина и рванулся вперёд. Вот почему он первым высунулся из кустов, внеся смятение в ряды секачей, осаждавших черешню. Тогда же он учуял и Лобика на дереве.
Послышался хруст веток. Подошёл Молчанов.
— Что там? — тихо спросил он Архыза и спустил предохранитель карабина.
Хоба мгновенно улизнул в сторону. Военные действия с применением ружья — не для его характера.
Александр выглянул. Поляна была пустой. Вся изрытая, загаженная, она походила на стойло у свинарника. И пахло так же. Архыз все крутился под самой черешней.
— Ушли, не дождались, — сказал Молчанов, успокаиваясь, и в это время поглядел на черешню. — Ушли, да не все. — Он вскинул на всякий случай карабин.
Архыз дружелюбно вилял хвостом.
— В чем дело? — Александр опустил ружьё, всмотрелся получше. Широкая улыбка осветила его лицо. — Лобик, как же ты?
Следы клыков на стволе, сорванная кора, истоптанный луг, медведь, вцепившийся в ветки дерева чуть не на самой верхушке, — все стало понятным. Смешно! Такой большой, сильный, и вот…
Молчанов отошёл подальше, положил карабин, сверху рюкзак и сам сел в стороне, отозвав Архыза.
— Слезай, Лобик. Не бойся, трусишка. Их уже нет. Ружья тоже нет. Слезай!
Запах ружья действительно исчез. Запах Человека и собаки ослабел. Сидеть на ветках уже не было сил. И Лобик стал спускаться, скользя когтями по разорванной коре.
Слезал Лобик задом, все время отворачивая морду в сторону, чтобы видеть, что его ждёт. На земле тихо. Человек смирно сидел в стороне. Ладно. Коснувшись земли, медведь хотел сразу же стыдливо бежать, но оказалось, что бежать-то уже не может. Лобик встал на все четыре, качнулся и… устало лёг. Как приятна, как мягка и покойна земля! Он вытянул шею, лёг плотнее. Что-то кружилось перед глазами, мурашки сковали лапы, спину… Столько в воздухе! Вот и слабость.
Лобик устало закрыл глаза.
Молчанов подошёл с хлебом.
— Возьми, Одноухий, подкрепись.
Медведь потянулся, достал хлеб, стал жевать, не меняя положения. Глаза его постепенно очистились от мути. Он глубоко вздохнул. На земле…
Молчанов отошёл. Архыз сидел возле рюкзака и с явным недоумением следил за своим бурым другом. Больной, что ли?..
Лобик встал и, нетвёрдо переступая, заковылял через поляну. Остановился, опять лёг.
Кусты перед ним раздвинулись, оттуда вылезла рогастая голова Хобы, который отныне совсем не боялся медведя.
Отдохнув, Лобик пересёк поляну и, не оглядываясь, скрылся в лесу. Исчез и Хоба.
— Никуда они не уйдут, — уверенно сказал Архызу хозяин. — Пусть отдохнут в тишине. И мы тоже посидим, пообедаем.
Он по-мальчишески хмыкнул:
— Вот какие бывают дела!
Глава восьмая ПЛЕНЕНИЕ ОДНОУХОГО
1
Отсюда до кордона лесника Петра Марковича Семёнова считалось не более пяти километров. До охотничьего дома — шесть.
Два часа ходу.
Молчанов с Архызом шли не спеша, стараясь не уклониться от лесниковой тропы, которая спокойным полукольцом опоясывала отдельно стоявшую гору и, минуя непролазную заросль рододендрона, выводила прямо на перемычку к другой горе.
Вот здесь-то Архыз и завилял хвостом.
— Где они? — спросил хозяин и проследил за взглядом овчара.
Сквозь зеленую занавеску лиан проглядывали блестящие концы рогов. Хоба ждал их. Когда они прошли, он тоже вышел на тропу и поплёлся следом. А вскоре отыскался и Лобик.
— Ладно, — сам себе сказал Молчанов. — Я вас все-таки сведу…
Он не знал, что судьба уже сводила медведя с оленем — там, у перевала, где пурпурные гадюки.
Тропа спустилась в долину Ауры, сделалась шире, домовитей.
В стороне от реки и чуть выше, на берегу тощего в это сухое время, но кристально-чистого ручья, стоял дом Петра Марковича — бревенчатая пятистенка под чёрной от времени дранкой. Большой участок редкого грушняка и луга вокруг дома был обнесён жердевой оградой. Зеленела на огороде капуста, тёмная ботва картофеля подходила к густому осиннику у ручья. Хороший огород.
На лавке возле дома сидел Семёнов, а рядом дымил самокруткой лесник Бережной.
Они встали. Семёнов приподнял фуражку, дядя Алёха поклонился с особенным уважением.
— Никак, с перевала? — дружелюбно спросил он. — И когда только успели? Кобель ваш не кинется?
Архыз близко не подошёл, глянул раскосо на новых людей и лёг поодаль, будто все дальнейшее его не касалось. У сарая вертелась и бесновалась на цепи дворовая собака лесника. Семёнов цыкнул на неё, собака юркнула под сарайные слеги и теперь высматривала оттуда, изредка взлаивая от глухого негодования.
— Тут недалеко ходил. — Молчанов скинул куртку, прислонил к стене карабин. Он был полон впечатлений от только что случившегося и сразу взялся рассказывать, как кабаны загнали на черешню матёрого медведя.
Семёнов оживился, спросил:
— Это сразу за Круглой? — Так называлась близкая отсюда гора.
— Как раз где большая черешня у реки. Там все истоптано кабанами.
— Да ведь он попал на угодья моего срамотника желтобокого! Ну который «С приветом». Я в дневнике о нем писал. Тот ещё деспот! Он и тигру загонит, не токмо медведя. Только вот что непонятно, Александр Егорыч: у меня в тех местах ни одного медведя нету. Они у меня правее живут, километров в восьми от кабаньего царства.
— Новичок. Мой медведь туда пришёл, Лобик его кличка.
— Твой? — Лесники переглянулись.
— Ну, есть такой. Отец ещё малышом отыскал, он у нас воспитывался, а потом в лес ушёл.
— Да ведь это когда было-то! — Семёнов вспомнил разговоры, которые слышал уже давно. — Если тот медведь и остался жив, дикарём давно сделался… Какой же он твой?
— Дикий или не дикий, а хозяев помнит. И со мной он в дружбе. С рук иной раз кормлю.
— Ну это ты… — Семёнов хмыкнул.
Снова вылезла лесникова дворняга и прямо зашлась лаем. На весь лес, да с каким-то особенным подвыванием. Архыз поглядывал то на неё, то на хозяина, но Молчанов не замечал напряжённого взгляда овчара.
— А ведь она на ведьмедя лает, — вдруг сказал Бережной.
— Какого там медведя? Цыть, глупая! — Семёнов привстал, но дворняга прямо заходилась. — И в самом деле, чтой-то она?..
— Боюсь, что Лобика учуяла, — смеясь, сказал Молчанов. — Он как раз за мной шёл. Не хотел отставать, архаровец, лежит сейчас где-нибудь за кустом и собаку твою с ума сводит.
— Неужто он и жилья не боится?
— Нет. Если его не обижают, запросто и ближе придёт.
— Лучше не надо, Александр Егорыч. Корова на глаза ему попадётся, не удержится от соблазна, задерёт. Тогда я тебе счёт… А глянуть на него охота, все же новенький зверь в моем обходе.
— А вот мы сейчас и глянем. — Молчанов осмотрелся. — Дал бы ты мне, Маркович, две посуды каких-нибудь да съестного, хлеб у меня кончился, выманили звери.
Семёнов кликнул жену, сказал ей насчёт варева, а сам сходил в сарай и принёс ведро и бадейку. Дворняга все подвывала, а вот Архыз лениво ушёл за изгородь и скрылся. Лесник плеснул в бадейку супу, вывалил картошку. А в ведро Молчанов набросал куски хлеба.
— Это другому приятелю моему, оленю, — сказал он.
— Значит, у тебя целый зверинец. — Семёнов уже вертел в руках бинокль. — Может, винтовку все же взять? Мало ли…
— Вы вот что… — Александр осмотрелся. — Зайдите в сарай и дворнягу уведите, чтобы не смущала. Оттуда все видно. А я поманю медведя и оленя вон на ту поляну. Обзор хороший.
Он взял ведра и пошёл к лесу, всего двести метров или чуть больше. Поставил бадейку, прошёл шагов пятьдесят в сторону и там с ведром в руке стал ждать. Архыз выскочил откуда-то, подбежал к ногам, повертелся около хозяина.
— Ложись, ложись, — приказал Александр. — Знаю, где был. Сплетничал. Подождём вместе.
Ждали долго, должно быть, с четверть часа. Первым вышел Хоба. Смело подошёл, но метра за три до Архыза выгнул шею и потряс рогами. Овчар понятливо встал и отбежал подальше. Чтобы не смущать.
Молчанов протянул хлеб.
— Бери, Хоба, ешь. Твоя доля.
Олень потянулся, мягкими губами взял хлеб. Тогда Молчанов уселся в траву и поставил около себя ведро. Хоба разохотился на лесников хлеб, жадно ел, посматривая на человека и собаку.
Что-то произошло в той стороне, где стояла бадейка. Хоба вскинул голову и насторожился.
Бурая туша незаметно отделилась от стены леса. Лобик ещё некоторое время стоял принюхиваясь, как делал это, когда оказывался вблизи ловушки или капкана, но тут он увидел и почувствовал Молчанова и, вероятно, успокоился.
И все же не сразу принялся за еду. Обошёл бадейку со всех сторон, приблизился, тронул её лапой, лёг и полежал несколько минут, облизываясь. Словно ждал — не взорвётся ли, а уж потом поднялся и сунул свой длинный нос в похлёбку, от которой так хорошо пахло.
— Сиди, Архыз, — приказал Молчанов, а сам поднялся и, оставив оленя над ведёрком, пошёл к Лобику.
Он знал: из сарая сейчас хорошо видят обоих зверей и его с собакой. Он хотел доказать лесникам, что слова о дружбе с двумя дикарями — не пустые слова.
А в сарае действительно не сводили глаз с оленя и медведя. В бинокль зрители наблюдали за каждым их движением.
И вдруг Бережной не сдержался.
— За-ра-за! — тихо пробурчал он, узнав огромного медведя, который в своё время мог бы стать сто четырнадцатым, но ушёл с двумя пулями в теле и, оказывается, выжил.
— Чего ты? — Семёнов оторвался от бинокля.
— Так… Ты смотри, какая кумедия.
Александр был в пяти метрах от медведя, без ружья, с голыми руками. Даже Архыз не шёл с ним. Лобик поднял перепачканную морду. Ждал и не убегал. В бинокль было видно, как шевелятся губы у научного сотрудника, он что-то говорил медведю и улыбался. Бесстрашный человек.
Семёнов потянулся к винтовке, оттянул затвор.
— Ты что? — хрипло сказал Бережной. — Смотри, Молчанова не хлестни.
— Я так, на всякий случай.
Можно понять лесника: впервые в жизни он видел, как человек подходит к дикому медведю, как говорит с лесным зверем. Чудо!
Тем временем Александр подошёл вплотную к зверю, протянул руку, положил её на широкую спину медведя. Лобик чуть пригнул голову, сторожко смотрел жёлтыми глазами на человека, но даже не шелохнулся.
— Ешь, ешь, дружище, — сказал Молчанов, и медведь, будто поняв, действительно нагнулся, стал шумно хватать картошку и чавкать.
Хоба и Архыз затеяли было беготню, но оленю все же не понравились приметы близкого жилья, и он убежал в лес, чтобы наблюдать из безопасного места.
Семёнов опустил бинокль.
— Вот какие дела-то! — сказал он, очевидно ошеломлённый всем увиденным. — А мы толкуем — дикие…
— Ты рога у оленя приметил? — спросил дядя Алёха. — Чудные рога!
Медведь поел, вылизал бадейку, даже покатал её по лугу. Молчанов взял посуду. Лобик потянулся было за ним, но тут же чего-то испугался и отскочил. И пока человек ходил ещё за оленьим ведром, гремел посудой и шагал к дому, он стоял недвижно и смотрел, смотрел. Или надеялся, что ещё принесут? Уже от дома Молчанов оглянулся. Медведя на месте не было. Ушёл.
Лесники ждали у сарая.
— Век бы не поверил! — Петро Маркович чиркал спички, закуривал. — Всю свою жизнь в лесу, а такого… Как не боишься, Егорыч?
Александр засмеялся.
— Я ж его маленького ещё кормил. Чего бояться-то? Помнит или не помнит, а поверил, что зла не сделаю. Доверчивый зверь.
— Вы ему не сделаете, а он-то небось… — Дядя Алёха с явным сомнением качал головой. — Все ж таки хычник.
— У этого хищника пулевые раны в бедре. Вот на того мерзавца он пойдёт, тому он выдаст, будь здоров, — с чувством сказал Молчанов, не подозревая, что угодил точно в цель.
— А я смотрю, смотрю, и никак не доходит — где ж у его второе ухо? — Бережной насильно заулыбался. — Иль отсекли в детстве для приметы?
— Рысь оторвала. — Александр устало сел на лавку. — Если медведь тут останется, ты посмотри за ним, Петро Маркович, не обижай. А насчёт коровы я тебе так скажу: зря в лес не пускай, следи. Мало ли что…
— Это точно, Егорыч. От соблазна подальше. Ты, как я слышал, у меня побудешь? Вот вместях и походим, доглядим твоих зверей. А сейчас пошли в хату. Чую — обедом уже пахнет. Давай, Алексей Варламыч, за компанию.
— Вам, Бережной, свой обход уже определили? — спросил Молчанов.
— Жду не дождусь! — Дядя Алёха смущённо погладил лысую голову. — По хорошему делу давно скучаю.
— А тут вы тоже по делу?
— Лесничий послал, велел познакомиться, лесным воздухом подышать, ну и опыт перенять.
— Завтра мы с им пройдём по тропам, — пояснил Семёнов. — А вот насчёт обходов, вроде у нас свободных не было.
— Значит, для особых поручений держат меня. — Бережной хмыкнул в бороду.
После обеда, когда Бережной вышел, Александр спросил Семёнова:
— Ты бываешь в охотничьем доме?
— А как же! Баба моя там печи топит и все такое. Могу показать, если интерес, Александр Егорыч.
— Сходим как-нибудь. А сейчас отдохнуть бы. Знаешь, ноги отбил, от самой зари сегодня.
Но отдохнуть не удалось.
В час радиосвязи Петро Маркович записал распоряжение. Александра Молчанова просили срочно прибыть в лесничество. Коротыч уже от себя добавил, что прибыл кто-то из Москвы и научному сотруднику надо ехать туда на совещание.
Молчанов выслушал новость без особого интереса.
— Какое-нибудь очередное мероприятие. В общем, получать ценные указания придётся. День-два, и я вернусь. Оставлю у тебя плащ и куртку, Маркович. Пойду налегке, благо погода.
В лёгком свитерке, с планшеткой и фотоаппаратом Александр Молчанов пошёл вниз по удобной торной дороге, нимало не подозревая, что его ожидает.
Отлучка, как он понимал, очень не своевременная. Столько забот, а тут…
2
Его ожидала поездка. Дальняя дорога.
Но этому неожиданному событию предшествовал разговор, затеянный Виталием Капустиным.
Днём раньше он прилетел из Москвы вместе со своим начальником Пахтаном, который решил, что летний отдых он может удачно совместить с командировкой. Отдельное лесничество заповедника с тисо-самшитовой рощей находилось прямо в городской черте.
Здесь он остановился, отсюда же Капустин связался с Южным отделом по телефону и спросил Коротыча, как дела и все ли готово в охотничьем доме для приёма гостей. Вот тогда лесничий в разговоре и упомянул, что у них сейчас Молчанов.
— Сколько он пробудет в Поляне? — нетерпеливо спросил Капустин.
— Во всяком случае, не меньше недели или двух. Остановился он на кордоне Ауры. Сказал, что оттуда удобнее ходить наверх.
— Вы лесников приняли? — спросил Капустин.
— Да. Они знакомятся с обходами, наблюдают животных.
— Погода в вашем районе?
— Сухо и тепло. Дожди только грозовые.
— Как дорога к Ауре?
— Можно проехать вездеходом.
Капустин уведомил, что он здесь со своим начальником и что они, вероятно, приедут на кордон с гостями или прежде их, поэтому свой «газик» Коротыч должен держать в готовности номер один. Лесничий сказал: «Есть!» — и на этом разговор закончился.
В тот же день Пахтан и Капустин осмотрели тисо-самшитовую рощу.
Эта уникальная роща занимала в глубине приморской долины редкий по красоте известняковый порог на лесистом склоне горы. Каменная ступенька когда-то передвинулась, немного сползла вниз и оказалась рассечённой глубокими трещинами. Роща обрывалась у реки крутым, а местами просто отвесным ущельем. Серо-зеленые зыбкие занавески из лишайников и чёрные листочки самшита делали рощу удивительно похожей на морское дно с фантастическими застывшими водорослями. Огромные тисы — некоторым из них было по пятьсот и более лет — уходили в небо, переплетались кронами, обрастали более современными лианами. Под ними всегда хранилась душная тень. Удивительные картины представляла зрителям эта роща.
Первобытная дикость, непролазность, хаотичность природы всего в километре от обжитых увеселительных мест приводили экскурсантов в тихий трепет. Рощу называли природным музеем, который чудом сохранился в окрестностях города, где постоянно жили или отдыхали сотни тысяч гостей со всех концов страны.
Посетители оставляли в Книге природного музея благодарные отзывы. Очень часто можно было прочесть пожелание: сюда бы ещё зверей для полноты картины…
Работники лесничества не преминули высказать ту же самую мысль Пахтану.
— А за чем дело стало? — сказал решительный начальник. — Разве трудно отловить в горах несколько туров, косуль, оленей? Сделать в роще вольер — и вот вам маленький зверинец. Представители кавказской фауны… Деловое предложение. Я готов помочь.
— В своё время здесь держали даже медведей, — подсказал Капустин.
— Можно и медведей, — тотчас ответил Пахтан. — Вот ты, Капустин, и распорядись, пусть в Южном отделе отловят медведя и доставят сюда.
Вечером, когда зашёл разговор об охотничьем доме, Капустин доложил, что там все готово, погода в горах хорошая и можно приглашать учёных и других гостей, да и самим полезно отдохнуть несколько дней в глухом уголке леса и даже поработать, если появится такое желание.
Тогда же Пахтан спросил, кого именно Капустин приглашает на кордон. Тот с готовностью назвал несколько сослуживцев из их отдела и ещё две фамилии, которые, как он выразился, «могут быть очень полезными для нас». Кстати, оба они являлись оппонентами на будущей защите диссертации Капустина. Но об этом он не сказал.
— Хорошо, — согласился начальник. — Пусть приедут.
Он не видел в этом ничего дурного. Напротив.
— Ещё одна необходимость, — сказал старший специалист. — В Воронеже послезавтра начинается семинар. Это по поводу испытания усыпляющих патронов для отлова и осмотра зверей. Хорошо бы послать туда одного из сотрудников Кавказского заповедника.
Пахтан кивнул. Почему не послать?
— Я сделаю такое распоряжение от вашего имени?
— Да, разумеется. Кого ты наметил?
— Здесь как раз сейчас находится научный сотрудник Молчанов. Вот его и пошлём. Молодой, энергичный биолог.
Такова коротко история радиограммы, после которой Александр Егорович Молчанов покинул Аурский кордон и спешно отправился в Адлер для полёта в Воронеж.
Капустин мог быть довольным. Посторонних вблизи охотничьего дома в эти дни не окажется.
Он все предусмотрел, и Пахтан легко утвердил его решение. Приедут не только учёные. Приедут друзья. Он им доставит удовольствие. А потом и они с готовностью помогут Капустину. Ну хотя бы при утверждении на более интересную должность…
Капустин подумал, что будет вернее, если о семинаре в Воронеже Молчанову скажет не он, а сам Пахтан. Улучив минуту, он спросил начальника:
— Вы позволите мне отлучиться на полдня?
— Личные дела?
— Я хотел проехать в одно наше охотничье хозяйство. Тут километров сто. Возьму у них пару хороших ружей, патроны, посмотрю, нельзя ли там побыть на охоте. Вы не будете возражать?
— Если позволит время…
— У нас есть несколько лицензий на отстрел.
Пахтан полагал, что речь идёт об отстреле в охотничьем хозяйстве, явлении вполне закономерном. И кивнул.
— Тут должен прибыть Молчанов. Я заготовил ему командировку и деньги. Чтобы успеть к сроку, ему надо улететь из Адлера сегодня ночью. Могу я оставить для него документы?
— Как найдёт меня Молчанов?
— Он знает ваш номер и гостиницу.
Капустин уехал, а вскоре явился Александр Егорович. Пахтану научный работник понравился. Деловой, знающий юноша. Когда Молчанов узнал о поездке, он заколебался и сказал:
— Здесь сейчас такая обстановка, что моё присутствие просто обязательно. Видите ли… я боюсь, что присутствие чужих людей…
— Чужих? Вы имеете в виду гостей? — Пахтан улыбнулся. — Вам надо успеть к началу, в Воронеже вы узнаете для себя много нового. Ваши здешние дела от вас не убегут, на той неделе вернётесь и наверстаете, если что срочное. А страшиться гостей нет оснований, тем более что я пробуду здесь ещё целых две недели. Поезжайте как можно скорей.
Явно смущённый отеческим тоном начальника, его ласковым приёмом, Молчанов попрощался и вышел. Он ещё надеялся встретить Капустина — и не увидел его. Он надеялся вернуться в Поляну — и не смог. На пути к Пахтану он только полчаса пробыл у Никитиных, перекинулся несколькими словами с Ириной Владимировной и с матерью да прошёлся по саду с Сашей-маленьким.
Выяснилось, что самолёт на Воронеж будет через три часа, надо успеть купить билет и как-нибудь известить своих близких, что уезжает на целую неделю. Впрочем, это он сделает, когда купит билет, из аэропорта. Да, ещё непременно надо сказать Борису Васильевичу.
Уже в аэропорту, так и не дозвонившись до Жёлтой Поляны, он бросился к остановке такси. Через семь минут Александр вышел у райкома партии, где работал один из учеников Бориса Васильевича. Ещё через десять минут он уже говорил по телефону с учителем.
— Я передам, кому нужно, — донеслось из трубки. — Не беспокойся. Постараюсь, чтобы сюда как можно скорее приехал Котенко. Будь уверен, мы начеку. И счастливо тебе, Саша!
3
Надо отдать должное организаторским способностям Виталия Капустина.
Поездка за оружием отняла у него всего несколько часов. Ещё до отъезда он успел встретиться с Коротычем и с лесничим соседнего, Западного отдела, договорился с директором чайного совхоза о тракторе и тракторных санях. Нетрудный разговор: разве хозяйственник, которому всегда нужны дрова и деловой лес и чьи угодья граничат с заповедником, станет терять дружбу с лесничими? Тут же, от лесников, Капустину стало известно, что в среднем течении горной реки Хаше, где совхоз держал пасеки, замечены следы медведя-шатуна. Значит, есть район, где можно отловить зверя.
Он срочно, в тот же день, вызвал Бережного и ещё двух лесников.
— Вот вам проверочное задание, — сказал строго. — За три — пять дней вы строите ловушку и берете здорового и видного собой живого медведя. Живого! Это поручение самого Пахтана. Кровь из зубов, но чтобы был медведь для зоопарка при заповеднике. Вознаграждение очень приличное. Полтораста рублей на брата. Выполните поручение — считайте, что вы прошли испытание, ваша служба будет отмечена.
— Ловушку ведь рубить надо, — неуверенно сказал дядя Алёха. Ему нравилась такая работёнка, но смущали сроки.
— Не будем рубить ловушку, Бережной. Возьмём металлическую клетку в тисо-самшитовой роще. Пристегнём к тракторным саням и быстро довезём куда надо. Устраивает?
Лесники видели эту клетку. Хорошая клетка. В ней долго, почти три года, содержался медведь на утеху публике, пока не околел по неизвестной причине. Если клетка, то дело упрощается.
— И место я уже подобрал, — энергично продолжал Капустин. — На правом притоке Хаше. Там как раз бродит большой шатун, свежие следы видели. Уточните на месте, у пасечника. О тракторе договорённость имеется, сегодня же за дело, мужики. Вопросы есть?
Вопросов больше не было. Придавил их Капустин своей энергией, настойчивостью. Деловой начальник.
— Тогда так. Сейчас здесь будет машина и кран. Вот записка. Поедете в рощу, погрузите клетку — и прямо на усадьбу чайного совхоза. Там трактор и сани. Придётся только пол сделать из хороших плит, чтобы не разворотил. Ну и дверку настроить на приманку. Не мне вас учить, как это делается. Все ясно?
— С таким хозяином не пропадёшь, ребята, — восхищённо сказал дядя Алёха, когда лесники уже тряслись в кузове полуторки. — Заводной мужик, так и горит у него… А ведьмедь им, видать, позарез нужон, смотри-ка, даже насчёт вознаграждения не забыли.
И дальше у лесников дело не стояло. Живо погрузили железную клеть на машину, в совхозе разыскали механика, он указал на старенькие, но крепкие тракторные сани. Там же, в мастерских, наладили падающую дверцу с приводом к приманке, а ближе к вечеру трактор с санями на прицепе уже громыхал по неровной, людьми забытой дорожке в долине Хаше, где когда-то, пожалуй ещё в начале века, проходила великокняжеская охотничья тропа.
Густой лес по сторонам дороги чутко слушал сердитое и шумное тарахтение редкого в заповедных местах трактора. Он двигался — и умолкали птицы, разбегались залёгшие в ольховых болотцах кабаны. Опасность!.. — кричали оглашённые сойки. Прижимались к веткам дубов весёлые дрозды и с удивлением, со страхом прислушивались к несусветному шуму и скрежету железному.
По руслу мелководного ручья, по камням, обкатанным водой, тарахтели, визжали гусеницы трактора и полозья саней. Лихой совхозный тракторист, ещё весной привозивший в эту глубинку ульи с пчёлами, не боялся неезженых путей. Все дальше от Хаше по притоку, все выше в горы, пока не сузилась долинка и не стали круче её террасы. Тогда он свернул прямо по кизиловым кустам на подъем и ехал, подминая подлесок, до яркой солнечной поляны, где лесники недавно заметили свежий след крупного медведя-шатуна.
Бережной показал, куда и как поставить сани. Задняя сторона их с дверцей приткнулась к метровому откосу, так что в дверцу надо было не подыматься, а даже немного спускаться от поляны. По сторонам ловушки стоял густой боярышник, лишь узкий проход среди колючих зарослей вёл прямо в дверцу.
Один из лесников сходил на пасеку. Она располагалась в одном километре от этого места. Принёс он оттуда полное ведро старых сотов. От ведра шёл заманчивый аромат выдержанного мёда. Другой лесник, как мог, завалил камнями полозья саней, натыкал зелёных веток вокруг клетки.
Сели перекурить. Махорочный дым поплыл по ветру, застревая в густом кустарнике. Из зарослей выскочила негодующая синица и, покачивая длинным узким хвостиком, прокричала что-то вроде: «У нас не курят!» На неё, конечно, не обратили никакого внимания. Пролетела семейка дроздов — молча, сосредоточенно, словно на похороны куда спешила. Лес молчал.
— Теперь бы свежей крови сюда, — задумчиво сказал дядя Алёха. — Он, понимаешь, ведьмедь то исть, любит, когда кровяной дух. Маскируйте это хозяйство, а я похожу с винтарем, может, кого невзначай…
Бережной перебрался на другую сторону ручья, отошёл подальше. В лесу он был как на домашнем огороде — все ему тут знакомо. Поднялся на увал, оттуда, пыхтя и отдуваясь, забрался на самый верх останца, огляделся и тогда только догадался, что они находятся совсем близко от Ауры: их ручей как раз начинался от перевальчика, за которым был уже обход лесника Семёнова. Кажется, в эти минуты он впервые подумал: а не молчановский ли медведь заявился в гости к пасечникам?
Дядя Алёха спустился с останца, бодрым шагом прошёл по лесу на перевальчик и наконец отыскал то самое, что ему хотелось отыскать: барсучью нору. По многим приметам старый браконьер узнал жилую нору. Валялись здесь заячьи косточки, примятая трава ещё не увяла, вокруг пахло тёплым зверем. Здесь барсук, спит-отсыпается в норе.
«Сто тринадцать медведей» отыскал все три выхода из барсучьей норы, запалил около двух костры, а сам спрятался поодаль, ожидая, пока из свободного выхода покажется хозяин, который не любит в своём жилище дыма.
Сонная мордочка зверя вскоре показалась из тёмного зева норы. Барсук ещё не понял, откуда напасть, он больше всего боялся, что это лесной пожар. Глазки его обеспокоенно моргали. Едва он высунулся, раздался выстрел. Зверь, точно подброшенный, дёрнулся и свалился на бок. Жизнь затихла.
Так совершилось первое убийство в заповедном лесу, где любому зверю до сих пор была гарантирована свобода, пища и жизнь.
Бережному всякие подобные переживания были абсолютно чужды. Он взвалил ещё тёплое тело на плечо и пошёл назад, через лес, через ручей на гору, где его дружки уже заканчивали протирать старыми сотами железные прутья клети, пол и особенно дверку.
— Ну вот и свежатина, — сказал дядя Алёха, сваливая добычу.
— Быстро ты, — заметил молодой лесник.
— Освежуй, сало нам самим пригодится, на него завсегда спрос, — приказал Бережной. — Хватит для приманки всего остатнего.
Уже поздно вечером лесники ушли к пасечнику.
4
«Сто тринадцать медведей» не ошибся в своём предположении. Тропа Лобика и его тропа пересеклись.
Одноухий не долго блуждал вблизи семеновского дома. А что там делать, если Человек с собакой, который снова стал его другом, как и в детстве, ушёл с Ауры раньше его, направляясь в ту сторону, где медведю показываться опасно? Олень тоже ушёл — тот самый рогач, которого Лобик признавал теперь не за возможную добычу, а за своего приятеля, связанного кровным родством.
В общем, он ещё немного потоптался в окрестностях Ауры и спокойно удалился за перевальчик, где почуял щекочущий запах мёда и стал бродить вокруг пасеки, вынашивая планы, как полакомиться запретной, соблазнительной пищей богов.
Потом он услышал шум трактора в долине ручья, человеческие голоса и новые запахи. Все это казалось поначалу скорее любопытным, чем опасным. Лобик кружил по лесу, стараясь понять, что происходит на ближней поляне. Звук далёкого выстрела не остался незамеченным. Шастая по лесу, он разыскал место трагедии и по следу человека, запах которого заставил подняться всю шерсть на загривке, почти дошёл до ловушки. Люди на ночь отсюда ушли, и изощрённое чутьё Лобика подсказало, в чем тут дело. Похоже, по его душу прибыли.
Разные ловушки Одноухому не в диковинку. Знал их хорошо. Не прошло и половины ночи, как Одноухий детально разобрался, что к чему. В дверцу он, разумеется, не полез, это для несмышлёнышей, но барсучье мясо очень хотел взять — и взял без всякого для себя риска и ущерба. Дело в том, что Бережной и его приятели подвесили тушку слишком близко к задней решётке клетки. Лобик разбросал маскировочные ветки, просунул меж прутьев когтистую лапищу и дёрнул приманку к себе. На другой стороне клети раздался стук упавшей дверцы, он вздрогнул, но мясо не выпустил, а, выждав немного, начал продирать его через прутья и успокоился лишь после того, как выудил наружу все до последней жилки. Неторопливо съел добычу, полежал, обошёл клеть со всех сторон, а на входе, около кустов, оставил отметину с неприятным запахом, как свидетельство самой высшей степени презрения к деятельности звероловов.
Удалившись в укромное место, Одноухий уже под утро уснул, нимало не заботясь, как его ночная работа отразится на нервной системе и настроении охотников.
Если бы он услышал все эти с яростью высказанные, сплошь непечатные слова, которые на заре раздались в лесу!..
— Вот он как нас! — бормотал дядя Алёха, стоя над слегка затвердевшей отметиной Лобика. — Надо же! Мясо взял, да ещё оскорбляет! Ну погоди, зараза, я тебя не так обману!
На совете лесников он молчал, а когда выслушал сбивчивые мнения товарищей, только покачал лысой головой:
— Это не такой ведьмедь, чтобы его запросто. Тут нужна хитрость на хитрость, мужики. Зверь дюже вумный, с образованием зверь попался. Вы вот что: налаживайте покуда приманку из мёда, а я пройду тут в одно местечко, к вечеру возвращусь, может, кое-чего придумаю.
Через лес, через невысокий увал, разделяющий два обхода, дядя Алёха двинулся на кордон Семёнова и близко к полудню спустился к огороду лесника. Здесь, ещё в лесу, снял с себя телогрейку и плащ и пошёл дальше в одной рубахе, заправленной в штаны. Возле дома устало опустился на лавку, закурил и подивился, что никто не вышел к нему. Тут же догадался: значит, ни Петра Марковича, ни его супруги нет дома. В дверной накидке торчала щепочка. Так и есть — никого.
Бережной вошёл в сени, снял с вешалки куртку и плащ Александра Молчанова и вышел, не забыв опять же воткнуть щепочку на место.
Собственно, за этими вещами он и приходил.
Будь хозяин дома, сказал бы, что переходил утром реку, упал и верхние его вещи уплыли. Дай, Петро Маркович, что-нибудь такое, через день-другой вернусь и занесу. Ну хоть вот эти, молчановские. Не отказал бы Семёнов, такой уж закон в лесу.
А когда никого в хозяйстве нет — и просить не надо. Вернёт и скажет, по какой причине брал.
Но Бережной не надел на себя взятых вещей. Напротив, нёс в руке на отлёте, чтобы не прилип к чужой одежде его дух, не нарушил хозяйского запаха.
— Ну вот, теперь хитрость на хитрость, — сказал он своим мужикам, вернувшись раньше задуманного времени. — Вы теперь и близко не подходите к ловушке, я такое сочиню, что уму непостижимо. И ежели ведьмедь на это не возьмётся, тогда без разговоров поедем назад и прямо скажем дельному малому, что не годимся мы, старые козлы, супротив этого шатуна и пусть пропадает наша премия от начальства или идёт кому другому…
Бережной бросил в ловушку серую курточку Молчанова. Потом проволочил по земле среди кустов и на входе в клетку изрядно потрёпанный плащ научного работника и накинул его на клетку, так что полы свисали прямо над дверцей. В самой клетке, теперь уже в центре, висел кусок нераспечатанных сотов. Прозрачные капли мёда изредка падали на укрытый листвою пол.
Лесники смотрели на все эти приготовления издали. Лица у них были скорее насмешливые, чем уверенные.
— Убей меня гром, попадётся, — сказал Бережной, подходя к ним. — А теперя, ребята, пойдём гонять в подкидного.
…Лобик ещё издали почуял знакомый запах. Ну вот, снова они рядом! Что Человек с собакой где-то поблизости, он уже не сомневался. Он пошёл на этот запах весело и смело, как идут в знакомый дом.
Одноухий постоял перед дверкой, даже поднялся на дыбы, чтобы дотянуться до плаща Молчанова, свисавшего с верха ловушки. Где-то близко и сам Человек, если здесь его одежда. Впереди? Там, где маняще белеет кусок пчелиного сота? Кто приготовил для него лакомство? Опять же его друг, Человек с собакой, который всегда имеет для Лобика какое-нибудь угощение и не скупится при встрече. Сделай ещё пять шагов, возьми.
Под тяжестью лапы скрипнула половая доска, Одноухий подался назад. Все здесь, в клетке, заставляло помышлять об опасности. И если бы не висела знакомая куртка, хранившая добрый запах… Он сделал ещё шаг к лакомству, но, прежде чем хватнуть соты всей пастью, осторожно слизнул несколько капель мёда с листочков на полу, раздразнил себя.
Наконец он тронул влажным носом полные соты. Ещё и ещё. Какой чудный запах! Что может сравниться с этим лакомством? Совсем убаюканная осторожность, ничего, кроме наслаждения. Лобик схватил приманку, потянул.
Тонкая проволочка натянулась.
Крючок на металлической защёлке подскочил.
Раздался короткий звук. Дверца захлопнулась.
Он смертельно испугался. Медовый сот упал. Теперь медведь уже не обращал на него никакого внимания. Он стоял, не в силах заставить себя тронуться с места, все ещё не очень понимая, что произошло, и в то же время весь уже во власти бесконечного страха, сковавшего его силу, мысль, взгляд.
Вдруг он развернулся на месте, встал на дыбы и всей тяжестью тела с размаху бросился на упавшую дверь. Железные прутья больно оттолкнули его. Лобик неловко повалился, вскочил и вновь бросился на дверь, схватил поперечный брус зубами, чтобы сразу вырвать его, но теперь боль пронзила зубы, в пасти возник вкус крови, куски раскрошенного клыка вылетели вместе с кровью. Плащ его друга тихо соскользнул на пол и кровь Лобика тёмными пятнами промакнулась на нем.
Неистовство продолжалось долго. Пожалуй, на всех железных прутьях содрогавшейся клетки остались клочки шерсти, кровавые метины, белая пена. Совершенно потерявший рассудок, медведь без конца сотрясал железо, гнул прутья, грыз половые доски, кидался из стороны в сторону, разминая на полу медовые соты, листья, щепки от досок. С каким-то сумасшедшим нутряным рёвом раздирал он молчановскую куртку и запах её — предательский, коварный запах — теперь не успокаивал, не усыплял, а только добавлял бешенства и силы. Медведь рвал и рвал примету человеческой подлости, чтобы хоть как-то выразить силу ненависти, порождённую этой подлостью.
К середине ночи он выдохся окончательно и без сил, почти без чувств растянулся на полу. Прямо у высохшего носа его, рядом с окровавленной разбитой пастью лежали раздавленные соты, но этот, недавно ещё такой прельстительный запах сейчас не вызывал в нем ничего, кроме глухого, бесконечного отчаяния.
5
Ещё шла ночь, и остаток её Лобик провёл в непрестанных попытках отыскать выход из клетки. Теперь он обходил стенку за стенкой, обнюхивал прутья и пытался найти хоть какую-то щель или слабое место, чтобы расширить узкие просветы, по ту сторону которых тихо спал лес, его лес, где свобода и жизнь. Он поддевал когтями доски, но от них отрывались только мелкие щепки. Он десятки раз исследовал дверь, тряс её двумя лапами, хватал пастью, пытался поднять, но она прочно сидела в пазах и только гремела, когда он раскачивал её, как гремят кандальные цепи.
В плену…
Чуть побледнело небо. Глаза лежащего медведя, наполненные безысходной тоской, смотрели на чёрные силуэты грабов и на светлеющее небо. Если бы мог он плакать, какими слезами оросил бы свою тюрьму! Если бы он мог выть, как воют таинственной ночью волки, — какие драматические звуки заполнили бы притихший лес и далёкое, бесстрастное небо! Если бы мог он разбить себе голову или броситься со скалы вниз, как сделал когда-то загнанный медведем олень, — ничто не остановило бы Лобика, который также предпочитал смерть позорному пленению.
И не страх перед смертью пугал его. Чувство это неведомо дикому зверю, который ежедневно видит смерть перед собой в бесчисленных её проявлениях. Его не отпускало ощущение пустоты, безысходности перед явным, чёрным предательством Человека-друга, заманившего в ловушку.
Когда он услышал шум шагов и приглушённые голоса, то не встал, не сделал ни малейшего движения, чтобы вырваться или напасть на своих лютых врагов. Кажется, он даже не видел, хотя глаза его были открыты, а сердце переполнено ужасом и ненавистью. И это его внешнее безразличие остановило лесников поодаль, испугало их сильнее, чем если бы встретил он их боевым рёвом, разинутой пастью и дикими прыжками за железной преградой.
— Готов! Попался! — воскликнул «Сто тринадцать медведей», и в голосе его сквозь радость удачливого охотника явственно послышался затаённый страх перед мохнатым пленником. — Ну, мужики, что я говорил? Игнат, и ты, Володька, дуйте за трактором, и поживей. Я останусь караулить своего ведьмедя, ведь это мой ведьмедь, сто четырнадцатый, подлец, самый что ни на есть хитрющий, всем зверям зверь! Топайте, братцы. Трактор сюда, и пусть там позвонят Капустину, обрадуют, и чтобы он живее гнал в совхоз машину и крант для подъёма.
— Дай хоть глянуть, что за зверь…
— Гляди, гляди, но близко не касайся, вы не больно доверяйте, он лежит, притворяется, а чуть что — и в лапах. Хитрован за троих! Те ещё лапы!
— Одноухий какой-то…
— Было, было, — быстро сказал дядя Алёха. — Это ему рысь оттяпала.
— Неужто он на ту одёжу прельстился?
— Вот что, мужики, — вдруг серьёзно, даже строго произнёс Бережной, — если хотите премию заиметь и вообще без неприятностев, начисто забудьте про одёжу, понятно? Не видели, не знаете, и все такое. Это я вам по-дружески советую. Ни-че-го! Не было никакой одёжи. Пымали на соты — и все. Потому как, если Молчанов узнает, не сносить нам головы. Молод, но горяч, понятно? Это мы его знакомого ведьмедя взяли, вот так. Мы-то в курсе, а вот он до поры до времени того знать не должон. И если кто из вас тявкнет, от меня он особо получит по всей норме и даже с довеском. Своей новой должностью я дорожу и вам дорожить советую. Договорились?
Лесники дружно закивали. Сказано — мертво, никто не узнает. Но, уходя, они только диву дивились, как это интересно получилось — на одёжу…
Затихли шаги. Бережной остался один на один с медведем.
Он сидел в трех шагах от клетки, курил, и едкий махорочный дым, давно знакомый, ненавистный Лобику страшный дым, с которым связано воспоминание о выстрелах и жгучей боли в теле, — этот дым тихо струился, достигал носа, но глубокая апатия, охватившая зверя, не позволяла ему найти силы для того, чтобы проявить всю глубину ненависти к человеку, и он никак не реагировал ни на мерзкий дым, ни на действия этого мерзкого существа. Взор медведя, недвижный, тусклый, нацеленный выше леса, в небо с зубчатой вершиной совсем недалёкого перевала, был неживым, абсолютно отрешённым взглядом. Пленник жил сейчас вне злого мира, который опутал его.
«Сто тринадцать медведей» докурил самокрутку, энергичным щелчком отбросил окурок и сощурился. Столь подчёркнутое равнодушие пленника не ускользнуло от него и наконец вывело из себя. Подумаешь, какая цаца! Лежит — и ноль внимания!
— Ну ты, хитроумный ведьмедь! Попался — и заскучал? Ничего, жрать захочешь, плясать перед народом пойдёшь, на пузе елозить будешь. Привыкай.
Одноухий ничем не показал, что слышит обращение. Только сухой нос его слегка зашевелился, видно, запах и голос человека все же раздражали его, бередили сознание.
Бережной покачал лысой головой, снял с плеча винтовку, поставил в кусты, а сам, что-то придумав, вырезал ореховое удилище, сделал на конце крючок и стал вытаскивать из клетки клочки разорванного плаща и куртки.
Лобик не двинулся с места, даже когда ореховый прут стал задевать его неопрятно взлохмаченную шкуру.
— А ну, посторонись, философ, я из-под тебя кое-что выйму! — крикнул дядя Алёха и, приблизившись чуть не вплотную к клетке, хлестнул медведя.
Все мгновенно переменилось.
Как ловко, как неожиданно и с каким страшным, просто отчаянным желанием мести пленник бросился на железные прутья своей тюрьмы! Раскрыв окровавленную пасть, обдав Бережного горячей слюной, он бросился на него так, будто их не разделяло железо. Клетка задрожала. В пяти вершках от лесникова плеча хватнули воздух острые чёрные когти. Бережной отпрянул, упал. Поднявшись, бегом бросился прочь, ругаясь и заикаясь от страха. Медведь сотрясал клетку, рвал железо когтями, зубами и наконец, снова обессилев, свалился с каким-то протяжным рёвом на пол. Упал и затих, лишь тяжело и трудно дышал.
Дядя Алёха нехотя возвращался к клетке. Он сделался таким бледным, что пегая борода его под тусклыми щеками казалась чёрной. Колени у него дрожали.
— Если бы не полторы сотни, я бы тебя… — Он взял винтовку и клацнул затвором.
К ореховой палке Бережной больше не потянулся. Собрал уже вытащенные тряпки, полез в кусты и где-то там их бросил. С глаз долой.
Одноухий лежал, вытянув лапы. Отяжелевшая голова его покоилась на лапах, взгляд опять потускнел и ничего не выражал.
Лесник благоразумно помалкивал. Отошёл от клетки подальше, расстелил на траве плащ, лёг и жадно закурил. А винтовку держал под рукой.
6
Уже за полдень послышалась торопливая трескотня мотора, лязг свободно бегущих гусениц, и вскоре на поляну вывернулся тракторишко. Три мужика тесно сидели в кабине с раскрытыми фанерными дверцами.
— Где он? — Тракторист, сгорая от любопытства, бросился к клетке.
— Ты осторожнее, парень, — предупредил Бережной. — Он тут всякие фортели выкидывал, подохнуть можно.
Одноухий лежал в той же позе, но жёлтые глаза его теперь сверкали, а губы то и дело приподымались, оголяя клыки. Что будет?!
Все дальнейшее происходило быстро, деловито, и уже никто не обращал на медведя никакого внимания. Прицепили серьгу, сани дёрнулись и поехали. Лобик поднялся было, но не устоял, упал, ещё поднялся и снова упал. Сани скрипели по камням речного русла, вихлялись, и пленник, словно туша мяса, дёргался, пластался на полу, его печальные глаза смотрели, как движутся и уходят назад кусты, деревья, горы. Сердце зверя болезненно сжималось. Какой-то не то визг, не то рык иногда вырывался из расслабленно открытой пасти; лесники громко разговаривали, вышагивая сзади, и Лобику казалось, что вертится он в сумасшедшем колесе и нет уже выхода, нет жизни, а есть только это верчение, которое кончится чем-то нехорошим, может быть, смертью. Лишь бы скорей все это прошло.
В совхозе сбежался народ, ахали, смеялись, дразнили. Это ведь такое развлечение — живой громадный медведь в ловушке, и никто — ни дети, ни взрослые — не подумали, что зверь в клетке может испытывать горе, ненависть, отчаяние, что он может быть счастливым и несчастным, как могут быть счастливыми и несчастными все они. Если у кого и теплилась жалость или сочувствие, — их скрывали. Зверь, ну что о нем говорить? Дикарь.
Под крики механика клетку перегрузили на автомашину, раздался скрежет рычага скорости, и по хорошей дороге машина покатилась все вниз и вниз, потом через весь город-курорт, которого Одноухий не видел, потому что обессиленно лежал, скрытый бортами. На очень вихлястой дороге к роще его совсем укачало, и он долго был в полусознании, пришёл в себя, когда кран снова подхватил клетку с машины и поставил её на землю. Лобик открыл глаза и осмысленно огляделся. Где он? Вокруг толпился народ, шаркали туфли по асфальту, а сзади клетки стоял лес, под огромными тисами и буками чернела тень, и пахло остро и знакомо разными лесными запахами.
— Мишка, на, на! — В клетку уже полетели куски булки, шоколадки, ненавистные теперь конфеты.
Он не смотрел на людей, не чувствовал голода, снова улёгся мордой в сторону леса и затих. Даже глаза закрыл. Будь что будет!
Лишь когда наступила ночь и железную дверь в рощу закрыли, площадка у клетки опустела. Стало тихо, и сильнее запахло родным лесом, который был рядом и в то же время очень далеко. За железом.
Тогда он поднялся и прут за прутом, не менее десятка раз в течение ночи, исследовал на прочность свою тюрьму. Она оставалась такой же крепкой, как и днём. Надежда на побег появилась и исчезла.
Утром какая-то женщина с ведром подошла к клетке, привычно приподняла дверцу и сунула ведро. Лобик смотрел на неё из дальнего угла. Что-то во взгляде зверя подействовало на женщину, она мягко, даже ласково сказала:
— Ешь, миленький. Тоскуй не тоскуй, а есть-то надо.
И повернулась спиной. А он подошёл к ведру, увидел хлеб, ещё что-то и вдруг почувствовал не голод, а ужас. Человек с собакой тоже кормил его хлебом, а потом… Рявкнув, он ударил лапой по ведру, суп и куски вывалились, ведро загремело. Женщина вернулась, укоризненно покачала головой.
— Зверь ты, зверь, — не то сожалея, не то осуждая сказала она и ушла.
С десяти утра в тисо-самшитовую рощу потянулись люди. Клетка Лобика стояла у главной аллеи, все, кто заходил сюда, непременно сворачивали посмотреть «бурого кавказского медведя», как было написано на этикетке, укреплённой с лицевой стороны клетки. Такие же этикетки висели на деревьях — «самшит», «клён высокогорный», «тис», «боярышник». И даже на приметных скалах — «известняк», «сланец», «гнейсо-гранит». Занумерованная природа. Люди толпились у клетки, смотрели во все глаза, заговаривали с медведем, бросали ему хлеб, конфеты, халву, но ничто не могло отвлечь пленника от тяжёлой задумчивости.
Трескучий людской разговор не стихал до пяти вечера. И весь этот долгий день медведь провёл в состоянии зыбкого полусознания. Даже когда опять услышал ненавистный запах бородатого с его махорочным духом, не обернулся, не отвёл взгляда от какой-то постоянной точки в пространстве. Он жил уже вне времени. Своей, обособленной жизнью, близкой к небытию.
— Вот, товарищ начальник, самый сурьезный экземплярчик изо всего Кавказа. Довольны?
— Повезло тебе. — Капустин с удивлением рассматривал огромного медведя, обошёл клетку, даже хворостинкой потрогал неряшливую шерсть пленника. — Только что это он — как будто неживой?
— Они завсегда так в первые дни. Переживают. Ведьмедь — зверь разумный. А тюрьма есть тюрьма. Кто ж ей рад? Полежит, оголодает и зачнёт проситься. Ну и пообвыкнет, ещё плясать за кусок будет. А экземплярчик-то попался и в самом деле редкий.
Ещё подъехала машина. Пахтан прибыл глянуть на первое приобретение для нового зоопарка. И тоже цокал языком, разглядывая мощные лапы с едва скрытыми когтями.
— Такого лучше не встречать на тропе, а? — игриво спросил он Капустина. — Или можно сладить?
— Разве что уж очень вам захочется иметь в своём кабинете шкуру, — не без заднего умысла ответил Капустин.
— Нет уж, увольте, — засмеялся шеф. — Себе дороже… Ты оплатил лесникам за работу?
— Получено, товарищ начальник, все получено, — живо ответил Бережной. — Премного благодарны.
— В общем, если мы решили создать зоосад, то надо много кое-чего доставить, — согласился Пахтан. — Вольер придётся сооружать, клетки. Сколько у нас видов на Кавказе?
— Шестьдесят только млекопитающих, — быстро ответил Капустин.
— Ого! Ну, не сразу, будем постепенно собирать. Хороший подарок городу-курорту! Как мы раньше не подумали об этом? Познание природы — для наших людей весьма необходимая задача.
Они ушли, оживлённо обсуждая эту тему. Вот что значит самому приехать, самому увидеть и распорядиться!
— Вы когда приедете на Ауру? — спросил Капустин. — Там все готово.
— Как-нибудь на этих днях, — неопределённо ответил шеф. — Удобно в домике? Отдохнуть можно?
— И отдохнёте и… — Капустин выразительно прищурил левый глаз, сжал указательный палец, словно на спусковой крючок нажал.
— Смотри ты, не очень-то. Заповедник.
— В пределах лицензий. Только в пределах! — заверил весёлый Капустин.
— Кто там сейчас?
— Семеро, что значились в списке. Все, кого мы пригласили.
Пахтан поджал губы. Уж очень предупредителен его старший специалист. До брезгливости.
Глава девятая ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ОЛЕНЯ ХОБЫ
1
В джунглях не знали, что произошло с Одноухим.
Не знал этого, разумеется, и Хоба.
Он покрутился вблизи Аурского кордона двое суток и теперь казался озадаченным. Исчезли свежие следы Лобика. Не попадались и приметы Человека с собакой.
Однажды утром Хоба решительно повернул к перевалам. Хватит с него!
Густой лес хорошо укрывал и кормил оленя, но ближе к перевалу находились самые обильные, к тому же знакомые пастбища, на них паслись оленьи стада. Без сородичей одинокому рогачу почему-то вдруг сделалось очень скучно, инстинкт гнал его к оленьим стадам, где скоро, очень скоро начнётся беспокойное, желанное время свадеб и битвы.
Хоба заспешил. Менее чем за двое суток он миновал густо сплетённые колхидские урочища, вышел в знакомый березняк и здесь задержался.
Шёл август, месяц Обильных Кормов, когда чуть не каждое дерево и почти каждый куст украсились плодами, орехами, спелыми ягодками. Зеленые кроны перебивались красным, чёрным, коричневым, румяным, фиолетовым цветом. Это проглядывали сквозь листву плоды. Все живое спешило насытиться, набрать тело, чтобы встретить суровую зиму в добром здоровье и с хорошим запасом жира. Распирало бока у кабанов, наливались мышцы оленей, блестели шкурки, игриво светились глаза, веселей прыгали малыши.
Месяц Обильных Кормов…
Пока Хоба, постоянно наклоняясь и не давая покоя своим зубам, подымался на верхнюю границу леса, он не жаловался на отсутствие аппетита. Вполне закономерное явление для здорового животного.
Насытившись, Хоба улёгся под густым деревом кизила, чтобы подремать. Быстро рассветало. Слабый шорох заставил его открыть глаза. Десятка три чёрных дроздов рассаживались среди колючих веток приютившего его дерева. Свои… Хорошо, что дрозды рядом, спокойнее. Хоба вздохнул и опять прикрыл глаза. Сквозь дрёму он слышал, как гомонила стая. Кажется, они сели для того, чтобы провести важное совещание или, скажем, летучку. Посвистывая на все лады, как заправские ораторы, дрозды не соблюдали ни очерёдности, ни регламента. Скептики сердито выводили своё музыкальное «чэ-эр-ка-кы», насмешники посвистывали, серьёзные отрывисто шипели, словно задыхались от возмущения при виде такого беспорядка. Очевидно, в стае преобладала молодёжь, она-то и задавала бесшабашный тон.
Вдоволь наговорившись, чёрные дрозды вдруг примолкли и все разом, взвихряя застывший воздух, сорвались, сделали круг над деревом, взмыли косо вверх и понеслись неплотной стаей куда-то на юго-восток, где, окутанные нежной голубизной, млели в теплом морском бризе бесконечные хребты и долины.
Хоба уснул. А может, не уснул, по-прежнему дремал, но к реальным запахам и звукам сейчас прибавились какие-то видения, подсказанные памятью.
Он увидел рядом с собой светло-рыжую ланку, его прошлогоднюю подругу, которая явилась тогда вот из этих южных мест. Она смотрела на него влюблённо и смело. Большие блестящие глаза оленухи светились лаской. Перебирая стройными ногами, Рыжуха подошла к рогачу вплотную. Хоба вздрогнул, почувствовав её тёплый бок, и в волнении замотал головой.
Тотчас проснувшись, Хоба недоуменно огляделся. Никого рядом не оказалось. Пробравшись сквозь листву, солнечный луч упёрся в округлый бок рогача и нагрел его. Хоба шумно вздохнул и рывком поднялся. Больше он не хотел оставаться одиноким. Ни одного часа! Все в нем протестовало против спокойного образа жизни, который ещё вчера вполне устраивал его. Воспоминания о Рыжухе, чистый и свежий воздух вершин, обильный лес и поляны — все сейчас вызывало в нем новые эмоции, жажду действия. Хоба вскинул голову с тяжёлыми, вполне окрепшими рогами.
Перемена настроения означала, что наступает пора любви.
Сперва тихо и насторожённо, потом скорей, наконец грациозной лёгкой рысью, высоко и гордо вскинув венценосную голову, выбрасывая ноги через колоды, кочки, сквозь высокую посеревшую траву высокогорья, помчался Хоба навстречу неведомому, полный дерзких замыслов и неистраченных сил.
Он ещё не ревел, час вызова не наступил, но из полуоткрытого рта оленя нет-нет и вырывался низкий хрип, предвестник осенних песен Любви и Битвы.
После наступления темноты он бродил в редколесье уже на северных склонах перевала, натыкаясь на кленовые ветки и незаметные ночью камни. Обессилев, улёгся наконец прямо среди луга, полого уходящего в заросли берёзки под горой.
Не спалось. Здесь подувал холодный северный ветерок, а воздух казался особенно чистым, без всяких запахов — так легко проникал он в лёгкие, так неслышно дышалось.
Над горизонтом взошла большая красная луна. Её неверный свет усилил беспокойство. Хоба так и не отдохнул. Поднялся и большой неслышной тенью пошёл по старой оленьей тропе вниз, на поиск своего счастья.
Уже в лесу с высокой пихты прямо к нему шарахнулась большая сова. Хоба разгневанно прыгнул в сторону, хищная птица сама испугалась, забила по воздуху крыльями и тягуче закричала, оповещая лес о неудаче. Олень постоял, рассматривая зыбкие тени вокруг, потоптался и снова лёг.
Вероятно, он крепко уснул, иначе утренняя встреча не была бы для него такой неожиданной.
Он ещё не проснулся, а влажного носа его уже коснулся запах оленей. Хоба вздрогнул, открыл глаза и вскочил. Шесть пар блестящих глаз рассматривали рогатого незнакомца со всех сторон. В предрассветной мгле серели тела безрогих ланок. Не он нашёл свой осенний гарем, ланки сами «открыли» рогача и теперь с любопытством разглядывали.
Вскоре он уже пасся вместе с четырьмя ланками и двумя сеголетками, старательно срезал зубами влажный пырей и не без аппетита жевал. Беспокойство, владевшее им, как-то незаметно поутихло. Все стало на своё место. Хоба вёл себя сдержанно, спокойно, как глава семьи, возвратившийся домой после длительной отлучки. Не одинок, и это очень приятно.
Вечером он отогнал трехлетнего рогача, неосторожно сунувшегося к ланкам.
Ветерок накинул в открытую долину реки запах ещё одного стада. Что-то в этом вестнике нового особенно затронуло вожака. Он сорвался с места, и не успел его гарем удивиться, как исчез в лесу. Сквозь редкий лес рогач пролетел пулей, вырвался на опушку и, поражённый, остановился: среди высокого разнотравья ныряли оленьи головы. Пять ланок и два рогача разглядывали его. Пока шло это безмолвное ознакомление, одна из ланок, повыше других, с крупным ланчуком, у которого выросли уже заметные рожки, несколькими скачками подлетела к вожаку и раздула ноздри, сердясь на мужское непостоянство. Явился наконец! А не ты ли покинул меня с малым дитем чуть не год назад?..
Как обрадовался Хоба, как грациозно обежал Рыжуху, как шумно задышал!
Он обнюхал её мордочку, лизнул, потом издали обследовал слегка оробевшего ланчука, чем-то напоминавшего молодого Хобу, и милостиво согласился видеть его рядом с Рыжухой и впредь. Как-никак все же родня. Сынок…
Пообвыкнув в обществе своей прошлогодней подруги, Хоба осторожно повёл её и ланчука через лес в оставленный без присмотра гарем. Рыжуха шла спокойно, но когда на поляне увидела новое стадо и догадалась, что Хоба имеет к этим четырём ланкам прямое отношение, вдруг заупрямилась и до самого вечера так и не подошла к соперницам.
В общем, началось…
Он ходил возле неё то грозным повелителем, то робким поклонником, оттеснял от леса боком, угрожал рогами, фыркал или ложился так, чтобы загородить дорогу в сторону, но Рыжуха упрямо держалась особняком, всем своим видом показывая — или я, или они… Те, другие ланки тоже почувствовали себя ущемлёнными и попробовали уйти в сторону. Хоба бегал возвращать их, потом кидался к Рыжухе, вид у него был довольно растерянный, кормиться совсем некогда, и неизвестно, чем бы вся эта сладкая семейная жизнь кончилась, если бы на поляне не появились ещё две ланки. Вот тогда Рыжуха и решила, что четыре соперницы все же лучше, чем шесть, вошла в гарем с этим определённо высказанным условием, а Хоба догадался прогнать новых пришелиц, восстановив, скорее всего на время, покой в своём хлопотливом хозяйстве.
Два дня они ходили близ перевала.
Наутро он потянул свой гарем к перевалу. А почему бы и нет? Ланки шли не очень охотно. Может быть, они и совсем не пошли бы, но Рыжуха, знакомая с югом, родившаяся там, стала на сторону вожака, а остальные не рискнули отстать и тем самым согласиться, чтобы эти трое удалились без них.
Пахучие джунгли возникли за чертой лугов, на оленей потянуло душистым духом тёплых склонов и мягко-раздражительным запахом далёкого моря.
Они были на юге. Именно там, куда впервые проторил дорогу Хоба, шествуя за Человеком.
Молчанов как раз и добивался этого: олени заповедника должны знать дорогу через перевал. Для своего же благополучия. Пусть не все девять тысяч сразу. Пусть сперва единицы, а уж потом…
2
Над охотничьим домиком с раннего утра вился пахучий дымок. Топили берёзовыми поленьями. Так распорядился Капустин. Окна светились далеко за полночь, как и подобает в компании, прибывшей отдохнуть.
Семеро гостей в первый день просто гуляли по лесу, беседовали с лесником, слушали рассказы Петра Марковича о зверях и недобрых людях, которых называют браконьерами, и вместе с ним ругали злодеев всякими нехорошими словами.
Потом на кордон прибыл лесник Бережной и ещё двое. Тоже гуляли по лесу, далеко заходили да время от времени расспрашивали Семёнова, где он встречал косуль, серн и нет ли поблизости отсюда оленей.
Оленей поблизости не было, они спускались месяцем позже. Но случались, конечно, исключения, приходили и в августе, особенно на урочище Псух, куда сходила звериная тропа с альпики. Там, да ещё в одной долине почти всегда жируют кабаны. Много кабанов.
Вечером гости смеялись, когда Семёнов рассказал о диком вепре, вожаке семьи, которого он называл «С приветом».
— Значит, и медведя загнал на дерево? — переспросил влиятельный снабженец, негласно признанный остальными гостями за старшего.
— Здоровенного медведя! — подтвердил Семёнов.
Ещё посмеялись, а потом затихли, поглядывая на жаркий камин. Кажется, все подумали об одном и том же. Вздохнули. И тогда снабженец сказал, выражая почти единодушное мнение:
— На шампуры бы вашего «С приветом» да вот в этот камин, чтобы зря не горел…
И все ещё раз дружно вздохнули, а Капустин выразительно посмотрел на Бережного. Дядя Алёха опустил глаза. Тема иссякла.
Утром гости взялись чистить и проверять друг у друга ружья. Лесник Бережной с двумя приятелями спозаранку ушёл в горы. Куда — не сказался.
А вечером жена Петра Марковича, вернувшись домой, тихонько заметила мужу:
— Слышь-ка, а ведь наши-то гости свежатину добыли…
— Откуда знаешь?
— В кухне прибралась, заглянула к ним, а у них, значит, свой ужин. На столе вино, а сами сидят у камина и на железных прутьях куски жарят. Капустин сразу выпроводил меня.
Семёнов посмотрел на часы. Десять. Накинул куртку и, несмотря на довольно позднее время, решительно пошёл в охотничий дом.
Окна светились, дымок из трубы все ещё шёл, и пахло жареным. Хорошо пахло, аппетитно. Семёнов зашёл с чёрного хода. На кухне за столом сидел Бережной и два новых лесника. Ужинали. И водка стояла. Семёнов по духу из мисок догадался — козлятину едят.
Лесники засуетились, табуретку подвинули, рюмку налили. Петро Маркович выпил, не отказался. А закусывать не стал. Сыт, значит.
— Слушай, Алёха, — сказал он через минуту-другую. — Хоть ты мне и приятель, хоть и вином угощаешь, но баловаться в заповеднике я тебе не позволю, понял? Откуда взялась козлятина? Докладай!
Бережной только руками развёл. На лобастом лице его вскинулись брови. Удивление и досаду выражала даже бородка.
— Ты не по адресу обратился, Петро Маркович! Я што? Как мне прикажет вышестоящий, так я и сделаю.
— Значит, тебе приказали? А кто приказал?
— Капустин. Можешь спросить. У него лицензия на отстрел. Все по правилу. Так и так, идите, мол, и чтоб было…
— Давай сюда лицензию.
— У него — говорю.
— А стрелил ты! Почему не взял бумагу?
— Мне слово сказано. А насчёт бумаги валяй к Капустину.
— Ты порядок знаешь. Лицензии сдают лесничему. Коротычу докладывал?
— Да что ты привязался ко мне, мил человек! Начальство знает, говори с ним, а меня не тронь.
— Кого свалил? — не унимался Семёнов.
— Косулю дрянненькую…
— На моем обходе?
— Слава богу, не на твоём. Там, где ведьмедя мы пымали. За увалом.
Семёнов помолчал. С этим медведем тоже не все просто и ясно. Вон и одёжа молчановская в тот день пропала. Он вспомнил про это, вздохнул:
— У меня тут одна неприятность уже есть, а ты с косулей ещё. Плащ молчановский и куртка подевались куда-то. Как корова языком слизнула. Висели в сенцах, как он оставил. И нету.
Дядя Алёха быстро глянул на своих товарищей. Поднял плечи.
— Из сенцев? А ты запираешь их, сенцы-то?
— Где там! На щепочку. Но щепочка была на месте. Если бы дверь открылась, на зверя какого подумал, мог взять играючи, а то все на месте, а одёжи нет.
— Привидения на кордоне, случаем, не водятся? — Бережной зашёлся в смехе, даже лысина покраснела. И приятели его засмеялись. В самом деле, должно быть, нечистая сила проказит!
Вошёл Виталий Капустин, раскрасневшийся, довольный, кажется, крепко навеселе, тоже заулыбался.
— Анекдоты травите? Ты, Бережной, забавляешь?
— Он самый, — сказал Семёнов. — Про то мясо, что на столе.
— При чем тут мясо? — Улыбка живо сошла с лица Капустина. — Пусть это мясо тебя не беспокоит, старик. Все законно. Лицензия у меня на отстрел имеется.
— Порядок у нас есть такой, Коротычу надо докладывать, и он уже нам даёт указания. Вот такой порядок.
— Когда здесь я… когда сам начальник отдела…
— Все равно, — упрямо заметил Семёнов. — Я обязан теперь доложить Коротычу и, как он скажет, так и сделаю. Актом пахнет.
Капустин беспечно махнул рукой.
— Валяй, докладывай. Заодно про кабана, а может, и про оленя доложи. Вдруг возьмём? Раз такой порядок, не нарушай. А мы с Коротычем как-нибудь договоримся, в интересах науки…
Хотя весь разговор Капустин вёл в полушутливой форме, будто не всерьёз, но по лицу его Семёнов видел, что не понравилось. Словно бы извиняясь, Петро Маркович сказал:
— Строго на этот счёт в заповеднике. Даже если сам министр прибудет. Законы для всех одни. Вот и люди у вас с ружьями.
— Ты этих людей не трожь! — Капустин помрачнел. — Это наши гости дорогие. Если хочешь знать, заботами этих людей весь заповедник держится. Не будь этих людей… Тут соображать надо, голова. Как мы к ним, так и они, понял? Вот так.
Капустин вышел, сердито стукнув дверью. И Семёнов поднялся уходить, но все же напомнил ещё раз:
— Разговор наш, Алёха, остался в силе. Ежели придётся кабана или ещё кого, так прежде скажись. И без меня — ни-ни! Иначе…
— Что, что иначе? — взорвался Бережной. — Ты вроде не понял, про что начальство сказывало? Власть на месте.
— Все понял. А от закона-порядка не отступлюсь. Мы здесь власть, а не гости.
Из дома своего Семёнов вызвал по рации Коротыча и доложил, что убита косуля и что люди из охотничьего дома, похоже, на этом не остановятся. Как быть? Коротыч очень просто и коротко сказал:
— Приеду сам, разберусь.
Но почему-то не приехал, хотя Семёнов прождал его весь день и в обход не пошёл из-за этого. А надо было идти: все гости с ружьями ещё на заре отправились в кабанью долину. Не цветочки, конечно, собирать.
Петро Маркович места себе не находил — за что ни брался, все из рук валилось. Тёмное дело делается. Сколько уже годов на его обходе было спокойно, браконьеры далеко обходили, не тревожили, а тут вдруг за этими гостями смотреть понадобилось. Коротыч, как сказали, по каким-то срочным делам в город уехал, а вот Капустин… Да кто он такой, чтобы распоряжаться?
Кому теперь говорить обо всем этом? Был бы молодой Молчанов… Нету Молчанова, уж не нарочно ли его в дальнюю командировку отправили?..
Семёнов вышел покурить, сел на лавочку, беспокойные мысли не выходили у него из головы.
И тут увидел на тропе человека. Петро Маркович вгляделся. Вроде знакомый. И тоже с ружьишком, с рюкзаком. Неужто ещё новый охотник на его голову?
Он поднялся и, хмурясь, пошёл навстречу. Но, узнав эту высокую фигуру, облегчённо вздохнул. Наконец-то хоть один свой!
— Здравствуй, Маркович, — устало сказал этот путник. — Сколько лет-зим не виделись, а? Считай, с прошлого года…
— Доброго здоровья, Ростислав Андреич! Я смотрю-смотрю, глазам не верю. Будто Котенко, только ты ведь не сказывался, что придёшь в наши края. Слыхал, на Восточном кордоне все лето.
— С Восточного напрямик и к вам.
Он снял карабин, рюкзак и, облегчённо вздохнув, тяжело опустился на лавку.
— Пойдём в хату… — Семёнову не терпелось угостить старшего научного работника чаем-обедом. Он почувствовал — как гора с плеч, только узнал Котёнку.
— Погоди, Маркович, отдышусь маленько. Я сегодня километров двадцать отшагал, если не больше, думал, к ночи не успею. Молчанов не вернулся?
— И весточки не шлёт. Неделя скоро, как уехал.
— Что тут у вас происходит? Ведь я по телеграмме Бориса Васильевича, он не то чтобы приглашал, настойчиво требовал приехать.
Теперь удивился Семёнов. Зачем учитель звал сюда Котёнку — ему неведомо. А вот насчёт происходящего под боком… Петро Маркович коротко рассказал о гостях, Капустине, об убитой косуле. И в конце опять расстроенно спросил:
— Мне-то как поступить, ума не приложу? Акт написать, погнать их из лесу? Коротыч в отлучке, а Капустин вроде уже за главного. Командует и не хочет знать лесников.
— Разберёмся, — сказал Котенко, уже сообразив, что телеграмма Бориса Васильевича, несомненно, как-то связана с затеей Капустина. — Я отдохну час-полтора и подамся в посёлок, поговорить надо. А ты вот что… Пусть эти люди не знают, что я здесь. Особенно Капустин. Жену предупреди.
Котенко не отказался от обеда. После еды полежал немного, задрав длинные, натруженные ноги на спинку топчана, потом резво вскочил и собрался уходить.
— Карабин и все прочее оставлю у тебя, — сказал он.
Семёнов, кажется, смутился, и Ростислав Андреевич заметил это.
— Александр Егорович у меня свою одёжу, понимаешь, оставил, как уезжал. И вот, пропала.
— Найдётся. Не медведь же снял.
— Кто знает, пропало — и кончено. А медведь, Ростислав Андреевич, побывал у нас. Молчановский который. За Александром сюда приходил.
— И олень? — живо спросил Котенко.
— И он тоже. Вон там, на опушке, кормил их Молчанов. Чуть ли не в обнимку стояли. Видел я в бинокль, как он их поглаживал. Чудеса!
— Это добрая весть, — сказал повеселевший Котенко. — Молчанов хочет довести свой опыт до конца. Раз привёл за собой оленя, значит, дорогу с севера на юг для них осваивает. Мы так и договорились: переманить их на юг. Не видел этих зверей после его отъезда?
— Ни разу. Они одного Молчанова признают.
— Лиха беда — начало, Петро Маркович. К счастью, не все люди — звери.
— Мы друг с дружкой и то не ладим, а ты чтобы со зверьми…
— Погоди, не сразу Москва строилась. Ну я пошёл. Значит, договорились. Никому ни слова!
3
В плохое время пришёл ты в эти края, олень Хоба. Да ещё не один, а с большой семьёй, со своей подругой, с ланчуком, очень похожим на тебя. В очень опасное время.
Тебе и одному сейчас нельзя показываться в долине Ауры, где сделалось неспокойно — ведь твой рост, твои чудесные рога, которые в глазах охотников просто цены не имеют, твоя грациозная и мужественная красота способны ввести в соблазн любого жестокого человека с ружьём! А ты ещё привёл за собой Рыжебокую, упитанную красавицу с большими влажными глазами, которые только на тебя и смотрят, потеряв по этой причине добрую половину всегдашней осторожности.
Остановись хотя бы здесь. На границе леса и луга много вкусной травы, заботливый лесник Семёнов ещё в мае разбросал для вас грудки каменной соли, есть где укрыться от грозы, есть куда бежать, если хищник. Не торопись вниз.
Не слушаешь, упрямец? Идёшь вниз?
Смотри, как бы не случилось плохое…
…Дядя Алёха решительно повёл городское воинство за кабанами.
Наконец-то!
Ещё вчера он выследил стадо, во главе которого шествовал «С приветом», не спугнул их и теперь намеревался подставить под пули если не секача, то хотя бы двух-трех уже округлившихся поросят. Всю дорогу он и его два помощника вполголоса инструктировали взволнованных гостей, как вести себя при встрече с кабанами, куда целить и куда, если потребуется, бежать. А может быть, и обороняться. Чтобы подзадорить слушателей, он со знанием дела рассказывал, какие клыки у секача и сколько он весит. От таких разговоров замирала душа охотника, а на выбритых щеках вспыхивал румянец тревожного счастья.
— Скоро? — шёпотом спрашивал Капустин.
— За перевальчиком, теперь уже скоро, — отвечал Бережной и прибавлял ходу. И все торопились за ним.
Кабаны лежали в густых зарослях папоротника, расковыряв мокрую землю низины. Но сам «С приветом» был, как всегда, настороже. Хруст веток под сапогами, тяжёлое дыхание перетрудившихся следопытов он услышал раньше, чем охотники подошли на выстрел и заняли позиции. Секач бесшумно снял своё стадо и увёл подальше от опасности. Дядя Алёха вышел с людьми на пустое место, длинно выругался и, приказав сидеть наготове и ждать, с двумя лесниками пошёл в обход, на загон.
Ждали часа два, а когда кабаны чёрными тенями зашныряли прямо под ружейными дулами, все растерялись, сердца сорвались и забились без ритма, и тут уж было не до пальбы. Успели выстрелить Капустин и снабженец, сидевший рядом с ним. Раздался острый визг, два секача чуть было не подкосили одного из охотников, оказавшегося на пути. Он по-козлиному подпрыгнул и удачно повис на ветке, секачи шумно промчались и исчезли, потом прибежал Бережной, нашёл в болоте подранка и прирезал его. Все-таки трофей, не с пустыми руками.
— Мелочь, — презрительно сказал снабженец. — Стоило из-за такого ехать две тысячи километров и забираться в горы. Такие и под Москвой есть.
— Не олень, конечно, — сказал другой гость. — И не зубр.
— А между прочим, опасно, — заметил тот, который висел на ветке в трех вершках от клыкастых вепрей.
Все смотрели на Капустина, все слова адресовались ему. Слушать обидно. Он вспыхнул, и последние остатки сдержанности покинули его. Да уж если пригласил… Решительно поджав губы, Капустин сказал:
— Вот что. Мы сейчас идём домой. Для жаркого у нас есть. А ты, дядя Алёха, и ты, и ты, — он ткнул пальцем в лесников, — подавайтесь выше, выслеживайте медведя или оленя — и чтобы завтра на заре… Вопросы будут?
Вопросов не было.
Он распоряжался в заповеднике, как в своём родовом поместье. Чувство меры было потеряно.
— Есть выследить! — отчеканил Бережной.
— Медведя или оленя, — повторил Капустин. — Или ты хищников боишься, Бережной?
— Будет сделано, — сказал он. — Разрешите идти?
Капустин кивнул. Лесники забрали с собой переднюю ногу подсвинка, вскинули ружья.
— Дорогу домой найдёте? — спросил Бережной.
— Как-нибудь, — уже весело ответил Капустин. — Хожено перехожено. Не впервой здесь.
Компания разделилась. Семеро пошли через перевальчик в гостеприимный дом на Ауре, трое — по долине реки, ближе к перевалам.
Навстречу нашему оленю и его стаду.
4
— А телеграмму я дал по просьбе Саши Молчанова.
Борис Васильевич привычным жестом поправил пенсне Котенко сидел перед ним, облокотясь на колено. Ни словом не перебивая учителя, он выслушал рассказ. Лицо его покраснело, глаза беспокойно светились.
— Вон ведь что задумали, — сквозь зубы сказал он. — И этот молодой хлыщ у них в роли щедрого хозяина. Интересное дело…
— Лучше сказать — поразительная наглость. Как в своей вотчине. Дом для гостей. Наём специальных егерей. Послушный, исполнительный Коротыч. И соответствующий камуфляж. Видите ли, отделу в этом районе нужна база для учёных, командированных в заповедник. Разве кто выскажется против? Биологи, ботаники, почвоведы здесь, конечно, нужны, работается в условиях резервата значительно продуктивней, чем в институтских лабораториях. Так думает и Пахтан, потому он и вёл строительство. А тем временем Капустин начинает прибирать к рукам все это хозяйство, он понимает выгоды, которые сулит благоустроенный Дом охоты, приглашает сюда нужных ему людей и обеспечивает таким образом для себя круг знакомых, которые помогут в личной карьере. Пахтан не очень вникает в эти дела, он доверяет Капустину и вообще на отдыхе — «оставьте меня в покое». Противозаконные поступки совершаются его именем…
Котенко грузно поднялся.
— Все! Еду на Ауру и разгоняю их. Немедленно, пока они не наделали серьёзной беды. Иного выхода не вижу.
Борис Васильевич прищурился.
— С вашим темпераментом… Знаете, тут партизанским наскоком трудно что-нибудь сделать. Какие у вас факты и доводы? Никаких. Единственно, что можно сделать наверняка, — это поймать их с поличным, на охоте в заповеднике. Возможно?
— Один не смогу, — сказал Котенко.
— Почему один? Мы попросим содействия в райисполкоме.
Котенко кивнул. Это другое дело. И тогда Борис Васильевич позвонил в район, нашёл нужного ему человека. Разговор шёл намёками, Котенко догадался, что собеседник учителя уже в курсе событий и только ждёт решительных действий.
— Выезжать завтра утром, — говорил учитель в трубку. — Нет, не в девять, а в пять. Самое позднее — в половине шестого нужно быть уже на месте. Время выхода на охоту. Да, прямо ко мне, отсюда «газиком» доедем до кордона, а дальше на лошадях за ними по свежему следу. Надо самим увидеть, чем занимаются гости. Достаточно одного милиционера с тобой. И нас здесь трое. Договорились? Только непременно в пять, не позже.
Борис Васильевич положил трубку, спросил:
— Мы найдём на кордоне пять или шесть лошадей с сёдлами?
— Думаю, что найдём. Мне придётся вернуться к Семёнову, предупредить.
— А Капустина своим приездом вы не насторожите?
— Постараюсь, чтобы он не видел меня.
— Тогда возвращайтесь на кордон. Семёнов, конечно, будет знать, куда и когда отправятся гости?
— Иначе какой же он лесник?
Прежде чем покинуть Жёлтую Поляну, Котенко на несколько минут заглянул к Никитиным.
Уже стемнело, в доме их горел свет, во дворе никого не было. Едва зоолог открыл калитку, как навстречу ему молча двинулась чёрная тень овчара.
— Тихо, Архыз, — сказал он, и овчар тотчас же вильнул хвостом.
Большая тёплая ладонь пригладила шерсть на загривке собаки. Архыз тёрся о ноги. От сапог заманчиво пахло лесом, нехоженой землёй. Запахи будоражили овчара. Пожалуй, в эту минуту у зоолога и родилась мысль взять Архыза на завтрашнюю облаву.
Ему открыла Ирина Владимировна, обрадовалась, увела в комнату.
— Я на одну минуту, — сказал зоолог. — О, и Елена Кузьминична здесь? Здравствуйте. Очень рад. Как поживает Саша-маленький? Спит? Значит, все в сборе, кроме молодых… — Он смутился, сказав это слово, но женщины лишь улыбнулись. — Когда ждём Сашу-большого?
— Завтра, — с тихой радостью ответила мать Саши. — Телеграмму прислал из Воронежа. Вот только что. Загостился он, мы соскучились.
— И все-таки он немного опаздывает, — с оттенком досады сказал Котенко. — Ничего, мы пока и без него. Как только приедет, пусть срочно топает к Семёнову, там разыщет меня.
— С Архызом?
— Архыза я возьму сейчас. У вас найдётся поводок?
В поспешности сказанного, в неожиданном приказе, в какой-то взволнованной недоговорённости у Котенки женщины уловили напряжение и тревогу.
— Что случилось, Ростислав Андреевич? — спросила хозяйка.
— Решительно ничего, просто у нас с ним одно весьма срочное задание. Нет-нет, не война с браконьерами.
Он заторопился.
— Хоть чаю стакан! — умоляла хозяйка.
— Как-нибудь в другой раз. Прошу прощения…
Котенко вышел на улицу, в темноту, лишь кое-где прорезанную светом из окон. Архыз не рвался на поводке, он не знал, куда идти. Лишь когда они вышли на малозаезженную дорогу за пределами посёлка, он принюхался, задрал морду и уверенно потянул вперёд, на семеновский кордон.
Близко к полуночи Котенко подошёл к дому лесника. На лавочке светился огонёк папиросы. Семёнов ждал его.
— Как сходили?
— Все нормально. Что там новенького? — Ростислав Андреевич кивнул в сторону охотничьего дома.
— Вернулись из лесу с кабаньим мясом. И без своих егерей. Видно, послали Алёху с приятелями выслеживать нового зверя. Жинка моя слышала, что завтра на заре идут…
— Лошадей нужно, Петро Маркович. Пять, в сёдлах конечно.
— Можно и пять. Только сёдел у меня четыре. Вы ужинайте и ложитесь, а я все устрою. Спать уже некогда, раз такое дело. Не сумлевайтесь, прослежу, как надо. Похоже, кто-нибудь от Алёхи прибежит извещать их с часу на час. Архыза возьмите в хату, а то моя собака изведётся.
Котенко немного поспал, но проснулся вовремя, до свету. Едва он поднялся, как овчар с готовностью двинулся к двери. Не зажигая огня, зоолог вышел. В темноте за домом звякали стремена, пофыркивали лошади. Лесник успел изловить их и привести. Лишь бы не опоздали товарищи из района! Чтобы перехватить до выстрела. Чтобы не пострадали заповедные звери.
— Как у тебя? — спросил он Петра Марковича.
— Сам Алёха явился. В третьем уже часе. Свет зажгли, видно, собираются. Кого же он там выследил?.. Мне за ними придётся идти, без коня, а уж по моему следу Архыз поведёт и вас.
От охотничьего дома доносились приглушённые голоса, стук сапог по камням.
— Вышли, — шёпотом сказал Семёнов. — Коней я оседлал и привязал. Вы только не отлучайтесь, теперь каждая минута дорога.
С облачного неба лениво капало. Мелкая морось шелестела по листьям, воздух застоялся, было душновато и сыро, как в остывающей бане. Рассвет начинался незаметный, темнота разжижалась постепенно, зеленовато-синие тени окутывали лес и поляну против дома. Ни одна пичуга не рискнула подать голос. Близкий ручей, всегда звонкий и слышный, сейчас невнятно бормотал, как под одеялом, казалось, что течёт он где-то далеко-далеко.
Вышла жена Семёнова, тихонько сказала «доброе утро», зажгла печь в летней кухне, поставила чайник.
— Вы уж сами, Ростислав Андреевич, я туда пойду, прибираться.
Райисполкомовский вездеход, подвывая двумя передачами, одолел крутой глинистый подъем от реки, свернул влево к кордону и остановился под громадным дубом против дома Семёнова.
— Вы даже раньше, — сказал Котенко, пожимая руку учителю.
— Знакомьтесь! — Борис Васильевич отступил, пропуская своих спутников. — Это Клавдий Иванович Ивкин, заместитель председателя исполкома, когда-то мой ученик. Лейтенант милиции Шведов. Как здесь? Спокойно?
— Охотники ушли в горы минут сорок назад.
— Мы опоздали?
— Мы их должны догнать. Лошади готовы.
— А Семёнов?
— Ушёл следом.
— Не разойдёмся в этой тусклой мгле?
— Архыз поведёт по следу.
Подошла жена лесника, прошептала:
— Двое гостей остались, это которые учёные. Сказались нездоровыми. Остальные ушли. С ружьями.
Началось утро, ленивое, пасмурное, мокрое. Несмелый ветер потянул вдоль долины, он обещал разогнать хмару и просушить мокрые леса. Но не скоро.
Позвякивая стременами, четверо всадников гуськом тронулись к лесу. Котенко ехал впереди. На длинном поводке перед лошадью уверенно шёл Архыз.
5
Не остался Хоба на высокогорных лугах, заставил свой гарем следовать за ним через пихтовый пояс ниже, в буковые рощи, где на перепаде крутого спуска встречаются солнечные поляны, окружённые густым орешником.
Здесь тоже вдоволь пищи, хорошее укрытие, но воздух гуще, насыщенней, и в нем чужие для северян запахи, которые и волнуют и настораживают одновременно.
Ланки с оленятами то и дело останавливались, прислушивались к незнакомым запахам, поэтому вожаку приходилось довольно часто возвращаться, обегать вокруг них и сердито подгонять. Что за непослушные, своевольные создания! Никакой дисциплины. Могли бы брать пример с Рыжебокой, которая все время идёт рядом с хозяином гарема и успевает на ходу срывать то кленовую веточку, то мохнатый лишайник, по которому уже соскучилась.
Правда, и она вчера утром проявила характер, когда Хоба повёл было семью в узкий распадок, заваленный огромными камнями. Рыжебокая заупрямилась. Неужели он не понимает, что в таком ущелье они могут попасть в ловушку? И она повернула назад.
Вожак сделал вид, что остаётся в опасном месте один, самолюбие не позволяло ему вот так сразу пойти на уступку, но когда и остальные ланки примкнули к Рыжебокой и выбрались из ущелья на широкую террасу, он в гневе шаркнул по глине копытом, тряхнул рогами, однако повернул назад и тоже убрался отсюда; инстинкт подсказал ему, что ланки правы, а их осторожность вполне обоснованна: не только собственную жизнь берегут они, но и жизнь своих детей.
И все-таки он пошёл другой дорогой, но спустился ниже, нашёл удобный склон, и там они легли отдыхать.
Вскоре пришлось пережить некоторое волнение. В самом конце склона промчалось чем-то встревоженное стадо кабанов. Ветер принёс их противный запах, олени наставили уши, но больше ничего подозрительного не произошло, и они постепенно успокоились.
Хоба лежал под скалой. Чуть не дотянувшись до его крупа, рядом лежала Рыжебокая, поодаль устроились все другие ланки и малыши. Видеть их можно было только с противоположного склона горы или с высоких скал по сторонам. Дважды Рыжебокая внюхивалась в странный запах с высокой скалы, Хоба тоже пошевеливал носом, ему казалось, что попахивает человеком, но расстояние до скал было велико, в три раза больше, чем прицельный выстрел, всегда можно успеть убежать. Когда стадо вышло пастись, подозрительный запах усилился. Но — странное дело! — теперь он шёл сразу с трех сторон, и куда бы олени ни двинулись, этот запах усиливался. Сзади поляну закрывала каменная стена, туда хода не было.
Они ещё не знали, что окружены, взяты в кольцо. Два лесника — справа и слева, а повешенный на дереве рюкзак Бережного — напротив, за ущельем. От него тоже шёл беспокоящий запах.
Этим ущельем «Сто тринадцать медведей» уже в темноте пробрался домой, за охотниками.
— Дело сделано, — запыхавшись, сказал он, ввалившись в охотничий дом среди ночи. — Надо идтить, мужики.
— Кто там? — недоверчиво спросил снабженец. — Поросята? Тетеревок? Пойдём по большому зверю, не иначе.
— Хотите верьте, хотите нет, но такого красюка-оленя я ещё не видывал, — с непритворным волнением заявил Бережной, совсем запамятовав, что очень недавно этот красавец стоял на поляне перед семеновским домом, и он разглядывал его в бинокль. А может, ему просто хотелось приукрасить свой охотничий подвиг, и он продолжал: — Рога — во! По метру. Отростков не сосчитать. А сам что скаковая лошадь. Не зверь — статуя!
Капустин оробел. Он не ожидал, что Бережной так буквально исполнит его указание. Гости одобрительно зашумели, а он молчал. Дело выходит серьёзное. В случае чего трудно будет оправдать отстрел оленя-рогача, тем более перед осенним гоном.
Пока он размышлял, гости дружно одевались, так же дружно подавляли зевоту. Даже грузный снабженец оставил свой язвительный тон и сосредоточенно набивал карманы патронами.
Капустин мог бы сейчас наложить запрет на охоту. Ещё не поздно. Сказать, что нельзя, — и все. Но как он после этого будет выглядеть перед гостями? Засмеют. Надо же было так неосторожно бухнуть вчера!..
Его нерешительность заметили. Дядя Алёха присел рядом и зашептал, заговорщически оглядываясь по сторонам:
— Посажу вас супротив этого самого красавца, и погонят его наши ребята на вас, товарищ начальник. Редкое удовольствие получится. Ежели оленью голову с такими рогами хорошо выделать да преподнести какому ни на есть большому человеку, просияет и вовек не забудет. На украшение квартиры или там залы каковой…
А что, это мысль! Льстивый дядя Алёха угодил, как говорится, в самое яблочко. Капустин неуверенно улыбнулся. Да, отличная мысль! Если действительно редкостные рога, то почему не рискнуть? А потом преподнести Пахтану подарок. Он ему семь смертных грехов простит за такое подношение.
— А ежели что, — тихонько произнёс Бережной, — составим документ, что был тот олень с перебитой ногой, потому мы его и прикончили.
— Журавля в небе делим, — засмеялся Капустин, окончательно повеселев. Вот и выход из положения.
— Какого журавля? — не понял Бережной.
— Олень-то ещё бегает, не стрелян — не взят, а ты уже своим его считаешь, рога на стенке видишь.
— Дак он, можно сказать, в кармане, рогач-то. Ребята караулят его, ни в жисть не упустят.
— Пошли, что ли, шептуны, — сказал снабженец. — Руки чешутся.
— Сейчас потешитесь, айдате за мной! — Дядя Алёха вскочил.
Шли гуськом в зыбкой темноте, спотыкались на каменистой тропе, вполголоса чертыхались и уже через полчаса стали спрашивать, скоро ли…
— Скоро, скоро, — не оборачиваясь, отвечал дядя Алёха, а про себя думал, что таким охотничкам надо пригонять дичь прямо к дому, чтобы они с парадного крылечка, не подымая зада от мягкого креслица…
Небольшую передышку Бережной сделал только перед самой поляной, метров за семьсот от стада. Начало тихо светать.
— Вот так, — скомандовал он. — Три потайки сделаем, там, там и там. — Он показал на смутно синеющий склон. — Сам вас разведу и усажу, а дальше по обстоятельствам. Кому повезёт, кому нет — не взыщите. Оленей погоним чуток вниз, они пойдут не круто, наискосок уходить будут, понятно? Не зевайте.
— Бить только рогача. — Капустин слегка повысил голос. — Ланок запрещено, молодняк тоже. На этот счёт закон строгий…
Охотники переглянулись. Их лица смутно белели в предрассветье. Напоминание в одно ухо влетело, в другое вылетело. На войне как на войне.
— Обождите здесь, — сказал дядя Алёха Капустину и повёл двух гостей вправо, где над густым орешником темнели головки огромных камней. С них поляна просматривалась более чем наполовину. Она была пуста. Сизая от росы трава делала её в этот час похожей на застывшее сонное озеро.
Остальных он увёл на взгорье слева от поляны. Там навстречу им из леса тихо вышел второй лесник. В брезентовом плаще с островерхим капюшоном он выглядел хмурым лесным бродягой.
— На месте? — спросил дядя Алёха.
— Куда же им деваться? Спят. Скоро выйдут на луг, вот только развиднеется.
Вернувшись к Капустину, «Сто тринадцать медведей» хорошенько огляделся и, наметив впереди плоское возвышение, удовлетворённо кивнул:
— Вон туда…
Капустин забрался на камень, подтянул за собой винтовку.
— Ветки закрывают, — пробормотал он.
— А мы их проредим. — Бережной прошёл вперёд, срезал часть веток. — А другие оставим, товарищ начальник, для укрытия.
— Сам где будешь?
— Туточки, рядом с вами, только внизу. Вдвоём не проглядим.
И все стихло вокруг поляны. Небо синело, наливалось светом. Капустин поднял бинокль и тотчас увидел стадо. Белесые тени отделились от густой стены кустарника, на тёмном фоне листвы более отчётливо рисовались безрогие ланки и подростки. Рогач стоял сзади, возвышаясь над стадом. Да, кажется, лесник не преувеличивал. Экземплярчик поистине редкостный.
Сердце у Капустина забилось часто-часто, он раза три глубоко вздохнул, чтобы унять его, и придвинул винтовку под руку. Отсюда до оленей метров пятьсот. Если они побегут на него, можно подпустить метров на сто — полтораста, и тогда… Мгновенный страх похолодил ему ноги: стрелять по оленю — преступление. Но он отогнал угрызения совести. В самом деле, чего бояться? Разве он не вправе? И вообще рассуждать и думать нужно было, когда приглашал на «королевскую охоту», как выразился в первом разговоре с друзьями. Теперь ничего уже не изменишь.
6
Давно в заповедном лесу не собиралось столько вооружённых людей!
На рассвете около поляны все стихло. И тогда на подходе к поляне послышались осторожные шаги одинокого человека, который всю дорогу ловил впереди себя шорохи движения, глухие голоса, звяканье металла — и вдруг у самой поляны потерял ориентир. Сколько ни вслушивался, все напрасно. Насторожённая предрассветная тишина. Петро Маркович остановился, но тут же догадался, что браконьеры пришли на место и затаились. Где их сыскать, чтобы вовремя схватить за руку?
Он свернул с тропы, поднялся на противоположный склон и оттуда стал наблюдать. Вот колыхнулась ветка, белесая изнанка листа указала, что под кустом кто-то есть. Вон ещё взбугрилось что-то тёмное на плоском камне. Кажется, спина лежащего человека.
Семёнов заторопился. К дьяволу осторожность! Все эти сложные ходы с разведкой, с ожиданием Котенко, учителя и других верховых показались ему лишними. Сейчас нужно только одно — предотвратить убийство, иначе будет поздно. Убитых зверей не вернёшь, значит, нужно до выстрелов действовать решительно и скоро. Улики? А разве присутствие вооружённых людей в заповеднике — недостаточная улика?!
Петро Маркович торопливо спустился с высотки и, клацнув затвором, уже не таясь, пошёл туда, где колыхались потревоженные ветки. Он не сделал и сотни шагов, как до слуха его донеслись звуки, которые ни с чем не спутаешь: чиркнул металл о камень, звякнуло стремя, послышался скрежет кованого копыта. Едут долгожданные.
Лесник изменил направление и вышел на тропу. Архыз рвался, он чуял чужих.
— Здесь они? — тихо спросил зоолог, сползая с седла.
— Все в потайках сидят. Скорей надо. Видишь большие камни? Там кто-то лежит. Иди прямо до камня, а я возьму правей, там у них тоже засидка. Может, овчара спустишь? Только живей, не ровен час…
— Спугнёт, — сказал лейтенант. — Мы без овчара.
Учитель, неузнаваемый в чёрном ватнике и с двустволкой, побежал следом за лесником. Остальные двинулись к плоскому камню.
Утреннюю задумчивость леса разорвал пронзительный, разбойный свист. Бережной дал сигнал лесникам — сгонять.
Архыз рванулся, Котенко еле удержал поводок. С решительным выражением враз ожесточившегося лица он подтянул к себе овчара и отщелкнул цепочку.
— Иди!
— Не стрелять! — громко закричал Семёнов. — Не стрелять!
Он прежде всех успел к браконьерам, за ним Борис Васильевич. Они возникли позади затаившихся охотников с такой ошеломляющей внезапностью, что даже бывалый снабженец струсил и растерялся. Винтовочный ствол пребольно упёрся ему в спину.
— Ружья на землю! — охрипшим от гнева голосом приказал Семёнов. — Живо!.. И не оглядываться!
— Да кто вы такой? — Грузный снабженец в замшевой куртке чуть замешкался, готовый обернуться, но увесистый удар прикладом между лопаток уложил его носом в прелую хвою.
Человек в пенсне выхватил у всех троих ружья. Лесник скомандовал подняться, положить руки на голову и идти, не оборачиваясь, вниз, на только что покинутую тропу.
И вот тогда, раздирая влажную тишину, левее их коротко грохнул один винтовочный выстрел, тут же второй, а с левого края поляны донёсся шум ломающихся веток, топот и ожесточённое рычание, от которого мороз по коже…
Семёнов пробормотал: «Успели, гады» — и в сердцах выругался.
7
К концу ночи оленей перестал волновать чужой запах. Густой и влажный воздух лениво колыхался между скал, путался в кустах и не передавал никаких запахов. Стадо спокойно провело час или два перед тем, как выйти на луг попастись.
Хоба сладко потянулся, ощущая крепость мышц и чистоту дыхания, оглядел своё стадо и сделал несколько осторожных шагов к травяной поляне.
Тихо, прохладно, воздух ещё не очистился от ночных теней. Обычно в это время начиналась птичья перекличка. Сегодня птицы почему-то молчали. Непривычная, насторожённая тишина заставила оленей замереть у самого края поляны. Погода? Но оленятам быстро надоело стоять, они захрустели травой. Хоба поднял ногу, чтобы переступить, и в это время сзади, где росли клёны, отчётливо и тревожно раздалось дроздиное «чэ-эр-кк, крэ-чэ-чэ». Резкий птичий крик, подобно барабанной дроби, заставил оленей вздрогнуть. Тревожные крики. Значит, что-то неладно. Вот тогда-то Хоба и услышал слабый треск мокрых веток под тяжёлым шагом. Слух выручил его. Стадо поспешно отошло метров на двести от подозрительного места. Вожак раздул ноздри, сработало обоняние. С другой стороны, где грудились камни, нанесло опять посторонним. Раздался хриплый человеческий крик. Потом там началась непонятная возня, и новые приглушённые звуки возмутили слух.
Опасность заставила оленей метнуться вверх по склону. Но оттуда явственно послышался кашель курильщика, который затянулся дымом после долгого воздержания. Загонщики больше не таились. Охота началась.
Для оленей остался один путь — вниз, как раз мимо плоского камня, через буковый лес и на другую сторону распадка. Запах людей с ружьями, как удар бича, остановил Хобу, ланки круто повернули и, делая огромные прыжки, вытянувшись, почти не касаясь быстрыми ногами земли, помчались мимо подозрительного места, мимо Семёнова и поверженных браконьеров в спасительный лес. А сам Хоба…
Он не отстал бы от ланок, но знакомый и близкий запах собаки, для встречи с которой олень пришёл сюда из северных лесов — этот запах, напомнивший ему о Человеке с хлебом, заставил вожака стада на какое-то мгновение остановиться. То была роковая остановка.
Он сделался мишенью для Капустина, который лежал с винтовкой на плоском камне.
Архыз не успел. Никто не успел.
Котенко, лейтенант милиции и Клавдий Ивкин, задыхаясь от подъёма, бежали к Капустину, размахивая ружьями. Окрик Семёнова не дошёл до слуха человека, уже взявшего на прицел рогача. Капустин вообще ничего не слышал и не видел, кроме оленя.
Вряд ли какие сомнения могли возникнуть в его голове, когда за семьдесят метров от него выросла рослая фигура вожака с венцом красивейших рогов. Олень остановился словно специально для прицельного выстрела. Капустин подвёл мушку под переднюю лопатку зверя, мягко, как его учили, нажал на спусковой крючок. Выстрел грянул.
Хоба вздрогнул всем телом и, кажется, удивлённо посмотрел в сторону выстрела. Оттуда, ведь точно из-за камня, до него доносился запах Архыза. Так почему же выстрел? И что за жгучая боль: в боку, во всем теле? И эта слабость…
Прошли, может быть, одна или две секунды, и из-под плоского камня вновь сверкнуло, и опять взвился лёгкий дым. Звука второго выстрела Хоба не слышал. Прямо в грудь ему, как на расстреле, вонзилось что-то кинжальное, в глазах стало темнеть, он пал на колени, качнулся и с тихим стоном повалился на бок, в последнем судорожном напряжении отбросив отяжелевшую голову.
Он уже не слышал, как застонал Капустин, когда на него навалился Котенко, не помнивший себя от злости и гнева; как упал, закричав не своим голосом, дядя Алёха, когда его молча и страшно толкнула в плечо мохнатая грудь овчара, а клыкастая пасть хватнула у самой шеи крепкий брезент. Хоба ничего не слышал. Потому что все это было уже потом…
День справился с ночью, в лесу посветлело, стали видны люди — одни стояли с ружьями, другие сидели кучкой, спина к спине, и не смотрели друг на друга, пока лейтенант милиции отбирал у них документы.
Все это было потом.
Ещё дрожал от возбуждения и нервно зевал Архыз, все время стараясь освободиться от туго натянутого поводка, и косил злым глазом на Бережного, который поглаживал царапины и синяки на шее, на руках, бормоча что-то о беззаконии и своеволии, за которые кому-то придётся отвечать. А Хобы уже не было.
Все жили, действовали, чем-то занимались. Но без него.
Далеко от страшной поляны, в лесу, стояли запалённые ланки и тяжело дышали открытыми ртами. Они ждали своего вожака, который почему-то отстал.
Не знали, что там случилось.
Все кончилось для нашего славного Хобы. Рыжебокая, наверное, уже догадывалась, что произошло, она слышала выстрелы и все-таки не уходила, а стояла, дрожа всем телом и всматриваясь в лес, который они только что проскочили. Вдруг выйдет, пробежит около неё, красуясь и радуясь свободе…
Нет. Не выйдет. Не пробежит.
Любовь к людям стоила ему жизни.
Глава десятая ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПОТУХШИМ КОСТРАМ
1
Александр Молчанов в назначенный день не прилетел.
То ли погода оказалась нелётной, то ли по техническим причинам, но самолёт из Воронежа задержался, прибыл в Адлер лишь поздно ночью, так что Молчанову пришлось дожидаться оказии в Жёлтую Поляну до утра.
С первым рейсом автобуса он приехал к Никитиным.
— Наконец-то! — воскликнула мать, беспокойство которой усиливалось с каждым часом. — Что там случилось? Мы просто заждались тебя! Ну, рассказывай.
— А, пустяки, обычные транспортные непорядки. — Александр стоял возле кроватки Саши-маленького и с улыбкой смотрел на раскрасневшегося во сне мальчугана. Не без тревоги он спросил: — Где Архыз?
— Опять забыла! — Елена Кузьминична подняла и опустила руки. — Вчера заходил Ростислав Андреевич, он и взял Архыза. Сказал — как заявишься, чтобы ехал к Семёнову на кордон. Ты ему срочно нужен.
Молчанов не удивился. Значит, Котенко уже здесь. Ну да, его вызвал учитель. А для чего Архыз понадобился?..
Наскоро закусив, да и то по настоянию Ирины Владимировны, он снял галстук, переодел рубашку, схватил карабин и, сказавши, что на Ауру, прежде всего пошёл к учителю. Домашние ответили: «Уехал в горы».
Он зашагал по знакомой дороге. Предчувствие необычного заставило его заглянуть во двор лесничества. Там под кедрами стоял незнакомый «газик» и новая темно-зелёная «Волга», сидели лесники. Молчанов решительно открыл калитку.
Два хмурых лесника — те самые, что прибыли с Бережным, — лишь кивнули в ответ на его приветствие. В большой комнате лесничества сидели Борис Васильевич, лесник Семёнов, милиционеры, какие-то незнакомые люди.
— Здравствуй! — Учитель поднялся. — Ты ещё не знаешь?
— А что там такое? — спросил Молчанов, глазами показывая на кабинет Коротыча, откуда слышались голоса.
— Допрос идёт.
— Допрос? Что случилось?
— Нехорошее случилось, Саша. Браконьеры, понимаешь ли, этот Бережной и… Убит Хоба.
Молчанов побледнел и с карабином в руке шагнул в кабинет.
— Ты?! — спросил он Бережного и, схватив его свободной рукой за грудь, приподнял над стулом. Наверное, он ударил бы посеревшего лесника, но на плечо ему легла рука Котёнка.
— Оставь, — сказал Ростислав Андреевич. — Он своё получит.
Только сейчас, оглядевшись, Молчанов увидел в кабинете Капустина, Пахтана, лейтенанта милиции и ещё двух незнакомых. Пахтан курил и отчуждённо смотрел в окно на свою «Волгу», Капустин сидел против лейтенанта, который продолжал писать, и лишь коротко глянул на Молчанова.
— Значит, вы стреляли первым? — уточнил лейтенант.
— Не уверен. Может, и вторым. — Капустин сосредоточенно разглядывал свои ладони.
— Винтовочная пуля для животного оказалась смертельной. Бережной тоже попал в цель. Вы, Капустин, и вы, Бережной, совершили уголовное преступление. Это доказано свидетельскими показаниями и другими фактами расследования. Вы признаетесь?
— Добыча оленя предусмотрена планом научных работ, — не очень уверенно сказал Капустин.
— Научный отдел заповедника не знает о таком плане, — прогудел Котенко. — Сочинительство по ходу действия, лейтенант.
Лейтенант посмотрел на Пахтана. Что скажет он?
— Надо уточнить у моего заместителя по науке, — сухо произнёс Пахтан. — Я не в курсе этих заданий.
— Кто дал распоряжение об охоте? — спросил лейтенант.
— Распоряжение дал я. — Капустин опять быстро глянул на Пахтана.
Губы у него пересохли, говорил он с трудом. Глаза беспокойно бегали по сторонам.
— Старший лесничий знал об отстреле?
— Я не успел сказать ему. Был разговор в общих чертах, мы не хотели привлекать внимание к отстрелу…
Лейтенант оторвался от бумаг.
— Прочтите и распишитесь. — Он подвинул протокол допроса к Капустину.
Тот долго читал, отрывался и все посматривал на Пахтана, видно ожидая поддержки. Тщетно. Пахтан сидел как чужой. Тогда Капустин со вздохом подписал протокол.
— Все? Я могу идти?
— Ещё одна формальность. Подписка о невыезде. Распишитесь вот здесь.
— Значит, я арестован? — Капустин сразу побледнел.
— До окончания дела вам придётся оставаться в посёлке. Вы обвиняетесь в злостном браконьерстве, в использовании служебного положения в корыстных целях.
— Этого ещё не хватало! — с деланным смешком сказал он. — Чем же я злоупотребил?
— Мы только что выяснили чем. Распоряжением о незаконной охоте. Кроме того, у вас нашли незаполненные бланки лицензий с подписями и печатями. Ну и ваши гости. Не Пахтан же пригласил их на охоту в заповедник?
— Подписывайте и давайте кончать, — резко сказал Пахтан. Волевое лицо его покрылось пятнами. В какое положение ставил его Капустин. Отдохнул, называется.
— Мне тоже можно иттить, гражданин следователь? — Дядя Алёха робко приподнялся.
— Нет, Бережной, с вами разговор впереди. Долгий разговор. Сейчас я допрошу Коротыча, а потом мы займёмся вами.
Котенко и Молчанов вышли. Гости охотничьего дома уже столпились вокруг Пахтана и Капустина. У них шёл свой, кажется, не очень весёлый разговор. Возбуждённый снабженец в испачканной замшевой куртке требовал машину, чтобы немедленно уехать из этого, как он выразился, «подозрительного места». Наконец-то до него дошло. Капустин смотрел себе под ноги.
Пахтан знаком руки подозвал Котенко.
— Распорядитесь, пожалуйста, чтобы Коротыч отвёз всех этих людей в аэропорт, — сказал он. И, не скрывая своего презрения к Капустину, повысив голос, при всех заявил: — А вас, Капустин, я выручать не намерен. Заварили кашу, расхлёбывайте сами. Вряд ли мы сможем и дальше работать вместе. Так опуститься!..
Он сел в свою красивую машину и сильно захлопнул дверцу, отделив себя от Капустина толстым стеклом.
Только тогда Капустин глянул на Бориса Васильевича, на Котенко и Молчанова. Слабая и жалкая улыбка тронула его губы.
— Вот так случается, — сказал он, желая вызвать сострадание.
— Скажи спасибо, что не я выследил тебя в лесу, — сквозь зубы произнёс Молчанов. Ты лёг бы рядом с оленем, это уж точно.
— Идём, идём, Саша. — Учитель торопливо взял Молчанова под руку. — Теперь ничего не сделаешь. Идём!
2
После долгого успокоительного разговора в доме у Бориса Васильевича Молчанов просидел ещё час или полтора с матерью, с маленьким Сашей и его бабушкой. Разговор у них никак не клеился, настроение Александра передалось женщинам. Даже скороговорка малыша не могла вывести Молчанова из подавленного состояния.
Хоба стоял у него перед глазами. Убитый Хоба.
Гибель оленя означала конец многолетнего опыта по приручению дикого зверя. С Хобой и Одноухим зоологи заповедника связывали большие надежды. Это был очень обнадёживающий замысел, и если бы он продолжился…
Вся обстановка в заповеднике способствовала их опыту. Нетронутая природа, полный запрет на охоту, безлюдье, покой, помощь зверям в трудные дни и месяцы — такая деятельность могла принести хорошие плоды, ещё раз доказать возможность сосуществования, расцвета фауны даже в наш жестокий век необратимых преобразований в природе.
К несчастью, налаженный процесс сближения уже не однажды оказывался под угрозой. Теперь погиб Хоба, а с ним оборвалась и цепочка, ведущая к другим оленям. Осталась одна надежда — одноухий медведь. С помощью Архыза его нужно найти как можно скорей и не спускать глаз. Вряд ли за эти дни он успел вернуться через перевал на северную сторону, бродит где-нибудь поблизости, ожидая встречи.
Значит, немедленно в лес. Брать Архыза, искать Лобика.
После облавы Котенко оставил Архыза у лесника Семёнова. Сам Петро Маркович до вечера не освободится, он даёт показания. Молчанов не мог ждать его. Надо идти на Ауру, оттуда с Архызом к месту преступления и дальше — по звериным тропам, пока не отыщется Лобик, который сделался ныне вдвойне дороже ему. Лесники говорят, что Хоба был не один, а со стадом. Откуда пришли с ним ланки? Может быть, с севера? И это нужно выяснить, отыскать стадо. Тоже не могли далеко уйти, крутятся где-нибудь у места трагедии.
— Я дня на три, — сказал он матери и Никитиной. — Вернусь, и тогда мы с тобой, ма, поедем домой, в Камышки. А то наша хата совсем остыла без людей.
— Куда ж ты в городском платье-то? — спросила Елена Кузьминична. — Переоденься.
— Куртку и плащ я у Семёнова оставил. Переоденусь там. И Архыза возьму.
Его все-таки заставили надеть другие ботинки и прочные брюки. Саша-маленький не забыл напомнить, чтобы скорей приводил Архыза. Он скучал по доброму овчару.
Не минуло и трех часов, как Молчанов прошёл мимо опустевшего охотничьего дома и подошёл к кордону Петра Марковича. Прежде всего заглянул во двор Архыза там не оказалось.
— Убег твой овчар, — горестно сказала лесникова жена. — Перегрыз привязку и умчался. Однако не в посёлок, а в горы, это я углядела. Видать, к тому самому месту. И часу не прошло, как урвался негодник.
— Тут где-то моя куртка, — напомнил Молчанов.
— Ох, Александр Егорыч, разве никто не говорил тебе? Пропала одёжа, так чудно пропала, доси концов не найдём. Ты пока возьми Петрову телогрейку и плащ его возьми, а уж потом мы уладим как-нибудь, купим, что ли…
Он взял лесникову одежду — не идти же в горы налегке, у костра придётся ночевать. Немного отдохнув, двинулся по тропе наверх.
Если не он Лобика, то медведь сам должен найти его. Тропы здесь известные, следы на них остаются, запах остаётся, овчар в этом деле разбирается.
Уже сгущались сумерки, когда Молчанов добрался до края страшной поляны, нашёл, по рассказам учителя, высокий плоский камень и взобрался на него. Бинокль помог разглядеть затянутый сумерками луг. Метрах в восьмидесяти отсюда на примятой траве лежал Архыз. Он свернулся клубочком, только уши торчали из густой шерсти. Вероятно, спал, намучившись за вчерашнюю ночь и колготной, страшный день. Спал или делал вид, что спит, всего в нескольких метрах от тёмного пятна крови, впитавшейся в землю.
Молчанов опустил бинокль. Слезы затуманили эту трогательную картину. Какова же сила звериной привязанности, если привела она Архыза на место трагедии?..
Почему он бросился именно на Бережного, когда зоолог сказал: «Иди!» — и когда почувствовал свободу действия? Наверное, существует какая-нибудь интуиция или подсознание, позволяющие собакам почти мгновенно распознавать доброго среди недобрых, участливого среди равнодушных, злодея между всеми другими людьми. Говорят, ищейкам надо дать понюхать что-нибудь из вещей, к которым только что прикасался преступник. Но одного запаха все же мало для успешного сыска. Интуиция — сложнейшее и глубокое чувство — несомненно помогает ищейке, как сразу же помогла она Архызу выбрать человека, особо опасного в тот момент для его друга — оленя. Он не слышал и не видел Капустина на камне, тогда как Бережной с ружьём стоял внизу, между овчаром и оленем, и у Бережного было ружьё, нацеленное на оленя, который ожидал Архыза. Архыз бросился на Бережного с тем глухим, всезаполняющим бешенством, которое враз подымается из глубин сознания при виде врага. Такое же бешенство он в своё время испытывал, когда Молчанову угрожали браконьеры, когда чуял в засаде рысь, когда чужая собака приближалась к Саше-маленькому…
Не его вина, что винтовка Капустина и ружьё Бережного сработали чуть скорее, чем он прыгнул. Над временем он не властен, но он не медлил, и если бы Котенко спустил его пятью секундами раньше, Бережной вряд ли сумел бы нажать на спусковой крючок. Увы, усилия Архыза оказались недостаточными, он не успел защитить Хобу. На глазах у овчара убитого оленя подняли и увезли, но это был уже не Хоба, которого Архыз знал много лет, а что-то непонятное, холодное, не издающее привычного тёплого запаха… Сегодня, вырвавшись от Семёновых, Архыз прибежал на это место в надежде найти прежнего Хобу, но кровь оленя, след поверженного на поляне погасили и эту надежду.
Архыз лежал, свернувшись в клубок. Он дремал, и видения пережитого одно за другим проходили в его затуманенной голове, отгоняли здоровый сон, заставляли то тихонько скулить, то дёргать лапой, то вдруг поднимать голову и бессмысленным взором обводить тихую, засыпающую поляну.
Шорох за камнем, треск веток, звуки какой-то деятельности, а потом запах огня и тёплой одежды он поначалу воспринял тоже как продолжение видений, но эти звуки и запахи не уходили и не сменялись другими, и все более настойчиво вторгались в сознание Архыза и наконец заставили его очнуться.
Архыз поднял голову и выставил уши. Что там, за камнем? Отсвет костра плясал на скале, потрескивал огонь, а сквозь запах чужой одежды вдруг прорвалось что-то до боли родное. Ещё не веря в чудо, овчар тихонько пошёл к костру и, приблизившись, увидел, кто у костра. Он не завизжал от радости, не прыгнул вперёд, боль недавней утраты не позволила счастливому волнению вырваться наружу. Архыз осторожно пролез сквозь кусты, подошёл к Александру и, не подымая глаз, улёгся, положив тупоносую большую морду на колени человека.
Молчанов взял его голову в ладони, поднял выше. В красноватом, меняющемся свете костра глаза собаки странно блестели, в них он увидел — впервые в жизни — настоящие слезы.
Увидел, и у самого защипало под веками, захотелось глубоко и судорожно вздохнуть.
— Не плачь, Архыз, — сказал он и прижал к себе тёплую морду овчара. — Все случается в жизни. Вот и это вдруг упало на нас. Не надо плакать, дружок. Ты хорошо сделал, что пришёл сюда. Теперь я знаю, как ты можешь любить и как ненавидеть. Ты самый преданный и верный друг.
Они сидели у костра долго, пока не прогорели последние ветки. Александр гладил густую шерсть, что-то говорил, и сердце зверя, расстроенное, больное от пережитого, постепенно вновь наполнялось признанием значимости жизни, понятием добра и счастья только оттого, что он не одинок.
Потери всегда горьки, возвращение к потухшим кострам больно и надолго ранит сердце.
Рано утром они поднялись. Молчанов приготовил на скорую руку завтрак. Затушили костёр и пошли искать Лобика.
Они ещё не знали, что произошло с Одноухим.
Беда никогда не ходит в одиночку.
3
Александр явился на то место, где сердитый кабан «С приветом» держал Лобика в длительной осаде. Поиск надо начинать отсюда.
Свежих следов медведя овчар нигде не обнаружил.
На своём старом кострище Молчанов сложил небольшой костёр, согрел чай и посидел, отдыхая, пока Архыз бегал исследовать ближайшие урочища. Он вернулся без всяких признаков возбуждения. Не нашёл медведя, только устал.
Вновь поднялись они по звериным тропам ближе к перевалу, достигли опушки леса, почти целый день шагали этой опушкой, пересекая все новые и новые тропы, по которым серны, олени и кабаны ходили к воде и обратно. Проследили путь скрытной волчьей семьи; к удивлению Александра, наткнулись на глубокие раздвоенные отметины одинокого зубра, на свой страх и риск перебравшегося через перевал; спугнули двух молодых рысей, перебегавших от дерева к дереву, видимо, за косулями, чьи остренькие следы глубоко вмялись в глинистую почву. Прыжки испуганных козочек достигали двух с половиной метров в длину. Не легко хищным кошкам состязаться с ними в беге! По всем этим следам читалась жизнь горного леса. Медведей здесь не было.
Зато они сделали открытие, которое заставило Молчанова подумать о новых возможностях.
Разглядывая в бинокль поляны в двух километрах от места вчерашней трагедии, он заметил одинокую ланку с крепеньким ланчуком. Рыжебокая оленуха показалась ему знакомой. Молчанов вспомнил, что в прошлом году видел её со своим оленем на той стороне гор. Так, значит, молодой олень — сын Хобы? Теперь уже с удвоенным вниманием принялся он разглядывать стройного годовика. Да, есть в нем что-то очень похожее… Крупная фигура, гордая осанка, особая манера подымать мордочку с шишковатыми рогами. И цвет шерсти разве чуть-чуть светлее отцовской. Но это уже от матери.
Так вот он, Хоба-второй, продолжение рода! Это настоящий дикарь, которого не так просто приручить, тем более после всего случившегося на его глазах и в присутствии Рыжебокой.
И все же… Не уходят они от места гибели своего вожака. Видимо, ещё долго пробудут здесь, а может быть, останутся на зиму, и тогда представится возможность что-нибудь придумать для восстановления доверия к человеку.
Как все осложнилось!
Александр сделал на карте пометку. Он ещё придёт в эти места.
Оставив оленей, Молчанов перебрался через небольшой водораздел, спустился в долину другой реки; тут Архыз оживился и забеспокоился. Молчанов увидел пятипалые следы, но то были старые следы, вероятно, недельной давности. Лобик…
Насчёт срока давности Архыз имел своё мнение: он усиленно рыскал по густым кустам, и Молчанов с трудом успевал за ним. Совсем неожиданно они наткнулись на след гусеничного трактора и саней. В черте заповедника?!
Александр хотел было сразу пойти по следу, который спускался в долину, чтобы проверить, откуда трактор и зачем приходил в эту глухомань. Но Архыз исчез, долго не отзывался, а когда появился, то с находкой: в зубах у него моталась серая тряпка.
— Что такое? — Молчанов осторожно взял находку, брезгливо развернул. Кусок брезента. А у кармана большая чёрная пуговица, которую он сам когда-то пришил, чтобы пристёгивать клапан, если в карман положена интересная гусеница, бабочка или живой полчок. Остатки его плаща? Того самого, который таинственным образом украден из сеней лесникова дома? Вот так находка! В самом глухом месте, вдали от Семеновского кордона. Странно…
— А ну, Архыз, веди, показывай, — приказал он и через пять минут в кустах увидел целую кучу таких тряпок. Вот он, плащ, вот она, куртка! Вернее, куски одежды, порванной сильной, когтистой лапой. Человеку такое занятие непосильно, да и кому нужно — сидеть и рвать толстый брезент! Очевидно, это сделано медведем. Старые следы вокруг принадлежали Лобику — у кого же ещё такая громадная лапа! Но Лобик не может рвать одежду Молчанова; он знает эту одежду и её запах, только безумие способно толкнуть Одноухого на подобный шаг…
Новая загадка, которую нужно отгадать.
И ещё этот странный трактор. Вот сюда он подтащил сани, здесь разворачивался, сдавал назад. Полозья ткнулись в откос, камни и глина осыпались. Ничего не срублено, вокруг ничего не взято в лесу. Игрушки играли? С этого места сани повезли назад, к речке. Совершенно непонятные выкрутасы. Пьяные, что ли?
Архыз вынюхивал каждый метр земли. Дважды останавливаясь у сваленной бурей осины, он тихо рычал, и шерсть на его спине приподнималась. Кто из ненавистных ему сидел на этой колоде? Вот и окурок в траве. По окурку ничего не восстановишь.
— Идём, — сказал Молчанов собаке, и они двинулись следом за трактором в сторону южной границы заповедника.
След привёл к старой дороге на усадьбу чайного совхоза. Через час или полтора Молчанов стоял во дворе механических мастерских этого совхоза и оглядывался вокруг с видом комиссара Мегрэ, выследившего преступника. В углу двора сиротливо стояли сани. Те самые.
Подошёл механик.
— Вот на этих санях, — сказал Молчанов, — кто-то таскался в заповедник.
— Было такое дело! — Механик улыбнулся. — Медведя ловить ездили. А кто приказал — не скажу. По-моему, ваши тут были, с директором договаривались.
— Поймали медведя?
— А как же!
— Вы сами видели?
— Вот как вас вижу. На санях клетка, значит, железная, а в ней здоровущий медведь. Весь совхоз сбежался смотреть.
— Куда увезли его? — Сердце Молчанова готово было выскочить, так волновался он. Ведь речь шла о Лобике! Теперь он не сомневался, что Лобик в беде.
— Припоминаю, разговор шёл об отдельном лесничестве. Ну, где самшитовая роща. Там, значит, решили зоопарк открыть. Кран пригнали, клетку перегрузили и быстренько уехали. В лёжку лежал тот медведь. И не поднялся, не глянул.
— Кто-нибудь сопровождал его?
— Лесники были, я их не знаю.
Попутная машина нашлась не сразу, но нашлась. Молчанов подсадил в кузов Архыза, запрыгнул сам и поехал в сторону города-курорта. Чтобы избежать неприятностей с Архызом в автобусе, он сунул шофёру трояк и упросил довезти прямо до отдельного лесничества.
Уже вечерело, когда он выпрыгнул из кузова полуторки, чуть-чуть не доехав до конторы лесничества. Постоял на дороге, размышляя — зайти ему в контору или нет. Не зашёл, а, покрепче намотав на руку поводок, двинулся по узенькому асфальту в гору, откуда группами шли последние экскурсанты, оживлённо делившиеся впечатлениями от всего только что увиденного.
Калитку в тисо-самшитовую рощу закрывали около семи.
Не доходя до неё, Молчанов свернул правее, обошёл низом домик музея и обслуги, продрался сквозь густой ежевичник и очутился на берегу реки, куда примыкала роща. Здесь они посидели с Архызом, дождались полной темноты и только тогда поднялись по опустевшим дорожкам к главному входу в парк, где стояла железная клетка с медведем.
Электрическая лампочка на столбе жёлто и тускло освещала будку контролёра у входа и клетку. Служанка поставила медведю ведро с вечерней едой, заперла дверку и ушла. Никого во всей роще.
Молчанов приблизился. Тёмная туша медведя лежала головой к лесу, как раз откуда он шёл. Архыз вильнул хвостом. Александр вгляделся: одно ухо зверя сторожко следило за новыми пришельцами. Сомнения исчезли. Это Лобик. Виноватая улыбка раздвинула губы Молчанова. Что же ты, Одноухий, не двинешься, не проявишь себя? Или не рад, что мы пришли к тебе, друг?..
— Лобик, — тихо произнёс он. — Ты ли это? Не узнаешь? Смотри, и Архыз со мной, вот он, Архыз, видишь? Встань, подойди к нам. Ну, поднимись же, мы пришли помочь тебе…
В тусклом свете блеснули глаза медведя. Что выражали они — сказать невозможно.
Молчанов ждал. Прошла минута-другая.
Большой, грузный зверь приподнялся, отвёл глаза, так и не взглянув на Человека с собакой, повернулся и лёг мордой к дороге, где днём толпились ненавистные ему люди.
Движение это не нуждалось в оценке. Не хочу видеть!
Александр Егорович тяжело вздохнул. Не ожидал. Он сел на землю около клетки и закрыл лицо ладонями. Что можно сделать с живым существом!..
4
«Тоскуй не тоскуй, а есть-то надо…»
В словах женщины, которая кормила медведя в клетке, была несложная жизненная истина, проверенная многими поколениями.
Первые два дня Лобик ничего не ел и не испытывал желания есть, хотя в углу клетки все время стояло ведёрко с похлёбкой, а на полу, часто возле самого носа, лежали куски хлеба, пряники, конфеты. Это старались сердобольные посетители самшитовой рощи. И каждый раз удивлялись, почему медведь не подбирает. Другие так сами клянчат. Видно, больной, вот и не ест. Поправится, тогда — с удовольствием.
Лобик на самом деле был нездоров. Его болезнь врачи могли бы отнести к разряду душевных. Все у него было в норме, только жить не хотелось. И это была самая тяжёлая болезнь. Жить не хотелось…
Отделённый от леса, от свободы железными прутьями, постоянно окружённый любопытными туристами, пленник всецело ушёл в себя. Не только решётка, но и воздвигнутая им самим глухая стена безразличия, равнодушия, тоски отделила его от остального мира. Вскоре он забыл детали пленения, лица лесников, так коварно заманивших его в клетку, но все случившееся постоянно связывалось в сознании с запахом Человека и собаки, предавших его.
Ушла свобода, а с ней ушла и жизнь. На что она?
Рухнуло доверие, с таким трудом выросшее за этот год.
Ничего не осталось.
Лобик не ел и не вставал. Лишь когда ночь спускалась на рощу и горы, когда смолкал гул близкого города и пустели дорожки в самой роще, он позволял себе встать на ослабевшие лапы и начинал осторожно ходить вдоль четырех стенок своей тюрьмы. Он в сотый раз исследовал каждый уголок клетки, трогал один за другим прутья, ковырял пол. Становился на задние лапы и проверял прочность потолочной решётки. Вдруг что-нибудь ослабело за день, порвалось, согнулось, исчезло?..
Однажды под утро, уставши от исследований, он остановился над ведёрком, опустил морду и сухим, отвыкшим от пищи языком лизнул холодную похлёбку. Вкус её показался незнакомым и поначалу не привлёк. Но уже через пять минут рот наполнился слюной, и он впервые за дни пленения ощутил желание поесть.
С этого дня он начал вылизывать ведро.
«Тоскуй не тоскуй, а есть-то надо…»
Слабость ещё оставалась, но когда Лобик теперь подымался по ночам, он чувствовал себя твёрже, и лапы его, раскачивающие решётку, вновь начали обретать силу.
Днём он по-прежнему дремал и старался не замечать, что вокруг.
Надежда на освобождение теплилась в его ослабленной, дремотной душе.
Но проходили дни, ничего не менялось.
Женщина, приносившая еду, разговаривала с ним ласково, называла Мишкой и улыбалась, забирая пустое ведро. Но она вела себя с предельной осторожностью. Стоило Лобику чуть шевельнуться, как тотчас же прикрывала дверцу. Уходя, она плотно двигала задвижку и вешала замочек — простой жестяной замочек со щёлкающей дужкой.
Лобик попробовал как-то встретить её лёжа мордой к двери. Она не рискнула открыть, и тогда он, обиженный на самого себя, отошёл на обычное место.
— Ну вот, теперь можно, — сказала она и проворно втолкнула ведро.
Замок щёлкнул.
Нет, не перехитришь!.. В надёжной тюрьме.
В тот вечер он почуял Человека с собакой, когда они ещё сидели у реки, дожидаясь темноты. Тяжёлый рык поднялся из его груди, но медведь погасил ненависть. Любопытство, зачернённое непроходящей обидой, заставило его ждать, ничем не выдавая внутреннего волнения. И когда он увидел Молчанова, не поднялся, хотя все в нем клокотало. Не будь этой проклятой решётки меж ними…
Ласковый голос Александра Егоровича потряс его, скомкал обиду и пригасил злое чувство мщения. А когда Человек сел у самой клетки и закрыл лицо руками, медведь ощутил странное желание тепла, участия, дружелюбия, настолько сильное, что он едва не поднялся, не приблизился.
Прошло ещё несколько минут. Лежал, отвернувшись, медведь. Сидел, сгорбившись, Молчанов. Собака тихонько переступала с ноги на ногу. Роща молчала, погруженная в сон.
Забросив карабин за спину, Молчанов встал, обошёл клетку. Решено! Ещё раз огляделся, прислушался. Тихо вокруг, никого нет. Опустился на корточки перед дверкой, повертел в руках замочек. Снова встал, даже прошёлся по дорожке, вернулся. Волновался. Вытащил из потёртых ножен отцовский косырь, верно служивший ему многие годы, осторожным движением вставил острый конец в дужку замка и нажал. Дзинькнув, упала на асфальт исковерканная жестяная коробочка. Он поднял её, вынул из запора дужку и положил обломки в карман.
— Ну… — тихонько сказал он и ещё оглянулся. — Только бы никого ты не встретил, Одноухий! Только бы никого, потому что я не ручаюсь…
Дверка слабо скрипнула и открылась настежь.
Лобик все ещё лежал, но взгляд его теперь неотрывно следил за действиями Человека. Что он там делает? В решётке возник прямоугольник, не перечёркнутый прутьями. Можно идти… Идти или бежать? А вдруг новая ловушка? Ведь от Человека все беды, все неприятности…
Молчанов потянул овчара и отошёл от клетки в сторону, преграждая путь к шоссе и освобождая дорогу через рощу к реке и к лесу.
Лобик поднялся и, все ещё пугаясь нового коварства, пугаясь свободы, к которой так стремился в чёрные, бесконечные ночи, высунул из клетки плоскую морду, огляделся. В темноте белело лицо освободителя.
— Иди, Лобик. Ну же, ну…
Медведь вылез наружу, потянул воздух. Именно оттуда, от реки, так сильно пахло лесом, прелой листвой, спелыми желудями, холодом, росой, снежными горами… Свободой!
Ещё плохо веря в происходящее, Одноухий пошёл, вихляя задом. Ноги плохо слушались его, но с каждым шагом прибывали силы, дышалось чаще и глубже, мускулы получили наконец работу, по которой соскучились.
Метрах в двадцати сзади двигался Человек с собакой. Медведь часто оглядывался, но страха уже не ощущал.
Он дошёл до обрыва. Дорожка, сделанная для экскурсантов, резко спускалась вниз, косо пересекая крутосклон. Местами огороженная перильцами, она была узкой и опасной. Медведь резво побежал по ней, и когда Молчанов подошёл к обрыву, Лобик уже скрылся. Человек осторожно зашагал тем же путём.
В буковом лесу, где было совсем темно, почти под стенами старой генуэзской крепости, поросшей толстыми грабами, Молчанов увидел светящиеся глаза. Лобик ожидал их. Может быть, хотел поблагодарить?.. Глаза исчезли, едва Человек и собака вышли на поляну.
Дальше начинались джунгли.
Александр жалел одежду и не полез через колючки. Он свернул к реке и некоторое время в полной темноте двигался за Архызом то по правому, то по левому берегу, переходя вброд мелководье. Ему, как и Лобику, хотелось уйти подальше от места незаконного действия. Незаконного? Впрочем, как посмотреть…
Миновав усадьбу пригородного совхоза, Молчанов вышел на лесовозную колею и к полуночи оказался далеко от рощи, в глухом лесу. Здесь он набрёл на полянку, заваленную сушняком, развёл костёр и, свернувшись с наветренной стороны у огня, сразу уснул.
Так спят люди, которым удалось сделать доброе дело.
Ни в эту ночь, ни в следующие дни странствий Одноухий ему не встречался, и Архыз не почуял медведя поблизости.
Вряд ли он скоро попадётся на глаза людям.
Александр Молчанов изменил свой маршрут. Он пошёл к ущелью Мзымты в Жёлтую Поляну.
Нужно было связаться по радио с конторой заповедника.
Глава одиннадцатая ПЕСНИ ЧЁРНОГО ДРОЗДА
1
Пришёл сентябрь, месяц Сухого Листа, небо над горами ещё больше поголубело, а солнце расщедрилось и разогнало все даже самые маленькие облака, полностью очистив красивое небо. По календарю лето ушло, по погоде — только разохотилось.
Сухой воздух свободно наполнял лёгкие, дышалось глубоко и вкусно.
Золотая осень. Переплетённые паутиной кусты, запах спелых плодов и бесконечное синее небо над головой.
Уплыли в прошлое драматические события в верховьях Ауры, чучело погибшего Хобы теперь возвышалось в центре самой большой комнаты природоведческого музея. Его гордо поднятая голова с венцом рогов застыла с таким выражением, словно был он бесконечно удивлён и до сих пор не хотел верить случившемуся; так с вечным недоумением в глазах он и застыл на годы, заставляя посетителей умолкать при взгляде на него.
О Лобике не было никаких вестей.
Проведав в Камышках мать, Александр Егорович вновь собрался через перевал, чтобы на пути, в последний раз за этот год, встретиться с ботаником и вместе осмотреть контрольные делянки на пастбищах. Зимой они решили написать в научный журнал о результатах опыта по допустимой нагрузке пастбищ; не подлежала сомнению истина, что количество травоядных копытных в заповеднике можно удвоить без всякого риска для лугов.
Выслеживая Рыжебокую, Молчанов нашёл ещё два стада из северянок, пришедших на южные склоны. Начало миграции, положенное погибшим оленем, обрадовало молодого учёного. Перевал уже не отпугивал оленей. Найдут они дорогу на юг до глубоких снегов — и в заповеднике вздохнут свободней: зимняя бескормица не будет бедствием для оленей, Причерноморье станет их вторым домом.
Какой пугливой теперь сделалась Рыжебокая, показала последняя встреча на верхних лугах. Заметив Человека с собакой, оленуха немедленно покинула стадо, с которым ходила, и через сорок часов Молчанов разглядел её уже в долине верхней Сочинки, за двадцать километров от места первой встречи.
Поди-ка приручи!
Сразу после гибели Хобы, когда в Южный отдел прилетел директор заповедника, чтобы решительно наказать виновников и распрощаться с пособниками браконьерства, они вместе с Котенко обсудили новое положение.
— Мы все-таки наивные люди, — задумчиво сказал зоолог, когда речь зашла об олене и медведе. — Мы пытались наладить доверчивые связи с дикими зверями так, будто, кроме нас, в лесу никого нет. Молчанов, олень, медведь, собака… И все. Двое или пятеро прониклись этой благородной целью и сделали все, что могли для приручения. А рядом ходили или ездили двадцать или сорок лесников, шумели лесорубы, бродили туристы, которые при виде зверя вдруг сами дичают, начинают улюлюкать или стрелять. И все летит к чёртовой бабушке. Желание — одно, атмосфера — другое. Пока каждый человек в заповеднике и вокруг него не проникнется чувством братства к дикому зверю, все наши начинания обречены на провал. Это ясно как божий день. Мне случалось быть на Аляске, в Северном заповеднике. Лишь двадцать лет спустя, после долгого периода жизни рядом с дружелюбным народом, олени стали настолько доверчивыми, что теперь подходят к автобусам с туристами и берут лакомства прямо из рук. Двадцать лет взаимного изучения и доверия! Так что, Саша, смирись. У тебя все ещё впереди.
— Я нашёл молодого Хобу, — сказал Молчанов. — Я займусь им.
— Похвально! И не успеешь поседеть… — Котенко деланно засмеялся и погрустнел.
— Все равно, — упрямо сказал Молчанов.
Директор внимательно посмотрел на него.
— Боюсь, что у вас не будет необходимого времени для этого, Александр Егорович, — сказал он. — Дело в том, что в самое ближайшее время на вас будет возложено множество новых забот и обязанностей.
— Не понимаю! — Молчанов пожал плечами.
— Через две недели лесничий Коротыч покидает свой пост. Он уходит от нас. Не подошёл для работы в заповеднике. И вот мы посоветовались, спросили мнение Бориса Васильевича и решили назначить вас начальником Южного отдела. Так что, Александр Егорович…
Молчанов быстро глянул на зоолога. Котенко улыбался.
— А что, Саша? Это вовсе не значит, что ты оставляешь научную работу. Напротив, она приобретёт размах.
— Ну, знаете… — Молчанов растерялся. В одно мгновение он вспомнил мать, её желание переехать в Жёлтую Поляну, вспомнил, что Таня должна приехать туда на постоянное жительство, что Саша-маленький все ещё здесь… И колхидские джунгли вспомнил, где когда-то его отец стоял с винтовкой, — этот огромный лесной край, который теперь должен охранять он.
— Раз Борис Васильевич…
— Он нам и посоветовал, Саша. — Котенко положил руку на его колено. — Все идёт к тому, что ты обживёшься здесь. И охотничий дом сделаешь действительно базой для учёных. И зоопарк, который, конечно же, нужен, хоть и начался так неудачно. Словом, дел много, их хватит надолго.
После этого разговора он ушёл на север и теперь собирался к ботанику, а затем в Южный отдел, чтобы принять дела у Коротыча.
Договорились, что Елена Кузьминична приедет, как только продаст дом и распорядится хозяйством.
Уже перед уходом он связался по рации с заповедником, и вот тогда директор сказал ему о Бережном: пропал человек.
— Как пропал? — удивился Молчанов. Он знал, что дядя Алёха, просидев некоторое время в предварительном заключении, был отпущен под расписку и в тот же день, махнув рукой на эту формальность, ушёл, как говорили, домой, в Шезмай. Ловить его никто не собирался, прокурор считал, что на суд он все равно явится. А теперь выясняется, что домой он так и не пришёл. Неужели в бега подался? Для его возраста поступок более чем странный.
— Вряд ли, — сказал на это директор. — Но как бы там ни было, вы должны остерегаться. Мы дали задание лесникам поискать по тропам. Вы идёте с Архызом?
— Да, беру с собой.
— Ну и отлично! Желаю лёгкой дороги.
Об этом разговоре Саша матери не сказал. Он и сам не очень верил, что «Сто тринадцать медведей» способен перейти на положение бродяги. Не тот человек.
Сопутствуемый добрыми пожеланиями матери, Александр Егорович с полной экипировкой ушёл в горы.
2
Виталий Капустин несколько дней метался между Адлером и Жёлтой Поляной.
Он обошёл всех руководителей района, упрашивал, доказывал, вызывал жалость или сострадание. По три-четыре раза связывался с Москвой, Ленинградом, обзванивал друзей, знакомых, все ещё надеясь на покровительство свыше, хотя его непосредственный начальник Пахтан в глубоком раздражении вскоре уехал из города, считая, не без основания, что отпуск у него испорчен. Но, думал Капустин, если этот бросил его в бедственном положении, потому что видел преступление своими глазами, то другие, находясь вдалеке и под впечатлением его жалостливых рассказов, могут и помочь.
Он не ошибся.
Двое влиятельных знакомых уже звонили в Адлер и просили если не освободить от наказания, то хотя бы позволить Капустину выехать до суда в Москву. Почва для снисхождения была таким образом готова, а вскоре позвонил заместитель Пахтана по науке и сказал, уже официально, что он лично просил старшего специалиста отстрелять одного оленя для осмотра и определения, чем питается животное в период осеннего гона. Он готов, добавил научный руководитель, прислать задним числом написанную лицензию.
В прокуратуре пожали плечами и сочли возможным до суда не задерживать больше Капустина в заповеднике. И сам суд над ним стал некоей проблемой. Все вроде произошло законно.
Получив разрешение на выезд, старший специалист впервые за беспокойную неделю вздохнул с облегчением и начал замечать обыкновенную жизнь вокруг себя. У него оказалось свободное время и тогда он вспомнил о сыне.
Явившись в дом к Никитиным, отец прослезился. Но Ирину Владимировну он слезами не разжалобил, она встретила его насторожённым, суровым взглядом. Она имела право на осуждение. Сколько времени крутится в Поляне и вокруг посёлка, а не нашёл пяти минут, чтобы заглянуть или хотя бы спросить о сыне. Такое женщины не прощают.
Саша-маленький лишь в первую минуту заинтересовался новым для него человеком, да и то с опаской. Он поглядывал на Капустина, на суровое лицо бабушки и старался не отходить от неё. За два года он забыл отца, и теперь требовались не напоминания, не слова, а особая душевная чуткость, чистота помыслов, чтобы вновь расположить к себе маленького человечка и сказать ему, что он его отец. Увы, ни того, ни другого у Капустина не обнаружилось, Саша заскучал и ушёл в другую комнату. Пусть этот дядя посидит и поговорит с бабушкой, если уж ему так этого хочется.
Разговор состоялся. Ирина Владимировна сказала:
— Садитесь. Что вас привело сюда?
Капустин сразу обиделся:
— Разве можно так спрашивать — что привело? К сыну, конечно. Как он поживает, здоров ли? Может, чего надо ему?
— Вы могли узнать об этом две недели назад, когда приехали.
— Был очень занят, ни секунды свободной. Верите ли…
— Верю. А теперь вы не очень заняты?
Он вздохнул и отвёл взгляд.
— Теперь я никто. Безработный, Ирина Владимировна. Мало того, ещё и под следствием. Вот так повернулась жизнь. Все придётся начинать сначала. Как после землетрясения.
Она уже знала подробности, поэтому не удивилась его словам, жёстко сказала:
— Вероятно, вас возьмут на прежнюю работу, если обратитесь к директору турбазы.
— Что?! — Он непритворно удивился. — Какая турбаза?
— Я говорю, что на здешней турбазе всегда есть вакансии инструктора. Если начинать сначала — идите туда, где в своё время работали.
Он засмеялся.
— Только и остаётся! Нет, дорогая Ирина Владимировна, я не пойду на турбазу. Опыт у меня есть, знания, сила, — слава богу. Лишь кончится эта глупая история с судом и следствием… Вы ещё услышите о Виталии Капустине!
Она промолчала. Как ошиблась в нем Танюша! Ведь был такой честный, открытый парень, никто и подумать не смел, что заложены в нем — или привились очень скоро? — такие черты, как себялюбие и карьеризм. Даже теперь, получив удар, способный потрясти любого другого, он ничего не понял и готов начинать все сначала, но в том же духе. Она совсем не удивлена, что Таня разлюбила своего мужа. Вероятно, не раз пыталась исправить в нем плохое. Ирина Владимировна помнит Танины письма с горькой иронией в адрес «запутавшегося». И вот теперь он сам перед ней. Снова запутавшийся. Стоило зайти разговору о личных делах, как у гостя враз просохли глаза, исчезла наигранная душевность, и он уже забыл, зачем пришёл.
— Вчера вечером меня освободили наконец от глупой подписки о невыезде. Был звонок… Словом, неприятность бесследно уплывает, завтра я лечу в Москву и там уж нажму на все педали. Так что местная турбаза не вызывает у меня особой радости, есть работа посерьёзней и получше. — Он вдруг осёкся, его самоуверенный взгляд остановился на беспечно играющем сыне, которого он увидел за стеклянной дверью. Лицо Капустина обмякло. — Совсем забыл отца, совсем, — сказал он, вздохнув от жалости к себе.
— Вернее сказать, совсем забыли вы своего сына, — поправила Ирина Владимировна.
— Если бы вы знали! — вдруг воскликнул он. — Сколько раз просил я Таню, как убеждал, что нельзя разрушать семью!..
— А, бросьте вы! — с грубоватой простотой сказала Никитина. — Семья разрушается, когда нет любви, и тут уж никакие уговоры… Давайте оставим эту тему. Хотите напомнить о себе Саше? Я не против, только, пожалуйста, без сентиментов. Он спокоен и счастлив, а сердце ребёнка легко ранимо.
Повинуясь приказу бабушки, Саша-маленький подошёл к ней и очень серьёзно, исподлобья уставился на Капустина.
— Сашенька, подойди ко мне! — Капустин протянул обе руки.
Саша глубже втиснулся между колен бабушки.
— Ну, иди же, я обниму тебя, — повторил Капустин с едва скрываемой обидой. — Ты что, не хочешь?
— Уходи, — сказал вдруг Саша и упрямо выпятил губы.
— Ты на кого это? На своего папу?
— Уходи, — ещё раз сказал мальчик. Губы его дрогнули. Сейчас заплачет.
Капустин выпрямился на стуле.
— Ну и настроили вы его! Ладно, когда это делает Татьяна… А вы-то, старый человек!..
Ирина Владимировна поднялась, обняла внука, прошла в другую комнату и оставила его там, плотно закрыв дверь.
— Вы не отец ему, Виталий, — горько сказала она. — Все отцовское у вас исчезло. Ни одного тёплого слова. Вы даже конфетку не взяли для Саши. Мальчик забыл вас, понимаете, забыл. И не стоило вам заходить. Я ругаю себя, что позволила вам увидеть его. Знаете, лучше, если вы… прошу вас.
— Да, при таком воспитании… — Он встал, схватил шляпу.
— Воспитание не ваша забота.
— А что же моя забота? Деньги присылать?
— Об этом, вероятно, позаботится суд. Теперь я нисколько не удивляюсь вашей жестокости в лесу. Что там олень!.. Уходите и забудьте наш дом.
Капустин ничего не ответил, только сощурился.
Хлопнула дверь. Так же подчёркнуто громко хлопнула калитка. Ушёл!
Ирина Владимировна глубоко вздохнула и провела ладонями по лицу. Слава богу!
В соседней комнате было очень тихо. Она подошла к двери, через стекло увидела Сашу. Напряжённо вытянувшись, он стоял на стуле, смотрел в окно на удаляющегося отца, и глаза его были полны совсем не детских слез…
Бабушка тихонько вошла, прямо со стула взяла его на руки и, крепко прижав к себе, села.
Так они сидели молча и пять и десять минут, покачиваясь взад-вперёд, горячее тело мальчика доверчиво обмякло в бабушкиных руках; лица его, приникшего к плечу, она не видела, но по спокойному дыханию поняла, что все прошло, глаза высохли. И тогда, слегка повернув его к себе, она сказала:
— Пойдём кушать, а? Сперва сорвём молодой огурчик на огороде, потом вынем из духовки сковородку с картошкой…
Он живо спустился на пол и пошёл впереди.
Только когда шли с огорода, вдруг спросил:
— А скоро мама приедет?
— Теперь недолго ждать, Саша. Скоро.
Вечером Борис Васильевич зашёл к Никитиной и тихонько, чтобы не слышал Саша, сказал, что Капустин улетел в Москву. Добился своего. И ещё сказал, что директор заповедника хочет предложить Молчанову Южный отдел. Так что…
— Скорей бы Татьяна приезжала, — вздохнула Ирина Владимировна. — Вдруг раздумает?
— Этого не может быть.
3
Скрадывая путь, Александр Егорович начал подъем к субальпийским лугам не по обычной своей тропе, а нашёл правее и чуть дальше от границы заповедника звериную тропу и пошёл по ней, надеясь выйти прямо на опытные делянки ботаника, в палатке которого намеревался переночевать.
На северных склонах осень была в разгаре, и чем выше, тем красочней и безжалостней расцветила она лес. Берёзы, ясени, клёны постепенно оголялись, и было как-то очень грустно видеть сквозь их поредевшие кроны с чёрными ветками высокое голубое небо.
Горный лес готовился к зиме.
При малейшем порыве ветра сверху беззвучно и невесело плотными зарядами сыпались жёлтые, белесые, коричневые, красные листья. Они падали и при безветрии то редко, то гуще, и в этой беззвучной листвяной метели было тоже прощание с летом.
Не летали птицы, не слышалось цоканье белок, лишь изредка где-то очень далеко возникал печально-зовущий крик рогача и тихо таял в светлом солнечном воздухе.
Александр Егорович прибавил шагу.
Архыз больше часа назад умчался и не показывался на глаза, соскучившись по свободе. Теперь ему некого искать в лесу. От сознания непоправимых потерь делалось грустно.
В пихтовом редколесье, где под деревьями слитно стоял побуревший папоротник, сразу потемнело. Высокие, мрачные пихты закрывали небо. Ни осень, ни зима не меняли их суровой черно-зеленой окраски, они олицетворяли собой вечность.
Здесь Молчанов увидел, как по едва заметной тропе сверху катился Архыз. Похоже, он уже побывал у ботаника и теперь бежал к хозяину, чтобы поторопить. Вид у него был усталый, язык вывалился, в шерсти закатались цепкие семянки репья. Он обежал Молчанова, но не пристроился у ноги, а почему-то тут же ушёл вперёд, остановился шагах в двадцати и оглянулся: требовал внимания.
На тропе, наверное метрах в семидесяти, хорошо видный на фоне белесого травяного пятна боком к Молчанову стоял крупный медведь.
Александр Егорович мгновенно сдвинул карабин поудобнее, палец его застыл на предохранителе. В ту же секунду он понял, кто перед ним, удивился и обрадовался до того, что рассмеялся.
— Лобик, да ведь это ты!..
Кто же ещё так бесстрашно мог позировать перед человеком в пределах досягаемости ружья? И разве есть ещё хоть один медведь, который не побоится собаки и запаха пороха?
Молчанов стоял и вглядывался. Одноухий тоже не менял позы выжидания. Архыз тем временем лёг и посматривал то на хозяина, то на медведя, словно подчёркивал, что свою роль он выполнил и теперь дело за ними, за старыми друзьями.
Александр Егорович снял ружьё, положил на землю, скинул рюкзак, покопался в нем. С ладонями, полными сахара, он пошёл к Одноухому, вытянув вперёд руки. Удастся или нет?!
Не прошёл он и десяти шагов, как Лобик сдвинулся с места и тоже отступил шагов на двадцать, там снова остановился, смотрел исподлобья, как-то очень сумрачно и дико. Белые кусочки полетели навстречу ему, упали на листву. Он проводил взглядом знакомые сладости, но не тронулся с места. Тогда Молчанов сел, прислонившись спиной к дереву. И опять — никакого результата.
— Архыз, ступай к нему. Иди, иди… — приказал Молчанов.
Овчар вскочил, побежал, но в тридцати метрах от Лобика остановился, видно поняв, что ближе нельзя.
— Ну тогда я. — Александр Егорович смело шагнул к медведю.
Одноухий склонил морду, качнулся и неторопливо сошёл с тропы. Ещё раз оглянулся, ещё — и скрылся в густом папоротнике среди пихт.
Мало сказать, что Человек и собака были разочарованы. Они стояли на тропе с видом очень унылым. Все переменилось. Нет у них больше друга-медведя. История с пленением сделала его окончательно чужим, недоверчивым. Он пошёл за овчаром, когда тот обнаружил его. Даже решился показаться человеку. Но на большее не рискнул. Тем более, что совсем недавно…
Молчанов ещё не знал последнего действия драмы.
Тогда освобождённый из клетки Лобик проводил Молчанова за реку, увидел костёр, его ночлег и, оставаясь незамеченным, удалился в глубь лесных гор, где его родина. Зверь нуждался в покое и сильной пище.
Под утро Лобик без особых хлопот разыскал и задавил одичавшую свинку, видно ушедшую из совхозного посёлка, и обильно позавтракал. После этого он неторопливо заковылял в гору и окончательно пропал в джунглях. Ходил мало, больше спал. Вокруг него — в каштаннике и буковом лесу — валялось сколько угодно орешков и плодов, первые дни свободы походили на сплошной пир. Лишь через несколько дней, почувствовав прежнюю силу в мышцах и остроту взгляда, Лобик, вдруг что-то вспомнив, повернул назад и за одну ночь безбоязненно обследовал место своего пленения. Слабый запах от бережновского окурка привёл его в неописуемую ярость. С глазами, налитыми кровью, прошёл он по ненавистному следу чуть не до семеновского кордона, залёг там и не ушёл, пока не убедился, что его врага здесь нет. Жажда мести поостыла, но не прошла, и Лобик покинул южные леса.
Кривые промысловые тропы увели его из заповедника на запад, вскоре он очутился в окрестностях Шезмая, обошёл поверху Гуамское ущелье и дней шесть бродил вокруг посёлка, не гнушаясь нападать на овец и свиней, вольно разгуливающих по лесу за огородами. В его настойчивости угадывалось все то же желание мести.
И час пришёл.
Как мы уже знаем, дядя Алёха махнул рукой на правосудие и ударился в лес, чтобы у себя дома успокоиться от всех переживаний, выпавших на браконьерскую долю. Теперь он не верил даже начальству с их лицензиями и высокими словами. Пропади оно все пропадом! Ещё не хватало на шестом десятке лет очутиться в тюрьме!
Но ружьё он взять с собой не забыл, благо его в суматохе оставили у Коротыча в кабинете. Зашёл, когда никого не было, и взял. Как же в лесу без ружья?
Он не торопился, делал привал три раза в сутки, пил чай у костров, ел пряники, купленные на те самые деньги, что заработал на сто четырнадцатом медведе, шёл домой без спешки и с приятностью, постепенно забывая о своих не очень весёлых поступках. Уже далеко за перевалом, подавшись западнее, он очутился вне заповедника в знакомом-перезнакомом лесу. Здесь на дядю Алёху нарвалась стайка косуль. Он не утерпел и пальнул, свежего мясца захотелось.
В ясном осеннем воздухе звук выстрела разнёсся километров на шесть. Люди его не услышали, а вот медведь услышал. Но не испугался, не бросился наутёк. Напротив, соблюдая крайнюю осмотрительность, пошёл на выстрел и вскоре догадался, кто сидит у костра и варит мясо.
О, как загорелись глаза Одноухого! Как поднялась шерсть на загривке! Как страшен сделался он, сытый, огромный медведь, уже одержимый ненавистью к человеку.
В последний свой вечер дядя Алёха попировал у костра, даже впрок мясца заготовил, нарезав его лентами и провялив над костром. Уснул он поздно, спал безмятежно и не знал, кто бродит рядом. Одноухий караулил своего врага, но близко не подошёл — боялся огня. Лишь когда утром Бережной погасил угли и, забросив ружьё на плечо, пошёл по лесу к дому, медведь обежал его стороной и забрался на камень, мимо которого дядя Алёха никак не мог не пройти. Улёгся и стал ждать.
Бережной приближался. Узкая тропа огибала камень. Этот камень был столообразный. Крутой и невысокий, всего метра три, он густо порос наверху чёрным можжевельником. Одноухий лежал под кустом, выставив нос. Он увидел своего врага издали, подобрался. Ни запах ружья, ни страх перед человеком уже не могли остановить его — жажда мести стёрла все другие чувства.
Он бросился, просто упал сверху, лишь только Бережной миновал его, упал со спины, так что в глаза свою смерть убийца ста тринадцати медведей не видел. Он вообще ничего не видел, кроме внезапной черноты в глазах…
На пятый день после этого Лобик встретил Архыза. Хотел уйти незамеченным, даже припугнул овчара и побежал от него, но Архыз словно приклеился и заставил вспомнить прошлое, буквально вынудив медведя — теперь не просто дикого, а медведя-убийцу — свернуть на тропу, по которой шёл его друг — Человек.
Увы, прошлое не вернулось и не одолело. Слишком свежей была последняя история. Лобик подавил в себе страх, отважился показаться — только показаться, не больше! — чтобы затем уйти уже навсегда с глаз людских. Люди, которых пришлось ему встретить, все-таки сделали медведю больше зла, чем добра: Так он считал. Так записал в своей ёмкой памяти.
Как настоящий дикий зверь он заплатил за зло ещё большим злом, его сознание помутилось настолько, что не видел он больше вокруг себя друзей. Только врагов.
А с врагами Одноухий теперь умел справляться.
Ничего не зная о страшной судьбе Бережного, Александр Егорович почувствовал, как встреча с Лобиком изменила его настроение. Все пошло прахом. Так чувствуешь себя, когда разуверишься в товарище, потеряешь близкого, ощутишь себя жертвой обмана или коварства.
Замкнувшийся, несколько раздражённый, явился он в палатку ботаника, переночевал, удивив коллегу своей неразговорчивостью и даже какой-то холодностью тона. Утром, осмотрев делянки, он ушёл, хотя они раньше договаривались побыть вместе два-три дня.
И Архыз, глядя на хозяина, заскучал, уже не бегал, не искал, наверно догадавшись, что искать в лесу ему некого и нечего.
Через сутки Александр Егорович спустился с гор к семеновскому кордону.
Пётр Маркович пожал Молчанову руку, спросил:
— Может, в тот дворец ночевать пойдёшь? Пустой стоит.
— Не пойду, — мрачно ответил гость. — Если можно, у тебя останусь.
— Отчего же не можно? Оставайся, потолкуем. Правда, ты чтой-то сегодня невесёлый, устал или неприятности какие? А у меня новости для тебя имеются, Александр Егорович.
— Давай делись, я четыре дня в горах, поотстал в новостях.
— Ну, перво-наперво о твоей пропавшей одёже. Тут все выяснилось, один из уволенных лесников перед уходом сказал все-таки. Бережной её украл, одёжу-то. Для приманки. И вроде удалось ему, пошёл твой медведь на приманку, словили они его. В клетку, понимаешь, одёжу положили, он и пошёл. Вот какая коварная хитрость у человека!
— Знаю. Нашёл я клочки на том самом месте, догадался.
— Клочки?
— Лобик порвал куртку и плащ, когда попался. Зверь воспринял это так, словно я заманил его в клетку. И всю ненависть, всю злобу свою сорвал на одежде — значит, на мне, на виновнике пленения.
— Ну и Алёха, царство ему небесное…
— Он что? Помер? — Молчанов даже побледнел.
— Нашли в лесу. Едва узнали, так его разделали.
— Кто?
— Может, рысь. А может, и медведь, — уклончиво ответил Семёнов. — Недалеко от Шезмая лежал, под хворостом упрятанный. Плохо кончил. С таким грехом в лес подался! Судьба, что ли, распорядилась?..
Молчанов чай отодвинул, ещё более посерьёзнел. Вон как трагически повернулась история! Неужели Лобик?.. Стала понятной отчуждённость Одноухого, его враждебная недоверчивость. Из друга он превратился в опаснейшего для людей зверя. Ведь если встретит кого другого, трудно сказать, чем кончится такая встреча. Нет. Нет! Не верится! Одноухий показался на глаза не для того, чтобы угрожать. Нет. Это было его последнее «прости».
— А ведь я встретил Лобика, — сказал Молчанов.
— В лесу? — Семёнов не мог скрыть своей тревоги.
— Близко не подпустил ни меня, ни Архыза. Постоял, поглядел и ушёл. Совсем не похож на прежнего Лобика. Чужой.
— Да-а… — раздумчиво произнёс лесник. — Вот такие дела-то. Обидели зверя, он и… Ты чего не пьёшь чай-то? Подлить горячего? Чудеса! Убег тот Лобик из-под носа у лесничества. Не без понятия зверь!
Александр Егорович промолчал. Разве мог он подумать в ту ночь…
Перед сном Молчанов вышел из дому, сел на лавку у дверей. Под ноги подкатился Архыз. Влажная иссиня-чёрная ночь висела над лесом. Мелкие звезды кучно высыпали на чёрном небе. Едва виднелись контуры вершин, ограничивающих горизонт. Улёгся дневной ветер, было тепло, пряный дух волнами накатывался из джунглей, убаюканных ночью. На южном склоне осень ощущалась слабо; буйная зелень властно укрывала горы.
Он вспомнил, что в школе у Бориса Васильевича начались занятия. Значит, и Таня… Боже, как мог он запамятовать! Ведь она приехала, она здесь, дома!
Молчанов поднялся и вошёл в дом.
— Петро Маркович, — сказал он решительно и быстро. — Ты извини меня, но я должен идти, прямо сейчас.
— Смотри-ка, ведь десять часов. И темень — глаз выколи.
— Фонарь дашь мне?
— Фонарь можно. Тогда так решим: я провожу тебя. И не отговаривай, тут до гравийки ты дорогу плохо знаешь, а там уж пойдёшь сам.
Через десять минут жёлтый свет «летучей мыши» покачивался над дорогой из кордона, освещая небольшой кружок, ноги людей и фигуру собаки, бредущей позади, устало свесив голову.
В первом часу ночи Молчанов постучался к Борису Васильевичу. Тот выглянул в окно, сонно сказал «сейчас», и через минуту Александр Егорович пожимал ему руку.
— Мы ждали тебя раньше, друг мой, — сказал учитель.
— Мы?!
— Именно мы — Таня и я.
— Значит, приехала?!
— Она обязательный человек, Саша. Уже несколько занятий провела.
— Совсем приехала?
— Знаешь, в этом ты разберёшься, когда встретишь её. А сейчас раздевайся. Пожалуйста, не стой передо мной этаким столбом.
— Я, пожалуй, пойду…
— Свидание в час ночи?.. Совсем не думаешь, что говоришь. Раздевайся, а я достану тебе постель и согрею чай. Будь умненьким, Саша, и помни; утро вечера всегда мудрёней.
И за коротким чаем, и в постели, когда все стихло в доме, Александр робко и непрестанно улыбался. Лежал, руки за голову, смотрел в потолок и улыбался. Какой там сон! Думал, ни за что не уснёт, а не заметил, как сморило, и вдруг почувствовал, что его уже тормошат. Открыл глаза, в комнате — предрассветная синь, Борис Васильевич рядом.
— Вставай, шесть скоро. Пока то да се… Ну-ка, по-военному!
4
Он знал, по какой дороге ходит в школу Таня. Ещё когда учились, не один раз поджидал её, чтобы идти вместе и в школу и из школы. Вряд ли она изменила традиции, тем более что это самая короткая дорога, мимо столовой, направо, мимо парка и магазина, и ещё вниз, к реке, два квартала по узкой улице, заросшей спорышем и подорожником.
Шёл, улыбался, и кто встречался — оглядывались на него: смотри, какой радостный человек! Ни о чем другом не думал, только о Тане, даже загадал, в каком она платье сегодня: в сером, строгом. И белый воротничок. И белые кружевные манжеты. Есть у неё такое, видел.
Таня выбежала из-за поворота у самого парка. Он угадал: она была в сером, строгом платье. С чёрным портфелем в руке. Выбежала, увидела Молчанова в семи шагах, с ходу остановилась, почему-то перехватив портфель обеими руками. А он шёл навстречу, и лицо, глаза, губы — все у него светилось радостью, и слова: «Ну, здравствуй!» — он тоже сказал радостно, светло и просто, словно и не было трудных годов и расставания, словно опять они ученики десятого, и сейчас он повернёт за ней, и пойдут они неторопливо, размахивая портфелями, потому что до первого урока ещё двенадцать минут.
Губы у неё дрогнули. Как тогда, в аэропорту, прислонилась она головой к его плечу, к щеке, и мягкие волосы скользнули по Сашиному лицу. Но это — мгновение. Таня отшатнулась, посмотрела в глаза и быстро поцеловала. Он хотел обнять её, она вдруг покраснела, отодвинулась и скользнула взглядом в сторону.
— Здравствуй, — сказала она, сунула ему портфель, повернулась, и они пошли к школе совсем так же, как много лет назад.
— Рассказывай, — попросил он.
— О чем?
— Ну как здоровье, самочувствие, как живётся…
— Ах, Саша, Саша! Разве я могу сейчас? Я так давно не видела тебя!
— Вот и рассказывай. А хочешь — я…
— Будем идти, молчать и я буду потихоньку смотреть на тебя. Ты прямо из леса?
— Ночью пришёл. Не дал спать Борису Васильевичу. Как Саша-маленький?
— Он так обрадовался, когда я приехала! Прыгал, прыгал, а потом весь день ходил, держась за юбку. Он подрос, возмужал. Да, совсем забыла: это правда, что ты остаёшься в Поляне?
— Правда.
— Отлично! Пропуск в заповедник для моих учеников всегда обеспечен!
— Ты какие классы ведёшь?
— Старшие, Саша. Биология. Ты где остановился? И когда Елена Кузьминична приедет?
— Как только соберётся… Значит, с Ленинградом все?
— Тысяча вопросов. Нет, Саша, так не годится. Помолчим. Иначе я приду в класс и начну рассказывать не о Дарвине и Ламарке, а о Молчанове, и тогда случится конфуз, и Борис Васильевич на педсовете скажет в мой адрес какие-нибудь страшные слова.
— Сколько у тебя уроков?
— Три.
— Значит, ты освободишься…
— В половине первого.
— Я буду ждать. Вот здесь.
— Ладно. И пойдём к нам обедать.
Они подошли к школе. Во дворе шумела детвора, бухал мяч, — все, как бывало и при них.
— Пока! — Таня подняла ладошку. — Архыза не забудь, Саша ждёт его не дождётся.
И он поднял руку, отсалютовал, пошёл в сторону своего отдела, где начальника ждали серьёзные дела и разговоры, не располагающие к улыбкам. Но он ещё долго шёл с радостным, сияющим лицом и никак не мог стереть простую доброту с лица.
Как хорошо в этом мире!
Работал, принимал посетителей, перелистывал бумаги, каждые двадцать минут поглядывал на часы, сперва на руке, потом на стене. Чтоб без ошибки.
И в двенадцать поднялся из-за стола, прошёлся от окна к окну, потом вспомнил, что надо за Архызом, и заспешил.
Овчара он оставил во дворе у Бориса Васильевича, наскоро привязал его к какому-то колышку и только сейчас вспомнил, что утром не покормил.
Он заглянул во двор с улицы. Увидел, что того колышка уже нет. Куда Архыз мог убежать? Впрочем, по улицам бегать не станет, ясно — куда.
На условное место Молчанов пришёл раньше. Заглянул в парк. Все тут свежо и зелено. Под каблуками потрескивает ракушечник, им всегда засыпают дорожки. Обошёл свежевыбеленный памятник защитникам Кавказа, машинально прочитал имена, которые ещё в детстве знал, и тут увидел Таню.
— Давно ждёшь? — спросила она и сунула ему портфель, потяжелевший, пожалуй, вдвое. Ну, конечно, тетради. Или книги из библиотеки. — Ты есть хочешь? Я — страшно. Идём! Мама теперь приготовила что-нибудь вкусненькое.
Под окнами дома прохаживался Саша-маленький, он явно поджидал маму. Увидел, бросился навстречу, уткнулся с размаху и потянулся на руки. Она взяла, сказала:
— Ну и тяжеленный ты! А с Сашей почему не поздоровался? Ну-ка. Вот так. Молодец. Хочешь к нему? Он посильнее, чем мама, правда?
— Слушай, Саша, — сказал Саша-большой. — Архыз не у тебя?
— У меня, — обидчиво ответил мальчик. — Только он от меня бегает…
— Бегает? Куда же он бегает?
— К Леди. Все время сидит около неё, а от меня отворачивается и даже зажмуривается.
Взрослые переглянулись и засмеялись.
— Придётся разобраться, слышишь, Таня? Это непорядок. Променять такого хлопчика на капризную Леди…
Во дворе у своей конуры спокойно сидела чистенькая Леди, сонно смотрела перед собой. Черно-белый овчар примостился рядом, положив свои толстые шестипалые лапы на лапку изнеженной колли. Больше он ничего на свете не видел и ничего не хотел видеть. Он и хозяина не сразу заметил, лишь когда подруга его подняла голову и оживилась, он тоже глянул в сторону калитки и дважды махнул хвостом, но не встал.
— Да-а… — протянул Молчанов. — Знаешь что, Саша, мы разберёмся во всем этом немного позже. Тут дело сложнее, чем я думал. А сейчас, вон видишь бабушку, она зовёт нас обедать.
Ближе к вечеру, собираясь гулять, Александр Егорович позвал с собой Архыза. Овчар подошёл, ткнулся в колени, но когда хозяин с Таней и Сашей двинулись к калитке, почему-то замешкался. Проводил их взглядом и, постояв немного, повернул обратно к Леди, которая с интересом наблюдала за ним.
— К реке? — спросила Таня, когда они вышли на улицу.
Зелёная пенная река делает здесь рискованный поворот, бьёт с размаху в каменную грудь горы Пятиглавой, чуть ли не отвесно уходящей в небо, и, раздробясь, обессилев, поворачивает почти назад. В речной петле дивно разрослись платаны, огромные, как баобабы, с гладкими бело-зелёными, неохватной толщины стволами.
В этот предвечерний час, заглушая своей трескотнёй гул реки, на огромных кронах восседала многосотенная стая чёрных дроздов. Разноголосо перекликаясь, они то сердито спорили, то, кажется, серьёзно уговаривали друг друга. Очевидно, перед большим перелётом. Маршрут их был известен орнитологам. Покинули северные склоны, собрались по эту сторону, а отсюда полетят вдоль морских берегов в Крым, на Дунай, в леса Шварцвальда, на Рейн и Рону, в Пиренеи и в долину реки По. Там ждут их обильные угодья, тревоги, опасности — много всего, гораздо больше, чем здесь. Это знают опытные дрозды, но им так и не удаётся отговорить молодёжь от перелёта.
Каждый год одно и то же.
Вдруг, как по команде, стихло на платанах, стая умолкла. Александр Егорович приложил палец к губам. Раздался музыкальный щелчок, ещё, ещё раз. И полилась глубокая, мелодичная песня, прощальная песня дрозда, которая напоминала о солнечной весне, родных лесах, о близких и любимых. Солировал отличный певец, может быть, лучший во всей стае, пел во всю широту своих чувств, и его слушали, как слушают гимн. Мелодия оборвалась, наступило мгновение тишины, потом захлопали крылья, шорох листа пробежал из края в край по маленькой роще, и в небо взмыли сотни дроздов. Сверкнули на солнце их иссиня-чёрные спинки, стая развернулась и полетела на запад, куда звал кавказскую птицу инстинкт и жажда новизны.
Молчанов поднял Сашу-маленького, чтобы видел подальше. Мальчик проводил стаю удивлённым взглядом, спросил:
— Куда они?
— За счастьем, Саша.
— А что это такое? — Он посмотрел на маму.
Она засмеялась.
— Это ты, мой милый, это я, это Саша, мы все вместе и все, что рядом с нами, там, в горах, на небе, на море.
— И дома у нас?
— И дома тоже…
Конец
Краснодар — Переделкино — Москва.
1966-1973


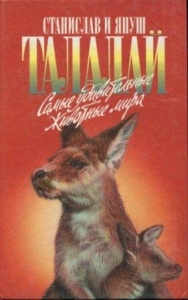

Комментарии к книге «Песни чёрного дрозда», Вячеслав Иванович Пальман
Всего 0 комментариев