Д.Затонский
Роберт Музиль и его роман "Человек без свойств"
Есть художники, которые оставили в истории литературы след в качестве авторов одного, самого своего выдающегося произведения. К ним относится и австриец Роберт Музиль (1880-1942).
Он написал немало. Собрание его сочинений 1978 года составляет девять томов (а ведь туда не вошли более чем тысячестраничные "Дневники" и кое-что из еще не разобранного наследия). Перу Музиля принадлежат и небольшой роман "Смятения воспитанника Терлеса" (1906), и сборники новелл "Сочетания" (1911), "Три женщины" (1924), и пьеса "Мечтатели" (1921), и фарс "Винценц и подруга значительных мужчин" (1923), и малая проза, и множество эссе, статей, театральных рецензий. Однако все это вместе взятое заполняет в Собрании сочинений четыре тома, а колоссальный, так и не завершенный роман "Человек без свойств" - пять. Суть, впрочем, не в количестве. В 1905 году (то есть еще до издания "Терлеса") в музилевском дневнике появляется упоминание о замысле будущего большого романа, и углублением, расширением, видоизменением, реализацией этого замысла писатель занимался всю оставшуюся жизнь. "Человек без свойств" - при всей сложности, при всей противоречивости и невзирая на незавершенность - крупнейшее явление литературы XX века; это расчет с прошлым и поиск нового, в том числе и в области романной формы.
Если бы Музиль написал только "Терлеса", "Сочетания", "Трех женщин", он не получил бы места на литературном Олимпе; если бы он написал только "Человека без свойств", это - при всей первоклассности прочих вещей - ничего не убавило бы в посмертной его славе. Ибо она есть слава сочинителя "Человека без свойств". И сегодня она велика: книги Музиля - трудночитаемые книги, никак не бестселлеры - переведены чуть ли не на тридцать языков; существует "Международное общество Музиля" с президентом, членами и целым штатом сотрудников; о мастере уже написаны сотни монографий, диссертаций, статей...
Выше уже говорилось, что "Человек без свойств" - дело почти всей музилевской жизни, и, чтобы по-настоящему понять его, следует, хотя бы в самых общих чертах, знать эту жизнь. Ведь, по словам текстолога Адольфа Фризе, готовившего чуть ли не все посмертные издания Музиля, "редко в литературе отдельное произведение отражает столь концентрированно, можно Даже сказать исчерпывающе, образ самого художника, как этот роман".
Есть и другие моменты, определяющие характер предисловия к Русскому изданию "Человека без свойств". Не по небрежности я не назвал до сих пор годы, в которые оригинал романа впервые увидел свет. 1930-1943 (а может быть, даже 1952-й), ибо это потребовало бы немедленного разъяснения. Ведь Музиль скончался еще в 1942-м. В 1930 году гамбургское издательство "Ровольт" опубликовало первый том книги, в 1932-м - тридцать восемь глав второго тома, в 1943-м вдова Музиля опубликовала в Швейцарии остальные, более или менее готовые к печати, главы этого тома. В 1952 году А. Фризе осуществил переиздание всего романа, расширив его за счет извлеченных из архива набросков, заметок, автокомментариев. Русский перевод сделан лишь с текста, печатавшегося при жизни писателя, и с четырнадцати опубликованных его вдовой глав, редакция которых, однако, неокончательна, а нумерация условна. С точки зрения художественной весомости публикации, это вполне оправданно. Но роман не закончен, роман оборван, и судить о нем, вовсе не зная, что было или, по крайней мере, должно было быть дальше, трудно. Поэтому предисловие по необходимости не ограничивается анализом наличного текста, а принимает во внимание и то, что автор не довершил - его черновики, замыслы, его искания и сомнения. Оно по мере возможности пытается если не "достроить" здание "Человека без свойств", так хотя бы дать представление о проекте этого здания, в ходе строительства не раз менявшемся.
x x x
Роберт" Музиль родился 6 ноября 1880 года в Клагенфурте. Его отец был инженером-машиностроителем, профессором высшей технической школы в Брно (тогда - Брюнне), на склоне лет возведенным в дворянское достоинство и получившим чин гофрата. Следуя родительской воле, сын поступил в кадетский корпус, затем в военно-инженерную академию, но в 1897 году бросил ее и продолжал учебу в Брюннской высшей технической школе, той самой, в которой преподавал отец. По окончании работал ассистентом высшей технической школы в Штутгарте. Здесь в 1902-1903 годах начал писать роман "Смятения воспитанника Терлеса", однако решение стать свободным художником пришло к Музилю несколько позже; тому еще предшествовала попытка сделать академическую карьеру. В 1903-1908 годах Музиль слушал курс философии и психологии в Берлинском университете, там же защитил диссертацию "К оценке учения Маха" (того самого Эрнста Маха, которого - за его "Эмпириокритицизм" - так не любил Ленин), но от оставления при университете отказался, рассорившись со своими учителями. "Терлес" уже два года как вышел в свет, привлек к себе некоторое внимание, и Музиль пожелал целиком посвятить себя литературе. Он остался в Берлине, работал над рассказами и пьесой и понемногу сотрудничал в прессе. Но успех "Терлеса" не был успехом денежным, и почти уже тридцатилетний Музиль, все еще продолжавший искать себя, практически существовал на родительские средства.
В 1911 году Музиль женился, и отец - не столько из скупости, сколько из соображений воспитательного характера - решил, что сыну следует подумать о постоянном заработке. Отец даже нашел сыну место: это была должность библиотекаря в Венской высшей технической школе. Работа не была обременительной, оставляла время для творчества, и, сотрудничая в ряде литературных журналов, Музиль продержался на ней по начала первой мировой войны.
На фронте он был офицером, дослужился до капитана и начальника штаба батальона, под конец редактировал солдатскую газету.
Послевоенная инфляция лишила Музнля оставшихся после отца денег, и он впервые оказался вынужденным целиком содержать себя и жену. Он служил в министерстве иностранных дел, потом в военном ведомстве. Там ему предложили высокий оклад и перспективную должность, но он отказался, не желая связывать себя ничем, что могло бы помешать его работе писателя. Работа эта со времени окончания войны не прерывалась. Не только в чиновничьей рутине, но и в деятельности театрального критика, рецензента, журналиста Музиль видел досадную помеху. И с 1923 года уже навсегда оставил службу, сократил до минимума побочные литературные заработки, занимаясь только своими пьесами, рассказами и, разумеется, огромным, бесконечным романом. И по мере того, как роман разрастался, как усложнялась его конструкция и некоторые ее аспекты становились неразрешимыми, он все реже и реже позволял себе отвлекаться, чтобы зарабатывать на пропитание. А ведь он был немного снобом, которому костюм от лучшего портного или обед в дорогом ресторане всегда казались вещами само собою разумеющимися.
Музиль долгие годы существовал у самой границы нищеты. В его архиве сохранился беспримерный по своему содержанию документ под названием "Больше я не могу". Есть в нем такие строки: "Думаю, мало найдется людей, пребывающих в состоянии такой же, как и я, неустроенности, если, конечно, не считать самоубийц, участи которых мне вряд ли удастся избежать". Этот вопль отчаяния все-таки не попал в газеты: возникло нечто вроде общества добровольных пожертвователей (одним из инициаторов был Томас Манн, организатором - профессор Курт Глазер, директор Государственной библиотеки искусств в Берлине). Материальное положение чуть поправилось, но была уязвлена гордость - гордость человека и художника, знавшего себе цену.
Музиля мучили два исключающие друг друга чувства: презрение к славе, признанию и жгучая зависть к более удачливым, как ему казалось, собратьям Томасу Манну, Фейхтвангеру, Леонгарду Франку, Стефану Цвейгу, Роту и паче всего Францу Верфелю и Антону Вильдгансу. Он вообще не был легким человеком, этот Музиль, - был желчным, измученным, болезненным, особенно под конец жизни. Стоицизм давался ему непросто.
Впрочем, секрет писательского успеха занимал его и как теоретическая проблема; одно время он намеревался писать на эту тему книгу. Его собственная судьба могла бы служить там одним из ярких негативных примеров. Уже публикация "Терлеса", как мы знаем, принесла Музилю некоторую известность. И если критика без особой доброжелательности встретила новеллы из книги "Сочетания", то почти шумный успех "Трех женщин" может рассматриваться как известная за это компенсация. В 1928 году за пьесу "Мечтатели" Музилю была присуждена премия Клейста, в 1924-м - Художественная премия города Вены, в 1929 году - премия Герхарта Гауптмана. После того как вышел в свет первый том "Человека без свойств", Музиль был признан знатоками тем художником, который сделал для немецкой литературы не меньше, чем Пруст - для французской. Т. Манн назвал эту книгу "художественным начинанием, чье чрезвычайное значение для развития, возвышения, одухотворения немецкого романа не подлежит ни малейшему сомнению"; Арнольд Цвейг написал, что "Музиль был воплощением того лучшего, что способна дать австрийская литература"; Брох сказал, что "Музиль принадлежит к... абсолютным эпикам мирового формата". Итак, он ни в малейшей мере не был обойден вниманием; но в узком, в самом узком кругу. При жизни он так и не стал писателем модным, пользующимся расположением публики.
Спору нет, книги Музиля не отличаются простотой и доступностью. Однако сложность не помешала автору "Волшебной горы" оставаться писателем широкоизвестным и высокооплачиваемым. Но между Томасом Манне " и Музилем имеется существенное различие: Музиль, как и многие другие австрийцы, был в известном смысле литератором "непрофессиональным".
В обществе, к которому принадлежали оба художника, законы моды распространяются и на производство культурных ценностей. Писатель в этих условиях вынужден регулярно (хотя бы каждые три-четыре года) "обновляться", выпуская в свет книгу. Не только из соображений финансовых, но и рекламных: чтобы о нем не забыли. Музиль же публиковался мало, потому что писал медленно и трудно, по мере накопления опыта и совершенствования мастерства все медленнее и все труднее: его требовательность к себе возрастала и непомернее становились задачи, которые он себе ставил. Росли и сомнения в правильности избранного пути.
Вслед за первым томом "Человека без свойств" издатель Эрнст Ровольт (по вполне понятным коммерческим и даже дружеским соображениям) хотел как можно скорее опубликовать второй. Однако Музиль никак не укладывался в обусловленные договором сроки. Ровольт просил, потом угрожал, прерывал авансовые платежи и, видя бедственное положение автора, снова их возобновлял. Ничто не помогало. Музиль хотел (ведь ему до зарезу нужны были деньги) работать быстрее, старался подчиниться требованиям рынка - и не мог. Единственное, чего издатель добился, - это согласия Музиля, чуть ли не силой у него вырванного, на выход первых тридцати восьми глав второго тома. А когда следующая порция глав не смогла в 1938 году выйти в Вене из-за аншлюса {Насильственное присоединение Австрии к гитлеровской Германии в 1938 г.}, писатель, снова оставшийся без средств к существованию, облегченно вздохнул: он не считал эти главы вполне завершенными, да и вообще полагал, что роман лучше бы издать целиком, позднее, когда он будет дописан.
В 1936 году Музиль неожиданно получил предложение составить небольшую книгу из своих ранних вещей малого жанра, разбросанных по старым журналам, а частью и вовсе не публиковавшихся. Он назвал ее "Прижизненное наследие". Это был намек на его положение в литературе, на отношение к нему прессы и публики, уважительное и одновременно лишенное живого интереса. В кратком предисловии к книге Музиль писал: "Эпоха, которая породила обувь на заказ, создаваемую из готовых деталей, и конфекционный костюм с индивидуальной подгонкой, кажется, намерена создать и поэта, сложенного из готовых внешних и внутренних частей. И поэт, создавший себя по собственной мерке, уже почти повсеместно живет в глубоком отрыве от жизни, и его искусство имеет то общее с покойником, что оба они не нуждаются ни в крыше над головой, ни в еде, ни в питье".
По странному, хотя отнюдь не мистическому стечению обстоятельств "Прижизненное наследие" - последняя книга, которую готовил к печати сам Музиль. Затем наступила шестнадцатилетняя пауза, во время которой писатель успел незаметно скончаться в швейцарской эмиграции. Во "Франкфуртер цайтунг" некролог состоял из двадцати одного слова, швейцарские газеты были немногим щедрее. Впрочем, еще в 1940 году, когда ни одна газета не откликнулась на его шестидесятилетие, Музиль сказал: "Все выглядит так, будто меня уже нет..."
Западногерманский литературовед Г. Арнтцен в статье "Роберт Музиль и параллельные акции" назвал еще одну - на этот раз идеологическую - причину прижизненного забвения, которое окружало писателя. Говорят, такова судьба каждого писателя, опередившего свое время; Арнтцен с этим не согласен: "Это не была судьба, это были "параллельные акции", так называемые обстоятельства. По их воле Музиль остался, в тени. И таковой была их воля не потому, что Музиль опередил свое время, а потому, что он преследовал свое время по пятам. За это оно его и игнорировало". Ведь Музиль, полагает критик, в романе "Человек без свойств" создал, "наверное, самую значительную эпическую сатиру в немецкой литературе нашего столетия".
В заметке "Памятники" (она вошла в эссеистскую часть "Прижизненного наследия") есть такие слова: "Почему памятники ставят именно великим людям? Это кажется особенно изощренным коварством. Поскольку в жизни им уже не могут причинить больше вреда, их словно бросают, с мемориальным камнем на шее, в море забвения". Это Музиль сказал и о себе, о том, какой видел посмертную свою судьбу. Он предсказал ее довольно точно.
Однако существуют же люди, которые иначе смотрят на Музиля. Так почему же их нашлось так мало среди его современников? Думается, что он, как и некоторые другие австрийцы, все же в определенном смысле обогнал свое время. Он сочинял громоздкий, так сказать, совершенно "не сценичный" роман про Габсбургскую монархию - ту, которой уже нет, которая сгинула, которая, даже когда существовала, была каким-то бессмысленным пережитком. Кого тогда, в тридцатые годы, перед лицом разверзшихся пропастей и раскрывшихся далей, интересовал этот замшелый Франц-Иосиф со всем его облупившимся театральным реквизитом? Среди потенциальных музилевских читателей было мало таких, кто подозревал, и еще меньше таких, кто знал, что Австрия - это в чем-то пример, это в чем-то модель их собственного прошлого, настоящего и даже будущего, что хвори, мучившие Дунайскую империю, во многом станут их хворями, их живыми, неразрешимыми проблемами, что ее кризисы и ее беды, развившись и углубившись на иной социальной почве, заведут в тупик целые державы. Сегодня это видно если не всем, так, по крайней мере, многим. И такое видение - тоже одна из причин музилевского ренессанса.
В эссе "Нация как идеал и как действительность" (1921) Музиль писал: "Я думаю, что пережитое с 1914 года научило многих, что человек с этической точки зрения - это нечто почти бесформенное, неожиданно пластичное, на все способное. Доброе и злое колеблется в нем, как стрелка чувствительнейших весов. Предположительно в этом смысле все станет еще хуже..." И Музиля раздражали Франк или Верфель, восклицавшие: "Человек добр!", раздражали тем, что ему казалось прекраснодушием, наивностью. Но сам он не был при этом пессимистом, тем более мизантропом.
В 1923 году он работал над эссе "Немецкий человек как симптом". Полемизируя там с модными апокалипсическими пророчествами (первый том "Заката Европы" Освальда Шпенглера вышел именно в этом году), Музиль писал: "Сегодняшнее состояние европейского духа, по моему мнению, - не упадок, а еще не осуществившийся переход, не перезрелость, а незрелость".
Хотя Музиль однажды занес в свой дневник: "Профессиональное представительство имеет будущее, это то прекрасное, что есть в идее Советов, а то, что сегодня именуют политикой, пре-человечно (клерикализм, капитализм)", социализм не был его теорией.
Вообще-то после Октябрьской революции спрос на коммунистические идеи явно возрос: разочаровавшийся в доктринах Просвещения, западный интеллигент охотно прислушивался к дудочке нового крысолова, в какой уж раз сулившего земной рай. Но Музиль был слишком рассудочен и слишком скептичен, чтобы бездумно бежать за крысоловом. "...Пролилось много жалоб на нашу механистичность, нашу расчетливость, наше безбожие... - констатировал он. Исключая социализм, все ищут спасения в регрессе, в уходе от действительности... Редко кто понимает, что все эти явления представляют собою новую проблему, которая еще не имеет (не нашла) решения". Такое отсутствие понимания ведет, по Музилю, к фатальному результату, а именно: к р_а_з_р_ы_в_у м_е_ж_д_у г_у_м_а_н_и_з_м_о_м и р_е_а_л_ь_н_о_с_т_ь_ю. Гуманизм мыслится возможным лишь в "роматизированной" атмосфере дотехнической эры: либо он, либо холодный позитивизм, чуждый всякому человеческому теплу. И Музиль ясно отдает себе отчет в том, что эти представления навеяны эпохой капитализма: "Деньги есть мера всех вещей...твердит он, - людской поступок больше не несет в себе никакой меры". Подобная система отношений поощряет, холит и одновременно эксплуатирует эгоизм: "Я дам тебе нажиться, чтобы самому нажиться еще больше, или я дам тебе нажиться, чтобы самому хоть что-нибудь урвать - эта хитрость рассудительного паразита составляет душу самых порядочных гешефтов..." В то же время капитализм глазах Музиля - "это самая прочная и эластичная форма организации из созданных людьми до сих пор". Более того, форма эта по-своему к_о_н_г_е_н_и_а_л_ь_н_а технической эре.
Итак, Музиль отказывается верить в возможность построения земного рая, потому и ориентируется не на и_д_е_а_л_ь_н_ы_е, а лишь на о_п_т_и_м_а_л_ь_н_ы_е цели. "Если ты желаешь быть его противником, - говорит он о капитализме, - то самое важное верно определить альтернативу к нему". Такой альтернативой не может стать ни шпенглеровский возврат к прошлому, ни коммунистический проект будущего. Последний прежде всего потому, что главная цель Музиля - "создание царства духовности", то есть сначала нового человека, а через него уже и нового мира. Но тогда путь для него оставался лишь один: утопия. Под конец жизни он и сам понимал ее смутность, проблематичность, но его творчеству она была необходима. Ибо создавала масштаб, точку отсчета для критики и для утверждения - гуманистической вселенской критики и гуманистического утверждения жизни.
Поскольку Музиль понимал свою эпоху как эпоху перехода, а не упадка, он еще в юности был противником декаданса, декаданса в жизни и в искусстве. Уже на переломе столетий он задал себе вопрос: "Должно ли искусство политически декадентского времени быть декадентским?", и вопрос этот во многом определил его собственный этический и эстетический выбор. Он пошел против течения.
x x x
Маленький роман, скорее - повесть, "Смятения воспитанника Терлеса" открывает серию музилевских "душевных приключений", последним из которых был огромный роман "Человек без свойств".
В этом смысле все сочинения Музиля похожи одно на другое.
"Терлес" начинается с описания, как герой и его однокашник барон Байнеберг провожают на станцию родителей первого, приехавших проведать сына, воспитанника закрытого полувоенного учебного заведения. Все благопристойны, церемонны, чуть ли не чопорны - от гофрата Терлеса до юного Байнеберга. Все они, казалось, принадлежат к порождениям, даже к блюстителям, раз навсегда установленного, рационального, надежного, целесообразного жизненного порядка... Возвращаясь, Байнеберг и Терлес идут через лес, мимо корчмы, и становятся свидетелями того, как подвыпивший крестьянин, уходя от женщины и не желая ей платить, грязно ее ругает. Это еще не крушение порядка, а так смутный намек на его возможность, первая тучка на небесах Терлесова равновесия. Срыв вызывает кража, совершенная их соучеником Базини, кража, которая разоблачена в тот же вечер. Впрочем, и она - не более как крохотный тектонический сдвиг, но приоткрывающий пропасть. Благодаря ей герой приобщается к тайному, жестокому, кровавому и для него не вполне постижимому - в комнате, оборудованной Байнебергом и Райтингом на чердаке, они предаются физическому и нравственному издевательству над Базини, которое превращают в некий безумный, подрывающий все устои ритуал...
Они выходят из своего сложившегося, обычного, "дневного" образа отпрысков благополучных семейств, и Терлес силится не только их почувствовать, но и понять. Он силится понять и Базини, растленного и растлевающего, и даже самого себя, нового, участвующего в сатанинской мессе истязаний и самоистязаний. Потому что все они внезапно, неожиданно выходят из образа, из роли. Терлес - и соучастник и свидетель. И в этом своем последнем амплуа он ведет себя как ученый, как исследователь.
Однако над Терлесом стоит еще автор, повествователь. Повествователь рассказывает историю Терлеса в третьем лице, но именно как историю Терлеса, и никого другого. Все он знает только о Терлесе, а на остальных смотрит как бы глазами героя. Рассказ ведется с временной дистанции, после того как "душевное приключение" Терлеса давно завершилось, не сломав его личность, но оставив след, преподав некий незабываемый урок. И автор - ученый, исследователь в еще большей степени, чем его неопытный герой. Он наблюдает за метаморфозами Байнеберга, Райтинга, Базини, Терлеса. Его средства - когда более подробное, а когда и сжатое, экономное описание (холодноватое, трезвое, порой фактографичное) и анализ, точнее, анатомическое разъятие мыслей, чувств, состояний героя.
Стиль романа, да и вообще его ничуть не фрагментарная и не разорванная форма, пребывает в известной оппозиции к разверзшимся пропастям заключенного в них содержания. Но это и есть манера писателя Музиля, даже, если угодно, его художническая цель - рационально воссоздать материи "нерациоидные".
В заметке "Эскиз художнического познания" (1918) Музиль различает две области внешнего по отношению к познающему "я" мира - "рациоидную" и "нерациоидную". Он сам извинялся перед читателем за "неаппетитность" этих терминов. Но они были ему нужны, ибо их значение не совпадало с понятиями "рациональный" и "иррациональный". "Рациоидная" область,поясняет Музиль, охватывает в общем и целом все поддающееся научной систематизации, сводимое к закону и правилу, следовательно, в первую очередь физическую природу..." Иное дело "нерациоидное": "Факты в пределах этой области не дают себя приручить, законы напоминают сито, события не повторяются, они неограниченно изменчивы и индивидуальны... Это область реактивности индивида, направленной на мир и других индивидов, область ценностей и оценок, этических и эстетических отношений, область идеи... Это и есть родная область поэта, домен его разума".
Последнее особенно существенно, ибо писатель, по Музилю (если он, конечно, не "декадент"), подходит к своему "нерациоидному" материалу с рациональным инструментарием: иными словами, анализирует, систематизирует его, старается подвести под некие правила или вывести новые, специфические правила, материалу этому соответствующие. Ведь "нерациоидное" - отнюдь не иррационально. Оно - лишь своеобразная сфера проявления всеобщих закономерностей, более сложная, полная отклонений и опосредований. Здесь движение необходимого не только скрыто под нагромождением случайных "ситуаций", не дающих себя приручить "фактов"; они сами становятся формой этого движения, его единственными законными носителями.
И в "Терлесе" подспудные глубины содержания порой передаются форме, переходят в подтекст. Все начинает выглядеть так, будто имеешь дело не с волей автора, продуманно строящего свой рассказ на эффектах, на контрастах между поверхностным и глубинным, а со знаками и символами иного, подземного мира, проступающими, подобно "мене", "текел", "фарес", на стене гладкого, прочного, вполне ему подвластного повествования. К такого рода символам относится, например, образ чего-то паучьего, жуткого и одновременно гипнотизирующе-сладкого, обволакивающего, засасывающего душу, зовущего ее во тьму недозволенного.
Музиль здесь прикоснулся к некой "демонии" профашистского сознания, прикоснулся, быть может, не вполне отдавая себе в том отчет, но, в сущности, закономерно, поскольку "демония" эта формировалась на реальной границе "света" и "тьмы", то есть на изломе трезвой, упорядоченной поверхности австрийского бюрократизированного бытия и подспудной иррациональности его распада. Атмосфера "Смятений воспитанника Терлеса" - это в чем-то атмосфера будущих нацистских концлагерей: если Райтинг - примитивный садист, то Байнеберг - палач идейный, по-своему предваряющий Гиммлера, Гейдриха, Кальтенбруннера.
Человек как нечто "неожиданно пластичное, на все способное" предстает перед нами и в новелле "Завершение любви". Но здесь Музиль изучает как бы другую, в потенции "позитивную", сторону этого феномена. В героине новеллы уже угадывается будущий Ульрих, "человек без свойств", с его попыткой понимать и толковать жизнь не столько в качестве необходимости, сколько в виде возможности.
Клодина, преданная, нежная, любящая жена, отправляется навестить дочь, которая отдана в пансион некоего маленького городка. Дочь происходит даже не от первого брака героини, а является плодом глупого адюльтера. Клодина хотела, чтобы муж ее сопровождал, а ему помешали дела; это ее первая поездка без него... Вот и все "событие". Однако, как камушек, неосторожно брошенный на горном склоне, оно вызывает чувственную лавину, точнее, приводит к новому адюльтеру. Это - схема, скелет "приключения", который не имел бы большой цены, если бы не оброс мясом музилевских описаний и толкований.
Министериальный советник - он оказался дорожным попутчиком Клодины самоуверен, самовлюблен, ординарен. С первого взгляда она не испытывает к нему особого влечения, но чему суждено свершиться, свершается: она "вдруг приняла все как свою судьбу... и ее прошлое представилось ей внезапно каким-то незавершенным выражением чего-то, что еще только должно было случиться". Не этот малосимпатичный чиновник увлек ее, а нечто в ней самой, то "мелкозубое, дикое, растоптанное блаженство быть собой, человеком, поднявшимся в своем пробуждении среди безжизненных вещей, как рана". Она любит не его, а свои с ним отношения; отдается не любя, но и не без удовольствия. Это непонятно, но не необъяснимо, как порой непонятна, но не необъяснима жизнь.
Клодина любит мужа, однако ощущает свою с ним связь как "голую фактичность", почти как случайность: ее спутником может быть нынешний муж, а могли быть и другие, и уже прежде были другие. Муж связывает ее, _ограничивает_, оставляя за бортом все остальное, неосуществленное. В виду имеются, конечно, не только отношения любовные (они здесь - лишь пример и в то же время катализатор реакции); героиня протестует против закрепления сущего в неподвижных, навеки предписанных формах.
Это, впрочем, лишь один аспект Клодининого "приключения", можно бы сказать, "позитивный". Есть и негативный. Все, что стоит на случайности, стоит, будто на песке, а глубже, как и в "Терлесе", - зыбкость, распад, кризисность, болезнь, тьма. Здесь они, однако, не выходят на первый план. И прежде всего потому, что проступают как бы через Клодину. В "Терлесе" преобладал анализ, тут - описание; но не реалии (предметов, мыслей), а ощущений, которые те у Клодины вызывают, впечатлений, которые они в ней оставляют. В "Терлесе" авторская дистанция по отношению к изображаемому была большей; здесь она порой почти отсутствует. А все-таки и здесь рационалист Музиль стоит над действием. Чего не постигает Клодина, постигает читатель: и Клодинины человеческие порывы, и Клодинин декаданс...
"Португалка" - еще один вариант музилевского новеллистического письма. Там рассказывается история (она стилизована под сказание, легенду) рыцарского рода делле Катене, или фон Кеттен, владеющего землями и замком между Бриксеном и Триентом. Фон Кеттены - вполне австрийские бароны, космополитичные, готовые быть то латинянами, то немцами, как выгодней, и охотно берущие жен из дальних земель. Теперешний фон Кеттен взял португалку. Она ему чужая вдвойне, потому что он ведет бесконечную войну с Триентским епископом и лишь ненадолго заглядывает в замок. Все они тут странные, и отношения между ними странные. Фон Кеттен, чтобы убить молодого португальца, который приехал навестить его одинокую жену, зачем-то взбирается по отвесной скале прямо к окну комнаты гостя. Но того уже нет, ускакал. В замок приблудилась кошечка и заболела. Кошечку отдали слуге, и тот ее убил. А в конце португалка сказала: "Если Бог мог стать человеком, он может стать и кошкой..."
Это - повествование о жизни, о ее неоднозначной сложности. И о людях. Они тянутся друг к другу, жаждут подняться над самими собой, но один другого не знает, не понимает и потому каждый из них спасается бегством. Он - в войну, потом в болезнь; она - в ожесточающее одиночество и в супружескую измену, которая, может быть, и не состоялась. Взаимное непонимание не изложено, не проанализировано автором, оно дано нам в ощущении: обрисованы, намечены лишь "поверхности" фон Кеттена, португалки, ее молодого гостя. Мы видим их такими, какими видят они друг друга. Однако под поверхностью то и дело что-то проглядывает - _темное_, наслаиваемое временем и обстоятельствами, и _светлое_, человеческое. Тут свое место и у кошечки. Она - сомнительный Христос, богохульственный, Но важен тот нравственный след, который она оставляет: умиротворящий, гуманный. Не Бог "может стать и кошкой", а человек и из кошки способен сотворить себе "бога", то есть то, что его очищает.
x x x
В составленной от третьего лица автобиографической заметке писатель видит отличие "Человека без свойств" от собственных новелл следующим образом: "В этом романе Музиль отказывается от принципа извлекать из грунта действительности добытые на глубине малые пробы и описывает свой мир в его универсальной широте". Он однажды сказал, что "новеллы - это симптоматичные поступки человека", а современный роман, в его понимании, есть "субъективная философская формула жизни", объемлющая и всего человека, и всю сложность его отношений со временем, с историей и прежде всего с государством.
В новеллах и в "Терлесе" нередко присутствуют австрийские реалии: кадетский корпус у русской границы, где воспитывается Терлес, богемский городок, куда приезжает Клодина, замок фон Кеттенов. Однако все это существует как бы на периферии "душевного приключения"; если не в качестве чего-то второстепенного, то, во всяком случае, само собою разумеющегося. Там, скорее, жил некий австрийский "дух", да и то в виде "проб". В "Человеке без свойств" время и место определены с абсолютной точностью. "Австрийское" время и "австрийское" место: 1913 год, канун убийства габсбургского престолонаследника и начала мировой войны, и Вена, столица Габсбургской монархии. Хотя повествователь и предупреждает не без иронии, что "названию города не следует придавать слишком большого значения", это уже из другой области. Ибо Австрия представляет в романе не только себя; она одновременно и "модель": "Эта гротескная Австрия, - читаем в музилевском дневнике, - не что иное, как особенно явственный пример новейшего мира".
Гротеск, заложенный в самом объекте изображения, побуждал к усилению, заострению романной ситуации, искушал довести ее до некоего предела абсурдности. И Музиль вымыслил интригу, в кривом зеркале которой отразилась безнадежная немыслимость социального и государственного устройства Дунайской империи. Она получила название "параллельной акции".
В кругах, близких к трону, становится известным, что германский союзник и соперник начал подготовку к празднованию тридцатилетия правления Вильгельма II. Поскольку на тот же год приходится юбилей еще более внушительный: семидесятилетие царствования Франца-Иосифа, австрийцы решают не отставать.
Созываются представительные заседания; устраиваются пышные приемы; обсуждаются сложнейшие процедурные вопросы; приходят в движение националисты, пацифисты, просто верноподданные; разного рода изобретатели, фанатики, мечтатели шлют в адрес организационного комитета проекты один другого фантастичнее. Но ни у самого организационного комитета, ни у стоящих за его спиной правительства и императорской канцелярии нет как нет идеи, под флагом которой надлежит шествовать навстречу юбилею монарха. Впрочем, престарелый граф Лейнсдорф, руководитель акции, совершенно спокоен: как-то все идет само собою, "работа движется", и это главное. А идея, может быть, и приложится. В какой-то момент начинает даже казаться, что ею обещает стать создание "Супораздаточной столовой императора Франца-Иосифа". И это не важно - Австрия и не то еще видела! Важна симуляция деятельности, отвлекающая горячие умы... Это - подход чисто австрийский, продиктованный мудрой дряхлостью и дряхлой мудростью здешней власти: Какания {Слово образовано от аббревиатуры "к.-к." (kaiserlich-koniglich - кайзеровско-королевская, нем.), предпосылавшейся названиям всех институций старой Австрии.}, - так Музиль называет свою родину, создавая из нее пародийную легенду, - "была по своей конституции либеральна, но управлялась клерикально. Она управлялась клерикально, но жила в свободомыслии. Перед законом все граждане были равны, но гражданами-то были не все".
Потом на горизонте начинают маячить и более "достойные" цели: австрийский патриотизм или - как его антипод - движение за мир. В конце концов само собою получается, что независимо от намерений участников, а порой и вопреки им, "параллельная акция" становится подготовкой к войне и в этом обретает свою "великую идею".
События мировой истории обгоняли музилевское неспешное, трудное, тщательное писательство. К тому времени, когда он собрался (да и то, как мы знаем, весьма неохотно) обнародовать первый том "Человека без свойств", Франц-Иосиф, так до юбилея и не доживший, давно уже был в могиле, а его держава рассыпалась, как карточный домик. Но Музиля это не обескураживало: "Все, что проявилось в войну и после войны, - записал он в 1920 году в дневнике, - имелось и до этого". И он не высмеивал прошлое, а исследовал настоящее и будущее того мира, к которому принадлежала старая Австрия, фундаментальные пороки которого она столь наглядно представляла, вероятный конец которого символизировала своей гибелью.
Апофеозом "параллельной акции" должен стать 1918 год: тогда оба императора подойдут к своим юбилеям. Но в 1918 году рухнули обе империи; более старая вообще не собрала костей, более молодая превратилась в республику. Персонажи романа об этом еще не знают, однако читателям все известно. И это отбрасывает на возню с "параллельной акцией", на разыгрывающиеся вокруг нее страсти свет чуть ли не апокалипсической иронии. Граф Лейнсдорф руководствуется принципом "laissez-faire"; {Попустительство (фр.).} роскошная Диотима (намек на "учительницу любви" У Платона и идеальную героиню Гельдерлина), супруга высокооставленного чиновника министерства иностранных дел и душа лейнсдофовского комитета, красуется на званых вечерах; генерал Штумм фон Бордвер, прикомандированный военным ведомством к этой "акции мира", печется об извлечении пользы для своего ведомства; немецкий промышленник Арнгейм, присоединившийся к ней, чтобы прибрать к рукам нефтяные месторождения Боснии и Галиции, ухаживает за Диотимой и проповедует свои взгляды; крикливый поэт Фейермауль (карикатура на Франца Верфеля) норовит направить все это движение по своему руслу, руслу человеколюбия столь же жестокого, как и человеконенавистничество юного пангерманца Ганса Зеппа. И все - впустую. Ибо эпоха, по Музилю, в значительной мере характеризуется фатальным разрывом между человеческими идеями и человеческими поступками.
Это приметил даже бодрый, деятельный, исполнительный генерал Штумм. На него, в связи с участием в "параллельной акции", нахлынуло целое море идей. И он решает составить схему их "дислокации", подобно тому как генштабист наносит на карту расположение сражающихся армий. Результат оказался в высшей степени неожиданным: "Но ты, верно, заметишь... если взглянешь на ту или иную группу идей, ведущую сегодня бои, что живой силой и идейным материалом ее пополняют не только собственные ее базы, но и базы противника; ты видишь, что она то и дело меняет свои позиции и вдруг без всяких причин поворачивает фронт в обратную сторону и сражается с собственными тылами; ты видишь опять-таки, что идеи непрестанно перебегают туда и обратно, и поэтому ты находишь их то в одной боевой линии, то в другой. Одним словом, нельзя ни составить приличную схему коммуникаций, ни провести демаркационную линию".
Все это не могло не придавать самой ткани романа известной разорванности. Музиль сравнил "Человека без свойств" с каркасом идей, на котором, подобно гобеленам, висят отдельные куски повествования. Главный среди таких "гобеленов" - "параллельная акция". Но есть и другие: дело патологического сладострастника Моосбругера, история безумной ницшеанки Клариссы, дружба Герды, дочери управляющего банком Фишеля, и националиста Зеппа и т. д. и т. п. Требовалось нечто, способное все между собою соединить. Связкой стал Ульрих, главный герой романа. Первоначально роман должен был именоваться "Шпион", потому что его герой Ахиллес всем интересовался, со всеми общался, всюду проникал, одним словом, на свой страх и риск ради удовлетворения собственного любопытства "шпионил" за эпохой, за временем, за развалившейся государственной системой. Но Ульрих и много большее, чем просто связка: он - носитель романной идеи, "субъективной философской формулы жизни".
Ульрих как "человек без свойств" - это не только зримое воплощение уже известных нам опасений Музиля, касавшихся внутренней "бесформенности" современного человека, но и попытка осознать эту "неизбежность", так сказать, в позитивном плане, извлечь из нее для общества и для человека конструктивные уроки. Ульрих - не человек с "чувством реальности", а человек с "чувством возможности", то есть тот, чьи свойства еще не застыли в границах чего-то единичного, конкретного и находятся в состоянии перманентного акта творения. Он знает, что способен стать всем, и знание это предохраняет от эгоцентризма, от убийственно серьезного отношения к собственным мнениям и поступкам, какое присуще людям, заключенным в тюрьму "характера". Ульрих обладает даром идти "рядом с собой" и не считаться с прихотями и капризами своей натуры. Жизнь для него - не сцена, где самовыявляется "я", а калейдоскоп, создающий бесчисленное множество узоров, при каждом повороте - разных. Для Ульриха мир, по выражению Музиля, "большой исследовательский центр, где испытываются и наново создаются лучшие человеческие формы".
Итак, "человек без свойств" - программа позитивная. Так смотрел на нее и Томас Манн, писавший, что художественная система Музиля - "оружие чистоты, истинности, природности против всего чужого, омрачающе-фальшивого, того, что он в своем мечтательном презрении именовал "свойствами".
Это и в самом деле так - в той мере, в которой относится к отчужденной, растерявшей представления о настоящих ценностях личности, какой она предстает к началу XX века. "Ведь у жителя страны, - говорит Музиль о своей Какании, - по меньшей мере девять характеров: профессиональный, национальный, государственный, классовый, географический, половой, осознанный, неосознанный и еще, может быть, частный; он соединяет их в себе, но они растворяют его, и он есть, по сути, не что иное, как размытая этим множеством ручейков ложбинка, куда они прокрадываются и откуда текут дальше, чтобы наполнить с другими ручьями другую ямку".
В музилевском дневнике встречается такая запись: "Гельдерлин: в Германии нет людей, а только профессии. Использовать. Нарисовать типы профессионалов". Все - или почти все - персонажи, что противостоят в романе Ульриху, и есть "типы профессионалов". Например, муж Диотимы, осторожный чиновник Туцци, "с самой что ни на есть чистой совестью подаст знак к началу войны, даже если лично не в силах пристрелить одряхлевшего пса". Чиновник не есть человек, вовсе не имеющий "собственного мнения". Только руководствуется он не им, а логикой инстанций. В канцелярии - сознательно, вне службы - сам того не замечая. Он не прячется за бюрократическую машину, просто становится ее частью. Только ролью. Прочее, за ненадобностью, усыхает.
Государственный чиновник, вроде Туцци, вроде генерала Штумма, или управляющий банком, вроде Лео Фишеля, - это "профессионалы" в чистом виде. Но и Диотима, и хозяйка соперничающего салона госпожа Докукер, и декадентский философ Мейнгаст, и Зепп, и Фейермауль, и любовница Ульриха Бонадея, и муж его сестры Агаты, гимназический директор Хагауэр, и редактор Мезеричер - одним словом, как я уже сказал, чуть ли не все население романа по-своему тоже "профессионалы". Потому что их "характеры" складываются из "свойств", берущих начало не в индивидуальности, а как бы в обход ее - в самих сцеплениях вещей, фактов, мотивов, ситуаций.
Взять хотя бы "его сиятельство" графа Лейнсдорфа. Он - австрийский аристократ старой закалки, перенесенный в новый, ломающийся и строящийся мир из каких-то полулегендарных, "фон-кеттеновских" времен, по-детски наивный, по-барски доброжелательный, упрямо-консервативный, представляющий себе народ в виде фольклорной толпы оперных статистов, но обладающий удивительной способностью к приспособлению. Словечко "истинный" помогало ему разбираться в этой действительности и находить в ней свое место. При случае он готов признать себя "истинным социалистом", при необходимости - даже поверить в это. Не говоря уже о том, что габсбургский патриотизм не мешал ему, если выгодно, продавать продукцию своих поместий за границу и вообще вести дела на чисто капиталистический лад. Лейнсдорф исповедует принципы некоего политического формализма - не только традиционного, имперского, определяющего отношения с двором и его чиновником графом Штальбургом, но и новомодного, чуть ли не "парламентского", ставящего во главу угла партийные тактики, а не партийные идеи. Этот Лейнсдорф, легко, почти беззаботно отрывающий слово от дела, - уже не человек, а прямое, в самом себе зафиксированное порождение эпохи. Порождение, как и сама эта эпоха, достаточно сложное и оттого способное вызвать у Ульриха своеобразную ироническую симпатию.
Что Лейнсдорф вроде бы сидит между двумя стульями, что он - капиталист среди феодалов и феодал среди капиталистов, не мешает ему быть "профессионалом", в данном случае "профессионалом" личностного отчуждения. Почти таков и генерал Штумм - штатский среди солдат и солдат среди штатских (служа в кавалерии, он мучился и мечтал об отставке, а попав в военное министерство, почувствовал себя как рыба в воде и начинает подумывать об очередном генеральском чине). Такая оторванность от прочной основы, промежуточность позиции свидетельствует лишь о том, что маска надета на пустоту и выдает себя за "характер". Более того, фактически становится им человеческим характером кризисной эпохи, "одинаково способным, - как пишет Музиль, - и на людоедство, и на критику чистого разума".
А вот Ульрих - "непрофессионал". Некогда, повинуясь рутине, он был близок к тому, чтобы им стать. Теперь он взял у практической жизни годичный отпуск, и отец, австриец твердых правил и консервативных взглядов, пристроил его, чтоб не болтался без дела, к Лейнсдорфу, в секретари организационного комитета "параллельной акции". Но это все равно "отпуск", только дающий возможность, стоя в сторонке, ничем себя не связывая, наблюдать, размышлять, умозаключать и даже общаться.
Общение дается Ульриху в высшей степени легко именно потому, что он не маска, не роль, не "характер". Его сознание открыто, до чрезвычайности подвижно, в нем ничто не застыло. Оно не сталкивается с чужим сознанием, как две брони. С этой точки зрения Ульрих - идеальная связка: его со вкусом просвещает Арнгейм, с ним охотно болтает Лейнсдорф, это к нему со своими сомнениями, касающимися "дислокации" идей, прибегает генерал Штумм. Так вокруг Ульриха и в нем самом накапливаются сведения об убеждениях, верованиях и заблуждениях эпохи - нечто вроде "энциклопедии" ее интеллектуальной жизни и интеллектуальной болезни, подобной той, что возникает в манновских "Волшебной горе" и "Докторе Фаустусе" или в горьковском "Климе Самгине".
Ульрих не только не носит масок, но и не меняется. По крайней мере в том же смысле, в каком меняются прочие люди. Ведь изменчивость - это его внутренняя константа, если угодно, его нерушимая "догма", единственное его "свойство". Но это и его исследовательская "методика". И когда он с такой "методикой" приближается к Какании - государству, социальному организму, сообществу, где все нацелено на неподвижность, на консервацию, на мифизацию собственной немощи, собственной пережиточности, возникает неповторимый сатирический эффект:
"...старый кайзер и король Какании был фигурой мифической. С тех пор-то о нем написано много книг, и теперь точно известно, что он сделал, чему помешал и чего не сделал, но тогда, в последнее десятилетие его жизни и жизни Какании, у людей молодых, знакомых с состоянием наук и искусств, иногда возникало сомнение в том, что он вообще существует на свете. Число его вывешенных и выставленных повсюду портретов было почти столь же велико, как число жителей его владений; в его день рождения съедалось и выпивалось столько же, сколько в день рождения Спасителя... но эта популярность и слава была настолько сверхубедительна, что с верой в него дело обстояло примерно так же, как со звездами, которые видны и через тысячи лет после того, как перестали существовать".
Проблематичность монаршей реальности - не что иное, как метафора (хоть Музиль в принципе не любил метафор) проблематичности всего строя, цеплявшегося за свою неизменность.
Впрочем, Ульриху импонирует не всякое изменение. Одна из таких - не импонирующих ему - идей "прогресса" приходит из Пруссии, то есть из лагеря немецких союзников и соперников. Ее носитель - доктор Пауль Арнгейм, "великий человек", "великий писатель" (его прототип - Вальтер Ратенау, коммерсант и литератор, министр иностранных дел Веймарской республики, в 1922 году убитый членом правой террористической организации). На заседаниях наблюдательных советов промышленных концернов он цитирует Гете и Шиллера, и лишенные воображения дельцы слушают не только потому, что это необычно, но и не желая сердить старого Самуэля, отца Арнгейма, простоватого и гениального делателя денег.
На первый взгляд Арнгейм-младший - это то же, что Лейнсдорф или Штумм, иными словами, человек, сидящий между двумя стульями. Он и правда особый, кризисный тип "профессионала": литератор среди коммерсантов и коммерсант среди литераторов. Но он - и другое, можно паже сказать, нечто большее. У Лейнсдорфа и Штумма, по сути, нет цели, кроме той, что направлена на самосохранение, а у Арнгейма есть. В этом он ближе Ульриху, чуть ли не равен ему, хотя цели их диаметрально противоположны. Арнгейм стремится объединить "душу и промышленность", "идею и власть". Однако не в каком-нибудь отдаленном будущем, а здесь, сейчас, на почве существующих общественных отношений. Он - олицетворение того, что Музиль называет "человеком реальности", и в этом смысле главный антагонист Ульриха.
Ульрих говорит о нем графу Лейнсдорфу: "Облако так называемого прогресса времени... принесло его нам". Цели Арнгейма, безусловно, охранительны, в том числе и в глазах Ульриха. Так при чем же тут "прогресс"? Ульрих скептически относится к этому, слишком уж часто проституируемому понятию. Вдобавок здесь он говорит о прогрессе "так называемом", то есть именно о всяком изменении. А Арнгейм готов приветствовать как раз всякое: и то, что углубляет отчуждение, обезличивает личность, расширяет декаданс, лишь бы оно - это изменение - не угрожало непосредственно системе, не затрагивало ее основ. Арнгейм ставит на новейший капитализм. В качестве литератора он огорчается бездушию денег, в качестве коммерсанта поет им осанну...
Из всех людей вокруг "параллельной акции" Арнгейм всерьез принимает только Ульриха. Даже побаивается его, потому что взгляды Ульриха - "человека без свойств", "человека возможности" - кажутся Арнгейму - "человеку реальности" - наиболее разрушительными. И в то же время Арнгейм питает к Ульриху некую слабость, ибо тот - "иное воплощение его собственного случая". Да и Ульрих по-своему питает к Арнгейму слабость. "То, что все прочие представляют собой порознь, - говорит он об Арнгейме, - он представляет собой в одном лице". Это можно бы принять за шутку, если бы в заметках к роману, рассматривая три варианта утопии, вытекающей из "полемики "человека возможности" с "реальностью", Музиль не включил и вариант "арнгеймовский": "утопию индуктивного подхода или наличного социального состояния".
"Индуктивный подход" - это, по Музилю, то, что отталкивается не от заданной абсолютной идеи, а от "наличного социального состояния" и надеется на улучшение последнего за счет мелких (в том числе и спонтанных) шажков вперед. Это - путь западных демократий, буржуазного либерализма. И Музиль его отвергает. Но такой путь все-таки виделся ему одной из мыслимых "утопий" Ульриха. Ведь для Музиля Ульрих - своего рода "заменитель" героя: не то чтобы персонаж положительный, а, скорее, образ наименьшего зла.
Роман построен так, что мы то и дело слышим критику в адрес Ульриха и из уст различных персонажей. Диотима говорит ему, что он ведет себя, "будто мир начнет существовать лишь завтра"; Кларисса ему выговаривает: "...ты знаешь, что было бы хорошо, но делаешь прямо противоположное тому, чего хочешь!"; Агата его обвиняет: "Все, тобою высказанное, ты каждый раз снова берешь назад" - и т. д. и т. п. По отдельности такие высказывания, может быть, и не имели бы большой цены, потому что некоторые из них исходят от лиц, серьезного доверия не заслуживающих. Но вместе они создают некую "ауру", совпадающую и с Ульриховой самокритикой, и, главное, с тем впечатлением, которое постепенно приобретает о нем читатель. Зачем, например, Ульрих, полагающий, что "во имя мира, который еще может прийти, следует держать себя в чистоте", в то же время сочувствует сексуальному убийце Моосбругеру?
Однако наиболее безнадежной ульриховской эскападой является как раз та, которая призвана реализовать его собственную позитивную "утопию" - "утопию другого (нерациоидного, немотивированного и т. д.) состояния в любви". В связи с внезапной смертью отца Ульрих отправляется в провинциальный университетский город, где тот служил, и в опустевшем родительском доме встречается с Агатой, родной сестрой, с которой не виделся с детства. Между ними возникает духовная близость, перерастающая во взаимное влечение, в любовь. Запретный ее характер в первую очередь существен не как вызов, брошенный обществу, а как форма высшего сосредоточения на самих себе. Ульрих "знал, что он не только в шутку, хотя и как сравнение, употребил слова "тысячелетнее царство". Если принимать это обещание всерьез, то оно сведется к желанию с помощью взаимной любви жить в столь приподнятом расположении духа, что все чувства и действия станут повышать и поддерживать такое состояние".
Это и есть, по Музилю, "другое состояние". Его испытывала еще героиня "Завершения любви", частично к нему приобщился и Терлес. Но в "Человеке без свойств" оно по идее весит неизмеримо больше, ибо становится поиском выхода из тупиков, попыткой решить, как быть человеку с неприемлемой для него действительностью, в какую к ней позицию стать.
Еще когда Ульрих на одном из заседаний организационного комитета, в ходе перманентных поисков идеи "параллельной акции", как бы в насмешку предложил создать "генеральный секретариат точности и души", он, и сам того не сознавая, тянулся к обозрению, к синтезу. А ныне, пребывая в "другом состоянии", герой задумывается над "идеей порядка в себе", тоскует о "законе истинной жизни", хочет сочетать холодное знание с верой в идеалы, из которой "проистекают красота и доброта человека".
Вскоре, однако, все рушится. Как явствует опять-таки из чернового наброска, Ульрих и Агата уезжают на юг, к морю, на поиски "тысячелетнего царства". Вначале возникает восторг, вызванный совершенством, красотой их собственных отношений, созвучных здешней роскошной природе. Потом наступает тем более острое разочарование, отвращение. Ульрих говорит: "Любовь может возникнуть назло, но она не может существовать назло; существовать она может, лишь будучи включенной в общество... Нельзя жить чистым отрицанием". Последнее относится не столько к ульриховскому "другому состоянию", сколько к его жизненной позиции в целом. Рискованный эксперимент, провалившись, отбрасывает героя назад: даже роль наблюдателя "параллельной акции" видится ему теперь слишком "деятельной". Он, как и Агата, заигрывает с мыслью о самоубийстве...
Это - явственнейшие признаки крушения. Трещины же появились гораздо раньше: еще тогда, когда Агату потянуло к проповедям учителя Линднера. Линднер - радетель третьей из мыслимых "утопий", "утопии чистого "другого состояния" в ее отклонении к Богу". Интерес к вероучителю Линднеру есть измена Ульриху - и не только со стороны Агаты, а, так сказать, и со стороны самого Музиля. Ведь помимо того, что ульриховская "утопия" безбожна, она еще и лишена линднеровского требования подчинить себя нерушимому нравственному императиву. Собственно, Ульрих и Линднер - антиподы, такие же, как Ульрих и Арнгейм. Но Агата - в чем-то по-прежнему alter ego {Другое "я" (лат.).} Ульриха - питает к Линднерну ту же слабость, какую Ульрих питал к Арнгейму. Так Арнгейм и Линднер оказываются (кроме всего прочего) как бы кривыми зеркалами, отражающими духовную импотентность Ульриха, болезненность и неизбежность его грехопадения. Ибо он и сам - частица этого обреченного на слом мира, и то, что с ним случилось, по словам Музиля, есть "трагедия потерпевшего крушение человека".
После 38-й главы второй) тома роман "Человек без свойств", как я уже писал, теряет сколько-нибудь определенные очертания, растекается по наброскам, черновикам, вариантам, проектам и иссякает в авторских заметках, в том числе и заметках самокритических. Иссякает, надо думать, не только потому, что Музилю чисто по-человечески не хватило времени, чтобы осуществить задуманное.
У него был четкий (почти "инженерный"!) план - идейный и композиционный. Первый том: часть I "Своего рода введение", часть II "Происходит все то же"; второй том: часть I "В тысячелетнее царство (Преступники)", часть II "Своего рода заключение". "Тысячелетнее царство" (иное название для "золотого века") призвано было в форме индивидуалистической "утопии" Ульриха и Агаты стать альтернативой жизни, в которой "происходит все то же", то есть "жизни взаймы" в Какании, жизни, как бы составленной из одних только старых, повторяющих самих себя "цитат". Но, как мы знаем, такой альтернативой "тысячелетнее царство" не стало, не сумело стать, и это уничтожило равновесие. "Идеальный" замысел распался. Из его обломков начал строиться иной роман, однако так и не построился.
В 1925 году Музиль сообщил одной из венских газет, что работает над романом "Близнецы", в котором изображается любовная связь брата и сестры. Опираясь на это сообщение и на некоторые другие факты, западногерманский исследователь В. Бергхан высказывает предположение, что ряд текстов, включенных А. Фризе во второй том "Человека без свойств", относится к тому старому романному фрагменту. Следовательно, не музилевская сатира постепенно растворялась в метафизике и релятивизме опирающейся на инцест "утопии", а, напротив, она планомерно вытесняла последние. Обоснованность предположения Бергхана проверить трудно. Но то, что социальная проблематика и на позднем этапе являлась для автора основной, сомнений не вызывает. Об этом он говорил сам, и говорил совершенно недвусмысленно: "Главная мысль с начала второго тома: война; "другое состояние" - Ульрих подчинено этому как побочная попытка решения "иррационального".
Подобно Гансу Касторпу в финале манновской "Волшебной горы", Ульрих должен броситься в объятия войны. Это, записывает Музиль, "конец утопий... Параллельная акция ведет к войне. Война... возникает как великое событие. Все линии сходятся на войне. Каждый на свой лад ее приветствует... Поскольку у них нет доверия к культуре, они бегут от мирной жизни".
Такой финал - свидетельство глубочайшего разочарования писателя, разочарования не только в нежизнеспособном предвоенном обществе, а и в не выдержавшем столкновения с ним герое. Что, по мысли Музиля, нужно, так это "человек без свойств", но и "без декаданса".
Музиль стоит над своим героем. Однако это очень специфическое "над", создающее своеобразную перспективу и порождающее многочисленные трудности. "Техника рассказывания, - гласит одна из музилевских заметок. - Я рассказываю. Но это "я" - отнюдь не вымышленная особа, а романист. Информированный, ожесточенный, разочарованный человек. Я. Я рассказываю историю моего друга Ульриха. Однако и о том, с чем я столкнулся в других персонажах романа. С этим "я" ничто не может случиться, но оно переживает все, от чего Ульрих освобождается и что его все-таки доконало... Все прослеживать лишь настолько, насколько я его вижу... не выдумывать завершенность там, где ее нет во мне самом". Это - позиция честная, самокритичная, однако таившая в себе и немалые опасности: "В романе я стою в центре, хотя и не изображаю самого себя; это препятствует "сочинительству".
Музиль не был самоуверенным писателем. Его удел - недовольство собой, сомнение в собственных творческих возможностях. В свое время он осуждал "Терлеса", осуждал свои новеллы. Однако, работая над "Человеком без свойств" - особенно после того, как изначальный замысел романа потерпел фиаско, - он все чаще начинает ставить свои ранние вещи самому себе в пример: "Я хочу одновременно слишком многого... Отсюда возникает нечто судорожное. В "Терлесе" я еще знал, что нужно уметь опускать". Камнем преткновения для Музиля было умение претворять свои и Ульриха философские спекуляции в действие, воплощать их в образах, фигурах романа. Это давалось ему с колоссальным трудом, редко вообще не давалось. Он неоднократно жаловался на "перегруженность романа эссеистским материалом, который растекается, не лепится". Сказанное в первую очередь относится ко второму тому, чья "главная ошибка состояла в преувеличении роли теории"; и Музиль ставил себе задачу: "Не идентифицируй себя с теорией, а займи по отношению ней реалистическую (повествовательную) позицию. Ставил и не выполнял, ибо в то же время никак не мог отрешиться от убеждения, "что теоретико-эссеистское высказывание в наше время ценнее художественного". Философ, стремящийся к прямому познанию истины, к верности и точности мысли, соперничает в Музиле с романистом, с художником. В отдельных сражениях побеждал то тот, то другой. Но кампанию в целом, вне всякого сомнения, выиграл художник. Он нарисовал мир, обреченный на слом. И это не только мир старой, уже почти трогательной в своем комизме Какании, но и мир более гибкий, современный, ловчее приспособившийся, одним словом, "арнгеймовский". Сколь это ни странно, ни парадоксально, художник нарисовал его не без помощи философа, даже естествоиспытателя, инженера Музиля. При этом возникла новая романная форма - симбиоз эпоса и математики. Нередко такую форму именуют "интеллектуальным романом". Однако думается, что у Музиля самое примечательное не интеллектуализм, а точность, рационализм, причем в приложении к материям капризным, весьма неточным, склонным прикидываться "мистикой", к областям воистину "нерациоидным".
x x x
Отчего Музиль видел в Австрии "особенно явственный пример современного мира" - ведь он неустанно выпячивал ее архаическую, смехотворную, нетипичную отсталость? Логика, казалось бы, подсказывает лишь один ответ: Какания являла собою своеобразный паноптикум, скопление всех мыслимых социальных и духовных хворей, а, следовательно, очевиднее прочих европейских держав годилась на слом. Чем как бы предвещала их общее будущее. Это - с одной стороны. Есть, однако, и другая. Музиль ведь рассматривал "состояние европейского духа" как "еще не осуществившийся переход, не перезрелость, а незрелость". Не берусь угадывать, что он конкретно имел здесь в виду. Во всяком случае не пришествие коммунистического рая. Может быть, Музиль и сам толком не знал, какого рода обновлений ожидает, может быть, даже и в том сомневался, уповать ли на обновления эти или их опасаться. А все же некое "нерациоидное" провидение его, надо думать, посетило, ибо в "Человеке без свойств" то и дело проступают контуры той странной действительности, что всех нас окружает сегодня.
Простоватый генерал Штумм с удивлением обнаружил, "что идеи непрестанно перебегают туда и обратно", хотя в нормальных условиях им этого делать не полагается. Но ведь условия-то ненормальны: полным ходом идет процесс и_с_п_а_р_е_н_и_я и_д_е_о_л_о_г_и_й. Убеждения и верования становятся не более чем формой выражения прагматических интересов, отличаются одно от другого лишь функцией, никак не смыслом. По-своему деидеологизированным оказывается подавляющее большинство персонажей романа - эти "профессионалы", действующие и даже думающие себе вопреки, эти удивительные личности, сидящие между двух стульев, обладающие множеством разноречивых "характеров", сочетающие в себе несочетаемое. И что особенно примечательно: существуют-то они посреди мира резко и непоправимо идеологизированного, как бы е_с_т_е_с_т_в_е_н_н_о скатывающегося к мировой войне...
"Человек без свойств" - это, в сущности, ч_е_л_о_в_е_к б_е_з и_д_е_о_л_о_г_и_и. Поскольку Ульрих здесь главный герой, то не будет натяжкой сказать, что finita la ideologia - центральная тема романа. Наверное, автор с такой интерпретацией не согласился бы, но лишь потому, что стоял у истоков процесса, который из периферийного (Габсбургская монархия, Российская империя), протекая умопомрачительными зигзагами, к середине нашего века превратился в магистральный.
Начнем, однако, по порядку. После Октябрьской революции (т. е. между 1920-ми и 1970-ми гг.) все многообразие всемирно-исторических противоречий постепенно стянулось к двум идеологическим магнитным полюсам. Возникло "Великое противостояние" двух непримиримо враждебных политических систем, проглатывавшее любые мировоззренческие оттенки. Все было нацелено на т_о_т_а_л_ь_н_у_ю войну, которая ничем иным не могла завершиться, как т_о_т_а_л_ь_н_ы_м же самоистреблением рода человеческого. Оттого можно согласиться с новейшим французским философом Жаном Бодрияром, что атомный Апокалипсис у нас уже позади: ведь Бодрияр имел в виду испепеление наших душ в ожидании катастрофы...
Но тотальная война все же не состоялась. И по причине бесцельного зависания в политическом вакууме полюса враждебных идеологий постепенно стали сближаться. Капиталистический Запад и социалистический Восток мыслимо представить себе и в качестве двух динозавров, схватившихся друг с другом и застывших в непомерном статическом напряжении. Со временем это затянувшееся объятие стало утрачивать свою боевую природу, обернулось некой "стабильностью", той самой, которой в смертельном своем страхе обе системы вожделели. Так возникла С_у_п_е_р_с_и_с_т_е_м_а, хоть и замкнувшаяся на антагонизмах, но принявшаяся странным образом с самой собою кооперироваться: Соединенные Штаты уже не могли обойтись без Советского Союза, Советский Союз - без Соединенных Штатов, даже ФРГ без ГДР, а ГДР - без ФРГ...
Еще в 1923 г. русский философ Николай Бердяев утверждал, что началась эпоха "нового средневековья". Средневековье он понимал не как отсталость, не как патриархальность, а как некое м_е_ж_в_р_е_м_е_н_ь_е, наступившее после вселенского Апокалипсиса. "Мы живем, - полагал Бердяев, - во времена, аналогичные распаду античного мира". Что, с его точки зрения, необязательно окрашивает жизнь в тона неизбывно мрачные: ведь капиталистический и коммунистический фанатизмы якобы заступила мудрость религиозной, универсалистской созерцательности...
Бердяевское пророчество вроде бы не сбылось, так как мир вскоре и вовсе раскололся на два враждующих лагеря. Тем не менее еще до неожиданного конфуза с "Великим противостоянием" итальянский семиотик Умберто Эко (он же автор бестселлера "Имя розы") снова заговорил о средневековье: "Средние века уже начались", так именуется его опубликованное в 1973 г. эссе. Причем это средневековье весьма сходно с бердяевским: "Что же нам нужно, чтобы создать хорошие средние века? - спрашивает Эко и тут же отвечает:- Прежде всего, огромная мировая империя, которая разваливается..."
Легко заметить, что Габсбургская монархия накладывается на такой образ средневековья, накладывается и в смысле традиционном (то есть как нечто пережиточное), и в так называемом "постмодерном" смысле (то есть как некое наступившее п_о_с_л_е Апокалипсиса состояние, характеризующееся утратой витальности, целеустремленности, веры в прогресс и непримиримости к инакомыслию. Тут все одержимо сомнением, а мир видится как неустанное самоповторение).
Вторая часть первой книги "Человек без свойств" именуется: "Происходит все то же". И это лишь один из множества примеров поразительного сходства между музилевской Каканией и современным нам миром последней трети XX века. В этом нет никакой мистики. Просто старая Австрия была чем-то вроде "форпоста": что нынче творится с Европой и Америкой, то много лет тому назад случилось с ней. На свой, разумеется, лад, ибо в иных исторических условиях. Впрочем, одно из условий в обоих случаях соблюдено: Габсбургская монархия распалась к_а_к и_м_п_е_р_и_я.
Умберто Эко глубоко в том уверен, что для прихода в "постмодерное" состояние обществу нужен очередной имперский развал. Провозглашая уже начавшееся средневековье, он, однако, подходящей империи не обнаружил, отчего и почел себя вынужденным ангажировать США на эту роль: "Что сегодня мы живем в эпоху кризиса Великой Американской империи, стало уже общим местом в историографии нашего времени".
Эко ошибся. Но только в деталях - не в принципе. Ибо "империя", которой надлежало рухнуть, все же существовала. Я имею в виду Суперсистему, чье крушение было истинно и_м_п_е_р_с_к_и_м: ничуть не менее впечатляющим, нежели закат державного Рима. Если один из застывших в схватке динозавров падет, другой непременно зашатается. Это и есть ситуация Запада, после того как сгинул Советский Союз: экономически и, тем более, духовно первый уподобился Пизанской башне...
Впрочем, связь между "постмодерным" мировидением и крушением Суперсистемы представляется многим сомнительной, тем более что все это и хронологически между собою не очень вяжется: "постмодерн" явил себя миру где-то в 60-е годы, а Суперсистема приказала долго жить лишь добрых четверть века спустя. При этом, однако, упускают из виду, что и сама-то Суперсистема была плодом "кошмарного" кровосмешения, так сказать, идеологическим бастардом, и потому изначально таила в себе в_с_ю духовную опустошенность, всю скептическую разочарованность, даже все ироническое отрезвление эпохи, как "параллельная акция" у Музиля таила в себе жалкий финал Какании. Выпаривание идеологий начиналось именно в недрах Суперсистемы, ибо провоцировалось "дружественным" соприкосновением враждебных полюсов.
Когда Бодрияр говорит о пережитом нами Апокалипсисе, он имеет в виду трагическую сторону процесса. Есть, однако, и другая - к_о_м_и_ч_е_с_к_а_я, ш_у_т_о_в_с_к_а_я, а_б_с_у_р_д_н_а_я. Причем в сегодняшних обстоятельствах ее истоки проступают еще явственнее, чем в легендарные "каканийские" времена. В некотором роде в_с_е усилия, в_с_е жертвы, принесенные человечеством, даже в_с_е страхи, на которые оно себя обрекло, оказались нет, не тщетными, еще хуже, - ненужными. "Империю зла" даже побеждать не потребовалось: она распалась сама собою, по причине старческой немочи. Что начиналось как трагедия, обернулось низменным фарсом: комедия смертельной вражды переросла в комедию сотрудничества и завершилась комедией победы. То была в конечном счете и_д_е_о_л_о_г_и_ч_е_с_к_а_я Комедия, все на свете обесценившая, отнявшая веру как в Рай, так и в Ад. Недаром наш современник, итальянский философ Джанни Ваттимо, заметил, "что история лишена смысла, по крайней мере, того, какой можно было бы таким образом постичь".
Если набросать схему истории человечества, то она окажется чередой фанатичных поисков земного рая и кратких промежутков отрезвляющего разочарования. Что предпочтительней? Коль скоро "золотой век" - лишь прекрасный и одновременно опасный миф, однозначного ответа, полагаю, не существует. Боюсь, что оба состояния (второе из которых ныне все чаще называют "постмодерным", а первое - "модерным") по-своему неизбежны, а в чем-то и необходимы. Ослабить удары девятых валов судьбы, а может, и предотвращать непоправимые катастрофы, способно лишь осознание такого "дуализма".
Оттого так важен, так актуален сегодня музилевский роман. Когда еще какой-нибудь гений поднесет к нашим глазам зеркало текущей эпохи? А тут уже есть книга, по-своему это делающая. И как! Вне выбора между поисками "золотого века" и мгновениями отрезвления: Музиль ведь писал сатиры и о_д_н_о_в_р_е_м_е_н_н_о создавал утопии. Спору нет, это обрекает его роман на неорганичность, даже на изначальную незавершенность; зато сообщает величие - как и всякой попытке одолеть Судьбу.
Всем нам в развалившейся нашей империи предстоит так или иначе ее одолевать. Надеюсь, "Человек без свойств" в этом как-то поможет. Хоть материал книги будто чужой, но проблематика-то "новейшая", даже - если иметь в виду постсоветского читателя - как бы "отечественная"...

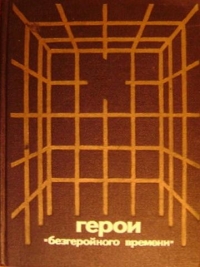

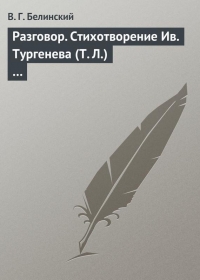

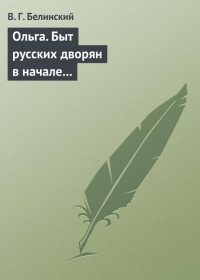
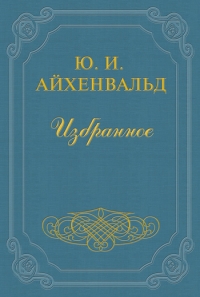
Комментарии к книге «Роберт Музиль и его роман 'Человек без свойств'», Д. Затонский
Всего 0 комментариев