А. П. БОРОДИН
Критические статьи
Издание второе, дополненное
Москва, «Музыка», 1982
78С1
Б83
Русская классическая музыкальная критика
Составитель, автор вступительной статьи и комментариев Вл. ПРОТОПОПОВ
ББК 49.5
Б83
© Издательство «Музыка», 1982 г. Вступительная статья, комментарии
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Музыкально-критическая работа в славной деятельности Бородина представляется недолгим эпизодом: Бородин выступал в роли музыкального критика в течение только одного (да и то неполного) сезона (1868/69) и напечатал всего три статьи в «Петербургских ведомостях», заменив на время постоянного рецензента этой газеты Ц. А. Кюи. Кроме того, Бородиным написаны статьи-воспоминания о Ф. Листе и М. П. Мусоргском.
В своих критических статьях Бородин выступил как активный борец за принципы «Могучей кучки», за прогрессивное, демократическое направление русского музыкального искусства, как решительный противник всего отсталого, ретроградного в музыкальной культуре.
Заслуга извлечения статей Бородина из массы газетных статей того времени (и, в частности, отделения их от многочисленных статей Кюи) принадлежит В. В. Стасову: он собрал и перепечатал их в своей книге «А. П. Бородин. Его жизнь, переписка и музыкальные статьи» (Спб., 1889), попутно рассказав и историю возникновения критических работ Бородина. Эти последние были выполнены как будто по случайному поводу, но вместе с тем, как справедливо отмечает Т. Н. Ливанова[1], подготовлены развитием критических обсуждений в среде участников «Могучей кучки».
В сезоне 1868/69 года Кюи, занятый окончанием и постановкой на сцену своей оперы «Вильям Ратклифф», просил Бородина заменить его в качестве рецензента некоторых симфонических концертов. В том же сезоне (и в тех же «Петербургских ведомостях») началась и музыкально-критическая деятельность Римского-Корсакова, поместившего (кроме статьи о названной опере Кюи) рецензию о «Нижегородцах» Направника. Если напомнить, что постоянным критиком тогда же выступал и Стасов, то для данного сезона необычайно сплочение всех музыкально-критических сил «Могучей кучки» — Стасов, Бородин, Римский-Корсаков, Кюи. С критическими статьями не выступали лишь два сочлена этого великого содружества: Балакирев (его обширная концертная деятельность служила тогда одним из объектов критической оценки Стасова, Бородина, Кюи) и Мусоргский (он в это время был всецело поглощен сочинением одного из величайших своих произведений — «Бориса Годунова»).
Деятельность Бородина как критика приходится на тот период в истории русской музыкальной культуры, когда утверждение принципов «Могучей кучки» (в музыкальном творчестве и в теоретических работах) вступило в полосу зрелости, борясь со всем, что было реакционного, и развивая ценнейшее наследие Глинки и Даргомыжского. На этих же позициях, разумеется, стоял и Бородин в своих критических статьях, чрезвычайно ясно выражая в них художественные взгляды новой русской музыкальной школы.
В сезоне 1868/69 года Русское музыкальное общество (РМО) дало десять абонементных концертов, из них о семи (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) рецензии написал Бородин, остальные же (3, 9, 10) были прорецензированы Кюи. Кроме того, Бородин написал рецензию и об одном концерте Бесплатной музыкальной школы.
Чрезвычайно существенно отметить, что на третьем концерте РМО была исполнена Первая симфония Бородина — вполне зрелое, оригинальное сочинение, выдвинувшее его в ряды лучших композиторов. К этому же периоду (конец 1868 ^первые месяцы 1869 года) относится начало работы Бородина над «Богатырской симфонией», замысел «Князя Игоря», завершение ряда романсов, в том числе «Спящей княжны»[2]. Иными словами, критическая работа Бородина протекала тогда, когда он уже совершенно сформировался как композитор, и суждения его были особенно вескими и авторитетными, поскольку в музыкальной деятельности Бородина глубоко сочеталось теоретическое осознание музыкальных явлений с творческой работой самобытного композитора. Примерно то же самое было и с Римским-Корсаковым, который выступил как критик, уже будучи автором таких крупных сочинений, как первая симфония, «Антар» (см. о нем отзыв в третьей статье Бородина), «Садко», и отдельных фрагментов из «Псковитянки» (хор встречи Грозного исполнялся в одном концерте с симфонией Бородина).
В сезоне 1868/69 года (как и в предыдущем—1867/68 году) в Петербурге дирижером концертов РМО выступал руководитель «Могучей кучки» М. А. Балакирев. Предоставление ему этой должности было уступкой со стороны титулованных заправил РМО демократическим кругам русского общества, так как уже невозможно было не замечать выдающейся роли Балакирева, авторитетнейшего музыканта, завоевавшего известность не только в России, но и за границей (в 1867 году Балакирев с успехом руководил постановкой «Руслана» в Праге и там же провел несколько спектаклей «Сусанина», существенно улучшив исполнение этой оперы). Балакирев вначале имел поддержку и в среде самого Русского музыкального общества (со стороны Даргомыжского и некоторых других деятелей). Однако борьба за дальнейшее развитие реалистического направления в русской музыкальной культуре не только не ослабела в это время, но продолжалась с возрастающей силой, в частности и внутри РМО.
Деятельность Балакирева-дирижера в РМО проходила прежде всего под знаком пропаганды русской музыки, в том числе и произведений композиторов «Могучей кучки». В сезоне 1868/69 года были в первый раз исполнены в Петербурге: Первая симфония Бородина, Вторая симфония — «Антар» — Римского-Корсакова, «Фантазия на финские темы» Даргомыжского, симфоническая поэма «Фатум» Чайковского, «Еврейская песня» Мусоргского. Кроме того, были сыграны редко исполнявшиеся (или пропускавшиеся в театре) восточные танцы, хор «Погибнет» из «Руслана» Глинки, его же «Ночь в Мадриде» и хоры из «Русалки» Даргомыжского. Были исполнены все только что тогда написанные симфонические сочинения русских композиторов (к ним надо добавить танцы сенных девушек из оперы «Воевода» Чайковского, исполненные под управлением Н. Г. Рубинштейна). Из произведений западноевропейских композиторов Балакирев охотно исполнял программные сочинения Берлиоза и Листа и, разумеется, Бетховена и Моцарта.
Все это, в особенности же пропаганда русских произведений, шло вразрез с консервативной художественной политикой «покровителей» РМО, вызывая с их стороны резкие нападки на Балакирева. В результате разгоревшегося конфликта в апреле 1869 года Балакирев вынужден был уйти из состава дирекции РМО. Тогда-то и появилась известная статья П. И. Чайковского в защиту Балакирева («Голос из московского музыкального мира»), подхваченная Стасовым, прозвучавшая как боевой призыв к дальнейшей борьбе за развитие русского реалистического искусства. Воздав должное многосторонней прогрессивной деятельности Балакирева, Чайковский писал о нем как о дирижере концертов РМО: «Замечательно интересно составленные программы этих концертов, программы, где уделялось иногда местечко и для русских сочинений, отличное оркестровое исполнение и хорошо обученный хор привлекали в собрания Музыкального общества многочисленную публику, восторженно заявлявшую свою симпатию к неутомимо деятельному русскому капельмейстеру»[3].
Выступление Чайковского знаменовало собой сплочение художественных сил русской классической музыки, которое поддерживал и Балакирев, приглашая участвовать в руководимых им концертах РМО Н. Рубинштейна, исполняя произведения не только композиторов «Могучей кучки», но и Чайковского. Таким сплочением передовых деятелей русской музыкальной культуры осуществлялись задачи музыкального просвещения, в высшей степени характерные для передовых деятелей эпохи. Об этом пишет Бородин в своей второй статье, оценивая факт выступления Н. Рубинштейна в Петербурге: «Со времени основания петербургского и московского Музыкального общества еще в первый раз дирижер одного из них является участвовать в концертах другого. Пример этого свидетельствует о возникающей солидарности обоих обществ — явление, которое может иметь весьма хорошее влияние на развитие у нас музыкального дела» (см. с. 23 настоящего издания).
Хотя Балакирев и покинул РМО, но его работа даром не пропала — ему многого удалось достигнуть в музыкальном просвещении, многое изменить в отношениях публики к творчеству композиторов новой русской школы. Об этом тогда же хорошо писал Кюи в статье о заключительном (10-м) концерте сезона 1868/69 года, когда Балакирев в последний раз выступил в РМО: «Прошлогодний сезон и нынешний составят прекрасные страницы в истории Музыкального общества, а деятельность г. Балакирева не пройдет бесследно. Он вдохнул жизнь в концерты, он многих оторвал от насильственного поклонения отжившему и умершему, он многих увлек к живому молодому и свежему. Он помог освободиться от многих укоренившихся музыкальных предрассудков и подготовил поле к новой, более плодотворной и более широкой деятельности» («С.-Петербургские ведомости», 1869, 3 мая).
Такова была ситуация концертного сезона 1868/69 года, свидетельствовавшая о творческих успехах новой русской музыки и о непрекращающейся борьбе ее с консервативным музыкальным направлением. В этот период и выступил со своими критическими статьями Бородин.
Бородин совершенно отчетливо разделяет два лагеря в тогдашнем музыкальном мире, в музыкальной публике: один, находящий «полное удовлетворение своим музыкальным требованиям в итальянской или русской[4] опере, в комических французских или немецких оперетках, в концертах отечественных и заграничных солистов, в духовном пении, в хоровом пении русских, цыганских, тирольских, баварских и иных певцов, в бальной музыке загородных оркестров и т. д.»; другой, требующий исполнения «серьезной концертной и симфонической музыки» (с. 10 настоящего издания). Совершенно очевидно, что Бородин стоит за удовлетворение музыкальных потребностей второй части публики, считая, что оно имеет «громадное влияние на музыкальное образование и развитие вкуса». Иными словами, Бородин тесно связывает деятельность концертных организаций с просветительской работой, что чрезвычайно показательно и для всей эпохи 60-х годов, и для демократических взглядов самого Бородина.
Внутри концертных организаций Бородин справедливо отмечает борьбу направлений, борьбу «очень молодых и развившихся вне тесных рамок музыкальной схоластики» русских композиторов за самобытное русское искусство против «присяжных жрецов Аполлонова храма» (с. 12). Бородин отчетливо видит и указывает, что консервативная художественная политика титулованных «покровителей» РМО завела в тупик Музыкальное общество и что единственным выходом было привлечение (под давлением демократической части публики) Балакирева к управлению симфоническими концертами.
Указание на все эти факторы в первой статье Бородина свидетельствует о трезвом учете им окружающей обстановки, о последовательной защите демократического направления в художественной культуре России 60-х годов. Нет необходимости подчеркивать, что Бородин всемерно поддерживает Балакирева как «самого даровитого из наших дирижеров» (с. 11), прогрессивного деятеля национально-русского направления. Соответственно ведет Бородин и разбор программ симфонических концертов, отделяя все самое лучшее, служащее на пользу русской музыке, от рутинного, слабого в художественном отношении.
Большое внимание уделяет Бородин прежде всего оценке произведений русских композиторов. В восьми прорецензированных Бородиным концертах были исполнены сочинения Глинки, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Чайковского, Мусоргского, Рубинштейна.
С восторгом пишет Бородин об исполненных во втором концерте отрывках из «Руслана и Людмилы» Глинки: о восточных танцах и хоре «Погибнет» из четвертого действия. «Трудно себе представить что-нибудь оригинальнее и прелестнее этих танцев, особенно знаменитой «Лезгинки». Что за роскошь красок!»— пишет будущий автор Половецких плясок. И далее: «Хор „Погибнет“ — одно из самых капитальных произведений бессмертного композитора» (с. 16). О первоклассных красотах и оригинальности фантазии Глинки «Ночь в Мадриде» Бородин считает излишним много говорить: настолько это произведение, по его словам, хорошо известно публике.
Исполнение отрывков из «Руслана» служит для Бородина одним из поводов к пропаганде этой онеры Глинки. Известно, какую громадную работу проводил Стасов, отстаивая исполнение в театре «Руслана» без сокращений. В эту же борьбу включается и Бородин: «... Нельзя не согласиться с тем, что исполнение большей части оперных вещей на концертной эстраде есть, в сущности, аномалия. Настоящее место их — театр, со всею обаятельностью хорошей сценической обстановки. Но что же делать тогда, когда плохое исполнение на театре с варварскими купюрами, неверными темпами и безжизненной, вялой дирижировкой — совершенно искажает музыку многих образцовых оперных вещей? Остается радоваться хоть тому, что слышишь надлежащее исполнение их в концертах» (с. 16).
С большой симпатией отзывается Бородин о «Фантазии на финские темы», впервые исполненной в седьмом концерте РМО (уже после смерти Даргомыжского). Отметив, что прототипом этого рода произведений является гениальная «Камаринская» Глинки, Бородин указывает и на качество собственного стиля Даргомыжского: «Даргомыжский является здесь таким же великим музыкальным жанристом, как и в своих комических романсах („Червяк“, „Титулярный советник“ и проч.)». О хорах из «Русалки», как и о «Ночи в Мадриде», Бородин пишет, что «они слишком хорошо известны публике, чтобы распространяться о них» (с. 14, 36).
С особым интересом читаем страницы, посвященные новому тогда произведению 25-летнего Римского-Корсакова — его симфонии «Антар».
Бородин пишет не только о высоких достоинствах новой симфонии, но не замалчивает и ее недостатков. Как известно, Римский-Корсаков, уже в пору полной зрелости, заново переинструментовал ряд своих ранних сочинений, в том числе и «Антара». Очень возможно, что критические замечания Бородина были учтены им при переделке этого произведения. Взаимная товарищеская критика в среде «Могучей кучки» стояла высоко, и это было одним из стимулов, побуждавших каждого к постоянному совершенствованию своих сочинений.
Из произведений Чайковского Бородин рецензировал только танцы из оперы «Воевода», исполненные под управлением Н. Рубинштейна (о «Фатуме», сыгранном Балакиревым в девятом концерте РМО, писал не Бородин, а Кюи). Качества симфонического стиля Чайковского в «Танцах» выявились еще в недостаточной степени, отсюда и сдержанность оценки, которую дает им Бородин. Написанная вскоре (по предложению Балакирева и ему посвященная) гениальная увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского вызовет всеобщий восторг участников «Могучей кучки».
Пропагандируя русскую классическую музыку, Бородин борется с рутиной, с музыкальной схоластикой и поднимает в связи с этим ряд важнейших творческих проблем. На первом месте тут нужно поставить вопросы программности, составлявшие одно из главных положений эстетики «Могучей кучки», — к ним обращается Бородин в каждой статье. Разбирая сочинения Берлиоза, Листа, Римского-Карсакова, Чайковского, Бородин внимательно рассматривает их со стороны соответствия программе. Одна из причин, которая заставляет его высоко ценить произведения Берлиоза и Листа, — это внимательное отношение этих композиторов к воплощению программы. В «Ромео и Джульетте» Берлиоза, в эпизодах из «Фауста» Листа Бородин отмечает прежде всего полноту соответствия музыки с программой. «С точки зрения программной музыки, — пишет Бородин об эпизодах из „Фауста“ Листа, — это верх совершенства. Музыка здесь изумительно картинна и передает не только общее настроение, но и все частности, с неподражаемой рельефностью... Произведение это глубоко прочувствовано самим автором и оставляет в восприимчивом слушателе сильное впечатление, от которого долго нельзя отделаться» (с. 24, 25).
С реалистических позиций ведет Бородин критику целого ряда рецензируемых им произведений. Так, разбирая симфоническую поэму Гольдмарка «Сакун-тала», Бородин, между прочим, пишет: «...Вы слышите опять те же охотничьи фанфары и ту же любовную сцену, только в другом тоне. Что же это значит? Неужели одна и та же музыка должна выражать и охоту, и войну, и отчаяние?» (с. 20). На неясность соотношения музыки и программного названия указывает Бородин и в анализе симфонии «Океан» А. Рубинштейна. Словом, всюду, где только представляется необходимым, Бородин останавливается на вопросах программности, разъясняет свое понимание этих вопросов.
В тесной связи с этими вопросами находится и проблема качества музыкально-тематического материала, его развития, проблема художественного мастерства. В произведениях второстепенных немецких композиторов Бородин постоянно отмечает «мелкость тем», «бесцветность музыки», рутинность. Таким образом, не только в своем творчестве, но и в критических статьях Бородин всегда обращает внимание на самобытность музыкального стиля, простоту и ясность мелодии, свежесть гармонии и оркестровки. Он никогда не забывает сочувственно отметить факт использования композитором народных тем. В его характеристиках стиля Глинки, Бетховена, Римского-Корсакова, Берлиоза и других везде указывается на оригинальность, художественное мастерство композитора в решении тех или иных задач содержания музыки. Это объективно противопоставляется падению содержательности и художественного уровня тогдашней западноевропейской музыки. Говоря, например, об отрывках из «Руслана», Бородин прямо и пишет: «Тут так и слышатся те „восточные орды“, нашествия которых на равнины рутинной немецкой музыки так боятся наши музыкальные Лоэнгрины» (с. 16).
Мы не касаемся многих интересных высказываний Бородина относительно классической музыки (Бетховен, Моцарт), анализа творчества Шумана, Шуберта, оценки ряда исполнителей (в том числе и сравнения братьев Рубинштейн) и т. д. — это существенно могло бы дополнить сказанное по вопросам творческого порядка и борьбы направлений. В статьях Бородина выражены и его более личные вкусы, с которыми подчас можно и не согласиться (см., например, его резко отрицательное высказывание об опере «Мейстерзингеры» Вагнера » т. д.).
Во всех суждениях Бородина выявляется зрелость мысли, ясность эстетической программы, настойчивость и последовательность в борьбе за реалистические принципы русской музыкальной школы. Именно эти качества музыкально-критических статей Бородина и позволяют говорить об их большом значении в истории русской музыкальной культуры.
В свое время, когда появились статьи Бородина, они вызвали определенную реакцию: противники полемизировали и не соглашались с ними, единомышленники же сочувственно ссылались на них. Но никто, кроме сотоварищей по «Могучей кучке», не знал, вероятно, что эти статьи принадлежат Бородину, хотя они и ясно отличаются от статей Кюи, тоже печатавшего свои статьи под псевдонимом. Псевдонимы Бородина («Б» и «ъ») впервые раскрыл Стасов, который собрал и опубликовал статьи Бородина в названной выше книге. Стасову же принадлежит и первая известная нам оценка значения критических работ Бородина, данная в той же книге и позднее в обобщающем труде «Искусство XIX века»[5].
Выдающийся интерес представляют статьи Бородина о встречах с Листом — едва ли не самое значительное в литературе о человеческом облике великого музыканта, его занятиях с учениками и обстановке повседневной жизни[6]. Статьи готовились по текстам писем к жене, Е. С. Бородиной, и обладают документальной достоверностью, а в то же время и живостью впечатлений. Образ Листа встает перед читателем во всей его непосредственности, читать описания Бородина доставляет истинное наслаждение. С похвалой о бородинских письмах (в их числе и о Листе) в свое время отозвался А. П. Чехов: «Читал я письма Бородина. Хорошо»[7].
Краткие воспоминания о первых встречах с Мусоргским Бородин написал вскоре после кончины своего друга — они предназначались для биографии Мусоргского, тогда же задуманной Стасовым и опубликованной в 1881 году.
В настоящем издании собраны все музыкально-литературные работы Бородина, не издававшиеся уже более тридцати лет. Текст их сопровождается комментариями и именным указателем, помещенными в конце книги.
1868. КОНЦЕРТЫ РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (1-й, 2-й)
При той разнохарактерности, которою отличается наша публика в музыкальном отношении, очевидно, должно существовать большое разнообразие и в средствах к удовлетворению ее музыкальных вкусов. Значительная часть публики находит полное удовлетворение своим музыкальным требованиям — в итальянской или русской опере, в комических французских или немецких оперетках, в концертах отечественных и заграничных солистов, в духовном пении, в хоровом пении всяких русских, цыганских, тирольских, баварских и иных певцов, в бальной музыке загородных оркестров и т. д. Но в то же время у нас есть и такая часть публики, для которой всего этого еще недостаточно. Руководствуясь более тонким и верным музыкальным чутьем, она постоянно выражала потребность слушать хорошее исполнение серьезной концертной и симфонической музыки, имеющей такое громадное влияние на музыкальное образование и развитие вкуса. Для удовлетворения этой потребности возникали у нас, в различное время, более или менее организованные концертные общества и учреждения, которые давали ежегодные концерты и даже целые серии концертов подобной музыки. Такое значение имели в продолжение долгого времени: концерты симфонического общества, университетские концерты, симфонические концерты театральной дирекции, концерты Бесплатной школы музыки, концерты Русского музыкального общества. Я не говорю здесь о концертах Филармонического общества, которое могло бы и должно бы иметь подобное назначение. Но так как цель этого Общества по преимуществу не филармоническая, но филантропическая[8], то оно ставит обыкновенно музыкальные интересы на второй план и заботится главным образом о получении возможно большего сбора.
По цели своей ежегодные концерты Филармонического общества подходят, следовательно, всего ближе к ежегодным концертам в пользу инвалидов; разница только в том, что последние простирают свои благотворения на военное сословие, а первые — на вдов и сирот. Сохрани меня бог осуждать общество за такую благородную цель. Филантропия всегда и везде вещь почтенная. Делая мое замечание, я хочу только указать на истинное значение концертов Филармонического общества собственно для искусства.
Роль проводников хорошей и хорошо исполняемой симфонической музыки оставалась в последнее время за Бесплатною школой и Русским музыкальным обществом. Но Бесплатная школа, несмотря на превосходный выбор музыки и образцовое исполнение, не могла иметь слишком большого значения, по малочисленности своих концертов2. Поэтому из всех концертов, имеющих влияние на развитие музыкального вкуса публики, первенство должно остаться за Русским музыкальном обществом. Оно располагает большими инструментальными и вокальными массами и средствами и в состоянии давать ежегодно очень много музыки, благодаря тому, что имеет в распоряжении целые десять больших концертов, не считая квартетных вечеров 3.
Таким образом, у Русского музыкального общества есть все материальные данные для того, чтобы преследовать неуклонно свою главную цель — «развитие музыкального образования и вкуса к музыке в России и поощрение отечественных талантов»,— как значится в первом параграфе устава Общества. Тем не менее еще недавно была эпоха в существовании этого Общества, когда значение его начало падать. Это выражалось постепенным охлаждением публики к концертам Общества и постоянным убыванием членов-посетителей, число которых год от году уменьшалось. Причиной тому были: во-первых, неудовлетворительность выбора и исполнения музыки вообще; во-вторых, то обстоятельство, что Общество мало-помалу отклонялось от главного своего назначения — быть проводником музыкального образования именно в среде русской публики. Обществу угрожала уже совершенная утрата того влияния, которое должно бы принадлежать ему по праву. Выход из этого критического положения сделался возможным только тогда, когда Общество начало строго относиться к выполнению главной своей задачи, вверило управление оркестра и хоров самому даровитому из наших дирижеров, и оживило программы своих концертов удачным выбором музыки, имеющей действительный интерес как для современного искусства вообще, так и для русского искусства в частности4. С этого времени значение Общества начало быстро подниматься, и это выразилось всего яснее в быстром увеличении числа абонентов. Это возрастание числа слушателей в прошедшем году можно еще объяснить, пожалуй, приездом Берлиоза, заранее возвещенным, и выполнением музыки знаменитого композитора под личным его управлением5. Но чем объяснить громадное стечение публики на концерты Общества в нынешнем году?.. Почему нынче, еще до первого концерта, числа абонентов достигло такой огромной цифры, какой оно никогда не достигало в прежние годы? Этого уже нельзя объяснить никакими случайными и внешними приманками. Нынче, как на беду, Общество объявило вперед программы всех десяти концертом и тем заранее предупредило публику, что на этот раз никаких Берлиозов не будет. Мы объясняем такое несоразмерное привлечение публики только сочувствием к внутреннему содержанию исполняемой музыки и превосходному исполнению ее под талантливым управлением М. А. Балакирева.
Программы концертов на нынешний сезон в высшей степени разнообразны и интересны. Наряду с произведениями классиков, при имени которых музыкальная публика привыкла испытывать священный трепет, исполняется множество произведений таких новейших композиторов, одно имя которых так недавно еще возбуждало чувство ужаса в присяжных музыкантах старого закала. Верное второму параграфу своего устава, Общество доставляет также возможность слышать и новые произведения русских композиторов, находящихся еще в живых, даже очень молодых и развившихся вне тесных рамок музыкальной схоластики. Общество поступает в этом случае чрезвычайно честно и разумно, не стесняясь тем, что многие из присяжных жрецов Аполлонова храма смотрят на подобных композиторов, по меньшей мере, как на еретиков или каких-то нигилистов, попирающих якобы священные предания схоластической эстетики, музыкальной риторики и пиитики. (Про музыкальную грамматику, то есть уменье писать музыку грамотно, я не говорю, ибо присяжные жрецы Аполлонова храма частенько и сами грешат по этой части.)
В первом концерте (23 ноября) шли три части из драматической симфонии Берлиоза «Ромео и Джульетта», 9-й концерт для скрипки Шпора, хоры из первого действия «Русалки» Даргомыжского, полонез (E-dur) Вебера, аранжированный для фортепиано и оркестра Листом, увертюра (№ 2) к «Леоноре» Бетховена.
Отрывки из симфонии Берлиоза известны уже нашей публике. Один из них изображает сначала мечтающего Ромео, долетающие отдаленные звуки бала и концерта, наконец, самый праздник в доме Капулетов. Второй отрывок представляет: «Сад Капулетов, молчаливый и пустой; лунная ночь; молодые Капулеты, возвращаясь с бала, проходят, напевая отрывки из бальной музыки (мужской хор); Джульетта на балконе; Ромео в тени; сцена любви (инструментальное адажио)». Сюжет третьего отрывка, наиболее известного у нас, — царица Маб, волшебница снов и все ее проделки (инструментальное скерцо).
В первом отрывке самое слабое — начало, где Ромео мечтает какими-то неясными и бессодержательными хроматическими ходами. Но зато потом, когда к итальянской кантилене, распеваемой очень мило гобоем, примешиваются вдруг звуки тамбурина, как бы отголоски доносящейся бальной музыки совсем другого ритма (превосходный оркестровый эффект), — интерес музыки растет все более и более. Звуки оркестра переходят в блестящую, живую, итальянски-ухарскую бальную музыку, тема которой по этому самому банальна. Зато далее из нее вырастают чудеса оркестровки и гармонии, свойственные исключительно Берлиозу, и переходят в эффектное фортиссимо — сочетание бальной темы с темою кантилены. В конце опять мелькает тема, характеризовавшая мечтающего Ромео. Все это сделано необыкновенно смело, бойко и ловко.
Интродукция адажио второго отрывка составляет одно из самых поэтических вдохновений Берлиоза. Когда вы слышите эти прелестные аккорды пианиссимо, перед вами живо воскресает впечатление душистой, теплой, южной ночи. Вам тогда делается не шутя досадно на «молодых Капулетов», неожиданно врывающихся с своим непрошенным хором и разрушающих Ваше настроение. Мне сдается даже, что и сам Берлиоз был зол на «молодых Капулетов», иначе он не написал бы для них такого хора — неимоверно банального по содержанию и в то же время трудного по исполнению. Последнее обстоятельство, впрочем, очень обидно, ибо наказанными остаются в этом случае не самые Капулеты, а бедные хористы, которым суждено изображать Капулетов. Хорик этот особенно трудно дается нашим северным хористам, вовсе неспособным напевать легонькие, игриво-банальные южные песенки. Потому-то исполнение этого хорика отличается у нас всегда неуклюжестью и неповоротливостью, напоминающею игривость замысловатых «Amen’ов» в знаменитых классических ораториях и мессах. По задаче своей хорик этот, однако же, как нельзя более у места. Вы здесь сразу чувствуете, что эти пошлые, подгулявшие Капулеты не имеют ничего общего с поэтическою личностью Ромео, его любовью и обаятельною обстановкой южной ночи. Контраст выражен превосходно и в эффектной гармонизации, причем оркестр, по вступлении хора, продолжает свое пианиссимо, и поэтические ходы его образуют чрезвычайно эффектные и своеобразные гармонические сочетания с банальными гармониями хора. Следующая затем сцена любви сильно пропитана итальянизмом, благородного, впрочем, не банального характера. Местами музыка в ней даже очень хороша и своеобразна, местами слышится влияние Бетховена. Но вообще вся эта сцена непомерно длинна и растянута, что составляет капитальный недостаток всего нумера. Нечего говорить о том, что все это оркестровано бесподобно и не лишено замечательных красот в подробностях инструментовки и гармонизации. Сам Берлиоз ценит именно этот нумер особенно высоко, и в автографах на своих портретах помещает обыкновенно фразы из начала этого адажио.
Третий отрывок, бесспорно, самый лучший. Это верх совершенства по новизне, оригинальности, свежести фантазии, изяществу и тонкости оркестровки. Поэтическая обстановка вымысла о царице Маб и всех ее проказах нашла здесь полнейшее отражение в прихотливом и своеобразном вдохновении Берлиоза. Все три нумера были исполнены с замечательным совершенством. Даже крайне неловкая роговая музыка (в средней части скерцо), которая у самого Берлиоза не выходила совершенно удовлетворительно, прошла на этот раз вполне хорошо. Жаль только, что вместо двух арф неизвестно почему была всего одна.
Концерт Шпора, несмотря на превосходную игру г. Ауэра, навел непомерную скуку. Это замечательнейший образец тупого и бездарнейшего консерваторского сочинительства, с предлинною-длинною первою частью, кислым сентиментальным Andante и уморительным финалом, с темою в виде трепачка. Многие упрекают г. Ауэра за холодность исполнения. Я, напротив того, хвалю его за это: подобную музыку нельзя и не следует играть с одушевлением, ибо самое содержание пьесы лишено всякого вдохновения. Здесь требуется только хорошая техника, которою г. Ауэр владеет в совершенстве.
Хоры из «Русалки» прошли безукоризненно. Они слишком хорошо известны публике, чтоб распространяться о них. Нам кажется даже, что вместо них можно бы дать что-нибудь другое, менее известное. Выбор этот может быть оправдан только тем, что на театре хоры эти никогда не исполняются надлежащим образом.
Полонез Вебера — пьеса эффектная и ловко сделанная, как все вещи, инструментованные Листом. Г-н Кросс исполнял ее бойко и заслужил одобрение публики.
Увертюра «Леонора» (№ 2) — одна из четырех увертюр, написанных Бетховеном к одной и той же опере («Фиделио», «Леонора»— тож). Три первые (собственно «Леоноры») составляют варианты и, если можно так выразиться, различные степени развития одной и той же пьесы. Четвертая, собственно увертюра к «Фиделио», не имеет по музыке ничего общего с ними. Из трех «Леонор», первая — самая слабая, вторая лучше, а третья верх совершенства, по силе и глубине творчества, и составляет одно из самых замечательных произведений бессмертного композитора. В настоящем случае выбор пал на № 2 потому, без сомнения, что № 3 слишком часто играется и слишком известен музыкальной публике. Увертюра была сыграна замечательно хорошо: в высшей степени отчетливо, с энергией, огнем и верною передачей творческой силы Бетховена.
Второй концерт (30 ноября) начался 2-й симфонией Шумана (C-dur), одним из самых замечательных произведений по музыке, но оркестрованным дурно, как и большинство оркестровых вещей этого композитора. Вообще странно, как человек с таким тонким музыкальным чутьем, громадной силой творчества и глубокою эрудицией совершенно не умел пользоваться красками оркестра. Это тем удивительнее, что сам Шуман знал и понимал все красоты оркестровки в партитурах других композиторов и любил наслаждаться ими. Но возвратимся к его симфонии. Она состоит из четырех частей и начинается интродукцией (в 6/4), в медленном темпе, тихими, плавными, прелестными ходами у струнных инструментов и крайне простою темой у медных. Далее интродукция оживляется немного и начинаются уже намеки на первую тему первого allegro. Первая тема этого allegro (в 3/4) — сильная, прекрасная; вторая гораздо слабее; но самое лучшее в этой части — середина, в которой развитие и разработка тем и педаль на G изумительно хороши. Вообще это allegro — один из лучших образцов симфонической музыки. Вторая часть — скерцо (в 2/4) очень живое, но немного растянутое, с двумя трио. Оно неизмеримо слабее первой части; всего симпатичнее здесь второе трио. Третья часть — адажио, самая лучшая по музыке и сравнительно недурно оркестрована, местами даже эффектна (например, тема и потом трели у скрипок на высоких нотах во время исполнения темы духовыми — чрезвычайно эффектны). Финал (4/4) — allegro — по музыке слабее; в нем проскальзывают темы интродукции и andante, и в конце появляется эпизодически еще совершенно новая тема. Но собственные темы финала не отличаются большими достоинствами, особенно первая. Самое замечательное во всем финале— это его форма, своеобразная и свободная, отклоняющаяся от общепринятого построения симфонического allegro. Вся вообще симфония по музыке выше первой симфонии Шумана (B-dur), хотя и ниже третьей (Es-dur), которая, впрочем, оркестрована гораздо хуже. Исполнение симфонии было вполне образцовое. У нас никто никогда не дирижировал пьес Шумана с таким увлечением, такою ясностью и таким тонким пониманием, как г. Балакирев. В его дирижировке как-то сглаживаются даже самые недостатки шумановской оркестровки: неуклюжее употребление меди, постоянная надоедливая дублировка струнных духовыми и наоборот и т. д. Но главная трудность исполнения вещей Шумана заключается в верной передаче бездны тонких оттенков, которые требуют от дирижера чрезвычайно развитого художественного чутья. А этой-то именно стороне всего более удовлетворяет дирижировка М. А. Балакирева.
Вторым нумером было известное ариозо из оперы «Пророк» Мейербера, пропетое г-жою Лавровскою. Ариозо есть одно из лучших и эффектнейших произведений Мейербера, очень замечательное по тонкой и красивой оркестровке. Здесь видно, насколько Мейербер как художник тоньше и талантливее Вагнера, который при всем умении владеть оркестром несравненно грубее Мейербера и во всех вещах своих держится известной, им выработанной рутины. Кроме ариозо г-жа Лавровская пропела еще три романса: один романс Шумана, «Еврейскую мелодию» А. Г. Рубинштейна и «Es war ein König im Thule»[9] Листа. Нельзя не сказать спасибо г-же Лавровской за то, что она познакомила публику с последним романсом, который, сколько мне известно, никогда еще не был исполняем у нас в концертах. Вообще вокальные сочинения Листа у нас почти неизвестны. Всего лучше были спеты г-жою Лавровскою именно романсы, особенно второй.
Между ариозо и романсами шли два отрывка из «Руслана и Людмилы» Глинки: восточные танцы, переложенные для одного оркестра М. А. Балакиревым, и хор «Погибнет» — оба нумера без пропусков. Трудно себе представить что-нибудь оригинальнее и прелестнее этих танцев, особенно знаменитой «Лезгинки». Что за роскошь красок! Словами невозможно передать весь эффект взвизгивания пикколо и скрипок, весь задор ритмических фигур ударных инструментов и меди, все своеобразие восточного колорита в гармонии! И как жаль, что именно самое оригинальное и лучшее из «Лезгинки» (окончание в 3/4) и выпускается при исполнении ее на нашем театре. Смелость и своеобразие гармонии у струнных, фигуры скрипок и духовых, потом переливы кларнета и гобоя, капризные ритмические эффекты ударных инструментов и дикое, необузданное заключение — все это вместе производит глубокое впечатление своею подавляющей новизною и прелестью музыкальных элементов. Тут так и слышатся те «восточные орды», нашествия которых на равнины рутинной немецкой музыки так боятся наши музыкальные Лоэнгрины.
Хор «Погибнет» — одно из самых капитальных произведений бессмертного композитора. Построенный крайне оригинально и смело на гамме целыми тонами, с изумительными по новизне перебивками духовых и меди — хор этот замечателен по своей красоте, силе и целости концепции. Об исполнении я не буду распространяться. Г-н Балакирев составил себе громкую известность образцовою передачею творений Глинки. Впрочем, относительно хора можно было бы сделать ему один упрек: хоровые массы были несколько слабы в сравнении с оркестровыми, хотя и нельзя не согласиться с тем, что исполнение большей части оперных вещей на концертной эстраде есть, в сущности, аномалия. Настоящее место их — театр со всею обаятельностью хорошей сценической обстановки. Но что же делать тогда, когда плохое исполнение на театре, с варварскими купюрами, неверными темпами и безжизненной, вялой дирижировкой — совершенно искажает музыку многих образцовых оперных вещей? Остается радоваться хоть тому, что слышишь надлежащее исполнение их в концертах.
Концерт окончился известною увертюрою Мендельсона «Морская тишь и благополучное плавание». После «Фингаловой пещеры» это, бесспорно, лучшая из его увертюр. Интродукция увертюры, изображающая морскую тишь, необыкновенно хороша и по содержанию, и по инструментовке. Как красивы эти секунды флейт, ходы струнных внизу, пока скрипки тянут высокое D, фигура флейты, изображающей ветерок, и проч. В интродукции нет и тени той общей надоедливой мендельсоновской рутины, которая выработалась в последующих сочинениях этого композитора и надолго заразила музыкальный мир. Замечательно, что ни одно направление не породило столько бездарных подражателей, как именно эта мендельсоновская рутина. Скажу более, ни одно направление не испортило так музыкального вкуса, как именно эта внешне страстная, внешне красивая, условная, чистенькая, гладенькая и форменная буржуазная музыка. Она отдалила надолго распространение сильной, трезвой и глубокой по содержанию музыки Шумана, отодвинула даже Бетховена, не говоря уже о Глинке, Шуберте, Берлиозе, Листе и других.
Но возвратимся к увертюре. Allegro ее далеко уступает интродукции, и хотя первая тема его прелестна, но далее проявляется вышеупомянутая рутина, местами во всей ее наготе: например, во второй теме, в пошлых фанфарах (в конце увертюры). Впрочем, что касается оркестровки, то она везде бесподобна, эффектна, колоритна, как и во всех оркестровых вещах Мендельсона, который в этом отношении составляет резкую противоположность Шуману. Первый умеет всегда в высшей степени эффектно инструментовать самую бессодержательную музыку, последний портит иногда самые капитальные произведения свои тяжелою, неуклюжею и бесцветною оркестровкой. Как красивы в упомянутой увертюре Мендельсона, например, переливы духовых, аккомпанирующих второй теме, когда она идет у виолончели (C-dur) или у кларнета (в D-dur); какой эффект производит соло литавр фортиссимо в конце увертюры!
Вообще, оба первых концерта Музыкального общества вполне оправдали ожидания публики.
1869. КОНЦЕРТЫ РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (4-й, 5-й, 6-й)
В четвертом концерте Музыкального общества1 были исполнены: Третья симфония Бетховена («Героическая») и Реквием Моцарта. Оба произведения так хорошо известны публике, что было бы совершенно излишне пускаться в подробный разбор их.
Третья симфония Бетховена принадлежит к колоссальным памятникам искусства и далеко опередила свое время. Первые две симфонии Бетховена — как это было уже много раз высказано критикою — относятся еще к эпохе Моцарта и Гайдна; Третья симфония не имеет ничего общего с ними. Здесь все ново: и мысль, и развитие ее, и краски оркестра; все дышит таким своеобразием и свежестью, что симфония эта должна быть рассматриваема как родоначальница современной симфонической музыки.
Несмотря на то что симфония написана слишком шестьдесят лет тому назад, она до сих пор еще почти ни в чем не утратила своей свежести и уступает в силе и глубине разве только лучшим из самых последних творений Бетховена. Неудивительно поэтому, что она всюду принадлежит к числу самых любимых симфоний и чаще других исполняется в концертах. Симфония была сыграна на этот раз с таким совершенством, как никогда. Общее настроение каждой части и самые тонкие оттенки подробностей были переданы с поразительною верностью и рельефностью. В этом отношении особенно хорошо сыграны были первая часть и похоронный марш.
О Реквиеме Моцарта говорить много также незачем[10]. Кто не знает, что это — последнее, самое капитальное из всех сочинений Моцарта и одно из самых замечательных произведений церковной музыки вообще. Об этом было писано и говорено так много, что даже самые слова «Реквием Моцарта» так же вошли в общее употребление и злоупотребление, как и слова «Мадонна Рафаэля», «Аполлон Бельведерский», «Венера Медицейская» и т. д. Их повторяют с благоговением не только те, кто в самом деле поклоняется музыке Реквиема, но еще чаще люди, никогда не слыхавшие ее, которые никогда и не пойдут слушать ее, которым нет ни малейшего дела ни до Реквиема, ни до Моцарта. Однако ж самая музыка Реквиема, несмотря на все это, далеко не пользуется такой популярностью, как ее заглавие. Нередко увидишь, как многие с напряженным почтением и вниманием сидят и слушают исполнение Реквиема, — но это только вначале. Посмотрите немного погодя: мало-помалу эти самые ревностные ценители Моцарта делаются рассеянны и начинают даже зевать. Это бывает особенно при самых последних нумерах. Всего чаще приходится замечать, что большинство слушателей оживляется только при исполнении нумеров соло, которые по музыке принадлежат к самым слабым. Ничего не слушают с таким интересом, как «Tuba mirum» или «Lacrimosa». А почему? Потому, что они всего менее похожи на церковную музыку и по характеру приближаются к оперной. Церковная музыка в концертном зале всегда будет вещью несколько монотонною и скучною. Известная условность и форменность построения и разработки, неизбежные при строгом соблюдении церковного стиля, однообразие музыкального настроения, вызываемое содержанием текста, значительная длина, зависящая от формы сочинения и способа развития музыкальных идей, преобладание медленных темпов, строгость, а подчас и сухость тем, отсутствие живости и страстности — все это вместе служит причиною, почему строго церковная музыка никогда не может приобрести такой же популярности, как светская.
Что касается до исполнения Реквиема, то оно было вообще превосходно. Упрек можно сделать разве только относительно второго нумера «Dies irae», где темп был взят немного скорее надлежащего. Были еще кое-какие мелкие недостатки в исполнении партии солистов, но это нисколько не повредило общему впечатлению, которое было вполне удовлетворительно. Соло были спеты Ю. Ф. Платоновою, А. А. Хвостовой, В. М. Васильевым и О. А. Петровым. Но особенно хороши на этот раз были хоры, представляющие в других случаях самый слабый элемент в концертах Музыкального общества. Хоры «Rex tremendae majestatis», «Confutatis» и еще некоторые другие исполнены во всех отношениях безукоризненно; фуги, трудные по вокализации, спеты были легко, верно и чисто, так что ни одна фраза не ускользала от слушателя. Фугам даже аплодировали, что редко бывает.
Пятый концерт3, помимо интереса исполненной музыки, представлял еще другой особенный интерес, вследствие участия Н. Г. Рубинштейна — директора Московской консерватории и директора московского Музыкального общества. Он выступил на этот раз в двоякой роли — пианиста и дирижера.
По характеру исполненной музыки концерт этот был совершенно противуположен предыдущему.
Программа г. Балакирева, в четвертом концерте, отличалась выбором пьес строго классического репертуара; программа г. Рубинштейна в пятом концерте составлена была исключительно из произведений новейшей музыки. Концерт начался увертюрою Гольдмарка «Сакунтала», игранною у нас в первый раз. Увертюра эта написана на индийский сюжет. Дело вот в чем: Сакунтала была дочь нимфы и жила в лесу у одного отшельника, принявшего на себя ее воспитание. Однажды царь Душьянта, находясь на охоте, встретился случайно с Сакунталою и влюбился в нее. Между ними произошла страстная сцена. Уезжая, царь вручил Сакунтале перстень, по которому бы он мог узнать ее, когда она к нему явится. Но один могущественный жрец, разгневанный на Сакунталу за то, что она однажды не оказала ему гостеприимства, отнял у царя память, вследствие чего последний забыл и Сакунталу, и свою любовь к ней. Когда она явилась к нему, он не узнал ее и отверг. Сопровождавшие ее друзья, видя это, также отступились от нее, и она осталась одна, на жертву своему отчаянию. Однажды она уронила в священную реку перстень, данный ей царем. Рыбаки нашли перстень и принесли царю. Как только Душьянта увидел этот перстень, тотчас же вспомнил и Сакунталу, и все происходившее между ними. Тут он предался неутешимому горю, и отчаяние его об утрате любимой женщины было беспредельно. Наконец, опять-таки случайно, во время похода против народа злых демонов, Душьянта снова встретил Сакунталу и соединился с нею навек.
Увертюра начинается пасторальною интродукцией, изображающей Сакунталу и житье ее у отшельника. Пастораль эта очень свежа по музыке и носит на себе отпечаток сильного влияния французской музыки. Затем следует аллегро, построенное на фанфарах охоты, которая потом переходит в сцену любви, по музыке отзывающуюся влиянием Листа. За этим следует снова пастораль, которая переходит в аккорды, выражающие отвержение Сакунталы. Но тут уже музыка как-то изменяет программе, и вместо отчаяния Сакунталы, истории с перстнем и рыбаками, отчаяния Душьянты, похода и проч. — вы слышите опять те же охотничьи фанфары и ту же любовную сцену, только в другом тоне. Что же это значит? Неужели одна и та же музыка должна выражать и охоту, и войну, и отчаяние? Отступление от текста происходит, по-видимому, единственно от желания автора сохранить увертюре условную сонатную форму. Увертюра оканчивается тою же пасторалью, характеризующею личность Сакунталы, но на этот раз пастораль разрослась уже в массивное tutti, с шумным окончанием, выражающим ликование влюбленной четы. Главные недостатки увертюры: 1) отсутствие полного согласия музыки с программою; 2) некоторая длиннота, происходящая от повторения всей пасторали в средине увертюры; 3) некоторая мелкость тем и развития их в аллегро. Главные достоинства ее: 1) свежесть музыки — явление весьма редкое в произведениях немецкой школы последнего времени; 2) хорошая оркестровка. Вообще эта увертюра производит приятное впечатление отсутствием той рутины, которая выработалась немецкими консерваториями.
За увертюрой следовал симфонический концерт № 4 (d-moll) Литольфа. Этот род концертов, в форме симфонии, создан Литольфом и составляет переход от фортепианных концертов прежнего времени к фортепианным концертам Листа. В прежних концертах виртуозное фортепиано резко преобладало по значению над оркестром, которому уделялась большею частию только скромная роль аккомпанемента. В концертах Листа оркестр становится почти равноправным концертному инструменту и, сливаясь с последним, сообщает самой музыке несравненно больше разнообразия и колоритности. Это достигается уже в значительной степени и у Литольфа. Четвертый концерт последнего для нашей публики уже не новость. Он был игран самим автором и, раньше того, г. Кроссом4. По достоинству музыки здесь всего лучше — первая часть и скерцо, эффектное и чрезвычайно грациозное. Фортепианная партия была исполнена г. Рубинштейном превосходно: тут были и сила, и энергия, и блеск, и бездна вкуса. Сравнивая исполнение г. Рубинштейна с исполнением той же пьесы самим Литольфом, можно отдать предпочтение последнему только разве относительно первой части, начало которой сыграно было Литольфом еще с большею отчетливостью. Зато в скерцо г. Рубинштейн далеко превзошел самого автора; это было верх изящества, блеска и увлечения.
За концертом следовали танцы из третьего действия оперы «Воевода» молодого русского композитора г. Чайковского. Танцы эти составляют, в сущности, целую сцену, содержание которой следующее. «Невеста воеводы, насильно увезенная в его терем, лежит в тоскливой полудремоте. Сенные девушки стараются развеселить ее. Сначала закрытые фатами, они выходят на сцену и, разделясь на группы, тихо двигаются вокруг боярышни; мало-помалу движения их оживляются и переходят в пляску». Согласно этой программе музыка делится на две половины. Сначала идет род длинной интродукции, построенной на минорной теме славянского характера и в очень медленном темпе; за нею следует уже собственно пляска, которая по характеру музыки несколько подходит к славянским танцам Даргомыжского в «Русалке», но по оркестровке выше последних. Вообще инструментовка у г. Чайковского колоритная, эффектная и по красоте далеко превосходит самую музыку. Относительно формы можно сделать упрек г. Чайковскому в некоторой резкости перехода от медленной интродукции (выражающей полудремоту боярышни и «тихие движения» сенных девушек) к пляске, причем вместо постепенного оживления, как требует программа, вскоре раздается оглушительный удар турецкого барабана. Впрочем, чтоб судить об этом нумере окончательно, нужно бы слышать его на театре, в связи со сценой. Из программы же очень трудно понять, в чем состоят эти «тихие движения», чем они производятся и как «оживляются».
За танцами г. Чайковского следовал Второй концерт Листа (A-dur) — одно из самых трудных и эффектных фортепианных произведений его, превосходно оркестрованное. Г-н Рубинштейн сыграл его с таким совершенством, что едва ли возможно сыграть еще лучше этого. Сколько тут было силы, энергии, огня и понимания! В игре г. Рубинштейна слышен был не только первоклассный пианист, но и тонкий художник. Виртуозная сторона отодвигалась у него на второй план и уступала место чисто музыкальной. Редко случалось нам выносить такую полноту впечатления при передаче фортепианных произведений.
Далее была исполнена Вторая симфония г. А. Рубинштейна «Океан». Симфония эта вообще считается едва ли не самым лучшим произведением этого автора. К сожалению, она служит только подтверждением того мнения о сочинениях г. А. Рубинштейна, которое было неоднократно высказано в музыкальных хрониках «Санкт-Петербургских ведомостей». В этой симфонии видно уменье писать музыку чисто и правильно, знание формы, знакомство с оркестровкой — и только. Во всем сочинении нет ни искры творчества, ни следа самобытности. Это такое же повторение общих мест мендельсоновской рутины, как и большинство остальных произведений г. А. Рубинштейна. Та же бедность и мелкость идей, та же бесцветность оркестровки, та же обычная симметричность построения. Рассматриваемая с точки зрения программной музыки, симфония эта также не выдерживает критики. Симфония имеет целью представить музыкальную картину океана. К чему же тут общепринятое разделение симфонии на четыре части? Какое отношение имеет каждая из этих частей к изображению океана? Что значит это адажио, служащее вступлением к финалу? и т. д. Все это остается непонятным: программы к симфонии не приложено, а музыка сама по себе не рельефна. Вы слышите здесь просто какую-то симфонию вообще, построенную по условной симфонической форме. О намерении автора изобразить океан вы можете догадаться после только по чисто внешним признакам: рутинным тремоло, хроматическим ходам, самым обыкновенным фигурам, употребляемым для изображения волнения, и проч., наконец, по некоторому внешнему сходству музыкальных элементов финала с «Meeresstille und glückliche Fahrt»[11] Мендельсона (например, фигура басов в первой теме финала, удары литавр фортиссимо перед концом и т. д.). Прибавим ко всему этому непомерную растянутость сочинения, и тогда сделается понятным, почему публика приняла симфонию чрезвычайно холодно. Успеху пьесы не могли помочь ни беспредельная любовь к г. А. Рубинштейну как пианисту, ни отличное исполнение симфонии под управлением г. Н. Рубинштейна.
Сравнивая обоих братьев Рубинштейнов, невольно рождается желание сопоставить их художественные силы. Относительно фортепианной игры, по моему мнению, оба брата должны быть признаны величайшими пианистами нашего времени. Между ними можно сделать разве только разницу, что настоящая сфера г. А. Рубинштейна — салон и мелкие фортепианные вещи; настоящая сфера г. Н. Рубинштейна — концертная эстрада и большие вещи с оркестром, в листовском роде. У обоих техника игры развита в самой высокой степени, но г. А. Рубинштейн разнообразнее относительно тонких оттенков техники. Сравнивая обоих братьев как дирижеров приходится отдать преимущество, бесспорно, г. Н. Рубинштейну. У него в оркестре все ясно, определительно, все на месте; нет ни того хаотического шума, ни того злоупотребления быстрыми темпами, ни той грубости оттенков, которыми сопровождалось почти всегда исполнение оркестровых вещей под управлением г. А. Рубинштейна. В этом концерте г. Н. Рубинштейн дирижировал все вещи, кроме фортепианных. Нечего и говорить о том, что он встретил полнейшее сочувствие публики и как пианист, и как дирижер. Со времени основания петербургского и московского Музыкального общества еще в первый раз дирижер одного из них является участвовать в концертах другого. Пример этого свидетельствует о возникающей солидарности обоих обществ — явление, которое может иметь весьма хорошее влияние на развитие у нас музыкального дела.
Шестой концерт был, как обыкновенно, под управлением г. Балакирева5. Программа этого концерта следующая: 4-я симфония (D-moll) Шумана, скрипичный концерт Макса Бруха, два эпизода из поэмы Ленау «Фауст» Листа, еще скрипичный концерт Мендельсона и увертюра к опере «Проданная невеста» Сметаны (капельмейстера пражской чешской оперы).
Симфония Шумана принадлежит к числу лучших его произведений, хотя по достоинству музыки уступает и второй (C-dur), и третьей (Es-dur). Оркестрована она лучше последней. Самое замечательное в Четвертой симфонии Шумана — ее форма. Все части: интродукция, первое аллегро, анданте (романс), скерцо и финал — переходят непрерывно одна в другую и отличаются удивительным единством мысли; одни и те же темы проходят повсюду, но с различным колоритом и в различных степенях развития. Так, например, тему интродукции вы находите и в романсе; скрипичные фигуры триолями, из романса, встречаете в полном развитии в трио скерцо; первая тема первого аллегро является снова при вступлении в финал; первую тему последнего вы уже слышали в средине первой части, и так далее. Большинство тем, впрочем, не отличается ни особенным достоинством, ни даже оригинальностью; некоторые отзываются Мендельсоном (например, тема романса); вторая тема финала есть совершенный сколок с Бетховена (из Второй симфонии его). По музыке особенно хороши середина в первой части и в финале, а также трио в скерцо, в высшей степени грациозное и оригинальное.
Во всей симфонии очень много свежести, жизни и увлечения. Она была исполнена с одушевлением и огнем.
«Эпизоды» Листа составляли самые капитальные нумера концерта. Это два симфонических сочинения для оркестра, написанные в произвольной форме, на программу из «Фауста» Ленау. Первый эпизод («Ночное шествие») изображает тихую летнюю ночь; на небе нависли тяжелые тучи, но в лесу раздаются песни соловья, и вся природа наполнена чувством блаженства. У опушки леса появляется Фауст верхом. Он едет шагом и, погруженный в тяжелые думы, не обращает никакого внимания на окружающую его гармонию природы. Вдруг до него долетают звуки отдаленной религиозной процессии. Он останавливает коня и прислушивается. Звуки становятся все яснее и яснее, процессия приближается и наконец проходит перед Фаустом. Фауст внимательно вслушивается в пение, полное религиозного чувства, и начинает завидовать счастью благочестивых людей. Когда процессия исчезает вдали, он заливается такими горючими слезами, каких не проливал всю жизнь.
Другой эпизод («Вальс Мефистофеля») совершенно противуположен по содержанию. Мефистофель и Фауст приходят в деревенский шинок во время веселой крестьянской свадьбы. Фауст поражается красотою одной из танцующих девушек; в нем проявляется страстное влечение к ней, но он робеет и не решается подойти к девушке. Мефистофель смеется над ним; видя, что это не помогает, он берет у одного из музыкантов скрипку и начинает играть. В игре его сначала рисуются картины любви и сладострастия, потом музыка все более и более оживляется, становится страстною, дикою и наконец переходит в какую-то бешеную пляску. Все находится под влиянием этой адской музыки, и начинается всеобщая вакханалия, среди которой Фауст шепчет девушке страстные клятвы любви. Неистовая пляска выносит обоих из шинка; они несутся в лес, куда уже едва долетают звуки Мефистофелева вальса. Среди кустов раздается пение соловья; страстное упоение Фауста и девушки достигает крайнего предела, и они утопают в блаженстве любви.
Эти два эпизода — самые счастливые вдохновения Листа. С точки зрения программной музыки, это верх совершенства. Музыка здесь изумительно картинна и передает не только общее настроение, но и все частности, с неподражаемой рельефностью. В начале первого эпизода вам сказывается не только мрачное, тяжелое настроение Фауста, но и топот его коня, который идет шагом и останавливается. Вы вполне чувствуете всю поэтическую обстановку этой тихой летней ночи, всю гармонию природы. В отдаленных звуках колокола и церковного пения вы ясно слышите приближение процессии, которая наконец проходит как будто перед вашими глазами и теряется вдали. Вы сами, подобно Фаусту, невольно поддаетесь обаянию этого простого, строгого, торжественного пения, и Вам становятся тогда ясны и слезы Фауста, и душевное настроение его.
Произведение это глубоко прочувствовано самим автором и оставляет в восприимчивом слушателе сильное впечатление, от которого долго нельзя отделаться. По красоте музыки и оркестровки это одно из самых лучших сочинений Листа.
Особенно хороши начало и церковный хорал. Тема последнего необыкновенно хороша; от нее веет чем-то древним, византийским, нисколько не напоминающим темы всяких ученых месс и молитв новейшего времени. Тема эта исполняется сначала одним английским рожком, на низком регистре, гнусливый тембр которого как нельзя более идет к характеру этого безыскусственного монашеского пения. Затем она переходит на три флейты и, гармонизированная в церковных тонах, приобретает новую прелесть. Развиваясь далее, она доходит до массивного tutti, где тема исполняется унисоном во всех регистрах и получает в высшей степени грандиозный характер. Несмотря на эффектное употребление колокола и на крайне колоритную оркестровку, в хорале нет ничего декоративного, ничего такого, что напоминало бы театральные процессии в операх. Вся пьеса преисполнена обычных гармонических особенностей, свойственных только Листу; со многими из них любители условной чистоты гармонии, без сомнения, никогда не примирятся (например, педаль на cis — в конце), но все это здесь как нельзя более у места и вполне мотивировано. Нумер этот был исполнен у нас в первый раз и встретил сочувствие публики.
Второй эпизод, «Вальс Мефистофеля», был уже исполнен у нас в одном из концертов Бесплатной школы и сразу чрезвычайно понравился публике6. Это вещь в высокой степени колоритная и эффектная как по музыке, так и по оркестровке. В смысле программной музыки она так же верна с текстом, как и предыдущий нумер. Вначале вы слышите вальс, исполняемый деревенскими музыкантами; нарастание звуков квинтами в самом начале придает ему совершенно народный и несколько комический характер. Тема вальса жива, но еще совершенно спокойна. Когда же скрипка переходит в руки Мефистофеля, вальс приобретает характер страстности, с оттенком какой-то болезненной чувственности, доходящей до разврата. В этом случае звук виолончелей на высоком регистре как нельзя лучше подходит к характеру самой темы. По мере оживления вальса музыка приобретает все более и более страстности и переходит наконец в бешеную пляску, причем Лист бросает уже трехчетвертной ритм и берет двухчетвертной; движение вальса переходит в какой-то дикий чардаш, полный огня и необузданной страсти. Эта перемена ритма производит большой эффект. Тут, как и в предыдущем нумере, переданы с удивительною верностью не только общий характер программы, но и все частности ее: и смех Мефистофеля, и пение соловья, и «утопание в море блаженства». Это произведение, и по музыке и по эффектной и колоритной оркестровке, составляет, бесспорно, одно из самых лучших оркестровых произведений вообще. В двух эпизодах, совершенно противуположных по содержанию программы и характеру музыки, выразилась вполне глубоко художественная натура Листа, вся сила и самобытность его творчества. «Вальс Мефистофеля» понравился публике еще более «Ночного шествия» и был повторен. Успеху этих вещей, впрочем, немало содействовало и превосходное исполнение, в котором рельефно выступали все даже малейшие красоты и эффекты. В «Вальсе Мефистофеля» г. Балакирев выказал столько огня, страсти и увлечения, сколько мог выказать разве только сам Лист.
Что же сказать теперь о скрипичных концертах? Концерт Макса Бруха по музыке так же плох и бессодержателен, как и многие другие. В финале есть одна темка мадьяро-словацкого характера, которая могла бы служить освежающим элементом, но Макс Брух не умел этим воспользоваться. Концерт Мендельсона известен публике давно. Его часто слышали у г. Венявского, который играл его с гораздо большим одушевлением и блеском, нежели сыграл его г. Ауэр. Скажу более — г. Ауэр сыграл его просто плохо. Концерт Бруха прошел лучше, но и он был исполнен холодно и не произвел эффекта. Вообще игра г. Ауэра в квартете оставляет более хорошее впечатление, чем игра его в концертных соло.
Мне остается сказать еще об увертюре г. Сметаны. Она написана к чешской комической опере «Проданная невеста» и отличается народным характером. Форма ее условная, сонатная. Первая тема изображает болтовню баб и хороша только в смысле болтовни, но не по музыке, которая крайне бессодержательна и походит на какие-то фортепианные упражнения, в роде Черни или Крамера, переложенные на оркестр. Вторая тема чешская, национальная, и недурна. Недостаток музыкального содержания выкупается разве только необыкновенною живостью темпа и музыки, а также округленностью формы.
КОНЦЕРТ БЕСПЛАТНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. — КОНЦЕРТЫ РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (7-й и 8-й)
Концерты Бесплатной школы занимали всегда видное место в ряду концертов, имеющих действительно музыкальное значение. Они отличались не только хорошим исполнением оркестровых и хоровых вещей, но и чрезвычайно интересным выбором музыки1. В состав программ всегда входило немало замечательных произведений, имеющих живой современный интерес для искусства и по большей части вовсе неизвестных нашей публике или исполняемых у нас очень редко. Несмотря на недавнее существование Школы и на малочисленность ее концертов, она успела уже познакомить публику со множеством превосходных произведений, имеющих неоспоримо важное значение в развитии музыкального искусства, но составляющих до сих пор достояние только весьма тесного кружка записных любителей и знатоков музыки. Таким образом, Школа немало содействовала распространению музыкального образования в массе публики и упрочила за собою значение серьезного музыкального учреждения. Настоящий концерт ее принадлежит к числу наиболее замечательных2. На этот раз Бесплатная школа доставила нам возможность слышать в прекрасном исполнении одно из интереснейших и капитальнейших произведений современного искусства — «Те Deum» Берлиоза. Это одно из позднейших его сочинений (ор. 22) и, бесспорно, самое совершенное по внутреннему достоинству музыки. Пьеса эта написана для больших хоров с тенором соло, органа и громадного оркестра. Она была исполнена в первый раз 30 апреля 1855 года в Париже, в церкви St. Eustache при участии 900 музыкантов и под управлением самого автора. У нас в Петербурге ее еще никогда не давали целиком; публика наша имела случай познакомиться только с одним нумером «Те Deum» («Tibi omnes»), который некогда был исполняем в концертах Бесплатной же школы и очень понравился публике3. Всех нумеров в «Те Deum» восемь, из которых шесть вокальные, а два чисто инструментальные. В печатной партитуре, впрочем, один из нумеров («Prélude militaire») почему-то выпущен; он находится только в оригинальной рукописной партитуре, присланной Берлиозом в подарок нашей Публичной библиотеке. В концерте были исполнены все восемь нумеров.
Первый нумер — гимн «Те Deum laudamus» (Allegro moderato, 3/4, F-dur) —хоровой, с большим оркестром и органом. Он построен главным образом на теме («Те Deum laudamus»), которую поют сначала сопрано, и на другой теме, играемой сначала одним органом, унисоном во всех регистрах, и служащей потом контрапунктом первой теме. При дальнейшем развитии обе темы переплетаются весьма разнообразно, друг с другом и с прочими фигурами в оркестре и хоре. Вообще этот нумер отличается большою полифоничностью и сложностью разработки. Несмотря на такую сложность, однако же, голоса всюду ведены крайне ясно, естественно и свободно. Общий характер музыки — спокойный, светлый, грандиозный и вполне церковный. Красота ее и оригинальность, строгая выдержанность церковного характера, превосходное употребление хора и инструментальных масс, при отсутствии всякого стремления к чисто внешним эффектам, делают этот нумер замечательнейшим образцом церковной музыки вообще. В целом первый нумер, бесспорно, лучший из всего «Те Deum’a».
В самом конце его тональность изменяется из F в H-dur и нумер этот переходит непосредственно во второй «Tibi omnes». Второй нумер (Andantino, 3/4, H-dur) начинается прелестною прелюдией органа, за которою следует самый гимн «Tibi omnes», сначала у одних сопрано, с деревянными духовыми, чередующимися с органом. Замечательно хорош и оригинален здесь «Sanctus» как по музыке, так и по неожиданному изменению тональностей (из Н в Cis и наоборот) и красивому и эффектному аккомпанементу деревянных духовых. Постепенное crescendo «Sanctus’a» разрастается и приводит к сильному массивному «Pleni sunt coeli» и проч. Как хорош здесь эффект массы в ff после предшествовавшего рр и следующее затем тихое заключение органа! Вслед за этим тема гимна, с другим текстом, переходит к тенорам, затем идет снова «Sanctus», но только гармоническая обстановка, колорит и оркестровка всего этого уже совершенно другие — гораздо торжественнее и грандиознее; необыкновенный эффект производит здесь медь, неожиданно врезающаяся с своим А в гармонию H-dur остальных инструментов и хора. В третий раз тема гимна идет у басов и здесь достигает, как и самый «Sanctus», высшей степени развития относительно силы и величия. Весь нумер заключается музыкой начальной органной прелюдии, идущей на этот раз не у органа, но у струнных с контрапунктирующими фигурами деревянных духовых. Самые последние заключительные такты играет один орган. Нумер этот превосходен по содержанию музыки и по фактуре. С начала и до конца он оригинален, дышит необыкновенною теплотой и искренностью выражения. Он едва ли многим уступает предыдущему по красоте музыки, хотя и совершенно противуположен ему по фактуре.
После этого, по рукописной партитуре Берлиоза, следует маленький, оркестровый нумер «Prélude militaire», который, как значится в партитуре, играется в том случае, когда «Те Deum» исполняют по поводу победы. Этим мотивируется военный характер прелюдии. Нумер этот один из самых оригинальных во всем сочинении и построен весь на первой теме «Те Deum laudamus», которой придан военный, несколько маршевой характер. Начинает маленький барабан, потом тема идет у деревянных духовых, переходит к рогам и наконец к тромбонам и др. Перед концом прелюдии есть один чрезвычайно красивый и своеобразный гармонический поворот. Вообще этот нумер очень свеж и хорош по музыке. Непонятно, почему он выпущен в печатной партитуре.
Прелюдия переходит непосредственно в четвертый нумер: «Dignare». В целом четвертый нумер (Moderato, 4/4) уступает первым двум по музыкальному достоинству; но зато начало и конец здесь очень хороши и симпатичны. Музыка его отличается вообще теплотою и мягким, несколько пасторальным оттенком. Он написан для хоров с органом и небольшим оркестром, без тромбонов и ударных инструментов.
Пятый нумер — «Christe, rex gloriae» (Allegro non troppo, D-dur, 4/4) — хоровой, с участием тенора соло, с оркестром без тромбонов и органа. Общий характер музыки—торжественный. Этот нумер, однако же, значительно слабее предыдущих и менее оригинален. Всего слабее здесь теноровое соло — сентиментальное и несколько изысканное. Тем не менее и этот нумер не лишен замечательных красот в деталях. Так, например, очень хорошо дальнейшее ведение первой темы, построенной на диатонической гамме; весьма эффектен один гармонический поворот, в конце, когда при общей гармонии D-dur басы и медь берут неожиданно С. Если этот эффект недостаточно рельефен, так разве только вследствие отсутствия тромбонов в составе меди. Вообще странно, почему при общем торжественном характере музыки этого нумера, при частом употреблении массы в f, при массивном tutti ff в конце Берлиоз исключил из оркестра тромбоны и употребил в дело сравнительно небольшой оркестр.
Шестой нумер (Andantino, 3/4, g-moll)—молитва «Тe ergo quaesumus» для тенора соло, с хором и несколько изысканным оркестром: тут есть и английский рожок, и бас-кларнет, и три тромбона, и корнеты, хотя вовсе нет ни рогов, ни ударных. По музыке это самый слабый нумер из всех. Тема, на которой он построен, натянута, сентиментальна и напоминает какую-то плаксивую «Lacrimos’y». В оркестре тема эта ведена оригинально, но некрасиво, в трех октавах: сначала у струнных, потом у деревянных духовых. Недостатки музыки не выкупаются даже особенностью и исключительностью оркестрового состава, который здесь не производит никакого эффекта, что в сочинениях Берлиоза чрезвычайная редкость. Зато в конце нумера есть прелестный хорик «Fiat super nos», пианиссимо, без оркестра. Он написан в церковных тонах, и не только эффектен в исполнении, но и очень хорош по музыке.
Седьмой нумер, «Judex crederis» — с хорами, органом и громадным оркестром — самый эффектный из всех. Он начинается решительным и мрачным вступлением органа в es-moll (Allegretto maestoso, 9/8), за которым идет хор басов, в унисон с контрабасами, с чрезвычайно эффектным аккомпанементом меди. Потом тема переходит в сопрано и далее к тенорам, разрастаясь в могучий хор, полный силы и мрачного величия. Он оркестрован сильно, массивно и очень эффектно. Тональности в нем меняются так часто, что Берлиоз счел даже за лучшее не ставить здесь никаких знаков в ключе. За ним следует плавное, певучее и мягкое «Salvum fac» (3/4), очень красивое в женских голосах, с деревянными духовыми и струнными. Оно переходит в мелодическое «Per singulos» мужских голосов, аккомпанируемое своеобразно и эффектно арпеджиями альтов и виолончелей, с красивыми фигурами скрипок и духовых инструментов. Впрочем, сама мелодия басов не особенно хороша по музыке. За нею в струнных и женских голосах слышится опять музыка «Salvum» в 3/4, но в то же время басы уже вступают со своим «Judex crederis» в 9/8. Первая фраза этого «Judex crederis», повторяясь далее р, поочередно, басами обоих хоров, с своеобразною и превосходною гармонизацией на низком регистре и изумительно новым и эффектным употреблением меди на самых низких нотах, приобретает необыкновенно мрачный и торжественный колорит. Это одно из самых оригинальных и лучших мест по музыке не только в этом сочинении, но и в подобного рода музыке вообще. Хор растет и развивается в tutti, и наконец тема «Judex crederis» идет ff у хора унисоном, с массивнейшим оркестром и органом, достигая здесь апогея силы и выразительности. Заключение этого нумера составлено из тех же самых элементов, о которых мы упоминали выше, но по музыкальному достоинству оно ниже середины. Невозможно передать словами весь эффект этого нумера. Это верх совершенства по образцовому употреблению голосовых и оркестровых масс, по силе и красоте. Впрочем, с точки зрения более серьезных музыкальных требований, в целом он должен быть поставлен ниже первых двух нумеров. Слабые стороны его следующие: во-первых, некоторая декоративность, сильно напоминающая манеру Мейербера; во-вторых, местами несколько оперный характер музыки, что составляет недостаток в произведении церковного стиля; в-третьих, пестрота и отсутствие того единства, которым проникнут, например, первый нумер.
Заключительный нумер «Те Deum’a» — оркестровый, изображающий собою «Marche pour la présentation de drapeaux» (4/4, В-dur). Самый марш по музыке плох и сильно отзывается Мейербером. Недурен здесь только один гармонический поворот из Des в b-moll. Зато очень хорошо и оригинально следующее потом место, играющее как бы роль trio в марше. Подобно «Prélude militaire», оно построено на первой теме «Те Deum laudamus», в разработке fugato, но с маршевым характером. До сих пор оркестровка идет почти исключительно военная, духовая, струнные только кое-где прихватывают несколько нот. Но после fugato повторяется марш уже с участием струнных и арф, которые до сих пор ни разу не были в деле. Очевидно, что Берлиоз рассчитывал в этом случае на совершенно особенный эффект их. Орган в этом нумере вступает всего два раза: в fugato, где он играет вторую тему первого нумера (слегка измененную), и затем в конце, где играет ту же тему (но без изменения), в виде контрапункта.
Невозможно в таком беглом обзоре разобрать в частности все красоты этого замечательнейшего произведения, которое должно быть поставлено, бесспорно, наряду с самыми оригинальными, лучшими сочинениями по церковной музыке. Это не один из тех бледных сколков с Генделей и Бахов, как множество всяких немецких месс и ораторий новейшего времени. Это и не какая-нибудь итальянская, дилетантски-салонная музыка, вроде «Stabat Mater» Россини. Если мною указаны кое-какие недостатки и слабые стороны, то они имеют значение только относительное и нисколько не уменьшают высокого музыкального достоинства «Те Deum’a» в целом. Вспомним, что при строгом разборе не найдется буквально ни одного большого музыкального сочинения, которое бы во всех частях своих и деталях вполне удовлетворяло серьезным требованиям искусства. Нельзя не поблагодарить Бесплатную школу и г. Балакирева, стоящего во главе ее, за подобный выбор пьесы для концерта. Выбор этот доставил истинное наслаждение всем, кому дороги интересы музыкального искусства в его современном развитии.
Полноте наслаждения немало содействовало превосходное исполнение, под управлением г. Балакирева, и прекрасный состав исполнителей. Массивные хоры Школы пели на этот раз положительно безукоризненно: крайне согласно, верно и с тщательным соблюдением всех оттенков. Г-н Васильев исполнил партию тенора соло вполне удовлетворительно. Вместо фисгармоники, на эстраде красовался настоящий большой орган великого князя Константина Николаевича, вследствие чего чередование органа с оркестром выходило очень эффектное. Про оркестр нечего и упоминать: превосходный состав его слишком известен публике, посещающей концерты, в которых исполняется серьезная музыка. Словом, лучшей обстановки можно желать разве только в смысле той, какая была при первом исполнении пьесы в Париже. Но такая обстановка, очевидно, немыслима ни для какого частного концерта.
Про верную и рельефную передачу духа сочинения и всех музыкальных красот берлиозовской партитуры также распространяться не приходится. Высокий дирижерский талант г. Балакирева оценен и признан как публикою, так и беспристрастными музыкантами; тонкий вкус, глубина понимания, обширная музыкальная эрудиция и крайне строгое отношение его к музыкальному делу также известны и были доказаны не раз. Отрицать это сознательно могут разве только те, кому есть какой-либо интерес в умышленном игнорировании истины.
Кроме «Те Deum’a» в концерте исполнена была еще одна из любимейших симфоний Бетховена — «Пасторальная». Она слишком известна для того, чтобы разбирать ее в подробности. Я напомню только, что в этой симфонии Бетховену показались уже тесными рамки условной сонатной формы и что эпизодическая буря, между скерцо и финалом, составляет громадный шаг в истории развития свободной симфонической музыки. Эпизод этот, лучший во всей симфонии, и до сих пор остается самым художественным воспроизведением бури в оркестре. Симфония была сыграна вполне безукоризненно. Не говоря уже об удивительной отчетливости и верной передаче самых тонких оттенков, все исполнение дышало жизнью и увлечением. Даже финал, несколько вялый и растянутый, вышел здесь как-то особенно оживленным.
При всех достоинствах симфонии, главный интерес в этом концерте сосредоточивался все-таки на «Те Deum’e». Оно и понятно: симфония слишком хорошо известна, пьеса же Берлиоза, помимо ее высокого музыкального значения, имеет для нас еще интерес новизны. Нельзя не сознаться, что было бы весьма желательно слышать «Те Deum» в подобном исполнении еще раз4. Такие капитальные вещи, богатые новыми и первостепенными музыкальными красотами, положительно требуют повторения.
Перейдем теперь к 7-му концерту Русского музыкального общества5. Концерт начался первым аллегро и анданте из недоконченной симфонии (h-moll) Ф. Шуберта. Обе части исполнялись у нас еще в первый раз. Первая часть (Allegro, 3/4) написана в условной сонатной форме, ясна, проста по содержанию и разработке тем, свежа по музыке. Первая тема в басах и виолончелях рр очень хороша и сильна; быстро наступающая вторая-тема положительно слаба и напоминает дюжинный немецкий вальс. В этом Allegro всего лучше средняя часть, построенная на элементах первой темы; в ней много силы и новизны (взяв в расчет, конечно, что Allegro написано в 1822 году). Все же, что построено на разработке второй темы, большей частью слабо и довольно рутинно, даже для того времени. В противуположность большинству прочих сочинений Ф. Шуберта, это Allegro отличается замечательною сжатостью формы, отчего оно немало выигрывает в силе впечатления. Следующее затем Andante, также в условной сонатной форме (E-dur, 3/8), вообще слабее и несколько растянуто; но и в нем есть весьма недурные и новые вещи по музыке (как хорош и оригинален, например, подход к первой теме в средине Andante!). Первая тема — общенемецкая, малозамечательная; вторая лучше, с пасторальным оттенком и отчасти славянским характером. Оркестровка обеих частей симфонии простая, скромная, но хорошая. В целом музыка эта должна быть причислена к числу лучших сочинений Ф. Шуберта.
После этого сыграна была, также в первый раз, «Фантазия на финские темы» А. С. Даргомыжского. Как известно. у него есть несколько оркестровых пьес комического характера и построенных на народных темах (например, «Украинский казачок» и т. д.). Прототипом этого рода музыки служит всем известная, гениальная «Камаринская» Глинки. К этому же роду принадлежит и «Фантазия на финские темы». Но если музыка «Украинского казачка» напоминает еще несколько «Камаринскую», то «Фантазия на финские темы» не имеет ничего общего с последней. Она построена на народных финских темах и рисует разгулявшихся и раскутившихся финнов, которые сперва затягивают одну из своих заунывных песен (интродукция fis-moll, 5/4), потом, развеселившись, пускаются в пляс, сначала умеренный, но мало-помалу разгорающийся до крайних пределов финской удали и финского задора, вялого, хилого, неуклюжего и комичного в высшей степени (Allegro, A-dur, 2/4). Нет никакой возможности передать на словах весь юмор и комизм этой прелестной музыкальной картинки. Даргомыжский является здесь таким же великим музыкальным жанристом, как и в своих комических романсах («Червяк», «Титулярный советник» и проч.). Что касается до технических красот музыки, то «Фантазия на финские темы», несмотря на маленький объем свой, представляет богатый материал для изучения. Она переполнена совершенно своеобразными, новыми приемами и эффектами — гармоническими, инструментальными и ритмическими. Музыкальные курьезы, самые небывалые, самые разнообразные, встречаются здесь на каждом шагу; перечислить их в частности решительно невозможно — пришлось бы останавливаться чуть не на каждом такте пьесы. И все это блещет самым неподдельным юмором и остроумием. Из оркестровых вещей Даргомыжского «Фантазия на финские темы» положительно самая лучшая. Впечатление пьесы на публику высказалось ясно в единодушных рукоплесканиях и криках «bis», после которых пьеса была повторена.
За пьесой Даргомыжского следовал фортепианный концерт Шумана, исполненный г. Беггровым. Концерт этот уже известен нашей публике; его играли у нас и Клара Шуман, и А. Рубинштейн6. На этот раз публика имела право только пожалеть об исполнении пьесы. Г-н Беггров играл до того вяло, бездушно, скучно, до того извратил живой темп финала, что пьеса совершенно утратила свой характер.
Затем исполнены были, в первый раз, два отрывка из оперы «Демон» г. Б. Шеля: «Восточные танцы» и заключительный хор. Оба нумера по музыке слабы. Танцы (собственно лезгинка) выигрывают еще тем, что первая тема их настоящая восточная и верно передающая движение лезгинки; но, к сожалению, дальнейшее развитие ее бледно и вяло. В танцах мало жизни, увлечения, красок. При всем том лезгинка гораздо лучше хора, который по музыке просто плох. Если он и мог кому-нибудь понравиться, так разве только благодаря красивому исполнению в голосах.
Концерт окончился увертюрой к опере «Нюрнбергские певцы» Вагнера. Трудно представить себе что-нибудь скучнее и бесцветнее этой музыки! Хоть бы одна свежая мысль в целой увертюре! Хоть бы проблеск вдохновения! И что за неуклюжее, насильственное сочетание тем! Что за невыносимая оркестровка! Медь ревет без умолку в продолжение всей увертюры и просто приводит в отчаяние; так и радуешься всякому такту, где какой-нибудь трубач или тромбонист остановится, чтобы перевести дыхание. По непомерной сухости, торжественности и обилию медных инструментов можно подумать, что это форшпиль в какой-нибудь бездарнейшей оратории, изображающей падение стен Иерихона. А между тем это не более как увертюра к комической опере из народного быта. Вообразите себе музыку к народной комической опере — и ни малейшего следа жизни и юмора! Сколько нужно иметь слепой веры в авторитеты, чтоб не видеть всей бездарности подобной музыки!
Перейдем теперь к 8-му концерту7.
Главный интерес этого концерта сосредоточивается, бесспорно, на новой, Второй симфонии г. Римского-Корсакова «Антар». Симфония эта представляет произведение замечательное как по новизне и красоте музыки, так и по изумительно блестящей и колоритной оркестровке. По форме она принадлежит к тому роду симфонических сочинений, который был создан Берлиозом. Это — симфония в нескольких частях, написанная на определенный сюжет, причем разделение на части и построение каждой из них определяется не условною рамкой сонаты, но исключительно содержанием самого сюжета. Сюжет симфонии г. Римского-Корсакова — восточная сказка, содержание которой я постараюсь передать в коротких словах. Антар, возненавидевший людей, потому что они платили ему за добро злом, решился покинуть их навсегда. Он удаляется в Шамскую пустыню, где находятся развалины города Пальмиры. Там он вдруг видит бегущую газель. Мучимый голодом, он гонится за нею с копьем. Но в это время раздается страшный шум: за газелью летит чудовищная птица и хочет растерзать ее. Антару становится жаль газели, он вмиг переменяет свое намерение и вместо нее поражает птицу. Раненое чудовище с грохотом проваливается в пропасть, причем делается такая буря, что Антар не может удержаться на ногах и падает без чувств. Когда он очнулся, он видит себя в роскошном дворце, где множество рабов и рабынь ему прислуживают и услаждают его пением, плясками и яствами. Оказывается, что это дворец царицы Пальмиры — Пери, которая под видом газели искала спасения от нападения злого волшебника, принявшего на себя образ чудовищной птицы. Антар, поразив чудовище, спас Пери. В благодарность за спасение Пери обещает сделать жизнь его полною наслаждений, предупреждая, однако, что каждое из них оставляет после себя горечь, излечиваемую только другим наслаждением. Затем очарование исчезает, и Антар видит себя по-прежнему в пустыне. Это собственно и составляет сюжет 1-й части симфонии. Остальные три части изображают три наслаждения, которым по очереди предается Антар. Первое из них — сладость мести (2-я часть симфонии). Упившись местью, Антар хочет испытать сладость власти (3-я часть симфонии); пресытившись ею, он просит сладости любви, которую и находит в объятиях самой Пери, превратившейся в красавицу-бедуинку. Но Пери напоминает Антару, что это наслаждение — последнее и что горечь, оставляемая им, ничем уже не излечивается. Тогда Антар умоляет Пери отнять у него жизнь при первых же проявлениях этой горечи. Пери исполнила и это желание. Таким образом, после долгого обоюдного счастья Антар умирает возле нее, как только яд пресыщения начинает проникать в его душу (4-я часть симфонии).
Восточный элемент, фантастические подробности сюжета, характер Антара и разнообразие положений, в которых он находится, дают музыканту обильную пищу для фантазии. И надобно сказать, что г. Римский-Корсаков мастерски воспользовался всеми элементами.
Каждая частность сюжета воспроизведена им в музыке необыкновенно рельефно и с неподражаемою верностью. Как хорошо, например, изображение пустыни (аккорды трех фаготов и т. д.) в начале и конце 1-й части. Как картинно изображение бегущей газели, где верно передано не только движение бега (ритмические фигуры скрипок), но обрисована отчасти уже личность самой Пери, скрывающейся под видом газели (фигуры флейты; эти фигуры флейты составляют элементы темы, характеризующей далее поэтическую личность Пери в 4-й части). Сколько оригинальности в изображении чудовищной птицы, тяжелый полет которой так выразительно передается струнными. Необыкновенная гармония, совершенно своеобразная, как нельзя больше идет к этому фантастическому чудовищу, хищная натура которого так и слышится в характеристических клеваниях духовых. Сколько неги и воздушной грации в музыке, которой услаждают Антара во дворце Пери. Заметим кстати, что плясовая тема этой музыки — подлинная арабская и обставлена превосходно. И через все это проходит унылая тема, обрисовывающая разочарованного Антара. В смысле описательной музыки 1-я часть симфонии — верх совершенства и в особенности замечательна по необыкновенно картинной передаче самых разнородных подробностей сюжета. 2-я часть столько же верна сюжету, но передает скорее общее настроение Антара, упивающегося местью, нежели изображение отдельных частностей мщения. Поэтому она не представляет такой пестроты и разнохарактерности музыкальных элементов, какою отличается 1-я часть. По форме она также круглее и законченнее. Музыка этой части необыкновенно хороша, дышит восточной страстностью, энергией и какою-то необузданной свирепостью, вполне отвечающей программе. Тема, рисующая Антара, проходит и тут, но колорит ее уже совершенно другой, нежели в 1-й части. Оркестрованная в меди, она приобретает характер грозной силы. Музыка 3-й части изображает великолепную обстановку власти на Востоке. Тут есть и торжественный военный марш; тут есть и пляски невольниц, и ликование. Сама тема Антара получила здесь опять новый колорит — светлый и грандиозный. Одна из тем (вторая) здесь также подлинная арабская, напоминающая персидский хор «Руслана», но только еще красивее. Впрочем, по музыке эта часть несколько слабее двух первых, особенно конец ее. Музыка 4-й части чрезвычайно симпатична и построена, главным образом, на подлинной же арабской теме, полной любви и нежного томления. Тема эта идет сначала у английского рожка, с аккомпанементом кларнета и фаготов; далее же у виолончелей и скрипок, причем она получает характер уже более страстный. Так же удивительно симпатична здесь и вторая тема, рисующая личность Пери. Сколько в ней грации, теплоты и грусти! В первой части были только намеки на нее, здесь же она является в полном развитии. Тема самого Антара получает здесь характер мягкий, нежный и полный глубокой грусти. Конец этой части необыкновенно хорош и поэтичен, на арфах, флейтах и альтах.
Все четыре части носят на себе вполне восточный колорит как по гармонизации, так и по оркестровке. Относительно оркестровки «Антар» — положительно одно из совершеннейших и самобытнейших произведений современной музыки. Невозможно перечислить всех изумительных оркестровых эффектов, которыми переполнена каждая из частей этого сочинения, и найдется весьма мало мест, которые оркестрованы некрасиво (например, в одном месте 2-й части некрасиво употреблены рога и т. д.). И как все это ново и колоритно. Сколько тут фантазии самой прихотливой и роскошной!
Во всей симфонии нет и тени чего-нибудь рутинного, обыденного. Вообще «Антар» представляет новое доказательство необыкновенно сильного творческого таланта г. Римского-Корсакова, композиторская деятельность которого составляет крайне отрадное явление в нашем музыкальном мире. Говоря о достоинствах этой симфонии, я должен указать также и на слабые стороны. Автору можно сделать упрек в том, что тема, изображающая самого Антара, не вполне оригинальна; что в 3-й части не довольно величия и грандиозности; что в 4-й части музыка местами холодновата; что симфония несколько грешит пестротою элементов в деталях; но последнее обстоятельство находит себе оправдание отчасти в самом сюжете.
После симфонии г-жа Щетинина сыграла известный концерт Гензельта и сыграла очень мило. О самом сочинении г. Гензельта говорить нечего — оно бесцветно и плохо не только в музыкальном, но даже и в техническом отношении. Все виртуозные трудности здесь пропадают даром и не производят никакого эффекта. Какая разница в этом отношении, например, с концертом Литольфа, не говоря уже о концертах Листа. А что за странная оркестровка у г. Гензельта, что за наивные темы!
За этим следовала испанская фантазия Глинки «Ночь в Мадриде». Первостепенные красоты и оригинальность ее так известны публике, что было бы излишне разбирать ее в частности. Пьеса эта, по требованию публики, была повторена.
Потом г-жа Хвостова прелестно спела три самые разнохарактерные романса: «Waldgespräch» [12] Шумана, «Еврейскую мелодию» Мусоргского и «Серенаду» Гуно. Романс Мусоргского был повторен.
В заключение исполнена была увертюра «Гофолия» («Аталия» тож) Мендельсона. Увертюра эта также слишком известна даже тем, кто слушает музыку только в Павловском вокзале.
1878. МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ЛИСТЕ[13]
(июнь — июль 1878 года)
Иена 3 июля 1877 года
Забравшись с моими будущими докторами философии в Иену1, я поглощен был, понятно, интересами, не имеющими ничего общего с музыкою, и забыл даже думать, что в двух шагах от меня живет Лист. (Я разумею в Веймаре.) К тому же, уезжая из Петербурга, я слышал вскользь от Бесселя, что Лист должен быть в Ганновере. Вот сидим мы это 30 июня в ресторане и просматриваем газеты. Вдруг читаем, что 2 июля будет в Иенском соборе концерт духовной музыки. Большинство вещей новых, в том числе четыре листовских: «Benedictus» из «Krönungsmesse»[14] для скрипки с органом и фортепиано, «Ave maris stella»[15] для мужского хора с органом, «Ave Maria» Arcadelt’a [16], сделанная для органа Листом, и «Cantico del Soll» di San Francisco d’Assisi a 1224[17] для баритона соло, мужского хора, органа и фортепиано (из неизданных вещей Листа). Кроме этого много вещей интересных, из старых — Баха, Палестрины; из новых — Лассена и проч.; вдобавок ко всему курьез: похоронный марш Шопена (Adagio из его b-moll’ной сонаты), сделанный Листом для виолончели, фортепиано и органа. Как уже это попало в число церковных вещей — не понимаю. Разумеется, мы поспешили запастись билетами. При этом нам сообщили частным образом, что, по всей вероятности, Лист сам приедет в Иену послушать свои вещи, так как он теперь в Веймаре. Не желая упустить такого удобного случая познакомиться с Листом, чего мне давно хотелось, я порешил не откладывая, завтра же ехать к нему в Веймар. Нужно сказать тебе, что из Иены в Веймар — рукой передать, все равно что из Петербурга в Павловск. Вот на другой день, 1-го числа, в 11 ч. 51 м. я и прикатил в столицу гроссгерцогства Саксен-Веймарского.
Рассчитывая, что Лист, по немецкому обычаю, обедает в час, я положил сначала пообедать и уже после обеда идти на поиски за великим Maestro. Так и сделал. Вообрази курьез: кого ни спрошу—никто не знает, где живет Лист. Вижу наконец вывеску «Hôtel de Russie»[18]: ну, думаю, где стоит «Russie», там наверное обязаны знать все. Стремлюсь туда и натыкаюсь прямо на стереотипную фигуру оберкельнера с графской физиономией, английским пробором и толстым золотым перстнем (один из самых противных типов немецкого «человека»). Оберкельнер смерил меня своим оловянным взглядом, не одобрил, и на вопрос процедил сквозь зубы: «Bedauere sehr»[19] и проч. Я мысленно послал его к черту и отправился наудачу далее. Вдруг — о welche Wonne![20] передо мною Kunsthandlung[21], а в ней за стеклом торчит огромный Лист, фотографированный, разумеется. Ну, думаю, тут уже непременно знают, где он живет! Так и вышло: лаконизм оберкельнера с лихвою вознаградился потоком самых подробных указаний со стороны жиденькой немочки, которая, не ограничиваясь словесною инструкциею, проводила меня за двери и, мотая тоненьким пальчиком в воздухе, указывала направление: rechts, links[22], опять links, опять rechts («ты к швее-то не заходи»—как в «Женитьбе» Гоголя) и наконец-то immer grade aus[23]. Иду я направо, иду налево, к швее не захожу, наконец выхожу на Wielandsplatz, а тут как в наших сказках: одно распутье— дорога направо, дорога налево, а прямо-то «grade aus» и дороги нет, ее загородил огромный медный Виланд, с толстыми икрами и медным, неподвижным лицом. Кроме меня и его на площади никого нет; спросить не у кого; кругом точно вымерли все. Только где-то поблизости мелким бисером сыплются беглые фортепианные нотки. Впоследствии я узнал, что это играла моя компатриотка Т., которая как раз угодила нанять квартиру, против самой спины Виланда.
Я сунулся опять наудачу в боковые улицы, по направлению могучих икр медного поэта. Оказалось, что левая икра была обращена к Amalienstrasse, правая к Marienstrasse. Обе улицы вели к музыкальным знаменитостям: одна на кладбище к покойному во всех отношениях Гуммелю, другая — в парк, к живому во всех отношениях Листу.
По последней я и направился «immer grade aus!». Это была — Marienstrasse. Лист должен жить совсем на конце улицы, у парка. Оказалось, что и тут я ошибся домом. Спрашиваю: где живет Лист? — Какой Лист? Никакой Лист тут не живет! — Ну по близости нет ли? — Н... нет. Всё тут жильцы известные... Ана! Ана! Вот тут спрашивают какого-то (?) Листа,— крикнула краснощекая немка другой немке в том же доме. Вмешался длинный, неуклюжий немец: «Стойте! Вот тут напротив живет, кажется, какой-то доктор Лист». Иду напротив. Домик № 1 —17 — в три окна, крохотный каменный двухэтажный, угловой, белый, весь обвитый диким виноградом. С улицы хода нет. Железная решетка. Калитка ведет в садик — изящный чистенький, точно языком вылизанный. В саду гуляет какой-то господин в соломенной шляпе. — «Здесь живет Herr Doctor[24] Лист?» — «Здесь, но только теперь он обедает; после обеда ляжет отдохнуть и ранее 4 1/2 часов его видеть нельзя». — «Тьфу ты пропасть! Какая досада!»— подумал я и от нечего делать пошел бродить по городу.
Времени было много, и я, в виде пролога к свиданию с великим современником, принялся электризовать себя воспоминаниями о великих покойниках по части искусства. А в Веймаре всего этого пропасть. Каждый уголок, каждая улица, каждая площадь говорит здесь о прошлом искусства — и хорошем прошлом!
Вот кладбище, в одном склепе с коронованными гроссгерцогами покоятся останки Гёте и Шиллера, в дубовых гробах, украшенных лавровыми венками; у гроба Шиллера, сверх того, серебряный венок — приношение гамбургских женщин, по случаю столетия годовщины дня рождения великого поэта.
Вот дом, где жил Гёте весь остаток своей долгой жизни, с 1776 года до 1832, то есть 56 лет. Вот маленький, простенький, старинной архитектуры домик; на дверях написано: «Hier wohnte Schiller!»[25] Тут он и умер в 1805 году, переселившись из Иены, где был профессором некоторое время. Тут же, за малую лепту, можно видеть и разные «реликвии» Шиллера, из тех, что по тарифам железных дорог значатся под именем домашних вещей.
А вот и всем известная бронзовая группа обоих поэтов, неразлучных и при жизни, и по смерти; не разлучаемых и в народной памяти — на пьедестале надпись: «Dem Dichterpaar Schiller und Göthe das Vaterland» [26]. Немецкие остряки не щадят, однако, этой памяти и называют группу ехидно — «Schulze und Müller» [27]. Вот домик Виланда, домик Гердера и бронзовые статуи их. Но эти разлучены; пьедесталы у них отдельные, стоят они на разных местах, и об них остряки ничего не говорят. Есть и домик Луки Кранаха; даже с его гербом. В гроссгерцогской библиотеке можно видеть и Chormantel[28] Лютера, и придворный костюм Гёте, и домашний халат того же Гёте, и многое другое в том же роде. Да всего не перечтешь. Электризоваться великими именами вообще я начал уже в Иене. Крохотный университетский город до того переполнен вещественными доказательствами пребывания в нем великих людей, что если бы, например, приезжий, пропитанный благоговением к великим именам, идя по улице, хотел, положим, плюнуть: некуда! остается плюнуть в платок. Около одного дома нельзя — тут жил Гёте; около другого нельзя — тут жил Шиллер, Гегель, Шеллинг, Окен, Фихте, Арндт, Меланхтон и проч. Я сам чувствовал себя сначала несколько неловко: потому — сразу попал под одну кровлю с Лютером. Великий реформатор жил как раз через стенку от меня. Рядом с домом, где я поместился, жили — с одной стороны, Гёте, с другой — Шиллер; напротив меня Гёте писал «Германа и Доротею»; недалеко от меня Шиллер писал «Валленштейна». Просто беда! — Чуть не на каждом доме дощечка с великим именем. Нужно, впрочем, признаться, что между последними есть и такие, память о которых сохраняется только потому, что они написаны на домах. Вообще страсть немцев увековечивать на домах имена великих жильцов приводит иногда к курьезам; например, в Бонне есть два дома в разных частях города и на обоих значится: «Здесь родился Бетховен!»
Проболтавшись по городу до 41/2 часов, спешу в Marienstrasse, к заветной решетке. Вхожу в калитку. Гляжу — господина в соломенной шляпе нет, а сидят в саду две дамы. «Ist Herr Doctor zu sprechen?»[29] — собезьянничал я по-немецки. «О ja wohl! Oben, eine Treppe hoch!»[30] Ну слава богу! Я поблагодарил, подняв почтительно, по-немецки, высоко шляпу и направился «эйне треппе гох», а сам думаю: «Ну а вдруг это какой-нибудь вольнопрактикующий врач Лист?»
Не успел я отдать карточки, как вдруг перед носом точно из земли выросла в прихожей длинная фигура в длинном черном сюртуке, с длинным носом, длинными седыми волосами. «Vous avez fait une belle symphonie»[31] — гаркнула фигура зычным голосом, а длинная рука протянулась ко мне. «Soyez le bienvenu!» [32] И тут же в коротких, но сильных выражениях он успел высказать свое résumé относительно каждой из частей симфонии и показать мне, насколько эта вещь ему нравится и хорошо знакома в подробности.
Мускулистая рука крепко сжала мою руку, втащила в комнату и усадила меня на диван. Мне оставалось только откланиваться и благодарить. Величавая фигура старика, с энергическим выразительным лицом, оживленная, двигалась передо мною и говорила без умолку, закидывая меня вопросами относительно меня лично и музыкальных дел в России, которые ему, очевидно, недурно известны. Разговор шел то на французском, то на немецком языке, перескакивая ежеминутно с одного на другой[33]. Он много расспрашивал о Корсакове, о котором он очень высокого мнения: «М-г Rimsky — est un très grand talent!»[34] Рассказывал, между прочим, как ужасно провалился «Садко» Корсакова в первый раз в Вене; как А. Рубинштейн, дирижировавший тогда «Садко», привез Листу партитуру и сказал: «Эта вещь провалиласть у меня, но вам она, наверное, понравится». И «Садко» и «Антара» Лист ставит очень высоко. Расспрашивал о том, как исполнялся «Christus»[35] в концерте «Бесплатной школы»3. Когда я сказал, что «Stabat mater speciosa» [36], к сожалению, не могла быть исполненною с органом, а шла с фисгармоникою, — он сказал: «Тут есть громадные трудности; во втором издании я сделаю непременно иначе; нужно, чтобы орган прямо вступал с голосами и сопровождал их сплошь». — Я заметил, что Корсаков сделал особенную уловку... «Угадываю! — перебил Лист, — он заставил вступить орган немного раньше голосов; так? Я знаю, что значит дирижировать подобные вещи! Он поступил очень умно!» и т. д. Расспрашивая о Балакиреве, он сказал: «Жаль, что вы не слыхали, как у меня играет ваша компатриотка m-elle Vérà Timanoff вот эту вещь», и указал на весьма истрепанный экземпляр балакиревского «Исламея», лежавшего тут, так что, видимо, его только что играли. «У меня сегодня было matinée[37], и она как раз сегодня ее играла». (Как я потом узнал, Лист, заставляя ее играть эту вещь, шутя говорил: «M-elle Vera! Eh bien! Tranchez la question orientale à votre manière!»[38]) «Она играла „Исламея“ на последнем собрании у гроссгерцога,— прибавил Лист. — Вы знаете, что гроссгерцог хорошо знает ваши вещи и очень их любит. У нас в Германии их, разумеется, не гутируют.
Вы знаете Германию? Здесь пишут много; я тону в море музыки, которою меня заваливают, но боже! до чего это все плоско (flach)! Ни одной свежей мысли! У вас же течет живая струя; рано или поздно (вернее что поздно) она пробьет себе дорогу и у нас». Спрашивал о Кюи и др. Между прочим, говорил, что ему очень нравится трио Направника; что сначала, когда он читал его только в партитуре, оно показалось ему длинно и вяло, но когда он слышал его в исполнении, он нашел, что она прекрасно и эффектно сделано.
Из нашего разговора я заметил, что инструментальною русскою музыкою он интересовался гораздо более, нежели вокальною, что, впрочем, вполне понятно, так как русского языка он не знает. Но и вообще, как мне показалось, симфоническая, камерная и фортепианная музыка, по-видимому, интересуют его более, нежели оперная.
Когда я благодарил его за любезности, приходившиеся на мою долю, он с досадою перебивал меня: «Да я не комплименты вам говорю; я так стар, что мне не пристало говорить кому бы то ни было иначе, чем я думаю; меня за это здесь не любят, но не могу же я говорить, что пишут хорошие вещи, когда нахожу их плоскими, бездарными и безжизненными». Узнав, что я живу не в Веймаре, а в Иене, он сказал: «Ба! Значит мы с вами завтра увидимся?» Я, разумеется, отклонил какой бы то ни было визит с его стороны. «Ну вот что, tenez! Je vous invite demain à diner dans le Baeren (отель „Zum schwarzen Baercn“). Sie sind also mein Gast für Morgen; vergessen Sie es nicht»[39], — напомнил мне он на прощанье. Просить его играть я не решился: было бы слишком бесцеремонно.
Говорил он превосходно на обоих языках, свободно, бойко, с увлечением, быстро и много, как умеют говорить только французы. При этом он не сидел ни минуты на месте, ходил, жестикулировал и всего менее напоминал собою духовную особу. Рот его широко раздвигался и крепко захлопывался, громко отчеканивая каждый слог и напоминая мне несколько дикцию покойного А. Н. Серова. Высказав, что ему было нужно, он захлопывал рот окончательно, откидывал седую голову, останавливался и вперял в меня свой орлиный взгляд, как будто хотел сказать: «А ну-ка! Посмотрим, что ты мне теперь на это скажешь?» Впоследствии я видел, что у него есть еще другая манера говорить: едва шевеля губами, тихо, каким-то старческим и аристократическим говорком, напоминая мне дикцию другого покойника— H. М. Пановского.
Он так меня замотал, по твоему выражению, что, прощаясь, я даже забыл спросить его, какой это обед, на который он пригласил меня; в котором часу; нужно ли быть во фраке или нет. Обо всем этом я вспомнил уже на дороге из Веймара в Иену. Приехав туда, я нашел на станции А. и Г.[40] — моих будущих докторов философии, нетерпеливо ожидавших рассказа о свидании с великим Maestro и впечатлении, которое он на меня произвел.
На другой день меня взяло раздумье: «Как я пойду на обед? А ну как там дамы да бомонд? А у меня кроме дорожного платья ничего нет?» Я порешил извиниться перед Листом и не пойти вовсе. Но как и где это сделать? Очевидно, что Лист не остановится же в гостинице «Zum Bären»: он в Иене свой человек. Наконец мы втроем порешили отправиться в собор, в надежде, что так как концерт будет там, то, наверное, там знают, когда приедет Лист и где остановится. Пошли мы, собственно, зря, между прочим, наудачу. Подходим к собору — там гудит орган. Мимо нас прошмыгнул какой-то господин в маленькую дверь, боковую (главные двери были заперты). Мы за ним. Входим: нет почти никого, человек пять кое-где разместились по скамьям. Под старинными готическими сводами так и раскатывается d-moll’ная фуга Баха. Мы сели. Видим — народу прибывает понемногу. Чей-то зычный голос прокричал: «Na! jetz kann mann doch anfangen; rasch hinauf, die Herrn Sänger! Wir haben wenig Zeit; es muss noch einmal Alles durchgenommen bis der Meister noch nicht da ist!»[41] Оказалось, что мы случайно попали на репетицию концерта, который должен был быть еще в 4 часа вечера, а теперь был всего 11-й час утра. Можешь представить, с каким наслаждением мы, совсем неожиданно, выслушали почти весь концерт. Исполнители были превосходные; большею частью все придворные артисты Веймарской капеллы, солисты и придворные оперные певцы. Хор очень хороший — академического (университетского) общества пения «Pauliner», состоящего исключительно из студентов. На нас никто не обращал внимания; никто не приглашал, но никто и не гнал нас. Мимо нас таскали ноты, виолончели, скрипки; шмыгали оперные певцы. Вдруг около 12 часов все заполошилось, устремилось к двери с выражением напряженного внимания. «Der Meister kommt! Der Meister, der Meister ist da!»[42]
Распорядители концерта во фраках и белых галстухах забегали, засуетились. Двери распахнулись, и выступила характерная черная фигура Листа под руку с дамою; как я узнал впоследствии — баронессою М.[43] За ними следовала целая фаланга листовских учеников и учениц, правильнее учениц, потому учеников— всего был один — Зарембский, поляк, из Житомира, очень даровитый пианист. Вся эта юная толпа очень непринужденно и бесцеремонно вкатилась в собор и, треща на всевозможных языках, посыпалась по скамейкам. В этой толпе я увидал и нашу соотечественницу — m-elle Véra Т[44]. Лист, по-видимому, ее особенно жалует, потому, усаживаясь с баронессою М. и композитором Лассеном, он спохватился, где m-lle Vera, и видя, что она сидит в заднем ряду, без церемонии вытащил ее и посадил около себя.
Он слушал очень внимательно, хотя большею частью с закрытыми глазами. Когда дошла очередь до его вещей, он встал и окруженный распорядителями направился на хоры. Вскоре у дирижерского пюпитра показалась его большая, седая, смелая голова, энергическая, но спокойная и уверенная. Издали он очень похож на нашего Петрова — та же маститость, то же сознание, что он у себя дома везде, где он действует. Дирижировал он без палочки, рукою, спокойно, определенно и уверенно; замечания делал очень мягко, спокойно и коротко. Когда очередь дошла до вещей с участием фортепиано, он ушел в глубь хора и вскоре седая голова его показалась за роялем. Мощные круглые звуки рояля полились как волны под готическими сводами древнего собора. Играл он божественно! Что за тон, что за сила, что за полнота! Какое пианиссимо, какое morendo! Юноши мои так и кисли от восторга. Когда дошло дело до «Marche funèbre»[45] Chopin’a, очевидно было, что вещь эта вовсе не была аранжирована: Лист импровизировал партию фортепиано, в то время когда орган и виолончель играли по нотам; каждый раз при повторении он играл иначе, даже совсем не то, что прежде. Но что он сделал из этого! Уму непостижимо! Орган внизу тянет pianissimo аккорды и терции; фортепиано с педалью дает рр, но полные удары; виолончель поет тему. Эффект выходит поразительный: совершенно как будто отдаленный похоронный звон густых колоколов, из которых один ударяет прежде, чем другой перестал гудеть. Я никогда, нигде, ничего не слыхал подобного. Потом что за crescendo! Мы были на седьмом небе! Я только тогда вспомнил о намерении подойти к Листу и просить извинения, что не могу принять приглашение на обед, когда он уже уходил под руку с баронессою М., окруженный своим штатом юных пианистов, которые довольно бесцеремонно тормошили великого Meister’a, и хотя, видимо, очень ухаживали за ним, но без почтительного страха. Подойти к нему не было ни малейшей возможности, я решил проводить его «Zum Bären» и там fair mes excuses[46]. Проходя в двери, я был остановлен Т., которая очень радушно и ласково подбежала ко мне: «Лист сказал нам, что вы в Иене. Давно ли вы здесь?» и т. д. Я сообщил ей, между прочим, о намерении уклониться от обеда. «И думать не смейте! Вы ужасно обидите Листа! Он на вас рассчитывает и еще в Веймаре объявил нам всем, что вы обедаете у него сегодня. Идите за мной!» Прежде чем я успел сказать ей что-либо, m-lle Véra схватила меня за руку и втащила в пестрый кружок ее подруг: вот это самый и есть Herr N.; mein Landsmann[47], — представила она меня.
«До обеда далеко, обед в 2 часа еще, Meister пошел отдохнуть немного, пойдемте есть вишни пока!» Пестрая толпа высыпала на улицу, потащила меня за собою. Мы, как мухи, облепили чье-то крыльцо, мигом расхватали вишни у стоявшей тут же торговки. Меня поместили между Т. и какой-то очень милой пианисткой из Дюссельдорфа; рассыпав вишни на бумагу на коленях, они бесцеремонно пригласили меня к участию: «Helfen Sie doch!»[48] На вишни все накинулись как школьники, барышни смеялись и трещали на всевозможных языках. Я точно сто лет был знаком с ними. Наконец пора была идти в отель «Zum Bären», который был очень недалеко. В отель пришли мы, однако, слишком рано. Там было отведено особое помещение для нас, пока готовили стол в Speisesall’e[49]. Барыни без церемонии начали прихорашиваться перед зеркалом и даже пошли подпудриваться. «Der Meister ruht noch! Der Meister ist noch nicht da»[50],— слышалось кругом.
Наконец пробило два часа, все двинулись в столовую. Стол был сервирован прекрасно, убран цветами и т. д. Лист пришел с распорядителями и с неизбежною своею дамой — баронессой М., композитором Лассеном и еще кое-кем. Увидев меня, он закричал: «Ah! soyez le bienvenu!»[51] и сейчас же начал меня знакомить с баронессой, Лассеном, своим другом — Justizrath[52] Гилле, главным распорядителем. Мне уже было резервировано место за столом. Лист сидел на конце, во главе стола, я возле Листа по левую руку; по правую сидела напротив меня баронесса. Она вступила сейчас же со мною в беседу, наговорила любезных вещей и сообщила, что она с Листом играла мою симфонию у гроссгерцога два дня тому назад; симфонию и она и Лассен знают, очевидно, очень подробно. Лист был очень любезен, весел и разговорчив; подливал соседям вино и т. д. Главным предметом разговора была опять-таки русская музыка, которою баронесса интересуется, по-видимому, не менее Листа. Говорили на этот раз много о русских операх: «Руслане», «Юдифи», «Маккавеях», «Псковитянке», «Каменном госте», «Ратклифе» и их авторах, об «Антаре» Корсакова, «Ромео и Джульетте» Чайковского... и многом другом, что в Веймаре известно...[53]
«Restez-vous longtemps a Jena? — сказал, между прочим, Лист. — Eh bien, je vous prends par le collet; venez me voir encore à Weimar; nous ferons votre symphonie ensemble»[54]. Я пояснил, что я не пианист и не могу играть с ним. «Eh bien, c’est madame la baronne, qui voudra bien jouer la symphonie avec m-r Lassen.— Avez-vous un bon éditeur?[55] Постойте, я вам представлю Канта, моего издателя из Лейпцига, il pourra vous être utile, tenez!»[56] Он позвал Канта и представил его мне. Обед прошел оживленно и весело. Возле меня сидела по другую сторону придворная певица Анна Lankow, очень милая, бойкая и веселая; я ей передавал кушанья, и мы подливали друг другу вино. После обеда Лист пошел отдохнуть. Баронесса тоже исчезла. Мы еще поболтали малость и отправились гурьбою в собор. Я хотел, по немецкому обычаю, заплатить за обед; оказалось, что Лист уже заплатил за всех и не велел принимать ни от кого платы. В соборе я уже поместился не на взятом мною месте, а в листовской компании. Имя Листа не стояло на афише в ряду исполнителей. Когда я спросил его, кто же будет играть фортепианную партию, он замялся как-то и схитрил: «C’est... Naumann... bon pianiste!»[57] И это, разумеется, была неправда. Мы с А. и Г. отлично видели за фортепиано седую, типичную голову Листа. Марш Шопена и на этот раз он играл опять-таки по-новому, не так, как на репетиции; очевидно, то была новая импровизация. «Посмотрите! Вот так он всегда делает; никогда не скажет, что это он играет, чудак!» — сказала Т. После концерта, когда гроссгерцог, поговорив с Листом, уехал, публика бесцеремонно обступила Листа и рассматривала его без стыда, в том числе и мои юноши, которые как-то очутились у него под самым носом. В это время ко мне подбежал Гилле с приглашением отправиться после концерта к нему, где соберется вся листовская компания. И вот все мы гурьбою двинулись по направлению к дому Гилле, который живет относительно далеко от собора. Лист шел впереди, под руку с своею неизменною дамою; затем я под руку с Гилле; Лассен, артисты и весь штат учениц Листа. Густая толпа публики, несмотря на дождь, накрапывавший порядочно, провожала нас. Прохожие — солдаты, студенты, купцы, офицеры, дамы и проч.— при встрече с Листом останавливались и почтительно раскланивались. Мои юноши без зазрения совести шли чуть не рядом с Листом и продолжали его рассматривать. Подходя к дому Гилле, заслышали уже чад от жарящихся Bratwürstchen. «Wir sind schon da! Es richtet schon nach Bratwürstchen»[58], — загудели молодые ученицы, и вся толпа ввалилась гурьбой в сад Гилле, где действительно застилало дымом от колбас, которые жарились на открытом огне. Вход был убран цветами. Гилле в отчаянии размахивал руками: «Alles ist verloren! Wir kriegen Regen!»[59], а закуска была приготовлена в саду! Действительно, пошел дождь сильнее. Все поразбрелись по беседкам и перенесли туда столы. Я расположился с баронессою, которая много беседовала со мною. Она очень простая, умная, милая женщина. «Если вы хотите послушать Листа, — сказала она, — приходите всего лучше ко мне. Он иногда капризничает; Вы не можете заставить его играть, а я всегда сумею сделать это. Кроме таких-то и таких-то дней, я всегда дома. Venez quand vous voulez; vous serez toujours le bienvenu»[60]. Я, разумеется, поблагодарил за любезность и сказал, что непременно воспользуюсь приглашением.
Наконец Листу и его спутникам настала пора возвратиться в Веймар. Все направились на станцию железной дороги. Лист был сильно утомлен и вдобавок страдал, по-видимому, болью в желудке: катар желудка — его обычная болезнь. Он как-то вдруг осунулся. Баронесса, Лассен и Гилле уложили его в вагоне 1-го класса, и он заснул. Между тем произошли неожиданные курьезы: не хватило места для всей компании; хотели прицепить новый вагон. Опять вышла какая-то неурядица... Наконец оказалось, что где-то на дороге соскочил с рельса вагон и пришлось иенскому поезду простоять на станции около полутора часов. Компания, сильно умаявшаяся, приуныла сначала, потом все пошло по-старому: расселись пить пиво и прочее, болтали, смеялись. Лист спал в вагоне глубоким сном. Наконец поезд тронулся и мы распрощались.
Иена, 12 июля
1877 года
Я тебе писал раньше, что получил приглашение от баронессы М., которая хотела устроить так, чтобы я мог наслушаться Листа со всем комфортом. Вскоре я получил приглашение, через Гилле, быть у Листа в воскресенье на matinée. Затем узнал, что Лист в субботу едет в Берлин. Рассчитывая, что едва ли он может иметь matinée в воскресенье, когда только в субботу отправляется в Берлин, — я вместо воскресенья решил быть у Листа в понедельник, помня, что это у него свободный день. Вот в понедельник— с утренним же поездом я и покатил в Веймар. К Листу было еще рано, и я направился к m-lle Vera, которая еще в Иене взяла с меня обещание быть у ней. «Что же это вы не были вчера на matinée? — был первый вопрос ее. — А как вас ждали! Как Лист вас ждал! Он уверен был, что вы непременно будете! А как он хорошо играл вчера! И мы как хорошо играли!» Так мне сделалось досадно! Но делать нечего — не поправишь! Я просидел у m-lle Vera до 2 часов. Она мне много и хорошо играла: сыграла весь репертуар пьес, которые должна была играть в концерте в Киссингене в пятницу. От нее я узнал неожиданным образом, что урок Листа, то есть занятия с учениками, перенесены в виде исключения на понедельник. Ну, думаю, тем лучше, пойду к Листу в часы занятий его с учениками, посмотрю, как он занимается с ними. Нужно заметить, впрочем, что он никого не пускает к себе в часы занятий. Пообедав, я отправился с визитом к баронессе М. потому, что к Листу все еще было слишком рано.
«Ах, как жаль, что вы не были вчера у Листа на matinée, он очень ждал вас! Гилле известил нас, что вы непременно будете!»— были первые слова баронессы. Она женщина очень милая, простая, очень хорошо образованная и музыкальная. Говорили мы на этот раз о самых разнообразных вещах: о «Нови» Тургенева, о позитивизме, дарвинизме, Геккеле, философии Шопенгауэра, фортепианном переложении «Антара» Корсакова, которое лежало раскрытым на рояле, о Вагнере, о веймарских художниках... Проболтав с нею более часа и получив приглашение на вечерний чай — с Листом, я откланялся. Прихожу к Листу в 41/2 часа, и следуя советам М., велел доложить, что я такой-то, приехавший нарочно из Иены, к занятиям Листа с учениками. Без этого, по словам М., человек Листа, иногда от избытка усердия, категорически отказывается даже доложить Листу о приезде в подобные часы. Вхожу. Какой-то голландский пианист (Кунен) играет пьесу Таузига. Лист стоит около рояля. Человек 15 окружают рояль. «Ah, vous voilà enfin»[61], — закричал мне седой Meister. «Дайте же мне вашу руку! Что же это вы не были вчера? А Гилле уверил меня, что вы непременно будете». Мне было ужасно досадно. «Я показал бы вам, что еще недурно играю сонату Шопена с виолончелью и проч.» Далее он рекомендовал мне своих учеников: «Это все знаменитые пианисты, если не в настоящем, то в будущем, непременно». Толпа беззастенчиво расхохоталась. Я тут встретил почти всех тех, с которыми уже познакомился в Иене, в день концерта. «А мы совсем неожиданно перенести на сегодня». Все засмеялись опять. «Однако за дело, kleine m-elle Véra[62], которая со мною делает все, что хочет: захотела, чтобы урок был сегодня, — нечего делать, должен был перенесли урок на понедельник, — сказал Лист, — а всему виною господа! Г. N — сыграйте-ка нам!..» Прерванные занятия продолжались. Лист останавливал иногда учеников и учениц, садился сам, играл и показывал; делал разные замечания, большею частью полные юмора, остроумия и добродушия, вызывавшие обыкновенно добрый смех даже со стороны того, кому делал замечание. Он не сердился, не горячился; ученики не обижались. «Versuchen Sie es einmal à la Véra zu spielen»[63], — говорил он иногда, желая кого-либо заставить прибегнуть к мошеннической уловке, употребляемой Т., чтобы вывернуться из затруднения во всех случаях, где ее миниатюрные ручонки оказывались слишком маленькими. Он добродушно смеялся, когда попытка не удавалась. Если кто-нибудь говорил, что он не может сыграть того-то и того-то, Лист усаживал его все-таки за рояль, прибавляя: «Nun zeigen Sie uns, wie Sie das nicht können»[64]. Во всех своих замечаниях он был, при всей фамильярности, в высшей степени деликатен, мягок и щадил самолюбие учеников. Когда дошла очередь до Т., он заставил ее сыграть Es-dur’ную расподию, которую она приготовила к концерту в Киссингене. Сделав ей несколько мелких, но очень дельных замечаний, он сел за рояль и наиграл своими железными пальцами некоторые места. «Это должно быть торжественно, как триумфальное шествие!» — воскликнул Лист, вскочил со стула, подхватил Т. под руку и начал шагать величественно по комнате, напевая тему рапсодии. Все снова рассмеялись. Когда Т. сыграла с огнем, с соблюдением самых тонких оттенков, Лист обратился ко мне и сказал: «Das ist doch ein famoser Kerl, die kleine Véra»[65]. «Если Вы так же сыграете в концерте,— обратился он к Т., — то знайте — какие бы овации Вам ни выпали на долю, все это будет меньше того, чего вы стоите!» Слезы радости навернулись на раскрасневшемся лице девушки. За нею последовали опять другие ученики и ученицы... Замечу кстати, что между ним и его учениками отношения какие-то патриархальные; ужасно простые, фамильярные и сердечные, нисколько не напоминающие обыкновенные, формальные отношения учеников к профессору; это скорей отношения детей к отцу или внучат к дедушке. Ученицы, например, без всякой церемонии целуют иногда у него руку, и он к этому до того привык, как видно, что не находит тут ничего странного. Он их целует в лоб; треплет по щеке и по плечу; подчас ударит по плечу и довольно крепко, заставляя обратить внимание на что-либо. При всем добродушии в замечаниях его проскальзывает иногда некоторое ехидство. Особенно он, по-видимому, любит пройтись насчет Л.[66] «Ах, не играйте так! Играйте вот как! — показал он одной ученице. — Так только играют в Лейпциге, — прибавил он, — там пояснят вам, что это чрезмерная секста, и воображают, что этого довольно, а как ее сыграть — путем никогда не покажут!» Или: «В Лейпциге нашли бы, что это очень мило», — заметил он по поводу довольно бесцветно и дрянно выполненного места из шопеновского этюда. Нужно заметить, что Лист никому ничего не задает сам, а предоставляет каждому выбирать, что ему угодно. Впрочем, ученики всегда спрашивают предварительно: приготовить ли им такую-то или такую пьесу, потому что случается, что, когда начнут играть что-нибудь не нравящееся ему, он остановит без церемонии и скажет: «Бросьте, что вам за охота играть такую дребедень!» Собственно на технику, постановку пальцев и прочее он обращает ужасно мало внимания, а главным образом упирает на передачу выражения, экспрессию. Впрочем, за редкими исключениями, у него все ученики владеющие уже хорошо техникою, хотя учившиеся и играющие по разным системам. Собственно своей, личной манеры Лист никому не навязывал. Кстати об его игре: вопреки всему, что я часто слышал о ней, меня поразила крайняя простота, трезвость, строгость исполнения; полнейшее отсутствие вычурности, аффектации и всего бьющего только на внешний эффект. Темпы он берет умеренные, не гонит, не кипятится. Тем не менее энергии, страсти, увлечения, огня— у него бездна. Тон круглый, полный, сильный; ясность, богатство и разнообразие оттенков — изумительные.
Когда урок, продолжавшийся часа два с половиною, кончился, Т. стала просить Листа, чтобы он перенес следующий урок с пятницы на субботу, потому что ей неудобно приготовить что-нибудь по случаю концерта. — «Вот так она всегда со мной делает!— ткнул на нее пальцем Лист, обращаясь ко мне, — а я... ну как я ей откажу! Она всегда хочет быть права и заставляет меня сделать по-своему! Ну что же, господа? — обратился он к прочим ученикам. — Согласны ли вы будете отложить на субботу, а? — «Конечно, конечно», — затрещали все. — «Ну, так и будет! В субботу!» Вообще Лист, видимо, жалует ужасно Т. Когда она сыграла одну вещь (действительно великолепно), он воскликнул: «Браво! Этого из вас никто так не сыграет!» — обратился он к остальным ученикам. Всех учеников при мне играло 2; учениц 3. Когда ученики стали уходить, Лист провожал их в переднюю и помогал некоторым одеваться; ученицы многие, прощаясь, целовали руку, он их целовал в лоб. Когда все ушли, он долго еще смотрел им вслед и, обратившись ко мне, сказал: «А какой все это отличный народ, если бы вы знали!.. И сколько здесь жизни!..» «Да ведь жизнь-то эта в тебе сидит, милый ты человек!» — хотелось мне сказать ему. Он в эту минуту был очень хорош. Когда я взял шляпу, Лист сказал: «Куда же Вы?» Я пояснил, что иду в отель, а затем к баронессе М. «Прекрасно, значит мы увидимся скоро. До свидания!» Видимо, он порядочно устал.
Заняв комнатку в маленькой буржуазной гостинице Thüringer Hof, я отправился к М. Когда я вошел, Лист был уже у нее. Мы поболтали о разных разностях, вошел человек и доложил, что чай готов. Лист поднялся, предложил руку баронессе, и мы двинулись в столовую. Хозяйка представила мне своего сына, юношу лет 16, и мы вчетвером уселись за изящно сервированным столом, я по правую, Лист по левую руку баронессы; больше никого не было. Чай приготовляла сама хозяйка в спиртовом английском приборе. К чаю поданы были всевозможные закуски, вино и пиво. Лист за чаем был очень разговорчив, и мы с ним много болтали о музыке. После чая хозяйка повела нас в гостиную к роялю. Прежде всего она подсунула Листу одну из его рапсодий, прося показать, как играется то-то и то-то. Это была, без сомнения, очень прозрачная женская хитрость, которую раскусить, разумеется, было немудрено. Лист рассмеялся. «Вам хочется, чтоб я сыграл ее? Извольте; только прежде всего я хотел бы сыграть симфонию m-r с самим автором. Куда хотите: на primo или на secondo?» — обратился он ко мне. Я — разумеется, и руками и ногами! Наконец я уговорил сесть баронессу; она согласилась только на andante. Лист сел на secondo. Лист не удовольствовался, однако, этим. «Баронесса очень любезна, но мне все-таки хочется проиграть эту вещь именно с вами; не может быть, чтобы вы не могли играть ее; вы так хорошо аранжируете для фортепиано, что я не верю, чтобы вы совсем не играли. Садитесь!» Не говоря более ни слова, он взял меня за руку и усадил на secondo, а сам сел на primo. Я было опять на дыбы. «Allez, jouez donc! autrement Liszt vous en voudra; je le connais, moi»[67], — шепнула баронесса. Я хотел было начать andante, которое было раскрыто; но Лист перевернул ноты и мы начали финал, потом скерцо, потом первую часть — так и проиграли всю симфонию со всеми повторениями. Лист не давал мне останавливаться: по окончании одной части перевертывал ноты и говорил: «Allez toujours!»[68] Когда я врал, пропускал или не доигрывал, он мне замечал: «Зачем пропускать — это так хорошо!» «Ah! le cher compositeur, il’a si bien composé et il ne veut pas le jouer!» [69]
Когда кончили, он по нескольку раз проиграл еще одни отдельные места симфонии и по косточкам разобрал всю до мельчайших подробностей. Между прочим, он дал мне несколько мелких, но практических советов относительно аранжировки (плод очень внимательного отношения к симфонии), на случай если я буду издавать симфонию вторым изданием; где, например, написать октавой ниже и поставить над этим 8~ для удобства чтения. В различных местах у него были еще раньше сделаны карандашом всякие пометочки, NB, кое-где поставлены пропущенные в корректуре знаки — диезы, бемоли.
Когда мы кончили, он сказал: «Мы знаем мало вашей музыки, но зато, как видите, изучили вас весьма основательно». Потом он и баронесса стали настойчиво просить, чтобы я спел мои романсы и показал что-нибудь из оперы. От пения я решительно отклонился. «Ведь у Глинки тоже не было настоящего голоса, однако он пел свои вещи», — приставала баронесса. Чтобы отвязаться, я сыграл им один женский хорик, который обоим очень понравился. Наконец я в свою очередь стал просить, чтобы Лист что-нибудь сыграл. Они взяли с меня слово, что я еще приеду к ним в Веймар, покажу мою 2-ю симфонию и т. д. Лист приставал, нет ли у меня манускриптов, чтобы я показал ему. Порешили, что я приеду в субботу на урок к нему, а вечером к баронессе, переночую в Веймаре и буду в воскресенье на matinée. Лист сел за фортепиано и сыграл рапсодию свою и еще что-то, не помню чье. Играл, впрочем, не много: было уже поздно!
В 12 часов мы разошлись. Я проводил Листа (который плохо видит ночью) под руку до квартиры его, но он все-таки проводил еще меня до угла, чтобы направить на ближайшую дорогу к моему отелю.
Утром я уехал в Иену и в тот же день телеграфировал Б[есселю], чтобы он прислал Листу мою Вторую симфонию и некоторые романсы.
Иена 18 июля 1877 год
Я тебе писал, что Лист пригласил меня на субботу (14 июля) к себе, на занятия с учениками, затем на matinée в воскресенье; кроме того, баронесса просила меня на субботу вечером, к чаю. В пятницу я получил телеграмму от нее, где она напоминает мне, чтобы я завтра, то есть в субботу, непременно был у нее. Я поехал в субботу, по обыкновению, в 11 час. 52 мин. и, пообедав, направился прежде всего к Т. Каково же было мое удивление, когда Т. сообщила мне, что занятия учеников у Листа были вчера, то есть в пятницу вместо субботы. Оказалось, что концерт в Киссингене не состоялся. Т. не уехала и снова упросила Листа переменить субботу на пятницу. Meister, избаловавший вконец m-lle Verà, опять не мог отказать ей и перерешил. Посидев у Т., я отправился с ней к Листу. Поводом к тому, что мы отправились вместе, послужило, между прочим, одно обстоятельство: мне хотелось узнать, как играют у Листа «Исламея» Балакирева, и я просил Т. сыграть «Исламея», она сказала мне, что давно не играла его, а на своем, довольно тугом, новом рояле она не сыграет хорошо, а если бы мы пошли к Листу, то там она сыграет лучше, так как рояль у Листа слабее. Мы порядком-таки порасколотили там рояль, сказала Т. — «Вы только скажите Листу, что вам бы хотелось знать, как <я> играю „Исламея“, он сейчас же заставит меня сыграть при вас. Вот увидите!» — Так и вышло; только что я заикнулся об «Исламее», Лист сейчас же сказал: «Ma chère m-elle Vérà! Jouez-nous „l’Islamey“. Vous verrez comme elle le joue bien!»[70] — обратился он ко мне. Нужно заметить, что у Листа мы нашли еще ту самую пианистку Scheuer из Дюссельдорфа (с которой я ел вишни на крыльце в Иене, после концерта) и еще очень хорошего пианиста Луттера. Scheuer доигрывала последнюю часть концерта Грига, а Луттер на другом инструменте (пианино) изображал оркестр. Это была репетиция; концерт предполагалось играть завтра на matinée. Кончив его, они тотчас же и ушли. Мы с Т. остались одни у Листа. Она прекрасно сыграла «Исламея», хотя в темпе несколько более медленном, чем играл его Н. Г. Рубинштейн. Что за сила! Что за механизм!.. Затем мы болтали с Листом о музыке, об операх [А.] Рубинштейна, которые лежали у него на рояле. Потом он уселся за рояль, желая показать кое-какие места в этих операх. Сыграл увертюру к «Нерону», танцы и еще кое-что; затем я сказал ему, что танцы в «Демона» лучше. «Дайте-ка сюда ,,Демона“! — сказал Лист, — я не знаю этих танцев». Я дал «Демона», отыскал танцы, и он проиграл их все. Потом показывал еще кое-какие вещицы, частями. Мне это напомнило совсем балакиревские вечера. Лист сидел за роялем; я — по правую руку, переворачивал ноты, а Т. по левую его руку. И как это приятно было слушать Листа совсем уже по-домашнему! Играл он тоже à la Balakireff, дополняя в аранжементе то басы, то средние ноты, то верхи. Мало-помалу из этих импровизированных дополнений начала вырастать одна из тех превосходных транскрипций Листа, где так часто переложение фортепианное бывает неизмеримо выше самой музыки, составляющей предмет переложения. Лист импровизировал довольно долго. Когда он кончил, мы с Т. собрались уходить.
Лист удержал меня: «Ах да! Ведь мы сегодня увидимся еще у баронессы, не правда ли? Прежде чем идти к ней, зайдите ко мне, мы пойдем туда вместе. Ко мне придет еще Зарембский (один из самых видных учеников Листа). Мне хотелось бы еще при вас проиграть с ним вашу симфонию, прежде чем играть ее сегодня вечером, потому что»... Тут я не расслушал путем, что он сказал далее (Т. перебила каким-то вопросом). Я сказал, что зайду, и мы ушли. На дороге я спросил Т., что такое сказал Лист, когда мы уходили. — «Что ему хотелось пройти с Зарембским вашу симфонию при вас, прежде чем играть ее сегодня перед гроссгерцогом». — «Каким гроссгерцогом?» «Да ведь мы сегодня будем у баронессы М. с Листом?» — переспросил я Т.— «Ну да, разве вы не знаете, что сегодня великий герцог хотел быть у баронессы именно с тем, чтобы познакомиться с вами, лично. Лист ему об вас так много говорил, что гроссгерцог, узнав о вашем приезде в Веймар, просил Листа, чтобы он непременно познакомил его с вами: вот они и условились сегодня быть у баронессы М. Разве вы не слыхали? Затем-то она и телеграфировала вам, чтобы вы непременно были»...
Так и порешили. Около 8 часов я зашел к Листу. Зарембский был уже там, во фраке, белом галстуке, белых перчатках. Он с Листом проиграл мою симфонию: Лист в secondo, а Зарембский в primo. Сыграли черт знает как хорошо! Особенно скерцо — сущий огонь! Множество мелочей, которые у нас обыкновенно пропадают, выступали здесь ужасно рельефно. ... Мы ... отправились втроем к М. Она была еще одна и очень любезно встретила нас. Я разыграл комедию извинения, и все произошло, разумеется, так, как говорила T. «Vous êtes en voyage; du reste nous sommes ici à la campagne»[71], — засмеялась хозяйка. Минут через 10 раздался звонок. Баронесса, я и Лист встали: вошел гроссгерцог. Это был высокий, немолодой уже мужчина, в черном сюртуке, в белом жилете, светло-сиреневых перчатках и с цилиндром в левой руке. Баронесса представила ему меня. Он подал мне руку И сразу выгрузил целый запас любезностей, говоря, что он глубоко уважает весь наш музыкальный кружок, весьма любит нашу музыку, крайне интересуется нашей деятельностью, что до сих пор ему лично удалось только узнать одного Кюи (которого он называет «М-г Coui») и то мельком, в Байрейте, что он ужасно рад случаю познакомиться со мною и прочее и прочее. Я, разумеется, благодарил его. Затем все пошли в гостиную, где стоял рояль. С гроссгерцогом приехал какой-то excellenz [72] и какая-то придворная дама, которая весь вечер, даже за чаем и ужином, оставалась в перчатках и в шляпе (этикет это, что ли?). Начали с моей симфонии. Я стоял около рояля и ворочал страницы. Гроссгерцог сидел немного дальше у рояля, внимательно и серьезно слушал (переглядываясь с Листом), который так и кис от удовольствия при разных оригинальных и пикантных местах, перекидываясь торжествующими взглядами то со мною, то с гроссгерцогом, улыбаясь, кивая одобрительно головою и т. д. Когда кончили, гроссгерцог подошел ко мне, рассыпался в любезностях и даже распространился насчет разных деталей.
Затем гроссгерцог пожелал, чтобы я непременно поиграл ему еще что-нибудь из моей оперы. Нечего было делать: я сел и по требованию баронессы и Листа сыграл два хоровых нумера, хотя гроссгерцог и Лист хотели, чтоб я сыграл еще танцы. Лист и гроссгерцог расспрашивали меня много о частностях исполнения сценического, об оркестровке — словом, выразили большой интерес и жалели, что не могу произвести им вокальных нумеров. После этого, поблагодарив меня, гроссгерцог встал, подал руку баронессе; Лист подал свою придворной даме, и все отправились в столовую — к чайному столу. Возле баронессы по правую руку сел гроссгерцог, по левую Лист, по правую руку гроссгерцога — я; возле Листа — придворная дама; подле меня по правую руку exeellenz, возле него сын баронессы и Зарембский. Гроссгерцог все время разговаривал главным образом со мною, затем с хозяйкой дома. Он, видимо, старался показать мне свое знакомство с русскою музыкою и литературою, говорил без умолку, очень просто и очень любезно. После чая, тем же порядком, все перешли в гостиную. Зарембский превосходно сыграл фантазию своего сочинения, очень интересную и эффектную, a la Liszt. Затем гроссгерцог встал, сказав ему и Листу несколько любезностей, еще раз поблагодарив меня и наговорив кучу приятностей, в заключение протянул руку и сказал по-русски: «Прощайте, до сфи-да-ния», отчеканивая каждый слог. За ним вслед откланялся excellenz. После их ухода Зарембский еще превосходно сыграл фантазию на «Rheintöchter»[73] Иосифа Рубинштейна, очень блестящую и трудную. После этого мы двинулись домой: было 12 часов. Баронесса просила, чтобы я перед отъездом непременно побывал у нее. Проводив Листа до дому (он живет в двух шагах от баронессы), мы с Зарембским пошли домой.
На другой день я встал рано и пошел гулять... Ровнехонько в 11 был уже у Листа.
Многие, в том числе и баронесса, были уже там. Вскоре приехал и гроссгерцог. Он встретил меня уже как знакомого, спросил, как я провел ночь, где остановился в Веймаре и прочее.
Помещение Листа небольшое, и состоит всего из трех комнат, и то небольших. Поэтому в гостиной, где рояль и пианино, поместились только дамы и гроссгерцог. Мужчины оставались в соседней комнате. Тем не менее Лист, увидев меня, взял за руку и через спальню увлек в гостиную. «Vous serez mieux la bas!»[74] — сказал он. Начались занятия. Публики было так много, что не хватило стульев для всех. Мужчины большею частью стояли. Дамы сидели в шляпках, с зонтиками в руках. Мужчины бомондные, в том числе и гроссгерцог, были в черных сюртуках, со шляпою в руке и маленькою тросточкою, которую не выпускали из рук. Те и другие в перчатках. Не бомондные, как и аз многогрешный, были в самых разнообразных костюмах, пиджаках и прочее. Дамы, за исключением русских, то есть баронессы и Т., одеты были большею частью крайне безвкусно и нелепо, хотя многие очень щеголевато. Играли все ученики и ученицы Листа. Пели две барыни, довольно дрянно; аккомпанировал Лист. Аккомпанирует он превосходно. Matinée кончилось в 1 час. Пианисты и пианистки были, большею частию, очень сильные, хотя очень разнообразные. Т. занимала, разумеется, одно из самых видных мест на matinée. Она прелестно и с шиком сыграла две мазурки Шопена (из малоизвестных), которые приготовила к концерту в Киссингене. Scheuer, дилетантка из Дюссельдорфа, исполнила чистенько свой концерт Грига, причем Луттер изображал на пианино оркестр; Реннебаум (из Нюрнберга), пианистка, не обладающая очень сильною техникою, хорошо сыграла «Cloches de Geneve» и «Lorelei»[75] Листа; Луттер прекрасно исполнил «Dance macabre»[76] Сен-Санса в переложении Листа; Aus der Ohe очень юная, но сильная пианистка, с изумительно длинными ручными кистями и пальцами — бравурно сыграла трудную фантазию на «Дон-Жуана» Листа. Зарембский — также прелестно выполнил Rheintöchter Иосифа Рубинштейна, как и накануне. Вокальные нумера были: 2 дуэта Раффа и «На северном голом утесе» Листа. Репертуар, как видно, состоял главным образом из пьес новой фортепианной школы.
После matinée гроссгерцог снова подошел ко мне и, сказав, несколько любезностей, распростился со мною. Лист проводил всех гостей вниз, в сад, прощаясь с ними. Мы с Т. и 3[аремб-ский] отправились обедать в Hôtel de Russie. Оттуда я прошел к Т., где и пробыл до 41/2. Затем мы пошли снова к Листу, так как он обещал мне дать свою фотографию. Лист только что встал (я писал, что он до этого часа отдыхает после обеда). Мы поболтали немного. Лист выложил мне на выбор целый ворох разных cártes-portraits[77], кабинетных портретов и прочее. Хотя там были и большие, но я их не взял, потому что они, по-моему, менее похожи на него; по крайней мере, я таким Листа не видал. Поэтому я предпочел взять маленький кабинетный портрет, поразительно похожий на него.
Когда я выбрал, Лист сделал на обороте очень милую надпись4. Кроме того, он подарил мне на память еще рукописный набросок одного варианта для конца своей «Divina Comedia»[78] с чрезвычайно красивыми, смелыми и оригинальными гармониями. Поблагодарив его за то и другое и распростившись с ним, я уехал обратно в Иену с тем, чтобы оттуда уже отправиться в Марбург и т. д.
21 июля в субботу, расставшись с моими будущими докторами философии, которые остались в Иене, я отправился в Марбург. Путь лежал через Веймар, и я не утерпел, остановился на сутки в этом городе, моем Венусберге, где роль Венеры играл седой Лист. Вспомнилось мне, что в этот день у Листа последний урок, завтра последняя matinée, после которой Maestro уедет в Рим, и весь кружок его разъезжается в разные стороны.
Идти к Листу было еще рано, и я отправился к баронессе М. Она сообщила мне, что в четверг Лист получил от Бесселя мои романсы и Вторую симфонию, вчера играл ее с баронессою в четыре руки, остался ужасно доволен и назначил играть ее завтра на matinée, куда хотел приехать и гроссгерцог. При этом она пригласила меня на вечерний чай, прибавив, что, кроме меня и Листа, никого не будет, с тем чтобы на досуге просмотреть втроем мои романсы. От нее я пошел к Листу на урок. Когда я вошел, Meister стоял у рояля и что-то толковал столпившимся около него ученикам. Увидав меня, он закричал: «Ah! Soyez le bienvenu, mon cher M-r[79]; a мы вчера играли вашу Вторую симфонию», и при этом высказал свое одобрение в самых веских выражениях. Урок прошел как обыкновенно, с тою разницею, что Лист сыграл à livre-ouvert[80] фуги Римского-Корсакова и вместе с остальными фортепианными вещами последнего, только что полученными, роздал их для разучивания ученикам своим. Нечего и говорить, что фуги были сыграны превосходно, свободно, вступления тем в новых голосах оттенялись с изумительною рельефностью. Урок кончился. Лист удержал меня: пришел Зарембский, с которым Лист хотел пройти Вторую симфонию к завтрашней matinée. Неугомонный Meister опять деспотически засадил меня за фортепиано с Зарембским, а сам слушал; когда дело дошло до andante и финала, он сказал: «Andante, vous le jouerez et puis je vous remplacerai; je ferai le final mieux que vous, n’est ce pas?»[81] — засмеялся Лист. Перед вступлением к финалу я встал. Лист сел на мое место и бойко, с огнем, с энергией и увлечением сыграл финал. После этого он перебрал мою симфонию по косточкам, останавливаясь с большим вниманием на различных подробностях гармонизации, голосоведения, формы и проч., которые он находил наиболее оригинальными, и я имел новый случай убедиться, с каким горячим интересом он относится к музыкальному делу вообще и к русскому в частности. Трудно представить себе, насколько этот маститый старик молод духом, глубоко и широко смотрит на искусство; насколько в оценке художественных требований он опередил не только большую часть своих сверстников, но и людей молодого поколения; насколько он жаден и чуток ко всему новому, свежему, жизненному, враг всего условного, ходячего, рутинного; чужд предубеждений, предрассудков и традиций — национальных, консерваторских и всяких иных.
Тем дороже мне было встретить его теплое сочувствие и слово одобрения, выраженное не в форме светской любезности или общих мест, но в виде простых, ясных, всегда мотивированных выводов из анализа вещи.
(От души жалею на этот раз, что поводом к беседе с ним служила именно моя вещь; это лишает меня возможности привести здесь его подлинные, характерные и пластические выражения 5.)
Вечером у баронессы М. таким же образом мы перебрали большую часть моих романсов. Лист заставил меня петь и объяснять ему текст, а сам аккомпанировал, анатомируя затем гармонию и даже декламацию. По поводу одного уже чересчур смело гармонизованного романса, который именно более других понравился баронессе, — Лист воскликнул: «Bah! ici Vous aurez la critique sûrement contre Vous; c’est un peu trop poivré!» — «C’est du paprika?»[82] — засмеялся я. «Non c’est du Cayenne!»[83] — рассмеялся Лист. Потом они толковали все с баронессой о том, кто бы у них мог спеть мои романсы, и просили меня перевести текст на немецкий язык. В заключение, разговаривая со мною о Дрезеке, Лист попросил баронессу сыграть одну из частей сонаты этого автора, а затем сел за рояль и сыграл остальные, обращая мое внимание на различные подробности оригинальной и красивой гармонизации.
На другой день, на matinée кроме множества фортепианной музыки появился еще отличный скрипач, француз Soret, который приехал в Веймар с тем, чтобы потом начать с Т. концертное путешествие по Германии и Австрии.
Когда очередь дошла до моей симфонии, то Лист, садясь с Зарембским за рояль, отыскал меня глазами в толпе и добродушно крикнул на всю комнату: «Ну уж вы простите, если я кое-где совру; я плохо вижу». Действительно, Лист даже и при помощи pince-nez плохо видит, и когда не знает вещи наизусть, то иногда ошибается в знаках; если это происходит не перед публикою, то он обыкновенно при этом сердится и с досадой схватит красный карандаш и тут же поставит чудовищной величины бемоль, диез или бекар. Эта matinée была последнею и продолжалась очень долго. Лист, по-видимому, был чем-то озабочен и несколько рассеян; оказалось, что в этот вечер должна была приехать в Веймар дочь его — Козима, с Вагнером, для того чтобы дня через два уехать вместе с Листом.
Распростившись с милым Maestro, я отправился сначала обедать в компании с Soret, Т. и 3., а потом к 3., который хотел мне показать свою крайне талантливую фантазию для фортепиано с оркестром и потолковать об оркестровке. Нужно заметить, что во время моих экскурсий в Веймар мне часто приходилось сходиться со многими Listianer и Listianerinen, так там называют листовскую молодежь. Все это большей частью народ простой, радушный, откровенный и подчас болтливый. От них я без всякой инициативы с моей стороны скоро узнал всю подноготную о Meister’e и его кружке. Узнал, например, что Лист вообще неохотно принимает новых учеников и к нему попасть нелегко; для этого необходимо, чтобы он или сам сильно заинтересовался личностью, или за нее ходатайствовали люди, которых Лист особенно уважает. Но раз допустивши кого-либо, он редко удерживается в тесных рамках исключительно преподавательских отношений и скоро начинает принимать близко к сердцу частную жизнь своих учеников; входит иногда в самые интимные интересы и нужды их как материальные, так и нравственные; радуется, волнуется, скорбит, а подчас не на шутку будирует по поводу их домашних и даже сердечных дел. И во все это он вносит столько теплоты, нежности, мягкости, человечности, простоты и добродушия! На моих глазах было несколько примеров подобных: отношений, которые заставляют высоко ценить Листа как человека. Как видно, ни годы, ни долгая лихорадочная деятельность, ни богатая страстями и впечатлениями артистическая и личная жизнь — не могли истощить громадного запаса жизненной энергии, которою наделена эта могучая натура.
Все это взятое вместе легко объясняет то прочное обаяние, которое Лист до сих пор производит не только на окружающую его молодежь, но и на всякого непредубежденного человека. По крайней мере, полное отсутствие всего узкого, стадового, цехового, ремесленного, буржуазного, как в артисте, так и в человеке — сказывается в нем сразу.
Но зато и антипатии, которые Лист возбуждает в людях иного закала, не слабее внушаемых им симпатий. По крайней мере, мне случалось встречать и у нас и в Германии немало людей, вовсе не музыкальных, путем даже не знающих, кто такой и что такое Лист, но которые чуть не с пеной у рта произносят это имя и с особенным злорадством пересказывают про него разные небылицы, которым подчас сами не верят.
Это было мое последнее свидание с Листом. Покидая Веймар— мой Венусберг, я, однако, не сразу оторвался от моей седой Венеры (разумей — Листа). Я попал в Марбург. Здесь жила, умерла и похоронена св. Елизавета, поэтический образ которой вдохновил великого Maestro. На месте, где она была похоронена, стоит один из самых изящных готических соборов. Видал я его и прежде, но тогда он говорил мне только об одной Елизавете. На этот раз с воспоминанием о ней связывалось воспоминание и о художнике, воспевшем ее. Женственный, светлый образ Елизаветы сливался для меня с величавою фигурой седого мастера. Да и немудрено. В них есть много общего: оба случайно родом из Венгрии, занесены судьбою к немцам, стали достоянием католической церкви, но во всем, что в них есть симпатичного, не видно ничего ни венгерского, ни немецкого, ни католического, а только одно общечеловеческое.
1881. ВОСПОМИНАНИЯ О М. П. МУСОРГСКОМ
Первая встреча моя с Модестом Петровичем была в 1856 году (кажется, осенью, в сентябре или октябре). Я был свежеиспеченным военным медиком и состоял ординатором при 2-м сухопутном госпитале; Модест Петрович был офицером Преображенского полка, только что вылупившимся из яйца. Первая встреча наша была в госпитале, в дежурной комнате. Я был дежурным врачом, он дежурным офицером. Комната была общая; скучно было на дежурстве обоим. Экспансивны мы были оба; понятно, что мы разговорились и очень скоро сошлись. Вечером того же дня мы были оба приглашены на вечер к главному доктору госпиталя — Попову, у которого имелась взрослая дочь, ради которой часто давались вечера, на которые обязательно приглашались дежурные врачи и офицеры. Это была любезность главного доктора. Мусоргский был в то время совсем мальчонком, очень изящным, точно нарисованным офицериком; мундирчик с иголочки, в обтяжку; ножки вывороченные, волосы приглажены, припомажены, ногти точно выточенные, руки выхоленные, совсем барские. Манеры изящные, аристократические; разговор такой же, немножко сквозь зубы, пересыпанный французскими фразами, несколько вычурными. Некоторый оттенок фатоватости, но очень умеренной. Вежливость и благовоспитанность — необычайное. Дамы ухаживали за ним. Он сидел за фортепианами и, вскидывая кокетливо ручками, играл весьма сладко, грациозно и проч. отрывки из «Trovatore», «Traviata»[84] и т. д., и кругом его жужжали хором: «Charmant, délicieux»! [85] и проч. При такой обстановке я встречал Модеста Петровича раза 3 или 4 у Попова и на дежурстве, и в госпитале. Вслед за тем я долго не встречался с Модестом Петровичем, так как Попов вышел, вечера прекратились; я перестал дежурить в госпитале, состоя ассистентом при кафедре химии.
Вторая встреча была осенью в 1859 году, у бывшего адъюнкт-профессора Академии и доктора в Артиллерийском училище С. А. Ивановского. Мусоргский был уже в отставке. Он порядочно уже возмужал, начал полнеть, офицерского пошиба уже не было. Изящество в одежде, в манерах и проч. были те же, но оттенка фатовства уже не было, ни малейшего. Нас представили друг другу: мы, впрочем, сразу узнали один другого и вспомнили первое знакомство у Попова. Мусоргский объявил, что он вышел в отставку, потому что «специально занимается музыкой, а соединить военную службу с искусством—дело мудреное» и т. д. Разговор невольно перешел на музыку. Я был еще ярым мендельсонистом, в то же время Шумана не знал почти вовсе — Мусоргский был уже знаком с Балакиревым, понюхал всяких новшеств музыкальных, о которых я не имел и понятия. Ивановские, видя, что мы нашли общую почву для разговора — музыку, предложили нам сыграть в четыре руки. Нам предложили а-мольную симфонию Мендельсона. Модест Петрович немножко сморщился и сказал, что очень рад, только чтобы его «уволили от andante, которое совсем не симфоническое, а одна из ,,Lieder ohne Worte“[86], переложенная на оркестр, или что-то вроде этого». Мы сыграли первую часть и скерцо. После этого Мусоргский начал с восторгом говорить о симфониях Шумана, которых я тогда еще не знал вовсе. Начал наигрывать мне кусочки из Es-дурной симфонии Шумана; дойдя до средней части, он бросил, сказав: «ну, теперь начинается музыкальная математика». Все это мне было ново, понравилось. Видя, что я интересуюсь очень, он еще кое-что поиграл мне новое для меня. Между прочим я узнал, что он пишет сам музыку. Я заинтересовался, разумеется, и он мне начал наигрывать какое-то свое скерцо (чуть ли не B-dur’Hoe); дойдя до Trio, он процедил сквозь зубы: «Ну, это восточное!», и я был ужасно изумлен небывалыми, новыми для меня элементами музыки. Не скажу, чтобы они мне даже особенно понравились сразу; они скорее как-то озадачили меня новизною. Вслушавшись немного, я начал гутировать понемногу. Признаюсь, заявление его, что он хочет посвятить себя серьезно музыке, сначала было встречено мною с недоверием и показалось маленьким хвастовством; внутренно я подсмеивался немножко над этим, но, познакомившись с его «Скерцо», я призадумался: «Верить или не верить?»
Вскоре я уехал за границу, откуда воротился в 1862 году осенью. Тут я познакомился с Балакиревым, и третья встреча моя с Мусоргским была у Балакирева, когда тот жил еще в Офицерской, в доме Хилькевича. Мы снова узнали друг друга сразу, вспомнили обе первые встречи. Мусоргский тут уже сильно вырос музыкально. Балакирев хотел меня познакомить с музыкою его кружка и прежде всего с симфонией «отсутствующего» (это был Н. А. Римский-Корсаков). Тут Мусоргский сел с Балакиревым за фортепиано (Мусоргский на primo, Балакирев на secondo). Игра была уже совсем не та, что в первые две встречи. Я был поражен — блеском, осмысленностью, энергией исполнения и красотою вещи. Они сыграли финал симфонии. Тут Мусоргский узнал, что и я имею кое-какие поползновения писать музыку, стал просить, чтобы я показал что-нибудь. Мне было ужасно совестно, и я наотрез отказался. Вскоре мы сошлись с Модестом Петровичем ближе. Впоследствии он посвятил мне «Intermezzo» и привез изящно переплетенную и написанную рукопись, затем посвятил мне «Козла» («Светскую сказочку»), а потом жене моей «Сиротку», которую принес как «маленькое утешение больной женщине»...
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛИСТИАДЫ
9 июня (28 мая) я приехал из Берлина в Магдебург к 10 ч. 50 м. Мне посоветовал один господин, с которым я ехал, остановиться в «Kaiserhof», лучшей гостинице и наиболее близкой к Johanneskirche, в которой должен был происходить первый концерт. Я взял динстмана[87], чтобы перенести вещи, и мы отправились пешком. Тут динстман вдруг ни с того ни с сего говорит: «А у нас-то вчера какое торжество было!» — «Какое?» — «Как какое? А высокого гостя, старика Листа, встречали! Неужели не слыхали? Как же! Народу-то что собралось! Молодежь, дамы, офицерство! Толпа такая! Как только мейстер подъехал, его встретили такими ,,Hoch!“, точно принца; мужчины махали шляпами, а дамы платками, чуть не подолами махали, право!» — картинно описывал динстман. (Впоследствии я узнал от Gille, что, действительно, огромная толпа собралась на дебаркадере железной дороги к 81/2 часам и Лист был встречен при выходе из вагона самыми восторженными «Hoch!», какие выпадают на долю разве коронованным особам. С такими же криками Листа проводили с дебаркадера.) По приезде в отель Лист получил другую овацию: полковые музыканты местных войск собрались у отеля под окнами Листа и дали ему серенаду. Отмечу еще одну черту внимания к старому мейстеру: в отеле, где остановился Лист, обыкновенно обедало офицерство и для этого пользовалось лучшим помещением; узнав о приезде Листа, офицеры перешли обедать в общую столовую, прося предоставить занимаемое ими помещение Листу, как самое лучшее во всем отеле. Об этой деликатной выходке офицерства мы узнали уже по отъезде Листа из Магдебурга.
Узнав от динстмана, что Лист уже приехал, я спросил, где он остановился. «В отеле Кох (Koch’s Hôtel)». — «А где этот отель?»—«Да вот!» — «Тащи туда мои вещи!» Отель был как раз через дорогу, против дебаркадера. Лист занимал № 1 в бельэтаже. Я занял свободный № 34, этажом выше. Бросив свои вещи, я взял карточку, спустился вниз и прямо наткнулся на Спиридона, черногорца-камердинера Листа. Он сейчас же узнал меня, осыпал приветствиями на итальянском языке и распахнул передо мною двери. Я без доклада вошел в большую комнату, где посредине стоял большой рояль Блютнера и на нем мне прежде всего бросились в глаза: «Антар» в 4 руки и знакомое: «Тати-тати», 2-е издание «Парафраз»1. Лист стоял у окна и благодарил трех дам, поднесших ему букеты живых цветов. На столе стояло уже несколько ваз с живыми цветами, и Лист пристраивал новые букеты. Один из них он предложил поставить в вазу младшей из дам; кроме того, ей же поднес, в свою очередь, один из букетов. Увидав меня, Лист протянул мне обе руки и воскликнул: «Ah! cher m-г Borodine, soyez le bienvenu! Je suis fort content de vous voir! Depuis quand êtes vous arrivez? Vous dinercz aujord’hui avec moi! n’est ce pas? Où logez-vous?»[88] — и проч. Железными пальцами своими он, как в тисках, сжал мои руки. Дамы переминались и, видимо, уходили. Лист распрощался с ними, рассыпаясь снова в любезностях и благодарности. Я хотел уйти, тем более что Лист сказал мне, что в 11 часов репетиция концерта и что он ожидает представителей города. Но Лист удержал меня и просил остаться, пока он оденется, и поболтать с ним. «Есть у вас программа? Вот вам!» — дал Лист мне книжечку в красной обертке. «Вы смотрите, что у меня тут на пюпитре?» — указал Лист на раскрытый клавираусцуг на рояле. «Полюбуйтесь! Вот этак у нас пишут. Посмотрите-ка: ну, что это такое?» — Лист раскрыл начало и взял на фортепиано первые аккорды лежавшей на пюпитре оратории Николаи. «Das ist „Во-ni-fa-ci-us“! C’est la „Bo-ni-fa-ci-us!“»[89] Ну, разве это не самая пошлая мендельсоновщина! И вот этакою-то музыкою нас постоянно угощают здесь в Германии! Вот погодите, вы еще все это сегодня услышите! Сами увидите, что это за музыка! Нет, нам нужно вас, русских, вы мне нужны, я без вас не могу — vous autres Russes![90] — засмеялся Лист. — У вас живая, жизненная струя; у вас будущность, а здесь кругом большею частию мертвечина. Что поделывают ваши? Я читал книгу Кюи и очень доволен2. Что m-r Rimsky? Que fait M. Balakireff? Savez-vous, il y a un de vos jeunes compatriotes, qui ne fait pas mal „l’Islamé“, de B. Vous allez voir!»[91] — и т. д. Камердинер Листа, неизменный черногорец Спиридон (или Спиридион, как его зовут немцы) Лазаревич Кнежевич, живущий уже 7 лет у Листа, всячески знаками торопил Листа бриться и одеваться. Неугомонный старик не сдавался и продолжал болтать, закидывая меня вопросами. Я порывался снова уйти, но Лист опять удерживал: «Mais, allons donc, restez chez moi, je suis enchanté de vous voir ici a Magdebourg; je regrètte beaucoup de ne vous avoir pas rencontré à Bade. Ah! Votre symphonie a eu un succès immense! Vous aviez dû l’entendre à Bade, vous en resticz content. Il faut fair ces choses-là chez nous en Allemagne; ça donne du choc-allez! Eh bien, restez donc, placez vous ici»[92], — сказал Лист, заметив, что я собирался уйти. «Vous n’avez pas vu ce programme? Lisez le!»[93] Старый мейстер, после усиленных напоминаний своего черногорца, направился в соседнюю комнату, спальню. Черногорец усадил неугомонного старика в кресло и собирался брить. Лист через двери продолжал закидывать меня разными вопросами. «Mais! du restes... venez donc ici; je ne ferai pas la demoiselle; vous me permettrai de faire ma toilette devant vous, cher M-r Borodine; du reste elle ne sera pas longue»[94]. Я вошел в спальню. Лист сидел в кресле, черногорец подвязывал ему какую-то салфеточку, вроде тех, что подвязывают маленьким детям, чтобы они не заливали рубашечки, когда их кормят. Налево от дверей стоял маленький столик, на котором лежали в беспорядке ноты, рукописные, видимо, в периоде сочинения. Я невольно нагнулся посмотреть; это была партитура и рядом с нею фортепианное переложение; оба писаны рукою Листа, перемаранные, перечеркнутые, с разными пометками. «Знаете, что это такое?—спросил Лист, не дожидаясь моего вопроса. — Cella vous amusera![95] делаю второй Mephisto-Walzer; так вдруг пришла охота! C’est tout récent![96] Теперь я занят фортепианным переложением. Хотите взглянуть? Возьмите партитуру, посмотрите. Не это! не это!» — воскликнул Лист. «C’est une mauvaise copie, qui ne vaut rien![97] Возьмите вот эту»... Но прежде чем я успел взять другую, седой Maestro не вытерпел, вскочил из-под бритвы черногорца и, как был, с намыленными щеками и подбородком, начал рыться в нотах, вытащил другую партитуру. «C’est ça![98] Вот вам, просмотрите»; но просматривать мне было невозможно, так как Лист продолжал болтать без умолку. Расспрашивал меня, что я привез рукописного с собой? Когда наконец издадутся мои симфонии? Не исполнялось ли чего нового из моих вещей у нас? Когда я благодарил его за любезное участие в «Парафразах» наших, он засмеялся и сказал: «Я их ужасно люблю! C’est trés ingénieux![99] Они у меня постоянно в ходу». Я заметил, что мне особенно приятно и лестно, что он сделал род интродукции именно моей польки, только жаль, что Ратер издал это без моего ведома, что необходимо было в таком случае вычеркнуть мои вступительные такты. «Ай, нет! Этого отнюдь нельзя делать; они необходимы, их следует сохранить непременно; я так и подогнал конец моего вступления, чтобы он приходился к вашим вступительным тактам. Нет, пожалуйста, не вычеркивайте их»... Узнав о моей «Средней Азии» и квартете, он спросил, где они будут издаваться. Узнав, что у Ратера, Лист вдруг воскликнул: «Ah! il n’est pas mal, ce m-r Rahter, il m’a envoyé „les Paraphrases“ et en même temps il daigné d’y ajouter ,,la Chaconne“ de Bach, arrangée par mon ami le comte de Zichy, — vous l’avez sûrement aussi. Il a été gentil d’avoir fait une édition sans même demander la permission. Hein?»[100]
Когда я сказал, что очень рад случаю слышать «Dance macabre», которая, по моему мнению, самая сильная вещь из всего репертуара для фортепиано с оркестром — по новизне идеи и формы, красоте, глубине и силе темы, оригинальности инструментовки, глубоко религиозному и мистическому настроению, яркому средневековому церковному колориту, — Лист оживился еще более. «Да! Вот видите, вам, русским, такая вещь нравится, а вот, подите, здесь ее не гутируют. Ее давали в Германии раз пять или шесть, и, несмотря на прекрасное исполнение, она каждый раз проваливалась самым положительным образом. Я сколько раз просил Риделя пустить ее на программы концертов Общества, но он все побаивался — не решался. И нынче, на первой репетиции оркестр был ужасно озадачен этою вещью и только впоследствии немножко попривык к ней. Если вы ее любите, то на этот раз останетесь довольны: Марта Ремерт, — вы ее знаете? Нет? Это молодая, но сильная пианистка — Марта Ремерт, говорю я, прекрасно играет эту вещь. Вот, сами послушаете— увидите, что я правду сказал». Насчет предстоявшей исполняться «Krönungsmesse»[101] Лист вдруг начал как-то пренебрежительно шамкать себе под нос: «Да, ну конечно... тут и Krönung и Messe... нужно было... нужен и König и Gott[102]. Ну, я и хотел было дать 1-й нумер, где и то и другое, и достаточно было бы... ну, а тут хотели всю непременно, ну и будет немножко длинно». По поводу «Антара» Лист сказал, что на первых репетициях музыкантам многое показалось смутным, ну а потом, когда на следующих репетициях поразобрались немножко, то прежде всего вошли во вкус мастерской инструментовки, оценили ее по достоинству и тогда играли с большим интересом. «Вы знаете, у нас в Германии ведь туговато, не вдруг понимают музыку. Вот поэтому-то и необходимо давать такие вещи, как „Антар“ de mr. Rimsky, и в возможно хорошем исполнении»...
Пока мы болтали, туалет его был кончен и как раз вовремя: не успел Спиридон Лазаревич подвязать мейстеру какую-то католическую салфеточку, черную с белыми каемочками, и натянуть долгополый черный сюртук, как доложили о прибытии ожидаемых посетителей. На пороге появился один из представителей города Магдебурга, исправляющий должность воинского начальника,— свитский майор Ф. Клейн, в прусской артиллерийской форме, с бархатным черным воротником с красными кантами, серебряными погонами из жгутов, разбегающимися кверху двумя рядами гладких, плоских, золотых пуговиц, в туго натянутых замшевых перчатках, припомаженный, приглаженный, с подстриженными, выхоленными бакенбардами. Пожелав Листу доброго утра на немецко-французском наречии, майор оповестил, что экипаж к услугам мейстера, ибо скоро пора и на репетицию. Лист представил нас друг другу, и так как оказалось, что у меня еще не было билетов и собственных программ для концертов и что все это надобно было получить в бюро Общества, напротив отеля, — через улицу, в помещении станции железной дороги, майор любезно вызвался проводить меня в бюро и мы — как есть, не надевая ничего — перешли улицу и пришли в бюро. Здесь с немецкою аккуратностью и определительностью, за длинным прилавком или столом, покрытым белою бумагою, на карточках обозначены были все функции членов бюро; по предъявлении моего членского билета мне немедленно выданы были: красная брошюрка программ и билеты на все концерты, кроме последнего, который должен иметь место в театре и билеты на который выданы будут накануне в том же бюро. Когда мы с майором воротились, Лист был уже внизу у выходных дверей в сопровождении...[103]
Мы сели вчетвером в крытую коляску, Лист против Гилле, майор против меня, сидевшего рядом с Гилле на передней скамейке. Гилле имел при себе партитуру «Krönungsmesse». В Johanneskirche, где происходила репетиция, были приготовлены места, ряды стульев, против органа (спиною к алтарю) для почетных гостей, администрации концертов, бюро Общества. Против них (лицом к алтарю и спиной к органу) сидела публика, которой — несмотря на то, что репетиции, собственно, не публичные — было немало. Когда мы вошли, вся публика встала перед Листом, произошло общее движение. Лист раскланялся, сел во втором ряду между майором и Лессманом (преподавателем музыки в шарлоттенбургской гимназии и редактором...) и автором романсов, имеющих быть исполненными в концерте...
Меня и Гилле Лист посадил в первый ряд перед собою, чтобы мы могли следить по партитуре (и на случай она была у него под руками). Первая пьеса была уже сыграна (симфония для органа с оркестром). Началась репетиция «Krönungsmesse». На хорах, у органа помещалась громадная масса оркестра и хора. Солистки были без шляп; хористки — в шляпах, большею частью соломенных. Лист слушал, по временам закрыв глаза и опустив голову; по временам чмокая губами и бормоча про себя замечания или перекидываясь ими с нами, комментируя разные частности вещи или исполнения. Когда дело дошло до «Graduale», Лист перегнулся ко мне, сказал: «В других мессах этой части не бывает, но в коронационной она обязательна». Или: «Эти
кварты —характерная черта венгерской музыки»[104].
Большинство же замечаний Листа отличались его обыкновенным добродушием и юмором. Только когда дело дошло до... он начал твердить: «Ce n’est pas ça!»[105], сделался серьезным, наконец не вытерпел, вскочил и поплелся сам на хоры. Он прихрамывал, так как незадолго перед этим свернул себе ногу и чувствовал еще порядочную боль. Опираясь на майора, старик, однако, бодро лупил вперед, и наконец седая голова его показалась у дирижерского пюпитра; он толковал с... и с музыкантами, заставил повторить неладно сыгранное место в... и когда виолончели и басы стали делать свое pizz. не вместе с аккордом, a 1/8 позже, как написано у Листа, старик успокоился и поплелся назад. После «Krönungsmesse» должна была идти оратория капельмейстера из Гааги, Николаи, пресловутый «Bonifacius», недавно исполнявшийся в Кельне и составлявший антипатию Листа (как я уже говорил выше). Сначала острили насчет этого Bonifacius’a, и кто-то, чуть ли не Лессман, сказал, что это не Boni, a Malefacius[106]. Гилле, закадычный друг (с 1840 года) Листа, ярый и восторженный поклонник новой музыки, торопыга, горячка, по невоздержанности, бесцеремонности и резкости замечаний напоминающий В. В. Стасова, нагнулся ко мне и сказал: «Ну, вам предстоит теперь наслаждение! Это черт знает что за канитель! Всю душу вытянет! Теперь еще они, слава богу, выпускают дуэт один; я его слышать не мог равнодушно — тянется точь-в-точь ленточная глиста, когда ее выгоняют. И на кой дьявол бюро церемонится, соблюдает политику какую-то и допускает исполнение таких вещей. Нехорошо! Не надо! Пусть их ругаются, дуются — плевать! Не надо, и только! Что за церемонии, что за осмотрительность! В деле искусства надо прежде всего последовательность — нехорошо! — Не годится! Я всегда бранюсь за это с своими собратьями» (Гилле — член бюро).
Скоро все толки должны были умолкнуть. Сам автор «Bonifacius’a» подсел к Листу, у последнего появился клавираусцуг оратории в руках. Лист молчал или делал только легонькие замечания насчет исполнения, вроде того, что мол: «Триоли у скрипок и альтов не выходят... не слышно... может быть, когда будет больше публики, акустические условия будут другие, мы их и услышим» и т. п. Николаи был, видимо, не совсем доволен впечатлением... Гилле, не дослушав до конца, сунул мне в руку партитуру «Krönungsmesse», попросил передать Листу, что он должен был отлучиться в бюро, и удрал. Сильно подозреваю, что он просто не утерпел высидеть всю эту канитель, не имея даже возможности ввернуть крепкое словцо, так как позади него сидели автор оратории и Лист.
Когда мы воротились, был уже час обеда; стол был накрыт, столовая полна. Против прибора Листа место на столе было огорожено лавровою гирляндою и стоял большой букет цветов. Сели за стол. Обед прошел очень весело и оживленно; говорили, шутили, смеялись. Не обошлось, разумеется, без восторженных тостов в честь Листа и контртоста последнего в честь представителей бюро Общества и присутствовавших. После обеда Лист ушел к себе соснуть, что он делает постоянно после обеда, тем более что предстоял в 61/2 концерт и еще 4 дня, вроде сегодняшнего. Вечером в концерте Лист сидел в первом ряду стульев, рядом с Gille и майором, а после с ученицей своей, Мартою Реммерт, высокой, кокетливой, немножко ломаной, хотя и недурной немочкой, белокурой, с маленькими усиками, высокой, стройной. Дамы, сидевшие против Листа на церковных скамьях (как я уже сказал, скамьи, укрепленные неподвижно, обращены спиною к органу, а стулья лицом)... На стульях кроме Листа сидели члены бюро и избранная часть Общества: артисты, композиторы, репортеры, сановники и проч. Хотя я и не член бюро, но меня посадили на первой скамейке возле майора Клейна, сидевшего рядом с Листом. Положение мое было самое выгодное для наблюдений. Публика и остальные обыкновенные члены сидели vis-à-vis с нами на скамейках, на расстоянии полуаршина. Мне было видно все, что происходило около Листа. Публика на первых скамейках, с полнейшей беззастенчивостью рассматривала Листа и все его [окружение], делала разные замечания, перешептывалась, следила за Листом, за каждым движением его, старалась вслушиваться в его слова. Когда Лист, увидав проходившую на свое место и поклонившуюся ему Реммерт, удержал ее и с обычною ласковой улыбкой посадил ее возле себя, после самого любезного приветствия, дамы, сидевшие перед самым носом Листа, покраснели от злости, вперили нагло злые глаза в счастливицу Реммерт и в продолжение всего концерта не переставали пересмеиваться и перешептываться на ее счет самым бесцеремонным образом, пожирая ее завистливыми глазами. Лист поминутно обменивался с нею словами с самым добродушным и любезным видом, что еще более злило наше vis-à-vis. Мне Реммерт сначала показалась пошловатою кокеткою, zipperlich-manicrlich, но впоследствии, когда я узнал ближе ее и о ней, это оказалось все только внешностью. Как пианистка — это первый сорт, по части энергии, силы, выразительности и выдержки. Когда я потом слышал исполнение ею «Danse macabre» (и позднее 1-ю часть сонаты Листа), я был изумлен этим противоречием между внешностью ломаной немецкой кисейной барышни и этим пианистом в юбке: ее большие, почти мужские руки играют совсем по-мужски; закрывши глаза, ни за что не скажешь, чтобы это играла женщина, а тем более барышня. Противоречие сказалось и в других отношениях—при такой наружности она оказалась девушкою крайне энергичной и в жизни. Находясь в крайней нужде, имея пьяницу и деспота отца, который тащил из дому все, что попало, довел семью до крайней нищеты, девушка эта сумела образовать себя настолько хорошо, что поступила лектрисой и гувернанткой в знатный дом, кажется, в Вене; занималась обучением своей сестры (или сестер) и сверх того сама выработала из себя первоклассную пианистку. В серии магдебургских концертов она должна была играть его «Danse macabre». Этим всем объясняется, следовательно, то милое предпочтение, которое ей оказывал Лист в Магдебурге перед многими другими — к великому озлоблению завистниц.
Концерт начался симфонией для органа с оркестром Карла Августа Фишера из Дрездена (органиста в Neustädtcr-Kirche). Исполнял ее не автор, но другой органист, Отто Тюрке (из Marien-Kirche в Zwikau), и исполнил хорошо. Симфония (C-dur) в 5 частях: а) Maestoso ed Allegro vivace, b) Adagio, c) Pastorale (molto moderato quasi Andante), d) Presto e Trio, e) Finale Maestoso e moderato. Как видно, в трех частях (1-й, 4-й и 5-й) темп (и ритм) меняется, так что каждая из них состоит, в свою очередь, как бы из двух отдельных частей или кусков. Симфония очень длинная, тянется (как обозначено на самой афише) 35 минут. Темы бедные, большею частию общенемецкие, за исключением 2-й темы 1-й части, отзывающейся немного «Севильским цирюльником». Трио в 4-й части хорально и марциально à la Schumann, на меди maestoso. Окончание всего финала — также массивный протестантский немецкий хорал; заключительная фраза 2-й темы финала с приемом à la Händel классическая. Третирование органа как оркестрового инструмента, а не по рецепту Берлиоза, то есть не как самостоятельной массы, противопоставляемой оркестру. Орган играет почти сплошь, местами один, что в целом придает целому характер какого-то оркестриона (громадной звуковой силы, разумеется). При отсутствии противопоставления оркестру, длине вещи, частых дублировках органа звуковой характер этот делается надоедливым. В деталях сочинения и оркестровки проглядывают, впрочем, поползновения «к новым берегам». Таково, например, сопоставление тональностей в частях: 1-я в C-dur; 2-я в As-dur; 3-я в С; 4-я в g-moll; Trio в Es-dur; 5-я в g-moll и C-dur. Разрешения в заключительных каденцах не рутинные; во 2-й части и в финале вводный тон доминантсептаккорда разрешается не в тонику, а в медианту вверх, то есть не на 1/2 тона, а на кварту ; в 3-й части
C-dur в плагальной каденце субдоминанты медианта идет на квинту вверх , то есть окончание опять не на тонике,
а на медианте топического трезвучия. В финале оригинальные фанфары, слегка нигилистические; соло для вентильной трубы и т. п. Во всяком случае пьеса представляла интерес, ибо такого сочетания в симфонических формах слышать не приходилось.
Второй пьесой шла коронационная месса Листа (исполненная в первый раз 8 июня 1867 года в Офене (Пеште), когда император Франц Иосиф I и императрица Елизавета австрийские короновались для принятия титула апостолического короля и королевы Венгрии). По музыке эта месса прелестна почти сплошь; a Credo необыкновенно хорошо по глубине, религиозному настроению и несколько суровому, древнекатолическому характеру в церковных тонах (дорическая) почти постоянными унисонами, вроде нашего столпового пения. Хорош, но уже в новом листовском роде, оркестровый № — «Offertorium»; «Benedictus» с V-no solo и многое другое. Но Credo все-таки головою выше остального. Слушать эту вещь было высокое художественное наслаждение. Перерыв минут на десять, и затем шла одна часть органного концерта (B-dur) для органа с оркестром, сочиненная и сыгранная Теофилом Форшгаммером, органистом Musikdirektor’oм в Quedlinburg’e. Музыка приличная, но ничем не выдающаяся особенно, исполнение — тоже. Тянулось целых 20 минут.
Последнею пьесою шла 2-я часть оратории Николаи, директора королевской музыкальной школы в Гааге. Консерваторская скучная канитель, о которой говорено было выше. К счастью, выпустили № 1, хор языческих девушек. Замечательно, впрочем, что выпустили его не по музыкальным соображениям, а потому, что местное духовенство воспротивилось исполнению языческого хора в протестантской церкви. Охранительный элемент протестантской церкви оказался, однако, крайне непоследовательным: запретив петь язычницам, он разрешил пение язычникам мужского пола. Можно было бы подумать, что в основе такого полового различия в языческом хоровом пении лежит протест против женского вопроса? — Ничуть. Разрешив пение жрецу язычников, протестантский конклав разрешил пение и его дочке и даже дриадам, которые отнюдь не лютеранского вероисповедания. Нужно отдать справедливость автору — его «Bonifacius» был очень скучен и длинен. Мой немецкий В. В. Стасов — Hofrath Гилле не выдержал: переглянувшись через Листа и других сидевших между ним и мною, Гилле «шепотом à la В. В. Стасов» бесцеремонно гаркнул мне: «Da fängt der Bandwurm an hören Sie nur zu!» («Вот начинается она — глиста-то! Слушайте!»). Замечание это относилось к наискучнейшему дуэту между дочкой языческого пастора и Бонифацием. Лист, видимо, сильно утомленный и скучавший, дремал и даже спал. Это с ним бывает частенько, когда он утомится и все-таки почему-нибудь считает себя обязанным высиживать пьесы. Делает он это очень ловко: наклонив голову, закрыв глаза и оттопырив нижнюю губу, Лист начинает сопеть (он часто сопит, когда и в самом деле внимательно слушает, это бывает со многими); не знающие могут подумать, что он весь погружен в духовное созерцание музыкальных красот пьесы. Чтобы не дать заметить, что он просто-напросто дремлет и ничего не слушает, Лист постукивает от времени до времени пальцами по колену, как будто машинально выбивая такт или наигрывая на фортепиано фразы исполняемой пьесы. После концерта гипнотическое состояние, навеянное Бонифациусом, у Листа прошло окончательно, все общество листовское — я разумею интимное, так сказать сливки концертной публики и деятелей — все это собралось в столовой около мастера, который оказался снова самым веселым, остроумным и любезным председателем за ужином; ел и пил с большим аппетитом, болтал без умолку, острил, смеялся. Ужин прошел шумно и весело. Понятно, были тосты в честь маститого героя дня. Старый грешник, бабник большой руки, Лист усадил подле себя пианистку Реммерт и певицу Брейтенштейн (из Эрфурта), любезничал с ними, как водится. Лист досидел так до полуночи. Вместе с ним покинула столовую и большая часть остальных собеседников, порядком-таки утомленных. На другой день, то есть 10 июня, Лист хотел мне показать свой новый «Мефистовальцер» перед репетицией концерта. Вместе с тем он поджидал еще к себе утром кое-каких певиц, чтобы с ними пройти кое-какие вокальные вещи. С 10 часов уже у него в номере была музыка. Я, однако, не мог быть у него, так как мне хотелось быть на оркестровой репетиции, и даже нужно было, чтобы передать дирижеру Никишу некоторые указания касательно исполнения «Антара» (каденцу арфы, характер исполнения восточных тем духовыми и т. д.)3.
1883. ЛИСТ У СЕБЯ ДОМА В ВЕЙМАРЕ
С давних пор Лист имеет обыкновение проводить лето в Веймаре, куда он приезжает большею частью к 8-му апреля — дню рождения гроссгерцогини. К этому времени, вместе с весенними птицами, налетают туда с разных сторон света Lisztianer и Lisztianerinnen — как там называют листовскую учащуюся молодежь. В это время, и в течение всего лета, поезда привозят сюда и отвозят обратно массу гостей, поклонников и друзей Листа, разных тузов музыкального и вообще художественного мира. Веймар — маленькие Афины Германии — оживляется. Вместо обычных чопорных гофратов «не у дел», в перчатках и цилиндрах,— на улицах появляются молодые лица самых разнообразных типов, полустуденческие, полуартистические фигуры. Вместо зимней мертвящей скуки и гробового молчания раздается веселый, иногда даже бесшабашный смех, говор и пение на различных языках: немецком, французском, английском, русском, польском, венгерском, чешском и т. д. Из открытых окон льются целые потоки фортепианных звуков — это Lisztianer и Lisztianerinnen, несмотря на прелестную погоду и убийственную жару, с увлечением и упорством преодолевают разные виртуозные трудности фортепианной игры «высшей школы». Такие окна и потоки звуков встречаются все чаще и чаще, по мере приближения к Wieland-Platz’y. На этой площади стоит огромный Виланд с толстыми икрами и медным неподвижным лицом. Левая икра медного поэта обращена к Amalienstrasse, правая к Marienstrassc. Обе улицы ведут к музыкальным знаменитостям: первая — на кладбище, к покойному во всех отношениях Гуммелю; вторая — к живому во всех отношениях Листу. Лист живет на самом конце улицы и города, около парка, в придворном домике, низ которого занят, кажется, главным садовником гроссгерцога, а верх — Листом. Домик каменный, маленький, двухэтажный, окрашенный желтовато-серой краской, крыша высокая, черепичатая. Фасад, выходящий на Marienstrasse, имеет в верхнем этаже всего три окна, из которых среднее — большое широкое, боковые — маленькие; в нижнем всего одно окно настоящее и два фальшивых. На углу доска с надписью: «Marienstrasse 17—1». Боковой фасад, имеющий всего по два окна в каждом этаже, обращен к парку и до половины обвит виноградом.
Домик примыкает к решетчатым воротцам, ведущим в большой сад, чистый, точно языком вылизанный. Фасад домика, выходящий в сад, имеет три небольших окна вверху и одно внизу, четыре ступеньки и небольшую одностворчатую дверь, ведущую во внутренность домика. Нижняя часть домика убрана цветами и виноградом. Около домика — зеленая скамеечка. Словом, домик совсем дачный. Из сеней, очень простая, деревянная лестница, выкрашенная желтой масляной краской, ведет во второй этаж — к Листу. Поднявшись по лестнице, входите в маленькие сени. Направо — шкаф и окно. Налево — дверь, украшенная цветочною гирляндой. Дверь эта отворяется только для высокого гостя: самого гроссгерцога. Остальные смертные проходят прямо в другую дверь, ведущую в узкую и длинную прихожую, где помещается, между прочим, слуга-черногорец, о котором речь впереди. Здесь, направо: два комода, окно, письменный стол, у которого занимается помянутый черногорец, кресло; налево — дверь в столовую, столик с зеркалом, печь и еще столик. В глубине, за драпировкой, кровать черногорца. По входе в столовую, направо, вдоль по стене — этажерка красного дерева, со шкафиками, полочкой и часами; шкаф ясеневого дерева со стеклами; по правой стенке: огромное окно с большой репсовой драпировкой, по левой стенке от входа — дверь в гостиную и широкая печь; прямо против входа — дверь в спальню; посредине комнаты небольшой обеденный стол и несколько стульев. Стены столовой, а равно и дверь, оклеены белыми обоями, без всякого рисунка.
Гостиная отделяется от кабинета только огромною драпировкою, так что в сущности составляет с ним одно целое. По входе из столовой в гостиную, по левой стене — дверь, завешанная драпировкою, дверь эта ведет к прихожую и открывается только для гроссгерцога. Далее идет пианино, несколько разбитое уже, и мягкий диванчик. По стенке, против входа, три окна, обращенные в сад; рояль Бехштейна, порядком пострадавший от ретивых учеников Листа. За ним драпировка, отделяющая гостиную от кабинета, столик, стулья. В углу наискось поставлен маленький столик с бумагами, фотографиями и т. д. Направо от входа, вдоль стены, идут: камин с часами на нем, драпировка, отделяющая гостиную от кабинета, небольшая кушетка с круглым столиком перед нею, этажерка с книгами, дверь в спальню. По правой стене от входа: большое трюмо, далее окно с видом на парк и дорогу в так называемый «Бельведер» — загородную резиденцию гроссгерцога. Почти посредине кабинета, наискось поставленные кресло и крохотный, совсем дамский, письменный столик, на котором Лист пишет свою музыку. Легкие формы и миниатюрные размеры столика как-то вовсе не отвечают грандиозным размерам произведений, которые на нем пишутся, равно как и высокой, массивной фигуре самого маэстро. Возле этого столика другой — еще меньшего размера, на котором обыкновенно стоит подносик с рюмками, графинчиком коньяку и бутылкою отличного красного вина.
Колоссальная драпировка, разделяющая помещение на гостиную и кабинет, равно как и драпировки на окнах и гроссгерцогской двери — из тяжелого полосатого репса с широкими красными полосами, чередующимися с более узкими зелеными, темновато-белыми и белыми. Мебель, кроме стульев перед роялем, — мягкая и обита таким же репсом. Карнизы и багеты везде золотые. В спальне с окном, обращенным также на дорогу в «Бельведер», небольшие ширмы, большая массивная кровать, умывальный стол и прочая спальная мебель. Полы везде обиты сплошь ковром. В окнах везде двойные рамы. Между рамами везде, кроме гостиной, мелкие цветы. На рояле, окнах и столах — груды нот, печатных и рукописных. Вот подробности о жилище великого маэстро. Теперь о костюме. Как светский аббат, Лист носит все черное: черный долгополый сюртук, черную низенькую, с широкими полями шляпу, черные перчатки и черный высокий галстук. Образ жизни Листа довольно правильный.
Встает он очень рано: зимой в 6, а летом в 5 часов утра, в 7 часов идет к обедне, станет куда-нибудь в уединенный уголок, нагнется на аналое и усердно молится. Чуждый всякого ханжества, отличающийся поразительно широкою веротерпимостью, еще недавно написавший второй «Вальс Мефистофеля», Лист в то же время человек не только глубоко религиозный, но и католик по убеждению. Возвратясь от обедни, Лист пьет в 8 часов кофе, принимает своего секретаря, органиста Готшалька, толкует с ним о делах, а равно принимает и другие деловые визиты. Покончив с ним, Лист садится за работу и с 9 ч. до часу сочиняет, пишет музыку. Обедает Лист не в час, как буржуазия немецкая, а в 2 ч. — как и вся веймарская аристократия.
Обед у него всегда очень простой, но хороший. Несмотря на свой возраст, Лист может есть и пить очень много и совершенно безнаказанно, благодаря своей железной натуре. Замечу при этом, что он ведет образ жизни кабинетный, сидячий, и никогда не гуляет на воздухе, несмотря на то, что у него под боком прекрасный сад и гроссгерцогский парк.
После обеда он всегда обязательно спит часа два, а затем принимает к себе учеников и других посетителей, занимается уроками музыки или даже просто болтает о разных разностях. Вечера большею частию проводит не дома, а в кругу близких интимных друзей, в числе которых на первом плане стоит баронесса Мейендорф, урожденная княжна Горчакова, вдова бывшего посланника русского при веймарском дворе, а затем семья князя Витгенштейна. В 11 часов вечера Лист ложится спать, если только нет особенных причин просидеть долее.
Говоря подробно о внешней обстановке жизни Листа, нельзя не сказать и о его прислуге. Из женского персонала при нем состоит только некая Паулина, почтенная женщина, — занимающаяся хозяйством, но не представляющая ничего особенного. Зато у Листа есть слуга, о котором стоит упомянуть. Это нечто вроде Лепорелло, Санхо-Панса и тому подобное, то есть камердинер-фактотум, все что хотите, горячо преданный старому маэстро, сопровождающий его во всех путешествиях и пользующийся громадным доверием. И тут высказались крайний космополитизм и веротерпимость маститого маэстро: венгерец, католик, аббат — облюбовал, в качестве своего Лепорелло, ярого черногорца, схизматика, православного славянофила Спиридона Княжевича, или Спиридиона, как его называют во всем Веймаре. Выразительную черномазую фигуру его, с густыми черными усами и бакенбардами, знают в Веймаре все, и он пользуется там почетом и популярностью. Он со всеми беседует почтительно, но смело, без подобострастия и лакейских приемов, даже с самим гроссгерцогом. Не только ученики Листа, но и разные юстицраты и гофраты при встрече с ним подают ему руку. Его можно видеть в кофейнях и ресторанах, распивающим кофе в компании с учениками Листа и разными другими «господами». Дать ему на чай значило бы кровно обидеть его, но маленькую вещицу на память, вроде мундштука для сигар, фотографической карточки и т. п., он примет с благодарностью, и в последнем случае готов даже подарить вам взамен свою фотографическую карточку, да еще с надписью. Как истый черногорец, он особенно симпатизирует русским.
Горячий патриот, славянофил и православный человек — во время войны за освобождение славян он особенно усердно посещал русскую церковь в Веймаре, ревностно клал земные поклоны за «белого царя» и горячо молился об успехах русскому оружию. Католик Лист с своим православным Лепорелло представляют крайне оригинальный пример возможности согласия западной церкви с восточной.
Упрямый, подчас даже капризный Лист частенько выслушивает терпеливо советы своего Лепорелло. Лепорелло буквально боготворит своего барина и при всяком удобном случае с благоговением показывает всем и каждому большой портрет Листа, подаренный ему самим маститым маэстро и украшенный очень милою собственноручною подписью последнего. Портрет этот висит у Лепорелло в прихожей на самом видном месте. Вообще, гордый черногорец, видимо, дорожит своим положением у Листа, считает выше всех «своего» барина; на «остальных» господ смотрит только снисходительно.
Лепорелло, подобно своему барину, говорит свободно на нескольких языках, но между собою — венгерец-барин и черногорец-слуга разговаривают обыкновенно на нейтральном языке — по-итальянски. В разговорах со всеми прочими Лист, где только можно, предпочитает всегда французский язык; по-немецки или по-итальянски он говорит только по необходимости, хотя владеет всеми тремя языками в совершенстве. Говорит он вообще очень хорошо: свободно, красиво, образно, с увлечением, остроумно и умно. Рот его при этом широко раздвигается и крепко захлопывается, громко отчеканивая каждый слог и напоминая мне несколько дикцию покойного А. Н. Серова. Высказав, что ему было нужно, Лист захлопнет рот окончательно, откинет седую голову назад, остановится и вперит в своего собеседника орлиный взгляд, как будто хочет спросить: «А ну-ка! посмотрим, что ты мне теперь скажешь на это?» Впрочем, у него есть еще и другая манера говорить: едва шевеля губами, тихо, каким-то старческим и аристократическим шамканьем, напоминая мне дикцию другого покойника — H. М. Пановского, известного когда-то фельетониста «Московских ведомостей». Много проживший, видавший, читавший, хорошо образованный, одаренный умом, наблюдательностью и самостоятельным критическим отношением к тому, о чем идет речь, Лист является всегда в высшей степени интересным собеседником.
Особенно интересны его откровенные беседы о музыкальных делах, на что его, однако, не все и не всегда могут вызвать. Как музыкант Лист, в противоположность Вагнеру, видимо, тяготеет более к музыке концертной, симфонической и т. д., нежели к оперной; и в оперной он по преимуществу интересуется более чисто музыкальною стороною, нежели сценическою. Новой немецкой школы, кроме Вагнера, он вообще не жалует. По его мнению, большею частию произведения ее бледны, бесцветны, утратили свежесть, интерес и жизненность. Симпатии его на стороне новой французской и в особенности новой русской школы, произведения которой он ценит высоко, изучает и знает основательно. Они не сходят у него с рояля; он играет их сам, играют и ученики его. Четырехручные вещи, которыми он увлекается или интересуется, он любит переигрывать чуть не с каждым учеником или пианистом, подвернувшимся под руку. При этом он разбирает музыку по косточкам и отмечает все выдающееся и оригинальное. Такой период увлечения какой-либо вещью продолжается у него довольно долго. Высоким интересом Листа к новой русской школе, симпатиями к ней и влиянием на другие музыкальные элементы Германии нужно объяснить то обстоятельство, что, например, такие чуждые немецкому уху вещи, как моя 1-я симфония и «Антар» Римского-Корсакова, не только исполнялись на фестивалях в Баден-Бадене и Магдебурге, но имели там большой успех и встретили крайне сочувственное отношение немецкой прессы. Как явный пример симпатии Листа к русской новой школе могу привести еще известное, необыкновенно сочувственное письмо Листа и печатное мнение его о пресловутых «Парафразах»1, вызвавших маленькую бурю в стакане воды среди наших рецензентов; далее еще то обстоятельство, что, узнав про эту бурю, Лист выразил желание «скомпрометироваться вместе с нами» и написал с своей стороны маленькую вариацию для помещения в виде интродукции к одному из нумеров при втором издании «Парафраз», что и сделано издателем согласно желанию Листа. Лист очень любит эти «Парафразы» и даже возил их с собою из Веймара в Магдебург во время фестиваля, заставляя всех и каждого — пианистов, певцов и проч. — играть их с ним. Еще доказательство: он очень любит и высоко ценит «Исламея» Балакирева и дает его играть своим ученикам; пьесу эту превосходно играла одна из самих любимых его учениц, наша талантливая соотечественница В. В. Тиманова; другой ученик его — Фридгейм играл эту пьесу в своих концертах, даже за пределами Европы. Наконец, это доказывают его собственные переложения, например, вещей Чайковского, а также исполнение их в его концертах и т. д.
Кстати об его игре: вопреки всему, что я часто слышал о ней, меня поразила крайняя простота, трезвость, строгость исполнения; полнейшее отсутствие вычурности, аффектации и всего бьющего только на внешний эффект. Темпы он берет умеренные, не гонит, не кипятится. Тем не менее силы, энергии, страсти, увлечения, огня — несмотря на его лета — бездна. Тон круглый, полный, сильный; ясность, богатство и разнообразие оттенков — изумительные. Играть вообще он ленив. Публично он давно уже не играл, а только в частных обществах, и то немногих, избранных. Теперь даже знаменитые matinées у него на дому прекратились. Чтобы заставить его сесть за рояль, нужно часто прибегать к маленьким хитростям: попросить, например, напомнить то или другое место из какой-нибудь пьесы, попросить показать, как следует играть какую-либо вещь; заинтересовать какою-нибудь, музыкальною новинкою, иногда даже просто дурно исполнить что-либо,— тогда он рассердится, скажет, что так играть нельзя, сам сядет за рояль и покажет, как нужно играть. Теперь его можно иногда слышать на занятиях с учениками, где он нередко, начав показывать, как нужно играть какое-либо место в пьесе, увлечется и сыграет всю пьесу. Играя с кем-либо в 4 руки, он большею частью садится на secondo. Читает ноты и партитуры он, разумеется, превосходно, но теперь он плохо видит и, не разглядев иногда какого-нибудь знака, сердится и с досады черкнет карандашом на нотах чудовищный бекар или диез и т. д. Разыгрывая какую-либо вещь, он иногда начинает прибавлять к ней свое, и мало-помалу из-под его рук выходит уже не самая вещь, но импровизация на нее — одна из тех блестящих транскрипций, которые составили его славу как пианиста-композитора. Уроки у него бывают большею частью два раза в неделю, после обеда; начинаются с 4!/2 часов и продолжаются часа полтора, два и более. Посторонним лицам, не получившим особого приглашения от самого Листа, трудно попасть на такой урок. Черногорский Лепорелло обыкновенно категорически отказывается даже доложить Листу о приезжающих в часы урока. На каждом уроке бывает около десяти, пятнадцати, даже двадцати человек учащихся, в числе которых перевес на стороне пианисток. Играют обыкновенно не все, а только часть из них, причем никакого определенного организованного порядка не соблюдается. Урок состоит в том, что ученики проигрывают Листу то, что они приготовили; он слушает, останавливает, делает замечания и сам показывает, как нужно играть то или другое. Лист никогда не задает никому ничего сам, а предоставляет каждому выбрать что угодно. Впрочем, ученики всегда прямо или косвенно справляются о том, приготовить ли им ту или другую пьесу или нет, так как случается, что, когда начнут играть что-либо не нравящееся Листу, он без церемонии остановит и скажет: «Бросьте, охота вам играть такую дребедень!» или сострит что-либо по поводу выбранной вещи. Собственно на технику в узком смысле он обращает мало внимания, а главным образом упирает на верную передачу характера пьесы, экспрессии. Это объясняется, между прочим, тем, что за очень редкими исключениями у него все ученики уже с вполне выработанной техникой, хотя учившиеся и играющие по разным системам. Собственно своей личной манеры Лист никому не навязывает, мелочных требований относительно держания, постановки пальцев, приемов удара никогда не предъявляет, отлично понимая, что индивидуальность играет здесь большую роль. Впрочем, он никогда не отказывается показать и разъяснить свои приемы, когда видит, что ученик затрудняется в исполнении. Отношения между Листом и его учениками — фамильярные и сердечные, нисколько не напоминающие обыкновенные формальные отношения между профессором и учеником. Это скорее отношения детей к доброму отцу или внучат к дедушке. Ученики и ученицы, например, без всякой церемонии целуют у Листа руку; он целует их в лоб, треплет по щеке, подчас ударит по плечу, и довольно крепко, заставляя обратить на что-либо особое внимание. Ученики вежливо, но совершенно свободно обращаются к нему со всякими вопросами, от души смеются его шуткам, ему умному и подчас едкому юмору, который при всем его добродушии проскальзывает в его замечаниях, всегда дельных и серьезных по существу, хотя и легких по форме. Как человек в высшей степени благовоспитанный и с тактом, Лист умел поставить себя так, что, несмотря на крайнюю разношерстность своих учеников, в их взаимных отношениях никогда не проскользнет ничего грубого, неловкого, резкого.
Нужно заметить еще, что Лист никогда и ни с кого не берет никакой платы за уроки.
Вообще же он неохотно принимает новых учеников и к нему попасть нелегко. Для этого необходимо, чтобы он сам заинтересовался личностью или за нее ходатайствовали люди, которых Лист особенно уважает. Но раз допустивши кого-либо, он редко удерживается в тесных рамках исключительно преподавательских отношений, скоро привыкает к ученику и начинает принимать близко к сердцу частную жизнь его. Начинает входить иногда в самые интимные интересы и нужды его как материальные, так и нравственные; радуется, волнуется, скорбит, а подчас и не на шутку будирует по поводу домашних и даже сердечных дел своего ученика. Само собою разумеется, что при таких отношениях он всегда готов помочь во всем своему ученику, и нравственно и материально. И во все это он вносит столько теплоты, нежности, мягкости, человечности, простоты и добродушия! На моих глазах было несколько примеров подобных отношений, которые заставляют высоко ценить Листа как человека.
Помню я раз, как однажды Лист, проводив по обыковению своих учеников после урока в прихожую и простившись с ними, долго смотрел им вслед и, обратившись ко мне, сказал: «А какой это все отличный народ, если бы вы знали!.. и сколько здесь жизни!..» «Да, ведь жизнь-то это в тебе сидит, милый ты человек!»— хотелось мне сказать ему. Он в эту минуту был необыкновенно хорош! Как видно, ни годы, ни долгая, лихорадочная деятельность, ни богатая страстями и впечатлениями артистическая и личная жизнь не могли истощить громадного запаса жизненной энергии, которую наделена эта могучая натура.
Все это вместе взятое легко объясняет то прочное обаяние, которое Лист до сих пор производит не только на окружающую его молодежь, но и на всякого непредубежденного человека. По крайней мере, полное отсутствие всего мелкого, узкого, стадового, цехового, ремесленного, буржуазного как в артисте, так и в человеке сказывается в нем сразу. Но зато и антипатии, которые Лист возбуждает в людях противуположного ему закала, не слабее внушаемых им симпатий. По крайней мере, мне случалось встречать и у нас, и в Германии немало людей, иногда вовсе и немузыкальных, путем даже не знающих, кто такой и что такое Лист, но которые чуть не с пеной у рта произносят его имя и с особенным злорадством старательно пересказывают про него всякие небылицы, которым подчас сами не верят.
Впечатления, которые я передаю, вынесены мною отчасти уже из первого знакомства моего с Листом в 1877 году. Познакомился я с ним случайно, проездом через Иену и Веймар. Поводом к знакомству послужила моя первая симфония, как оказалось, давно и основательно изученная им по фортепианному переложению. Она же послужила и к быстрому сближению с маститым маэстро, от которого мне суждено было выслушать по поводу этой вещи столько хорошего, сколько я не слыхал ни от кого во всю жизнь.
Теплый, истинно дружеский прием, оказанный мне Листом, и те немногие дни, которые я провел с ним вместе, останутся для меня навсегда одним из самых светлых воспоминаний в жизни. Покидая Веймар, я тогда, однако, не сразу оторвался от Листа. Я попал в Марбург. Здесь жила, умерла и похоронена св. Елизавета, поэтический образ которой вдохновил великого маэстро. На месте, где она была погребена, стоит один из самых изящных готических соборов. Видал я этот памятник и прежде, но тогда он говорил мне только об одной Елизавете.
На этот раз с воспоминанием о ней связывалось воспоминание и о художнике, воспевшем ее. Женственный, светлый образ Елизаветы сливался для меня неразрывно с величавою фигурой седого маэстро. Да и немудрено. В них есть много общего: оба случайно родом из Венгрии, занесены судьбою к немцам, стали достоянием католической церкви, но во всем, что в них есть симпатичного, не видно ничего ни венгерского, ни немецкого, ни католического, а только одно — вечно великое общечеловеческое.
КОММЕНТАРИИ
КОНЦЕРТЫ РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (1-й, 2-й).
Статья «Концерты Русского музыкального общества (1 -й, 2-й) » опубликована в газете «Санкт-Петербургские ведомости» 11 декабря 1868 года, № 339, с подписью « — Ъ». Перепечатана в книгах: «Александр Порфирьевич Бородин. Его жизнь, переписка и музыкальные статьи». Спб., 1889, с. 275—287, с примеч. B. В. Стасова; Письма А. П. Бородина, вып. 4. М., 1950, с. 264 — 272, с примеч.. C. А. Дианина; Бородин А. П. Музыкально-критические статьи. М., 1951,. с. 17 — 29. В изданиях Стасова и Дианина текст статьи разделен цифрами I, II, чего не было в первой публикации. Взамен этого в название статьи нами введены номера концертов, как это сделано у автора в его третьей статье.
1 Говоря о судебных преследованиях, возбуждавшихся Ф. Т. Стелловским, Бородин, вероятно, имеет в виду его угрозы обращаться в суд, если произведения Глинки, которые он приобрел для издания, будут исполнять в концертах. Такой случай рассказал Кюи в статье «Концерт Бесплатной школы» («Санкт-Петербургские ведомости», 1867, 14 марта, № 72; перепечатано в книге: Кюи Ц. А. Избранные статьи. Л., 1952, с. 88—90).
2 Бесплатная музыкальная школа, открывшаяся в 1862 году (см.: Стасов В. В. 25-летие Бесплатной музыкальной школы, в кн.: Стасов В. В. Статьи о музыке, вып. 4. М., 1978), давала в год обыкновенно два концерта. Один из концертов 1869 года рецензировал Бородин — см. его статью в этом издании.
3 Программа десяти симфонических концертов РМО на сезон 1868/69 года была объявлена в «Санкт-Петербургских ведомостях» 3 ноября 1868 года, № 301.
4 Симфонические концерты РМО в сезонах 1867/68 и 1868/69 в большинстве проходили под управлением М. А. Балакирева.
5 Берлиоз выступал с концертами в Петербурге в 1867— 1868 годах.
Подробное освещение гастролей Берлиоза в России см. в работе: Стасов В. В. Лист, Шуман и Берлиоз в России. М., 1954.
6 См. коммент. 3.
КОНЦЕРТЫ РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (4-й, 5-й, 6-й)
Статья «Концерты Русского музыкального общества (4-й, 5-й, 6-й)» опубликована в газете «Санкт-Петербургские ведомости» 8 февраля 1869 года, № 39, за подписью «Б». Перепечатана в книгах «Александр Порфирьевич Бородин. Его жизнь, переписка и музыкальные статьи», с. 287—300; Письма А. П. Бородина, вып. 4, с. 273—282; Бородин А. П. Музыкально-критические статьи, с. 30—44.
1 Четвертый концерт РМО состоялся 11 января 1869 года.
2 А. С. Даргомыжский умер 5 января 1869 года. Исполнение Реквиема Моцарта входило в программу восьмого концерта РМО, как объявлено в плане концертов («Санкт-Петербургские ведомости», 1868, 3 ноября, № 301). По случаю смерти Даргомыжского Реквием был исполнен в четвертом концерте.
2 Пятый концерт РМО состоялся 25 января 1869 года.
4 А. Ш. Литольф гастролировал в Петербурге в 1867 году.
5 Шестой концерт РМО состоялся 1 февраля 1869 года.
6 «Вальс Мефистофеля» из музыки к поэме Ленау «Фауст» был впервые исполнен 11 декабря 1866 в концерте Бесплатной музыкальной школы под управлением М. А. Балакирева.
КОНЦЕРТ БЕСПЛАТНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. — КОНЦЕРТЫ РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (7-й и 8-й)
Статья «Концерт Бесплатной музыкальной школы.. — Концерты Русского музыкального общества (7-й и 8-й)» опубликована в Газете «Санкт-Петербургские ведомости» 20 марта 1869 года, № 78, за подписью « — Ъ». Перепечатана в книгах: «Александр Порфирьевич Бородин. Его жизнь, переписка и музыкальные статьи», с. 300—316; Письма А. П. Бородина, вып. 4, с. 282—293; Бородин А. П. Музыкально-критические статьи, с. 45 — 62.
1 Программы концертов Бесплатной музыкальной школы приведены в приложении к статье В. В. Стасова «25-летие Бесплатной музыкальной школы». — Стасов В. В. Собр. соч., т. IV. Спб., 1906, с. 390—411.
2 Бородин рецензирует концерт, состоявшийся под управлением М. А. Балакирева 16 февраля 1869 года.
3 Хор «Tibi omnes» из «Те Deum» Берлиоза был исполнен в концерте Бесплатной школы 6 апреля 1864 года.
4 Желание Бородина было выполнено: «Те Deum» Берлиоза был повторен в следующем концерте Бесплатной музыкальной школы, 9 апреля 1869 года.
5 Седьмой концерт РМО состоялся 22 февраля 1869.
6 Клара Шуман исполняла фортепианный концерт Р. Шумана во время гастролей в Петербурге в феврале 1864 года, А. Г. Рубинштейн — в 1865 году (см.: Кюи Ц. А. Музыкально-критические статьи, т. 1. Пг., 1918, с. 7 и 327—329).
7 Восьмой концерт РМО состоялся 10 марта 1869 года.
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ЛИСТЕ
Статья «Мои воспоминания о Листе» готовилась Бородиным к печати в 1878 году, по материалам его писем к Е. С. Бородиной, но не была закончена. Впервые опубликована посмертно по автографам Бородина и выпискам А. П. Дианина и Е. С. Бородиной в кн.: Письма А. П. Бородина, вып. 3. М., 1949, с. 13 — 36, с комментариями С. А. Дианина.
Статья готовилась, по-видимому, по предложению В. В. Стасова для еженедельника «Пчела», где Стасов изредка сотрудничал. Об этом говорится в письме Бородина к Стасову от 2 апреля 1878 года, которое, видимо, было ответом на напоминания о статье: «Хотя я никогда не обещал „наверное“ к первым числам января доставить письма о Листе, тем не менее я сильно виноват перед почтенной редакцией ,,Пчелы“ в том, что не доставил их до сих пор. И если Вы хотите и можете оказать мне большую услугу, то передайте редакции мои извинения в самых сильных выражениях и сообщите, что я постараюсь прислать письма при первой возможности. Объяснять, почему я до сих пор не мог сделать этого, — долго, скучно и бесполезно. Вместе с тем примите и с Вашей стороны мои самые горячие извинения в том, что наделал Вам столько хлопот» (Письма А. П. Бородина, вып. 3, с. 12).
16 апреля того же года в № 16 этого журнала был помещен портрет Листа (литография с оригинала, подаренного Листом Бородину) с кратким анонсом: статья о Листе «будет напечатана в ближайших №№ журнала. Правда, не было сказано, чья статья и имя Бородина не упомянуто, но вряд ли можно сомневаться, что подразумевались именно его письма о Листе.
Работал Бородин над статьей летом 1878 года, о чем можно судить по письму Е. С. Бородиной к А. П. Дианину от 17 июля этого года: «Саша дописывает Листиаду и советуется и спрашивает меня во всех своих затруднениях. Он зачеркивает, убавляет, прибавляет то соли, то перцу, то меду в свою рукопись — все это по моему усмотрению и вкусу. Не скрою, что такая вера в мой вкус и чувство меры — очень лестны» (Письма А. П. Бородина, вып. 3, с. 270).
Но ни в «Пчеле», ни в каком-либо ином журнале статья при жизни Бородина не увидела света.
1 Бородина в его заграничной поездке сопровождали М. Ю. Гольдштейн и А. П. Дианин.
2 Имеется в виду Первая симфония Бородина.
Дополнением к отзывам Листа о Первой симфонии Бородина служит следующий отрывок из письма Листа к Бородину от 3 сентября 1880 года, по поводу исполнения симфонии в Баден-Бадене 20 мая 1880 года. Этот отрывок приведен Стасовым в его биографии Бородина. «Я очень запоздал со своим заявлением насчет того, что вы должны знать лучше меня: это что инструментовка вашей сильно замечательной симфонии (Es-dur) сделана рукою мастера и превосходно соответствует сочинению. Для меня это было серьезное наслаждение услышать ее на репетициях и на концерте „Музыкального съезда“ в Баделен-Бадене. Лучшие знатоки и многочисленная публика аплодировали вам» (Александр Порфирьевич Бородин. Его жизнь, переписка и музыкальные статьи, с. 48). Речь идет о концерте 20 мая 1880 года, когда Первая симфония Бородина была исполнена под управлением В. Вейссгеймера.
3 Отрывки из оратории «Христос» Листа были впервые исполнены в концерте Бесплатной музыки школы 8 марта 1877 года под управлением Н. А. Римского-Корсакова.
4 Фотопортрет Листа и дарственная надпись, посвященная им Бородину, воспроизведены в книге: Письма А. П. Бородина, вып. 2. М., 1936, между с. 154—155 и 156— 157.
5 Отзывы Листа о Второй симфонии Бородин приводит в письме к жене, Е. С. Бородиной, 23 июля 1877 года (французский текст помещаем в русском переводе) :
«Не меняйте ничего! оставьте ее такою, какова она есть; она построена совершенно логично. Вообще я могу дать Вам единственный совет: следуйте по Вашему пути, никого не слушайте. Вы во всем всегда логичны, изобретательны и совершенно оригинальны. Вспомните, что Бетховен никогда не сделался бы тем, чем он был, если бы слушал все, что ему говорили; вспоминайте басню Лафонтена „Отец, сын и осел“. Работайте по Вашему методу, не слушайте никого! вот мой совет, раз Вы желаете его от меня получить» Затем, перебирая, в частности, симфонию, он сказал, что критика имела право высказать разве неудовольствие — почему я, например, вторую тему 1-й части не сделал amoroso или что-нибудь в этом роде, но чтобы симфония была дурно «построена» из тех элементов, которые лежат в основании ее — этого критика не имела права говорить. «Здесь совершенно логичное построение!» — повторял Лист, переходя от одной части к другой. «Говорят, что нет ничего нового под луною, а ведь вот это—совершенно ново! Ни у кого Вы не найдете этого»,—повторял великий мейстер по поводу различных частностей» (Письма А. П. Бородина, вып. 2, с. 158, 277).
ВОСПОМИНАНИЯ О М. П. МУСОРГСКОМ
«Воспоминания о Мусоргском» были записаны Бородиным 28 марта 1881 года на квартире Н. А. Римского-Корсакова по просьбе В. В. Стасова. Он намечал их использовать в своей биографии Мусоргского, задуманной непосредственно после кончины композитора. Опубликованы по частям в книге: Стасов В. В. Модест Петрович Мусоргский. Биографический очерк. — «Вестник Европы», 1881, май. См. также: Стасов В. В. Статьи о музыке, вып. 3. М., 1977, с. 55— 56, 61—62, 76. В полном виде перепечатаны в книге: Письма А. П. Бородина, вып. 4. М., 1950, с. 297—299.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛИСТИАДЫ
«Продолжение Листиады» было написано Бородиным в виде своеобразной хроники его общения с Листом: «По примеру 1877 года пишу подробно мою Листиаду», — сообщается в письме к Е. С. Бородиной от 30/18 июня 1881 года из Веймара (Письма А. П. Бородина, вып. 3, с. 166). Впервые напечатано В. В. Стасовым в кн.: Александр Порфирьевич Бородин. Его жизнь, переписка и музыкальные статьи, с. 189 — 206. Перепечатано под заглавием «Продолжение Листиады» в кн.: Письма А. П. Бородина, вып. 3, с. 167 — 179, с комментариями С. А. Дианина.
1 «Парафразы. 24 вариации и 14 маленьких пьес для фортепиано на известную и неизменяемую тему (следует строчка нот). Посвящаются маленьким пианистам, способным сыграть тему одним пальцем каждой руки». Во втором издании к «Парафразам» была добавлена пьеса Листа, напечатанная в виде факсимиле.
2 Сui С. La musique en Russie. Paris, 1880.
3 Дальнейший текст рукописи Бородина посвящен исполнению А. Никишем «Антара» Римского-Корсакова и непосредственного отношения к Листиаде не имеет (см.: Письма А. П. Бородина, вып. 3, с. 176— 179).
ЛИСТ У СЕБЯ ДОМА В ВЕЙМАРЕ
(Из личных воспоминаний А. П. Бородина)
Статья «Лист у себя дома в Веймаре (из личных воспоминаний А. П. Бородина)» опубликована в журнале «Искусство № 11 и 12 за 1883 г., с. 120—121, 132—134. Перепечатана в книгах: Александр Порфирьевич Бородин. Его жизнь, переписка и музыкальные статьи, с. 317—330. Письма А. П. Бородина, вып. 4. М., 1950, с. 13—22. Она является сокращенным вариантом предыдущих статей-воспоминаний, не увидевших света при жизни Бородина.
Несмотря на то что некоторые места этой статьи дословно совпадают с предыдущими (не говоря уже о фактической стороне воспоминаний), мы все-таки помещаем ее, так как она несомненно представляет самостоятельную ценность. Здесь и описание дома и домашней обстановки Листа, его окружения (образ камердинера Спиридона Лазаревича Княжевича), обобщенное изложение педагогических занятий Листа и многое другое предстает в лаконичной и чрезвычайно яркой форме. Заключение Бородин позаимствовал из своей первой статьи о Листе, которое опустить мы не решаемся.
1 «Парафразы» — см. коммент. 1 к предыдущей статье.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Арндт Эрнст Мориц (1769—1860), Нем. писатель—40
Ауэр Леопольд Семенович (1845—1930), скрипач, педагог, дирижер; по нац. венгр — 14, 26
Балакирев Милий Алексеевич (1836—1910), русский композитор, пианист, дирижер, музыкально-общественный деятель, глава «Могучей кучки» — 4—8, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 26, 31, 41, 53, 62, 63, 65, 79, 83, 84
Бах Иоганн Себастьян (1685—1750), Нем. композитор, органист — 30, 37, 43, 66
Беггров, русский пианист—33
Берлиоз Гектор Луи (1803—1869), франц. композитор, дирижер, музыкальный писатель—5, 8, 12—14, 17, 27—30, 34, 71, 84
Бессель Василий Васильевич (1843—1907), русский нотоиздатель — 37, 57
Бетховен Людвиг ван (1770—1827), нем. композитор — 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 24, 31, 40
Бородина Екатерина Сергеевна (урожд. Протопопова) (1832—1887), русская пианистка, композитор, жена Бородина—9, 84—86
Брейтенштейн, певица из Эрфурта—73
Брух Макс (1838—1920), нем. композитор, дирижер—23, 26
Вагнер Вильгельм Рихард (1813—1883), нем. композитор, дирижер, публицист, муз. писатель и театр. деятель—15, 33, 46, 59, 78
Васильев Василий Михайлович (1837—1891), русский певец тенор, артист Мариинского театра—19, 31
Вебер Карл Мария фон (1786—1826), нем. композитор, дирижер, пианист, муз. писатель—12, 14
Вейсегеймер В., дирижер—85
Венявский Юзеф (1837—1919), польский скрипач, педагог и композитор—26
Виланд Кристоф Мартин (1733—1813), нем. писатель Просвещения — 40
Гайдн Франц Йозеф (1732—1809), австр. композитор, один из основоположников венской классической школы—18
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831), нем. философ — 40
Геккель Эрнст (1834—1919), нем. биолог-эволюционист, сторонник учения Ч. Дарвина—48
Гендель Георг Фридрих (1685—1759), нем. композитор—30
Гензельт Адольф Левович (1814—1889), пианист, педагог, композитор; по нац. немец—36
Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803), нем. философ, писатель-просветитель—40
Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832), нем. поэт, мыслитель, естествоиспытатель—39, 40
Гилле (Гиллер) Фердинанд (1811—1885), нем. пианист, композитор, дирижер и муз. писатель — 45—48, 68, 69, 72
Глинка Михаил Иванович (1804—1857), русский композитор — 4, 7, 8, 16, 17, 32, 36, 52, 83
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852), русский писатель—38
Гольдмарк Карой (1830—1915), венг. композитор — 8, 20
Гольдштейн М. Ю., доктор философии — 43, 85
Готшальк Александр Вильгельм (1827—1908), нем. органист, композитор — 76
Григ Эдвард (1843—1907), норв. композитор — 53, 56
Гуммель Иоганн Непомук (1778—1837), австр. пианист, композитор, дирижер, педагог—39, 74
Гуно Шарль (1818—1893), франц. композитор, органист, дирижер, музык. деятель — 36
Даргомыжский Александр Сергеевич (1813—1869), русский композитор — 4, 5, 7, 12, 18, 21, 32, 33, 84
Дианин Александр Павлович (1851—1918), доктор философии, химик — 43, 85, 86
Дианин Сергей Александрович (1888—1968), русский музыковед, математик — 83, 84, 86
Дрезеке Феликс (1835—1913), нем. композитор—58
Зарембский Юлиуш (1854—1885), польский пианист, композитор — 44, 53—58
Зичи Геза (1849—1924), венг. композитор, пианист—66
Крамер Иоганн Баптист (1771—1858), нем. пианист, композитор, педагог—26
Кранах Лукас Старший (1472—1553), нем. живописец и график—40
Кросс Густав Густавович (1831—1885), русский пианист, педагог—12, 21
Кунен, голландский пианист—48
Кюи Цезарь Антонович (1835—1918), русский композитор, музыкальный критик—3, 6, 8, 9, 42, 54, 83
Лавровская (по мужу Церетелева) Елизавета Андреевна (1845—1919), русская певица (меццо-сопрано) — 15, 16
Ланков Анна, певица—46
Лассен Эдуард (1830—1904), нем. композитор и дирижер; по нац. датчанин — 37, 44—47
Ленау Николаус (наст. имя Франц Нимби фон Штреленау) (1802—1850), австр. поэт — 23, 24
Лессман Отто (1844—1918), нем. музыкальный критик, педагог, композитор — 68, 69
Ливанова Тамара Николаевна (р. 1909), советский музыковед — 3
Лист Ференц (1811—1886), венг. композитор, пианист, дирижер, педагог, музык. писатель, общественный деятель — 3, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24—26, 36—86
Литольф Анри Шарль (1818—1891), франц. композитор, пианист, дирижер — 21, 36, 84
Луттер, нем. пианист—53, 56
Лютер Мартин (1483—1546), деятель Реформации в Германии—40
Мейендорф Ольга Александровна (урожд. Горчакова), баронесса, близкий друг Листа в последние годы его жизни — 44, 51, 54, 57, 77
Мейербер Джакомо (наст, имя Якоб Либман Бер) (1791—1864), франц. композитор—15, 30
Меланхтон Филипп (1497—1560), нем. протестантский богослов, педагог, сподвижник Лютера—40
Мендельсон-Бартольди Якоб Людвиг Феликс (1809—1847), нем. композитор, пианист, органист, дирижер, муз.-обществ. деятель— 16, 17, 22, 23, 26, 36, 62
Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791), австр. композитор—5, 9, 18, 19, 84
Мусоргский Модест Петрович (1839—1881), русский композитор — 3—5, 7, 9, 36, 61—63, 85
Направник Эдуард Францевич (1839—1916), русский дирижер, композитор, муз. деятель; по нац. чех—3, 42
Науман Иоганн Готлиб (1741—1801), нем. композитор—46
Никит Артур (1855—1922), венг. дирижер, композитор, педагог, муз. деятель— 73, 86
Николаи Виллем Фредерик (1829—1896), нем. композитор, дирижер—68, 69, 72
Окен Лоренц (наст. фамилия Окенфус) (1779—1851), нем. естествоиспытатель и натурфилософ—40
Палестрина Джованни Пьерлуиджи (1525?—1594), итал. композитор, глава римской полифонической школы—37
Пановский Николай Михайлович (1797—1872), русский муз.-театр. критик, журналист, писатель—42, 78
Петров Осип Афанасьевич (1807—1878), русский певец бас—19, 44
Платонова Юлия Федоровна (наст, фамилия Гардер, по мужу Тванева) (1841—1892), русская певица (лирико-драматическое сопрано), педагог— 19
Ратер (Редер) Карл Готлиб (1812—1883), нотоиздатель—66
Рафф Йозеф Иоахим (1822—1882), нем. композитор и муз. критик — 56
Ремерт Марта, нем. пианистка — 66, 67, 69, 70, 73
Реннебаум, нем. пианистка—56
Ридель—66
Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844—1908), русский композитор, педагог, дирижер, муз.-обществ. деятель, член «Могучей кучки» — 3—9, 33, 34, 41, 46, 48, 57, 63, 65, 67, 77, 85, 86
Россини Джоаккино Антонио (1792—1868), итал. оперный композитор — 30.
Рубинштейн Антон Григорьевич (1829—1894), русский пианист, композитор, дирижер, муз.-обществ. деятель—7—9, 16, 21—23, 33, 41, 53, 84
Рубинштейн Иосиф (1847—1884), нем. композитор—55, 56
Рубинштейн Николай Григорьевич (1835—1881), русский пианист, дирижер, педагог, муз.-обществ. деятель — 5, 6, 8, 9, 19, 23, 53
Сен-Санс Шарль Камиль (1835—1921), франц. композитор, пианист, органист, дирижер, муз. писатель—56
Серов Александр Николаевич (1820—1871), русский композитор, муз. критик— 42, 78
Сметана Бедржих (1824—1884), чешский композитор, дирижер, пианист, муз.-обществ. деятель—23, 26
Соре Эмиль (1852—1920), франц. скрипач, композитор — 58, 59
Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), русский музыкальный и художественный критик, историк искусства, археолог, идеолог «Могучей кучки» — 3—5, 7, 9, 18, 69, 83—85
Стелловский Федор Тимофеевич (1826—1875), петербургский музыкальный издатель и нототорговец — 83
Таузиг Карл (1841—1871), польский пианист, композитор; по нац. чех — 48
Тиманова Вера Викторовна (1855—1942), русская пианистка, педагог—38, 41, 44, 48—50, 52—56, 58, 59, 79
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883), русский писатель — 48
Тюрке Отто, нем. органист—71
Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814), нем. философ, представитель нем. классического идеализма—40
Фишер Карл Август, нем. органист — 71
Форшгаммер Теофил, нем. органист — 72
Фридгейм Артур (1859—1932), нем. пианист, композитор—79
Хвостова (по мужу Полякова) Алина Александровна (1846—?), русская певица (меццо-сопрано)—19, 36
Чайковский Петр Ильич (1840—1893), русский композитор, педагог, дирижер, музыкальный критик—5, 7, 8, 21, 22, 46, 79
Черни Карл (1791—1857), австр. пианист, педагог, композитор—26
Чехов Антон Павлович (1860—1904), русский писатель—9
Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775—1854), нем. философ, представитель нем. классического идеализма—40
Шель (Фитингоф-Шель) Борис Александрович (1829—1901), композитор, пианист—33
Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805), нем. поэт, драматург и теоретик искусства Просвещения—39, 40
Шойер, нем. пианистка—53, 56
Шопен Фридерик (1810—1849), польский композитор, пианист—37, 44, 46, 48, 56
Шопенгауэр Артур (1788—1860), нем. философ-иррационалист, представитель волюнтаризма — 48
Шпор Луи (Людвиг) (1784—1859), нем. композитор, скрипач, дирижер, педагог—12, 14
Шуберт Франц (1797—1828), австр. композитор—9, 17, 32
Шуман Клара (урожд. Вик) (1819—1896), нем. пианистка, жена Р. Шумана— 33, 84
Шуман Роберт (1810—1856), нем. композитор, муз. писатель и критик, издатель «Новой музыкальной газеты» — 9, 14—17, 23, 33, 36, 62, 84
Щетинина Любовь Петровна (по мужу Скрябина) (1849—1873), русская пианистка, мать А. Н. Скрябина
ИБ № 2955
АЛЕКСАНДР ПОРФИРЬЕВИЧ БОРОДИН
Критические статьи
Издание второе, дополненное
Составитель Владимир Васильевич Протопопов
Редактор Т. Коровина
Худож. редактор Ю. Зеленков
Техн. редактор С. Буданова.
Корректор Н. Горшкова
Подписано в набор 25.12.80 Подписано в печать 12.01.82 Формат бумаги 60x901/16 Бумага типографская № 1 Гарнитура литературная Печать высокая Объем печ. л. (включая иллюстрации) 5,625 Усл. п. л. 5,625 Уч.-изд. л. (включая иллюстрации) 6,35 Тираж 10 000 экз. Изд. № 11660 Зак. № 517 Цена 45 к.
Издательство «Музыка», Москва, Неглинная, 14 Московская типография № 6 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
109088, Москва, Ж-88, Южнопортовая ул., 24.
Примечания
1
Ливанова Т. Н. Критическая деятельность русских композиторов-классиков. М., 1950.
(обратно)2
В связи с первым исполнением «Спящей княжны» Бородина (30 марта 1869 года) Кюи приводит следующий интересный отзыв незадолго перед тем скончавшегося Даргомыжского: «...Это точно одна из прекрасных страниц „Руслана“, не потому, чтоб музыка г. Бородина была похожа на музыку Глинки, а потому, что она так же тонка, красива, волшебна, как некоторые места из „Руслана“ (хор цветов, хор „Погибнет“ и др.)».-—См.: «С.-Петербургские ведомости», 1869, № 99.
(обратно)3
Чайковский П. И. Музыкально-критические статьи. М., 1953, с. 29.
(обратно)4
Не забудем, что в то время классический русский репертуар ограничивался «Иваном Сусаниным», «Русланом» и «Русалкой».
(обратно)5
Стасов В. В. Статьи о музыке, вып. 5-Б. М., 1980.
(обратно)6
Напомним также о великолепных статьях Стасова о Листе: «Письма великого человека» (1893) и «Новая биография Листа» (1894). — С т а с о в В. В. Статьи о музыке, вьш. 4 и 5-А. М., 1979, 1980.
(обратно)7
Чехов А. П. Письма, т. 2. М., 1949, с. 376. Письмо к А. С. Суворину от 9 июня 1889 года.
(обратно)8
Боюсь, чтобы признание филантропического характера за концертами Филармонического общества не навлекло редакции «С.-Петербургских ведомостей» нового судебного преследования со стороны г. Стелловского, я заранее делаю оговорку, что слово «филантропический» употреблено мною в самом почтительном и благородном смысле1. Ich hab’es gut gemeint (Я это сказал без дурного умысла) — как говорят немецкие студенты, когда желают отклонить вызов на дуэль за неосторожно сказанное слово. — Примеч. А. П. Бородина.
(обратно)9
«В Фуле жил да был король» (нем.).
(обратно)10
Реквием Моцарта был дан М. А. Балакиревым в 4-м концерте Русского музыкального общества по поводу кончины Даргомыжского2. — Примеч. В. В. Стасова.
(обратно)11
«Морская тишь и счастливое плавание» (нем.).
(обратно)12
«Лесной разговор» (нем.).
(обратно)13
Воспоминания эти — выборка из частной переписки, не предназначавшейся вовсе для печати и касавшейся многого другого, помимо отношений моих к Листу. Многое пришлось сократить, многое вовсе выпустить. Этим объясняется неполнота, отрывочность, разрозненность и некоторая беспорядочность в изложении.— Примеч. А. П. Бородина.
(обратно)14
«Благословен» из «Коронационной мессы» (лат.).
(обратно)15
«Здравствуй, звезда морская» (лат.) — католический гимн.
(обратно)16
«Здравствуй, Мария» (дат.) Аркадельта (ок. 1505—1568).
(обратно)17
«Песнь Солнца» Франциска Ассизского, сочиненная в 1224 году (лат.).
(обратно)18
Гостиница «Россия» (франц.).
(обратно)19
Очень сожалею (нем.).
(обратно)20
О, какое блаженство (нем.).
(обратно)21
Художественная торговля (нем.).
(обратно)22
Направо, налево (нем.).
(обратно)23
Все прямо (нем.).
(обратно)24
Господин доктор (нем.).
(обратно)25
Здесь жил Шиллер (нем.).
(обратно)26
Двум поэтам — Шиллеру и Гёте — отечество (нем.).
(обратно)27
Староста и мельник (нем.).
(обратно)28
Стихарь (нем.) — вид церковной одежды.
(обратно)29
Можно ли переговорить с господином доктором (нем.).
(обратно)30
Конечно. Вверх, один пролет лестницы (нем.).
(обратно)31
Вы сочинили прекрасную симфонию (франц.) 2.
(обратно)32
Добро пожаловать (франц.).
(обратно)33
Самой сущности разговора в подробности — не привожу частью потому, чтобы не утомлять внимания читателей музыкальными частностями, могущими интересовать только специалистов; частью потому, чтобы «гусей не раздразнить», Ибо я имел здесь случай лично увериться, что интерес и симпатии Листа выпадают несомненно на долю тех, молодых еще элементов русской музыки, которые у нас не пользуются сочувствием большинства и против которых раздражение еще не улеглось ни в печати, ни в публике. Наконец, частью потому, что многое здесь касается прямо меня лично. — Примеч. А. П. Бородина.
(обратно)34
Господин Римский — очень большой талант! (франц.).
(обратно)35
«Христос» (лат., оратория Листа).
(обратно)36
«Молитва скорбящей матери» (лат.).
(обратно)37
Музыкальное утро (франц.).
(обратно)38
М-ль Вера! Разрешите-ка восточный вопрос по вашему методу (франц.).
(обратно)39
Слушайте! Я приглашаю вас завтра на обед у «Медведя» (гостиница «У черного медведя»). Итак, завтра вы мой гость, не забудьте этого (нем.).
(обратно)40
Здесь и всюду далее под инициалом А. подразумевается А. П. Дианин, под инициалом Г. — М. Ю. Гольдштейн.
(обратно)41
Ну! Теперь уже можно начинать; поднимайтесь скорее сюда, господа певцы. У нас есть немного времени; нужно еще раз все прорепетировать, пока еще не прибыл маэстро! (нем.).
(обратно)42
Маэстро приехал! Маэстро, маэстро здесь! (нем.).
(обратно)43
Под инициалом М. здесь и далее имеется в виду О. А. Мейендорф (Горчакова).
(обратно)44
Под инициалом Т. здесь и далее имеется в виду В. В. Тиманова.
(обратно)45
«Похоронный марш» (франц.).
(обратно)46
Принести извинения (франц.).
(обратно)47
Господин N., мой земляк (нем.).
(обратно)48
Помогайте же! (нем.).
(обратно)49
Столовая (нем.).
(обратно)50
Маэстро еще отдыхает! Маэстро еще нет! (нем.).
(обратно)51
А! Добро пожаловать! (франц.).
(обратно)52
Советник юстиции (нем.).
(обратно)53
Передавать подробности считаю неудобным, так как и Лист и баронесса высказывались весьма откровенно и разговор имел характер совершенно интимный. — Примеч. А. П. Бородина.
(обратно)54
Долго ли вы пробудете в Иене?... Ну так я вас хватаю за шиворот; приезжайте еще раз в Веймар повидаться со мною; мы сыграем вместе вашу симфонию (франц.).
(обратно)55
Ну хорошо, в таком случае баронесса не откажется нам сыграть вашу симфонию с г. Лассеном. — Есть ли у вас хороший издатель? (франц.).
(обратно)56
Может быть, он вам окажется полезным, поверьте мне! (франц.).
(обратно)57
Это Науман... хороший пианист (франц.).
(обратно)58
Мы уже пришли! Уже чувствуется запах жареных сосисок (нем.).
(обратно)59
Все потеряно, сейчас пойдет дождь (нем.).
(обратно)60
Приходите когда хотите, Вы всегда будете желанным гостем (франц.).
(обратно)61
А, вот вы наконец (франц.).
(обратно)62
Маленькая м-ль Вера (нем.).
(обратно)63
Попробуйте-ка сыграть, как Вера (нем.).
(обратно)64
Ну, покажите нам, как Вы этого не можете (нем.).
(обратно)65
Славный малый эта маленькая Вера (нем.).
(обратно)66
Под буквой Л. тут подразумевается лейпцигская музыкальная школа.
(обратно)67
Ну играйте же! иначе Лист на вас рассердится, я уж его знаю (франц.).
(обратно)68
Продолжайте (франц.).
(обратно)69
Ах, милый композитор! Так хорошо сочинил и не хочет сыграть! (франц.).
(обратно)70
Моя дорогая м-ль Вера! Сыграйте нам «Исламея». Вы увидите, как она его хорошо играет (франц.).
(обратно)71
Вы путешествуете; да, наконец мы ведь здесь —на даче (франц.).
(обратно)72
Превосходительство (франц.).
(обратно)73
«Дочери Рейна» (нем.).
(обратно)74
Вам там будет лучше! (франц.).
(обратно)75
«Женевские колокола» и «Лорелея» (франц.).
(обратно)76
«Пляска смерти» (франц.).
(обратно)77
Фотографических портретов (франц.).
(обратно)78
«Божественная комедия» (итал.) — симфония «Данте».
(обратно)79
Добро пожаловать, дорогой мой господин! (франц.).
(обратно)80
С листа, без подготовки (франц.).
(обратно)81
Вы сыграете Andante, а затем я вас сменю, я ведь лучше вас сыграю финал, не правда ли? (франц.).
(обратно)82
Ба! Здесь критика, наверное, будет против Вас; здесь слишком много перцу! — Это паприка (суп из перца — франц.).
(обратно)83
Нет, это кайенский перец! (франц.).
(обратно)84
«Трубадур», «Травиата» (итал.).
(обратно)85
Очаровательно, прелестно (франц.).
(обратно)86
«Песня без слов» (нем.).
(обратно)87
Динстман (Dienstmann)—посыльный (нем.).
(обратно)88
A! дорогой г. Бородин, добро пожаловать! Я очень рад вас видеть! Когда вы приехали? Вы сегодня пообедаете вместе со мной! Не так ли? Где вы остановились? (франц.).
(обратно)89
Это «Бо-ни-фа-ций» (нем., франц.).
(обратно)90
Вас, иных, русских (франц.).
(обратно)91
Что г. Римский? Что поделывает М. Балакирев? Знаете ли, у меня имеется один ваш молодой соотечественник, который недурно исполняет «Исламея»— Б[алакирева]. Вот Вы увидите (франц.).
(обратно)92
Ну, давайте, оставайтесь у меня, я в восторге, что вижу вас здесь, в Магдебурге; мне очень жаль, что не встретил вас в Бадене. О! Ваша симфония имела огромный успех! Вам следовало слышать ее в Бадене, вы ею остались бы довольны. Надо эти дела делать у нас в Германии; это дает встряску, право! Ну хорошо, оставайтесь же, поместитесь вот здесь! (франц.).
(обратно)93
Вы не видали этой программы? Прочтите ее (франц.).
(обратно)94
Но, наконец, идите же сюда; я не буду строить из себя барышню; вы позволите мне заняться своим туалетом в вашем присутствии, дорогой г. Бородин; надеюсь, он не будет продолжителен (франц.).
(обратно)95
Это вас позабавит (франц.).
(обратно)96
Это совсем новая вещь (франц.).
(обратно)97
Это плохая, никуда негодная копия (франц.).
(обратно)98
Вот она (франц.).
(обратно)99
Это очень остроумно (франц.).
(обратно)100
А! Он недурен, этот г. Ратер; он прислал мне «Парафразы» и одновременно снизошел до того, что добавил к ним Чакону Баха, аранжированную моим другом, графом Зичи, — у вас она, наверное, тоже есть. Он был так мил, что сделал издание, не спросив даже разрешения. Не так ли? (франц.).
(обратно)101
«Коронационная месса» (нем.).
(обратно)102
Король и бог (нем.).
(обратно)103
Под отточием здесь и далее подразумевается пропуск в автографе.
(обратно)104
Месса написана по случаю коронования австрийского императора апостолическою венгерской короной как короля Венгрии.—Примеч. А. П. Бородина.
(обратно)105
Это не так! (франц.).
(обратно)106
Bonifacius — делающий добро, Malefacius — злодей (лат.).
(обратно)

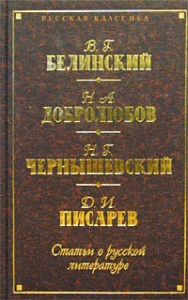


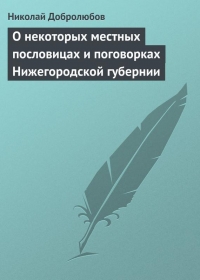
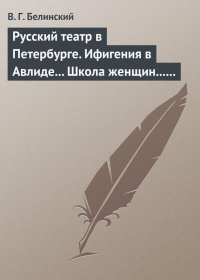

![Сполохи [Літературна критика та есеїстика]](https://www.4italka.su/images/articles/469107/primary-medium.jpg)
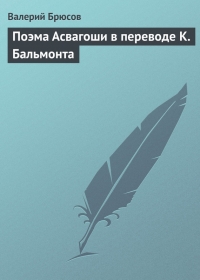
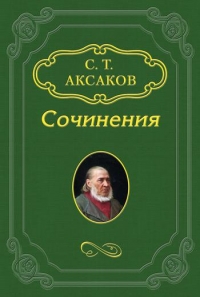
Комментарии к книге «Критические статьи», Александр Порфирьевич Бородин
Всего 0 комментариев